- Предисловие
- Глава I. В миру
- Глава II. История Оптиной Пустыни
- Глава III. От послушничества до старчества
- Глава IV. Начало старчества
- Глава V. Труды старчества
- Глава VI. Черты характера
- Глава VII. Духовные дары
- Глава VIII. Личные воспоминания о старце
- Глава IX. Шамординский женский монастырь
- Глава Х. Жизнь догорает
- Глава XI. Кончина
- Глава XII. Последние впечатления
- Заключение
- Об авторе
Мч. Евгений Поселянин. «Старец Амвросий. Праведник нашего времени»
Отец Небесный не судит никому же, а весь Суд предаде Сыну Своему; а ты кто такой!!! Помни, что судить других – значит осуждать свою душу…
Многогрешный иеросхимонах Амвросий
Предисловие
Наряду с преподобным Серафимом Саровским и митрополитом Московским Филаретом старец Амвросий является, быть может, самой яркой, самой заметной личностью среди русских христианских деятелей XIX в.
Его образ дышит необыкновенной выразительностью, и, при всей чарующей мягкости и нежности тонов, ему присущих, с великой силой через всю его жизнь прошла одна главная струя – искание Бога и служение человеку.
Мало сказать про него, что он был только могучим проповедником Царствия Христова. Путем неотразимого примера своей жизни он был живым доказательством этого Царствия, уже осуществляющегося, уже пришедшего. Он не только звал к свету и обновлению духовному. Он сам был «светильник, горящий и светящий» с чудной яркостью.
Как старец Серафим, с которым у него было немало общих черт, он был одним из величайших зодчих русского народа. И создание его гения – это воспитание и развитие собственной личности, которую он вылил в формы поразительной, лучезарной красоты.
Кто из живущих теперь знал о. Серафима? Лишь крики восторга давно умерших его современников говорят нам, что он был живым, едва мыслимым, воплощением лучших свойств человеческого духа.
Но старца Амвросия знала и помнит часть даже самого молодого поколения современной России. И несмотря на несомненность и близость этого образа, когда уйдешь в воспоминания о нем, спрашиваешь себя: воистину ли все это было или это только сложенная из заветных запросов души дорогая, но неосуществимая мечта?..
Да, он был, мы видели его, мы согревались около него. Те, кто знал его, тот на всю жизнь застрахован от потери веры в жизнь. Какие бы посторонние уродства ни поражали душу, каким бы собственным бессилием ни томилась она, в самые тяжелые минуты встает перед ней его светлый, примиряющий образ и тихо шепчет измученной душе: «Есть на земле правда, красота, святыня. Ты видел наяву этого человека».
И если я берусь в волнении за перо, в усилии восстановить хоть некоторые черты этого светоносного существования, то меня поддерживает надежда, что его образ, как сам он при жизни, поможет какой-нибудь уставшей душе.
Как приветливая картина природы, как высокое создание искусства, так и великая душа человеческая, в которой громко звучат самые благодатные струны, спасает нас благим воздействием на наш внутренний мир.
Одно созерцание такой души доставляет радость, озаряет, помогает жить, верить и надеяться.
Е. Поселянин
Свеаборг. Декабрь 1904 г.
Глава I. В миру
О. Амвросий, в миру Александр Михайлович Гренков, родился в ноябре 1812 г. в семье пономаря церкви села Большая Липовица Тамбовского уезда.
По клировым ведомостям день его рождения значится 23 ноября, сам же он во всю жизнь не знал точно дня своего рождения, только всегда говорил: «Какой-то тут был праздник».
Дом Гренкова был полон гостей, так что роженица была переведена в баню, где и разрешилась от бремени.
Впоследствии старец Амвросий, всегда обуреваемый народом, шутливо говаривал: «Как на людях я родился, так на людях все и живу».
Хотя приход был, по-видимому, богатый, так как в то время при Липовицкой церкви состояло три священника, два диакона, три псаломщика и три пономаря, Гренковы жили, конечно, скудно, особенно же ввиду того, что всех детей было восемь человек.
Дед Александра, о. Феодор, был священником Липовиц, и сын Михаил, пономарь, жил с семьей у него в доме.
Впоследствии один из братьев о. Амвросия был в Киеве директором гимназии, второй – пономарем в Липовицах, третий – столоначальником в Тамбовской казенной палате, а две из сестер его доживали дни при Оптиной пустыни.
В детстве будущий знаменитый подвижник и старец не представлял из себя того типа задумчивого, сосредоточенного, тихого и благонравного мальчика, какими обыкновенно бывают будущие аскеты. Он был очень боек, весел, смышлен и жизнерадостен – эти черты остались в нем до могилы.
По его чрезвычайной живости мальчику никак не сиделось дома. Бывало, посадит его мать качать колыбель одного из младших детей, но как только мать, занявшись домашними делами, упускала его из виду, он выпрыгивал в окно и бежал резвиться с товарищами.
Он рассказывал впоследствии о некоторых своих тогдашних проделках, кончавшихся очень печально. Раз он полез на крышу за голубями, но сорвался и ободрал себе спину, что должен был скрыть от домашних во избежание наказания. В другой раз, несмотря на запрет матери, стал стегать во дворе смирную лошадь, которая наконец брыкнула и ранила его в голову.
Раз даже он подвел под беду младшего братишку, который был общим баловнем в семье: зная, что дед не выносит шума и крика, Александр нарочно раздразнил брата, и дед отодрал обоих за чуб.
Эти постоянные проявления живости были не у места в степенной, скромной семье, и Александра не любили. Холодно относились к нему не только дед с бабкой, но даже родная мать.
Это обстоятельство могло иметь громадное значение во внутренней жизни ребенка. Если несчастья вообще приближают душу к Богу, то одинокие дети, не взысканные лаской, предоставленные самим себе, в особенности же дети с богатым внутренним содержанием, одаренные, живые, несправедливо преследуемые за невольные, безотчетные проявления прирожденной бойкости, – эти дети, оскорбленные невниманием людей, рано обращаются к Богу. Тут происходит какая-то великая тайна, которая бросает детскую смущенную непонятую душу в лоно всегда и всех принимающей, всем откликающейся Божественной любви.
Так должно было быть и с Александром. И в те минуты, когда, после огорчений от жестокого с ним обращения, он где-нибудь в уголке растирал по лицу слезы кулаченком, его стесненное сердечко начала согревать религиозная теплота, а детская душа его безотчетно льнула к Богу…
Настроение в доме Гренковых было строго религиозное. Грамоте мальчика учили по часослову и Псалтири. Всякий праздник стоял он с отцом на клиросе, где читал и пел. О матери своей он впоследствии говаривал, что она была святой жизни.
Лет двенадцати он был помещен отцом в Тамбовское духовное училище, где занимался успешно, хотя и тут постоянно бегал и играл.
Интересно заметить, как чуток был мальчик на всякую ласку, которой в детстве ему досталось так мало. Он вспоминал об училищном портном: «Когда я был мальчиком, был у нас общий портной. Я был высоконький, и он меня все Сашей звал. Других же моих товарищей так ласково не называл. Признаюсь, меня это очень затрагивало».
Испытав впечатлительной, общительной, созданной для любви и благоволения душой, как тяжело видеть отовсюду равнодушие, он во всю свою жизнь отличался особой приветливостью к людям. Мне рассказывали в Оптиной, что иноки, помнившие его в молодости, все свидетельствовали о чрезвычайно приятном его обращении: «Как, бывало, встретишься с ним по дороге в скит, уж непременно остановится, несколько добрых слов молвит».
В 1830 г., то есть в восемнадцатилетнем возрасте, Гренков поступает в Тамбовскую семинарию. И здесь учился он успешно, хотя занимался мало, а брал способностями. По-прежнему любил он поговорить с товарищами, пошутить, посмеяться. Один из его сверстников вспоминал:
«Бывало, на последние копейки купишь свечку, твердишь-твердишь заданные уроки, а Гренков мало занимается, а придет в класс, станет отвечать, так валяет без запинки, как по писаному».
Весьма вероятно, что Гренков занимался бы еще меньше, если бы его не понуждала великая строгость, царившая тогда в учебных заведениях духовного ведомства.
Кончил он курс в 1836 г., седьмым, при «очень добром поведении». Любимыми его предметами были Священное Писание, богословские, исторические и словесные науки[1].
Интересно, как доказательство той поэзии, которая всегда жила в этой богатой натуре, припавшая ему одно время фантазия писать стихи, о чем он впоследствии рассказывал:
«Признаюсь вам, пробовал я раз писать стихи, полагая, что это легко. Выбрал хорошее местечко, где были долины и горы, и расположился там писать. Долго-долго сидел я и думал, что и как писать, да так ничего и не написал».
Но на всю жизнь осталась у него любовь говорить в рифму.
Вот, двадцатичетырехлетний Гренков выходит в жизнь, в мир, где он пробыл так недолго и куда вступил он с мыслью о монастыре.
«Дух дышит, идеже хочет». И в подтверждение этих слов, как часто случалось, таинственный зов Божий призывал к подвижничеству людей, казалось бы, созданных исключительно для мира. Так было и тут. Этот жизнерадостный, заразительно веселый, практичный, бойкий человек, чрезвычайно общительный, как говорится, душа общества, испытывает какое-то смутное влечение к жизни в Боге.
«В монастырь я не думал никогда идти, – говорил он. – Впрочем, другие – я и не знаю почему – предрекали мне, что я буду в монастыре».
Значит, при всей его жизнерадостности, было в нем что-то особое, заметное даже посторонним людям и определявшее его духовные стремления.
За год до окончания курса Гренков так сильно заболел, что надежды на выздоровление оставалось мало. Послали за духовником, который долго не являлся. Тут же больной дал обет, что, если Бог воздвигнет его здоровым, он непременно пойдет в монастырь. Он выздоровел, но исполнить тотчас обет не было возможности: ни начальство, ни родители не отпустили бы его до окончания курса. А год, проведенный в привычном товарищеском кругу, ослабил его ревность, и, окончив курс, он не решился тотчас постричься в монахи.
Он поступил в дом одного помещика учителем его детей. Здесь, сталкиваясь с людьми разных классов, он сделал немало житейских наблюдений. Об этом времени он вспоминал, что уже тогда все, находившиеся в ссорах, просили его примирить их.
Пробыв в этом доме полтора года, он поступил учителем в Липецкое духовное училище, и тут начинается в нем продолжавшаяся полтора года борьба. Память об обете склоняет его к монастырю, а вкус к жизни удерживает его в миру. Он очень любил пение и музыку, нравился ему, по-видимому, тогда и блеск, так как он мечтал даже поступить в военную службу. Но теперь всякое невинное увлечение миром мучило его совесть. Об этой внутренней борьбе он вспоминал:
«После выздоровления я целых четыре года все жался, не решался сразу покончить с миром, а продолжал по-прежнему посещать своих знакомых и не оставлял своей словоохотливости. Бывало, думаешь про себя: ну вот, отныне буду молчать, не буду рассеиваться. А тут глядишь – зазовет кто-нибудь к себе, ну, разумеется, не выдержу и увлекусь разговорами. Но придешь домой – на душе неспокойно; и подумаешь: ну, теперь уж все кончено навсегда, совсем перестану болтать. Смотришь, опять позвали в гости, и опять наболтаешь. И так вот я мучился целых четыре года».
Мне пришлось близко изучить жизнь русских подвижников XIX в., и почти не встретить столь упорной борьбы между миром и Божественным призванием, как та, которую пережил отец Амвросий.
Он был в то время в положении евангельского богатого юноши перед Христом. Пусть он не был богат материально, лучше и выше того – сколько у него было духовных сокровищ, этой драгоценной «радости жизни» и интереса к ней, широкого сочувствия к людям, симпатий, которые он вызывал к себе всюду, где появлялся, этой способности наблюдать жизнь, понимать ее, вникать в нее, что одно уже доставляет столько наслаждений живому и бойкому уму… А там, где-то в неведомой дали, за блеском и разнообразием жизни, прекрасной и интересной для наблюдательного человека даже в провинциальной глуши, там монастырь, одинокая келья, тяжелые послушания и полное отделение от этой любимой, манящей жизни, что волновалась и сверкала перед ним. Ничего, кроме молитв: ни задушевных бесед, ни прогулок, ни этой возможности помечтать где-нибудь «в хорошем местечке, где долины и горы», ни этого заразительного молодого смеха. И он, как больной, которому запрещена обычная пища, со страхом лакомится ей, он пил эту пену жизни с наслаждением и болью, упрекая себя за то, что любит эту жизнь и не может вдруг расстаться с ней, и, куда бы ни шел он, как бы весело ни было кругом его, все перед его мыслями стоял крест с распятым Богом, и тихо струились кровавые капли по челу, и звали к Себе непорочную молодую душу грустные глаза Богочеловека, а губы Распятого шептали обещания лучшего счастья, чем то самое смелое и сказочное, что могла бы дать ему земля. И не замирал в его ушах шепот: «Если хочешь быть совершенным, оставь все и иди за Мной».
Легко совершается оставление мира людьми, созданными так, что мир не имеет для них цены, – такими людьми, как преподобный Сергий, как старец Серафим, с детства призванные, отмеченные перстом Божиим. Но как невыразимо трудно заклание себя в жертву Богу людьми, которые не меньше первых любят Бога и желали бы знать в жизни Его одного! Перед ними вечным призывом стоит это неизгладимое для верных и глубоких душ знамение Христа Распятого, распаляя их сердце жаждой ответной жертвы, но они вместе с тем множеством связей любовно и крепко привязаны к миру и постигли лучшие стороны жизни, им в жизни хорошо, как в родной стихии, им не чуждой…
Разве и тот богатый евангельский юноша не был идеалистом и исполнителем закона, разве не мечтал он о высших путях? Но со скорбью отошел, услыхав требование – отречься от собственной личности. В таком же положении был и Александр Михайлович Гренков.
Для человека, уже познавшего увлечения страстей, уже осквернившего ризу первозданной чистоты, удаление от мира, может быть, даже легче, чем оно было бы для евангельского юноши и для Гренкова. Уже падших, но носящих в душе высокие идеалы, гнало бы в пустыню жгучее раскаяние, надежда в этой пустыне полного обновления, восстановления первичной непорочности. А этим, если и наслаждавшимся в жизни, то лишь ее чистейшими, отвлеченнейшими наслаждениями, этим, чей грех был – лишь иногда слишком громкий смех, слишком колючая острота, этим, быть может, и в мыслях не согрешившим большими грехопадениями, не могло ли казаться, что и в миру возможно достичь высокой меры и угодить Богу? А Бог, готовя в них всенародных светильников, все продолжал палить их душу тоской по Себе, и так шли дни за днями в этом страдании души, раздираемой стремлением в высоту и горячей привязанностью к миру.
Надо было довести себя до такого порыва, который бы осилил эту привязанность к миру.
Насколько даже людям, твердо решившим идти в монастырь, бывает труден последний шаг, показывает пример современника о. Амвросия, тоже истинного подвижника, оптинского архимандрита Моисея. Мне довелось слышать из его уст рассказ о том, как ехал он в Оптину, чтобы там навсегда остаться. На последних почтовых станциях им овладело такое страстное желание вернуться назад, что он привязал себя веревками к тарантасу, чтобы не изменить малодушно своему намерению.
В той страшной борьбе, которая в нем происходила, Гренков искал сил в молитве. По ночам, когда все спали, он становился перед родительским благословением – Тамбовской иконой Божией Матери, и только Владычица видела, что происходило в этой душе, созданной и для мира, и для Бога.
Товарищи подметили как-то его молитвы, начались насмешки. Чтобы лучше скрыться, он стал ходить по ночам на чердак. Однако и тут его проследили. Надо было искать себе нового убежища.
За рекой Воронеж, на которой стоит Липецк, до сих пор чернеет обширный казенный лес. Туда-то и стал уединяться Гренков.
Известно, что большинство подвижников чрезвычайно любят природу, в красоте которой как бы отразился лик Божества. И на Гренкова ее торжественная, тихая красота производила сильнейшее впечатление. Ему даже иногда слышались молитвы в разнообразных звуках природы. Так, однажды, прислушиваясь к журчанию ручейка, он ясно различил в этом журчании слова: «Хвалите Бога, храните Бога!» «Долго стоял я, – рассказывал впоследствии о. Амвросий, – слушая этот таинственный голос природы, и очень удивлялся сему».
В июле 1839 г. Гренков вместе с товарищем и сослуживцем своим Покровским, впоследствии тоже ставшим монахом Оптинского скита, ходил в село Троекурово Лебедянского уезда, где подвизался знаменитый затворник Илларион[2]. У этого прозорливого и праведного человека Гренков искал совета, куда направить свою жизнь, и, конечно, его решением хотел подкрепить свою колеблющуюся волю.
Приняв их в своей келье, этот знаменитый подвижник, по своему обыкновению, сперва помолился с ними и положил перед образами три великих поклона, а затем с кроткой улыбкой спросил посетителей о цели их прихода. Александр Михайлович открылся ему, что думает о монастыре. О. Илларион сказал Гренкову: «Иди в Оптину. – И промолвил при этом: «Ты там нужен!» Покровский же заметил: «А мне бы еще не хотелось, батюшка, идти в монастырь», – на что о. Илларион ответил: «Ну что ж, Павел, ну, поживи еще в миру».
Только благодаря присутствию при этой беседе Покровского и сохранились эти знаменитые пророческие слова старца Иллариона о том, что Гренков нужен в Оптиной. Сам о. Амвросий, по своему смирению, никогда не упоминал о них.
Как часто в жизни святых повторяется этот великий момент: отец русского монашества Антоний Киево-Печерский – перед афонским старцем, направляющим его в Россию; молодой Прохор Мошнин – в Киеве, перед старцем Досифеем… И что происходило во внутреннем мире этих людей, когда незадолго перед своей смертью они благословляли на подвиг эту молодежь, во всем обаянии ее искренности и веры, когда, описывая последние круги своего святого полета, эти духовные орлы провидели начинающийся царственный полет этих орлят, когда эти гении благочестия предчувствовали «иного гения полет».
Незабвенны, велики эти минуты: угасающий подвижник, пророчественным словом своим определяющий на подвиг юную мужественную душу. Как незабвенным для русской литературы остается экзамен мальчика Пушкина перед Державиным:
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.
В то же лето Гренков ездил с Покровским в Троице-Сергиеву лавру. К телеге, данной для этой поездки отцом Покровского, Гренков своими руками примастерил крышу, для чего сам гнул дуги из молодых деревьев, прикреплял их к телеге, а сверху укрывал рогожами и войлоком. В этом видна та практическая, хозяйственная жилка, та сметливость, которая отличала о. Амвросия, всегда интересовавшегося всякими хозяйственными делами и подававшего в этой области весьма ценные советы.
Святыня мощей преподобного Сергия произвела сильнейшее впечатление на Гренкова, и здесь он ощутил ту духовную сладость, которую дает душе предчувствие того, как много истинного счастья, высшего всех земных радостей, может доставить человеку великий подвиг. Тут же обнаружилась его великая щедрость. Все, какие с ним были небольшие деньги, он раздал бедным и даже просил у Покровского взаймы. Тот отказал, и лишь благодаря этой твердости товарища они смогли без лишений вернуться домой.
Казалось бы, теперь, после совета старца Иллариона, прямо указавшего, куда следует Гренкову идти, и после богомолья к преподобному Сергию только и оставалось – расстаться с миром.
Но он еще медлил. С одной стороны, уговоры Покровского, который хотел еще сам пожить в миру и не желал расставаться с добродушным товарищем, с другой – мысль о своей молодости, о том, что еще успеется в монастырь. Быть может, еще долго продолжилось бы это колебание, если бы не неожиданный случай, ускоривший развязку.
В конце сентября Александр Михайлович был в гостях на вечере. Он был особенно в ударе, разошелся, остроумные шутки так и сыпались с его языка. Гости смеялись до упаду. Все были в восторге от оживления, которое он внес, и разошлись предовольные.
Но для Гренкова настала мучительная ночь. Эта его так бурно разразившаяся веселость казалась ему тяжким преступлением. Он понял тут, что в миру ему не совладать с собой, и с силой ощутил на себе слова о том, что невозможно работать двум господам, Богу и миру. Он вспомнил обет, данный им при смерти, и совет старца Иллариона, вспомнил свои пламенные молитвы в ночной тиши, вспомнил предчувствие какого-то громадного, захватывающего духовного счастья, которое он пережил на месте, где спасался некогда преподобный Сергий…
Утро застало его во всеоружии непреклонного решения. Увидав Покровского, он ему сказал:
– Уеду в Оптину.
Тот испугался его словам и начал его отговаривать:
– Как же ты поедешь? Ведь только что начались занятия: не отпустят.
– Что же делать! Не могу больше жить в миру. Уйду потихоньку. Только ты никому об этом не говори.
Тот порыв, который он так страстно призывал, наступил. Подошла могучая волна, подхватила его и унесла из мира.
Внезапное исчезновение Гренкова наделало много шума. О. Кастальский, смотритель училища, хотя по академии и был товарищем тогдашнего Тамбовского преосвященного Арсения, не решился, однако, доложить ему об этом необыкновенном событии и решился ждать выяснения его.
Без паспорта, с одним семинарским аттестатом, в простой деревенской тележке, тайно выбрался из Липецка Александр Михайлович Гренков.
Там за ним оставалась воля, звучали веселые призывы еще столь мало им испытанной жизни, оставались надежды на счастье, на радости; вдали маячил тяжелый подвиг, неизвестный, суровый быт.
Пропал, сгинул жизнерадостный Александр Михайлович Гренков, за какие-нибудь несколько часов до того заставлявший до упаду хохотать дружеский кружок.
И на обломках этого «ветхого», самого себя сломившего человека должно было начаться великое дело созидания того лучезарного явления, которое под именем старца Амвросия светило русскому миру.
Глава II. История Оптиной Пустыни
Недаром советовал старец Илларион Гренкову идти в Оптину пустынь. То была эпоха ее полного расцвета.
Оптина пустынь расположена вблизи древнего исторического города Козельска, входящего теперь в состав Калужской губернии. Город этот, теперь сравнительно захолустный, а некогда весьма обширный пространством и многонаселенный, памятен отчаянным сопротивлением, которое в течение семи недель оказывал в 1238 г. полчищам Батыя. Взяв наконец город, Батый побил всех жителей, не исключая и грудных младенцев.
В трех верстах от Козельска, на правом, лесном берегу неширокой, но глубокой, полноводной и сплавной реки Жиздры, на полугоре, от которой начинается густой сосновый бор, и расположена Оптина пустынь.
Самое близкое селение – деревня Стенино, на левой стороне Жиздры. Лесная стена, в которую упирается Оптина, и река, сообщение через которую с внешним миром поддерживается паромом, способствуют обособлению от мира обители, которая является действительно «пустыней».
Начало Оптиной относят к 1408–1445 гг., причем трудно предположить, чтобы обитель была устроена каким-нибудь князем или боярином, так как в этом случае, несомненно, она получила бы обеспечение землей и в ней сначала были бы возведены значительные здания.
Молва гласит о совершенно противоположном начале Оптиной. Существует предание, что обитель основана Оптой, разбойником, обратившимся ко Христу.
В противоположность миру, без жалости и гордо смотрящему на грешника, христианство устами Самого Христа высказало великое слово о погибших, по мирским понятиям, людях, предваряющих в Царствии Божием так называемых «порядочных людей». В числе своих святых и святых, достигавших высочайших степеней и величайших даров духовных, оно насчитывает многих когда-то низко павших людей, прообразом которых явился «разбойник благоразумный», в день казни своей бывший со Христом в раю.
И не без воли Божией, надо думать, совершилось такое совпадение, что эта знаменитая впоследствии, как обширная духовная лечебница, Оптина основана одним из тех, кого безнадежным признал отвергший его мир, но в чьей видимой безнадежности Христос разжег спасительную искру и кто не только сам спасся, но и положил основанием этой обители начало спасению множества душ. Нельзя без волнения, бывая в Оптиной, слышать за ектенией возглас о «создателях святыя обители сея» и вспоминать при этих словах далекого разбойника Опту.
И взросшим здесь старцам, перед которыми обнажались такие ужасающие язвы души человеческой, это предание как будто говорило:
«Верьте, безмерно, нерушимо верьте в обновляющую силу благодати. Нет греха, превышающего милосердие, нет падения самого невообразимого, самого отчаянного, из которого бы Господь не мог вознести душу человеческую на самую высокую степень более чем равноангельской чистоты».
Достоверные сведения об Оптиной появляются в конце XVI и в XVII в. Так, на помин царя Феодора Иоанновича пожертвовано в Оптину на ладан и свечи мельничное место с дворовым участком близ Козельска. В Смутное время, когда Козельск был разорен шайками запорожских казаков, претерпела разорение и Оптина.
В 1629–1632 гг. в пустыни была одна деревянная церковь и шесть келий.
С замирением Руси настали заботы об обеспечении обители, об упрочении за ней ее прав. К 1675 г. относится типичная тяжба оптинских монахов из-за мельницы. Очевидно, на оптинскую мельницу жадные люди точили зуб. И вот, «некто московитянин Саввиной слободы тяглец Мишка Кострикин подговорил козельских драгун и стрельцов и, по уговору с ними, построил ниже монастырской мельницы на реке другую мельницу, без царского указа, а монастырскую мельничную плотину подтопил и наливное колесо подтопил». На такие действия старец Исидор с братией подали царю Алексею Михайловичу челобитную. Царь послал в Козельск указ «по просьбе старцев подтопы досмотреть, а Мишку Кострикина допросить, а мельницу отписать на великого государя, а сказку прислать в Москву». Прежде еще оптинской челобитной козельский стрелец Ивашка Корнильев подавал царю челобитную, чтобы мельницу отдать ему в оброк на 10 лет по 5 рублей. Дело кончилось тем, что царь велел мельницу Мишки Кострикина снести.
В 1860 г. бедная пустынь получила указ царя Феодора Алексеевича: «Пожаловали Козельского уезда Оптина монастыря строителя старца Исидора с братиею против их челобитья пустые посадские дворовые семь мест, велел им под огороды, под овощ дать в дачу».
Не оставляли скудную пустынь помощью и окрестные владельцы. В 1689 г. начато построение каменного соборного храма Введения во храм Пресвятой Богородицы вкладчиками и мирским подаянием. В числе вкладчиков были именитые калужские помещики Желябужский и Шепелев.
В 1724 г., при введении духовного регламента, было упразднено немало монастырей, не имевших обеспечения и значительного количества братии. Петр I относился к монашеству вообще в высшей степени враждебно, и причиной упразднения таких монастырьков было выставлено следующее: «Питаются, скитаясь по городам и селам, и пребывают в мирских домех многовременно, в чем есть духовному чину немалое подозрительство, и, оныя пустыньки разобрав, братию сводить в приличные монастыри».
В Оптиной пустыни велено было «церковное и келейное, каменное и древяное, всякое строение и в церквах всякую церковную утварь, и в казне всякия крепости и наличныя деньги, и посуду, и земли, и угодья порознь, и всякого звания монахов и бельцев переписать с летами; також и в житницах, и в посеве всякой хлеб, и на конюшенном, и на скотном дворе всякий скот и конную сбрую имянно».
Все это было вывезено в Белев, в Преображенский монастырь, к которому была приписана Оптина.
Но несмотря на требование указа, чтобы и имени обители не упоминалось, Оптина не сгинула с лица земли.
Оптинский вкладчик, стольник Андрей Шепелев, подал в Синод прошение об оставлении пустыни на прежнем положении.
Вот содержание этого прошения и резолюция:
«Понеже де в том Оптине монастыре церковь каменная осталась впусте, а церковная утварь и строение монастырское было от них вкладчиков, от которых что надлежит в церковь к служению, по вся годы, как прежде, так и впред будет от них непременно без всякой нужды; того ради чтобы о бытии тому монастырю по-прежнему решение учинить. И Святейший Правительствующий Синод согласно приговорил: помянутому монастырю быть по-прежнему, собственно для того, что, хотя по справке в Канцелярии Святейшего Синода с присланными из Крутицкой епархии к сочинению штата ведомостьми за тем Оптиным монастырем крестьян и бобылей и денежных и хлебных доходов, и заводов не значится, однако ж имеется сенных покосов 140 копен, да лесу на две версты и поперек на версту; и строение каменное и деревянное объявлено не скудное и братии было 12 человек, которые, как в оном прошении выше сего написано, и препитание имели довольное. А помянутый в Белеве обретающийся Преображенский монастырь доходами по ведомостям не изобилен, а братии имеется 37 человек; к тому же сверх того еще присовокуплено из Белевского ж Введенского монастыря монахов 20 человек, да трудниов 6 человек. А в том Введенском монастыре для церковной службы поп и дьякон оставлены, того ради и помянутых Введенского монастыря монахов и трудников из вышеобъявленного Преображенского Белевского монастыря перевесть в упомянутый же Оптин монастырь; и взятую из тех монастырей церковную утварь, и колокола, и всякий хлеб, и скот, и прочее, все что есть, в тот Оптин монастырь возвратить».
Затем начинаются весьма в бытовом отношении интересные пререкания по делу возврата Белевским монастырем оптинского имущества. Принимавший близко к сердцу судьбу Оптиной, Шепелев пишет белевскому архимандриту Тихону следующее письмо:
«О. архимандрит Тихон, спасайся в милости Божией и в праведных твоих молитвах!
Послал я к твоему благословению иеромонаха Леонтия и человека своего Ивана Монастырева и приказал твоего благословения просить, дабы ты по своему обещанию Козельской пустыни Оптина монастыря отдал достальную церковную утварь, т. е. образы, ризницу и посуду, медные котлы и железные и деревянную посуду; святые ворота, кельи, строительную, хлебную, гостиную келью, амбары, скотские дворки, лошадей, коров, пчел, хлеб, деньги привесныя и золотой крест и серги серебряные и протча, что есть взял монастырская; пожалуй, прикажи все привезть, не удержав, как ты у меня в доме обещал, что все отдашь, взятая монастырская, и с оградою, а только прислал: медных две сковородки, противень, горшок да оловянной посуды – два блюда и три миски, и то чрез многие письма и посылки».
Но, по-видимому, архимандриту Тихону было нелегко возвращать оптинское добро, и понадобились челобитные Шепелевых, козельского воеводы и оптинцев архиепископу Сарскому и Подонскому для понуждения Тихона к возвращению всех тех вещей, которые он задерживал и которых был приложен к челобитной реестр.
В ответ на указ архиепископа Тихон ответил, что церковную утварь и иконы он уже вернул со взятием расписки еще до получения указа, что привесные деньги, исчисленные в челобитной, употреблены им на переделку старой архимандритской шапки Преображенского монастыря на новую.
«Посуда вся отдана с распискою, а оловянных блюд не брано, и в сдаточной описи не написано. Пчелы с ульями, что взяты были, также и коровы волею Божиею померли. Только из оных остался один подтелок бык, и оный, по присылке, для взятия, им отдан».
О монастырских постройках Тихон отозвался, что они по местности, где находится Оптина пустынь, в челобитной показаны высокой ценой; при упразднении же обители строение было чрезвычайно ветхо, так что он взял только часть его, рублей на 20 или малым чем больше, а остальное, например ограду, оставил на месте так, в рассыпаньи; взятое же в Белев, будучи везено по дурной дороге, через засеку, многое переломано, а из выбранного большая часть употреблена на общее келейное строение в Преображенском монастыре.
По возобновлении Оптина оказалась без всяких средств, почти на пустом поле.
Но главное – отстояли существование обители. Добрые люди продолжали помогать монастырю. В числе их были братья Шепелевы, князь Черкасский, Желябужский, Беклемишев, Бестужев-Рюмин, Кошелев, Чичерин, Камынин, Баташевы, Пушкины, Яковлевы, Полонские, Хлоповы и Нарышкины.
Лишь с 1795 г. можно считать положение Оптиной упроченным в материальном и духовном отношении. Козельск, а вместе с ним и Оптина поступили в ведение Московской епархии. В 1799 г. была открыта самостоятельная Калужская епархия.
Знаменитый митрополит Платон вошел в нужды пустыни. В его епархии был опытный монах высокой жизни, строитель Пешношского монастыря Макарий. Митрополит поручил ему посещать Оптину и учредить в ней порядок, и начальником Оптиной назначил пешношского иеромонаха, который начал с того, что завел, по примеру Пешноши, и в Оптиной продолжительное богослужение.
Пробыв лишь год, этот строитель был заменен тоже пешношским монахом Авраамием. Авраамий завел в Оптиной общежитие, по желанию Платона, который, посетив Оптину, нашел ее местоположение удобным для пустынножительства.
Обитель была тогда в крайнем запустении. «Было полотенце руки обтирать, – говорил о. Авраамий, – а помочь горю и скудости было нечем: я плакал да молился, молился да плакал».
Братии было всего трое монахов преклонной старости. В глубоком унынии о. Авраамий отправился на Пешношу, чтобы молить у старца Макария снять с него непосильное бремя. А старец поехал с ним по знатным помещикам и набрал для Оптиной два воза разных вещей; затем предложил желающим из братии своего монастыря перейти в Оптину, так что у Авраамия набралось до двенадцати человек братии.
Авраамий был настоящим строителем Оптиной и воздвиг много построек, высокую колокольню, храм Казанский, больничную церковь, флигеля келий, трапезную.
Душевные качества Авраамия привлекали к нему монахов, которых в 1810 г. было уже 40 человек.
В 1812 г. ризница и церковное имущество было вывезено в Орел.
Авраамий скончался 14 января 1817 г.
Своими трудами он приготовил тот расцвет Оптиной, который начался со вступлением на Калужскую кафедру незабвенного епископа Филарета.
Епископ Филарет, впоследствии митрополит Киевский, приняв Калужскую кафедру 1 июня 1819 г., при первом же обзоре ее нашел расположение Оптиной пустыни очень удобным для устройства в ней уединенной скитской жизни и решил завести здесь скит для лиц, склонных к молитвенно-созерцательной жизни, причем отнесся к этому делу в высшей степени вдумчиво и серьезно.
Прежде всего он постарается найти надежное ядро для скита, тот первоначальный кружок отшельников уже опытных, которые бы сразу придали новому скиту желательный характер. И выискал он таких лиц в действительной, настоящей пустыне.
Они были учениками непосредственными или последователями знаменитого старца Паисия Величковского.
Родом полтавец, Паисий прошел в Валахии путь полного отречения от своей воли и постоянного откровения помыслов старцу, а на Афоне сам избран таким старцем-руководителем. Когда число его иноков возросло, он переехал с ними в Молдавию – сперва в Драгомирну, а потом перешел в обитель Секульскую и Нямецкую.
Он возродил, а в писаниях своих уяснил и обосновал древний плодотворный путь старчества.
Одним из его последователей был избранный епископом Филаретом во главу задуманного им дела инок Моисей.
В миру сын серпуховского гражданина, Тимофей Иванович Путилов, воспитанный набожными родителями, был определен с братом на службу в Москву по винным откупам. Привыкнув к религиозному чтению, он не расставался с книгой, отлагал ее в сторону при появлении покупателя и потом снова за нее брался. В Москве молодые люди вели знакомство с людьми истинной духовной жизни. Через монахиню Досифею, которая, как полагают, была известная княжна Тараканова, они сблизились со старцами Новоспасского монастыря Александром и Филаретом, находившимися в духовном общении с Паисием Величковским.
На двадцать втором году Тимофей с братом Ионой (впоследствии игумен Саровской пустыни Исаия) вступил в Саров. Третий брат стал тоже иноком и был позже настоятелем Малоярославецкого монастыря Калужской епархии.
После трехлетнего пребывания в Сарове, где подвизались в ту пору великие старцы Серафим, Марк и Назарий, он в 1811 г. присоединился к числу пустынноспасавшихся в Рославльских лесах.
Пустынники эти жили в лесной даче помещика Броневского, в сорока верстах от Рославля. Ближайшее к ним селение было в пяти верстах. Здесь Тимофей Иванович провел десять лет под руководством старца Афанасия, имевшего большую опытность и дар «умной» молитвы.
Церковную службу пустынники правили каждый отдельно у себя по кельям, в праздничные дни собирались для этого вместе. В великие праздники приходил к ним из села священник и приобщал их.
В свободное от молитвы время пустынники занимались рукоделием, работали на огороде, который родил только репу. Летом собирали грибы и ягоды для благодетелей, присылавших в обмен печеный хлеб, крупу, иногда бутылку масла. Часто, при недостаче, соблюдали сухоядение. Целую зиму кругом выли волки. Медведи обижали пустынников, расхищая иногда огород.
В этой жизни, среди постоянных лишений, в полном подчинении старцу духовно окреп и созрел о. Моисей. Здесь он приобрел необыкновенное смирение, выдержанность, терпеливость и ту молчаливость, которую соблюдал до смерти.
В 1820 г. о. Моисей (имя это наречено ему при пострижении его старцем Афанасием в знак особого гостеприимства, которое он оказывал доходившим до пустынников странникам, в честь преподобного Моисея Мурина, который любил успокаивать странников), едучи по делам в Москву, завернул в Оптину пустынь, где настоятель представил его епископу Филарету, хорошо о нем осведомленному как через монахов, так и через богомольцев, посещавших рославльских отшельников. Филарет высказал о. Моисею свое намерение. О. Моисей, конечно, не решился самолично решить это дело и, побывав в Москве, отправился назад, снабженный письмом Филарета к старцу Афанасию. Письмо это является как бы начальным камнем знаменитого Оптинского скита.
«Преподобный отец Афанасий, – писал Филарет, – возлюбленный о Господе брате! Я знаю, что вы имеете желание, для удобнейшего прохождения подвигов монашеской жизни, избрать себе и с единодушными вам братьями уединенное место при Оптиной пустыни. То же самое подтвердил и о. Моисей, бывший у меня проездом в Москву. Таковое желание ваше считая особою милостью Божиею к моему недостоинству, я готов принять вас и других пустынножителей, которых вы с собою взять заблагорассудите, со всею моею любовию. Я вам позволю в монастырских дачах избрать для себя место, какое вам угодно будет, для безмолвного и отшельнического жития, по примеру древних Святых Отцов пустынножителей. Кельи для вас будут изготовлены, как скоро вы изъявите на то свое согласие. От монастырских послушаний вы совершенно будете свободны. Уверяю вас пастырским моим словом, что я употреблю все мое попечение, чтобы вас успокоить. Любя от юности моей от всей души монашеское житие, я буду находить истинную радость в духовном с вами собеседовании».
Старец Афанасий не решился оставить своего привычного лесного уединения, и под главенством о. Моисея 6 июля 1821 г. четверо пустынников прибыли в Оптину и основались на монастырской пасеке.
Есть что-то трогательное в этой заботе «монахолюбивого» Филарета к насаждению у себя в епархии настоящего подвижничества, в этом его чутком прислушивании к тому, что говорит о «спасающихся» где-то в неведомых дебрях «бродячая Русь», те богомольцы, которые, как «купец, ищущий многоценного бисера», неустанно обходят русскую землю, разыскивая людей, которые со всей искренностью провели в жизнь свою заветы Христа, в которых ярко просияла Божья правда.
Да, это был прежде всего занятый делом «спасения» человек, такой же, как те отшельники, которых ему так хотелось заманить к себе и «успокоить», такой же по смиренной простоте, по способности под жалким рубищем прозреть духовную высоту и поклониться ей, как та «бродячая Русь», через которую он прослышал о рославльских пустынниках.
Есть что-то великое и в этом прибытии пяти лесных отшельников в Оптину для утверждения в ней истинного духа монашеского, в этом устройстве малыми силами скита, и до сих пор сохраняющего всю обаятельность своего если не убогого, то первобытного и незатейливого вида.
И вот они в Оптиной. Филарет старался обеспечить им все то «безмолвие», к которому они так привыкли. Он постановил: 1) оптинской братии запретить к ним вход без особого дозволения и не в назначенное время, 2) женскому полу совершенно этот вход возбранить, 3) другим мирским людям не иначе позволять, как с согласия старца, 4) запретить строго рубить всякий лес около скита, чтобы навсегда он был закрыт.
Новоприбывшие немедленно принялись за работу. Надо было приготовить луговину под скит, для чего приходилось рубить вековые сосны и выкорчевывать пни.
Поставили небольшую келью, в которой пришлось поместиться всем пятерым, обнесли луговину забором и, наконец, заложили деревянную церковку.
О. Моисею дважды пришлось ездить «со сбором» в Москву. Во время своей второй поездки, в 1825 г., он получил известие о назначении своем в оптинские настоятели.
До того за три года он просил у Филарета принять схиму. «Не прииде час», – ответил ему Филарет. Когда же епископ предложил ему священство, он по смирению своему наотрез отказался. Спор длился шесть недель, и Филарет вынудил у него согласие словами: «Если ты не согласишься, буду судиться с тобою на Страшном суде Господнем».
Тридцать восемь лет провел о. Моисей в трудах настоятельства, и в это время Оптина совершенно преобразовалась. Число братства увеличилось во много раз, удвоена монастырская земля, сделаны большие хозяйственные запасы, разведены фруктовые сады, заведен рогатый скот, устроена обширная монастырская библиотека, расширен собор, воздвигнуты две церкви, выстроена трапезная, гостиницы, конный и скотный двор, семь корпусов келий, два завода и знаменитая белая оптинская ограда; служба стала совершаться благолепно. Но главнее всего, возвысился нравственный строй обители.
Все эти предприятия были совершены без запасных денег, на веру, и столько же для обители, сколько на помощь бедным, для заработка.
Бывало, спросят у о. Моисея перед началом постройки:
– Есть ли у вас, батюшка, деньги?
– Есть, есть. – И показывает 15–20 рублей.
– Да ведь это не деньги: дело тысячное.
А он улыбнется и скажет:
– А про Бога забыл? У меня нет, так у Него есть.
Каменные гостиницы, для которых срывали гору и возили землю в озеро, строились в голодный год. Монастырь был набит голодными людьми из окрестностей, и в это самое время о. Моисей вел постройки и кормил народ. Как-то стали его уговаривать бросить постройку. Тут открылись его всегда молчаливые уста, и, обливаясь слезами, он ответил: «Эх, брат, на что же мы образ-то ангельский носим? Зачем же Христос Спаситель наш душу Свою за нас положил? Зачем же Он слова любви нам проповедовал? Для того ли, чтобы мы великое Его слово о любви к ближним повторяли только устами? Что же, народу с голоду, что ли, умирать? Ведь он во имя Христово просит. Будем же делать, дондеже Господь не закрыл еще для нас щедрую руку Свою. Он не для того посылает к нам Свои дары, чтобы мы их прятали под спуд, а чтобы возвращали – в такую тяжелую годину – тому же народу, от которого мы их получаем».
Нищелюбие его не знало пределов. Он был «великий гонитель на деньги».
С изумительной сердечностью, заботливостью, мудрой любовью правил он монастырем и братией, имел необоримое доверие к совести человеческой. Собираясь наставлять монаха, о. Моисей прежде молился за него.
Он был идеальным типом монастырского настоятеля, настоящим отцом и заступником вверенных ему душ.
Он почил 16 июня 1868 г., когда о. Амвросий, вступивший при нем в Оптину, был уже старцем.
Два других лица, при которых протекала жизнь отца Амвросия, от поступления до старчества, были знаменитые старцы Леонид (в схиме Лев) и Макарий.
Старец Лев, из карачевских мещан, в молодости, по должности приказчика, объездил почти всю Россию, приобрел большое знание людей и житейскую опытность. По тридцатому году стал монашествовать и в одном монастыре находился в общении со схимонахом Феодором, учеником Паисия Величковского. В бытность свою настоятелем Белобережской пустыни Орловской епархии он знал Филарета, бывшего в то время инспектором тамошней семинарии.
Сорока лет от роду, сложив звание настоятеля, о. Леонид проследовал за о. Феодором в скит Валаамского монастыря, где они завели старческое отношение к себе братии. За это на них было воздвигнуто гонение. После разных перемещений в 1829 г. о. Леонид с шестью учениками прибыл в Оптинский скит и положил здесь начало старчеству.
Со времени водворения о. Леонида в Оптиной изменился в ней строй иноческой жизни. Вся братия стекалась в келью старца со своими душевными нуждами, и чудную картину представлял старец в белой одежде, в короткой мантии, окруженный стоявшими на коленях учениками. Особенное воодушевление стало видно в иноках, и, замечая благотворное влияние на них старца, миряне вслед за ними пошли к о. Леониду со своими скорбями и недоумениями. Известность обители увеличивалась, и опытные подвижники стали посылать в Оптину людей, искавших духовной поддержки, руководства и советов.
И тут понес он гонение за служение ближним. Некоторые невежественные монахи соблазнялись его деятельностью, смешивая откровение помыслов с таинством исповеди. Архиерею послали донос, и он велел запретить старцу принимать мирян. Но народ продолжал осаждать старца. Как-то, заметив перед кельей старца громадную толпу, настоятель напомнил ему о запрещении архиерея. Вместо ответа о. Леонид приказал принести недвижимого калеку, лежавшего у его дверей и сказал:
– Посмотрите на него: он живой в аду. Но ему можно помочь. Господь привел его ко мне для искреннего раскаяния, чтобы я мог его обличить и наставить. Могу ли я его не принять?
О. Моисей дрогнул перед этими словами и перед видом страдальца, но молвил:
– Преосвященный грозил послать вас к начальству.
– Ну так что ж? Хоть в Сибирь меня пошлите, хоть костер разведите, хоть на огонь поставьте – я буду все тот же Леонид. Я к себе никого не зову. А кто приходит ко мне, тех гнать от себя не могу. Особенно из простонародья многие погибают от неразумия и нуждаются в духовной помощи. Как могу презреть их вопиющие духовные нужды?
Ходили слухи о ссылке о. Леонида за сопротивление архиерею на Соловки. Потребовалось вмешательство и заступничество обоих Филаретов – митрополитов Московского и Киевского, – чтобы о. Леонида оставили в покое.
Вот тоже весьма многозначительный довод, высказанный в оправдание своей деятельности о. Леонидом одному священнику, который застал его толкующим с женщинами и попрекнул его, что он занимается не своим делом:
– Это бы ваше дело. А скажите, как вы исповедуете. Два-три слова скажете – вот и вся исповедь. Но вы бы вошли в их положение, разобрали бы, что у них на душе, подали бы им полезный совет, утешили бы их в горе. Делаете ли вы это? Конечно, вам некогда с ними заниматься. Ну а если мы не будем их принимать, куда же они, бедные, пойдут со своим горем?
Понятен после этого отзыв о нем простого народа: «Он для нас, бедных, неразумных, пуще отца родного. Мы без него, почитай, сироты круглые».
Внешность о. Леонида была чрезвычайно величественна.
Он весь дышал простотой, подчас резкой и грубой, исповеднической ревностью.
Человеческие беды, которых зрителем он был, которые перед ним проходили безо всяких покрывал, извлекали у него глубокие вздохи и слезы. Тогда за облегчением он обращал взор на лик Владычицы.
Он почил 11 октября 1841 г.
После него остался сотрудник его, старец Макарий, ближайший воспитатель о. Амвросия.
Последние годы жизни о. Леонида эти старцы старчествовали вместе, вместе подписывались на письмах и часто вместе принимали откровения своих духовных детей.
Можно сказать, что последовательная лествица трех оптинских старцев, Леонида, Макария, Амвросия, представляла собой – по мере достигнутой ими духовной высоты, по размерам их известности и их влияния на русское общество – три все выше и выше поднимавшиеся ступени.
Так, старец Макарий оставил по себе более глубокий след и был более известен, чем старец Леонид. Их же обоих своей духовной славой, широтой и глубиной своего воздействия на русскую жизнь как бы затмил отец Амвросий.
Иеросхимонах Макарий (в миру Михаил), из рода орловских дворян Ивановых, родился вблизи Калуги в 1788 г., в весьма благочестивой семье и рос тихим, молчаливым ребенком, почти не отходя от матери, которой был любимцем. Она часто говорила про него: «Чует мое сердце, что из этого ребенка выйдет что-нибудь необыкновенное». На девятом году Михаил потерял мать. Окончив курс в Карачаевском городском училище, он на четырнадцатом году поступил бухгалтером в Московское уездное казначейство, где и справлял должность с таким успехом, что через три года был вызван в Курск, в казенную палату, и здесь тоже служил с отличием. Досуг свой посвящал чтению и игре на скрипке.
На восемнадцатом году жизни Михаил схоронил отца, выплатил братьям наследство деньгами, принял имение, вышел в отставку с чином губернского секретаря и поселился в деревне. Но хозяйство у него не ладилось, так как он не имел к нему никаких способностей. Однако деревенская жизнь, предоставлявшая полный простор его любимым наклонностям к музыке и чтению, ему нравилась.
Как то бывает относительно всякого обеспеченного и самостоятельного человека, родственникам очень хотелось его женить. Но когда предложенный ими брак расстроился, он сказал: «Слава Богу. Я сделал послушание братьям. Но теперь меня никто уже не уговорит».
Очевидно, в нем созрела мысль о посвящении жизни своей Богу. На Коренной ярмарке он накупил много духовных книг и весь погрузился в чтение, а для удержания в повиновении молодой телесной природы работал до устали за верстаком.
На двадцать втором году он отправился на богомолье в Богородицкую Площанскую пустынь и оттуда написал домой, что остается в обители. От имения он отказывался, обязывая лишь братьев выдать известную сумму денег на постройку каменного храма там, где был похоронен их отец.
Такой поворот его жизни можно было легко предугадать заранее. Он был из тех людей, которых можно назвать «прирожденными монахами». Мы видели, каким тихим ребенком он рос, как любил уединение, чтение. Многие уже тогда называли его монахом. Переход его из мира к иночеству совершился без тяжкой борьбы, в противоположность тому, что пережил позднее его ученик Амвросий, человек, гораздо более Макария созданный для мира и более его любивший сперва мир.
Через пять лет по поступлении в обитель он принял полный постриг с именем Макарий. Вскоре в пустынь пришел один из учеников старца Паисия Величковского, схимонах Афанасий (Захаров), бывший в миру гусарским ротмистром и достигший под руководством о. Паисия высокой опытности и истинно духовного «устроения». Он-то и стал, в свою очередь, «старцем» о. Макария. В поддержание ему о. Макарий делал выписки из отеческих и церковных учительных книг. Он также с жадностью переписывал принадлежавшие о. Афанасию аскетические писания великих иноков, которые он таким образом мог впоследствии принести с собой в Оптину и которые были от Оптиной пустыни изданы.
Без малого двадцать лет жил о. Макарий в Площанской пустыни, как туда прибыл о. Леонид со своими учениками и, проведя в ней полгода, переселился в Оптину.
Общение с о. Леонидом прекратило то духовное сиротство, в котором, по смерти своего старца Афанасия, чувствовал себя о. Макарий.
Дело в том, что в его живом, проницательном уме при чтении святоотеческих книг возникало множество вопросов, в которых он сам не умел разобраться. Желанным для него советником, разрешавшим его недоумения, и был о. Леонид. Так и начались их неизменно откровенные отношения. Собственно о. Леонид, видя высокую уже степень духовной жизни и силу ума о. Макария, считал его сотоварищем, но, по настоятельным просьбам о. Макария, должен был обращаться с ним, как с учеником.
В 1834 г. о. Макарий переехал, 46 лет от роду, в скит Оптиной пустыни.
Первые два года своей жизни здесь он помогал старцу Леониду в его обширной переписке, затем был определен духовником обители и, наконец, скитоначальником.
До конца дней о. Леонида он нес духовное иго полного ему послушания, причем старец иногда нарочно испытывал ученика. Так, однажды, уже будучи духовником, о. Макарий, не спросясь старца, согласился на просьбу настоятеля о. Моисея принять от мантии некоторых новопостриженных. Когда о. Леонид узнал о том, он при других иноках стал укорять за самочиние о. Макария, который, поникнув головой, только повторял: «Виноват, простите Бога ради, батюшка» – и, когда тот умолк, поклонился старцу в ноги. Все присутствовавшие при этой сцене смотрели на о. Макария кто с недоумением, кто с благоговейным изумлением.
В должности скитоначальника о. Макарий сделал многое для внешнего и духовного благоустройства скита: скит был обеспечен капиталом, сделано много новых построек, устроена в отдельном доме библиотека, украшена церковь. Духовные дети старца, особенно монахини, дарили ему много облачений, которыми скит и делился с монастырем и с бедными церквами православного Востока и нашего западного края.
Он также поддерживал заведенное о. Моисеем дело разведения цветов в скиту, и шпалеры цветов, доселе окаймляющие в летнее время скитские дорожки, устроены им. Он же привел в цветущее состояние деревья скита и пчельник, и когда сильная буря произвела значительные опустошения в участке леса, лежащем между монастырем и скитом, старец посеял новые хвойные деревья, которые прекрасно принялись, так что теперь, через полвека, этот участок имеет вид девственного бора.
Любитель музыки, знаток пения, старец завел в скиту канонарха и пение «на подобны». Он сам певал в церкви, и замечателен был вид его, когда на Страстной неделе, он пел «Чертог Твой вижу, Спасе мой, украшенный». Слезы катились по бледным его щекам, и казалось, что действительно он видит таинственные чертоги.
По кончине о. Леонида на попечении о. Макария осталась вся его духовная паства, которая с годами все расширялась и расширялась. В последнее время, удрученный усталостью, о. Макарий много скорбел о том, что не должен и не может уклоняться от обуревавшего его народного множества.
Мужчин-мирян, как и иноков, старец принимал у себя в келье во всякое время с раннего утра до закрытия врат; женщин – во внешней келье или за вратами. Кроме того, после трапезы, отдохнув с полчаса на узкой кровати, старец отправлялся в монастырскую гостиницу. Повсюду по пути ждало его много народа, сошедшегося сюда к старцу со своими грехами, горестями и скорбями. Некрасивое и неправильное по внешности лицо старца с выражением самоуглубления сияло неземной красотой и умилением сердца. В гостинице старца ждало множество народа, и из нее он возвращался домой измученный, чуть переводя дыхание, с языком, уставшим до того, что не мог произнести уже ни одного слова. А между тем, отслушав краткое правило, надо было принимать скитян. И когда уже в скиту гасли все огни, в окне старца долго еще был виден свет.
Служил миру старец и громадной своей перепиской. На множество писем, требовавших рассуждения, ему приходилось отвечать самому. Ученики же помогали ему в ответах только практического содержания, малосложных и кратких, не требовавших тайны. Письма не сходили с его стола. Отрываясь для беседы или скитских правил от письменного стола, он, освободившись, сейчас же садился за него. Два раза в неделю по утрам, в дни отхода почты, старец прекращал прием посетителей и занимался исключительно письмами.
Помощники старца в переписке были иеромонах Амвросий, монах Устин (Половцов, впоследствии архиепископ Варшавский) и Леонид (Кавелин, будущий наместник Троице-Сергиевой лавры).
В высшей степени ценный памятник по себе старец Макарий оставил своими письмами, которые по его кончине были собраны и изданы в нескольких томах.
Из черт характера о. Макария нельзя не остановиться на следующей. Он очень жалел животных и любил птиц. Зимой он ежедневно насыпал на полочку, прикрепленную за окном, конопли для мелких птиц, и поклевать ее слетались синицы, коноплянки и маленькие серые дятлы. Он заметил, что сойки обирают малых птиц, поедая разом всю дневную порцию. Чтобы помешать им в их алчности, старец сперва стал отгонять соек, стуча в окно, но потом он нашел особую банку, в которую могли влетать одни мелкие птицы.
Старцу удалось приучить себя к исполнению редко кем в полной мере соблюдаемой заповеди: «Непрестанно молитесь». В беседе, на правиле, за письменным столом, на пути и даже во время сна из уст его слышались восклицания: «Боже милостивый, Мати Божия, Иисусе мой!» По ночам, страдая бессонницей, он славословил имя Божие; по временам, размышляя о Боге и Его Промысле, он приходил в духовный восторг и запевал одну из своих любимых церковных песен.
Природа настраивала его душу на молитву, и, переходя порой от цветка к цветку гряд, окаймлявших скитские дорожки, он изумлялся величию Творца, проявившего Себя в таком чудном творении.
После двухнедельной болезни старец Макарий почил 7 сентября 1860 г. и был схоронен рядом со старцем Леонидом.
Одной из величайших заслуг старца Макария перед русским православным миром было издание святоотеческих аскетических творений, драгоценных и для иноков, и для мирян.
Вот история этих книг.
В Оптиной соединились лица, которые воспитались на переводах этих творений, сделанных старцем Паисием Величковским. Настоятель пустыни, о. Моисей, и старцы Леонид и Макарий, все трое были учениками учеников старца Паисия, и все унаследовали любовь к переводным трудам учителя. Ввиду их великой пользы, они старались путем переписки распространять эти книги среди мирян и иноков. Наконец пришел час этим книгам получить обширное распространение в печатном уже виде.
В сорока верстах от Оптиной было имение Киреевских Долбино. Наталья Петровна Киреевская, жена известного писателя-философа И. В. Киреевского, познакомившись с о. Макарием, избрала его себе в духовники. По просьбе И. В. Киреевского, который был редактором «Москвитянина», о. Макарий поместил в этом журнале за 1845 г. статью о жизни и заслугах перед православным иночеством старца Паисия. В 1846 г. о. Макарий, посетив Киреевских в Долбине, упомянул, что у него есть несколько рукописей из творений Святых Отцов, перевода старца Паисия. Оказалось, что и у Натальи Петровны были тоже рукописи о. Паисия, доставшиеся ей от известного подвижника, монаха Новоспасского монастыря Филарета. Киреевские, хорошо знавшие митрополита Московского Филарета, решили просить его разрешения на печатание этих трудов, к чему митрополит отнесся сочувственно и назначил цензором протоиерея Ф. Голубинского.
Ряд изданий, всецело обязанных появлением своим Оптиной пустыни, открылся выходом в свет в 1847 г. книги «Житие и писания Молдавского старца Паисия Величковского».
Все значение этого события прекрасно обрисовано в письме к о. Макарию издателя петербургского журнала «Маяк» Бурачка:
«Тысячекратно благословляю Господа, внушившего разумному о. Голубинскому пропустить эту книгу. Здешняя цензура запретила бы, как мечтание и мистицизм. С тех пор как покойный митрополит Серафим, о. Фотий, Аракчеев и Шишков свергли Голицына за размножение лжемистических книг западных по академиям и семинариям, все наши Святые Отцы подвижники обречены в лжемистики и мечтатели. И умная сердечная молитва[3] уничижена и осмеяна, как зараза и пагуба. В семинариях и академиях ей не только не учат, но с измлада предостерегают и отвращают. Вот только год, как в здешней академии надумались читать аскетику, т. е. правила подвижничества, и поручили весьма подвижному (т. е. благочестивому) иеромонаху Феофану (впоследствии епископу Тамбовскому и знаменитому Вышенскому затворнику). Выход этой книги – знамение величайшей милости Божией и произведет перелом в наших обителях и семинариях».
Никакого «перелома» в обителях и семинариях ни эта книга, ни последующие труды, от Оптиной пустыни изданные, не произвели. Но они, несомненно, принесли величайшую душевную, конечно, мало заметную, пользу многочисленным русским любителям духовного чтения.
Но надо сознаться, к стыду русской публики, прикосновенной к духовным вопросам, что она в высших сферах духа, в области аскетизма, чрезвычайно невежественна. Прямо диву даешься, как мало, даже среди людей, которым это бы надлежало знать, распространены сведения о таком, например, в высшей степени интересном явлении, как «умная молитва», как мало у нас знают о тех людях, кто в последние века явились истинными последователями Христовыми, как мало читают серьезных духовных книг, к числу которых относятся и оптинские издания.
Со стороны же Оптиной пустыни ее просветительная деятельность заслуживает величайшего уважения и сочувствия. С каким-то умилением думаешь об этих усилиях затерянной в глуши пустынной обители «сеять разумное, доброе, вечное» не только путем непосредственного воздействия на богомольцев, но и путем книжным. И в этом отношении Оптина напомнила ту, столь скоро смененную веками злой и темной татарщины, эпоху расцвета при Ярославе молодой русской культуры, когда церковь была единственной двигательницей просвещения.
Да, Оптина не была собранием малограмотных простецов, это была скиния, откуда религия сияла блеском не только одной святости, в лице своих старцев, не только блеском самой покоряющей стороны христианства – греющего и деятельного сочувствия людскому страданию, но также «светом разума», блеском христианской мудрости, скопленной кровавыми усилиями целых веков христианского подвижничества. И в этом все значение Оптиной.
Поэтому понятно тяготение к Оптиной умственных сил страны. Ниже будет сказано об отношении к ней Московского митрополита Филарета. С о. Макарием был в переписке Гоголь. В Оптинском скиту в эпоху издания святоотеческих книг подвизались такой серьезный ученый, как о. Леонид Кавелин, и такой образованный человек, как Ювеналий Половцов, не говоря уже об о. Амвросии; среди сотрудников по переводу был и молодой писатель Т. И. Филиппов, впоследствии бывший государственным контролером и известный своим живым интересом к церковным делам. Впоследствии Оптина была местом жительства Зедергольма, в монашестве Климента, и одного из самых блестящих и тонких русских умов истекшего века – К. Н. Леонтьева.
Дело издания книг продолжалось до самой кончины о. Макария, приходилось делать подстрочные примечания к неудобопонятным словам и выражениям и переводить иные книги на русский язык. Всем делом руководил о. Макарий. Он имел от Бога дар истолкования Священного Писания, который выше дара толкования «от ума». Главными помощниками были отцы Амвросий, Ювеналий и Леонид. Сам о. Макарий жертвовал всякою незанятою минутою для этого дела. Каждое слово взвешивалось, обсуждалось и без благословения старца ни одно не вписывалось в рукопись, приготовляемую для типографии. Издания были делаемы постепенно, на пожертвованные деньги, и книги эти распространялись главным образом даром. Они были разосланы во все библиотеки, академические и семинарские, почти всем архиереям, ректорам, инспекторам семинарий и академий, высланы во все русские общежительные Афонские монастыри. Вот заглавие этих трудов:
1) Житие и писания Молдавского старца Паисия Величковского.
2) Четыре огласительные слова к монахине.
3) Преподобного отца нашего Нила Сорского предание ученикам своим о жительстве скитском.
4) Восторгнутые класы на пользу души (переводные статьи).
5) Преподобных отцов Варсонофия Великого и Иоанна руководство к духовной жизни, в ответ на вопрошение учеников.
6) Преподобного отца нашего Симеона Нового Богослова, игумена, 12 слов.
7) Оглашение преподобного Феодора Студита.
8) Преподобного Максима Исповедника толкование на молитву Отче наш и его же Слово постническое.
9) Святого Исаака Сирина, епископа Ниневийского, слова духовно-подвижнические.
10) Варсонофия и Иоанна в русском переводе.
11) Фаласия, главы о любви, воздержании и духовной жизни.
12) Аввы Дорофея, душеполезные поучения и послания.
13) Житие преподобного Симеона Нового Богослова.
14) Преподобного Марка подвижника нравственно-подвижнические слова.
15) Преподобного Орсисия учение об устроении монашеского жительства.
16) Преподобного Саввы Исайи, отшельника Египетского, духовно-нравственные слова.
Расставаясь с рассказом об о. Макарии, нельзя не отметить следующей любопытной подробности.
Как известно, образ о. Зосимы в братьях Карамазовых навеян на Достоевского Оптиной пустынью.
Когда по плану романа потребовалось изобразить старца, Достоевский отправился с Влад. С. Соловьевым в Оптину пустынь, где несколько раз посетил о. Амвросия и подолгу беседовал с ним.
Между тем как-то вышло, что о. Зосима гораздо больше похож на о. Макария, чем на о. Амвросия. Именно вовсе не в характере о. Амвросия, редко говорившего долгими фразами, было произносить те длинные речи, какие льются из уст о. Зосимы. Вообще, нужно признаться, для лиц, знавших многих выдающихся иноков, о. Зосима не представляется типичным старцем православного монастыря.
Следует еще упомянуть об отношении митрополита Филарета к старцу Макарию и Оптиной.
Московский владыка глубоко уважал старца, и примером его заботливого отношения служит его письмо к о. Макарию, написанное, когда митрополит узнал о том, что здоровье старца совершенно расшатано. «Если бы я звал вас к себе, вы могли бы отказаться, не думавши. Но как я зову вас к Московским чудотворцам и к преподобному Сергию, то, надеюсь, вы подумаете о сем не без внимания».
Вообще, Филарет тяготел к Оптиной, и, думая о его отношении к этой истинной пустыни, невольно вспоминается возглас, вырвавшийся из недр его души, в знаменитом слове на освящении храма преподобного Михея: «А мне, недолго говорящему в пустыне о пустыне, чтоб вслед за тем погрузиться в дела и молву града: кто даст ми криле, яко голубини, и полещу и почию!.. Когда же, наконец, возмогу сказать себе: ”Се удалихся бегая и водворихся в пустыне”?».
Как жаждала великая душа его безмолвия, того безмолвия, без которого невозможны высшие ступени духовной жизни, невозможен тот мощный взлет в высоту, который доставляет иной раз и простецу иноку великие духовные откровения! Как жаждал и как жестоко отказывала в этом жизнь ему, непрестанно погруженному «в дела и молву града».
Я не мог без волнения слышать от почившего оптинского настоятеля Исаакия рассказа о том, с каким радушием успокаивал Филарет у себя на Троицком подворье приезжавших в Москву оптинцев и как по вечерам он любил беседовать с ними о духовных предметах и часто, как любознательный ученик, расспрашивал их о разных, малоизвестных ему сторонах аскетической созерцательной жизни.
Обозрение истории Оптиной и личностей предшественников старца Амвросия дает право спросить: что же получил от них в наследие о. Амвросий?
Он прошел опытную школу духовного подвижничества с традициями еще первоначального, скитского иночества. Причем в изумительной мере – сокровенность жизни в Боге у его наставников шла рядом с ежедневным, неустанным служением людям. Он получил от своих учителей глубокую преданность православию со всем его содержанием, со всеми подробностями его догмы и его обряда.
Он мог наконец в этой школе еще развить свое природное сердоболие, эту драгоценную способность откликаться чужому страданию всем своим существом, всяким фибром своего безграничного, неустанного в любви сердца.
Глава III. От послушничества до старчества
Мы расстались с Александром Михайловичем Гренковым при внезапном отъезде его в Оптину.
По глубокому песку, каким пролегала дорога из Белева, меж вековых сосен и елей тихо тащилась тележка с беглецом. Что переживал он, приближаясь к обители, которая должна была укрыть его от мира и сделать из него нового человека?
Вот он уже стоит перед старцем. Быть может, раньше, издали ему рисовалось в воображении, когда он о старце думал, что-то величественное, торжественное, совершенно отрешенное от обыденности. Между тем увидал он в старце тучного человека, сидящего на кровати, шутящего и смеющегося с окружающим его народом. И первое впечатление Гренкова было не в пользу старца Леонида.
Во второй раз впечатление было глубже, и он тут сразу увидел, в чем состоит послушание и до какой степени монах должен отсекать свою волю. Дело в том, что при Гренкове подошел к о. Леониду скитский иеросхимонах Иоанн и, поклонясь, по обычаю, в ноги старцу, сказал ему:
– Вот, батюшка, я сшил себе новый подрясник. Благословите его носить.
– Разве так делают? – возразил старец. – Прежде надо благословиться сшить, а тогда уже носить. Теперь же, когда сшил, так уже и носи – не рубить же его.
О. Леонид, когда Гренков открыл ему душу, одобрил его намерения и посоветовал отпустить назад повозку и кучера.
На первое время поместили Гренкова в номере монастырской гостиницы; он ходил ко всем службам, присматривался к монастырскому быту, а для келейного занятия ему предписано было переписывать с новогреческого рукопись «Грешных спасение».
Между тем в Липецке узнали о местопребывании Гренкова, и, ввиду запроса от смотрителя училища, ему пришлось отписываться – сперва смотрителю, а потом и тамбовскому архиерею, который не нашел препятствий к перечислению его в Калужскую епархию.
В первых числах января 1840 г. Гренков перешел в монастырь, не надевая еще монашеской одежды, что произошло в апреле того же года.
Послушания, которые ему поручались, были: келейничество у старца Леонида, у которого он был и чтецом; потом он работал в хлебне.
Старец Леонид своей заботливой любовью поддерживал Гренкова в первом, труднейшем, опыте иночества. Его отношение к будущему церковному светилу характеризуется, между прочим, тем, что он называл своего ученика «Саша». Если о. Амвросий впоследствии вспоминал, как его приятно «затрагивало» во дни его училищной жизни это уменьшительное имя в устах портного, какой сладкой музыкой, каким родным, ободряющим приветом должно было для него звучать в устах великого старца это имя, с которым он должен был вскоре расстаться, чтобы сменить его на торжественное, не мирское имя Амвросий.
В конце 1840 г. Гренков перешел из монастыря в скит. Очевидно, его руководитель находил для него полезным жить в большей тишине – в месте, которое, как мы видели в истории основания скита, было так заботливо ограждено не только от мирской суеты, но и от молвы многолюдного общежительного монастыря. К тому же недолго оставалось жить старцу Леониду, и он, очень понятно, хотел передать Гренкову больше своих наставлений, вообще поработать над ним.
Первое послушание, которое назначили Гренкову в скиту, была помощь повару. Поваром был в то время молодой послушник из тверских крестьян, Герасим, на несколько лет младше Гренкова. Когда по окончании трапезы братия расходилась по кельям, Герасим и Гренков любили потолковать по душам, и в беседе, в воспоминаниях о прошлом время текло так быстро, что иной раз совсем остывала вода, и приходилось для мытья посуды вторично разводить огонь, подогревать воду.
Случилось как-то Герасиму-повару отлучиться на родину, а Гренков в это время сделан был старшим по кухне, так что Герасиму по возвращении пришлось стать в подчинение ему. Некоторое время Герасим был «немирен» на Гренкова, но потом, исповедав свое смущение старцу Макарию, стал снова весел, покоен и доволен.
Нечего говорить о том, как усердно Гренков исполнял возложенное на него послушание. По своей практической жилке он прекрасно изучил стряпню и впоследствии сам говаривал: «Я прекрасно стряпал на кухне. Я тогда и хлеб и просфоры научился печь. Я, помню, учил просфорников, как узнавать, готовы ли агнчии просфоры, а то у них все сырые выходили. Надо воткнуть лучинку в просфору, и если к лучинке тесто не пристает, то, значит, просфоры готовы. А если пристает, то сыры».
В это же время, еще непривязанный к строго келейным занятиям, он при своей сметливости, приглядываясь к разным производившимся в монастыре работам, прекрасно изучил строительное искусство и печное дело. Он впоследствии сам чертил планы для постройки келий, и сделанные по этим его планам кельи оказались самыми удобными.
Чрезвычайно радовало и поддерживало Гренкова постоянное общение со старцем, которого он видел по нескольку раз в день. Между тем старец часто испытывал своего ученика, чтобы закалить его характер, приучить к терпению.
Как-то раз перед народом старец снял шапку с головы одной севской монахини и надел ее на Гренкова, которому очень обидно было стоять перед толпой в женской шапке. А этим, быть может, прозорливый старец предсказывал, сколько сил нужно этому молодому послушнику положить впоследствии на служение монахиням.
Летом 1841 г. Гренкова посетил его товарищ и сослуживец по Липецку Покровский. Войдя в келью, которую Гренков занимал тогда на скитской пасеке, гость был поражен ее крайним убожеством. В углу стояла маленькая икона – родительское благословение Гренкову. На койке валялся ветхий, истертый полушубок, служивший и подстилкой, и изголовьем; подрясник, который он снимал на ночь, служил ему одеялом. Еще висела на стене ветхая ряса с клобуком.
Вспомнил Покровский былого Гренкова, мирского Гренкова, бойкого, веселого, щеголеватого, и, когда сравнил его со стоявшим перед ним исхудалым, бедно одетым и жившим в этой нищенской обстановке человеком, заплакал.
В этот же раз увидал Покровский и то, как смирял старец Леонид своих учеников. Когда ударили к вечерне в колокол, о. Леонид, сидевший на койке, с благоговением произнес: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков». Так как Гренков был из числа тех чтецов, которые назначены были для вычитывания правила старцу, редко ходившему, по болезненности, в церковь, то ему вообразилось, что старец своим возгласом начал вечернее правило, и поэтому он быстро подхватил: «Аминь. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Царю Небесный…» – и так далее.
Вдруг старец прерывает его:
– Кто тебя благословил читать?
Тотчас, по оптинскому обычаю встав на колени, Гренков начал просить прощения. Но о. Леонид, приняв вид гневающегося, грозно продолжал выговаривать ему:
– Как смел ты это сделать?
– Простите ради Бога, батюшка, – продолжал смиренно умолять Гренков.
А старец, как будто не замечая этих просьб, только стучал ногами, размахивал руками над головой Гренкова и грозно кричал:
– Ах ты, самочинник, ах ты, самовольник! Да как ты это смел сделать без благословения!
И со стороны тяжело было смотреть на эту сцену. Каково же было перенести ее Гренкову перед товарищем, который в первый раз посетил его в монастыре и которому он все писал о сладости монашеской жизни.
Но такие искушения налагал старец на своего ученика, так же как ювелир очищает золото в горячем огне. Он сознавал, какое сокровище зреет в Гренкове, и нередко, бывало, по выходе его из кельи, иногда после жестоких разговоров, промолвит окружающим: «Великий будет человек!»
Незадолго до конца своего, прозревая в нем знаменитого деятеля на ниве старчества, о. Леонид поручил Гренкова особому попечению старца Макария. Сам о. Амвросий рассказывал об этом впоследствии: «Покойный старец призвал тогда к себе батюшку о. Макария и говорил ему: «Вот, человек больно ютится к нам, старцам. Я теперь уже очень стал слаб. Так вот, я и передаю тебе его из полы в полу – владей им, как знаешь».
Замечательная тут разница между отношением к людям в миру и в монастыре. Как часто вспоминаются, глядя на видимую приветливость светских отношений, слова: «Умякнуша словеса их паче елея, и та суть стрелы» (Пс. 54, 22) – на языке лесть, а за спиной осуждения и насмешки. А здесь – в лицо выговоры, а за спиной великие, иногда восторженные похвалы.
Старец Леонид почил 11 октября 1841 г. В день его погребения все скитские монахи ушли в монастырь, но Гренков, занятый на кухне, принужден был отказаться от отдания долга горячо им любимому старцу.
Скорбь потери о. Леонида облегчалась тем, что он оставил по себе другого опытного старца-соратника, о. Макария, к которому и перешла вся паства мирян и монашествующих.
Гренков получил другое послушание, которое нес четыре года: он был келейником о. Макария.
29 ноября 1842 г., тридцати лет от роду, Гренков был пострижен в мантию и наречен Амвросием. По уставу Оптиной пустыни, новопостриженные монахи проводят пять дней, не выходя из храма. Там они едят и спят, не снимая ни днем, ни ночью клобука с головы. На пятый день они приобщаются, и тогда их отпускают по домам.
Вскоре он был рукоположен в иеродиакона. Получив весть о своем назначении и считая себя недостойным этого сана, он с другим иноком, предназначенным в иеромонахи, пошел к о. Макарию отказаться. Вошли они, а старец им говорит:
– Ну, вас назначили, назначили. Это хорошо, хорошо. Они мялись и ничего не могли ответить старцу; наконец другой монах, более смелый, вымолвил:
– Вот, об этом-то мы и пришли поговорить с вами, батюшка. Ведь мы недостойны священного сана.
– Так и думайте, так и думайте всегда, что вы недостойны, – отвечал им старец.
Служение при совершении таинств, участие в принесении бескровной жертвы доставляло, конечно, величайшую отраду пламенной, беззаветно веровавшей душе иеродиакона Амвросия. Воспоминание об этой поре его жизни и о духовных воспринятых им тогда утешениях звучит в его словах, сказанных десятки лет позже одному иеродиакону, тяготившемуся священнослужением: «Брат, не понимаешь – ведь жизни причащаешься!»
Зимой 1845 г. он был посвящен в иеромонахи. Надо было ехать в Калугу, и он отправился туда 7 декабря, в день своего ангела. Был сильный холод, и отощавший от поста о. Амвросий очень прозяб на этом пути, где едешь все время открытым местом и где при буре, особенно по берегам Оки, которую надо дважды переезжать, ветер бушует с нестерпимой силой. В эту поездку о. Амвросий страшно простудился и на всю жизнь испортил свое здоровье.
Силы его разом упали. Тем не менее он принуждал себя отправлять чреду священнослужения. Слабость его была, однако, так велика, что он не мог держать долго потир в руках, и, приобщая народ, ему иногда приходилось прерывать приобщение, возвращаться на время в алтарь и ставить чашу на престол, чтобы дать отойти онемевшей руке.
По слабости здоровья о. Амвросий должен был оставить келейничество у о. Макария. Силы его все падали и падали. Хотя еще на ногах, он служил все реже и реже. Ему было около 34 лет от роду, когда он был назначен, по ходатайству игумена Моисея и старца Макария, в помощь о. Макарию в его старческой деятельности.
О. Амвросий, таким образом, рано должен был стать на тот путь, на котором он так верно и честно послужил русской земле. Но вместе с великой тягой старческого служения Бог наложил на него великое испытание – неизлечимую, с постоянными жестокими страданиями болезнь. С 35-летнего возраста о. Амвросий был как бы непрестанно распят. В полной мере выпал ему дар, который посылает Бог людям, самоотверженно Его возлюбившим, – дар безысходного, неослабного страдания. Так рано был он увенчан терпением, которое лишь по смерти мог сложить у престола украсившего его этим терпением Христа. И невольно, когда подумаешь об этом страдании его и о явленной им в этом страдании мощи духовной, невольно вспоминаются заветные слова христианской психологии: «Сила Моя в немощи совершается» (2 Кор. 12, 9).
О. Амвросий заболел в конце сентября 1846 г. Он слег в постель, а в конце октября, в крайнем изнеможении сил, его особоровали и приобщили. Болезнь все развивалась, и лечение не помогало. Прошел год. Положение не улучшалось, и ему пришлось подать прошение об оставлении в Оптиной за штатом. Вот это прошение, как документ о тогдашнем состоянии его здоровья: «Давняя моя болезнь: расстройство желудка и всей внутренности и расслабление нервов, будучи усилена припадками закрытого геморроя, с осени 1846 г. довела тело мое до крайнего изнеможения, от коего и медицинские пособия, в продолжение года употребляемые, меня восставить не могли и не подают никакой надежды к излечению. Почему я, как ныне, так и впредь, исправлять чередного служения и никаких монастырских должностей не могу».
По распоряжению Святейшего Синода, монашествующие, оставляемые за штатом, должны подвергаться медицинскому освидетельствованию. Но иеромонаха Амвросия не могли доставить в епархиальный город, вследствие совершенного расслабления, и потому было разрешено освидетельствовать его на месте. Вот интересный протокол, составленный после медицинского осмотра, в марте 1848 г.:
«Отец иеромонах Амвросий имеет болезненный желтый цвет лица, с болезненно блестящими глазами, всеобщую худобу тела; при высоком своем росте и узкой грудной клетке – сильный, больше сухой кашель, с болью при нем в груди, боль в подреберных сторонах, преимущественно в правой; нытье под ложкой и давящую боль в стороне желудка; совершенное расстройство пищеварения, упорные постоянные запоры и частую рвоту не только слизьми и желчью, но и принятой пищей; бессонницу и, наконец, повременный озноб к вечеру, сменяющийся легким жаром. Припадки эти означают легкую изнурительную лихорадку, происшедшую вследствие затвердения брюшных внутренностей, преимущественно желудка».
Решено было о. Амвросия исключить из штата братии Оптиной пустыни и оставить его на пропитании и призрении оной пустыни.
Итак, через какие-нибудь девять лет по приходе в Оптину о. Амвросий очутился неизлечимо больным заштатным иеромонахом.
Можно думать, что болезнь его немало обязана суровым условиям жизни, которые он сам на себя наложил, желая смирить свою природу. Организм его от природы был нежен, требовал постоянной заботы и тщательного ухода. А он не щадил себя, налагал на себя суровые посты, простужался. Придавая исключительную ценность жизни духа, он, естественно, за ней пренебрег внешней стороной своего существа, которая пришла в быстрое разрушение. Внешняя крепость его пала, силы навсегда утрачены. Плотский человек был разрушен, растоптан, убит. И в этом телесном изнеможении, на этих развалинах былого жизнерадостного, бойкого, кипящего силами Гренкова стал возникать все яснее и яснее обозначавшийся новый человек.
Страдание составляет одну из величайших тайн и один из славнейших венцов христианства и было всегда неотъемлемым, непременным условием жизни его лучших людей.
С тех пор как на земле совершилось неслыханное, трудномыслимое дело – подвиг страдающего Бога, жизнь как бы поблекла и потускнела со стороны своих радостей. Неугасимый, непреходящий свет Голгофы столь бесконечно ярким сиянием озарил страдание, что к нему с невольной притягательной силой стремились все самые цельные, самые искренние и непосредственные люди христианства, все его золото.
Ужасным, чем-то неестественным, чем-то невыносимым для их любви ко Христу казалось таким людям принимать наслаждения там, где одни муки, искажения, предание, суд, бичевание и пропятие принял Богочеловек; и, наоборот, самые ухищренные муки, будь то терпеливо и с благодарением переносимое страдание, ниспосланное свыше, или казнь, добровольно на себя принятая, казались таким людям желанным уделом. Словно дрова, подбрасываемые на уже жарко и ярко разгоравшийся костер, все пребывающая, все ожесточающаяся сила страдания пуще и пуще распаляет пламя Божественной любви. Будущее – в этих избранных людях, и в этом распалении все менее и менее человечески несовершенного, человечески ограниченного, человечески слабого оставалось в них, давая место все сильнее и пышнее развивавшемуся божественно совершенному и божественно прекрасному.
Да, путь жгучего страдания – это то рождение свыше, рождение огнем, без которого трудно стать христианином.
Так было и с о. Амвросием. Почва души его, избранной сызначала, богато и благодатно одаренная, была приготовлена и взрыхлена. Но для приближения к полному совершенству нужно было великое страдание. И оно явилось в болезни, мучившей его свыше 40 лет, всю вторую половину его жизни.
Сил оставалось лишь настолько, чтобы дышать и нести свой подвиг, и вместе с тем этот «по вся дни» изнемогавший, чуть не ежедневно умирающий человек нес такую работу, которая была бы едва под силу и самому цветущему здоровью.
В Оптиной не думали, что о. Амвросий останется жить. Между тем по выходе за штат, выброшенный, так сказать, за борт, он начал понемногу поправляться. Слово «поправляться» надо понимать здесь относительно, так как он после этой болезни здоров никогда не был, а только перемогался в промежутках между совершенным изнеможением.
Настала весна, пришло лето, и в теплый, ясный, тихий день о. Амвросий в первый раз вышел из кельи и, еле передвигая ноги, опираясь на палку, побрел по самой уединенной дорожке скита.
Через год прибыл в Оптину пустынь товарищ о. Амвросия по учительству в Липецке, Покровский, который все отлагал поступление в монастырь и, заболев во время холерной эпидемии и признанный безнадежным, дал обет, в случае выздоровления, проститься с миром.
Любопытна следующая подробность. Поддерживая с приятелем постоянную переписку во время его мирской жизни, о. Амвросий как-то попросил Покровского прислать ему чаю: вовсе не потому, чтоб имел в нем нужду, а чтоб доставить ему случай сделать дружескую услугу. На эту просьбу Покровский ответил: «Ты ведь монах. Какой же тебе чай!»
Приехал в Оптину Покровский сильно озябшим и попросил первым делом товарища напоить его чаем.
– Ведь монахи не должны пить чай, – заметил ему ласково о. Амвросий, приготовляясь исполнить его требование.
Если болезнь не ожесточалась, то и настоящего улучшения не наступало, и в о. Амвросии возникла мысль ехать на богомолье в Киев. Вместе с тем у него было намерение побывать на родине и тайно постричь свою старушку мать в схиму. Но поездка не состоялась, не пришлось и матери великого инока принять пострижение. Как и сын, она была болезненна.
«Мать моя, – вспоминал старец, – всегда была слабая, больная. Помню, что она и летом сидела все на печке, но прожила дольше отца, несмотря на то, что он был крепкого здоровья. Отец скончался 60 лет, а мать – 70. Она жила благочестиво, спасалась по-своему. Но если б я ее постриг, то она могла бы спутаться и никуда бы не попала (ни в мирские, ни в монахини)».
По миновании острого периода болезни, здоровье не восстановилось. То ожесточался катар желудка и кишок, открывалась рвота, то ощущалась нервная боль, то простуда с лихорадочным ознобом. К этому присоединились геморроидальные кровоистечения, доводившие больного до такого состояния, что он временами лежал в постели, как мертвый.
Но на свое положение он не только не жаловался, но покорно и с благодарностью принимал эту болезненность из рук Божьих, как лучшее средство для воспитания души.
Не отказываясь от помощи медицины, имея у себя столик, постоянно заставленный разными лекарствами, он всегда только подлечивался, а не лечился и лишь в крайности обращался к врачу. «Монаху не следует серьезно лечиться, а только подлечиваться», – говорил он.
И сам себя и впоследствии других неизлечимо больных он поддерживал таким рассуждением: «Бог не требует от больного подвигов телесных, а только терпения со смирением и благодарением». Он забывал, говоря это, что самое несение болезни с терпением есть подвиг великий, немногим доступный.
В самом деле, каким ограничениям подвергает человека болезнь и как тяжело, особенно для человека столь живого характера, каким отличался о. Амвросий, одно из главных ограничений – потеря свободы передвижения.
Внешняя обстановка жизни о. Амвросия оставалась в этот период времени прежняя. По-старому в келье его была нищета. В переднем углу стояло несколько икон; около двери висели ряса и подрясник с мантией. Кровать с холщевыми, набитыми соломой матрасом и подушкой. Под койкой была плетушка с бельем, заменявшая ему комод.
В пище по-прежнему соблюдалось крайнее воздержание. Несмотря на совершенно расстроенный желудок, о. Амвросий часто довольствовался общей трапезой, которая в Оптиной сурова. Скоромного масла не бывает никогда, кроме как во время шести сплошных седмиц, а все посты готовят вовсе без масла; не разрешается даже и постное масло. Это бывает тяжело подчас и вполне здоровым людям, а еще затруднительнее было для человека совершенно больного. Еще тяжелее было о. Амвросию то, что он рано лишился зубов в верхней челюсти. Ему было обременительно есть совсем не протертую пищу, и была придумана такая мера: когда скитская братия размещалась за столом, о. Амвросий отправлялся к кухне, около которой была маленькая комнатка, где хранилась скитская посуда и резался хлеб, и тут усаживался он один за стол. У него был ковш, продырявленный в виде терки, через который он и протирал пищу, подаваемую на блюде. Когда бывало ему очень плохо, он у себя в келье готовил себе картофельный суп.
По-прежнему соблюдал он полнейшее послушание старцу Макарию. Один современник о. Амвросия говорил: «Казалось, что у него не было своей воли в распоряжении даже келейными мелочными вещами, а во всем воля старца, и во всем давался им отчет о. Макарию».
Жил он в отдельном от старца корпусе, но ежедневно ходил к нему, если дозволяло здоровье. Он помогал старцу в его обширной переписке и занимался приготовлением к изданию святоотеческих книг.
Особенно много он поработал по переложению Лествицы с древнеславянского, малодоступного языка, со многими темными, малопонятными местами в доступную форму на новославянском языке.
По-прежнему старец Макарий подвергал порою своего ученика тяжким испытаниям и лишениям. Только завидит его, быть может, крайне утомленного, без дела, уже кричит: «Амвросий, Амвросий, что ничего не делаешь?»
Иногда даже Покровский приходил к старцу заступиться за о. Амвросия и говорил:
– Батюшка, ведь он человек больной.
– А я разве хуже тебя знаю, – отвечал старец.
Но бывали и внимание, «утешения».
– Иду раз по скиту, – рассказывает сам о. Амвросий. – Вдруг мне навстречу батюшка. Где-то он взял крошечную баночку варенья и говорит мне: «На-ко, на-ко, тебе, для услаждения гортани от горести, ею же сопротивник напои».
Углубление в мысли и учение Святых Отцов имело, несомненно, значительное влияние на духовный рост о. Амвросия. Один из участников в этих занятиях пишет: «Как щедро были награждены мы за малые труды наши! Кто из внимающих себе не отдал бы нескольких лет жизни, чтобы слышать то, что слышали уши наши, – объяснения старца Макария на такие места писаний отеческих, о которых, не будь этих занятий, никто из нас не посмел бы и воспросить его». Можно думать, что в эту пору отец Амвросий проходил путь умной молитвы. Несколько отрывочных сохранившихся отзывов о. Амвросия показывают его мнение об этом таинственно-спасительном пути.
– Что это, батюшка, умная молитва? – спросили его как-то.
О. Амвросий на этот вопрос взглянул на собеседника своим проницательным взглядом и вымолвил:
– Учитель молитвы – Сам Бог.
«Трудное это, брат, дело – всего разломить», – выразился он как-то в другой раз.
Вообще, духовное развитие о. Амвросия шло удивительно правильно и гармонично. Без всяких потрясений, без влияния каких-либо неожиданных и значительных событий, углубляясь исключительно в жизнь своего духа, восходил он со ступени на ступень, из силы в силу.
От всяких неожиданностей в жизни духовной, от подвигов «не по разуму», от неблагоразумных, хотя бы и добрых с виду, желаний он был застрахован послушанием и безусловно полной откровенностью к своему старцу.
И быть может, именно на него и намекал о. Макарий, когда спросил как-то о. Амвросия: «Угадай, кто получил свое спасение без бед и скорбей?» – понимая, конечно, под «скорбями» тонкие духовные опасности, происходящие от отсутствия надежного руководства в жизни духовной.
Когда о. Амвросий получил возможность выбираться из кельи, он, хотя уже никогда не совершал богослужений, хаживал еще иногда в церковь и там же, по разу в месяц, приобщался.
Одна из самых неприятных подробностей его болезненного состояния состояла в том, что он постоянно находился в изнурительной испарине, так что ему приходилось очень часто менять чулки и фланелевые рубашки, которые он носил на теле. Эта потребность с течением времени все усиливалась, и в последние годы, при крайнем упадке сил и как это ни было для него мучительно, старец переобувался по нескольку раз в час. Еще в годы до своего старчества он постоянно носил с собой мешочек с фланелевыми рубашками и чулками, даже собираясь в церковь. В то время часть скитского храма сзади представляла подобие комнаты – притвора, и здесь-то о. Амвросий и переодевался.
Мало-помалу о. Макарий вводил своего ученика в дело старчества. О начальной деятельности о. Амвросия на этом поприще есть свидетельство игумена Марка, поступившего в Оптину в 1854 г.:
«Сколько мог я заметить, о. Амвросий жил в это время в полном безмолвии. Ходил я к нему почти ежедневно для откровения помыслов и всегда почти заставал его за чтением святоотеческих книг. Если же не заставал его в келье, то это значило, что он находится у старца Макария, которому помогал в переписке или трудился в переводе святоотеческих книг. Иногда же заставал его лежащим на кровати и слезящим, но всегда сдержанно и едва приметно. Мне казалось, что старец Амвросий всегда ходил перед Богом или как бы ощущал присутствие Божие, по слову псалмописца: «Предзрех Господа предо Мною выну», а потому все, что ни делал, старался Господа ради и в угодность Богу творить. Через сие всегда был он сетованен, боясь, как бы чем не оскорбить Господа, что отражалось и на лице его. Видя такую сосредоточенность своего старца, я в присутствии его всегда был в трепетном благоговении. Да иначе мне нельзя было быть. Ставшему мне, по обыкновению, перед ним на колени он, бывало, весьма тихо сделает вопрос: «Что скажешь, брате, хорошенького?»
Озадаченный его сосредоточенностью и благоумилением, я, бывало, скажу: «Простите, Господа ради, батюшка, может, я не вовремя пришел». – «Нет, – скажет старец, – говори нужное, но вкратце». Наставления же он преподавал не от своего мудрования, хотя и богат был духовным разумом, предлагал не свои советы, а непременно деятельное учение Святых Отцов. Для сего, бывало, раскроет книгу того или иного Отца, найдет, сообразно с устроением пришедшего брата, главу Писания, велит прочитать и затем спросит, как брат понимает ее. Если кто не понимал прочитанного, то старец разъяснял содержание весьма толково».
О. Марку случалось приходить к о. Амвросию очень рано, часов в пять утра. И всегда он находил его свежим и бодрым, как будто не спавшим.
Кроме иноков, о. Макарий поручал о. Амвросию говорить также и с некоторыми мирянами. Он вел также беседы с женщинами в хибарке, выстроенной в самой ограде, в которую с внешнего крыльца допускаются женщины, которым запрещен вход в скит. Для о. Амвросия, по его разговорчивому нраву, эти беседы не были в тягость, а прозорливый о. Макарий пророчествовал о той великой тяготе, какая ждет его, – впоследствии его обуревали нескончаемые толпы посетителей. Проходя мимо о. Амвросия, занятого беседой с посетителями, он погрозится, бывало, на него костылем и молвит: «Смотри, помянешь ты это времечко!»
По требованию о. Макария о. Амвросий ходил, как и сам старец, в монастырскую гостиницу для удовлетворения посетителей, и туда брал он с собой неизменно сопровождавший его мешок с переменным бельем.
Случилось ему раз говорить с одной значительной барыней, которая, готовясь к причастию, рассказала ему о разных своих огорчениях.
«Поделом вору и мука», – ответил старец о. Амвросий.
Эти слова так ей не понравились, что она немедленно прекратила разговор. Но на следующий день, когда о. Макарий, взяв с собой и о. Амвросия, пришел поздравить ее, она сказала: «Ну уж, батюшка, повозилась я с вашим словечком, чуть-чуть причастия не отложила. Пришла к обедне, все никак не успокоюсь. Только уж во время Херувимской согласилась, что вы правду сказали».
Одна богатая помещичья семья, остановившаяся в гостинице, для облегчения о. Амвросия стала посылать за ним экипаж с лошадью. Раз как-то встретил его едущим таким образом архимандрит Моисей, повернулся к нему спиной и сделал вид, что ищет что-то в кустах. О. Амвросий понял, что настоятелю не нравится езда, и он стал по-прежнему ходить в монастырь пешком, неся за плечами свой мешок.
Так постепенно, исподволь подготовлялся о. Амвросий к преемству о. Макарию.
Глава IV. Начало старчества
Перед кончиной своей старец Макарий пережил ужасные физические мучения. Терпение его приводило в изумление врачей. В молитве и частом приобщении он черпал силы. Во время этой предсмертной его болезни старец Амвросий почти не отходил от своего старца и часто читал ему отрывки из Святых Отцов.
Каковы были чувства отходящего старца, столь много в жизни потрудившегося и прославленного благочестием? Он строго осуждал себя и сказал своему ученику во время одного из таких чтений: «Вот как, брат, люди-то жили. А мы что с тобой? Живем очертя голову».
Он почил 7 сентября 1860 г., и схоронили его 10-го числа рядом с отцом Леонидом (Львом) за алтарной стеной оптинского собора. О. Амвросий, вовсе не бывший на похоронах старца Леонида, и теперь не мог принять участия в отпевании своего учителя, так как по слабости не мог стоять в облачении.
Возникает важный вопрос о том, кому быть теперь старцем. Вопрос этот чрезвычайно интересовал всех, знавших Оптину, почти всех образованных людей, серьезно преданных делу Церкви. Вопрос о том, кто заменит о. Макария, был вопросом величайшей важности для множества людей в разных местах России, ибо именно при старце Макарии район воздействия Оптиной пустыни на русское общество чрезвычайно раздвинулся.
Московский митрополит Филарет писал своему духовнику, архимандриту Антонию: «Оптинские лишились о. Макария. Думаю, остались от него духовные наследники, но найдется ли, кто мог бы поддержать их в единстве духа и возглавить?»
Так как еще при жизни своего наставника о. Амвросий нес труд старчества, то естественным образом старчество должно было перейти к нему. Но совершился этот переход не без осложнений.
Прежде всего, он был очень еще не стар – всего 48 лет, и многие иноки, вступившие много раньше его в Оптину, не могли сразу подчиниться его авторитету.
Затем настоятель о. Моисей по кончине о. Макария избрал лично для себя старцем своего родного брата, игумена Антония, бывшего настоятеля Малоярославецкого монастыря, жившего в Оптиной на покое. Старшая братия монастыря продолжала исповедоваться у общего монастырского духовника, иеромонаха Пафнутия, назначенного теперь скитоначальником. Наконец, та горячая, исключительная привязанность, с которой относилась к о. Макарию его многочисленная паства, заставляла многих с недоверием и даже отчасти с недоброжелательством относиться на первых порах к тому, кто призван был, по мнению этих людей, «сменить, но не заменить» старца Макария.
На первую пору паства о. Амвросия состояла из некоторых монахов, порученных ему о. Макарием, да новоначальных иноков.
По кончине старца о. Амвросий перебрался в другое помещение: в домик, находящийся справа от святых ворот скита, где и прожил около тридцати последних лет жизни. Вскоре к этому домику была пристроена так называемая хибарка, наподобие той, что была при корпусе о. Макария. Будучи устроена в самой ограде, она давала возможность приходить к старцу женщинам, вход которым в скит воспрещен.
Становясь старцем, о. Амвросий был уже схимником. Постриг в схиму он принял тайно, и потому год этого пострига неизвестен. Надо думать, что это случилось во время тяжкой болезни о. Амвросия, в конце 40-х гг.
В 1862 г. скончался оптинский настоятель о. Моисей. Избранный на его место о. Исаакий стал обращаться к о. Амвросию как к старцу, и вслед за ним потянулись к о. Амвросию и другие.
До кончины старца о. Исаакий пользовался наставлениями о. Амвросия и после кончины его со скорбью говорил: «Двадцать девять лет провел я настоятелем при старце и скорбей не видал. Теперь же, должно быть, угодно Господу посетить меня, грешного, скорбями».
Ошибочно думать, что старец есть какое-нибудь официальное звание или положение.
По-прежнему до конца дней своих о. Амвросий оставался тем же «заштатным иеромонахом» без всяких официальных прав. Он не был даже, как был в свое время о. Макарий, скитским начальником. Только чувство, сознание пользы его советов, вера в его вдохновение заставляли настоятеля быть у него в послушании и ничего без его благословения не делать. Как то же внутреннее убеждение заставляло мирских, иногда весьма самоуверенных и гордых людей, оказывать старцу детское послушание.
Весьма понятно, что если в Оптину к старцу, по молве о его великом сердце и необыкновенной мудрости, из мира и столиц стремились люди и, забывая неудобства сложного тогда пути, съезжались представители всех решительно сословий, от членов царствующего Дома и митрополитов до разных убогих и безвестных личностей, весьма понятно, что, имея, так сказать, под боком такого советника, разумный настоятель не мог не воспользоваться столь доступным ему сокровищем.
Кроме непосредственного воздействия на ход монастырских дел, о. Амвросий приносил, косвенным путем, громадные доходы Оптиной. Естественно, что множество приезжих благодарило монастырь за гостеприимство, хотя в Оптиной нет таксы и постояльцы опускают в кружку у гостиницы, кто что желает. Надо было видеть количество посетителей при о. Амвросии, когда десятиминутного разговора с ним ждали по нескольку дней, когда не хватало ямщиков для перегона между Оптиной и Калугой и подчас номеров в многочисленных оптинских гостиницах, – все это надо было видеть, чтобы вообразить, какой неперестающей обильной струей лились при о. Амвросии в Оптину деньги. Мне пришлось видеть Оптину за несколько месяцев до кончины старца, когда он жил в Шамординском, им основанном монастыре, и я был поражен безлюдьем, тишиной и пустотой, сменившими прежнее многолюдье и бойкое оживление; и все то народное множество, которое тут колыхалось, как никогда не унимающаяся волна, перешло тогда в Шамордино. Достаточно сказать, что после кончины о. Амвросия обитель сразу стала входить в долги, не в силах стала поддерживать всех своих прежних расходов.
В 1863 г. приехал в Оптину Константин Карлович Зедергольм, сын московского лютеранского пастора, принявший православие, очень образованный человек, служивший чиновником особых поручений при графе А. П. Толстом, известном своим благочестивым настроением и любовью к монашеству. Этот Зедергольм остался навсегда в Оптиной и нес все время обязанности главного письмоводителя при о. Амвросии. Этот сложный и своеобразный человек ярко описан известным писателем К. Н. Леонтьевым, так близко знавшим Оптину и старца, в его превосходной книге «Отец Климент». О. Климент, при всех своих больших достоинствах, был неровного, вспыльчивого характера и расстраивался от всяких мелочей. Часто из кельи старца слышен был тревожный, плаксивый голос о. Климента и ласковая речь старца, утешающего его, как мать ребенка.
В ту же пору пришел из Малороссии молодой послушник, впервые указывая на которого старец, говорят, произнес стоявшим около него монахиням: «Вот Иван, который будет полезен нам и вам». Это был будущий оптинский старец и старец громадного количества монахинь о. Иосиф. Он до кончины о. Амвросия был у него келейником.
В 1862 г. в здоровье о. Амвросия произошло новое осложнение. В зимнее время он поехал из скита в монастырь, чтоб навестить новопостриженных, принятых им «от Евангелия». Тут его вывалили из саней, и он получил вывих руки. Так как ее неудачно вправили, то старец долго страдал. С тех пор слабость его стала так велика, что он совершенно уже не мог ходить в церковь, даже Святые Дары приносили ему в келью.
В летнюю пору старец для отдыха ездил иногда на монастырскую дачу, верстах в десяти от Оптиной на берегу Жиздры. Там был привольный, чисто русский вид: с одной стороны надвигалась стена дремучего соснового бора, с других – место было открыто и расстилались поемные монастырские луга, река, а за рекою поле и деревня. Но о. Амвросию хотелось забраться в глушь, и в глубине леса, на небольшой полянке, окруженной отовсюду лиственным лесом, старец устроил себе келью.
Летом 1870 г. был поставлен там небольшой домик и обнесен плетнем. Около домика устроена просторная хибарка для беседы с посетительницами. Внутри плетня и снаружи вырыты две сажалки, и в них пущена рыба. Заведены гряды малины, крыжовника, смородины, земляники и картофеля.
Мне не приходилось видеть этой дачки. Но бывавшие в ней при жизни старца хранят о ней самое теплое воспоминание. Составитель изданного от Оптиной пустыни подробного жизнеописания о. Амвросия красноречиво описывает ее в теплый майский день:
«Утро. Приветливое солнце выплывает из-за чащи дерев. Яркие лучи его играют переливами цветов на зеленой мураве, усеянной блестящими каплями росы. Кругом лес в невозмутимой тишине. Со всех сторон несется пение бесчисленного множества мелких лесных птичек. Все это щебечет, свистит, звенит, трещит и сливается в одну общую неумолчную песнь Создателю, уносящуюся в небесную высь».
Сюда старец и удалялся в летнюю пору, стараясь выжить 5–6 дней между праздничными днями, к которым возвращался опять в скит. Но и здесь он не мог оставаться один: посетители преследовали его и в этой глуши. А одно лето посетители настолько истомили старца, что от усталости он заболел своей обычной изнурительной болезнью, о чем писал сам:
«Здоровье мое более прежнего неисправно, летом уезжал я несколько раз для отдыха в лесную келью; и хоть там в утренние и вечерние часы имел свободу от посетителей, но зато в остальное время они так меня обременяли, что в конце лета я выбился из сил и заболел обычною своей болезнью и теперь стал слабее прежнего».
Доктора строжайше запретили старцу принимать кого бы то ни было, и, чтобы приостановить, ввиду опасного его положения, постоянный стук в его дверь и требования свиданий с ним, они навесили на его дверь записочку: «Врачи запрещают старцу принимать посетителей» – и скрепили ее своими подписями.
И в таких постоянных обострениях слабости проходили годы его жизни.
Как он страдал, видно из одного вырвавшегося у него признания: «Если я скажу иногда про свое здоровье, то только часть. А если б знали все, что я чувствую… Иногда так прижмет, что думаю: вот пришел конец».
И несомненно, во всех этих мучительных недомоганиях тяжелее всего был ропот тех, кого он не мог, по болезненности, немедленно принять. Одна барыня, придя проститься с ним, застала его лежащим навзничь в страшном утомлении и спросила его, зачем он себя так утомляет.
«Что же делать? – отвечал он. – Все жилы и нервы мои натянуты! Да к тому же еще лихорадочное ощущение с болью в желудке. А нельзя же оставить народ: сама видишь, сколько его. Да это все бы ничего. Но меня огорчает то, что еще ропщут все-таки на меня. Ведь, кажется, сами уже видят, в каком я положении».
Итак, никакая лесная чаща не могла укрыть о. Амвросия от следовавшего за ним повсюду народа. А между тем как жаждала его душа порою сосредоточенного уединения, этих блаженных для подвижника часов, когда никого нет между ним и Богом, когда ни одна стена людского жилища не скрывает от него красоты небесной, и только вокруг славит Бога та природа, которая глазу верующего человека представляется чудным зеркалом, в котором отразилось вдохновение и мудрость Творца.
Он любил их, сколько мог, эти часы уединения с природой, и всякий раз, как я бывал в прелестном, умилительном уголке – усадьбе Руднове, в нескольких верстах от Шамордина, мне рассказывали, как, бывало, летом на заре старец, проводивший в Руднове несколько дней, тихонько выбирался из своей кельи и один бродил по дорожкам, придерживаясь рукой за нарочно устроенные для него перильца.
И от этих нужных душе его минут отрывал его зов толпы, толпы, которой он не мог и не должен был отказать, зная и всю меру страдания людского, и всю меру той бессердечности, какую встречали повсюду люди, прежде чем пришли к нему.
Глава V. Труды старчества
Итак, о. Амвросий был уже старцем.
Попробуем разобраться в том, из каких элементов сложился к этой поре его внутренний человек.
Те мирские черты его характера, которые он принес с собой в монастырь, под влиянием его духовного роста приняли все чисто духовное направление.
Мы видели, каким он был в миру оживленным и словоохотливым собеседником. Это исчезло, но стремление заметить каждого человека, каждого обласкать приветливым словом, утешить унылого шуткой – эта черта стала в нем еще глубже.
Его большая наблюдательность, интерес ко всему, что происходит около него, перешли в ту великую пытливость ума, которая стремится к разрешению главнейших задач бытия – вопросов о жизни и смерти, старается приподнять завесу, разделяющую сферы земного и потустороннего быта и поверх всего изменчивого, волнующего прозреть неизменный, вечный величавый образ Сущего.
Его мирская веселость переродилась в ту чрезвычайную сердечность, которая составляла одну из чарующих сторон его характера и которая каким-то прямо чудесным образом порождала близость как бы многолетних интимных отношений с ним в людях, только что к нему приблизившихся в первый раз в жизни.
Но, быть может, одна из главных причин того трудно описуемого обаяния, которое он производил на людей, были перенесенные им в жизни страдания.
Этим объясняется, что к о. Амвросию влекло тех людей, которые настрадались в жизни, в чем бы ни состояли их страдания: будь то самые прозаические беды, в виде бедности и внешних испытаний, или тонкие душевные невидные страдания людей, с виду счастливых и взысканных судьбой.
Вспомним, что страдания о. Амвросия начались не только с его тяжкой болезни, державшей его в состоянии как бы постоянного распятия на кресте.
Еще в детстве, живой, впечатлительный мальчик, по мягкой, сочувственной природе своей инстинктивно требовавший ласки, он слышал только одни выговоры, видел одну, часто несправедливую, строгость. Да и позже должен был, как это неизбежно случается с такими избранными, чуткими организациями, перетерпеть немало уколов. Слабые натуры обыкновенно озлобляются и черствеют от такого жестокого опыта жизни. Сильные стараются в широкой мере дать людям и жизни то, чего сами от этой жизни так страстно ждали и чего от нее не получили. И с такой дедовской лаской обращаясь и со взрослыми и с детьми, не вспоминал ли всякий раз о. Амвросий о своем давнем знакомом – маленьком дьячковском сыне-шалуне Саше Гренкове, постоянно бранимом и никогда не ласкаемом, и не рвался ли всем сердцем излить на людей ту ласку, которой сам на свою долю получил так мало?
Наконец, его благочестие, его стремление к Богу за время его иночества получило полное развитие. Посмотрим теперь на то, как располагалась его внешняя жизнь.
Со времени смерти старца Макария о. Амвросий жил в маленьком домике справа от скитских ворот. Убогое крылечко с завесом, дверь со стеклянной рамой, ведшая в прихожую-сени. В сенях этих по стенам простые низенькие скамьи для приходящих. Сейчас справа от входа дверь в небольшую приемную для посетителей попочетнее, которые тут ожидали приглашений в комнату старца, а иногда он оставался говорить с ними и в этой приемной. Стены приемной были сплошь завешаны портретами духовных лиц, среди которых были очень хорошие и редкие гравюры и фотографии. Портреты изображали иерархов – митрополитов и калужских архиереев, а также подвижников последнего века.
У двери стояла этажерка с книгами духовного содержания, чтоб посетители могли, ожидая, заниматься чтением. На окнах цветы. В углу большая и несколько малых икон. По стенам старинный диван и старинные стулья.
К старцу из сеней надо было пройти через маленькую внутреннюю темную переднюю, в которой висела разная его одежда: два ватных подрясника, два легких, белый балахон, меховая ряска из беленьких смушек; его «форменная» мухояровая ряска и мантия. Здесь же на полочках стояли богослужебные книги.
Дальше шла небольшая комнатка, где старец жил в последние годы почти безвыходно, так как почти всегда в ней и принимал. И эта келья была увешана портретами и иконами, среди которых была маленькая икона Богоматери «Тамбовская», родительское благословение, с неугасимой перед нею лампадой. Из рамок глядели дорогие лица обоих митрополитов Филаретов, Московского и Киевского (в скуфейках), ангельский, небесный лик среброкудрого затворника Троекуровского Иллариона, пославшего столько лет назад учителя Гренкова в Оптину пустынь, оптинских старцев Льва, Макария, архимандрита Моисея и брата его схиигумена Антония, из современников – Кронштадтского пастыря о. Иоанна Сергиева и многих еще лиц.
В северном углу был аналой в виде шкафчика, со следованною Псалтирью и другими книгами для вычитывания правил. У восточной стены стояла койка, на которой полулежа старец принимал посетителей. Еще в комнате находился шкаф, весь наполненный духовными книгами, и два небольших стола. На одном – несколько икон, подсвечник с восковыми свечами и несколько духовных книг. Другой назначался для корреспонденции, и на нем письмоводитель должен был писать под диктовку. Кроме того, два старинных кресла и две-три табуретки.
К келье о. Амвросия примыкала келья его келейника – будущего оптинского старца о. Иосифа, далее шла маленькая кухня, где помещался и послушник, готовивший убогую пищу старца.
Дверь в конце коридора, противоположная входной двери, вела в хибарку – отделение, в котором в приемные часы ждали старца монахини и мирские посетительницы.
День старца начинался рано, в четыре утра (в последнее время в пять), когда он звонил в звонок. На этот звон приходили келейники и прочитывали ему утренние молитвы, двенадцать псалмов и первый. Старец слушал чтение или стоя на своей койке, или сидя на ней, а во время ухудшения здоровья и лежа, но никогда правила не опускал. Затем читались, после краткого отдыха, часы третий и шестой и канон с акафистом Спасителю и Божией Матери. Эти часы, полагаемые обыкновенно в вечерне, старец выслушивал утром, так как за множеством посетителей ему некогда было отправлять со своими келейниками вечерню. Во время правила делались остановки. Послушав, старец высылал келейников и, отдохнув, звал их опять для продолжения. Можно думать, что дело тут было главным образом не в усталости старца, а в том, что он желал наедине сосредоточиться в умной, т. е. внутренней, молитве.
Прослушав утреннее правило, старец обыкновенно умывался. И в это время келейники начинали уже спрашивать старца по поручению разных лиц.
Тяжел был этот утренний ранний час вставанья для переутомленного, ослабленного старца. Часто он, бывало, примолвит: «Ох, все больно!»
Затем ему подавалась маленькая чашечка какао с крошечным куском хлеба, а потом две чашечки слабого чая. В это время старец начинал диктовать письма.
Пока диктовались письма, уже начинали собираться посетители, и постоянно слышался стук в наружную дверь или звонок, и предъявлялись назойливые требования к келейникам, чтобы они поскорее доложили старцу, и затем слышался ропот, что старец не принимает.
Между тем, продиктовав письма, старец, готовясь выйти к посетителям, менял одежду и обувь, причем раздавались постоянно вопросы одевавших его монахов и других иноков, входивших к нему, и велся оживленный общий разговор.
Часам к десяти выходил старец к посетителям и прежде всего направлялся по коридорчику, где благословлял пришедших, говоря по нескольку слов, а с кем было надо, занимался и дольше в приемной. Затем он направлялся в хибарку и здесь оставался долго. Трудная и тягостная сторона старчества состоит в том, что к старцу идут не только с важными и нужными делами. Иные обращаются со всяким вздором и отнимают время повествованием о каких-нибудь воображаемых своих несчастьях. Конечно, чаще всего такими назойливыми являются женщины.
В полдень или немного позже старец шел обедать в келью о. Иосифа и полулежа принимал пищу. Эта трапеза его состояла обыкновенно из двух блюд: нежирной ухи и клюквенного киселя, при этом хлеб. В посты вместо ухи подавался картофельный суп с жидкой гречневой кашицей.
Пищи старец принимал так мало, сколько может съесть трехлетний ребенок. В 10–15 минут кончался обед, прерываемый расспросами келейников, что отвечать таким-то или таким-то людям. Иногда, чтобы освежить голову, старец приказывал почитать себе что-нибудь вслух, например несколько басен Крылова. Он любил их, и книга этих басен всегда лежала на столе в келейной.
Затем старец тут же, лежа на койке, принимал на общее благословение сперва мужчин, потом женщин. При этом старец метким словом, вскользь сказанным, часто давал ответ на тайный, невысказанный кем-нибудь вопрос или рассказывал какой-нибудь рассказ, служивший разъяснением к тоже невысказанному чьему-нибудь недоумению. Иногда произносилась какая-нибудь шутка, и наконец, преподав благословение каждому или каждой, старец направлялся к себе, причем раздавались голоса: «Батюшка, батюшка, мне словечко сказать, мне пару слов!» Но, протискавшись через толпу, старец запирался у себя в келье.
Если же после обеда старец был в силах, он выходил в хибарку на общее благословение. Появлялся келейник, закрывал окна, чтоб не было сквозного ветра; посетительницы становились в две шеренги, образуя проход для старца, отворялась дверь, и в проходе появлялся о. Амвросий в белом балахоне, сверху которого неизменно, зимою и летом, носил меховую ряску, и в ваточной шапке на голове. Остановясь на ступеньке, старец всегда молился перед иконой Божьей Матери и проходил дальше, внимательно вглядываясь в лица и осеняя крестным знамением. Из толпы раздавались вопросы, на которые он давал простые, ясные ответы. Иногда он садился, и тогда вокруг него становились на колени, ловя всякое его слово, а он рассказывал что-нибудь, заключавшее полезное наставление.
Когда келейник напоминал ему, что пришел час отдыха, он, сняв свою шапочку, раскланивался и говорил в шутливом тоне: «Очень признателен вам за посещение. Отец Иосиф говорит, что пора».
Летом «общее благословение» происходило под открытым небом. От крыльца хибарки были устроены жерди к столбикам. С одной стороны стоял народ, с другой – двигался согбенный старец, давая ответы на вопросы людей.
Как часто старец при приеме народа приходил в крайнее изнеможение, это видно из его писем. «По утрам с трудом разламываюсь, чтобы взяться за обычное многоглаголие с посетителями, и потом так наглаголишься, что едва добредешь до кровати в час или больше. Есть пословица: «Как ни кинь, все выходит клин». Не принимать нельзя, а всех принять нет возможности и сил недостает».
Еле переводя дух от усталости, он шел к себе; подымалась суматоха, народ хватался за него, и он иногда выбирался из толпы, оставив в ее руках теплый подрясник.
Иногда старец обходился вовсе без послеобеденного отдыха, звал к себе письмоводителя и диктовал письма.
Часа в три снова начинался прием: он или выходил в приемную, или, лежа на койке в келье о. Иосифа, толковал с народом; во время этого приема он пил чай.
Часов в восемь ужин, повторение обеда, а там опять прием.
В зимнее время посетители, входя иногда к старцу необогретые, простужали его, и ему к вечеру становилось плохо.
Вечером опять читали ему молитвы келейники, еле стоявшие на ногах от беспрерывного бегания в течение всего дня. А сам старец в эту пору после трудового дня лежал на койке почти без чувств.
Так время доходило за полночь. Спал о. Амвросий всегда одетым – летом в балахоне, зимой в кожаном подряснике, в монашеской шапке на голове, с четками в руках.
Ночью он, несомненно, мало спал. Конечно, только в эту пору он и мог беспрепятственно углубиться в молитву.
Спит мир весь, спят те, которые сложили за день в этой келье свои горести и грехи. Не спит лишь великий старец, и кто знает, какие видит тайны, каким благоухающим фимиамом подымается к небу его молитва!
Обычный, строго соблюдавшийся ход жизни старца Амвросия разнообразился некоторыми изменениями в праздничные дни.
Накануне воскресных и праздничных дней отправлялись в кельях старца всенощные бдения. Чтоб не увеличивать жары тесных комнаток, два-три певчих и пользовавшиеся случаем больные скитяне стояли в коридоре и передней, а в самой келье большей частью стоял только служивший иеромонах и сам старец.
По множеству дел и службу нельзя было ему прослушать спокойно. Приходилось во время чтений паремий, кафизм, канона выходить в келью о. Иосифа исповедовать или принимать посетителей. Но всегда в сосредоточенном внимании он выслушивал Шестопсалмие, Евангелие и величание, во время которого любил подпевать своим приятным тенорком. Иногда случалось, что приходило время «Хвалите», а старец не успел еще отпустить посетителя, и тогда служба прерывалась, чтобы дождаться старца. Во время главных, умилительных минут богослужения на лице старца виднелись слезы.
Утром в праздники, вставши в 5 часов, старец отпускал келейников к обедне и до прихода их оставался совершенно один и неизвестно, чем он тут занимался. Вернувшись из церкви, келейники заставали его сидевшим на койке за чтением любимых им книг: Апостола, Псалтири, Добротолюбия, преподобного Максима Исповедника или Исаака Сирина – все на славянском языке, так как он очень любил этот язык. В книгах он многие места подчеркивал или делал свои замечания.
Но праздничная тишина продолжалась недолго. Старец начинал диктовать письма, а там приходили посетители, и подымались на весь день стук, звон, шум и ропот. В праздники посетителей бывало даже больше, чем в будни.
Перед праздниками Пасхи и Рождества старцем составлялось так называемое «общее поздравление». Не имея возможности поздравить отдельно всех своих духовных детей, он с 1869 г. стал заблаговременно диктовать примененное к празднику назидательное общее письмо. Все они впоследствии были собраны и изданы Оптиной пустынью.
Накануне великих дней, которые все православные любят встречать дома в своих семьях, число посетителей значительно уменьшалось.
Старец бывал в особенно радостном, умиленном настроении, так что его ласковость вызывала у окружавших его слезы. В полночь служилась заутреня, а на другой день праздника приходил с поздравлением оптинский настоятель.
Большое торжество бывало 7 декабря, в день именин старца – память великого святителя Амвросия Медиоланского, которого старец чрезвычайно почитал. В скитской церкви служил оптинский настоятель и от обедни со всем скитом являлся с поздравлением к старцу, который сидел в обычном своем, иногда заплатанном, подряснике на койке с поджатыми ногами. Посетителей поили чаем, на трапезах, монастырской и скитской, было «велие утешение», а в приемной старца закуска для начальных лиц. В Белевский женский монастырь посылали к этому дню возами белые хлебы и пироги.
Все издержки этого дня принимала на себя преданнейшая дочь старца, богатая помещица Александра Николаевна Ключарева, первоначальница Шамординской обители, в иночестве Амвросия.
Некоторыми событиями можно также считать приезд особо значительных посетителей. Кроме всех калужских владык, у старца был митрополит Иоанникий (в 1887 г.), в бытность свою на Московской кафедре, и великий князь Константин Константинович.
Из писателей знали о. Амвросия М. П. Погодин, Ф. М. Достоевский, Вл. С. Соловьев, К. Н. Леонтьев, граф Л. Н. Толстой, сестра которого монашествовала в Шамордине.
Достоевский был в Оптиной, кажется, единовременно с Вл. С. Соловьевым. Мне довелось слышать рассказ последнего, что когда Достоевский писал Карамазовых и по плану романа требовалось изобразить монастырского старца, он поехал в Оптину и беседовал с о. Амвросием. О. Амвросий постиг сущность смирившейся души писателя и отзывался о нем: «Это кающийся».
Но совершенно ошибочно думать, что о. Зосима, созданный Достоевским после посещения Оптиной, является художественным воспроизведением личности о. Амвросия.
О. Зосима гораздо более похож на протестантского пастора, чем на тот богатый, красочный, многосторонний и ничуть не сентиментальный тип, каким был о. Амвросий.
О. Зосима кажется бледной, рассудочной отвлеченностью для тех, кто видел о. Амвросия, и, я думаю (не отрицая немалое значение этого типа в русской литературе), нисколько не передает ни одной типичной черты русских старцев вообще.
Константин Николаевич Леонтьев провел в Оптиной пустыни последние годы своей жизни и, за несколько десятков дней до кончины старца Амвросия, приняв тайный постриг, переехал в Сергиев Посад (у Троице-Серги-евой лавры), где вскоре и скончался.
Выше было упомянуто о выходах старца на «общее благословение» и на разговоры его в это время, где часто, в шутливой иногда форме, он высказывал чрезвычайно глубокие мысли. Старец, несомненно, имел художественные способности, так как многие сравнения его прямо поразительны своей оригинальностью и выразительностью.
Многое из высказанного им на этих «общих благословениях» было тогда же записано и впоследствии собрано.
«Мы должны, – говорил старец, – жить на земле так, как колесо вертится: чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх. А мы как заляжем на земле, так и встать не можем».
Вот как учил старец монахинь обхождению с сестрами:
«Если кто тебя обидел, не рассказывай никому, кроме старца, и будешь мирна. Кланяйся всем, не обращая внимания, отвечают ли тебе на поклон или нет. Смиряться надо перед всеми и считать себя хуже всех. Если мы не совершили преступлений, то, может быть, потому, что не имели к тому случая – обстановка и обстоятельства были другие. Во всяком человеке есть что-нибудь хорошее и доброе; мы же обыкновенно видим в людях только пороки, а хорошего ничего не видим».
О том, как человек в счастье надмевается, а в горе никнет к земле, старец говорил следующую художественную притчу: «Человек как жук. Когда теплый день и играет солнце, летит он, гордится собой и жужжит: «Все мои леса, все мои луга! Все мои луга, все мои леса!» А как солнце скроется, дохнет холодом и загуляет ветер, забудет жук свою удаль, прижмется к листу и пищит: «Не спихни!»
Как не умеют люди прощать врагам, и если не мстят им, то обыкновенно стараются хоть чем-нибудь мелочным досадить им: принять гордый вид при встрече, не заметить. А старец говорил: «Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать какое-нибудь добро врагам своим, а главное, не мстить им и быть осторожным, чтоб как-нибудь не обидеть их видом презрения и уничижения».
Как глубоко и блестяще растолковано им знаменитое изречение о «ланите», подающее повод к стольким недоумениям!
«Когда тебе досаждают, никогда не спрашивай, зачем и почему. В Писании этого нигде нет. Там, напротив, сказано: «Если кто ударит тебя в десную ланиту, обрати к нему и другую. В десную ланиту на самом деле ударить неудобно. А это разуметь нужно так: если кто будет на тебя клеветать или безвинно чем-нибудь досаждать, это будет означать ударение в десную ланиту. Не ропщи, а перенеси удар этот терпеливо, подставив при сем левую ланиту, т. е. вспомнив свои неправые дела. И если, может быть, ты теперь невинен, то прежде много грешил. И тем убедишься, что достоин наказания».
Таким образом, в основу поведения человека старец, прежде всего, ставил полную самостоятельность людей, покорность Божию закону и свободу от подчинения мнению других. Тут только и возможен покой. В самом деле, как бесконечно много приносится в жизни в жертву этой бессмысленной мысли: «Что подумают, что скажут другие?»
Отказывают себе в необходимом только для того, чтоб иметь возможность богаче одеться и чтоб люди хвалили туалет. Следуют разным глупым обычаям потому только, что так принято. И страшно портят себе кровь из-за того, что оскорбляются невниманием к себе других. И вспоминается, глядя на таких попусту мучающих себя людей, слово старца: «Кланяйся всем, не обращая внимания на то, отвечают ли тебе на поклон или нет». Какое, в сущности, мнение может нас интересовать, кроме мнения очень нами любимых или уважаемых людей? Какие похвалы приятны, если совесть нас упрекает? Какие осуждения могут нас задевать, если совесть нас оправдывает? А люди обыкновенно подчиняются тысячам мнений, мечутся, чтобы угодить целой толпе.
А вот с какой не только снисходительной, но и ласковой любовью надо относиться к осудителям. Когда старца одна особа спросила, как это он не только не гневается на тех, кто его осуждает, но и любит их, он со смехом ответил: «У тебя был маленький сын. Сердилась ли ты на него, если он что не так делал и говорил? Не старалась ли, напротив, как-нибудь покрывать его недостатки?»
Вот как мудрый психолог говорил о постепенности в деле самоусовершенствования: чтобы человеку исправить себя, не надо вдруг налегать, а как тянуть барку – тяни-тяни-тяни, отдай-отдай. Не все вдруг, а понемногу. Знаешь рожон на корабле? Это такой кисет, к которому привязаны все веревки корабля, и если тянуть за него, то потихоньку и все тянется. А если взять сразу, то все испортишь от потрясения.
Вот кто был один из милосерднейших людей своего века, усвоил себе такой взгляд на помощь просящим; святой Димитрий Ростовский пишет: «Если приедет к тебе человек на коне и будет у тебя просить, подай ему. Как он употребит твою милостыню, ты за это не отвечаешь».
А мы как судим и рядим, действительно ли просящий дошел до крайней нужды, совершенно забывая, что мы, как бы сыты и благополучны ни были, все выпрашиваем себе у Бога большего благополучия.
Как розно и большею частью несовершенно толкуются слова: «Будите мудри яко змия» – и как глубоко толковал старец!
«Змея, когда нужно ей переменить старую свою кожу на новую, проходит через очень тесное, узкое место, и таким образом ей удобно бывает оставить свою прежнюю кожу. Так и человек, желая совлечь свою ветхость, должен идти узким путем исполнения евангельских заповедей. При всяком нападении змея старается оберегать свою голову. Человек должен более всего оберегать свою веру. Пока вера сохранена, можно еще все исправить».
Вот история, которая широко приложима к людям, и кто из нас не был свидетелем того, что в опасности люди хватаются за ту религию, над которой и до того издевались, и после того будут издеваться.
«Один не верил в Бога. А когда во время войны на Кавказе пришлось ему драться, он в самый разгар сражения, когда летели мимо него пули, пригнулся, обнял свою лошадь и все время читал: «Пресвятая Богородица, спаси меня». А потом, когда, вспоминая об этом, товарищи смеялись над ним, он отрекся от своих слов». И, передавая этот рассказ, старец заключил: «Да, лицемерие хуже неверия!»
Вот целый ряд высказанных им мыслей о грехе, психологию которого он, видевший обнаженными, без всякой утайки, столько совестей, постиг, как немногие.
«Если на одном конце деревни будут вешать, на другом конце не перестанут грешить, говоря: «До нас еще не скоро дойдет». И еще: «Грехи – как грецкие орехи. Скорлупу расколешь, а зерно выковырять трудно».
Но при такой цепкости греха, если человек хочет от греха освободиться, громадное значение имеют хороший руководитель и среда. «Как на пойманную в табуне одичалую лошадь когда накинут аркан и доведут, она все упирается и сначала идет боком, а потом, когда присмотрится, что прочие лошади идут спокойно, и сама пойдет в ряд. Так и человек».
Старец глубоко верил в великую разрешительную силу покаяния, в неисчерпаемую бездну Божественного милосердия и всепрощения.
«Один все грешил, – рассказывал он, – и каялся – и так всю жизнь. Наконец покаялся и умер. Злой дух пришел за его душой и говорит: «Он мой». Господь же говорит: «Нет, он каялся». – «Да ведь, хотя каялся, и опять согрешал», – продолжает дьявол. Тогда Господь ему сказал: «Если ты, будучи зол, принимал его опять к себе после того, как он Мне каялся, то как же Мне не принять его после того, как он, согрешив, опять обращался ко Мне? Ты забываешь, что ты зол, а Я – благ».
Известно, какое чрезмерное значение склонны иные придавать так называемому «правилу» – известному числу и порядку молитв.
Вот замечательное об этом мнение о. Амвросия в письме к одной особе:
«Бог да благословит оставить обычное правило и постоянно держаться молитвы Иисусовой, которая может успокаивать душу более, нежели совершение большого келейного правила. Держащийся его подстрекаем бывает тщеславием и возношением. Когда же почему-либо не может исполнить своего правила, то смущается. А держащийся постоянно молитвы Иисусовой пребывает в смирении, как бы ничего не делающий, и возноситься ему нечем. Да и чем, в самом деле, тут возноситься? Оборванный, ощипанный просит милостыню: помилуй, помилуй! А подастся ли милость – это еще кто знает?»
Иноки, усердные к молитве, знают, как иногда смущают душу в это время множество посторонних помыслов. Вот прекрасное уподобление – совет старца Амвросия.
«Ехал мужик по базару, вокруг него толпа народу, говор, шум. А он все на свою лошадку: «Но-но! но-но!» Так помаленьку, полегоньку проехали весь базар. Так и ты, что бы ни говорили помыслы, все свое дело делай: молись!»
Нельзя не удивляться той осязательности, которую умел придать отец Амвросий своим рассуждениям по вопросам духовной жизни, той конкретной бытовой форме, в которую он облекал разные случаи из жизни человеческой души.
Глава VI. Черты характера
Каковы были черты духовной личности старца Амвросия?
Его постоянное нахождение на людях, его постоянное пребывание в таких тисках «молвы житейской», которой не знают и наиболее общительные мирские люди, не истребило в нем нисколько так глубоко проникшего в него иночества. Он усвоил себе и провел в свою жизнь слова святого Исаака Сирина: «Изливай на всех милость свою, и буди спрятан от всех». Келейные входили к нему по звонку, всегда с молитвой, так что и выражения лица его не могли застать, так сказать, врасплох. И о том, что он думал лично о себе, что он чувствовал, переживал, того он никому никогда не открывал.
Он любил говорить о том, какой спрятанности в своей жизни держался великий митрополит Филарет Московский, тоже проживший весь век на людях. Келейники не могли даже видеть, как он умывается – принеси воды и иди. Случалось, что келейник хотел остаться, помочь, но старец приказывал: «Говорено тебе: иди!»
Так же спрятанно жил и учитель его, старец Макарий, о котором о. Амвросий вспоминал: «Мудрец был старец. Я четыре года был его келейником, пользовался и руководствованием его, а так во всю жизнь разгадать его и не мог».
Единственно, чего не мог скрыть в себе о. Амвросий, – это слезы. Он плакал часто среди служб, отправляемых у него в кельях, особенно же когда читали акафист Богоматери. Тогда можно было видеть, с какой любовью глядит он на лик Пречистой Девы и как слезы обильно струятся по его исхудалым щекам.
Смирение его было так искренно, глубоко, что он взаправду считал себя ничего не сделавшим, повинным перед Богом человеком. Когда исполнилось 40 лет пребыванию его в Оптиной и к нему пришли с поздравлением и просфорами, он сказал: «Надо еще потолковать, с чем пришли вы поздравить. Прожил здесь 40 лет и не выжил 40 реп. Истинно чужие крыши покрывал, а своя раскрыта стоит».
Отголоски этого настроения часто встречаются в его письмах: «Давно собирался я успокоить вас касательно боязни вашей, что будто я оставил вас и не буду писать вам. Ежели я, по слабости моего характера, не отказался от вас, не знавши вас как должно, а согласился на предложение ваше, не желая оскорбить вас, в крайней нужде духовной находящегося, то теперь ли могу оставить вас, когда я, по недостатку истинного рассуждения, презрев свою душу и собственное спасение, оставил их на произвол судьбы, мняся заботиться о душевной пользе ближнего. Не знаю, есть ли кто неразумнее меня. Будучи немощен крайне телом и душой, берусь за дело сильных и здоровых душевно и телесно. О, дабы простил мне Великий Господь неразумие мое за молитвы блаженного о. нашего Макария!»
Приобщаясь по нескольку раз в месяц, о. Амвросий всегда исповедовался перед тем, и смиренная исповедь его, во время которой он каялся в таких грехах, которые и за грехи считать нельзя, была величественна и вместе детски трогательна. Великий старец стоял на коленях перед иконами, как преступник перед страшным судьей, быть может, со скорбным помыслом, отпустится ли грех. «Посмотрю, посмотрю на плачущего старца, – рассказывал духовник его о. Платон, – да и сам заплачу».
Та чистота малого дитяти, та великая кротость, которых он достиг, и великое упование на Бога поддерживали в нем чувство духовного, возвышенного дарования, которое озаряло его лицо и вовне проявлялось неизменной ласковостью и шутливостью.
Не мог быть по-мирски весел этот по обстоятельствам своим несчастнейший человек: старик, который был изнеможен изнурительной болезнью, вечно недосыпал, с желудком, не принимавшим пищи, чувствовал боль во всем теле, старик, которого, сверх того, постоянно теребили, который к вечеру лежал без языка в полуобмороке, человек, который видел жизнь во всем обнажении ее ран, который ежедневно выслушивал ужаснейшие признания или повесть бесконечных бедствий. Не весел, но радостен был он и своей бодростью, шуткой поддерживал других.
Даже когда окончательно изнемогал, когда надо было ему употребить много усилий, чтоб невнятно выговорить два-три слова, и тут не покидала его радостность.
Во время одной болезни старца скитский монах, имевший лысую голову, сильно унывал, и захотелось ему получить благословение старца.
Подошел он к койке, молча склонился за благословением. Старец слегка ударил его по голове и еле слышным шепотом, но все же шутливо произнес: «Ну ты, лысый игумен!» Радостно стало монаху, в восторге вернулся он в келью: «Батюшка еле дышит, а сам все шутит!»
Но где брал этот старец такие силы?
Воображая ту чрезвычайно напряженную духовную деятельность, которую в течение нескольких десятилетий проявлял о. Амвросий, невольно изумляешься тому, что у него хватало как физических, так и нравственных сил.
Какую вы деятельность ни возьмете: государственного ли человека, купца, промышленника, сельского хозяина, адвоката, писателя, артиста, ученого, – у всех есть не только дни, но порой и месяцы отдыха и передышки.
Такой передышки не было вовсе у о. Амвросия с тех пор, как он принял из рук старца Макария тяжелое бремя старчества. Ежедневная, изо дня в день, толчея народа, ежедневно обильный приток писем, ежедневно то же недомогание, та же слабость и те же ни на час не отступающие заботы, вопросы, недоумения. И каждый вечер от крайнего переутомления то же полуобморочное состояние, и после нескольких часов сомнительного отдыха с раннего утра начавшийся трудовой день, без малейшей свободной минуты. И так проходили все тридцать лет его подвига.
Невольно спросишь себя: «Да как же он мог все это выносить? Как при таких обстоятельствах мог он не только не умереть, но бодро продолжать свою деятельность?»
Но еще большее изумление вызывает его нравственная, душевная выносливость.
Ведь к старцам обращаются в самых трудных случаях, поверяют такие страшные тайны, такие великие грехи, которые человек не решится открыть обычному духовнику. С какого рода признаниями приходят к старцу, можно видеть из «Дневника писателя» Достоевского.
Там рассказано, как один человек побился с другим об заклад, что в доказательство своего бесстрашия он, приобщаясь, сохранит во рту Причастие и потом выстрелит в Него. Трагизм заключался в том, что человек этот верил во Христа. Ужасный замысел был исполнен, и часть Тела Христова пригвождена к дереву. Но когда человек стал уж наводить курок, он увидел распятым на дереве Самого Христа, на Которого он так безумно подымал руку. После этого ужаса он и пошел каяться к старцу[4].
Как в глубоком море, с которым так проникновенно верно Писание сравнивает внутреннюю жизнь человека, таятся «гады без числа»: так же много мути, много диких ужасов и леденящих тайн скрыто иной раз в глубине души человеческой, вдали неотвязных, гнетущих воспоминаний. Вспомните знаменитого некрасовского Власа:
Говорят, великим грешником
Был он прежде. В мужике
Бога не было; побоями
В гроб жену свою вогнал;
Промышляющих разбоями,
Конокрадов укрывал <…>
Брал с родного, брал с убогого,
Слыл кощеем-мужиком;
Нрава был крутого, строгого…
Наконец и грянул гром!
Не погиб еще человек. Придет минута, и станет жечь и эту падшую душу тоска по Богу – и вот тут-то и нужен старец.
А сколько невидных сердечных страданий, от которых невидимо задыхаются с виду, для постороннего взгляда, счастливые люди! Сколько невыносимых запутанных житейских положений, беспросветных, безвыходных, отчаянных! Кому довериться, к кому идти, перед кем выплакать душу, кто снимет с человека это каменное оцепенение долговременного безысходного страдания?
Вот с какими людьми и с какими житейскими положениями имел дело старец.
– Я гибну от нищеты.
– Я потерял все, что мне было дорого в жизни. Мне незачем жить.
– Я задыхаюсь в одиночестве. С душой, горящей сочувствием к людям, я всем чужой, и жизнь для меня – невыносимая тягость.
– Неизлечимая болезнь меня терзает. Я не могу не роптать.
– Мои дети, в которых я вложил жизнь и душу, стали мне врагами.
– Я потерял веру, я не вижу благости Божией. На моем языке одни проклятия.
С таким душевным состоянием, с такими стонами, выжатыми целыми годами ужасных неутолимых мук, приходили к о. Амвросию люди из мира. И все они приходили к нему как к последнему пристанищу, молча прося хоть капли утешения, хоть мига отрады.
И как самому не пасть духом перед этим бесконечным калейдоскопом людского горя? Как не утратить бодрость перед этим беспощадным обнажением всех язв души человеческой?
И между тем с сердцем радостным, ясен и мирен стоял отец Амвросий среди этих стремнин бедствия, греха, печали и отчаяния.
В чем же была тайна этой сверхъестественной силы, этого невероятного самообладания в человеке бесконечно нежном, сострадательном и любящем?
А тайна была только в том, что между людским страданием и Богом видел он Крест Христов, и этот Крест разгадал для него все великие загадки жизни, загладил ее великие несправедливости, примирил ее великие противоречия.
Он не впадал в отчаяние, слыша признание в неимоверном грехе, казавшемся клеветой на человечество, потому что для него не было греха, превышающего милосердие, не было греха, который бы не мог быть покрыт бесконечной ценой Креста Христова.
И все страдания мира, как бы ни были они сильны, жестоки, изощренны, не могли привести его в уныние, потому что все они были менее того страдания, которое некогда совершилось на Голгофе и в лучах которого, если только оно хочет к Голгофе приблизиться, тает и исчезает всякое людское страдание.
И страха в нем не было за людей, потому что всей душой он чувствовал реальность Божьего усыновления рода человеческого и не мог бояться за этих людей, оберегаемых вечной заботой их Отца.
Не какую-нибудь далекую отвлеченность чувствовал он в великом таинстве искупления. Но в его ушах вечно звучал тихий голос страдавшего Бога: «Жено, се Сын Твой», и перед его глазами вечно стекала из-под терна с Божественного чела все омывшая, все возродившая Пречистая кровь.
Он знал, что страдания страдающих – есть залог Божьей к ним любви, и меркла для него их сила в тех блаженствах, какие он так живо всей душой предчувствовал в христианском рае. И рукой мягкой и властной он врачевал страшные язвы души, врачевал, заражая больных жаром своей веры, подымая их громадою своих упований.
Ведь как бы вы ни страдали, какими бы клещами ни была сжата ваша душа, если б вдруг слетел посланец с неба и прошептал вам обещание отдыха, удовлетворения и блаженства, вам стало бы легко и отрадно. Таким же посланцем небесным казался людям измученный вконец и старец Амвросий. Страдание их утихало прежде, чем он начинал говорить. Туча душевная рассеивалась в лучах его святыни. То было что-то необъяснимое, но испытанное всяким, кто сколько-нибудь знал его.
Успокоение, больше того – какое-то тихое и вместе восторженное счастье давал душе один его вид. К чему тут были слова, когда перед вами был факт, живое доказательство живого неба, когда перед вашим утомленным от ничтожества земли взором в лице этого человека блистало само Царствие Божие, пришедшее в силе, и в его сиянии все становилось понятным, все – чистым, дорогим и Божьим?
Да, это был человек, с которого было стерто клеймо первородного греха и через которого чудным образом действовала благодать. В нем было прежде всего то, что больше и ярче всего выражает духовную высоту: любовь, неиссякаемые родники, неископаемые пласты любви. И как это чувство, с такой силой развившееся в нем, было выше того, что считает любовью мир!
В миру любят людей для себя: за то, что они милы, что их общество доставляет удовольствие. В самом деле, мы сами, наши интересы, инстинкты являются решающими мерилами наших чувств. Люди доставляют нам радость, удовольствие своим присутствием, и мы за то к ним стремимся, и вот это-то стремление к ним, основанное на искании пользы себе, на самоуслаждении, и принимаем за любовь.
Совершенно иные основы у любви христианской. Все мы братья во Христе, все мы Им одинаково спасены, все омыты Его драгоценной кровью. И как, при любви к Отцу, не будем любить Его детей? И как, любя их, не будем делать всего, что в силах, на их пользу?
Тут нет и не может быть никаких изменений, никаких «приливов любви и отливов», составляющих вечную историю любви эгоистичной. В миру мы то превозносим людей, любуясь в то же время собой, что вот так хорошо оценили их высоту и сами так хороши, что искренно этой высоте поклоняемся. Но, увидев малейшее пятно, рушим внутри себя недавнего кумира. А часто рушим и вовсе не потому, что он стал хуже, а потому, что пресытились известным чувством, будто оно любовь, влюбленность, или удивление ему человека, или поклонение его таланту и уважение его заслуг и добродетелей.
Меняемся потому, что любим «за что-нибудь», нам приятное, нас утешающее в нем, и, конечно, сами меняясь, меняем и свои взгляды на людей и отношения к ним, то есть меру нашей любви.
Но не то с любовью духовной. Там человек окружен для другого таким ореолом, которого снять не могут никакие падения этого человека, как бы ни казался он в мирском отношении недостоин и омерзителен. Этот ореол – есть высокое звание Сына Божьего, есть вера в то, что Бог «из камней может воздвигнуть детей Авраамовых», из всемирной блудницы – удивлявшую ангелов чистотою Марию Египетскую. Любящий по-христиански под толстыми наслоениями греха видит никогда ни в одном человеке не гаснущую искру Божию и на страшные его нравственные язвы накидывает все покрывающую, все исцеляющую ризу Христову.
Такова была в основе своей и любовь отца Амвросия.
Не потому он любил к нему приходящих, что их общество развлекало его и было ему приятно, не потому, что между этими приходящими были и действительно очень хорошие и приятные люди. Он любил их потому, что сам был Христов и что они тоже были все Христовы, любил их потому, что он и они от Одного изошли и к Одному вернутся.
Как много говорили и кричали о всеобщем братстве – и нигде, никогда это братство не было достигнуто, оставаясь везде чудным манящим звуком без содержания, и только дети Христовы, лучшие Его ученики, показали, что такое братство, и исполнили завет Учителя «любовь иметь между собой».
И чтобы достигнуть этого идеала, надо прежде много возлюбить Бога, всеми фибрами души к нему прилепиться, надо осязательно ощутить на себе эту тайну усыновления Богом человека, и лишь только тогда само собой возникнет в душе и это правдивое, не принудительное, не притворно, как маска, носимое, а залегшее глубоко в душу чувство братства.
Теперь, когда я вспоминаю свою первую встречу со старцем Амвросием и то, что рассказывали мне другие, я могу восстановить психологическую картину того, что тогда должно было происходить.
Вот подходит к нему «новый» человек, никогда его не видавший. Кто, уже много о нем слышавший, подходит с теплой, доверчивой душой, кто равнодушный, а кто даже и враждебный, стараясь быть самостоятельным и не поддаваться общему течению, остаться свободным перед тем обаянием, какое, согласно общему отзыву, производил старец.
И вот стоят они друг против друга: этот худенький, слабенький старичок, которого свалит с ног порыв ветра, но могучий духом, с безбрежным, широко открытым, все и всех вмещающим сердцем – и вновь пришедший человек. И всматривается старец в человека своим зорким взором, прямо в душу глядит, и какая-то радость на его лице.
Вот еще Божье творение. Еще разнообразие творческой мысли, быть может, думает он; и этот человек, отличный от всех других лицом, характером и жизнью, тоже создан для блаженства.
И он должен присоединить свой голос к великому хору, прославляющему Христа, и сколько хорошего вложил Бог в эту душу.
И пронзающий острый взор как бы вскрывает те пласты добра, что залегли в этой душе, и радуется старец этому добру.
Но все, и дурное также, видит вещий взор. Человек перед ним как на ладони. «Господи, помоги ему вполне развить то, что Ты дал ему».
А человек стоит перед этим сердцеведцем, и радость старца наполняет и его.
Есть язык без слов, когда одна душа в волнении говорит с другой, тоже встрепенувшейся, разбуженной душой.
Так, стоя перед созерцающим старцем, вдруг почувствовала человеческая душа,
Как много благ, как много сил
Господь ей щедро подарил[5]… —
и как высоко может взлететь она, и сколько счастья даст эта жизнь в Боге… И совершается раньше слов, раньше какого-нибудь мудрого, всю жизнь объемлющего совета, чудо возрождения. Растаяли грехи, стерты с души. Юна и светла она, как в детстве, и все это произведено взором любви, которая в этом человеке, быть может, мелком, невыдающемся, пошлом, отыскала Божью искру и ей поклонилась.
Так любил старец приходящих к нему.
Сколько верности, сколько, так сказать, цепкости было в этой ровной и прочной любви!
Он был в распоряжении человека, готов был ему служить, когда человек в нем нуждался, ничего не требуя взамен. А там можно было его забыть, не исполнить его совета, осуждать его, и снова при новой встрече была та же ласка и та же забота.
Как вы часто слышите в миру слова: «Как он мне надоел!» – и сколько есть выражений, означающих высшую степень отчуждения.
Так вот, этих отверженных, этих «оскорбленных и униженных» старец особенно лелеял. К людям, которых определяют выразительным словом «несносные», он относился особенно бережно.
Раз спросили его:
– Как это вы, батюшка, выносите эту личность с ее характером?
– Она и тут непокойна и недовольна, где я стараюсь ее успокоить, – отвечал он. – Каково же будет ей там, где все будут ей перечить?! Надо же ей где-нибудь приткнуться!
О, как мало даем мы людям к себе приткнуться, и вот почему, вместо того чтоб работа любви была распределена между людьми поровну, чтоб все люди посильнее пригревали многих других, выходит большей частью в мире громадная нравственная пустыня, и редко-редко где зеленеет благословенный оазис, как о. Амвросий, куда все и спешат «приткнуться».
Воздействие о. Амвросия на душу вовсе не обусловливалось его наставлениями, потому что он вообще мало читал людям, как говорится, мораль.
Его наставления были большей частью кратки, даже говорились как будто мимоходом. В чем же заключалась тайна его воздействия на душу, в чем заключалось объяснение того несомненного перелома к лучшему в жизни человека, вступившего с ним в общение?
Эта тайна состояла в воздействии великой, сильной, полной добра, веры и света души о. Амвросия на другую душу, воздействие, происходившее часто вне всяких слов и разговоров.
Законы духовной жизни так мало исследованы: все то, что мы чувствуем и переживаем, соотношение мысли, воли и чувства представляет собой далеко еще не разгаданные загадки. И только ощупью, путем разных косвенных соображений можем мы добираться до некоторых психологических гипотез. Одна из них, для меня несомненная, есть то, что область мысли и особенно чувства гораздо более реальна, гораздо менее отвлеченна, чем это обыкновенно принято думать. Какая-то духовная атмосфера, впитавшая в себя главные, пережитые человеком чувства, окружает всякую человеческую личность; эту атмосферу носит он всюду с собой, и она-то чувствуется нашим внутренним чутьем таким образом, что мы схватываем иногда сущность человека, прежде чем узнаем что-нибудь о нем, прежде чем услыхали от него хоть одно слово. И если чувство, кем-нибудь испытываемое, очень сильно, если человек, с которым мы встречаемся, находится под влиянием какого-нибудь могучего, цельного, стихийного настроения, – необъяснимой психологической тайной он и нас этим настроением охватывает, подчиняет нас ему, приобщает нас, помимо даже нашей воли, тому, что сам чувствует, тому, о чем сам мыслит.
И тут и там в разбросанных мыслях христианских аскетов вы найдете подтверждение только что высказанному положению. Они думали, что душа человеческая не только заражает своими чувствами другую живую душу, но сообщает известную психологическую силу и известную нравственную окраску и вещам человека.
Так, великий подвижник истекшего века, иеросхимонах Парфений Киевский пишет: «Старайся не только избегать сношений с человеком, коснеющим во грехах, но и к вещам его не прикасайся, потому что вещи страстного человека заражены его грехами».
Таким образом, если, по свидетельству этого опытного психолога, даже на неодушевленных предметах остается какая-то живая печать их хозяина, обладающая свойством воздействия на другую душу, то неужели возможно сомневаться в том, что человек без слов может оказывать влияние на другого человека?
Мне рассказывали, что Шарко[6], усыпив субъекта, переводил его чувствительность в стакан воды и, волнуя этот стакан, волновал тем самым и усыпленного субъекта. Вот как далеко простирается таинственная, мало еще понятая и исследованная область психологического воздействия. Что же странного в том, что лица, попадавшие к о. Амвросию, испытывали на себе сразу, часто даже прежде, чем успевали услыхать от него хоть одно слово, воздействие его личности, которое было тем внезапнее и глубже, чем более чутки и чем более восприимчивы к добру были эти люди.
При ближайшем же знакомстве как воспитательно действовала эта глубокая вера старца в человека, его христианское убеждение в высоком призвании, в прекраснодушии людей, в непрестанной заботе о них Провидения!
Человек, сбившийся, погрязший в грехах, человек, считавший себя никому не нужным отребьем мира, живший по инерции, получал у него убеждение, что он нужен и ценен для своего Бога, для того Христа, Который за его счастье принес величайшую жертву и Который пристально всякую минуту следит за его жизнью, для Которого радость – всякий его хороший поступок и новый укол терна – всякое человеческое падение.
Как должна была подымать людей эта вера, ничем не загасимая в старце, это горячее его убеждение, выдержавшее испытание всех страшных откровений греха и заблуждений, всей громады зла человеческого, которое он видел, как никто другой, во всем его обнажении, без всяких покровов, во всей его изощренности, – убеждение в том, что нет погибшего без возврата, пока душа живет в теле, что состояние греха есть исключение, а праведность есть правило, есть общее в жизни.
И невольно я сравниваю это здоровое, благотворное, распространяемое в деятельности старца Амвросия учение с тем, что в последнее десятилетие проповедуют самые распространенные писатели: о тщете человеческих порывов к добру, о самодержавной силе зла и пошлости, о бесцельности и ненужности нашей жизни и об отсутствии даже впереди каких-нибудь светлых чаяний и надежд.
О. Амвросий был оптимист, в христианском смысле этого слова. И вот почему этот всегда измученный, осаждаемый просьбами, удрученный страшными признаниями, с величайшей ношей на плечах человек казался всегда радостным, находил в себе силы для шуток даже в болезни, еле владея языком. Вот отчего этот изможденный семидесяти с лишком лет старик казался часто молодым, и юность, вечная юность сияла на лице его и в блеске его темных глаз. И вот эту-то нравственную бодрость свою он вливал в приближавшихся к нему людей.
Из сумерек жизни, холодные нравственно, замороженные людским безучастием приходили к нему. А вокруг него словно вечно был счастливый юг, и вечно блистало солнце, и все грелись, и все радовались.
Уясним теперь себе путем примеров, как действовал старец Амвросий в своей старческой деятельности, как обращался с людьми и что давал им.
О. Амвросий служил посредствующим звеном между своими состоятельными и бедными духовными детьми. Вещи, которые к нему по усердию приносили, распределялись им через келейников между монахами. Жертвуемые ему деньги он делил на три части. Одну часть употреблял на нужды скита и на помин жертвователей, малую часть – на лампадное масло и восковые свечи, самую же большую часть – на бедных.
Людские несчастья глубоко потрясали сердобольную, нежную душу старца. Часто бывали сцены, подобные следующей.
Спешно входя из хибарки в свою келью, старец говорит писарю: «Вот там пришла вдова с сиротами, мал мала меньше. Всех сирот человек пять, а есть нечего. Сама горько плачет, а самый маленький ничего не говорит, а только смотрит мне в глаза, подняв руки грабельками. Как же не дать-то ему!» И руки старца, достающие деньги, трясутся от волнения, лицо подергивается, в глазах выступают слезы, а на лице выражение радости, что Бог помог ему встретить и облегчить этих несчастных.
Старец старался помогать людям сообразно тому, как эти люди жили раньше, до постигшего их бедствия. Так, несколько последних лет своей жизни он содержал в Шамордине в довольстве целую многочисленную семью С., о которой по кончине старца много лет заботились его почитатели, пока все дети не стали на ноги.
О. Амвросий верил всякому несчастью и, когда у него просили милостыню, не начинал допытываться, нет ли обмана. В Козельске в его время много было молодых оборванцев, которые часто ходили к старцу и все просили у него на паспорт. Один из них стал даже смеяться над о. Амвросием: «Мы все о. Амвросия обманываем. Скажем, что на паспорт надо, – он по рублю нас оделит, а мы возьмем и пропьем».
«Не проведете вы батюшку, – отвечала им на это одна монахиня, – он все знает. А только он, жалеючи вас, подает вам, чтоб не пошли вы на большую дорогу».
Быть может, эта неистощимая доброта, эта никакими жестокими, некрасивыми уроками человеческого обмана, нескромности и злорадства неистребимая вера в добрые стороны человеческой души оказали в конце концов большее воздействие на душу падших, изолгавшихся, потерявших всякий стыд людей, чем могли бы оказать обличения, наставления и строгость.
Говоря о любимом создании старца Амвросия, Шамординской обители, мы вернемся еще к вопросу о добрых делах его. Теперь же перейдем к тому виду помощи, гораздо более важной и значительной, которую он оказывал людям своими советами.
Глава VII. Духовные дары
В старце Амвросии действовал дар прозорливости, и действовал в такой мере, что его прозорливость по широте, глубине, необычайности и, так сказать, остроте ее – нечто совершенно неслыханное и в последних веках была превзойдена, быть может, одним лишь великим старцем Серафимом.
Этот таинственный дар есть непосредственное внушение от Бога ответа человеку, с верой вопрошающему старца. Старцы не из соображений житейской мудрости, не из великого и многостороннего опыта черпают эти ответы, а из какого-то им внятного вещания Божества. Первую мысль, пришедшую в голову при вопросе человека, о. Амвросий считал внушенной Богом, и желавший себе пользы должен был первый ответ его и принять, как указание от Бога.
Как человека мягкого, о. Амвросия потом человеческими доводами можно было иногда уговорить, не настаивать на его первом слове. Но добра из этого никогда не выходило, как не бывало добра и тогда, когда, спрося у старца совета, поступали против этого совета.
Проявления прозорливости старца Амвросия бесчисленны, касаясь крупных и мелких дел, внешних фактов и сокровеннейших тайн души, одинаково обнимая прошлое, настоящее, будущее.
Иеромонах Паисий рассказывал, что, отъезжая по сбору, он зашел принять благословение о. Амвросия, и старец сказал стоявшей вокруг него братии: «Знаете ли, его в миру уважают. Копеечек пять с половиной он нам привезет». Когда он вернулся назад с собранными им деньгами, которых оказалось 550 рублей, он понял, о каких пяти с половиной копейках говорил тогда старец.
В городе Дорогобуже Смоленской губернии у одной вдовы-дворянки была единственная дочь, за которую сваталось много женихов, но старец все говорил этим женихам: «Подождите».
Наконец, когда присватался очень хороший жених, нравившийся и матери и дочери, мать усиленно стала просить благословения на брак дочери. Но старец велел и тут отказать и молвил: «У нее такой будет жених замечательный, что все позавидуют ее счастью. Вот прежде мы встретим Святую Пасху. А как на этот день солнце весело играет! Воспользуемся зрением этой красоты. Да не забудь же ты: припомни, посмотри!»
Когда настала Пасха, дочь вспомнила батюшкины слова и вышла с матерью полюбоваться игравшим в высоком небе солнцем. И вдруг, распростерши крестообразно руки, она воскликнула: «Мама, мама, я вижу Господа, воскресшего во славу! Я умру, умру до Вознесения!»
Несмотря на все убеждения, она осталась при этом мнении. За неделю до Вознесения она заболела зубами и от этой незначительной с виду болезни скончалась.
В 1875 г. юнкер Энгельгард окончил курс в Михайловском артиллерийском училище, и в 1877 г. пошел в качестве офицера на войну. Сестра его, Варвара Энгельгард, жила в Зосимовой пустыни Московской губернии, здесь получила письмо от товарища брата, сообщавшее ужасную весть о том, что молодой ее 20-летний брат застрелился. В своем горе она кинулась в Оптину и со слезами передавала о. Амвросию не только свою скорбь об утрате брата, но еще более тяготившие ее опасения за загробную его участь. Когда на другой день она пришла к старцу, о. Амвросий встретил ее радостный и сказал ей, что брат ее жив и здоров. На вопрос ее, увидит ли она брата, старец отвечал, что она узнает о нем лет через десять. Это предсказание исполнилось. Через десять лет она получила из Америки письмо от брата, который ее извещал, что он жив и здоров, и извинялся, что так долго держал ее в неведении о себе.
Как объяснить это ведение того, что происходило с человеком, которого он никогда даже не видал?
Но еще более изумительный случай передает почтенный оптинский инок о. Даниил (Болотов), который показывает, как ведал старец чувства и мысли уже ушедших из жизни людей.
К о. Амвросию приехала как-то в последний год его жизни одна купеческая вдова. Она была обеспокоена тем, что постоянно видела во сне своего покойного мужа, который ее все о чем-то просил.
Полагая, что какие-нибудь обстоятельства тяготят душу покойного, и не имея возможности догадаться, как помочь этой страждущей душе, она решила поверить свое горе старцу Амвросию. Когда о. Амвросий выслушал ее рассказ, он поник головой и задумался – что он видел тогда, к чему он прислушивался?.. Только просидев некоторое время в глубокой задумчивости, он сказал вдове: «Твой муж должен был деньги. – Тут он назвал одно имя (без отчества и фамилии). – Этот долг его тяготит. Заплати этому человеку, и душа твоего мужа успокоится».
Можно себе представить, как была изумлена вдова таким указанием. Вернувшись домой, она стала перебирать в мыслях, кому из знакомых своих, носивших имя, названное старцем, ее муж мог быть должным, и после тщательного размышления она решилась поговорить по душам с одним из его друзей, носивших как раз указанное имя. Когда она стала расспрашивать его, тот признался, что незадолго до кончины ее мужа он ссудил его по-приятельски, на честное слово, без всяких документов, некоторою суммою. В радости, что она нашла, чем успокоить душу мужа, вдова сейчас же заплатила деликатному заимодавцу, который не решался первый напомнить о долге, всю сумму, и муж больше не беспокоил ее.
Неисполнение советов старца вело за собой немалые беды. У одного козельского жителя, Капитона, был единственный сын – ловкий, красивый юноша. Отец задумал отдать его в люди и привел его к старцу, чтобы получить благословение на это дело. Они, среди нескольких монахов, сидели в коридоре, когда вышел к ним старец. Капитон стал объяснять, что хочет отдать сына в люди. Старец похвалил это намерение и дал совет сыну отправиться с Курск. Отец стал возражать старцу: «В Курске у нас нет знакомых, а благословите, батюшка, в Москву».
На это старец шутливо отвечал: «Москва бьет с носка и колотит досками. Пусть едет в Курск».
Не послушался Капитон старца и отправил сына в Москву, где тот поступил на хорошее место. У хозяина его шла постройка. Однажды, когда козельский парень находился там, упало сверху несколько досок и раздробило ему обе ноги. Горько плакал отец, осуждая себя за недоверие к словам старца. Но нечего было делать. Пришлось взять парня домой, и он остался на всю жизнь калекой, не способным ни на какую работу.
Прозорливость старца давала ему возможность в иных случаях объяснять людям, жаловавшимся на какие-нибудь бедствия, что бедствия эти – наказание за их прежние грехи и преступления.
Как-то подошел к нему один молодой мещанин с рукой на перевязи и стал жаловаться, что никак не может ее вылечить. Старец был в это время окружен народом. Не успел мещанин договорить, как старец его перебил: «И будет болеть. Зачем мать обидел?» Но, спохватившись, не желая, с одной стороны, выказать свою прозорливость, а с другой – быть строгим обличителем, старец, смягчив тотчас тон речи, ласково продолжал: «Ты ведешь-то себя хорошо ли? Хороший ли ты сын, не обижал ли мать?»
Дар исцеления тоже действовал в старце, и нередко, когда врачебное искусство слагало свое оружие, молитвы о. Амвросия спасали больного.
Чаще всего старец советовал искать помощи в таинстве елеосвящения (соборования), насчет которого не только в среде простонародья, но и между верующими образованных классов распространено столько предрассудков, клонящихся к тому, что это таинство имеет исключительной целью приготовление человека к смерти.
Старец любил пояснять сущность этого таинства и устно, и в письмах своих говорил, что при соборовании человек получает разрешение от всех забвенных и недоуменных грехов. Затем обыкновенно старец назначал служить молебны перед местными чудотворными иконами или посылал больных в Тихонову пустынь, к преподобному Тихону Калужскому, где есть целебный колодезь. Можно сказать, что начало известности этой пустыни, привлекающей теперь в летнее время громадные толпы богомольцев, положено именно о. Амвросием. Назначением таких богомолий как бы прикрывая свою целебную силу, старец иногда действовал и более открыто.
Вот два свидетельства об его исцелениях, тем более интересные, что принадлежат личностям, хорошо известным: А. А. Шишковой и московской жительнице В. Д. Мусиной-Пушкиной, урожденной княжне Друцкой.
«В 1877 г., – передает г-жа Шишкова, – я очень хворала, почти год, сильной горловой болезнью, вследствие давнишней простуды на вершине снеговых Пиренейских гор, едва могла глотать одну жидкую пищу. Доктора советовали мне жить в теплом климате. От госпожи Ключаревой[7], жившей близ Оптиной пустыни и встреченной мною в женском Троекуровском монастыре[8], я получила совет обратиться письменно к оптинскому старцу о. Амвросию и просить его молитв. Сначала я не обратила внимания на этот совет. Но, видя ухудшение своего болезненного состояния, решилась написать старцу, которого в то время не знала, прося его молитв о мне. Батюшка скоро мне ответил: «Приезжайте в Оптину, ничтоже сумняся. Только отслужи молебен Спасителю, Божией Матери, святому Иоанну Воину и святому Николаю Чудотворцу». Предложение поехать в Оптину меня сильно устрашило, ибо я знала, какой трудный и длинный путь мне предстояло совершить, между тем как от истощения сил я не могла вставать. Но слова подчеркнутые ничтоже сумняся подкрепили мой дух и мои силы, и я, несмотря на просьбу детей не ехать и на убеждения доктора, пригласила священника, отслужила молебен и на другой день поехала тихонько в карете до Ефремова[9], оттуда по железной дороге до г. Калуги, а там на лошадях в Оптину пустынь. Везде, конечно, долго отдыхала, по случаю сильной слабости и утомления. Когда я взошла к батюшке в комнату с госпожою Ключаревой, она, вставши перед старцем на колени, начала со слезами просить: «Батюшка, исцелите ее, как вы умеете исцелять». Сильно рассмеялся старец на эти слова и приказал г-же Ключаревой немедленно удалиться. Мне же сказал: «Не я исцеляю, а Царица Небесная. Обратись и помолись Ей». В углу комнаты висел образ Пресвятой Богородицы. Потом он спросил, где болит горло. Я показала правую сторону. Старец с молитвою перекрестил три раза больное место. Тут же я получила некую бодрость. Приняв благословение у батюшки и поблагодарив его за милостивый прием, я удалилась. Прихожу в гостиницу, где меня ожидали муж и одна знакомая дама, В. Д. Мусина-Пушкина. При них-то я попробовала проглотить кусочек хлеба, чтоб удостовериться, лучше ли мне стало за молитвы старца. Прежде я не могла глотать ничего твердого. И вдруг – какая же была моя радость! – я без боли, очень легко, могла все есть, и до сих пор ни разу боль не возвращалась – вот уже прошло тому (в 1893 г.) 15 лет». Сын В. Д. Мусиной-Пушкиной, Димитрий, будучи 14 лет от роду, заболел 27 мая 1878 г. непонятной болезнью: страданием уха, головы и челюстей, с сильною течью из правого уха и жаром, доходившим временами до 40 градусов. При этом он лишился слуха, ночью стонал, кричал от боли и бредил. Известный специалист, московский доктор Беляев, объявил родителям, что у их сына очень опасный случай, происшедший вследствие воспаления среднего уха, и что этот упорный катар произвел прободение барабанной перепонки. Эта болезнь признается неизлечимой. Присутствие нарыва он положительно отрицал и утешал родителей надеждой на молодые годы больного. Так как у больного явилось сильное малокровие и упадок сил, то этот врач предложил перевезти его, после двух недель то усиливавшихся, то ослабевавших страданий, в деревню. В день перевоза его в имение Пушкиных, в Можайском уезде Московской губернии, страдания больного до того усилились, что лицо его искажалось, глаза с трудом открывались, и мучительные крики его раздавались по всему дому; больному трудно было приподнимать голову с подушки, и малейший звук причинял ему страшные страдания.
В горе своем родители решились искать помощи у старца Амвросия, который утешил их, по приезде в Оптину, словами: «Ничего, ничего, успокойтесь. Все пройдет. Только молитесь Богу».
Пожив в Оптиной пять дней, они 1 июля получили из деревни известие, что болезненное состояние сына ухудшается и что надо ожидать близкого конца. Они хотели тотчас ехать, но старец задержал их еще на день и, отпуская их, сказал: «Не беспокойтесь и не огорчайтесь. Поезжайте с миром. Надейтесь на милосердие Божие, и вы будете утешены. Молитесь Богу, молитесь Богу. Вы будете обрадованы».
Прибыв на свою станцию, отстоявшую от имения в 10 верстах, 3 июля в 4 часа утра они узнали от ожидавших их с экипажами кучеров, что здоровье Дмитрия было все хуже, и особенно страдал он 2 июля, так что крики его раздирали душу каждого, до кого они доносились. В страшных опасениях, бессознательно относясь ко всему окружающему, совершала мать переезд к дому, готовясь к самому худшему исходу. За две версты до усадьбы они были остановлены подъезжающим к ним на всем скаку воспитателем их сына, и тут г-жа Пушкина подумала, что, вероятно, их сына нет уже на свете. Но воспитатель объявил с великой радостью, что с больным произошел какой-то необыкновенный случай и что он сейчас совершенно здоров.
Мальчик встретил их на ногах, страшно еще бледный, но бодрый и веселый. Через неделю он мог уже ездить верхом и готовиться к экзаменам, перенесенным по случаю его болезни на осень.
Осенью были приглашены доктора на консилиум, и они не могли после осмотра определить, в котором именно ухе было прободение барабанной перепонки, так что должны были признать это дело сверхъестественным.
Теперь, по прошествии четверти века, передавая этот рассказ, трудно с нужной живостью и силой представить себе то, что переживали отец и мать над больным, беспомощным сыном, облегчить которого не могла никакая медицинская помощь, никакое их в то время значительное состояние, и что пережили они, когда, после первой минуты радости, встретив сына здоровым, вспомнили слова старца: «Вы будете обрадованы».
Тогда, по свежим, так сказать, следам этого события, какое глубокое впечатление оно должно было произвести на всех, кто о нем слышал!
И ряд таких рассказов, передаваемых очевидцами, и составил о. Амвросию ту репутацию чудотворца, которая влекла к нему беспомощно страдавших людей, от которых отказывались врачи.
Как ни была высока жизнь о. Амвросия, каким ореолом добра, правды и сочувствия ни было окружено его имя, находились люди, которые, еще не видав его, относились к нему подозрительно и осуждали его. Казалось им странным, когда люди, бывшие в Оптиной, советовали ехать туда. «Наверное, какой-нибудь лицемер, который ищет славы» – вот был нередкий ответ на такие уговоры. «Знакома удочка, да только попадут на нее одни простаки». И такие люди не хотели ехать в Оптину и, чтоб успокоить себя, осуждали за глаза старца Амвросия. Если же они все-таки попадали в пустынь, то обыкновенно начинали с осуждения.
В Оптиной есть обычай, чтоб монахам ради смирения становиться перед старцем на колени. Делали то же многие миряне, конечно, совершенно добровольно. Правила никакого тут нет. Старец обыкновенно приглашал посетителей садиться, иногда даже упрашивал не стоять на коленях. Между тем сколько из-за этого обычая происходило осуждений. Не знавший Оптины мирянин, бывало, говорит: «С какой стати мне перед всяким монахом на колени становиться! Вот где их смирение». Вообще впоследствии эти самые лица, сперва осуждавшие старца, а потом горячо к нему привязавшиеся, сами себе не могли объяснить, откуда бралось это враждебное чувство к человеку, которого они никогда не видали и о котором они могли слышать лишь одно хорошее. Но всегда это непонятное озлобление, которое нельзя объяснить иначе, как тем, что кому-то было досадно, что люди идут к старцу и получают от него душевную пользу, сменялось разом самым теплым чувством.
Одна девушка из большой помещичьей семьи, часто бывавшая у старца, долго умоляла свою любимую сестру с очень живым нравом поехать вместе с ней в Оптину. Та наконец соглашается, но всю дорогу громко ворчит, а пришедши в хибарку к старцу, возмущенно говорит: «Я не стану на колени, к чему это унижение?» Наконец отворяется заветная дверь, через которую входит старец, и осуждающая посетительница очутилась как раз в углу за дверью, которая ее совсем закрыла. Старец подходит прямо к двери, откидывает ее и весело спрашивает девушку, одну стоящую на ногах, тогда как все опустились на колени: «Что это за великан тут стоит?» И затем шепчет ей: «Это Вера пришла смотреть лицемера».
Впоследствии девушка вышла замуж, овдовела и приехала навсегда в Шамордино. Не может она также забыть ласковых слов батюшки. В первые дни знакомства с ним она зашла в монастырскую лавку за его портретом. Ей сказали, что карточка стоит 20 копеек. «Боже мой, – подумала она, – какой батюшка дешевый!» В тот же день на общем благословении старец, проходя мимо нее и погладив ее по голове, потихоньку промолвил: «Так батюшка дешевый!»
Одна молодая девушка из хорошей семьи, слушательница высших курсов, случайно попав к старцу Амвросию, была им поражена и умоляла его принять ее в Шамордино. Ее мать была в негодовании и прилетела в Оптину, чтоб, по ее словам, «вырвать дочь из этого ужасного монашеского мира». Раздраженная, со словами упреков на языке, вошла она к старцу, который предложил ей сесть. Через несколько минут разговора, не понимая сама, что с ней делается, она встала со стула и опустилась около старца на колени. Вскоре мать присоединяется иночеством к дочери.
Приходит к о. Амвросию измученный человек, потерявший все устои и не отыскавший цели жизни. Он искал ее в общинном труде, в беседе Толстого – и отовсюду бежал. Он говорит батюшке, что пришел его посмотреть. «Что ж, смотрите!» – отвечает старец. Встает затем со своей кроватки, выпрямляется во весь рост и вглядывается в человека своим ясным взором. От этого взора какое-то тепло, нечто похожее на примирение льется в наболевшую душу. Неверующий поселяется близ батюшки и всякий день ведет с ним долгую беседу. Он хочет веры, но еще не может веровать. Проходит много времени. В одно утро он говорит батюшке: «Я уверовал».
Некоторые люди со сложным характером и спокойным нравом причиняли старцу немало хлопот.
Уже после его кончины один монах, бывший в миру доктором, рассказывал мне, что сам не понимает, как он, любя старца, мог с ним так небрежно обращаться. Он знал, что к старцу ездят за тысячу верст и по нескольку дней ждут беседы с ним, знал, как драгоценно его время. А между тем, идя к нему, не обдумывал, что у него спросить. Старец посоветовал ему записывать вопросы, но он продолжал ходить к нему по-прежнему и раз сказал, будто слагая вину на самого старца: «Вижу я, батюшка, что все мы с вами говорим, не приготовившись». – «Ну что ж, – отвечал батюшка, – не можешь готовиться, не ходи так». А в другой раз монах сказал: «Мне кажется, что я хожу к вам без пользы». Батюшка тихо отвечал: «А все-таки ходи».
Господин Яшеров, командовавший в Южной Болгарии одною частью восточно-румелийских войск, в 1882 г., будучи в отпуску в Москве, написал старцу Амвросию, о котором слыхал от своей знакомой, преданнейшей старцу особы, обличительное послание. Старец через эту знакомую просил г. Яшерова приехать в Оптину и, немного поговорив с ним, предложил ему поговеть…
– Отец Амвросий, сегодня вторник, а в четверг я должен выехать. Когда же я успею отговеть?
– Для истинного покаяния, – строго заметил старец, – нужны не годы, не дни, а одно мгновенье.
В среду вечером Яшеров пришел исповедоваться.
«Ну, теперь я могу поговорить с тобой подолее, подвинься сюда ближе», – сказал ласково старец. Исповедник не говел 6 лет и готовился вынести угрозу. Старец начал расспрашивать его о его детстве, воспитании, службе, о более замечательных лицах, с которыми ему приходилось сталкиваться в жизни, о его несчастном браке, о Сербии, Болгарии и Турции, вставляя в разговор свои замечания и озаряя его своей улыбкой. Яшеров, который не мог стоять на коленях и в церкви, вследствие боли в ногах, и не заметил, что этот разговор затянулся более чем на час – так была мила, увлекательна, свежа и без рассудочности разумна беседа старца. В каждой его фразе исповедник чувствовал, что он более и более сродняется со старцем душой. «Передай мне епитрахиль и крест», – сказал вдруг о. Амвросий, помолчав минуты две. Он подал то и другое. Надев на себя епитрахиль, старец приказал ему нагнуться и, накрыв епитрахилью, начал читать молитву. Он живо выдернул голову и воскликнул: «Батюшка! А исповедь? Ведь я грешник великий!» Старец взглянул на него, если так можно выразиться, ласково-строгим взглядом, накрыл опять епитрахилью и, докончив молитву, дал поцеловать крест. «Можешь идти теперь, сын мой! Завтра, после литургии, зайди ко мне». И ласково отпустил его.
Никогда в жизни не совершал тот такой чудной прогулки, как в этот раз, от скита до монастыря. Какое-то громадное облегчение чувствовалось во всем существе его, а вокруг него лучи полного месяца так и играли мириадами алмазных искр по снегу полян и фантастическим хлопьям, причудливо лепившимся кое-где по ветвям оголенных деревьев. Он и не заметил, как дошел до своего номера и как затем заснул.
Все эти примеры интересны, как случаи воздействия старца на отдельных людей; гораздо важнее по последствиям своим те встречи, при которых старцу приходилось направлять общественную деятельность людей. От одного сельского священника я получил письмо, в котором он, ввиду статей о старце Амвросии в «Церковных Ведомостях», описывает мне влияние, какое имел старец Амвросий на одного священника, который пользуется теперь громадною известностью в средней полосе России. Село, где священствовал этот батюшка, было бедное, стояло далеко от города и не имело доходных промыслов. Хлеба у крестьян редко когда хватало до новины[10]. Храм в селе был мал и скуден. Прошел даже слух, что был дан приказ закрыть его. О. Георгий утешал крестьян благолепной службой и поучительным словом, но не под силу ему стало служить в полуразрушенном храме.
Жаль было ему бросать знакомое место, знакомую паству, крестьянских детей, которых он собирал у себя для обучения. Но мочи его больше не было, и он решил ехать к старцу Амвросию, просить благословения на переход в другое село.
Старец сказал ему:
«Не тужи, отец, не отчаивайся. Тоска – дочь лени, а уныние – внук ей. Во всяком деле нужен труд с усердной молитвой. И скука пройдет, и успех придет, придав терпения со смирением, и от многих зол избавишься. Не уходи ты из своего села. Нет на то тебе благословения. Будет у тебя храм новый и училище, будет чем воспитать и деток твоих, только сам не плошай. Дано тебе благословение быть в приходе своем добрым пастырем».
О. Георгий вышел от старца, словно сбросив с плеч тяжелое бремя, и с надеждой вернулся домой.
Прошло немного времени. Однажды о. Георгий работал с работником в поле. Ему доложили, что кто-то спрашивает его в храме.
Там ждал его барин и сказал ему, что его послал сюда о. Амвросий Оптинский служить молебен Божией Матери.
С умилением и слезами отслужил о. Георгий молебен, а богомолец подал ему немалую сумму.
На другой же день прибыли еще посетители, все с заявлением, что присланы оптинским старцем помолиться в храме у о. Георгия и помочь ему посильной лептой. С той поры пошел постоянный приток богомольцев в село к о. Георгию, и полились пожертвования.
Это было 20 лет назад, теперь не узнать села. В нем возвышается прекрасный новый храм, который мог бы украсить и большой город. С утра до вечера служит в нем о. Георгий, принимая богомольцев. За советом и всякой помощью постоянно тянется к нему народ. Близ храма возникли разные здания: каменная двухэтажная школа с садом и пасекой, гостиница для приезжающих, дом призрения для крестьянских сирот, для старых и больных.
Крестьянская нужда прошла, и при посредстве о. Георгия сельским обществом куплено до тысячи десятин земли.
Деятельность о. Георгия все разрастается, и круг его влияния давно вышел из предела епархии. Мне много приходилось слышать о нем и даже читать в печати. И как отрадно над всем этим великим делом обновления и освящения жизни чувствовать невидимую благословляющую руку давно отошедшего старца Амвросия, который когда-то вдохнул бодрость, силу и веру, двигающую горами, в изнемогшего духом, утомленного и готового опустить руки пастыря.
Наружное обращение старца соответствовало благодатному, мирному настроению его души.
Всей душой идя навстречу тем, кто в нем нуждается, он никогда и никому не навязывался.
Бывали случаи, что ему приходилось иметь сношения с людьми, глубоко равнодушными к религии и нисколько не интересовавшимися старцем, даже не подозревавшими, какое крупное перед ними явление русской жизни в лице о. Амвросия. Он поддерживал с ними беседу столько времени, сколько требовали приличия, и расставался с ними; он бывал в этих случаях в высшей степени спокоен, выдержан и вежлив, поражая своим достоинством, и старался не выказывать тех внутренних сторон своего существа, до которых этим людям не было никакого дела. Все такие лица говорили о нем: «Очень умный человек!»
Но зато сколько души, ласки, привета, обаяния было в его обращении с теми, кто сами шли к нему с открытым сердцем и кому он отплачивал самой задушевной искренностью!
О. Амвросия нельзя себе представить без участливой улыбки, от которой становилось вдруг как-то весело и тепло, без заботливого взора, который говорил, что вот-вот он сейчас для вас придумывает и скажет что-нибудь очень полезное, и без того оживления во всем – в движениях, в горящих глазах, – с которым он вас выслушивает и по которому вы хорошо понимаете, что в эту минуту он весь вами живет и что вы ему ближе, чем сами себе.
От живости характера и богатства внутренней жизни выражение его лица постоянно менялось. То он с лаской глядел на собеседника, то смеялся с ним каким-то молодым смехом, то радостно сочувствовал, если пришедший был спокоен и радостен, тихо склонял голову, если он рассказывал что-нибудь печальное, то на минуту погружался в размышление или, вернее сказать, сосредоточивался, чтоб уловить, что возвестит ему Бог, если собеседник ждал, чтоб он сказал ему, как поступить в каком-нибудь деле, то решительно принимался качать головой, когда отсоветовал какую-нибудь вещь, то разумно и подробно, глядя на собеседника и следя, все ли он понимает, начинал объяснять, как надо устроить дело.
О. Амвросий, при всей своей необыкновенной прозорливости, не обличал резко и прямо. Его мягкой натуре претило задеть перед людьми чужое самолюбие, смутить и огорошить человека. В большинстве случаев обличения его были скрытые, касаясь лишь тех и понятные лишь тем, кого он обличал. Часто в каком-нибудь рассказе, ведшемся старцем громко перед многими слушателями и взятом из жизни, заключалось глубокое поучение и вразумление, направленное по адресу лишь одного из присутствующих. Не грозою, а любовью умел о. Амвросий вести людей к исцелению, вселяя в их душу веру, что при помощи Божьей они могут одолеть врага.
Внешность о. Амвросия была чрезвычайно благообразна, до старости он сохранял приятность своего очень красивого в молодости лица. Как видно из его изображения, лицо его было глубоко задумчиво, когда он оставался один, но чем дальше он жил, тем оно становилось ласковее и радостнее при людях.
Красота этого худого, изможденного лица была в выражении. В глазах его, сверкавших какой-то бессмертной молодостью, благих, кротких, ясных глазах было столько любви, мира, прощения… Когда вы стояли перед ним, вы чувствовали, что эти глаза видят вас насквозь, со всем, что в вас дурного и хорошего, и вас радовало, что это так и что в вас не может быть для него тайны.
Голос его, с какой-то дедовской лаской, был тихий, слабый, а за последние месяцы часто переходил в еле слышный шепот. Нельзя передать, как легко и свободно делалось в его присутствии.
С виду он был благообразный, чистенький старичок, среднего роста, очень согбенный, носивший теплый черный ваточный кафтанчик, черную, теплую, мягкую шапочку-камилавку и опиравшийся на палку, если вставал с постели, на которой проводил все свое время. Иногда лицо старца преобразовывалось, озаряясь благодатным светом. Это бывало обыкновенно после его уединенной молитвы.
Как-то раз старец назначил прийти к себе двум супругам, в тот час утра, когда он не начинал еще приема. Когда они вошли в келью, старец сидел на постели в белом монашеском балахоне и в шапочке. В руках у него были четки. Лицо его как-то особенно просветлело, и все в келье приняло вид какой-то торжественности. Пришедшие почувствовали трепет, и вместе с тем их охватило невыразимое счастье. Они не могли промолвить слова, а долго стояли как бы в забытьи, созерцая лик старца. Вокруг было тихо, и батюшка молчал. Он безмолвно осенил их крестным знамением. Они еще раз окинули взором эту картину, чтоб навсегда сохранить ее в своем сердце, и вышли от него, не прервав тишины ни одним словом.
Живший на покое в Оптиной игумен Марк передавал, что однажды, в последний год жизни старца, на Страстной неделе, он вошел к нему в келью для исповеди и сразу увидал в выражении его что-то необыкновенное. Старец с глубоким вниманием созерцал что-то невидимое, лицо его горело радостным румянцем. Игумен подался назад из кельи и лишь спустя некоторое время, опомнившись, вошел к старцу. «Припоминая виденное, – заключал он свой рассказ, – я и теперь прихожу в великое удивление».
В подробном жизнеописании старца, изданном Оптиной пустынью, заключено немало воспоминаний детей старца о его прозорливости и исцелениях, о замечательных его советах и греющей его любви.
Оставляя в стороне эти свидетельства, я перейду к изложению своих личных воспоминаний о великом старце.
Глава VIII. Личные воспоминания о старце
Эпоха, в которую я познакомился с о. Амвросием, была самой счастливой порой моей жизни. Это было переходное время от отрочества к юности, на которую он бросил какой-то тихий, мягкий отсвет.
Я увидел его в первый раз в лето между гимназией и университетом; он умер, когда я был на последнем курсе. Я не сознавал за эти четыре года общения с ним, как много он для меня значил, и только, бывая у него, наслаждался всей душой тем обаянием, которое шло от него на всякого человека, приближавшегося к нему. И лишь тогда, когда его не стало, я понял, чем он был для меня и какое пустое, незаполнимое место в моей жизни оставляет его уход.
Моя встреча с ним была случайностью – говоря мирским языком, была незаслуженной милостью Божьей – говоря языком веры.
Я не только не стремился к нему, когда в первый раз услыхал о нем, но даже отнесся к нему с непонятной враждой и озлоблением. Я совершенно не был подготовлен к такой встрече и не имел ни малейшего понятия о том явлении, какое представляет собой старчество.
С ранних лет меня влекло к себе христианство, и те немногие святые, о которых я с детства знал, возбуждали во мне самое искреннее восхищение, особенно же преподобный Сергий и митрополит Филипп. И чем дороже были мне такие люди русского прошлого, тем горячее мне хотелось видеть воплощение таких типов в современной жизни.
В Москве, где я тогда жил, ходили слухи о независимом характере и прямоте тогдашнего митрополита Иоанникия, и это мне чрезвычайно нравилось. А кроме того, я видел, как он не жалел себя для службы и как любил простой народ, и так как говорили о его строгой жизни, – все это заставляло меня относиться с особым чувством, близким к восторгу, к этому человеку, и я любил бывать на его величественных богослужениях, во все время их сознавая, что предо мной настоящий архиерей Божий.
Точно так же инстинктивно хотелось мне видеть и настоящего монаха, который бы проводил жизнь в действительных подвигах, который ими бы дошел до такой степени, чтоб быть «во плоти ангелом», небесным человеком, чтоб в нем сияли великие дары благодати, чтоб он был живым доказательством того потустороннего мира, который мы принимаем на веру, чтоб он любил народ и чтоб народ знал его, ходил к нему и получал от него все нужное для души. Мне хотелось, чтоб этот монах жил в бедной деревянной келье, в лесу, а не в каменных палатах богатой обители. Мне всей душой хотелось найти такого инока, Божьего человека.
Уже тогда идея монашества была мне очень дорога.
Мне очень не нравились оказываемые монахам знаки внешнего внимания, например целование рук. И именно с этой стороны я и возмутился против о. Амвросия, когда в первый раз услышал о нем.
Тот человек, который рассказывал об Оптиной, упомянул, что перед тамошними старцами обыкновенно становятся на колени, и вот эта именно подробность и возмутила меня. Чувство прямой враждебности и озлобления с той минуты поселилось во мне к дальнему старцу оптинскому и жило вплоть до той минуты, когда я его наяву увидел.
Я гостил в деревне у своей тетки, когда один ее родственник, человек с очень разнообразными интересами, которого я не считал серьезным и основательным, уговорил ее отправиться в Оптину, как бы пикником.
Его оптинские впечатления, передаваемые им вперемешку со столичными сплетнями и веселыми анекдотами из его нескончаемых заграничных путешествий, не могли возбудить во мне интереса к этому монастырю. От него-то я услыхал в первый раз имя старца. Он же уверял, что старец этот прозорливый, т. е. знает разные тайны, о которых никто ему не говорил, он также рассказывал, что к нему ходит очень много народа, что его весьма уважают и даже становятся перед ним на колени.
Тогда мне казалось, что старец этот – какой-нибудь ловкий лицемер с репутацией, раздутой богомолками, и, хоть некоторые вещи в словах рассказчика, которому я вообще мало верил, как-то помимо моей воли интересовали меня, я старался не поддаваться тому влечению и уверял себя, что, конечно, не найду в нем ничего особенного.
Мы собрались ехать в Оптину не ради старца и не ради Оптиной. Она была лишь конечным пунктом интересной и оригинальной самой по себе поездки.
Мы приехали в Оптину в ночь на 15 июля.
Я помню досель все подробности этого путешествия: остановки на постоялых дворах, ночи в езде, предрассветный холод, всю неизъяснимую прелесть этих дней, проведенных среди природы, и постоянно сменяющихся пейзажей.
Помню, как остановились мы у перевоза через Жиздру, на берегу которой расположена Оптина; как ямщик звал паром, как откликался монах-перевозчик, и послышался тихий плеск воды под приближавшимся паромом, а Оптина в лучах луны на темном фоне соснового бора таинственна была там, за рекой, на высоком берегу, точно стремясь в небо своими высокими, большими башнями, высокой белой колокольней, белыми вратами и белыми стенами.
Мы прожили в Оптиной несколько дней, не видя старца, хотя и ходили к скиту, чтоб посетить его как монастырскую достопримечательность.
В эти дни сама Оптина произвела на меня сильное впечатление.
Это было что-то совершенно незнакомое мне раньше. Тут действительно был подвиг. Монахи были все на молитве и на тяжелых послушаниях. Все они непременно в полном составе присутствовали на всех продолжительных богослужениях. Не было не только какого-нибудь величания, гордой походки, все, наоборот, имели тихий, смиренный вид, при встречах между собой и с мирянами ласково кланялись; и главное – я невольно почувствовал во всех, от седовласых, еле передвигающих ноги старцев до самых молодых послушников, глубокое религиозное убеждение, искреннее усердие к своему монашескому званию и постоянное сознание того, что они находятся перед очами Божьими.
Раз весь монастырь был таков, и неведомый старец представился нам теперь иным. Но меня раздражало, как это он нас не принимает, между тем как настоятель монастыря не раз посылал к нему сказать о нас.
Уже назначен был день нашего выезда, настал канун этого дня, а мы все еще не видали старца.
Но вечером я с моим троюродным братом, который совершенно не интересовался религией и обыкновенно подсмеивался над моим интересом к духовным предметам, побывал в домике старца, и опять безуспешно. Зашли к жившему в скиту очень интересному человеку, происходившему из старинной помещичьей семьи и обладавшему большими способностями к живописи. Этот седовласый старец с выразительным лицом удивительно глубоко и блестяще говорил о внутренней жизни и христианстве. Мы находились около его утопавшего в ветвях яблонь домика, как заметили движение по скитским дорожкам, и он сказал нам, что о. Амвросий вышел из своей кельи и что теперь самый удобный случай подойти к нему.
Не знаю, переживал ли я когда-нибудь такое чувство напряженного внимания, как то, с которым подходил я к старцу. Шедшие около него монахи – я не заметил, вероятно, келейники – усиленно указывали ему на нас.
Передо мной был очень-очень старый человек, опиравшийся на палку с концом, загнутым крючком, в ватном толстом подряснике, в теплой мягкой суконной камилавке. Я сразу почувствовал в нем что-то необыкновенное, но держал себя, так сказать, в руках и внушал себе: «Пусть все думают, что ты замечательный человек. Для меня это все равно, и я сам хочу рассмотреть, что в тебе есть. Ты для меня еще никто».
С этим сложным чувством какого-то удивления перед ним и этой строгой рассудительности стоял я перед старцем. И как я понял в тот же день, он прекрасно чувствовал мое настроение. Он молча благословил нас обоих, ничего нам не сказал, ни о чем нас не спросил и прошел дальше, как будто мы были какое-нибудь пустое пространство.
Я тихо пошел за ним.
К нему приблизился высокий, здоровый простолюдин и сказал ему:
– Я, батюшка, рабочий. На заработки в Одессу собрался. Благословите туда ехать.
О. Амвросий мгновенно ему отвечал:
– Нет, в Одессу не езди.
– Батюшка, – настаивал тот, – там заработки хороши и всегда руки требуются. Там у меня знакомые.
– Не езди в Одессу, – твердо повторил старец, – а поезжай в Воронеж или Киев.
Потом он удалился с этим человеком от большой дорожки на боковую тропинку, беседуя о чем-то наедине.
Я был поражен… Как он это знает? Отчего он так быстро и прямо решает?
Старец пошел дальше, я следовал близ него.
К нему подходили еще люди, и он всякому отвечал.
Недалеко от его домика ждала его кучка крестьян, имевших вид настоящих пахарей, вовсе не тронутых городским лоском.
– Мы костромские мужики, – сказал ему один из них. – Прослышали, что у тебя ножки болят, так вот тебе мягонькие лапотки и принесли.
И они подали старцу какие-то тонкие валеные сапоги.
Я не забуду ласковой улыбки и выражения благодарности, которые осветили в ту минуту лицо старца. И в ту же минуту как бы спала перед моими глазами завеса, мешавшая мне видеть старца.
Разом в моем мозгу пронеслись какие-то давние мечты – лесной скит, светлый старый ласковый монах, в ореоле святости, народ, идущий к нему со всех концов… Ведь я этого так желал! А тут был приютившийся в старом суровом бору скит, маленькие белые домики под вековыми соснами, этот старец с тихими словами, видящий что-то невидимое нам, и народ со всем простодушием своей теплой к нему любви и безграничного к нему доверия.
«Так это сбылось! – прожгла мой мозг счастливая мысль. – Все это тут!»
И радостный, счастливый, обновленный, я стоял, любуясь на старца.
А вокруг был ясный ласковый вечер русского лета, и старые сосны вели меж собой серьезный разговор, безмолвные свидетели этой новой минуты человеческого счастья, пережитого уже здесь столькими людьми нескольких поколений, а о. Амвросий тихо улыбался костромским мужикам с их мягонькими лапотками.
В совершенно ином настроении, чем в первый раз, подошел я теперь опять к старцу.
Душа моя была полна какой-то детской доверчивости к нему и радости, и я точно говорил сам в себе: «Ну, теперь смотри на меня; вот я весь, как есть, перед тобой. Хочешь – заметь меня и посмотри, сколько во мне дурного. А не заметишь, значит, я недостоин, чтоб ты смотрел на меня».
Старец взошел на крылечко и, опираясь рукой на перильца, обернулся лицом к нам. Я стоял против него, впившись в него глазами, но ничего не говорил ему. Он приветливо спросил у моего троюродного брата, где он учится, и сказал ему, чтобы он продолжал свои занятия.
Затем он спросил у меня:
– Веруешь ли в Бога, во Святую Троицу?
– Кажется, верую, – отвечал я, – кажется, могу сказать, что верую.
Тогда он прибавил:
– Никогда ни с кем не спорь о вере. Не надо. Потому что никому ничего не докажешь, а сам только расстроишься. Не спорь.
Много раз потом я с грустью все поминал, как мудр был этот совет. Вера есть настолько индивидуальное чувство, что убеждать другого в своих, так сказать, оттенках веры – есть то же, что было бы, например, если бы кто-нибудь принялся уговаривать кого-нибудь полюбить до самозабвения третьего человека.
Потом он спросил у меня, чем я буду заниматься. Я отвечал, что должен поступить на юридический факультет.
– Занимайся юридическими науками, – дважды повторил он тогда.
И этот совет был мне очень нужен, хотя я его и не исполнил. Я поступил на этот факультет без всякого влечения, только потому, что в то время филологический был преобразован в какие-то старшие классы гимназии и я не хотел продолжать писать опротивевшие мне и без того extemporalia[11].
Больше на этот раз мы со старцем не говорили. В тот же вечер, последний вечер нашего пребывания в Оптиной, к нам зашел наш новый знакомый из скита, Димитрий Михайлович, и несколько часов проговорили мы о старце. Он рассказал нам многое из его жизни: о его ласковом обращении, о вере к нему народа, о тех необыкновенных случаях, в которых выражались его духовные дары – прозорливость и дар исцеления. Я жадно ловил этот рассказ. И когда на следующий день, ранним утром, на рассвете, по холодку мы выезжали из Оптиной, и снова тяжело заплескала вода в Жиздре под грузом нашей громадной коляски и четверни, и Оптина со своими белыми церквами, белой колокольней и белой оградой оставалась за нами, вся моя душа льнула к старцу, и я страшно жалел, что так мало видел его.
Что совершилось во мне? Отчего я, не видав еще ничего особенного от этого человека, к которому за неделю до того относился с таким озлоблением, почувствовал вдруг к нему такое усердие?
Случилось то же, что и с другими. Меня коснулось веяние его святыни, и как птица радостно ныряет и резвится в лучах весеннего солнца, так же и душа моя была полна радости и словно обновилась для какой-то новой жизни.
Опять, после нескольких дней в тихой Оптиной, начиналась обычная любимая жизнь, летние путешествия, родные, верховая езда и пикники, лунные ночи, любимые книги, мечты; а там осень, город, университет, театры, знакомые дома, много встреч… Но теперь в эту жизнь часто-часто вступала вдруг мысль о старом дряхлом человеке в теплом подряснике под вековыми деревьями Оптинского скита, и хотелось бросить все, лететь к нему и искать у него разрешения, помощи и защиты от всего, что искушает всякую жизнь, искажает безоблачную пору первой молодости.
В течение следующего года я несколько раз писал отцу Амвросию и очень был доволен его ответным письмам.
Все у него было ясно и определенно, на все можно было получить категорический ответ «да» или «нет». Затем он так умел вдуматься в то, что ему написано, вчитаться между строк, дать прямые ответы на косвенные вопросы… Когда настала осень, меня чрезвычайно потянуло в Оптину, и мои летние разъезды я решил закончить Оптиной.
Мне было весело ехать. Я оставил поезд железной дороги в Калуге, откуда до Оптиной приходилось делать 70 верст на лошадях по большой дороге. Ямщики шибко гнали, и, выехав часа через два по полудни, я еще засветло приближался к Оптиной.
Помню серую тройку последнего, от станции Подборок, перегона, скачку пристяжных, скрип высоко нагруженных возов, свозивших в деревни урожай, и тихую ласковость этого вечера.
На следующее утро я сидел в приемной у о. Амвросия. Там были еще какие-то люди, а мое внимание привлек один весьма крупный и мужественный полковник из Туркестана с тремя маленькими сыновьями. Когда нам сказали, что старец покажется сейчас из своей комнаты, мы вышли в коридор, где дожидалось много народа. Вскоре раздался стук отворяемых дверей, частые удары по полу костыля, и в коридор вошел о. Амвросий. Все присутствовавшие стояли в два ряда на коленях, и он проходил, благословляя каждого, а с некоторыми останавливаясь и говоря по нескольку слов.
Стоявший около меня туркестанский полковник обнял своими могучими руками скучившихся около него сыновей, а о. Амвросий тихо гладил их по голове.
– Вот благословите их растить, – сказал взволнованный отец, а старец, крестя детей, ласкал их любящим взором.
Когда он дошел до меня, он тихо коснулся моей головы и негромко сказал:
– А, теперь сам приехал!
И мне показалось совершенно естественным, что он помнит, и как случайно я попал к нему в предыдущем году, и как я тогда в нем сомневался. Обойдя и благословив всех, о. Амвросий сказал мне: «Ну, пойдем потолкуем!» – и, опираясь на мое плечо, повел к себе в комнатку.
Отрадная светелка, где так легко говорилось, где слова казались грубы и недостаточны, чтоб передать и открыть все, что было в жизни, в мыслях и намерениях, все, из чего состояло существование, где не было уже стыда и смущения человека перед человеком, а только радость, что вот нашелся такой, кому можно вручить себя и рассказывать себя всего без утайки, чтоб чище и светлее становилась жизнь. И во все время беседы такое радостное спокойствие, что он поймет все в самых тонких оттенках и что самые слова свои говоришь больше для себя, потому что он и сам все видит.
Какое было наслаждение в сознании, что вот перед тобой замечательный, великий, прославленный человек, и этот человек во время твоего разговора с ним весь поглощен тобой и твоими интересами.
Мне хотелось с ним обсуждать главное и второстепенное в жизни, и он ко всему относился с неизменным участием, во все входил, на все мог подать совет.
Помню, как в деле нравственной жизни он советовал избегать той педантичности, которая мертвит дело. Так, я рассказал ему, что вычитал в детстве в жизнеописании, кажется, Франклина, что у него была особая разграфленная по дням тетрадь с означением его главных недостатков, против которых он ежедневно отмечал, в чем именно в тот день провинился, и что завел себе такую же тетрадку. Старец решительно восстал против такого средства самонаблюдения. «Это только ведет к похвальбе, – говорил он, – будут у тебя несколько дней все графы чистые, и возомнишь ты, что уже и невесть как хорош. А нужно прежде всего сознавать перед Богом свои вины, которых у каждого человека бесконечно много».
О. Амвросий настаивал на соблюдении нравственного устава и особенно на хранении постов. Как я ему ни доказывал невозможность соблюдения их при моей жизни дома, в большой семье, где я не могу распоряжаться по-своему, и в среде моих знакомых, где посты не соблюдаются, он все стоял на своем. Теперь, столько лет спустя, я понял вполне, как бы много лучше было для меня, если бы я беспрекословно его в этом послушал.
Я говорил с ним и о моих отношениях с людьми: о знакомых, которые мне особенно нравились или не нравились, о всем, что меня занимало, о всех моих планах и намерениях.
Вещи, на которые от других годами не дождешься ответа, у него разрешались одним словом, даже заглазно.
Один мой товарищ, не чувствовавший душевной близости к своим родителям и смущенный этим, попросил меня рассказать об этом старцу. Старец на это ответил мне: «Прочти пятую заповедь».
– «Чти отца твоего и матерь твою», – стал я читать, удивленный, и говоря себе: «Он и без отца Амвросия знает эту заповедь, и ее-то неисполнением и тяготится!.
– Повтори еще, – сказал отец, когда я прочел заповедь.
– Чти отца твоего и матерь.
– Повтори первое слово.
– Чти.
– Так что же сказано?
– Что надо почитать.
– Так вот, так и передай твоему приятелю. Если он почитает родителей, почтителен к ним, заботится о них.
– Он не может заботиться, – вставил я, – они очень богатые.
– Я не о том. А вот чтобы быть с ними, когда они этого хотят, не избегать их общества, почитать им иногда что-нибудь, слушаться их. Ведь они же не требуют от него ничего невозможного?
– Да, но они люди разных миров. У них интересы разные.
– Это ничего не показывает. Можно заниматься своими делами, не забывая родителей и не требуя, чтобы они интересовались непременно его интересами. Да он сам поймет, в чем состоит приказание «чтить». И если он это исполнит, он может быть покоен.
Обращение о. Амвросия было необыкновенно обаятельно. Сколько привлекательности было в его улыбке! Сколько заботы и одобрения в его глазах, какая ласкающая, милая русская речь в его устах.
Если входишь к нему радостный, закивает головой и весело скажет: «А, ясный денек пришел!» Если грустно на сердце, сколько серьезности и сочувствия в его удивительных, без слов говорящих глазах!
Но кроме этих чисто внешних черт, придававших такую цену отношениям с о. Амвросием, было, несомненно, что-то благодатное, что лилось от его святыни в душу приближавшегося к нему человека.
Разом, как входил к нему, чувствовал какое-то успокоение. Что-то отрадное, надежное, радостное сходило на душу, и душа точно юнела, становилась доверчивой, простой и чистой, какой была в далекие дни детства. Все наслоения греха, эгоизма, озлобления исчезали, как лед под лучами южного солнца. Переживалось что-то счастливое и прекрасное.
И трудно сказать, как значительна оказалась для всех, кто в первой молодости знал о. Амвросия, эта встреча, какое влияние она должна была оказать на всю дальнейшую их жизнь.
Навсегда эти люди были застрахованы от одной из опаснейших болезней современности – пессимизма.
Все уродства, какие могли они встретить в своей последующей жизни, весь запас необходимых уроков жизни, измен и разочарования – все это покрывалось одним лучезарным образом.
«Пусть жизнь плоха, пусть говорят, что она насквозь прогнила, что тщетны благие стремления, я знал, я видел отца Амвросия, его лучи сияли мне», – так могут всю жизнь твердить себе эти люди.
И лучезарный этот образ, всегда, в самые опасные минуты отчаяния, только бы вспомнить его во всей его правдивости, спасет их.
А пока он жил, даже редко видя его, какое было счастье сознавать, что там, в скиту далекой Оптиной, живет этот праведник, к которому в тяжелые дни можно прийти и «отдохнуть»!
В третий раз я посетил Оптину в последний год жизни старца Амвросия. Стал собираться я туда с весны, получив от К. Н. Леонтьева весть, что старец сильно слабеет.
Константин Николаевич Леонтьев был замечательный человек и замечательный писатель, доживавший у ограды Оптиной последние годы своей сложной и тревожной жизни. В молодости он пережил период полного отрицания и тяжелым путем дошел до веры, которой страстно искал. Не могу забыть его рассказа об одном важном обстоятельстве его жизни.
Леонтьев, служивший по дипломатической части консулом в Турции, находился близ Константинополя, на даче, когда вдруг ночью почувствовал несомненные признаки холеры, эпидемия которой свирепствовала тогда в тех местах. Немедленно снарядил он одного из своих слуг в город за врачом и в ожидании стал думать о приближавшейся смерти. Не хотелось ему умирать! В голове его были литературные планы, которые погибли бы вместе с ним. Потом он имел страстное желание перед смертью покаяться. А смерть подходила внезапная, неумолимая.
Так как он, хотя и не веруя, любил некоторые внешние явления христианства, то у него стояла в углу икона Божьей Матери. Что совершалось в ту минуту в этой страждущей душе? Только он, смотря на икону, обратился к Владычице с мольбой о спасении его. И он остался жить. Через некоторое время он отправился на Афон, в русский Пантелеймоновский монастырь. Как представителя России, его встретили с торжеством – весь монастырь вышел к святым воротам. А на следующее утро он со смиренным видом и бьющимся сердцем вошел к знаменитому старцу Иерониму, запер за собой двери и упал на колени. Так поручил он себя руководству старца. Из рук о. Иеронима он вышел верующим. На склоне лет он устроился близ о. Амвросия.
На этот раз я и остановился у Леонтьева.
Он занимал целый дом за монастырской оградой. Особенно уютны были две верхние большие комнаты – его спальня и кабинет, из окон которых открывался привольный, чисто русский вид. К дому прилегал довольно большой сад, обильно засаженный деревьями. Как-то раз я застал его бродящим по дорожкам, усыпанным осенними листьями, и теперь припоминаю его высокую фигуру и выразительное лицо с печатью мысли и страдания.
Я прожил в Оптиной с неделю, но всего лишь два раза видел о. Амвросия, и то на короткое время. Старца там не было. Он находился в основанной им женской Шамординской общине, где провел и зиму. Ходили слухи, что Калужский архиерей настоятельно требует возвращения его в Оптину, и даже ждали приезда преосвященного, который, как говорили, принудит о. Амвросия покинуть Шамордино.
Теперь, когда старца не было в Оптиной, я понял, чем был он для этой обители.
Оптина опустела. В нее заезжали лишь на самый короткий срок. И меня как-то мало тянуло теперь в скит. Я больше сидел дома, слушая блестящие, ослепительно-яркие остроумием, глубиной, оригинальностью рассуждения Леонтьева, или бродил по берегу Жиздры или по песчаным дорогам Оптинского бора.
У Леонтьева в доме шли большие сборы. Старец советовал ему переехать в Сергиев Посад из Троице-Сергиевой лавры. Так как у Леонтьева, несмотря на трехтысячную пенсию и получаемый им литературный гонорар, денег, вследствие его щедрости, никогда не было, старец снабжал его деньгами, недостающими на переезд. Уже после смерти Леонтьева, происшедшей через месяц после кончины старца, у Троицы, как говорится в Москве, т. е. в Сергиевом Посаде, я узнал, что перед отъездом его старец тайно постриг его в монашество с имеем Климента, которое он принял в память своего покойного друга, так глубоко им понятого и так правдиво им описанного, – оптинского инока Климента Зедергольма.
Шамордино, куда я ездил с Леонтьевым для свидания с о. Амвросием, находилось в самой интересной поре своего развития.
Там было что-то уже до полутысячи сестер, и все они были охвачены великим рвением. Старец вдохновлял во всех великое усердие. Удивительно счастливо расположенная по высокому обрыву, над необозримой равниной, убегающей вдаль к горизонту, скрывающемуся от глаз, обитель состояла из деревянных домиков, разбросанных в зелени молодых деревьев. Церковь была небольшая, деревянная, домовая, и к ней, по мысли старца, были пристроены палаты богадельни, так что старушки, не выходя из своих комнат, могли через окна слушать богослужение. Фундамент громадного каменного собора был выведен из земли и поражал своими размерами.
Монастырь был заполнен народом, когда мы туда приехали, и перед заборчиком палисадничка игуменского корпуса скучилась не расходившаяся толпа, жаждавшая видеть хоть тень старца.
Сперва к старцу прошел Леонтьев и довольно долго у него оставался. Как я узнал от Леонтьева в тот же вечер, тут окончательно разъяснен был вопрос о его отъезде. Зная обстоятельства жизни Леонтьева, я впоследствии не мог не говорить себе, что в этом совете вновь блестяще проявилась прозорливость старца.
Вслед за Леонтьевым старец позвал меня.
С понятным волнением вошел я в заветную комнату к человеку, так много для меня значившему и два года мною не виденному.
Во второй раз я увидал эту келью старца, когда его уже не было на свете. Она поддерживается и доселе в том самом виде, как была при его кончине.
В стороне от окна, по внутренней стене, низкая железная кровать, на которой старец скончался. На ней большой портрет старца, на котором он изображен лежащим, как он обыкновенно принимал посетителей. На этажерке со стеклянными стенками собраны его вещи, посуда, им употреблявшаяся, его шапочки и белье.
И всякий раз, как входил я в эту келью – последний земной приют великого старца, – я переживал и то жгучее чувство сострадания, которое наполняло меня тогда перед ним, и тоску разлуки, и какую-то сладкую уверенность, что он вновь видит меня и все слышит, что неслышно хочется мне сказать ему.
Я был поражен, войдя в келью, тем, что увидел, потому что, кроме своего умирающего брата, не видел еще на земле такого великого изнеможения.
Старец лежал предо мною, как полумертвый. Рука не могла сделать легкого движения для знамения креста и бессильно повисла вдоль тела. Он не сказал, насколько помню, обычного ласкового или шутливого слова привета, только глаза его, бессмертные глаза, выражали жизнь.
Я заговорил с ним, и тут мне стало прямо страшно его состояния.
Он хотел говорить, поднять голову, но голова, точно шея была без позвонков, бессильно заваливалась назад. Вместо слов вырывался какой-то малопонятный тихий хрип, и лишь через несколько минут я с величайшим усилием стал догадываться о его словах.
Я вышел, глубоко потрясенный. Предо мной был мученик.
А затем ждало много других и этот томящийся у пали-садничка народ, к которому он, вероятно, и вышел, полумертвый.
И однако мысль о его близком конце – и тот ужас, говоря субъективно, для всех его детей, какой совершился здесь через какие-нибудь два месяца, – мне и в голову не пришла. Тень этой мысли не коснулась меня.
Я так привык слышать об изнеможении старца, так привык слышать фразы: «Старец Амвросий еле дышит», «старец крайне ослабел», – и рядом все объясняющую фразу: «Старец живет чудом», – что я ни на минуту не мог думать, как скоро мы останемся без старца Амвросия.
Накануне отъезда из Оптиной я еще раз приехал в Шамордино. Прежде чем увидать старца, я познакомился с семьей С., отец которой, из старой дворянской фамилии, старый кирасир, впавший в бедность, жил с шестью детьми и женой на полном иждивении старца и лишь год назад кончил жизнь, поддерживаемый до конца людьми, знавшими старца.
На этот раз свидание было продолжительнее.
В его комнате что-то переделывали, и он помещался пока в комнате игумена, направо от гостиной. Он был гораздо, несравненно свежее того раза, и я мог по-прежнему, на свободе поговорить с ним. У меня было не то что предчувствие, что я его больше не увижу (потому что я как-то не мог верить в его смерть), а человеческое соображение, что я его долго могу не увидеть. Я попросил его дать мне что-нибудь в благословение, и он благословил меня маленьким образком Николая Чудотворца, который никогда не покидает меня.
Лет десять спустя я был отчаянно болен тифом и сильнейшим плевритом обоих легких. Мне было очень плохо, меня соборовали и дважды приобщили. Я болел уже около двух месяцев без видимого улучшения и был чрезвычайно слаб. Вечером 6 декабря, в Николин день и накануне именин старца Амвросия, я вспомнил об его образке и, сняв его со стены, положил его себе на лоб. С той минуты мне стало лучше, и началось быстро пошедшее вперед улучшение.
Получив образок, я попросил о. Амвросия благословить мою сестру. Он перекрестил ее через пространство иконой Божьей Матери «Достойно есть» и дал ее мне.
Среди дальнейшего разговора я сказал старцу: «Батюшка, вы меня не забывайте. Если мы не увидимся больше, вы меня там не позабудьте. Я вас очень люблю».
Он словами ничего мне не ответил, но до гроба я не забуду того, как он тогда посмотрел на меня.
И опять-таки и в ту минуту я не думал о близости его конца, а говорил о его конце, как иногда в минуты большой откровенности говоришь о смерти с очень близкими людьми, уверенный, что они еще долго проживут.
Затем, рассуждая вслух, как я привык это перед ним делать, я стал ему говорить:
– Знаете, мы с вами ведь долго не увидимся. Я теперь ведь несколько лет не буду в Оптиной. Весной я должен кончить университет и летом буду в другой полосе России, далеко от вас. Будущее лето я проведу вольноопределяющимся в лагере и опять не попаду сюда.
– Ну, может, и скоро сюда попадешь, – спокойно возразил мне старец.
– Нет, батюшка, невозможно это.
– Как знать! Может, и очень скоро здесь будешь, – уверенно произнес о. Амвросий.
– Да невозможно, батюшка, – нетерпеливо возразил я, – зачем я сюда вскоре приду?
– Будет причина и приедешь, – мягко сказал он.
– А я вам, батюшка, говорю, что это невозможно.
– Ах, какой, тебя не переспоришь! – ласково махнув рукой, закончил старец этот разговор. – Ну, пойди посиди в гостиной.
Старец стал переменять обувь, что ему, по болезненности, приходилось делать по нескольку раз в день. Я в этом ему помог. Затем он меня выслал. Я хотел с ним проститься, но он сказал, что через несколько минут еще меня позовет.
Пока я ожидал в гостиной, я рассказал нескольким монахиням, что надолго прощаюсь с Оптиной и Шамординым. А вот старец говорит, что я могу и вскоре сюда приехать, и как это мне кажется невероятным. Но вслед за тем я как-то совершенно забыл о моем споре со старцем.
Когда я через несколько минут вернулся в комнату к отцу Амвросию, он перешел в гостиную. Я еще никогда не говорил с ним в такой обстановке. Он сел на кресло у преддиванного стола и сказал мне, чтобы я сел около. Я хотел постоять, но он твердо приказал сесть.
Я ему показал тут небольшую, бывшую у меня с детства, икону Божьей Матери, которую я имел основание считать явленной. Он держал ее в руках, внимательно слушая мой рассказ, и потом приложился к ней. Я еще поговорил с ним о себе, рассказал ему еще раз, как трудно жить по-христиански и как расходится жизнь с тем, как мечтаешь жить. И он повторил еще раз слова, которые я столько раз от него слышал: «Царствие Божие нудится силою».
Так он и запечатлелся в моей памяти навсегда, каким я видел его в эти последние минуты моего общения с ним, в кресле, со святым и светлым лицом под теплой мягкой камилавкой, с заветной иконой в золотом окладе на руках, внимательно и заботливо слушающего, с выражением чрезвычайной серьезности и сосредоточенности.
И когда я отходил от него, довольный, спокойный и радостный, и в последний раз от дверей обернулся на него, ничего не кольнуло меня в сердце, не мелькнула ни малейшая тень мысли: «Навсегда, навсегда!»
Так закончилось мое знакомство с этим лучшим человеком, какого дано мне было встретить на земле.
И я ушел в мир и сейчас же был поглощен им, не подозревая, что через несколько недель на меня обрушится ничем не исцелимое, до смерти непоправимое сиротство.
Теперь, когда я вспоминаю об отношениях с о. Амвросием, меня поражает то, как надежно и ровно было то чувство, какое он давал всем обращавшимся к нему.
Какое людское чувство застраховано от разочарования, утомления, от измен? Тот, кто приближался к о. Амвросию, ни разу не испытал ни малейшего из тех огорчений, какие мы порой испытываем в отношениях с самыми дорогими, любимыми и нас любящими людьми. Бывая у него, вы чувствовали, что он дает вам всю полноту той чистейшей привязанности, которую только способен человек дать человеку. И вы чувствовали это, несмотря на то, что знали, что таких, как вы, у него тысячи, и что все-таки вы для него – первый по заботе его о вас, как и другие, наверное, чувствовали, что и они – первые.
И как иногда вдали от него вас до слез трогала мысль, что он, православленный всей православной своей родиной праведник, тайновидец и чудотворец, вживается весь в вашу жизнь и так заботливо толкует с мальчиком-студентом о его фантазиях.
И когда его не стало, нельзя было не понять, что мир не способен на ту любовь, какая была в нем, что вас могут по-мирски любить горячо и преданно. Но что этой всеобъемлющей, нетребовательной, всепрощающей любви вы уже ни от кого не дождетесь. И, вспоминая его простоту в отношениях со мной, приходившим к нему со всей моей мирской суетой, рассеянностью, со всеми моими суетными интересами, я невольно шепчу слова апостола, выбитые золотом в белом мраморе его надгробного памятника: «Бых немощным, яко немощен, да немощные приобрящу. Всем бых вся, да всяко некия спасу».
И пока живут и дышат эти тысячи согретых любовью твоей «немощных», они не перестанут так думать и чувствовать.
Глава IX. Шамординский женский монастырь
Прежде чем говорить о последних днях и кончине старца Амвросия, необходимо остановиться на истории любимого его детища – Шамординской общины, носящей ныне название Амвросиевой Казанской пустыни, что в Шамордине.
Среди лиц, обращавшихся за советом к о. Амвросию, было много вдовых женщин, бедных девиц и сирот. Из них многие очень желали бы вести монашескую жизнь, но не имели к тому возможности.
Почти повсюду в русских женских монастырях принимаются лишь личности, которые имеют средства купить себе келью, сделать хоть маленький взнос в обитель и содержать себя своим трудом или на свои сбережения. Женщины, стремящиеся к монашеской жизни, но не могущие удовлетворить этим условиям, уединяются обыкновенно в своих селах в особые келейки, стараясь жить по-монашески, и носят имя черничек. Если неимущую и примут в монастырь, ей приходится очень много трудиться, что под силу только молодым или очень крепким здоровьем.
Сколько есть одиноких, беззащитных женщин, которые совершенно не способны к тому, что носит страшное имя «борьба с жизнью», и которые вместе с тем настолько благочестивы, что почли бы за счастье быть в обители. Что лучше монастырской ограды охранит слабых от грубых ударов несправедливостей мира, что, как не обиход монастыря, с его постоянными церковными службами, частым присутствием во храме, может укрепить и отогреть усталую в мире душу?
Вот почему женские монашеские общины так необходимы. Замечательно, что они за последнее столетие получили такое же значительное развитие, насколько умалились, в большинстве случаев, мужские монастыри. Наблюдаются случаи, что обители, захиревшие в качестве монастырей мужских, процветали, когда их обращали в женские.
Не менее знаменательно, что многие из русских подвижников последнего времени или полагали основание, или способствовали возникновению женских общин.
Так, великий старец Серафим Саровский возрастил знаменитый Дивеевский монастырь. Праведник XVIII в. Феодор (из известного дворянского рода Ушаковых) способствовал процветанию Арзамасской Алексеевской общины, выставившей целый ряд истинных подвижниц. Памятный своими трудами на пользу иночества и близостью своей к митрополиту С.-Петербургскому и Новгородскому Гавриилу, Новоезерский архимандрит Феофан поднял на высокую степень жизнь строгого женского Горицкого монастыря, из которого, между прочим, вышла основательница С.-Петербургского Новодевичьего монастыря мать Феофания Готовцева. Старец Илларион Троекуровский и затворник Иоанн Сезеновский положили основания многолюдным женским монастырям Тамбовской епархии – Троекуровскому и Сезеновскому, где и почивают. Спасавшийся в Угличе тяжким подвигом юродства священник о. Петр Томаницкий предсказал возникновение и вызвал к жизни женский Софийский в городе Рыбинске монастырь, где и скончался.
Признавая великую нужду в женских монастырях, и оптинский старец Амвросий старался об их умножении: он склонял преданных ему состоятельных людей к устроению общин и сам тому способствовал. Его заботами устроена община в городе Кромы, Орловской епархии; много сил положено им для устройства Гусевской общины в Саратовской губернии. По его благословению возникли Козельская община в Полтавской губернии и Пятницкая – в Воронежской. Главное же творение его, кровное и любимое детище, – община, возникшая в Шамордине и разросшаяся ныне в громадный женский монастырь.
Несколько в стороне от большой дороги, ведущей от Калуги в Козельск, стоит деревня Шамордино. В версте от нее в убогой усадебке жил мелкопоместный помещик Калыгин, старичок с женой-старушкой. Как-то, при посещении Калыгиным старца, о. Амвросий спросил у него, согласится ли он продать свое имение, в котором числилось двести десятин земли. Он согласился, поставив условием, чтоб ему с женой дали дожить свои дни в оптинской гостинице. Сделка состоялась, и деньги были уплачены преданнейшей духовной дочерью старца Ключаревой, орловской помещицей, муж которой был одно время губернским предводителем (оба они скончались иноками).
Покупка совершена осенью 1871 г.
Именьице это носило на себе печать заброшенности и запустения. Ценного не было ничего, кроме земли. Дом был с соломенной крышей, с подгнившими углами, одноэтажный, маленький. В одной половине, представлявшей простую крестьянскую избу, жили сами хозяева. Другая часть дома служила амбаром. Была еще рига и сарай для скота, все старое – вот и вся усадьба.
Зато вид с высоты крутой горы, где стояла усадебка, роскошнейший. Нельзя не залюбоваться им и теперь, бывая в Шамордине.
Представьте себе высокую гору с крутым длинным скатом, поросшим густым лиственным лесом. Там, низко-низко, в глубине, с края поемного луга по подошве горы извивается в светлых зеленых берегах серебристой струей речка Серена. По краям бесконечный луговой простор кое-где взбегает кверху небольшими холмами. С другой стороны за обрывом видны золотые поля и далеко-далеко, больше чем за десять верст, в голубоватой дымке чернеют леса. Когда вы стоите над обрывом, господствуя над этим привольем, какое-то чувство воли и покоя водворяется у вас на душе. Особенно хорошо тут весной, когда все блестит яркими изумрудами и по лугам цветут цветы.
Шамординское имение было, собственно, куплено для одного духовного сына старца, который желал летом быть поближе к нему. Но этот господин потом отказался от этого приобретения, которое по документам значилось за Ключаревой.
Муж Ключаревой, последние годы жизни проживший послушником в Оптинском скиту, к тому времени уже умер, а его жена, бывшая в тайном постриге с именем Амвросии, состояла полной распорядительницей своего состояния.
У нее был единственный сын. Он остался после смерти первой жены вдовцом с двумя дочками-близнецами и затем женился во второй раз, а дочери воспитывались у бабушки, которая их очень любила.
Раз о. Амвросий говорит Ключаревой: «Вот, мать Амвросия, жребий тебе выпадает взять это имение для себя. Будешь жить там, как на даче, со своими внучками. А мы будем ездить к тебе в гости».
Конечно, Ключаревой это именьице, так близко от Оптиной, очень подходило. Она и решилась предоставить его своим внучкам и воспитывать их там под крылышком отца Амвросия, который, по ее желанию, был крестным отцом обеих.
К весне 1872 г. в убогом калыгинском домике начались переделки, и домик принял такой вид, что прежний владелец даже не мог совсем узнать его. К началу лета Ключарева с внучками и женским штатом прислуги переехала в Шамордино. В это же лето приехал навестить ее и посмотреть местность о. Амвросий. Тогда же он благословил ее построить новый корпус для себя и для послушниц, из ее бывших крепостных, которых у нее было немало. Уже тогда старец произнес фразу, казавшуюся в то время и при тех обстоятельствах совершенно непонятной: «Здесь у нас будет монастырь».
Казалось это невозможно потому, что в усадьбе возникла новая жизнь, что в ней росли две девочки, которых бабушка предназначала для мирского быта, для радостей семейной жизни. Так все думали и гадали.
Со следующего года начали строить большой деревянный дом на каменном фундаменте, в котором была и келья на случай приезда старца. Отец Амвросий посещал в эту пору Шамордино всякое лето по разу и гостил сперва дня по три, а потом и по неделе.
Прозорливый старец уже тогда намечал места будущих монастырских построек. Ходя по усадьбе, он, бывало, вдруг остановится, велит вымерить длину и ширину места и вобьет колышки.
В новом доме большой зал занимал восточную часть стройки, а комнаты для внучек смотрели на север. Это не нравилось Ключаревой, и впоследствии, вспоминая об этом, старец говорил: «Она строила детям дом. А нам нужна была церковь».
В нововыстроенном доме были поселены барышни Ключаревы и несколько послушниц из крепостных матери Амвросии. К этим последним стали присоединяться и их родственницы, искавшие уединения. Уже и тогда в Шамордине текла жизнь, близкая к монашеской. Сама же мать Амвросия Ключарева продолжала по-прежнему жить в особом доме близ оптинской ограды, доселе носящем название «Ключаревского флигеля». Но со внучками она мало расставалась: или девочки гостили у нее в Оптиной, или она сама наезжала в Шамордино. Бабушка и старец, крестный девочек, не сходились между собой во взгляде на их воспитание. Готовя их в мир, бабушка хотела воспитывать их по-мирски. Она думала взять для них гувернантку-француженку и находила, что их слишком просто одевают. Но старец не давал на это своего благословения, чем бабушка была весьма огорчена. Однажды она стала сетовать на это г-же Шишковой. «Сами знаете, – говорила она, – можно ли в нашем кругу не знать иностранных языков. Попросите у старца благословения мне приискать иностранку, и о платьицах поговорите».
Но старец на это прямо ответил г-же Шишковой, которой как раз было легко приискать хорошую гувернантку: «Детям не надо француженки. Я к ним поместил отличную, благочестивую русскую особу, которая их наставит и приготовит к будущей жизни. Дети жить не будут, а на место их в имении будут за них молитвенницы. Ты только этого не говори матери Амвросии».
Г-жа Шишкова тогда же передала этот разговор мужу.
Девочки выказывали совершенно определенное религиозное настроение. Они любили постничать, отказывались уже от мяса и ели его лишь по приказанию старца; им нравились длинные оптинские службы, и они твердо знали их порядок.
Ключарева прикупила к Шамордину еще три лесных дачи – Руднево, Преображенское и Акатово, чтобы лучше обеспечить внучек. Положила также на их имя маленький капитал. Оставляя Шамордино с дачами по своей смерти внучкам, она поставила условием, чтоб, в случае неожиданной смерти внучек, в калыгинской усадьбе была устроена женская община и чтоб упомянутые ее дачи и капитал послужили обеспечением общины.
Ключарева, в монашестве Амвросия, скончалась 23 апреля 1881 г. Внучки ее, оставшиеся по десятому году, продолжали жить в Шамордине.
Это были тихие и кроткие девочки, нежно любившие друг друга и никогда не разлучавшиеся. Единственным развлечением была прогулка с нянями, из которых главная была одна из бывших ключаревских женщин, монахиня Алимпия.
Простой, полумонашеский быт девочек не нравился их отцу, и он, желая дать им мирское воспитание, поместил их в один орловский пансион. На лето 1883 г. он нанял им дачу и желал приучать их понемногу к тому обществу, в котором они должны были впоследствии вращаться.
Такая жизнь была не по сердцу сестрам. Они рвались в Оптину, к крестному. В мае отец позволил им поехать в Оптину, повидаться со старцем. В пустыни они вдруг заболели дифтеритом: сначала одна, потом другая. Их разъединили. Они исповедовались, приобщились. Пока у них хватало сил, они писали записочки о. Амвросию, в которых просили его молитв и благословения. Они скончались: одна 4-го, другая 8 июня, и, прожив вместе и дружно свой короткий земной век, не были разлучены друг от друга и в вечных обителях Царя Небесного.
В Оптиной пустыни, недалеко от того места, где покоятся великие старцы Лев (Леонид), Макарий и Амвросий, под белым мраморным памятником лежит чета Ключаревых: муж и жена, верные послушники о. Амвросия, закончившие иноческими подвигами свою тихую жизнь, и внучки их, отроковицы Вера и Любовь.
Бывая в Оптиной, я с волнением подхожу всегда к этой могиле. Поставленные судьбой на путь широкий, они сузили его и в исканиях правды нашли опытного руководителя к вечному, негибнущему счастью.
Сколько современных им лиц, сильнее, даровитее их, прожив блестящую, но бесплодную жизнь, погибли, не оставив в мире никакого следа!
А вот из послушания тайной инокини Амвросии великому старцу выросла знаменитая обитель, и на той господствующей над необозримым, чисто русским раздольем высоте, где когда-то развивалась тихая жизнь двух благочестивых девочек, откуда две детские души рвались в небо, к Богу, там создался приют для таких же жаждущих Бога и вне Его не видящих счастья женских душ.
Неисповедимы пути Господни. И счастлив тот, кто с верой и смирением предает себя в руки чудного Пастыря.
По смерти Ключаревых в усадьбе при деревне Шамордине закипела работа.
Стал воздвигаться корпус за корпусом. Старец Амвросий устраивал в Шамордине давно нужную для множества обращавшихся к нему женщин общину. Еще общины не было, как старец уже поселял в Шамордине разных обездоленных женщин. И сколько там было таких, с разными жизненными несчастьями.
Приходит, например, к батюшке молодая женщина, оставшаяся в чужой семье больной вдовой. Свекровь ее гонит и говорит: «Ты бы, горемычная, хоть удавилась: тебе не грешно!!!» Старец выслушивает ее и устраивает ее жизнь словами: «Ступай в Шамордино!»
Привозят к нему больную женщину, покинутую мужем на произвол судьбы, и старец, скрывая, как это с ним бывало часто, под шутливым словом душевное свое волнение, говорит, посмотрев на нее: «Ну, этот хлам-то у нас сойдет. Отвезть ее в Шамордино!»
Приходит какой-то человек из Сибири и отдает батюшке свою маленькую дочь: «Возьмите, у нее нет матери.
Что я с ней буду делать!» Из таких девочек и образовался в Шамордине детский приют.
Духовник старца, кроткий старичок о. Феодор, иногда даже позволял себе пошутить над этой страстью старца собирать убогих.
– Батюшка, у вас именно что монастырь, – скажет, бывало, иногда о. Феодор.
– А что?
– Да в какую келью ни войдешь, там слепая, там хромая, а тут и вовсе без ног: поневоле все уединенные![12]
– Ну ладно, уж начнешь… – прекращал старец такой разговор. Не нравилось ему, чтоб, даже с любовью, подшучивали над его убогими.
Были начаты хлопоты о построении в Ключаревском, по плану старца строившемся, дома-церкви и об открытии общины.
Налицо была и та, которой предстояло сделаться первой настоятельницей, – вдова-помещица Софья Михайловна Астафьева, по первому мужу Янькова, рожденная Болотова.
По указанию старца выйдя во второй раз замуж и снова, еще в молодых годах, овдовев, она стала преданнейшей послушницей старца.
До того в Шамордине распоряжалась старушка из «ключаревских» – мать Алимпия, на руках которой были и малолетние Ключаревы. Теперь же приходилось постоянно по делам ездить в Калугу, Москву и другие места. Старец стал повсюду посылать Софью Михайловну, женщину из хорошего общества, образованную, к тому же чрезвычайно умную, энергичную, красноречивую.
1 октября 1884 г., в праздник Покрова Богородицы, была освящена первая шамординская церковь. Теперь, когда к большому залу пришлось лишь приделать алтарь, поняли, почему старец при постройке дома так настаивал, чтоб зала была на восток. В день освящения храма старец, запершись у себя в келье, с вечера молился наедине.
Святыней обители стала икона Богоматери Казанская. Когда старец в первый раз входил в новопостроенный ключаревский дом и увидел в зале большую Казанскую икону, он долго смотрел на нее и потом сказал: «Ваша Казанская икона Божьей Матери, несомненно, чудотворная. Молитесь ей и храните ее».
В честь этой иконы и освящена первая церковь в Шамордине, и от нее община получила название Казанской. Теперь же, возведенная на степень монастыря, прибавив к имени своему и имя настоятеля, называется Казанской Амвросиевской пустынью.
Софья Михайловна Астафьева только три года настоятельствовала в Шамордине. Предавшись с великой ревностью делу созидания юной обители, она не жалела себя. Выросла она и до Шамордина вела жизнь свою в покое и в холе. А тут она стала смирять себя аскетическими подвигами и не жалела себя нисколько. В самую скверную, холодную и сырую погоду она по целым дням присматривала за постройками и только к ночи, прозябшая и промокшая, возвращалась домой. Постоянное напряжение, соединенное с простудами, надорвало ее здоровье, и она стала медленно чахнуть.
Софья Михайловна оставила неизгладимое впечатление во всех, кто к ней приближался.
Это был чарующий русский женский тип. Нарядная веселая красавица в миру, она, приняв иночество, стала строгой подвижницей, не утратив ничего из прирожденного ей изящества, когда черная ряса сменила обдуманные и полные вкуса туалеты. У нее была широкая, порывистая натура, которая под влиянием старца Амвросия вся сосредоточилась на искании Христа.
Когда я бывал в Шамордине, я любил входить в хибарку матери Софьи в тени молодых берез – на склоне того холма, где стоит монастырь.
Все просто, все запечатлено какой-то строгостью и вместе изяществом в этих двух покойчиках деревянного домика. Вот деревянный диван-скамья, на котором без тюфяка спала мать Софья.
Вот на стене ее портрет в схиме. Он писан родным братом матери Софьи, Димитрием Михайловичем Болотовым, долгое время бывшим рясофорным монахом Оптина скита, – теперь он иеромонах Даниил.
Какая-то тайна запечатлела этот удивительный, прекрасный портрет.
Дивные черты бледного, бескровного лица в рамке черной схимы с серебряными, нашитыми вокруг буквами слов «Святый Боже». Громадные черные глаза, полные неизъяснимой грусти, смотрят на вас уже из другого мира.
Мать Софья истаяла, как свеча. Она тихо скончалась 24 января 1888 г.
Старец Амвросий, вспоминая о ней, с особым умилением говорил: «Ах, мать! Обрела милость у Господа!»
Преемницей матери Софьи была монахиня Белевского Крестовоздвиженского монастыря, мать Евфросиния Розова, давняя духовная дочь старца.
Происходя из небогатой дворянской семьи, она рано поступила в монастырь и с 1860 г. поручила себя всецело духовному руководству старца Амвросия. Не было ничего в ее жизни, никаких мелочей, в которых она не искала совета старца.
Ежегодно о. Амвросий в течение лета навещал раз Шамординскую обитель. Посещения эти составляли для монастыря великое событие. Вот весьма интересное место из дневника одной из Шамординских сестер, с описанием приезда старца в созданную им обитель:
«Во вторник 19 июля приехал к нам дорогой наш батюшка и пробыл у нас до четверга следующей недели. Еще в первых числах июля пронесся слух у нас, что батюшка собирается к нам после Казанской погостить, но нам казалось это несбыточной мечтой, мы боялись и радоваться, боялись даже и говорить об этом. Наконец, уже за неделю так до приезда батюшки, слух этот стал все чаще и чаще повторяться слышавшими от него самого. Говорили, что приедет он в пятницу, субботу, воскресенье.
А мы все еще не смели этому поверить. Как наконец в понедельник начали стекаться к нам для встречи батюшки с разных сторон посетители. Тройка за тройкой так и мчится к Шамордину. В гостинице номера все были заняты. Пришлось поместить некоторых приезжих из монашествующих в особых кельях. Наконец настал и вторник. Тотчас после обедницы, часов в 7 утра, начали устраивать для батюшки помещение в церковном доме, в большой комнате, – из коридорчика бывшей молельни покойной матушки[13], которая окончательно теперь разгорожена; так пришлось отворить дверь для батюшки. Чтобы ему лучше можно было оттуда слышать, и даже видеть службу, и выходить через эту дверь в церковь, когда ему вздумается. К 9 часам комната для батюшки была готова. Ее устлали всю коврами, сделали небольшой иконостасец, вставили в окно жалюзи, навесили дверь – все это менее чем в 2 часа, так как делалось все сообща, дружно и живо. О. Иосифу, который также приезжал с батюшкой, приготовлена была комната отдельно. Церковь также преобразилась. Пол в ней устлали коврами, столбы и колонны разукрасили гирляндами папоротника и живых цветов. Но еще более праздничный вид придавали ей радостные, сияющие лица сестер, которые то и дело забегали туда узнать, не приехал ли кто из Оптиной, не слышно ли чего-нибудь о родном батюшке, весел ли был он накануне, покоен ли? В 4 часа приезжает наконец одна из наших сестер с радостной вестью, что в 3 часа батюшка намерен выехать из Оптиной и что нужно ожидать его с минуты на минуту. Весть эта в один миг облетела весь монастырь, и все уже были наготове. В 5 часов прискакал верховой с известием, что батюшка проехал уже Полошково. Тотчас собрались все в церковь, зажжена была люстра, от паперти до святых монастырских ворот разостлали ковровую дорожку, по обеим сторонам которой расставлены были сестры, все в полной форме. В святых воротах ожидали батюшку священник о. Иоанн со святым крестом, матушка настоятельница с нашим чудотворным Казанским образом Божьей Матери, матушка Елевферия с большим хлебом и просфорой на блюде, изукрашенном живыми цветами, все певчие.
«Сестры! Матушка просит вас не разговаривать», – повторяла приказание матушки мать Сергия, наша благочинная, устанавливая сестер в линию. Да и не до разговоров тут было. Каждой хотелось сосредоточиться в себе, собраться, как говорится, со своими чувствами. Воцарилась глубокая благоговейная тишина – другого слова я не подберу для ее выражения. Чувства, которые наполняли каждую из нас, которые переживались нами в эти минуты, никогда уже не испытать нам более: они не повторяются, редкие они гости на земле, их и не передашь. Раздался благовест, трезвон, наконец появилась и давно ожидаемая карета, подкатила к воротам, но дверца оставалась запертой, и батюшка не показывался. Прошло минуты три-четыре, появился наконец и батюшка с противоположной стороны кареты в полной форме – в мантии и крестах. Запели: «Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и вси крест свой глаголем: «Благословен грядый во имя Господне!» Батюшка между тем сделал три земные поклона и, приложившись к кресту и образу Царицы Небесной, взял икону на руки и в сопровождении матушки, помогавшей ему нести образ, двинулся к церкви. Все мы поклонились ему до земли, но никто не подходил к нему и не теснили его. На глазах у батюшки были слезы. Да и большинство присутствовавших плакали, но тихо, чтобы не нарушить тишины и стройного пения встречного гимна. Когда вошел батюшка в церковь, запели: «Достойно есть»; затем следовала ектения и т. д., как вообще принято встречать высоких посетителей. Батюшка между тем ходил в алтарь, прикладывался к образам и затем через южные двери прошел на могилу дорогой покойной матушки Софьи. Нужно было видеть только выражение лица батюшки в то время, когда прикладывался к образу Царицы Небесной в святых воротах, шел с иконой к церкви и молился на могилке, чтобы оно никогда не изгладилось из памяти! Серьезное, сосредоточенное, какое-то вдохновенное, и взор его, казалось, так и проникал в небеса. По возвращении в церковь и по окончании многолетия ему батюшка взошел на возвышенное местечко, нарочно для него приготовленное, сел в кресло и стал благословлять всех присутствовавших. Везде батюшка молился с земными поклонами и внимательно все осматривал. В хибарке, остановившись перед большим портретом матушки Софьи в схиме, батюшка сказал: «Мать все увидит, что тут делается».
В четверг после обедни была панихида по матушке Софье и матери Амвросии (Ключаревой) и затем общее благословение. В то время как благословлял батюшка, певчие пели ему обыкновенно различные церковные песни: «Заступнице усердная», тропарь святому Амвросию и т. д., пели также и «Торжествуй, наша обитель». В этот же день, после нескольких других священных песней, запели Пасхальный канон. Между тем батюшка кончил уже благословлять, слушал и молился. Когда кончили канон, батюшка сам благословил пропеть «Да воскреснет Бог» и по окончании этой песни быстро поднялся со своего места и скрылся за дверью. Пение всегда слишком сильно действовало на родного батюшку. Но что за чудное выражение лица было у него все время, пока слушал он пение! Один взгляд на него всякого ленивого и нерадивого невольно заставлял молиться».
А вот как та же трогательная рассказчица передает о времяпрепровождении старца в Шамордине:
«День проводил батюшка так: после обедни выходил он прикладываться к образам. Сперва к Царице Небесной, затем шел в алтарь, из алтаря к чудотворному образу Спасителя, откуда или прямо шел на могилку, или же начинал всех благословлять, и затем уже, отдохнув несколько и подкрепившись чаем, шел молиться на могилку матушки и на колокольню. Общие благословения происходили у нас в церкви следующим образом. На возвышенном местечке поставлено было для батюшки кресло. Батюшка садился в него. По правую руку от него стояла матушка, затем мать казначея, благочинная и другие старшие образовывали из себя как бы цепь для того, чтобы сдерживать напор толпы и не позволять слишком тесниться к батюшке, чтобы не так душно ему было. Все подходили к нему по очереди. Всех просили проходить поскорей и, получивши благословение, отходить, чтобы не задерживать других и не утомлять батюшку. Все таким образом получали благословение, а между тем ни тесноты, ни давки не было. Отдохнув несколько времени после общего благословения, батюшка начинал принимать приезжих посетителей, иногда в своей комнате, иногда же для этого выходил в церковь, садился на скамеечке близ свечного ящика и здесь с ними беседовал. Мы же стояли все поодаль и не могли достаточно насмотреться на своего дорогого гостя. Выражение лица батюшки, которое менялось ежеминутно, смотря по тому, приходилось ли выслушивать ему что-нибудь отрадное или скорбное, ободрял ли он или давал строгую заповедь, обращался ли к детям или к взрослым, его движения – ласкал ли он кого, или приколачивал палочкой, – все-все в нем исполнено было такой глубокой совершенной любви, что, глядя на него, самое жесткое, грубое сердце невольно делалось мягче, милостивее и добрее, и как бы мрачно ни был настроен человек, ему тотчас же становилось и легче, и отраднее, и светлее на душе. Невольно припоминался нам в эти минуты тот старец, который, посещая другого великого старца, никогда его ни о чем не спрашивал, но, просидев молча, пока другие вели с ним беседу, удалялся с ними вместе. На вопрос же, почему он ничего не говорит, отвечал: «Для меня достаточно и посмотреть на него». Часов в 11 подавали батюшке лошадь, он отправлялся объезжать корпуса и постройки в сопровождении особо ехавшей матушки, которая помогала ему выходить из экипажа, ограждала его от толпы и с которой он нередко тут же и занимался насчет перемещения сестер, переделок, перестроек и т. д., и в сопровождении толпы сестер и мирских, которые бегом мчались за батюшкиной пролеточкой. Кто тащил ему скамеечку, кто коврик, кто мешок с чулками. Но вот пролетка останавливается. Вперед приехавшая матушка ожидает батюшку уже у крыльца того корпуса, куда он должен подъехать. Батюшку на руках почти высаживают из экипажа и ведут по кельям. Только что войдет батюшка в двери, как они тотчас же запираются, и хозяйки остаются наедине беседовать с батюшкой. Матушка и все, кому только удалось захватить какую-нибудь из дорожных принадлежностей батюшки, как то: мешок, галоши, ряску, очки, рукавички, стул, – ожидают батюшку в коридоре или сенях, а вся остальная толпа – у крыльца корпуса, осчастливленная посещением высокого и дорогого гостя. Но вот батюшка обошел уже все кельи и снова показался в дверях. Начинается великая суета: «Где батюшкина ряска? У кого калоши батюшкины? Очки, очки давайте скорее батюшке!» Все суетятся и радуются, что снова видят батюшку. Хозяек же указывать нечего – лица их сами себя выдают. Как только заметишь сияющее восторгом лицо, так прямо и спрашиваешь: «А ты разве в этом же корпусе живешь?» – «В этом, в этом! Вот нам ныне счастье-то! Батюшка-то родной посидел у нас, помолился, то-то и то-то сказал». Возвращался батюшка домой часу во втором, кушал, отдыхал, а после отдыха снова отправлялся объезжать корпуса до всенощной или вечерни. За все время своего пребывания у нас батюшка перебывал во всех корпусах, не пропустил ни одной кельи, ездил и на Лапеха[14], был во всех сараях и амбарах. Во вторник принесли батюшке носилки, приготовленные сестрами для ношения камней для постройки храма. Батюшка благословил их и сам пробовал, ловки ли они.
Прошло несколько счастливых дней – и вдруг по монастырю бежит весть: «Скорее, скорее собирайтесь в церковь и в форме, сейчас будет напутственный молебен для батюшки». Собрались мы все, и узнать нельзя, что это те же лица, которые накануне еще можно было видеть такими сияющими. Головы опущены, кто плачет, кто едва удерживается от слез. Молчание глубокое.
Батюшке родному трудно было выйти. Эта грустная, прощальная обстановка слишком сильно повлияла бы на его чуткие нервы. Ждали мы, что он выйдет на общее благословение, но он не вышел. Присутствующим же всем объявлено было, что батюшка лег отдыхать, и потому если желают дождаться выхода его в церкви, то старались бы сидеть как можно тише. Прошло около часу; в коридорчике засуетились и вышли сказать, что батюшка проснулся. Минут через пять и батюшка появился. Серьезный, сосредоточенный, скоро-скоро прошел он по церкви прямо к образам и в алтарь. Из церкви, через южную паперть, вышел на могилку, в последний раз три раза ее благословил и возвратился в свою комнату.
Сестер снова расставили в два ряда, от церковной паперти и до святых ворот, где снова, как при встрече, ожидали батюшку матушка с образом Царицы Небесной и певчие. Настала вновь тишина, столь же благоговейная, как и прежде, но с оттенком скрытой грусти. То и дело доносились с разных концов всхлипывания. Когда же появился наконец батюшка и певчие грустно запели «Достойно есть», заплакали почти все. Батюшка шел быстро и благословлял на обе стороны. Там, где он проходил, кланялись ему в ноги. Когда же, сделав три земных поклона перед иконой Царицы Небесной и приложившись к ней, батюшка взял ее на руки и, стоя в святых воротах, в последний раз благословил ею сестер и обитель, как бы поручая их божественному покрову нашей Заступницы усердной, все вместе поклонились мы в землю и горько заплакали. Батюшка же между тем, давши матушке приложиться к иконе, вновь передал ее ей в руки и быстро скрылся в карете. Дверцы захлопнулись, и карета помчалась. Долго-долго еще, стоя у святых ворот, глядели мы вслед удалявшейся кареты и не могли тронуться с места. Какая-то тихая грусть наполнила душу, и жаль было расстаться с ней. Как пусто стало вдруг в Шамордине, и долго не могли мы свыкнуться с этой пустотой, пока снова не вошли в свою обычную колею. Матушка ездила провожать батюшку до Оптиной. Что только там было! – рассказывала матушка. Как только узнали, что батюшка возвратился, вся монастырская братия присыпала к скиту. Оживление было по всему лесу такое, какое бывает лишь в Светлый праздник. Дорожки от монастыря к скиту покрыты были народом, стремящимся со всех сторон к хибарке, чтобы принять благословение или взглянуть, по крайней мере, на батюшку. Слава Богу, дорога не слишком утомила дорогого батюшку, так что он в силах был всех благословить. На другой же день, на вопрос матушки, как он себя чувствует, отвечал, что пребывание его в Шамордине кажется ему сном».
Таковы впечатления шамординской сестры о посещении великим старцем их обители.
Пишущему эти строки кажется, что эти отрывки из дневника принадлежат к лучшим страницам, появившимся в печати о старце Амвросии, и замечательно верно передают как ту атмосферу высочайшего духовного счастья, какое вносило с собой появление отца Амвросия, так и атмосферу любви, окружающую его в Шамордине, которое не могло на него надышаться.
В этом-то месте и судил ему Бог кончить жизнь.
Глава Х. Жизнь догорает
Последний год жизни старец Амвросий провел безвыездно в Шамордине.
Конечно, более чем годовое пребывание столь строгого блюстителя устава, каким был старец Амвросий, в женской обители должно было иметь весьма важные основания. Конечно, старец действовал так по непосредственному внушению Божию, как то можно заключить из его слов, хотя к отъезду его из Оптиной были и другие причины.
При громадном стечении народа в Оптину обители приходилось нести весьма значительные расходы, так как, по обычаю, богомольцы призреваются бесплатно. Архимандрит Исаакий, оптинский настоятель, сам человек высокоподвижнической жизни, но не такой широкой души, как старец Амвросий, несколько ограничивал наплыв излишнего народа. Это было скорбью для любящего сердца старца Амвросия и несогласно с его непоколебимой верой в промысел Божий. А болезненность старца, крайнее его ослабление при множестве желающих его видеть доставляли ему такие страдания, что от него слышали такие слова: «Мне трудно, невозможно становится жить».
Кроме того, старец был весьма озабочен шамординскими делами. Там шла большая стройка, а мать Евфросиния, настоятельница, была в этом отношении неопытна. Средств у старца на обитель не было, о чем не знали даже близкие к нему благотворители Шамордина. И быть может, было назначено Провидением пожить ему последние месяцы жизни и умереть в этом именно месте, чтоб, так сказать, привлечь к этой юной обители особую заботу всех любивших его и всех тех, кто по кончине его желали бы сделать что-нибудь в его память.
Последний выезд старца в Шамордино сопровождался некоторыми отступлениями от установившихся ранее обычаев. Так, он оставил в скиту всегда его прежде сопровождавшего старшего своего келейника о. Иосифа, который был уже духовником и начинал старчествовать. Затем перед отъездом он велел о. Иосифу подаренную незадолго до того старцу икону Богоматери «Споручница грешных» поместить с неугасимой лампадой над изголовьем той койки, на которой он в течение стольких лет принимал и утешал народ. И как прежде посетители, входя в келью, встречали сразу лицо и устремленные ласковые глаза старца, так же и теперь, при взгляде на место, где он, бывало, лежал, не забывающие его дети видят пречистый лик Той Царицы Неба и земли, на Которую он оставлял этих детей своих.
2 июля 1890 г. старец выехал из Оптинского скита, куда никогда более не вернулся, так как и тело его вернулось уже не в скит, а в монастырь.
Тоже против обычая он, не заезжая в Шамордино, отправился сперва на несколько дней в принадлежавший Шамордину хутор Рудново. Это замечательное место было куплено матерью Амвросией Ключаревой по благословению старца для своих внучек. Там была земля с усадьбой. В Руднове было заведено хозяйство, и более оно ничем не выделялось.
В 1890 г. пришел к о. Амвросию рудновский староста с письмом на имя батюшки. В этом письме с подписью «любителей благочестия» было рассказано, что в рудновской усадьбе много лет назад какие-то подвижники вырыли колодец, а теперь это место в небрежении.
После этого письма старец, раньше бывший в Руднове только раз, чтобы взглянуть на покупку матери Амвросии, теперь проехал в Рудново и стал часто посещать его. Он завел там разные небольшие хозяйственные постройки и приступил к розыскам указанного в письме колодца. Не давая огласки, он приказал в одном месте рыть землю, и показалась вода. Но это не был старый колодец. Через год старец сам осматривал местность у нового колодца и, став несколько в стороне от него, молился и всем приказал молиться. Когда затем начали вновь осматривать местность, настоятельница общины почувствовала вдруг, что почва под ней опускается, и в страхе закричала, что тоннель. Приступили рыть в этом месте и нашли там старый колодец, о котором говорило письмо. Батюшка стал иногда посылать к этому колодцу больных облиться водой из него, раздавал из него воду и глину, и они оказывались целебными.
После близ целебного колодца построен был сарайчик, приспособленный к тому, чтобы обдаваться водой.
Мне доводилось бывать в Руднове уже по кончине старца и окачиваться водой из этого колодца, которая производила на меня какое-то невыразимое бодрящее действие, разливала по всему телу силу и бодрость. Какое отрадное место это Рудново! Приветливый, уютный уголок, радушный, светлый, задумчивый. Особое чувство переживаешь, слушая рассказы о том, как живал здесь, в два последних лета своей жизни, о. Амвросий. Около домика, где он помещался, по дорожкам наделаны крепкие перильца, чтоб он мог, прохаживаясь, опираться на них. Иногда ранним утром, когда все еще спали, он потихоньку выбирался незаметно из этого домика и бродил по дорожкам. Какую молитву при виде проснувшейся при лучах солнца природы возносила тогда Богу его верная и чуткая душа?
Пробыв несколько дней июля 1890 г. в Руднове, старец приехал в Шамордино. Затем несколько раз собирался вернуться в Оптину, но все откладывал отъезд. Особенно ждали к 29 августа – храмовому празднику Оптинского Предтеченского скита и уже закладывали для него лошадей. Но с ним сделалось так дурно, что он не мог ехать. Ходили даже слухи, что он был найден лежащим в великом изнеможении на полу.
Теперь же пришлось отложить мысль об отъезде. По болезненности своей о. Амвросий после Успенья редко выходил на воздух, так как не выносил температуры ниже 15° тепла. И в Шамордине стали в игуменском корпусе устраивать для старца зимнее помещение.
Между тем оптинский настоятель, монастырская и скитская братия все надеялись на скорое возвращение старца.
О. Исаакий всячески уговаривал о. Амвросия вернуться в скит и был в сильной скорби и смущении.
Смущение оптинцев доходило до того, что старец для успокоения волновавшихся монахов послал им от 4 октября собственноручное письмо, которое было прочитано вслух на монастырской трапезе. Там, между прочим, было сказано: «Я доселе задержался в Шамордине по собственному промышлению Божию. А почему – это должно означиться после».
К 1890 г. относится появление иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов».
Как большинство наших русских подвижников, старец Амвросий имел особую горячую ревность и великую веру к Царице Небесной.
В 1890 г. настоятельница Болховского женского монастыря, игумения Илария, прислала старцу новую, неизвестную дотоле икону Богоматери. Владычица представлена сидящей на облаках с руками, протянутыми для благословения. Внизу – сжатое поле, на котором среди цветов и травы лежат ржаные снопы.
Изображение Богоматери есть копия с Ее лика на иконе «Всех святых», находящейся в Болховском женском монастыре, а снопы ржи написаны по желанию старца Амвросия. Старец молился перед этой иконой и заповедал молиться перед ней шамординским сестрам.
В последний уже год своей жизни он заказывал снимки с этой иконы, раздавал и рассылал их многим из детей своих. Перед самой кончиной своей он составил особый припев к общему Богородичному акафисту: «Ангел предстатель с небеси послан бысть», и припев этот шамординские сестры певали, когда в келье старца читался акафист Владычице. Вот слова эти, сложенные о. Амвросием: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою. Подаждь и нам недостойным росу благодати Твоя, и яви милосердие Твое!»
Старец завещал своим духовным детям праздновать этой иконе 15 октября. И в этот именно день, 15 октября 1891 г., старца опустили в могилу. Тогда всем, любившим его и тосковавшим без него, явилась невольная мысль:
отходя, старец поручил Владычице судьбу своих сирот – душевное их спасение и житейские их нужды.
Содержание иконы производит глубокое впечатление. Что может быть знаменательнее для земледельца, как не это положение Богоматери, благословляющей то, что он с верой посеял и с благодарностью пожал? По кончине старца многие деревенские жители пожелали иметь у себя такую икону. Я знаю крупных помещиков, которые рассылали их так, чтоб икона эта была в каждом их имении.
Замечательно то, что в год кончины старца был в России голод, но он не коснулся пределов Калужской епархии, и около Шамордина хлеб родился хорошо.
Летом 1892 г. в Воронежском крае была сильная засуха, грозившая голодом. Икона Спорительницы была послана в Пятницкую общину, и, когда перед ней совершали молебствие, пошел дождь, и обитель с окрестностями была спасена от голода.
В 1897 г. по случаю бездождия служили молебен перед этой иконой в Руднове, и уже во время молебна стал накрапывать дождь, который пролился обильно после отслуженной по старцу Амвросию панихиды.
Кроме обычных занятий с монашествующими и мирскими посетителями, последний год жизни старца был посвящен усиленной заботе о хозяйственных делах Шамордина. Он вызвал в помощь себе оптинских монахов. Главными помощниками ему были молодой послушник Иван Феодорович Черепанов и о. Иоил, оба скитские.
Молодой Черепанов, потомок старинного дворянского рода, очень счастливый в браке, решил расстаться со своей женой, и они оба одновременно поступили в монастыри: он – в Оптину, она – в Шамордино.
Я видел его через несколько дней по кончине старца в его уютной келье, которую когда-то занимал известный о. Климент Зедергольм. Он производил чрезвычайно глубокое впечатление своей великой искренностью. Бог дал ему радость лишь на очень короткое время пережить великого старца, а супруга его еще долго монашествовала в Шамордине.
О. Иоил был отличаем старцем за свою великую незлобливость и доброту.
О. Иоил, живший в Оптинском скиту, рассказывал мне о том, как в хозяйственных даже делах постоянно обнаруживалась прозорливость старца.
– Ну, отец Иоил, – скажет, бывало, старец, – песку теперь тебе навозили. Аршина (батюшка точно прикидывает в уме) два с половиной глубины будет или не будет?
– Не знаю, батюшка, смерить не успели.
Еще раза два спрашивает старец о песке, и все не мерили… А как смеряют, непременно окажется так, как он говорил.
Или начнет старец прикидывать план какого-нибудь здания, скажет: «Аршин 46 будет?» План этот затем переиначивают, делают длиннее или укорачивают. А как здание будет готово, непременно окажется в нем 46 аршин.
К этой же поре относится предсказание старца о судьбе Шамордина.
Одна особа говорила ему, что любит более Оптину. Какие там храмы, служба, колокол!
Батюшка вдруг поднялся, глаза его заблистали огнем, и он радостно произнес: «Здесь все будет больше оптинского. Здесь будет то, чего ты и не ожидаешь».
Пророчество это теперь уже исполнилось. По числу сестер Шамордино стоит на одном из первых мест среди русских женских обителей. Его великолепный собор – одна из самых обширных церквей в России.
День шел за днем в Шамордине среди постоянных трудов старца, и все приближался конец его жизни, о котором он так часто, хотя притчами, теперь говорил. Но его не понимали, потому что не хотели думать о его смерти.
Прошел день его последних именин – 7 декабря.
Он казался в этот день особенно бледным и истомленным и, принимая поздравления, смиренно все повторял: «Уж очень много параду сделали».
В день Нового года была одна подробность, которую вспоминали потом. Старец долго принимал поздравительниц и, когда принял их, велел преданной ему престарелой особе, помещице М. И. Куколевской, жившей в особом домике у оптинской ограды, прочитать Троицкий листок. Он кончался молитвой пастыря о своих чадах и прощанием его с паствой. Всем присутствующим сделалось грустно, у многих навернулись слезы, и старец сам плакал. Затем, когда пришли к старцу сестры певчие и предложили пропеть что-нибудь для него, старец сказал: «Нет, пропойте мне: «Ангельские силы на гробе Твоем».
На Страстной неделе одна мирская особа привезла старцу, по его поручению, образ Спасителя в терновом венце. Принимая икону, старец сказал: «На что же лучше этого тернового венца!» – и поцеловал образ. Тогда же, говоря о кресте Христовом, о. Амвросий произнес: «Хорошо быть у креста Спасителя, но еще много лучше пострадать за Него на этом кресте». При этих словах лицо его приняло какое-то особое выражение и что-то неземное светилось в его глазах.
И невольно, думая о жизни старца Амвросия, говоришь себе, что эти несколько слов как нельзя лучше определяют его жизнь: «Много лучше пострадать за Христа на кресте». Да, он действительно был как распятый – и ставил свое блаженство, какого хотел от земли, лишь в том, чтобы страдать со Христом.
Настало последнее лето его. Он ходил по постройкам и ездил в Рудново, где гостил иногда недели по две.
В июле месяце посетила старца помещица Шишкова, очень ему преданная и им исцеленная. Она рассказала старцу, что не была предыдущий год, потому что не получила на поездку благословения старца. Благословив ее с сияющим, веселым лицом, старец выразительно сказал ей: «Теперь более у меня не спрашивай, можешь приезжать всегда, когда захочешь». Два раза произносил он эти слова, как будто желая, чтобы она вникла в их смысл, но она не поняла. О чем он говорил, как через полмесяца не мог понять и я утверждения старца, что вскоре по важной причине вернусь в Оптину.
Прощаясь с г-жой Шишковой, старец с необыкновенным воодушевлением говорил о святителе Игнатии Богоносце. С горячим чувством рассказывал он, что Господь всегда пребывал в сердце этого священномученика, и имя Христово запечатлелось на его сердце видимым образом. О. Амвросий особенно чтил этого угодника Божия и прибегал к нему с молитвой во всех трудных обстоятельствах. В честь святителя Игнатия Богоносца освящен впоследствии и один из алтарей в громадном Шамординском соборе.
В это же последнее лето жизни старца прибыл к нему один больной, Гаврюша.
Этот расслабленный человек принадлежал к числу тех, которых Бог избрал «посрамять премудрыя». Я встречал его и невольно чувствовал сильный и правый дух в изможденном уродливом теле; я имел также случай заметить в нем дар прозорливости.
Гаврюша жил в Ливенском уезде Орловской губернии, был расслаблен, трясся всем телом и еле мог говорить и принимать пищу. Ноги у него не действовали. Он лежал и молился Богу. Весной 1891 г. ему явился старец Амвросий и сказал: «Приходи ко мне в Шамордино, я тебя успокою». В то же время он встал на ноги и объявил, что он идет в Шамордино. Так как ноги у него были очень слабы и походка неровная, то мать хотела везти его по железной дороге. Но он от этого отказался. Он встретился со старцем под Шамордином. Старец тихо куда-то ехал. Вокруг него был народ.
– Батюшка, – закричал ему Гаврюша своим малопонятным языком, – ты меня звал, я пришел!
Батюшка тотчас вышел из повозки, подошел к нему и сказал:
– Здорово, гость дорогой, ну, живи тут. – А окружавшим промолвил: – Такого еще у меня не было.
О. Амвросий был очень ласков к Гаврюше. Он устроил ему уголок в Шамордине, а впоследствии и в Руднове. Было умилительно смотреть, как старец беседовал с Гаврюшей и как они ходили по келье: один – ковыляя на кривых ногах, а другой – согбенный, опираясь на свою палочку.
А время все шло и шло. Уже дни и часы, остававшиеся старцу на земле, были сочтены, а скорби его к концу его века все увеличивались и осложнялись.
Много забот доставляла ему необеспеченность Шамордина, где, однако, велась крайне необходимая значительная стройка. Тяжело ему было смущение оптинцев, недовольных его отъездом из скита. Было замечено, что он с особенной любовью принимал их, но после такого приема становился чрезвычайно встревоженным и не мог даже коснуться пищи.
Затем измождение его достигло крайних пределов. Зимой его часто видели лежащего навзничь, без голоса и движения, с закрытыми глазами. Придя в себя, он с болью говорил: «Ведь не верят, что я слаб, – ропщут».
И однако и тут старец не терял своей поразительной бодрости. Раз как-то шамординские сестры от разных неприятностей были в мрачном настроении. О. Амвросий собрал последние силы и с веселым видом вышел к сестрам. Каждой сказал он по приветливому слову, отчего лица их стали проясняться.
Вот еще трогательная черта одного его ответа шамординским сестрам.
Раз кто-то сказал старцу: «Какое нам счастье, батюшка, жить при вас и иметь вас. А придет время, не станет вас с нами. Что мы тогда будем делать?» О. Амвросий ласково улыбнулся, оглянул всех сидевших с такой любовью, с какой умел глядеть он один, и, покачав укоризненно головой, произнес: «Уж если я тут с вами все возился, то там-то от вас уж, верно, не уйдешь».
Последней же и самой крупной неприятностью, выпавшей на долю старца перед кончиной, было недоразумение с епархиальной властью из-за его пребывания в Шамордине.
Назначенный в начале лета 1890 г. с Тамбовской на Калужскую кафедру преосвященный Виталий был недоволен, что старец медлит в Шамордине. Кроме того, недоброжелатели о. Амвросия пользовались случаем, чтобы очернить его. Я уже рассказал, на собственном примере, как враг спасения искушал иногда ехавших в Оптину какой-то непонятной враждой на старца. Теперь, перед концом его светоносного пути, эти козни врага ожесточились. По-видимому, для полноты страдания старца надо было пройти через то испытание, о котором говорится в Евангелии: «Блажени есте, егда поносят вам, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще».
Преосвященный через благочинного монастырей требовал, чтоб старец вернулся в Оптину. Что мог ответить старец на такое требование, кроме того, что отвечал и оптинским монахам? Именно: «Задержался в Шамордине по особенному промышлению Божию». Старец говорил: «Я знаю, что не доеду до Оптиной. Если меня отсюда увезут, я на дороге умру».
«Ехать в Оптину я не собираюсь. Да и куда я теперь поеду? – И старец развел около себя руками. Затем прибавил: – Разе только… конец сентября и начало октября».
Осенью посетил старца о. Феодосий, настоятель Троицкого Лютикова монастыря, весьма его почитавший, и спросил:
– Знаете ли, батюшка, что вас ожидает?
Старец грустно поник головой и сказал:
– Да, отец Феодосий: весь ад восстал на меня.
Настоятельница и сестры, весьма тревожившиеся за старца, спрашивали его:
– Батюшка, как нам встречать владыку?
Старец спокойно отвечал:
– Не мы его, а он нас будет встречать.
– Что же владыке петь?
– Мы ему аллилуйя пропоем.
– Батюшка, говорите, владыка о многом хочет у вас спросить.
– Мы с ним потихоньку будем говорить, никто не услышит.
Этих слов тогда не понимали, а все они имели в виду обстоятельства приезда в Оптину преосвященного Виталия, который застал старца уже во гробе.
Не понимали и других разных слов, в которых он прямо говорил о своем конце.
Один художник из Петербурга прислал старцу копию с Казанской иконы Богоматери с именами семьи, прося помолиться о них. Старец велел положить записку в киот за икону и сказал: «Царица Небесная Сама будет молиться за них».
Посылая по просьбе одного бедного семейного человека денег на покупку теплой одежды, старец заканчивал записку к нему следующими словами: «Помни, что это тебе последняя от меня помощь».
И однако, несмотря на такие признаки, как крайнее изнеможение старца, несмотря на множество намеков его, никто не принимал мысли о его близкой кончине.
Особенно странно было то, что и в тех случаях, когда теоретически признавали ее возможность – как было это со мной, просившим старца не забыть меня в другом мире, или с шамординскими сестрами, которым старец обещал, что «там не убежит от них», – были все же далеки от мысли о ее осуществлении. «Конечно, умрет, как все умирают, но умрет, быть может, через десятки лет, просветив нам всю жизнь, до самой нашей могилы… вот висит же в его приемной в скиту портрет иеродиакона Мелхиседека, прожившего 120 лет». Так приблизительно чувствовали духовные дети о. Амвросия и в то время, когда ему оставалось жить лишь десятки дней.
А сам болезненный старец? В каком он мог быть душевном состоянии, приближаясь к тому концу, о котором он так ясно знал?
Здесь мы встречаемся с одной из замечательнейших черт его характера: ненарушимой тайной его внутренней жизни.
Как много известно, например, о том, что думал и чувствовал дивный старец Серафим, который, по откровенности своей, передал много из пережитого им и с восхищением говорил о близком своем конце.
Не то было с о. Амвросием. Проводя жизнь гораздо менее уединенную, чем жизнь старца Серафима, не жив никогда ни в пустыне, ни в затворе, не быв никогда молчальником, родившись и умерев «на людях», он в постоянной встрече с людьми сумел обособливать от людей свой внутренний мир, в который никто никогда не проникнул. По великим дарам его, по какому-то сверхъестественному в нем жившему обаянию можно было судить о высоте этой жизни, о бесценных сокровищах, скрытых в его душе, но все было так заботливо, так строго, так скупо скрыто под оболочкой ласковой и приветливой старости, общительности и практичности.
Он не терпел, чтоб к нему подходили, когда он слушал чтение молитв; он смущался, когда к нему издалека приходили люди, утверждавшие, что он является им, призывая к себе. Он не рассказал никогда никому о видениях, откровениях, которых он не мог не иметь, достигнув вершин духовной жизни. Только урывками, складывая в одно все, бывшее в его жизни: производимые им исцеления, прозорливость его и какие-то животворные, исходившие из него нравственные лучи, – только слагая все это в одно, можно было догадаться о великом значении о. Амвросия. Простота отличала его, но за этой оболочкой простоты сверкали и переливались, как бесценные самоцветные каменья, чудные сокровища его души, вся полнота, разнообразие и величие которых были зримы лишь очам Божьим, оставаясь заботливо и намеренно скрытыми в полном объеме своем от людей и лишь изредка случайно являя всю остроту своего невыносимого для слабого людского зрения блеска.
Так было и с его кончиной. Как должен он был ликовать, приближаясь к концу своего земного страдания!
Провести свой век в чрезвычайной болезненности, изнемогать ежедневно в течение десятилетий, совершая громадную, непосильную и для крепкого человека работу, созерцать постоянно раскрытую до дна бездну самых страшных и сложных и неутешенных страданий людских и знать, что все это кончится, что настанет соединение со всеми им любимыми людьми загробного мира, с которыми так сжилась его душа, с великими Амвросиями и Игнатиями, с его учителем Макарием; настанет – больше и выше того – видение лицом к лицу Бога и столь чтимой им Владычицы, настанет полное утоления сжигавшей его от юности святой жажды духовной, настанет несказанное блаженство. О, как должна была рваться вечно юная, утомленная долгим и прискорбным заключением на земле великая душа его из уз изношенного, страдающего, ветхого тела! Какие захватывающие горизонты открывались его прозорливым глазам! Но он молчал.
Неслышно и просто отходил он из жизни, точно боясь своей радостью смутить тех, в ком уход его оставлял неисцелимую рану, незаполнимую пустоту. Среди страданий должен был отойти, как среди страданий жил, и даже к концу его должны были, для полноты мученического венца его, ожесточиться эти страдания; подвергнется клевете голубиная чистота его жизни гонению – всегдашнее его смирение и покорность внушениям Божьим, усилится до нестерпимости болезненность тела. Да, и при конце дано ему было еще раз вкусить сладость христианского страдания, к которому он всегда стремился и о котором так незадолго до конца проникновенно сказал: «Хорошо быть у креста Спасителя. Но еще много лучше пострадать за Него на этом кресте».
Он доживал последние уже дни свои, а на руках у него была необеспеченная обитель с 500 сестер, приютом, богадельней, больницей, а год был голодный, на обители долг, настоятельница слепая.
И тут, в этих предсмертных испытаниях, являет он несокрушимую духовную крепость, спокойный и ясный, «до конца претерпевая».
21 сентября старец занемог.
Глава XI. Кончина
С утра 21 сентября старец был слаб, а к концу дня не мог уже слышать пения и чувствовал озноб.
На следующий день он стал жаловаться на боль в ушах, но еще занимался монастырскими делами, кое-кого принимал и шутил. Затем 23-го опять принимал, хотя уже плохо слышал и еле мог говорить. Ходившей за ним инокине он сказал: «Это последнее испытание – потерял слух и голос». Но и тут его слово о «последнем испытании» не было понято.
Положение с каждым днем ухудшалось, но при малейшем облегчении старец принимал сестер.
2 октября уехал доктор, выписанный из Москвы. Он сказал, что болезнь идет правильно, и все были спокойны. 4 октября старец исповедовал иеромонаха Иосифа, который после исповеди вернулся в скит. В наступившую ночь о. Иосиф долго не мог заснуть и в это время слышит, будто кто-то явственно произнес: «Старец умрет».
О. Амвросию стало совсем плохо 6-го числа. Весь день 7-го он провел в ужасных душевных страданиях. Казалось, ничто не подаст малейшего утешения. Можно думать, что через это страдание старец, жаждавший как бы крестной муки, прошел для того, чтоб испытать всю полноту ее, в подражание Христу, воскликнувшему на Голгофе: «Боже мой, Боже мой, вскую Мя еси оставил».
Страдание это было так тяжко, что, при всем своем почти сверхъестественном терпении, старец сказал шамординской настоятельнице: «Чувствую то, чего во всю жизнь мою не испытывал».
Видя положение старца, духовник его, белый священник о. Феодор, сказал ему:
– Батюшка, вот вы умираете. На кого обитель свою оставляете?
– Обитель оставляю Царице Небесной, а я свой крест позолотил, – был ответ старца.
Некоторым лицам были посланы депеши о болезни о. Амвросия; среди них – великому князю Константину Константиновичу, приезжавшему за несколько лет до того к старцу и сохранившему о нем на всю жизнь светлое и глубокое воспоминание. Великий князь за время болезни прислал в Оптину две телеграммы.
8-го числа положение настолько ухудшилось, что послали в скит за скитоначальником о. Анатолием и о. Иосифом. Больной от слабости не мог говорить и объяснялся знаками. К вечеру приехал московский доктор, нашедший положение безнадежным.
К ночи он был особорован. Чин соборования совершали о. Анатолий, о. Иосиф и о. Феодор. Во время совершения таинства старец лежал без сознания. Тяжелое дыхание его было слышно за две комнаты. По окончании соборования сестры стали по три входить к старцу, чтоб взглянуть в последний раз на свою покидающую их радость. С трудом сдерживая рыдания, они молча кланялись старцу в ноги, целовали руку его, лежащую без движения и горевшую огнем, смотрели ему в лицо, чтоб запечатлеть в памяти дорогие, светлые, невыразимо утешительные черты его, и тотчас выходили в противоположную дверь.
Ночью он пришел в сознание и пожатием руки давал понять окружающим, что узнает их. В два часа ночи он был приобщен о. Иосифом. Сперва, при поднесении ему Даров, он несколько раз отстранял их рукой; не могли понять, почему он так делает, и спрашивали его, но он не мог говорить. Наконец догадались, что он желал, чтоб о. Иосиф перекрестил его собственной его рукой, которую он не мог поднять. Ему показали дароносицу, он жестом объяснил, что может глотать; сперва ему дали иорданской воды, которую он проглотил, и тогда его приобщили.
Затем весь день он был в сознании и промолвил раз подошедшей к нему настоятельнице, ласково на нее глядя: «Плохо, мать!»
Все эти дни ему служили скитский монах о. Иоил и старец келейник о. Исайя.
Из Оптиной приехал проститься со старцем настоятель, архимандрит Исаакий. При виде страдающего старца он заплакал. О. Амвросий его узнал и, устремив на него глубокий, проницательный взгляд, поднял руку и снял с себя шапочку. Таково было их последнее свидание.
В конце жизни старца они должны были разно мыслить об отъезде старца из Оптиной, и в настоятеле болезненно отдавалось то умаление, которое от этого отъезда терпела Оптина. Но все время совместного служения, от годов общего подчинения о. Макарию до той поры, когда один стал старцем, а другой – настоятелем, они прожили в чувствах взаимной приязни и взаимного понимания.
Что совершалось в душах бедных шамординских обитательниц, когда они узнали, что надежды никакой?
В церкви безостановочно служили молебны с коленопреклонением, и с воплями молившиеся просили у Бога выздоровления старца.
К вечеру этого предпоследнего дня его жизни от Калужского губернатора пришла телеграмма, что 10 октября преосвященный Виталий выезжает в Шамордино.
Состояние старца все ухудшалось, он лежал неподвижно все в одном положении. И. Ф. Черепанов, продежуривший около старца всю эту последнюю ночь его жизни, передавал, что его глаза были устремлены кверху, а уста шевелились, читая молитву.
Казалось бы, хоть теперь умирающий старец мог надеяться на то одиночество, которого так жаждала и так мало получала при жизни его душа. Но шамординские сестры снова стали подходить к нему, уже не целуя его руку, по одиночке, только кланяясь ему в землю. Одна из них рассказывала, что, войдя к старцу и поклоняясь ему, она почувствовала на себе тот особенный его взгляд, которым он иногда смотрел, и старец провожал ее глазами до двери.
К утру следующего дня старец находился при последнем издыхании. Он лежал без движения, глаза опустились вниз и остановились на одной точке, дыхание было спокойное и редкое, пульс все слабел.
Видя, что конец близок, о. Иосиф отправился в скит, чтоб привезти одежду для погребения. Там в келье о. Амвросия хранились приготовленные им для своего погребения мухояровая старая мантия, в которую он некогда был облачен при пострижении, и власяница, и холщовая рубашка старца Макария, его учителя. На этой рубашке была собственноручная надпись о. Амвросия: «По смерти моей надеть на меня неотменно».
«Целый век свой я все на народе, – говорил о. Амвросий, – так и умру».
Действительно, у дверей комнаты, где он отходил, толпился народ, и много людей присутствовало при его последнем вздохе.
Вот как описывает очевидица, вошедшая в келью старца за двадцать минут до его отхода, его последние минуты:
«Когда я вошла, на коленях подле него стоял о. Исайя (келейник). О. Феодор (по прочтении в последний раз в 11 часов дня канона Божьей Матери на исход души) осенял старца крестом. Остальные присутствовавшие тут монахини стояли кругом. Старец начал кончаться. Лицо стало покрываться мертвенной бледностью, дыхание становилось все короче и короче. Наконец он сильно потянул в себя воздух, минуты через две это повторилось. Затем он поднял правую руку, сложил ее для крестного знамения, донес ее до лба, потом на грудь, на правое плечо и, донеся до левого, сильно стукнул об левое плечо – видно, потому, что это стоило ему страшных усилий, и дыхание прекратилось. Потом он вздохнул в третий и последний раз».
Это было ровно в 11 час. 30 мин. утра в четверг 10 октября 1891 г.
Уже душа его, отделившись от изнеможенного тела, ликуя, неслась, как из темницы, в объятия Бога, Которого он так верно и самоотверженно возлюбил. А вокруг все стояли, не двигаясь, еле дыша, боясь нарушить словом происходившее перед ними священное торжество. Они не понимали в ту минуту, сон перед ними или правда. А старец лежал перед ними, сияя светолепной красотой, чудный, светлый, с улыбкой на сомкнутых навеки устах.
К чему говорить о вопле, который поднялся через несколько времени по монастырю в то время, как иноки обряжали его тело.
Тотчас были разосланы телеграммы о его кончине. Великий князь Константин Константинович ответил следующими полными мысли словами: «Всею душою разделяю скорбь вашей святой обители об утрате незабвенного старца и радуюсь с вами об избавлении его праведной души».
Депеша, посланная Калужскому владыке, не застала его: в самую минуту кончины старца он сел в Калуге в карету, везшую его в Шамордино. По слабости здоровья, на полпути он остановился в Лютикове монастыре, где собирался и ночевать. Он под вечер сидел, беседуя с настоятелем, и упомянул о старце Амвросии, причем неодобрительно о нем отозвался за его будто бы нежелание выехать из Шамордина. Во время этого разговора келейник подал телеграмму. Прочтя ее, игумен заплакал, и на вопрос архиерея, какое известие он получил, он передал архиерею депешу.
– Это что же такое? Старец скончался? – промолвил смущенно преосвященный.
– Как видите, владыко.
Тогда архиерей, обратившись к иконам и всплеснув руками, воскликнул:
– Боже мой! Что же это такое? Неисповедимы судьбы Господни!
Еще более был он удивлен, когда узнал, что старец Амвросий скончался в половине двенадцатого дня, именно в то самое время, когда он садился в Калуге в экипаж, чтобы выехать в Шамордино.
Он решил теперь ехать прямо в Оптину, а в Шамордино прибыть к отпеванию старца.
Между тем в Шамордине около полуночи тело старца положено было в простой, обитый черной простой материей гроб, который был накрыт еще более простым, ветхим, общим для всех монастырских покойников, покровом. Такова была воля старца.
В эту же ночь был расшит покров, скрывавший его лицо, и сестры могли еще раз взглянуть на незабвенные его черты. Он лежал с тем чудным выражением привета, с которым после долгой разлуки встречал своих детей.
Его выражение было прекрасно схвачено рясофорным скитским монахом Д. М. Болотовым, который много раз воспроизводил лик старца в гробу с тем же обаятельным сходством, с каким он нарисовал портрет в схиме своей сестры, первой шамординской настоятельницы, монахини Софьи.
По всем направлениям, по грунтовым дорогам и на поездах направлялось множество людей на похороны старца. В Шамордино сошлось до восьми тысяч.
Между Оптиной и Шамордином возникли пререкания по поводу места погребения о. Амвросия. Шамординские, понятно, желали сохранить у себя дорогие останки, а Оптина настаивала на своих правах. Пришлось послать депешу Святейшему Синоду, и от первенствующего члена его, митрополита Исидора, было получено в ответ распоряжение хоронить старца в Оптиной.
Панихиды у гроба старца служились все ночи напролет, по желанию сестер и народа. Народ приносил платки, куски холста и другие вещи, просил прикладывать их к телу старца и принимал их обратно, как святыню. Многие матери прикладывали к гробу своих детей.
13-го утром прямо в церковь прибыл преосвященный Виталий. Его не ждали, так как полагали, что он раньше с дороги отдохнет. У гроба шла панихида, и, когда он входил, по окончании «Непорочных» – «Благословен еси, Господи», – пели «аллилуйя».
Когда внезапно сестры увидели архиерея, приезд которого так долго ожидался при жизни батюшки, тогда вспомнились им разные его слова: «конец сентября и начало октября», «мы пропоем ему аллилуйя», «мы потихоньку будем говорить», «приготовьте в церкви место, где мне стоять». И совершилось воочию свидание – этого старца, встречавшего бездыханным во гробе, при рыдающих распевах «аллилуйя», своего начальника.
Сестры не выдержали. Пение прервалось, послышалось громкое рыдание, и долго не могли они оправиться и пропеть преосвященному «входную».
В этот день архиерейским богослужением была совершена заупокойная литургия и затем отпевание старца.
Еще на одну ночь тело оставалось в Шамордине.
Нельзя не привести некоторые сновидения, которые имела одна из шамординских сестер. В них как бы излиты и все сокровища их бесхитростной, детской веры, и их безграничная любовь к старцу.
«За несколько времени до кончины батюшки видела я, будто стою в прекрасном саду. На высоких деревьях трепещут листики, и всякий листок все повторяет молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». В саду будто стоит светлый храм. Вошла я в него и вижу: купол у него недостроен. И подумала я: как этот храм не окончен? Тогда послышался мне голос: «Это жилище приготовлено для старца Амвросия и скоро будет окончено».
«А как батюшка уже умер, видела я, что стоит гроб. И вот спустились четыре ангела в белых ризах – такие блестящие на них ризы, – а в руках у них свечи и кадило. И спросила я: «Почему это они, такие светлые, спустились ко гробу батюшки?» Они мне ответили: «Это за то, что он был такой чистый». Потом спускались еще четыре ангела в красных ризах, и ризы их были еще красивее прежних. И я опять спросила, а они ответили: «Это за то, что он был такой милостивый, так много любил». И еще спустились два ангела в голубых ризах невыразимой красоты. И я спросила: «Почему они спустились ко гробу?» И мне ответили: «Это за то, что он так много пострадал в жизни и так терпеливо нес свои кресты».
14 октября гроб после обедни и панихиды был поднят на носилках сестрами и сперва обнесен вокруг церкви и соборного фундамента, и затем шествие тронулось в Оптину.
Погода была ненастная. Дул жестокий ветер, и непрерывно лил дождь.
На следующий день я ехал этим путем и никогда, кажется, не видал такого царства глубокой, невылазной липкой грязи.
Все заметили и говорили вслух как о замечательном знамении, что на всем протяжении многоверстного пути при порывистом ветре и дожде не угасли зажженные свечи, которые несли около гроба.
Несмотря на ужасную погоду, гроб несли все время на руках, попеременно оптинцы и шамординские, иногда и миряне. Часто служили литии. В селах, при перезвоне колоколов, священники в облачении с хоругвями и иконами выходили навстречу из церквей. Когда приближались к деревне Стенино, в версте от Оптиной, уже темнело. Тут встречали козельские – духовенство и граждане.
Медленно-медленно подходило шествие к монастырю, и что-то необыкновенное было в нем. Высоко над головами, в таинственно-трепетном мерцании свечей черный гроб, чуть колыхаясь, точно плыл по воздуху, а всю окрестность заволокло черной тучей народа.
На Жиздре, которую обыкновенно переезжают на пароме, был наведен теперь временный мост. На монастырском берегу ждала братия оптинская с иконами, хоругвями и зажженными свечами, и к месту для встречи гроба шел, не обращая внимания на грязь и дождь, поникнув головой, ближайший ученик старца, о. Иосиф, безотлучно 30 лет при нем находившийся.
Вот черный гроб вступил в ряды духовенства в блестящих ризах и черную толпу монахов, народ, встречавший и провожавший гроб, смешался, и при пении певчих, громком перезвоне колоколов, окруженный развевающимися хоругвями, великий старец Амвросий вернулся в ту обитель, в которую 52 года назад вступил, как беглец из мира.
На другой день, 15 октября, было совершено погребение старца за алтарем Введенского собора, рядом с о. Макарием, его наставником.
Глава XII. Последние впечатления
Я приехал в Оптину к вечеру, в день похорон, узнав о печальном событии лишь накануне, из газет.
Вернувшись из летнего отсутствия, закончившегося посещением Оптиной, в Москву к началу лекций, я жил обычной жизнью. В сентябре я видел на короткое время К. Н. Леонтьева, который был в Москве проездом на постоянное новое жительство в Сергиевский Посад, у Троицкой лавры. Перед тем как он покидал Оптину, старец постриг его в тайный постриг с именем Климента. Он сделал мне на это несколько намеков, на которые я, по спешности моего посещения, не обратил внимания. Больше я его не видел, так как он вскоре скончался, пережив своего старца всего лишь несколькими неделями.
Леонтьев не говорил ничего тревожного о положении о. Амвросия, так что я был совершенно за него спокоен.
В начале октября я видел необыкновенный сон.
Мне казалось, что я нахожусь среди великого народного множества, сошедшегося для какого-то светлого торжества. Я и мои близкие сидели на какой-то трибуне у края большой дороги, которая впадала в реку. Я сознавал во сне, что река эта – Ока, и, как это бывает иногда во сне, Ока была в то же время и дорога. Я, с радостью и любовью глядя на народ, говорил себе: «Это русская земля всколыхнулась!» – и весь был полон ожидания чего-то громадного, что должно было совершиться.
Послышался гул множества колоколов, какой бывает в Москве в Пасхальную ночь, и по дороге, которая вместе была и Ока, стал приближаться к нам громадный крестный ход. Небо поднялось как-то выше, и солнце заиграло радостнее. Что-то тянуло меня туда, навстречу этому медленно двигавшемуся ходу, и, выскочив из трибуны, я побежал по дороге, которая была также Ока.
Я миновал кресты, иконы, хоругви и все бежал дальше, туда, где, как я чувствовал, было то самое главное, ради чего собрался весь этот народ, и гудели колокола, и радостнее играло солнце… И вот оно, наконец. По дороге навстречу мне двигалось что-то.
Это было не живой человек и не мощи. Оно было само и имело вид человека, покрытого с головой черными тканями, и какое-то невыразимое обаяние влекло меня к этому явлению, и я чувствовал, что оно – самое дорогое для меня в жизни. Оно приблизилось наконец ко мне, и я упал на колени, прижимаясь лицом к черному покрову, и несказанное блаженство переполнило всю мою душу, и я перестал что-либо сознавать, кроме величайшего и безграничного счастья…
Я забыл тогда же об этом сне и вспомнил его с удивительной ясностью лишь по кончине старца. Не был ли лично для меня этот сон вещий, и не ответил ли он заранее на разные, возникшие потом во мне вопросы…
14 октября я после ранней прогулки ясным прекрасным утром вернулся домой и вошел в столовую, где был приготовлен утренний завтрак для меня одного, так как я должен был отправиться на лекции. Я стал небрежно просматривать газету и уже собирался равнодушно отложить ее в сторону, как мой взгляд в столбце телеграмм был привлечен словом «Калуга».
Я посмотрел на эту депешу, какие-то странные слова кольнули меня в глаза, сперва я не поверил и отвел зрение от этих ужасных кратких строк. Но они были несомненны. Это было известие о кончине о. Амвросия.
Не понимая ничего, с какой-то странной пустотой в голове и груди, я пошел к себе в комнату, держа в руке роковой газетный лист, и долгое время сидел как пришибленный.
На следующее утро при ужаснейшей погоде я выехал на лошадях из Калуги в Оптину. Дул пронзительный ветер, шел не переставая докучный дождь. Ямщики рассказывали, как бились предыдущие дни с лошадьми, которые брались нарасхват вследствие громадного проезда в Оптину.
Под однообразный шум дождя и однообразный всплеск грязи под копытами лошадей я вспоминал всю историю моих отношений к старцу, всякое его слово ко мне. Я знал, что мне не встретить никогда более в жизни подобного человека. Как все сочеталось в нем в изумительной гармонии, чтобы создать неповторяемое явление! Кроме его святости, сколько было в нем чисто человеческих счастливых свойств! Его прекрасная, утешительная внешность, доброта и ласковость его взгляда, прелесть его улыбки, задушевность, общительность, сердечность его обхождения, его привлекательнейший характер – все это еще возвышало неотразимое впечатление, которое производила его личность.
Вокруг меня была коренная Россия – безграничный горизонт, щетины сжатых полей, серые деревни, белые храмы, и я чувствовал, как сливался простой правдивый образ старца с фоном этой русской природы.
Когда мы подъезжали к Оптиной, нам стали попадаться телеги с сидящими на них монахами; эти безмолвные черные фигуры были живым олицетворением безутешной скорби.
Вот уже и место оптинского парома, где теперь наведен мост, еле выдержавший накануне тяжесть многочисленной толпы. Быстро я занял номер и, узнав, где похоронен старец, пошел в монастырь.
Сбоку больших памятников старцев Льва и Макария была разрыта земля, возвышался небольшой, неправильной формы холмик, и на нем, в мягкой, не улежавшейся еще земле, стояло небольшое распятие с горящей лампадой. Там лежал он, отдыхая после полувека неустанного труда.
Я знал, что иду к могиле, но все же вид свежего надгробия изумил и поразил меня.
От могилы старца я пошел к монастырскому благочинному. Там услышал я много подробностей о последних днях старца.
Между прочим, у благочинного я встретился со скитским монахом о. Иоилом, жившим по хозяйственным делам в Шамордине во время пребывания там старца и ходившим за старцем в последнее время.
Он рассказал, что как-то перед болезнью старец сделал ему легкий выговор по случаю какого-то недоразумения. В один из последних дней, когда старец не мог уже говорить, его как-то раз подняли, и в числе державших его был о. Иоил. Старец с чрезвычайной лаской посмотрел на него и положил голову ему на плечо, очевидно желая загладить то впечатление, которое в о. Иоиле могло оставить его замечание.
При всей тяжести этой ничем не заполнимой утраты, душа переживала какую-то светлую радость. Конечно, то была радость освободившейся из уз его души, которую он, и теперь, более, чем когда-либо, думавший о своих детях, сообщал им. И позже мне приходилось ощущать эту высокую радость у гроба близких, много в жизни пострадавших, праведно живших и с великими упованиями отошедших людей.
Невыразимо прекрасны были эти дни. От его могилы тихо побредешь в скит, точно еще полный его присутствием. И живое чувство вечности возбуждают устремившиеся к нему громадные сосны векового бора, обхватившего скит, и, прислушиваясь к их шепоту, так и кажется, что каждая из них, как добрый инок, творит не переставая Иисусову молитву.
А в ските, где каждое дерево разубрано серебристым морозом, сколько бесконечных о нем разговоров и воспоминаний. И казалось в эти часы, что и сам ушел со старцем с земли и витаешь где-то близко к нему в блаженных областях духа.
На возвратном пути я заехал в Шамордино и попал ко всенощной.
Я спокойно стоял в полуосвещенной церкви, как ко мне подошла одна знакомая монахиня и сказала: «Смотрю на вас и спрашиваю себя: вы ли это или ваша тень? Помните ваш спор со старцем, что вы долго не будете в Шамордине?»
Тут только вспомнил я об этом моем споре и о том, как сбылись надо мной его слова: «А вот будет причина, и очень даже скоро сюда приедешь».
В ночь на 19 октября выезжал я из Шамордина, чтобы захватить в Калуге утренний поезд на Москву, так как к вечеру мне неотложно нужно было поехать домой.
Морозило. Проезжая за Перемышлем на пароме Оку, я сквозь дремоту и из-под поднятого верха смутно слышал, как тяжело замерзавшая плотная вода ударяется о дно парома. Когда мы ранним утром подъехали вторично к Оке перед самой Калугой, оказалось, что речка только что стала и переправиться нельзя.
Я ужасно волновался.
В часе езды был желанный поезд, а тут приходилось беспомощно ждать неизвестно чего. Тщетно я предлагал бывшим на берегу людям, чтоб меня перевели через реку, настилая доски. Никто не брался. Тогда мысленно я обратился с просьбой о помощи к почившему старцу.
Вскоре после того прибежали мне сказать, что есть место, по которому можно пробиться в лодке. И я поспел на поезд.
Заключение
Старец ушел, оставив по себе лучезарное воспоминание.
Много было писано о нем с тех пор, печатались заявления о загробной его помощи людям, помещались его многочисленные письма.
И образ его двоится во мне. Я вижу в лучах вечного света великого печальника народа русского. И вижу ласкового, тихого человека, в мягоньком тепленьком подряснике и мягкой камилавочке, любовно толкующего со мной о моих делах.
Когда мне – всего три-четыре раза после того – приходилось видать его во сне, я просыпался всегда с чувством величайшего счастья.
В год его смерти я говел на Введение, забыв, что этот день я считаю днем его рождения.
Ночью на этот праздник я видел, что стою перед чашею у открытых царских врат, а у алтаря, лицом ко мне, в золотых ризах и золотой шапочке, стоит он, сияя светом.
Создание его, Шамордино, процвело. И я имел радость быть на освящении великолепного и громадного его собора, воздвигнутого усердием москвичей-супругов И. С. и А. Я. Перловых.
Заканчивая речь об этом великом человеке, я спрашиваю себя: действительно ли я пережил все это – от первой с ним встречи, дней общения с ним до сложных чувств горя и радости у свежего холма над его гробом, – или все это была лишь светлая мечта, счастливый и неисполнимый сон выше и лучше действительности?..
Об авторе
«И дай жить так, чтобы я мог по праву называться Божиим воином»
«Как счастливы те, чья душа почувствовала Бога с первых лет жизни и Ему поклонилась. Как счастливы те, в которых вера росла вместе с их собственным ростом, которые в юности верили горячей и сильней, чем в детстве; в зрелые годы горячей и сильней, чем в юности; в старые годы горячей, чем в зрелые годы.
…Мы были воспитаны верующими людьми».
Эти слова, сказанные писателем Евгением Николаевичем Погожевым, публиковавшимся под псевдонимом Поселянин, могут быть в полной мере отнесены к нему самому.
Он родился 21 апреля (3 мая) 1870 г. в Москве, в семье известного врача-терапевта Николая Александровича и Лидии Николаевны Погожевых и воспитан был в благочестивых традициях церковной Москвы. «Как во всех старинных русских семьях, вера пришла к нам от предков… С раннего детства я помню Троицкую лавру и другие монастыри, и раньше семи лет знал наизусть много молитв».
Но не система воспитания, а непредвиденные, случайные обстоятельства, устраиваемые Божиим Промыслом, укрепляют в сердце непосредственность и теплоту веры, которых уже впоследствии ничем не изгладить. «Когда я себя еще очень мало помню, Рождество представлялось мне каким-то особенным временем наплыва сладких вещей. Потом я стал помнить торжественную всенощную, громкое пение, тяжелые паникадила в огнях, тяжелые золотые ризы, клубы ладана, расстилающиеся в храме, и над всем этим мысль о Младенце, Который только что родился и Который есть Бог».
Однажды в иллюстрированных изданиях он нашел картинку, чрезвычайно его захватившую. Она изображала митрополита Филиппа, отказывающего в благословении Иоанну Грозному. «Доселе я живо помню несколько размазанный черный рисунок: Филиппа, не сводящего строгого взора с лика Спасителя, царя, гневно пред ним стоящего, толпу опричников. Не знаю, кто мне объяснил содержание картинки, но подвиг Филиппа возбудил во мне необыкновенный, хотя и мальчишеский, восторг. Я никому не рассказывал о том, что пережил, но несколько дней ходил, все думая о Филиппе».
Первые впечатления от духовного образа преподобного Сергия Радонежского: одинокие годы в лесу, маленький монастырек, беспрестанная работа и молитва, посещение Божией Матери, чудеса; слышанные им рассказы об отце Серафиме Саровском; несколько вырванных из какой-то книги листов о первоначальных подвижниках Киево-Печерской лавры и особенно о преподобном Феодосии, где буквы рассказа превращались для него в картины, и он ясно видел преподобного маленьким, пекущим просфоры или надевающим на себя потихоньку от матери вериги… Все это производило на него неизгладимое впечатление.
Евгений учился в 1-й Московской гимназии (1879–1888), был первым учеником в своем классе. Но вот кончилась суровая пора воспитания, ему минуло 18 лет, университет ожидал его осенью, а среди лета он попал в Оптину пустынь. И это событие определило его дальнейшую жизнь.
В Оптину его пригласили поехать, как в интересное путешествие, а заодно посетить знаменитого старца, прозорливого, перед которым надо встать на колени.
Это привело его в негодование: «Дело в том, что монахи составляли мое больное место. Насколько я любил древних, известных мне из книг иноков, и внутренне восторгался ими, настолько я возмущался теми недочетами в современных монастырях, которые я замечал сам или о которых слыхал. Я был настроен против монахов. А относительно неизвестного мне Оптинского старца, о котором и услыхал-то в первый раз, во мне была какая-то злоба, странная по своему напряжению».
Около полуночи Евгений и его спутники оказались на берегу полноводной в том месте Жиздры. «И пока на окрик ямщика нам подают паром, я смотрю на стоящую сейчас тут, за рекой, на холме, Оптину. Огней нет. Ее жизнь спит – недоступная и тайная. А сама она, резко выступая на черной стене охватившего ее со всех сторон бора, вся белая-белая, какая-то тонкая и высокая, подымается, точно уносясь в небо».
Монастырь и монахи поразили его. «На меня произвел впечатление незнакомый мне доселе смиренный вид монахов и то воодушевление, с каким хор, сойдя с двух клиросов на середину церкви, пел стихиры, возглашаемые канонархом. И в выражении лиц, и в силе пения ясно было видно проникавшее их религиозное убеждение. Вместо мягких нарядных риз и раздушенных волос, вместо гордо поднятых голов, я видел толстую грубую одежду и все покрывавшую простоту: походка была смиренная; при встрече со всяким низкий поклон, на лицах выражение чистоты и безмятежия. Сознавшись перед собой, что они хороши, очень хороши, я вдруг понял вместе с тем, какую страшно трудную жизнь они ведут, и это было разом и обличение моей широкой жизни, и такою стихией, которая вдруг могла бы втянуть меня в себя, а меня так манил мир».
Не сразу принял их Старец: он часто отстранял от себя людей, которые приезжали высмотреть, что он такое, или приближались с полным равнодушием, для соблюдения приличия, или с осуждением. И только когда отец Амвросий вышел из келий и ходил по скиту, они смогли подойти к нему. Он молча благословил их и пошел дальше, а Евгений напряженно смотрел за Старцем, стараясь не пропустить ни одного его шага, вслушиваясь в его беседы с подходившими к нему. «Обаяние шло на меня от встречи Старца с рабочим, направленным вместо Одессы в Воронеж, с мужиками, за многие сотни верст принесшими ему от своего усердия лапти. Наносные умствования и непростота, которая, извращая меня, мешала мне быть собою, исчезла вдруг, рассеялась бесследно, мне было радостно и тепло, и я чувствовал, что правдиво, хорошо и ценно то, что происходит предо мною». Старец еще раз поговорил с ним, благословил заниматься юридическими науками. «Меня покорила его святость, которую я чувствовал, не разбирая, в чем она. Я понял, что здесь учат людей жить хорошо, то есть счастливо, и здесь помогают людям нести выпадающие им тягости жизни, в чем бы они ни состояли».
Прошел год, и Евгений снова приехал в Оптину, чтобы исповедоваться отцу Амвросию и о многом-многом поговорить с ним. «Начнешь говорить – и как говорится! Лучше и понятней, чем самому с собой. Он как старый друг, изучивший вас вдоль и поперек, знающий с детства всю вашу жизнь и понимающий вас потому всякую минуту и с полуслова».
Мало-помалу он совершенно свыкся с тем, чтобы ничего важного не делать, не спросясь наперед Старца.
Уже на последнем курсе, получив от К. Н. Леонтьева известие, что Старец сильно ослабел, он поехал в Шамордино к отцу Амвросию, где и произошла их последняя встреча. Позже он с сердечной теплотой писал о своем наставнике: «Какое чудо души переживалось, когда вы станете перед этим человеком сразу согретый, просветленный шедшими от него лучами благодати».
5 июня 1900 г. в летописи скита, которую в то время вел рясофорный монах Павел Плиханков (будущий старец Варсонофий), записано: «Сегодня прислан отцу игумену Ксенофонту «Троицкий листок» об отце Амвросии, составленный одним из духовных сыновей старца, Евгением Николаевичем Погожевым, помещающим свои статьи в разных духовных журналах под псевдонимом Поселянин. Погожев глубоко верно обрисовал духовный образ старца и его служение православному русскому народу».
А 16 июля сделана запись: «Сегодня посетил Оптину пустынь известный духовный писатель Евгений Николаевич Погожев, пишущий под псевдонимом Поселянин. Был у начальника скита и у рясофорного монаха отца Павла. Сегодня же отправился в Москву. Е. Н. Погожев был одним из преданнейших духовных сыновей отца Амвросия и поместил в «Душеполезном чтении» за 1892–1895 гг. несколько статей о жизни старца. Кроме того, г-н Погожев издал отдельную брошюру в 1898 г., в которой описал Оптину пустынь с самой лучшей стороны в отношении как внешнего, так особенно внутреннего ее благоустройства».
Евгений Николаевич никогда не забывал Оптиной, об одном из его приездов в середине 1890-х гг. вспоминал старец Варсонофий: «Был он у нас в скиту за трапезой… Я сидел в уголке около портрета о. Паисия Величковского, а он сидел на первом месте около иеромонаха. Я залюбовался им. Не подумайте, что говорю про телесную красоту, нет, я говорю про внутреннюю красоту, которая выступала наружу в выражении его лица и даже во всех его движениях. Было лето, окна в трапезной были раскрыты. Он сидел как раз перед окном, спиной к читающему. Помню, подали уже второе блюдо или третье, он съел две-три ложки и, положив ложку, устремил свой взор в окно, и чувствуется мне, что смотрит он на храм, на чудные сосны, затем поднимает глаза еще выше в голубые небеса с мыслью о великом и бесконечном Боге. «Господи, – думаю я, – какой же должен быть внутренний мир этого человека?!» И до сих пор я уже знал его по его сочинениям, а тогда я просто полюбил его. Я попросил у о. Иосифа благословения познакомить меня с ним. О. Иосиф прислал его ко мне в келию, и там была у нас беседа».
Позже старец Варсонофий поддерживал труды Поселянина во славу Православной Церкви и говорил, что он «художник в душе, и это отражается в его литературных произведениях».
А Евгений Николаевич высоко отзывался о монашестве. Он писал: «Монашество есть та отдушина, через которую смотрится в небо жаждущее этого неба человечество».
Творчество Е. Поселянина, начавшееся по благословению преподобного Амвросия, продолжалось более четверти века и оставило видный след в церковно-просветительской литературе. Книги и статьи его проникнуты теплым религиозным чувством. Они свидетельствовали изнеженному удобствами жизни, охладевшему в вере, увлеченному решением социальных и политических вопросов человечеству второй половины XIX и начала XX столетий о высоких и истинных началах жизни, к которой призывает Господь.
Он много ездил по святым местам России, собирая материал о забытых праведниках и преданиях. Из этих поездок и бесед он вынес твердое мнение: «Русская душа, несомненно, носит на себе предпочтительно пред людьми других народов печать какой-то особенной помазанности, какого-то избрания, какой-то ярко выраженной небесности…»
Самыми первыми трудами Евгения Поселянина была публикация «Перед годовщиной 17 октября в Москве» (1889 г.), посвященная крушению царского поезда в Борках, близ Харькова, и чудесному спасению государя Александра III и его семьи, и книги «Ясные дни» и «Повесть о том, как чудом Божиим строилась Русская земля» (1892 г.). Эти первые беллетристические опыты поддерживал вел. кн. Константин Константинович, стяжавший известность в литературе под псевдонимом К.Р.
Большую часть своих работ он посвятил жизнеописаниям святых угодников и подвижников благочестия: «Пустыня. Очерки из жизни древних подвижников», «Собор московских чудотворцев», «Святыни земли Русской. С описанием жизни и подвигов святых и знамений, бывших от чудотворных икон», «Преподобный Серафим Саровский чудотворец», «Русские праведники последних времен», «Святая юность. Рассказы о святых детях и о детстве и отрочестве святых», «Иосаф царевич», «Под благодатным небом. Один за всех (о преп. Сергии Радонежском)», «Власть духовная и власть мирская» (о митрополите Арсении Мацеевиче).
Евгений Поселянин умел показать своим современникам нетленную красоту подвига святых: «Кому приходилось испытывать то необыкновенное впечатление, какое переживаешь, когда вдруг до души, измученной житейской тревогой, издали донесутся тихие, бесстрастные, отрадные и счастливо спокойные, как вечность, звуки церковного песнопения, тот поймет, что подобное впечатление испытываешь и тогда, когда после долгого забвения высших интересов души, долгого периода, во время которого уста от полноты сердца не шептали молитвы, – развернутся вдруг перед глазами правдивые сказания о подвигах былых людей христианства, тех вольных мучеников, которые с такой последовательностью стремились взять и взяли от жизни лишь одну духовную ее сторону. Какой бы пропастью ни была отделена наша беззаконная жизнь от их светлых «житий», но раз мы вызываем внутри себя те сокровища, то лучшее содержание нашей души, которое отчасти раскрадено, отчасти затоптано гнетом жизни, но ростки, которого не погибают в человеке совершенно, пока он дышит, – как этой лучшей стороной нашего существа мы и поймем этих дальних и странных людей… Прекрасны они цельностью своих могучих характеров, той великой сосредоточенностью, с какой провели свой земной век, не отходя от ног Христа Учителя, слушая Слово Его».
Поселянин дружил и переписывался с философами П. Е. Астафьевым, К. Н. Леонтьевым и В. В. Розановым. Знал и ценил писателя и критика Ю. Н. Говоруху-Отрока, педагога С. А. Рачинского. Вместе с профессором А. И. Введенским, епископом Вологодским Никоном (Рождественским), В. А. Грингмутом, М. А. Новоселовым участвовал в Москве в собраниях у известного теоретика монархизма Л. А. Тихомирова.
Как православный христианин, с детства знавший великую силу веры, молитвы и Церкви, писатель с горечью говорил о состоянии преобладающего большинства тогдашней русской интеллигенции: «Религиозные интересы вовсе изгнаны из быта интеллигенции… и если б отношение общества к религии было только индифферентным! Нет! В нем прямая враждебность». Теряя веру, общество теряло и свои русские свойства, вернуть которые, по его мнению, могли ему только «жизнь в Церкви, воздействие выдающихся произведений русской литературы и соприкосновение с миром простых русских людей».
Немало страниц Поселянин посвятил чтимым на Руси иконам, отечественной церковной истории, православным святыням, укрепляя в русских людях любовь к своей вере и ее традициям. Его книга «Богоматерь. Полное иллюстрированное описание Ее земной жизни и посвященных Ее жизни чудотворных икон» стала лучшей среди всех работ о дорогой сердцу каждого православного человека Пресвятой Деве Богородице. «Восемнадцать с лишком веков от того дня, когда Дева Мария на руках Своего Сына была вознесена к великому Престолу и после жизни несказанной скорби, мук и унижений была коронована на чудное царство небес, – эти восемнадцать веков бессильны были умалить восторг человечества пред тихой святыней Девы Марии. В немногих дошедших до нас отзывах Ее современников слышно безграничное восхищение сердца, слышны чувства, превышающие всякие слова, не умеющие найти достаточных выражений».
Сам Евгений Николаевич особо почитал Иверскую икону Богородицы. «Я помню икону с тех пор, как помню себя… Не было ни одного отъезда из Москвы, ни приезда после долгого отсутствия, когда бы я не стоял перед Иверской иконой».
Преклонялся он и перед современными подвижниками, посвятив, кроме оптинских старцев, вдохновенные строки св. прав. о. Иоанну Кронштадтскому, которого знал весьма хорошо, Матренушке-босоножке из Петербурга, о. Ионе Атаманскому из Одессы, старцу Варнаве из Выксунского монастыря, кн. М. М. Дондуковой-Корсаковой. «Народ льнет к этим славным людям, в которых видит сильный дух, презрение к плоти, свободу от земных условий».
Лучшие произведения Поселянина содержат размышления об истинах веры и опыте жизни в Церкви и нравственно-психологическое обоснование Православия, ибо он старался «в картинах своих из мирской жизни отражать настроение своей верующей христианской души». И эта благочестивая и искренняя душа автора наполняет его книги, в которых прекрасно видно, как любит русский человек своих святых и родное Православие, как велика в нем жажда вечного спасения и святости жизни. «Духовная жажда, жажда чего-то высшего и лучшего, более широкого и более захватывающего, чем земля с ее радостями, жжет народную душу».
Духовно-писательскую деятельность Евгений Поселянин совмещал с государственной службой. В 1893 г. он переселился в Царское Село, а затем в столицу, где стал служить чиновником канцелярии 2-го (крестьянского) департамента. В составе этой канцелярии в 1896 г. он участвовал в коронации Николая II, за что был награжден серебряной медалью. В 1898 г. перешел в комитет по делам печати, числясь по министерству юстиции. В 1903–1904 гг. работал в канцелярии Российской Императорской Академии наук, получив за свою службу ордена свв. Станислава и Анны 3-й степени и чин статского советника. В 1905 г. был призван на военную службу как прапорщик запаса, но в боевых действиях не участвовал. В 1913 г. он поступил чиновником особых поручений Главного управления (позже министерства) землеустройства и земледелия. В том же году ему было поручено сделать «подробное художественное описание с иллюстрациями бывшего в мае 1913 г. Высочайшего путешествия по местностям, связанным с историей воцарения Михаила Феодоровича Романова», в котором он сопровождал Царскую Семью. 1 августа 1913 г. Евгений Николаевич Погожев и его близкие Императорским указом были возведены в потомственное дворянство.
Личная жизнь Поселянина не была счастливой. В 1904 г. он женился на Наталии Яковлевне Грот, дочери известного филолога. Брак оказался непрочным и через полгода распался: между супругами были серьезные разногласия во взглядах.
В мировую войну служил в Военном министерстве, членом Чрезвычайной следственной комиссии, расследовавшей немецкие военные преступления. С фронта он посылал репортажи о подвигах русских солдат, составившие книгу «Из жизни наших героев-воинов».
По его словам, «русский народ поднимался на войну, как на подвиг во имя Христа». Поселянин воспринимал войну, как мировое горе: «Зарево все расширяющейся войны охватило целых девять государств, и еще неизвестно, сколько новых государств в эту войну ввяжется…Необъятная по своему размеру, по численности брошенных в нее армий, она отличается в то же время такими несчастиями, которых раньше не знало человечество. С одной стороны – усовершенствованные орудия и снаряды выхватывают невероятное количество жертв, производят ужаснейшие разрушения в теле тех, которые не убиты сразу. Но бедствия этой войны умножаются еще от бесчеловечности той Австро-Германии, которая эту войну возбудила по безнравственному принципу теории знаменитого железного канцлера, германского князя Бисмарка: «У населения местности враждебной земли должно быть отнято все, ему надо оставить лишь глаза, чтобы оплакивать свои несчастья».
А что сказать о том неизмеримом море людского страдания, которое несет с собой нынешняя беспощадная война потерею своих близких? Теперь есть одна только область, которая смягчает все эти ужасы, которая дает просвет в невыносимой тоске, охватывающей сердце при размышлении о всех погибших, гибнущих и осужденных на гибель в этой войне: эта область – религия.
Именно в эти дни войны, смертельной военной опасности, так ясно чувствует душа, переполненная тревогой за любимых людей, что только Бог может спасти. Именно теперь усугубляются и несутся к небу эти молитвы, суть которых выражается только в нескольких словах: «Оборони, защити, спаси, сохрани».
Несмотря на то, что он много времени и сил отдавал работе в государственных учреждениях, творческий труд для него был главным в жизни. Он активно сотрудничал в журналах «Русский паломник», «Странник», «Миссионерское обозрение», «Душеполезное чтение», «Свет» и других, а также в газетах «Церковные ведомости», «Новое время», «Московские ведомости». Отдельными изданиями выходили книги: «Задушевные беседы», «Герои и подвижники лихолетья XVII в.», «От сердца к сердцу. Из тайны душевной жизни мирянина».
Писатель стал выразительным свидетелем жизни Святой Руси перед ее крушением.
После большевистского переворота Поселянин опубликовал лишь несколько статей: «Луч горнего света (Отец Иоанн Кронштадтский)» и «Святая Русь в изображении русских художников», в дальнейшем возможности для него как церковного писателя практически исчезли. Его литературным занятием было исследование биографии А. С. Пушкина, статья «Отравленный Пушкин» заслужила лестный отзыв академика Кони и других известных пушкиноведов.
С апреля по декабрь 1918 г. Е. Поселянин работал в страховом Обществе; затем сотрудничал в Отделе охраны и учета памятников искусства и старины. Потеряв в 1922 г. работу, давал частные уроки.
Писатель признавал, что политикой никогда не интересовался, отчего его имя не встречается среди участников политических событий и споров начала XX в. По своим воззрениям он был монархистом и патриотом, а о социальных вопросах рассуждал с позиции евангельских заповедей: «Вопиющая несправедливость, когда человеку не доплачивают достойной цены за его труд, и страшная кара постигнет на Страшном суде тех притеснителей, которые выматывают у людей силы, пользуясь их безысходным положением и не платя должного».
В ночь с 11 на 12 апреля 1924 г. он был арестован по обвинению в принадлежности к контрреволюционной организации, а 25 июля постановлением особого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 68 Евгений Поселянин (в деле – Е. Н. Погожев) был выслан на 2 года в д. Гольтявино Приангарского района. В следственном деле имеется характеристика на административно-ссыльного Погожева Евгения Николаевича: «Следуя в ссылку с этапом, последний все время занимался злостной антисоветской агитацией среди ссыльных в пути следования, а также в пересыльных домах заключения… Злостная агитация Погожевым велась не только среди заключенных, но также были попытки разложить своей агитацией сопровождавший этап конвой. Отбывая ссылку в д. Гольтявино, Погожев ведет тесную связь и дружбу с местным попом и населением антисоветского настроения… Одно время, т. е. по прибытии в ссылку в Канский округ, был оставлен для отбытия срока ссылки в г. Канске. Поведение Погожева сразу стало обнаруживать его активность, выражающуюся в скрытой антисоветской агитации, а также в общении такового с группой местных тихоновцев».
После ссылки, срок которой закончился в июле 1926 г., Евгений Поселянин вернулся в город на Неве, проживал недалеко от Преображенского собора, прихожанином которого он был.
С 25 на 26 декабря 1930 г. в Ленинграде были арестованы 13 человек, которых сотрудники ОГПУ объединили как членов кружка Н. М. Рункевич. В обвинительном заключении говорилось: «Под видом богослужения у себя на квартире после закрытия б. Преображенского собора Н. М. Рункевич устраивала собрания, на которых в контрреволюционном разрезе обсуждались текущие события политического дня, читалась контрреволюционная литература и т. п.». В числе 13 арестованных был и Евгений Поселянин. То, что следователи ОГПУ называли контрреволюционной организацией, реально представляло собой регулярное общение единых по вере и убеждениям людей. После закрытия Преображенского собора настоятель храма протоиерей Михаил Тихомиров регулярно совершал на квартире Наталии Михайловны Рункевич богослужения.
Евгений Николаевич был допрошен 29 декабря 1930 г. На предъявленное ему обвинение заявил: «Касаясь своих политических воззрений, должен заметить: гонения советской власти не могли меня как верующего человека радовать. Отсюда и то неприязненное отношение к ней, которое я подчас выражал. Не занимаясь разработкой политическо-экономических дисциплин специально, я преломлял свои политические симпатии сквозь призму религиозных чувствований. Должен заметить, что являюсь большим поклонником митрополита Филарета, а последний говорил, что на земле посланником Бога является царь. Пожалуй, этого заявления достаточно, чтобы определить мое политическое credo».
10 февраля Особый отдел ОГПУ, применив к арестованным ст. 58–11, направил их дело «для внесудебного разбирательства» и ходатайствовал: к гражданину Погожеву Евгению Николаевичу «применить высшую меру социальной защиты – расстрелять». В тот же день тройка утвердила приговор, который был приведен в исполнение 13 февраля 1931 г.
Так сподобился святого мученического венца Евгений Поселянин, бывший верным чадом преподобного Амвросия Оптинского и посвятивший по благословению Старца свою жизнь духовному просвещению народа.
Единственную цель и единственное счастье своей жизни он видел в творении воли Божией, и, несомненно, старец Амвросий указал ему именно то, в чем воля Божия, каким путем ему нужно идти по жизни. Его богатые внутренние силы не остались невостребованными.
Он донес свой крест до конца, прожив жизнь именно так, как просил в молитвенном воздыхании к Господу: «И дай жить так, чтобы я мог по праву называться Божиим воином, а Ты – моим предвечным и чудным Божественным вождем»…
Сделавший немало для своих современников, совершенно забытый, не упоминавшийся ни в учебниках по истории литературы, ни в литературной энциклопедии, Евгений Поселянин удивительно современен и в XXI веке.
Может быть, и упрекнет его строгий критик в том, что он не всегда отделывал свои произведения, отчего в них заметны повторы, риторические штампы и сентиментальные условности. Но тут же и добавит: «в спешке»… Он спешил сказать осуетившемуся человечеству о Боге.
«Какими бы сложными обязанностями ни была заполнена наша жизнь, какое бы количество работы мы ни принуждены были одолевать, нет того человека, который не мог бы устраивать себе ежедневно несколько часов, или даже несколько десятков минут уединенного размышления, сосредоточенного углубления в самого себя.
Бог руками Своими сотворил для нас таинственную клеть, о которой говорит Священное Писание, а мы в эту клеть и не заглядываем.
А какое ждет нас там счастье, какая отрада! Так вот, устережем время и – вдруг войдем в эту клеть, быстро распахнув в нее двери…
И быть может, еще прежде нашего входа, войдет в нее Иной, и мы остановимся в изумлении на пороге ее, так как навстречу нам встанет с улыбкою любви, сочувствия и призыва, протягивая к нам божественные руки, лучезарный Христос…»
Весь его непростой и долгий путь был с ним рядом старец Амвросий. Хорошо выбрать в жизни свою святыню и весь земной свой век оставаться ей верным: «Теперь, когда в нашем быту так обострилась борьба за существование, когда, при удорожании жизни, приходится или напрягать все свои силы и изыскивать всяческие способы для того, чтобы иметь достаточно для прожития, или всячески съеживаться и терпеть всевозможные лишения, теперь, когда так часто чувство отчаяния овладевает душой, как важно надежное и постоянное иметь себе прибежище!
И как мудры, и как достойны подражания люди, которые умели устроить себе такие «прибежища».
Долгие месяцы может поддерживать вас, во всевозможных житейских осложнениях и испытаниях, при непосильной почти, напряженной работе, одна лишь счастливая мысль:
«Ничего, через несколько месяцев поеду в тихую Оптину, к могиле старца Амвросия, буду часами стоять за длинными службами, под громкое пение монахов; буду подолгу следить за миганием огоньков в лампадах на могилах Оптинских старцев, буду твердить, не переставая, кроткому, все слышащему старцу Амвросию: «Старец Амвросий, не забывай меня; старец Амвросий, стой предо мною, старец Амвросий, помни меня»…
Евгения Поселянина расстреляли за два дня до Сретения, в тюрьме на Шпалерной улице, и где он погребен – неизвестно…
«И как хотелось бы мне видеть заветную святыню – Иверскую икону Богоматери – в последний день моей жизни и даже умереть пред нею, так, чтобы утешительный лик, столько раз светивший мне, был последнее, что я бы увидел здесь на земле, пред тем, как, Бог даст, увижу я Саму Пречистую, светлую мечту мою, святейшее мое желание там, в вечных обителях…»
Все «тайна – тайна, тишина – тишина».
[1] В словесные науки входили такие дисциплины, как грамматика, риторика, стихотворство. (Прим. ред.)
[2] Старец Илларион Троекуровский, из рязанских крестьян (1774–1863), с юных лет вел строгую жизнь, и на 20-м году, оставив жену, тайно удалился в лесное уединение, где принял на себя почти неимоверные аскетические подвиги, превосходя строгостью жизни наших древних преподобных, спасавшихся в лесных дебрях Русского Севера.
После многих испытаний и странствований Илларион в 1824 г. поселился в келье, построенной для него в имении Троекурове помещиком Раевским, и последние 20 лет жизни принимал во множестве стекавшийся к нему народ. В нем действовали великие духовные дары.
Почил на 90-м году и погребен в основанной им Троекуровской женской общине. (Прим. авт.)
[3] Умная молитва – это особым молитвенным подвигом приобретаемый дар постоянно действующей в сердце, даже во время сна, молитвы. Этот дар достигается многими подвижниками.
[4] См.: Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1873. Глава V. Влас. (Прим. ред.)
[5] См.: А. К. Толстой. Поэма «Грешница».
[6] Жан-Мартен Шарко (1825–1893) – французский врач-психиатр, учитель З. Фрейда, исследователь истерии, создатель душа Шарко. (Прим. ред.)
[7] Г-жа Ключарева, преданнейшая дочь о. Амвросия. В принадлежавшей ей усадьбе, Шамордине, возникла Амвросийская община.
[8] Троекуров монастырь основан на месте подвигов старца Иллариона, благословившего о. Амвросия на иночество.
[9] Город в Тульской губернии.
[10] Новина – новый урожай, а также продукты нового урожая.
[11] Extemporalia (лат.) – упражнения в переводе с родного языка на греческий или латинский. (Прим. ред.)
[12] «Монах» в переводе с греческого значит «один, уединенный».
[13] Матушки настоятельницы Софьи.
[14] Так называется отдельная келья, может быть, в версте от монастыря.
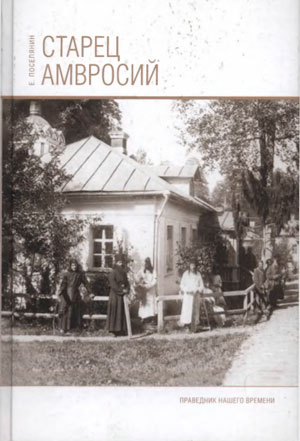
Комментировать