Арсений (Мацеевич), митрополит Ростовский (1697–1772 гг.): эпизод из истории секуляризации церковных имуществ в России
Содержание
I. Русская Церковь в XVI-XVII столетиях.
Русская Церковь в XVII столетии
Русская Церковь в 1727–1731 гг.
Русская Церковь в 1741–1750 гг.
I. Русская Церковь в XVI-XVII столетиях.
[Опубликовано в ежемесячном историческом журнале «Русская старина», том XXIV, 1879 год, апрель, стр.731–752.]*
Во время подчинения русской церкви константинопольскому патриарху и разделения России на отдельные самостоятельные княжества, церковное единство служило важным политическим орудием, «так как светской власти в России в одном лице сосредоточить было нельзя, то отцы собора установили одну духовную», читаем в Синодальном деянии константинопольского патриархата 1389 года. И константинопольские патриархи, противясь всеми способами церковному разделению России, прямо заявили, что им удобнее влиять на её дела «через одного человека».1 Митрополиты-греки, в свою очередь, стремились во что бы то ни стало поддерживать этот порядок, так как с ним соединялись не только известные политические выгоды, но и значение их собственной власти. И в то время, когда уже совершалось такое опасное разделение (с появлением двух и даже трех митрополитов), митрополит Фотий налагает запрещение на своего противника и епископов, избравших последнего (в литовской Руси), а в своих окружных посланиях по России прямо заявляет, что единственный источник веры есть константинопольская церковь, изливающая ее на Россию посредством одного митрополита, которому обязаны повиноваться все князья, епископы, духовенство и народ.2 Но стремления византийских патриархов не ограничивались одними церковными интересами. Опираясь на свои духовные права, они заявляют притязание на подчинение русских3 князей авторитету императоров. Понятно, что с падением этого влияния и утверждением в России власти московского государя, единство церковной иерархии становилось не менее важною опорою для последнего. В то же время в Москве утверждается сознание о переходе на московского государя прав византийской монархии4, а признание царского титула за Иваном IV собором восточного духовенства, поставленное в тесную связь с кровными отношениями русских князей к византийским императорам, являлось только необходимым, заключительным актом давно сложившихся исторических преданий.5 Иван IV хотел венчаться таким же чином, каким венчались цесари римские от папы и патриархов. Перед ним рисовались образы Августа, Константина Великого и Феодосия; он связывал свое царское происхождение с римскою империею посредством особенной генеалогии (называя Рюрика потомком Прусса, брата императора Августа.6 При нем был сделан перевод сочинения Светония о римских цезарях, он хотел иметь перевод римской истории Тита Ливия и кодекса Юстиниана.7 Отношения Ивана IV к представителям духовной власти показывают, что и здесь он шел по следам тех же образцов. «Священство не должно вмешиваться в царские дела, – говорит он, – дело монахов – молчание; иное правление царей и иное святителей». Библейскими примерами он доказывает своему противнику, что как только власть доставалась в руки жреца или священника – царство приходило в упадок. «Или ты хочешь того же, что случилось с Грецией, подчинившейся игу турок?» – спрашивает он Курбского и заключает: «Нет царства, которое не раззорилось бы будучи в обладании попов».8 Требования новых отношений были намечены ясно. Но в правление слабого преемника Ивана IV духовная иерархия в московском государстве сделала дальнейший шаг вперед. Учреждение патриаршества должно было удовлетворить те умы, которые видели в Москве преемниницу Византии (третий Рим), утратившей уже прежнее значение духовного авторитета, как вследствие открытых попыток к унии с западною церковью, так и вследствие подчинения византийской церкви игу неверных. Между тем патриарх «всея Руси» снова представлялся объединителем разделенной церкви и получал таким образом политическое значение, которым не преминули воспользоваться московские государи. Смутное время выдвинуло на первый план представителя духовной власти; но его значение еще более возрасло в глазах общества, когда сан патриарха был предоставлен отцу Михаила Федоровича. Филарет носил титул «великого государя» и назывался «соправителем». Он принимал постоянное участие во внутреннем управлении и в делах внешних. Он присутствовал на аудиенциях иностранных послов; его придворный штат, по своему блеску, не уступал царскому; он владел несудимою грамотою, по которой все лица, принадлежавшие к патриаршей области, были освобождены от казенных повинностей, а в судебном отношении (кроме уголовных преступлений) и в делах управления подчинены суду и власти патриарха. С этою целью при патриархе Филарете было учреждено несколько патриарших приказов.9 Таким образом деятельность патриарха получила вполне независимый характер. Современники о нем говорят, что он не только слово Божие исправлял, но и земскими делами всеми правил; при нем никого не было сильных, кроме самих государей. И хотя он был милостив к духовному сану, многих от насилия освободил, жаловал и защищал тех, кто верно служил государю в безгосударное время и был обижен потом; но, в то же время, многих бояр и всякого чина людей из царского синклита томил заточениями необратными и разными наказаниями; нравом был мнителен и опальчив, и такой владетельный, что и сам царь его боялся; одним словом, всеми царскими и ратными делами владел.10 Таким образом, политическое значение представителя церкви должно было высоко подняться в глазах общества.
Русская Церковь в XVII столетии
«Тишайший» из царей, Алексей Михайлович, перед патриархом Иосифом кланялся до земли и однажды поцеловал его даже в ногу, как сам заявляет в письме в новгородскому митрополиту (потом патриарху) Никону.11 Письмо царя Алексея к последнему, по поводу смерти патриарха Иосифа, лучше всего характеризует нам отношения, существовавшие между царем и патриархом. «С тех пор, – пишет Алексей Михайлович, – все переменилось, не только в церквах, но и во всем государстве; худо без пастыря детям жить»; а когда доложили царю и его приближенным (в церкви) о смерти патриарха, то, говорит он, «на нас такой страх и ужас напал, что едва петь могли, а в соборе, у певчих и властей, со страха и ужаса, ноги подломились, ибо кто преставился? Как овцы без пастуха не знают куда деваться, так и мы теперь, грешные, не знаем, где головы преклонить: прежнего отца и пастыря лишились, а нового нет... И погребли мы его в великую субботу, надсевшись от плача»... Алексей Михайлович уверяет будущего патриарха, что и на уме у него не было устранять Иосифа, и даже подумать об этом ему было страшно: «прости, святый владыка, – прибавляет он, – хотя бы и еретичества держался, то как мне отставить его без вашего собора».12 Для Никона это признание было весьма важно... Это письмо, по справедливому замечанию С.М. Соловьева, лучше всего объясняет явление Никона, ибо одного характера последнего недостаточно для объяснения тех отношений, в какие он поставил себя к государю и государству. Чувства, высказанные царем Алексеем Михайловичем, переносят нас в то время, когда на Западе утверждалась власть папская, укоренившаяся преимущественно, вследствие характера западных вождей, незнакомых с государственными преданиями Византии, которые, при всей религиозности императоров, не давали им забывать о своем значении относительно представителей церкви.13 В XVII веке действительно слагается мнение, что патриарх есть второй царь, первого царя больший, полным выразителем которого является Никон.14 Еще до своего патриаршества, пользуясь неограниченным влиянием на царя, Никон успел уговорить последнего сделать торжественное перенесение в Успенский собор мощей патриархов Иова и Гермогена и митрополита Филиппа. Ссылаясь при этом на пример византийского императора Феодосия, который, по преданию, посылая за мощами Иоанна Златоустого, обращался с молитвенною грамотою к оскорбленному его матерью святому, Никон убедил и царя отправить с ним в Соловецкий монастырь такую же грамоту к митрополиту Филиппу, в которой царь умоляет последнего разрешить его прадеду Иоанну «согрешение, нанесенное нерассудно завистию и неудержанием ярости», причем преклоняет пред ним сан царский за прадеда своего, «согрешившего и покаявшагося тогда»15; а спустя год, в Успенском соборе, при мощах того же Филиппа, после отказа Никона принять патриаршество, царь Алексей Михайлович, «простершись на земле и проливая слезы со всеми окружающими», умолял Никона не отрекаться от избрания, и Никон согласился, – под условием, что все будут почитать его как начальника и отца, дадут ему устроить церковь по его намерению и будут послушные ему во всем.16 Услуги, оказанные духовенством в смутное время, не могли быть забыты. Но, уже в начале царствования Алексея Михайловича, служилые люди и выборные от всей земли подали протест о возвращении вотчин, приобретенных духовенством после запретительного указа 1580 г., с тем, чтобы они были розданы служилым людям, и правительство распорядилось собрать сведения о таких вотчинах. И в царствование Алексея были сделаны существенные ограничения имущественных прав высшей иерархии, монастырей и духовенства.17 С другой стороны, уложение 1648 года стремилось установить «равный суд» для всех гражданских дел, не исключая и духовенства, подчиненного монастырскому приказу, в котором рядом с духовными заседали и светские лица, постепенно вытесняющие первых. Духовенство утрачивает свои судебные привилегии и подчиняется надзору воевод.18 Но тот же царь Алексей Михайлович вынужден был делать уступки и в пользу монастырских имуществ, и в пользу духовного суда. Есть известие, что уже в 1654 г. он разослал по всем воеводам выписки из греческого Номоканона и велел судить по ним уголовные дела.19 Эта мера совпадает с временем наибольшей силы патриарха Никона, когда сам царь находился в походе против Польши, а Никону был поручен высший надзор за управлением. И сам Никон много раз «докучал» царю, чтобы он «искоренил проклятую книгу» – уложение20, а, по словам его биографа, он даже не допускал судить духовных лиц в других приказах. «Гражданское законодательство, – по мнению Никона, – должно всегда согласоваться с Божественными законами, так как суд в своем начале есть суд Божий, а не царский: он предан людям не человеком, но самим Богом, и ложных законодателей всегда постигает кара свыше (примеры из Священного Писания). Правда, цари нередко преследовали посланников Божиих (Ирод, Нерон), но за то их царства погибли и запустели. И разве не сбылось то же самое на нас? Все города Московского государства постигла моровая язва; сердце царя смутилось; царское семейство не знало куда бежать. Господь обратил Москву и окрестные города в пустыню; души грешников погибли; ад отверз свои уста; множество славных, богатых и нищих приняли смерть. Так покарал Бог мести за неправду и беззаконие»... Представление о духовенстве у Никона сливается с понятием о церкви, а поэтому духовенство должно занимать в государстве господствующее положение. Оно должно быть поставлено вне государственной зависимости. «Подчинение духовенства ведению разных приказов, – говорит Никон, – есть дело противное евангельским, апостольским и отеческим правилам, так как духовные лица должны быть наставниками, которым обязаны все повиноваться. Они не могут подлежать и суду монастырского приказа, так как и там заседают светские лица. Равный суд, объявленный уложением, ведет к тому, что духовенство должно подлежать и тем наказаниям, которые определены для прочих лиц... но, за такой суд, каждый из подсудимых, будет ли то патриарх, митрополит, архиепископ, епископ, игумен, священник и до последнего причетника, должен попрать закон, как древние мученики, храбро и мужественно боровшиеся против языческого закона. Где написано, чтобы царям, князьям, боярам, дьякам, судьям судить патриарха, митрополитов, епископов, игуменов, попов, причетников? Бог грозно карает за посягательство на духовный чин (Саул, Иозия, Мануил, Комнен). Царь имеет власть над мирскими людьми, а духовные подлежат суду Божию, который должен быть в руках патриарха. И всякий мирянин, который ввергает епископа в темницу, или бьет его, или вымышляет на него вину, да будет отлучен».21
Относительно церковных имуществ Никон пишет: «Священническая часть – Божия часть, и потому отнятие у духовенства пожертвованных вещей и имуществ равняется похищению наследства Божия... За вмешательство Дафана и Авирона в дела скинии, их пожрала земля, потому что они не принадлежали к левитам; царь Иозия простер руку на кивот завета – и был поражен свыше. Так бывает и со всеми, кто посягает на принадлежность церкви: патриарших, епископских и монастырских слобод мало взяли, а больше погубили своих; взяли тысячи, а погубили тьмы, то от междоусобий и мора, то от войн и других бедствий. Царь может входить в алтарь, когда он приносит дары Богу, а наш царь не только не делает этого, но даже отнимает у церкви ей принадлежащее».22 В сознании превосходства своей власти, Никон пишет, обращаясь к Стрепшеву: «Ты говоришь, что царь вручил нам надзор над церковным судом, – это скверная хула и превосходит гордость денницы; не от царей исходит власть священства, но от священства помазываются на царство; много раз доказано, что священство выше царства... Мы не знаем другого законодателя, кроме Христа. Не давал царь вам права, а похитил наши права, как ты свидетельствуешь, и все дела его беззаконны». На вопрос князя Одоевского: «зачем патриарх дает целовать свою руку по царски?» – Никон отвечал: «Да почто царь поповы руки целует, которые нами посвящены, и, ко благословению приходя, сам главу свою преклоняет? Мы тому чудимся, почему царь архиереям и иереям нудит руки свои целовать, не будучи архиереем и иереем». Наконец, он дает такое определение светской и духовной власти: «Всемогущий Бог, когда сотворил небо и землю, тогда повелел светить двум светилам: солнцу и луне, и чрез них показал нам власть архиерейскую и царскую: архиерейская власть сияет днем; власть эта над душами; царская – над предметами видимого мира. Меч царский должен быть готов на неприятелей веры православной; архиереи и духовенство требуют, чтобы их защищали от всякой неправды и насилий, это обязаны делать мирские люди. Миряне нуждаются в духовных для душевного спасения; духовные нуждаются в мирянах для внешней обороны; в этом власть духовная и светская не выше друг друга, но каждая происходит от Бога».23
Таким образом Никон отводит светской власти и внешнему миру исключительно служебное значение; но нельзя не обратить внимания, что некоторые места этой тирады прямо напоминают нам «классическое» определение отношений светской и духовной власти, сделанное Григорием VII Гильдебрандом в письме его к Вильгельму Завоевателю. «Мир физический, – пишет он, – освещается двумя светилами, более значительными, чем другия, – солнцем и луною: в нравственном порядке вещей папа изображает солнце, а король занимает место луны».24 Без сомнения, источник этого определения у обоих представителей духовной власти, как первого, так и третьего Рима, – один и тот же. Не даром им обоим пришлось вести такую упорную борьбу с представителями светской власти. Не напрасно и Никон так был склонен выдвигать на вид законные и незаконные аттрибуты папского величия. «Ты ко мне прислал выписку из правил, – упрекал Никона Паисий Лигарид, – а в ней написано о папском суде; но ведь это написано в правилах потому, что в то время папы были благочестивые, а после того отпали, и ты не прибавил, что после них вышний суд предан вселенским патриархам», – на что Никон отвечал ему: «Папу за доброе отчего не почитать? Там верховные апостолы Петр и Павел, а он у них служит».25
Уже в печатной Кормчей 1653 г., вышедшей вскоре после возведения Никона в патриархи (1652 г.), встречаются прибавочные статьи «о римском падении» и об «учреждении патриаршества в России»26; но для оценки тенденций Никона еще большее значение должна иметь подложная грамота, данная будто бы Константином Великим папе Сильвестру и известная под именем «вена Константинова», помещенная в той же Кормчей. Грамота эта была составлена с целью подтвердить верховные, светские и церковные, права пап, претендовавших на них, как на Западе, так и на Востоке. В ней предоставляется папе Сильвестру власть выше императорской, дается множество привилегий и обеспечиваются на будущее время имущественные права церкви. По свидетельству этой грамоты, предоставив папе и его преемникам пользоваться принадлежностями царского сана, Константин сам вел коня под папою, уступил ему Италию и переселился в Византию, «так как там, где святительская власть и глава христианства установлены небесным Царем, не достойно иметь власть земному царю».27 Рано став известною в Византии, эта грамота перешла и в Россию. Есть основание полагать, что она была уже представлена в защиту имущественных прав церкви Ивану III, на соборе 1503 г., и самые сильные места в защиту церковных имуществ и суда, помещенные в Стоглаве (гл. 60), также заимствованы из неё. Но впервые в полном виде, в печати, она появилась при Никоне, которому также принадлежат и отдельные списки этой грамоты.28 Все это показывает, как интересовался Никон её доводами, в числе которых было отведено много места и защите первенства престола апостола Петра, одно служение которому в Риме, как видно, смягчало в глазах Никона слишком суровое отношение к папству. Понятно поэтому, как должны были льстить Никону заявления восточных патриархов, бывших в Москве в 1655 г., которые говорили царю: «с нашего соизволения и согласия этот наш брат на место папы римского сделался патриархом московским».29 И в то время, как в южной Руси, под влиянием борьбы православия с католицизмом и протестантской литературы, еще в конце XVI и в начале XVII веков были высказаны возражения против подлинности вена (Фринос, Палинодия, Апокрисис)30, – в московской Руси, благодаря Никону, этот памятник долго сохранял свое значение и выставлялся каждый раз в защиту церковных прав, как только правительство имело намерение ограничить эти последния (при Петре Великом, Екатерине II).31
Русская Церковь при Петре I
Современники по своему понимали стремления Никона, представляя их в более обыденных формах; они заявляли царю, что Никон «возлюбил стоять высоко, ездить широко»; что «это патриарх, правящий вместо Евангелия – бердышами, вместо креста – топорками»32; а падение Никона и его ссылка значительно смягчили отношение к нему власти и подвластных. Но его стремления получили иную оценку, когда престол достался Петру I, которому надолго пришлось установить отношения церкви и государства в России. Из рассказа, приписываемого Петру Великому, можно видеть, как смотрел на причину падения Никона он сам и те, которые сумели понять церковную реформу Петра.33 «Никон, – говорит в нем Петр, – служил и угождал моему родителю, за что и получил от него многочисленные царские милости, но после заразился духом папского властолюбия. Возмнил о себе, что он выше самого государя, да и народ тщился привлечь к сему-ж зловредному мнению, особливо в публичных церемониях».34 Такой же взгляд на Никона высказывает и «птенец» Петровской реформы, историк Татищев. Известно, как строго относится Татищев к древним летописцам и средневековым сказаниям. «Писатель истории, – говорит он, – не стоит веры, если он наполняет свою книгу сверхъестественными делами, баснями и суеверными чудесами, что у древних очень часто находится вместе с действительными происшествиями». Но особенно строго он осуждает за это автора Степенной книги и патриарха Никона, которого он обличает в подделке летописей и исторических сказаний, с целью поднять авторитет духовной власти, в ущерб светской. Татищев того мнения, что у нас некоторые митрополиты и патриархи явно обнаружили стремление приобресть власть над государями35; он указывает на мысль (!) при царе Федоре установить четырех патриархов, а Никону вручить власть папы36, и потому радуется, что Петр Великий рассудил такую великую власть уменьшить и впредь такие опасности пресечь, учредив синод. По мнению Татищева, духовенство не должно вмешиваться в область гражданских дел; оно должно повиноваться светской власти, которой принадлежит право избрания в духовные чины и верховный надзор за духовенством. По его мнению, самое происхождение духовной иерархии коренится в честолюбии и властолюбии духовенства.37 Вот почему он постоянно высказывает крайнюю враждебность к римской церкви и власти папы, которого сравнивает с Далай-Ламою.38 Реформа Петра Великого представляет коренной поворот в отношениях церкви и государства. Если в организации имущественных и судебных прав церкви Петр является продолжателем дела своих предшественников, то в политическом отношении церковь при Петре должна была в значительной степени подчиниться общему направлению его реформы.39 Еще во время первого своего путешествия по Европе, Петр с сочувствием выслушивал советы Вильгельма Оранского – организовать Русскую Церковь на подобие англиканской, а в 1712 году, будучи в Виттенберге, он сказал перед статуею Лютера следующие знаменательные слова: «Сей муж подлинно заслужил это; он на папу и на все его воинство столь мужественно наступал для величайшей пользы своего государя и многих князей, которые были поумнее прочих». И в известных потехах Петра Великого князь-папа и яузский и кокуйский патриарх подвергались одинаковой участи.40 Проникнутый враждою к католицизму и более склонный к протестантским началам, Петр I не мог примириться с единоличным управлением Русской Церкви, а потому придал её администрации такой же коллегиальный характер, какой был дан им и прочим правительственным учреждениям. Но замечательно, что именно в Духовном Регламенте эти начала были развиты им во всей полноте. Сказав, что истина скорее достигается в соборном, а не единоличном правлении; что коллегиум не есть «некая факция, но на добро собранные лица»; что «в коллегиуме таковом нет места пристрастию, коварству и лихоимству»; что «коллегиум свободнейший дух в себе имеет к правосудию и не так, как единоличный правитель, гнева сильных боится»; что «в коллегиуме и сам президент подлежит суду последнего»; наконец, что «в соборном правительстве есть некая школа правления» – Петр I считал необходимым изложить в особой статье всю важность этих начал для церковного управления, при чем критически отнесся к прежнему порядку вещей. «Велико и то, – читаем в ней, – что от соборного правления не опасаться отечеству мятежей и смущения, каковые происходят от единого собственного правителя духовного, ибо простой народ не ведает как разнствует власть духовная от самодержавной; но, великою высочайшего пастыря честию и славою удивляемый, помышляет, что таковой правитель есть вторый государь, самодержцу равносильный, или и больший его, и что духовный чин есть другое и лучшее государство, и так сам собою народ умствовать привык. Что же станется, когда и плевельные властолюбивых духовных разговоры приложатся, и сухому хврастию огнь подложат? Так простые сердца мнением сим развращаются, что не так на самодержца своего, как на верховного пастыря, в коем либо деле смотрят. И когда услышится некая между ними распря, вси духовному более, нежели мирскому правителю, хотя бы и слепо и пребезумно было то, согласуют, и за него поборствовать и бунтоваться дерзают и льстят себе, окаянные, что они по самом Боге поборают, и руки своя не оскверняют, но освящают, хотя бы и на кровопролитие устремились... что же, когда еще и сам пастырь, надменный таковым о себе мнением, спать не захочет? Трудно изречь какое отсюда бедствие бывает!» Сославшись в подтверждение этого на византийскую историю после Юстиниана и на историю папства, Регламент заключает: «Да не вспомянутся подобные и у нас бывшие замахи!».41
Ратуя против многочисленных молений, ложных чудес и чудотворных икон, объявляемых духовенством с корыстною целью, и суеверий вообще, как оставшихся от времен язычества, так и возникших уже на новой почве, против монашества, пользующегося этими средствами для влияния на народ, Петр I следовал тому же рационалистическому направлению, последователем которого является в своей истории Татищев.
Лучшим средством против подобных явлений Регламент считает школы, а проект академии, начертанный в нем, носит на себе вполне светский характер. Но Петр не любил останавливаться на половине пути. Зная прекрасно, какое деятельное участие принимали многие архиереи и духовные лица в таких делах как поведение царицы Евдокии, царевича Алексея и т. п., он старался положить предел этому влиянию. «Ведал бы всякий епископ меру чести своея, – читаем в Регламенте, – и не высоко бы о ней мыслил; дело великое, но честь никаковая, почитай в писаниях, знатная определена... Сеже того ради предлагается, чтобы укротить оную весьма жестокую епископов славу, чтоб оных под руки, пока здравы суть, не водили, и в землю бы оным подручная братия не кланялась. И оные поклонницы самохотно и нахально стелются на землю, да лукаво, чтоб степень исходатайствовать себе недостойный, чтоб так неистовство и воровство свое покрыть (30–31)... Епископам накрепко укажет коллегиум, чтоб они, как анафемы, так и разрешение, не делали ради прибыли своей, или иного какого собственного интереса и искали б в том важном деле не яже своя, но яже Господа Иисуса» (37). Таким же характером проникнуты и те пункты Регламента, которые касаются монашества, как главной опоры духовной власти, богатство и влияние которого были еще прежде значительно ограничены.42 Членами синода могли быть не одни монахи, но и лица белого духовенства; а в присяге они обязывались признавать своим «крайним судиею» императора, «оком» которого являлся в синоде обер-прокурор, определяемый светскою властью. При этом заслуживает внимания взгляд Петра Великого на выбор этого лица. В указе о нем было сказано: «в синод выбрать из офицеров доброго человека, кто бы имел смелость и мог управление дела синодского знать, и быть ему – обер-прокурором». Вслед же за упразднением патриаршества, Петр перестал раздавать архиереям сан митрополита и уничтожил внешние отличия этого сана (как-то: белый клобук и саккос, предоставленный теперь всем епископам). Так систематически были проведены Петром меры, направленные к уничтожению «бывших у нас замахов». Само собою понятно, что вполне окрепшая и успевшая утвердиться в общественном сознании идея не скоро и не легко уступила свое место новым взглядам. Мысль о возможности возвращения к прежнему порядку восстановления патриаршества не раз возникает в умах людей ХVIII века, но замечательно, что первою жертвою этих стремлений является вице-президент синода, архиепископ Новгородский Феодосий Яновский, возвышенный в этот сан самим Петром за свой свободный взгляд на многие религиозные вопросы и, по-видимому, обладавший характером, чтоб провести в жизнь эти взгляды.43 Царевич Алексей о нем выражался, что он разрешил его отцу «на вся». Но Феодосий, как и большая часть выходцев из южной России, не оправдал надежд преобразователя. При жизни его, Феодосий умел сдерживать свой нрав; но уже в царствование Екатерины I, за свои нападки на церковные реформы и отношения светской власти к архиереям, был лишен сана и сослан в Корельский монастырь.44
Русская Церковь в 1727–1731 гг.
Таким образом, истинным блюстителем реформы Петра в синоде до самой смерти (1736 г.) оставался один Феофан Прокопович. Между тем, то было время, когда отношения правительства к церкви менялись сообразно с переменою лиц, стоявших во главе управления. Царствование Петра II, благоприятное старине, когда преследовалось все враждебное имени царевича Алексея (как «Правда воли монаршей») и покровительствовалось то, что прежде подвергалось осуждению (так, в 1728 г., был издан «Камень веры» Стефана Яворского, членом синода Феофилактом Лопатинским), казалось вполне удобным для восстановления прежнего церковного порядка. Так, один из членов синода, ростовский архиепископ Георгий Дашков, заявивший себя уже при Екатерине I защитою церковных имуществ, поднял теперь вопрос о восстановлении патриаршества. Будучи дворянского происхождения и опираясь на сильную партию вельмож, он сам мечтал достигнуть этого сана; но встретил отпор со стороны того же Феофана. Говорят, что из верховного совета был послан уже запрос в синод: «можно ли в нынешнее время быть в российской церкви патриарху?» – на который Феофан отвечал решительным отказом.45 Впрочем, вскоре по смерти Петра I, членам синода удалось вытеснить оттуда лиц низшей духовной иерархии, которые снова вошли в него только в царствование Анны Ивановны, когда Феофан, благодаря своим близким отношениям к императрице и дружбе с Бироном и Остерманом, снова достиг полного влияния на церковные дела, стоившего, впрочем, ему многих жертв. В многочисленных розысках, которыми открывается и наполняется царствование Анны Ивановны, пали: Георгий Дашков, Лев Юрлов (епископ Воронежский), Игнатий Смола (митрополит Коломенский), Сильвестр (митрополит Казанский), Варлаам Ванатович (архиепископ Киевский), Феофилакт Лопатинский. Все эти лица, лишенные своих санов и прав, были заточены в крепкие казематы или сосланы в отдаленные монастыри. Не упоминаем о лицах из низшей иерархии, замешанных в эти и другие процессы, которых постигла подобная или даже более тяжелая участь.46 Понятно, что в такое время, когда неслужение молебнов в царские дни или отправление служб в несоответственных одеждах – могли навлечь церковному клиру допросы в тайной канцелярии, лишение сана и ссылку; когда полемика против протестантизма могла быть сочтена за нападение на грозного любимца императрицы и его клевретов, – в такое время немыслимы были какие либо проекты и реформы церкви в духе, желательном для её представителей.47 Сообразно с политическими переменами менялись и имущественные права иерархии. Коллегия экономии, учрежденная Екатериною I, вскоре напомнила монастырский приказ Петра Великого, началам которого секуляризации церковных имуществ следовала его преемница; при Петре II не раз делались отступления в пользу духовенства; но императрица Анна снова возвратилась к тому же порядку. Рассылка в монастыри инвалидов, вдов, умалишенных, больных – производилась в громадных размерах; запрещение постригать вновь и расстрижение неправильно постриженных привели некоторые монастыри в полное запустение; разбор же лиц духовного звания в солдаты производился так усердно, что, в 1740 г., в четырех епархиях множество (182) церквей оставалось совсем без причта. Между тем, страшная доимочная канцелярия не пощадила и церковных вотчин, доходы с которых обыкновенно назначались в разные государственные и придворные нужды, как заказ ружей в Туле, устройство конских заводов и т. п.48
Русская Церковь в 1741–1750 гг.
Понятно, как должно было встретить духовенство вступление на престол Елисаветы Петровны, с именем которой соединялось восстановление национального правительства и попранных прав церкви. Проповедники спешили приветствовать новую императрицу, как освободительницу от ига египетского, как русскую Юдифь, Есфирь или Пульхерию, и открыто делали намеки на два предшествовавшие правления, когда в правительстве господствовали иноверцы, немцы, стремившиеся, под видом суеверия, искоренить православие, преследовавшие духовенство, множество невинных жертв которого было сослано в Сибирь, Оренбург и Камчатку, думавшие завести свою беспоповщину. Они покровительствовали только своим, иностранцам, люторам и кальвинам... «Узнали враги наши, – говорит один из этих ораторов, – что им не трудно священника, или монаха, или простого человека, как мушку задавить, принялися они и за великих лиц, а паче которых ведали благочестия защитников, многия знатные фамилии до конца истребили, многих честных, верных слуг в тяжких заточениях, темницах поморили, многим головы поотрубили, языки порезали». Некоторые виновниками во всем этом прямо называли Остермана и Миниха с их «стадищем», судьба которых решилась в царствование Елисаветы; но они не всегда упоминали о Бироне, которому императрица оказывала свое покровительство, как павшему в предшествовавшее правление и некогда покровительствовавшему ей. «Доселе дремахом, – взывают они, – а ныне увидихом, что Остерман и Миних с своим сонмищем влезли в Россию, яко эмиссарии диавольские, им же, попустившу Богу, богатства, слава и честь желанная приключишася, сия бо им обетова сатана, да под видом министерства и верного услужения государству российскому, еже первейшее и дражайшее всего в России правоверие и благочестие не только превратят, но и, искорени, истребят». Они просили императрицу принять церковь «в действительное защищение, покров и оборону и наказать всех отступников от благочестивых нравов, распространителей иноверных учений, еретиков, раскольников, армян и атеистов, последователей ума епикурейского и фреймасонского; а нейтралитета Христос наш не любит», утверждали защитники православия.49 Царствование Елисаветы в этом отношении представляет реакцию прежнему порядку вещей. Она освободила духовенство от подчинения гражданской юрисдикции, за исключением уголовных дел, а за оскорбление духовного сана назначала весьма тяжкие наказания (напр. 6 000 ударов шпицрутенами и ссылку на казенные работы); она щедро раздавала монастырям вотчины и возвратила управление ими в ведение синода, со всеми расходами, за исключением прежде определенных на государственные потребности50; она вызвала из ссылки и заключения духовных лиц, подвергшихся опале в прежнее время, а других даже возвела в архиерейский сан (Маркелл Радышевский, Платон Малиновский51); она разрешила носить по прежнему иконы по домам; определила за нарушение благочиния в церкви денежные штрафы; освободила от запрещения «Камень веры» и распорядилась отобрать у частных лиц переводы сочинения Стратемана «Феатрон», изданного при Петре Великом, и сочинения Арида об истинном христианстве, вышедшее в 1735 г. при участии Феофана Прокоповича; теперь была сделана попытка подчинить строгой ценсуре все сочинения, появлявшиеся в России, и перенести иноверные церкви в Петербурге в отдаленные части города. Раскольников постигли новые преследования, сопровождавшиеся иногда самосожжением, а магометан и язычников – насильственное обращение в христианство, приводившее не раз к открытым восстаниям.52 Понятно, что при Елисавете Петровне и высшее церковию управление должно было получить особенное значение. Членами его по большей части были малороссы, находившие покровительство в лице любимца императрицы А.Г. Разумовского и её духовника Дубянского.53 Благодаря их заступничеству, дела в синоде нередко получали направление совершенно противное составлявшимся решениям. Князь Я.П. Шаховской (обер-прокурор синода) свидетельствует, что он часто видел, как первый тогда фаворит священного синода членам особенно благосклонен был и по их домогательствам и прошениям всевозможные у её величества заступления употреблял, между тем как её духовник, пользовавшийся громадным влиянием на нее, «всегда добрый предводитель был, слепо ими пленяясь». При вступлении в свою должность, князь Шаховской нашел, что инструкций, данных прежним обер-прокурором, и многих дел в синоде не оказалось; Духовный же Регламент был в полном пренебрежении.54 Отчетность в синоде почти совсем исчезла.55 Число епархий при Елисавете было значительно увеличено (6) и высшая иерархия, в противоположность прежнему времени, пользовалась полною неприкосновенностью. Так, когда возникло дело вятского архиерея Варлаама, нанесшего личное оскорбление воеводе, и сенат находил необходимым подвергнуть виновного лишению сана и жестокому наказанию, то императрица простила виновного и только по вторичному обвинению его в насилиях, совершенных над подчиненными, Варлаам был перемещен в Устюг; преемник его, Антоний Илляшевич, позволивший себе в самой церкви оскорблять поносными словами секунд-майора, наведывавшего сбором подушных податей, оставался нетронутым, не смотря даже на произвольный захват государственных крестьян.56 Уже в 1744 году ненавистная коллегия экономии была уничтожена, а управление вотчинами и сбор с доходов были отданы в ведение синода, хотя монастыри, по прежнему, обязаны были содержать на свой счет раненых и увечных, и теперь было сделано даже распоряжение, чтобы туда отправлялись престарелые и поврежденные в уме колодники; но мы увидим далее, как исполнялись эти распоряжения блюстителями неприкосновенности церковных прав. Здесь же заметим, что эти льготы не замедлили обнаружиться в области церковного управления, так что к концу царствования Елисаветы (1757) взгляд самого правительства в этом отношении значительно изменяется, а в движении крестьян, наполняющем вторую половину царствования Елисаветы, монастырские крестьяне являются преобладающим элементом. Впрочем, только в царствования Петра III и в начале царствования Екатерины II имущественные права церкви потерпели весьма важные ограничения, отчего должен был существенно измениться и самый характер церковного управления. Черты этих, последовательно сменявшихся, порядков как нельзя лучше обрисовываются в типической личности одного из защитников этих прав: мы разумеем Арсения Мацеевича, биография которого послужит нам рамкою для дальнейшего очерка.
II57. 1718–1726 гг.
Арсений Мацеевич (в мире Александр) родился в 1697 году, во Владимире Волынском.58 Дед его был поляк59, а отец православный священник; потомки от брата Арсения до сих пор существуют в среде духовенства киевской епархии.60 В юности Арсений учился во «Владимирской варенжской и львовской академиях»61, откуда в 1715 г. поступил в киевскую академию, но оставался в ней не долго. Уже в следующем году мы его встречаем в Новгород-Северском Спасском монастыре, где он принял монашество, состоял проповедником и обучал в тамошней школе латинскому языку. В это же время в бытность свою в Чернигове, Арсений сблизился с архиепископом Антонием Стаховским62, но и в монастыре Арсений оставался не долго. В 1718 г., по собственному желанию, он был отпущен в киевскую академию «для слушания философии и богословия». Впрочем, еще во время первоначального пребывания Арсения в академии, Феофан Прокопович был вызван в Петербург. В академии Феофан последовательно читал поэзию, риторику, философию, богословие и, кроме того, физику, арифметику и геометрию, которые до того времени вовсе не преподавались в академии. Заслуга Феофана, как преподавателя, состояла в том, что он оставил прежний схоластический метод преподавания богословия и ввел новый, выработанный протестантской богословской наукой. Метод этот был критико-исторический; между тем, как в схоластических школах о филологическом изучении текста, о сличении древних списков и переводов, о критическом изучении отцов церкви, в связи с историею последней, не было и помину. Познакомившись весьма близко с иезуитскою системою воспитания в Польше и за границею, Феофан, при каждом случае, с особенною энергиею высказывается против католических богословских авторитетов и обрядности. В его речах нет отвлеченных и сухих рассуждений, ни школьных приступов и аргументаций, ни утомительной длинноты периодов, свойственных схоластике. Как ректор академии, Феофан поднял хозяйственную часть заведения, бывшую до того в большом запущении. Влияние его курсов отразилось и в киевской, и в московской академиях, но оно встретило сильный отпор в лице последователей схоластической науки, учеников иезуитских школ и католических академий, которые, усвоив приемы своих наставников, не сумели возвыситься до более независимой критики. Борьба этих двух направлений не замедлила обнаружиться и в школе, и в литературе. Еще в 1712 г., когда Феофан написал сочинение: «Распря Павла и Петра о иге неудобоносимом», против него выступил ректор московской академии, Феофилакт Лопатинский. Он обвинил Феофана в намерении внести «в мир российский мудрования реформатские, доселе в православной церкви не слыханные, о законе Божием и оправдании», и этот спор поселил навсегда вражду между обоими авторами, так печально окончившуюся потом для противника Феофана. До XVIII века Русская Церковь более благоприятно относилась к лютеранству, нежели к католичеству; но теперь, под влиянием южно-русских ученых, влияние Польши и католицизма проникает в восточную Россию, и в пользу последнего обнаруживается резкий поворот в церковных воззрениях. «Камень веры» другого представителя этой школы (Стефана Яворского) был полным выражением того же направления. Недаром возле этого памятника церковной литературы сосредоточивается и самая борьба обоих направлений в XVIII веке.63 По выходе Феофана из киевской академии там снова возобладал прежний дух преподавания, о чем свидетельствуют как тогдашние курсы, так и отзывы современников и церковных историков. «Феофан Прокопович, – читаем в них, – преподававший богословие с 1711 по 1715 г., излагал свои курсы в некоторой системе, но приемники его не последовали его примеру, а все до одного почти продолжали идти прежним путем...» Они сходствуют между собою и отсутствием системы, и своим схоластицизмом, и своим духом православия. Уже в начале второй половины XVIII века, сама академия сделала отзывы в том смысле, что «во всех российских академиях, коллегиях и семинариях, в учении богословия нет порядка, почему в России и поныне настоящей Богословии не имеется», и замечательно, что в это время, как бы в интересе улучшения, снова перешли к курсам Феофана, которые не раз издавались в Киеве (1770, 1772, 1773, 1775, 1782, 1805). В параллель с богословием, и философия, до второй половины XVIII века, преподавалась в Киеве, под преимущественным влиянием Аристотеля и схоластиков, и, только во второй половине XVIII века, под влиянием системы, введенной уже в великороссийских училищах, вводятся постоянные курсы по математике, естественной истории, всеобщей истории и географии, до того времени или вовсе не преподававшиеся, или преподававшиеся отрывочно.64 Вот почему такой ум, как Ломоносова, не мог удовлетвориться тогдашним характером академического преподавания, и он поспешил оставить академию (1734), о которой потом отзывался, что «там он нашел одни сухия бредни, вместо философии и никаких задатков для физики и математики».65
Во второй раз Арсений оставался в академии по 1726 год, где и получил сан священника (1723). В академии же он вполне усвоил приемы того направления, которое не замедлило вступить в борьбу с учением Феофана, когда, по смерти Петра Великого и Екатерины I, наступило для него более благоприятное время. Но в этой борьбе Арсений не мог еще принимать участия; он был только посторонним наблюдателем её, сохранив о ней самые печальные воспоминания.
1727–1739 гг.
Прежняя же наклонность Арсения к перемене мест не давала ему покоя. Так, по выходе из академии, он состоит одно время (1726–1727) проповедником при киевском архиепископе Варлааме Ванатовиче, тщетно добивавшемся сана митрополита в киевской епархии и павшем в начале царствования Анны Иоанновны, за свои близкие отношения к бывшему вице-президенту синода, Феодосию Яновскому, то живет в Печерской лавре (1728–1729), то снова отправляется в Чернигов, то предпринимает в 1730 г. отдаленное путешествие в Тобольск, по вызову митрополита Антония Cтаховского, перемещенного туда в 1721 году.66 Проездом в Сибирь, он успел представиться в Москве членам синода, который находился здесь по случаю пребывания двора. Но уже в начале 1733 г. Арсений отпросился в Чернигов, куда, впрочем, не поехал, а отправился в Устюг, Холмогоры и Соловецкий монастырь. Этот последний служил тогда местом ссылки для важнейших раскольников, в числе которых Арсений встретил бывшего игумена Мошенского монастыря (Киевской губернии) Иоасафа, впавшего в раскол и увлекшего за собою весь монастырь. Арсений принялся было увещевать его и написал даже по этому поводу сочинение. Старания Арсения не увенчались успехом; но для его характеристики важно то, что в полемику с расколом он выступил проникнутый духом «Просветителя» Иосифа Волоцкого, духом религиозного фанатизма. [Здесь и далее по тексту будут встречаться нелестные характеристики митрополита Арсения. Важно помнить, что Церковь прославила митрополита Арсения за его мученическую кончину и верность Богу. Не все сподобились благочестиво прожить от рождения до смерти. Главное – итог жизни. – прим. ред. «Азбуки веры»] В это время из синода был прислан к холмогорскому архиепископу запрос – нет ли у него ученого монаха для определения в камчатскую экспедицию по р. Оби, предназначавшуюся для открытия морского пути в Камчатку, и он указал на Арсения. Таким образом Арсений совершил четыре морских кампании (1734–1737), которые, впрочем, ни к чему не привели.67 Во время третьей кампании (в начале 1736 г.) он был привезен из Пустозерского острога, вместе с лейтенантами Муравьевым, Павловым и прочею командою в адмиралтейскую коллегию «по некоторому секретному делу»; но так как за ним никаких провинностей не оказалось, то ему снова велено было отправиться в Пустозерск. Вскоре, однако, по причине цинги (которою Арсений постоянно страдал), ему разрешено было (25-го января 1737 г.) оставить флотскую службу и (7-го октября) велено было состоять при синодальном члене, Амвросие Юшкевиче, епископе Вологодском, при котором он находился до 13-го сентября 1738 г. Это обстоятельство сблизило Арсения с лицом, занявшим, в правление Анны Леопольдовны и в царствование Елисаветы, первое место в церковной иерархии и с которым он действовал заодно в интересах последней. Вместе с тем это сближение обеспечило дальнейшую судьбу Арсения. Таким образом, когда в 1738 г. открылась вакансия законоучителя, в сухопутном кадетском корпусе, то на эту должность был представлен Арсений.68 Кадетский корпус в то время имел большое значение, пользуясь покровительством своей основательницы, императрицы Анны Иоанновны, и доставляя доступ для детей, преимущественно высшего дворянства.69 По этому поводу от Арсения потребовали представить в синод сказку о его службе, в которой он показал, что «в подозрении никаком никогда не бывал и ныне за собою подозрения не имеет» и дважды присягал императрице Анне Иоанновне – в 1730 г. в Чернигове и в 1731 г. в Тобольске. Тем не менее, синод счел необходимым подтвердить его слова свидетельскими показаниями. Состоя в то же время при синоде, Арсений занимался обучением ставленников70, и уже теперь он заявил себя человеком, весьма тяжелым для подчиненных. Сохранились акты, обличающие в нем человека крутого, жестокого нрава. Так, в бытность свою московским инквизитором71, он до смерти запытал ярославского игумена Трифона, несмотря на его престарелые лета (85 лет). Такое самоуправство вызвало жалобу со стороны ростовского архиерея, по поводу которой синод постановил: «впредь пытать бережно».72
1740–1742 гг.
Между тем, вскоре (1740) архиерейская кафедра в Тобольске сделалась вакантною73, и в это же время Амвросий Юшкевич, переименованный в архиепископы новгородские, занял президентское место в синоде. Близость к нему Арсения, человека, как и он, происходившего из южной России, при том знакомого с Сибирью, должна была иметь влияние на выбор лица, для замещения вакантной кафедры. Таким образом, когда правительнице Анне Леопольдовне были представлены два кандидата: первым – черниговский архимандрит Тимофей Максимович, а вторым – синодальный иеромонах Мацеевич, то последний был предпочтен и посвящен в сан митрополита 26-го марта 1741 года.74 По прибытии в Тобольск, Арсений, по примеру малороссийского епархиального управления, переименовал тобольскую архиерейскую канцелярию в консисторию: так, порядок церковного управления Малороссии, вместе с архиереями, вышедшими оттуда, переносится в великорусские епархии, но он нисколько не улучшил общего положения дел. Хотя и на этот раз пребывание Арсения в Сибири было непродолжительно (с 18-го декабря 1741 г. по 10-е февраля 1742 г.), но до нас дошел целый ряд промеморий, которые, как нельзя лучше, характеризуют личность самого Арсения, уже не скромного монаха, подающего «сказку» перед мелким синодальным чиновником и уверяющего в своей гражданской благонамеренности, но как человека, гордого в сознании своей власти и неприкосновенности духовного сана. Вот содержание некоторых из них.
В январе 1742 г. к Арсению была прислана просьба закащика (благочинного), священника верхнепелымской волости, Михаила Степанова, содержавшегося под арестом в сибирской губернской канцелярии. В своей просьбе он объяснял, что, будучи определен митрополитом Филофеем Лещинским (окрестившим с 1712 по 1726 г. до 40 000 человек инородцев), он обязан был выстроить для вогулов церковь, крестить язычников и надзирать за крещеными; но в 1730 году, по повелению императрицы Анны и на основании инструкции митрополита Антония, ему предписывалось принять против вогулов таковые меры: истреблять идолы и кумирницы, воспрещать приносить языческие жертвы, доносить о виновных гражданскому начальству и наказывать их. Вследствие этого, в 1732 году, он сжег 120 идолов и запретил приносить в жертву лошадей, но затем снова открыл, что языческие жертвоприношения совершаются в тайне, посредством потопления в реках быков и коров; между крещеными и некрещеными заключаются браки, причем платят калым75, многие же совсем оставили христианство. Виновные в этих преступлениях не раз подвергались наказаниям, вследствие чего пришли в ярость против попа, нападали, грабили и наносили побои причту, а его, Степанова, обвиняли в вымогательстве у них денег и зверей; наконец, в 1741 году, подали на него жалобу в светский суд, который распорядился схватить его, заковать в цепи и отправить в губернскую канцелярию. Получив эту просьбу, Арсений решился «от таких наглых нападок и раззорений, как от светских командиров, так и от иных вогульцев, милостиво оборонить». Он защищает обвиненного всею силою указов о неприкосновенности духовного сана и неподчиненности духовенства Мирскому суду, без разрешения на то архиереев: «так как светская и неосвященная персона духовное лицо на себя брать и священника в совестных падежах, мимо главных духовных властей, которым дана власть вязать и решить по святым законам, допрашивать и судить никак не может»; а о том, что пелымский воевода допустил сковать Степанова в день получения указа о восшествии на престол Елисаветы Петровны, Арсений объявляет, что войдет с особым представлением. Затем, обращаясь к самому вопросу о виновности подсудимого, он замечает, что еще сомнительно, кто более виновен, священники ли, или светские правители, «которые сами к получению мягкой рухляди имеют большую склонность, а порицают священников». Оправдывая последних бедностью и нуждою, Арсений, как бы в упрек администрации, указывает на бывшее следствие о ясачных сборщиках в Сургуте. «И сие представляется, – замечает он, – не для какого на воевод нарекания, которые не белками, но целыми мехами отбирают, и не защищение попов, которые берут себе на пропитание белочками, но токмо о истине изъявляется, что, вместо помощи, как ныне бедное священство гонят и турбуют, и изневожают, куют и бьют, яко злодеев, и инстигуют (преследуют) без меры, не яко о правде пекущеся, но яко сами, любоимения страстью одержимы суще, ищут себе всякими неправедными вымыслы приобретения.... Волостные церкви пустеют и новокрещеные наставления лишаются от гонения нерассудных светских командиров, которые из своих происков не веру святую и православие утверждают, но и приобретенное духовными пастырями великим трудом и коштом вовсе тщатся уничтожить на едино поругание нашему святому православию». Вследствие этого заявления, после допроса, Степанов был отослан в Пелым, для производства дела, а светское начальство считало даже нужным оправдываться. Но в том же январе (1742 г.) у Арсения возникло новое столкновение с сибирскою канцеляриею, из-за драки между крестьянином архиерейской вотчины и приказчиком, которого крестьянин обвинял в грабеже. Арсений снова выступил с грозною промемориею, потребовав обоих виновных на свой суд, на основании указов 30-го мая 1739 г. и 14-го августа 1741 г., но канцелярия, основываясь в свою очередь на постановлениях 1727 и 1728 гг., виновных к нему не отпустила. Наконец, в апреле 1742 г., будучи уже в Москве, Арсений доносил синоду, что в его канцелярии имеется донесение на тамошнего воеводу, полковника Миклашевского, за то, что он бил плетьми крещеных татар, принявших христианство, без позволения своих владельцев – татар, распорядился отдать жену одного из них некрещеному татарину, а другого разрешил продать, хотя на него не было крепостного акта. Арсений настаивал, чтобы это дело рассматривалось в томской, а не тобольской канцелярии, склонной покрыть виновного, и снова проговорился на счет «бессовестных воевод». Он требовал от синода решительного вмешательства в это дело, тем более что инородцы могут быть «устрашены и утверждены светскими злоковарными, неправедными, лихоимственными следствиями и не будут иметь охоты к Святому Крещению». Несмотря, однако, на такие энергические заявления, означенное дело было рассмотрено в Тобольске. В тобольском епархиальном архиве есть еще несколько подобных промеморий Арсения, в которых он с неменьшим жаром отстаивает права духовенства и новокрещеных и не щадит слов на обличение порядков светского управления. При этом, знаток местных архивов, протоиерей А. Сулоцкий замечает, что ему пришлось просмотреть и прочесть бумаги предшественников и преемников Арсения за время 1701–1768 гг. и, несмотря на то, что все тогдашние сибирские архиереи прошли одну школу с Арсением, т. е. вышли из южной России, но ни у одного из них нет таких выражений, таких отзывов и замечаний на счет других, и на счет лиц, несогласных с ними и так или иначе касавшихся духовенства.76
1742–1743 гг.
Вступление на престол Елисаветы Петровны пробудило в русском обществе национальные чувства, долго сдерживаемые преобладанием иностранного режима, а религиозные интересы нашли в ней горячую поборницу. Екатерина II впоследствии так отзывалась об этом времени в одном из своих писем к Жоффрен:
«В молодости я предавалась богомольству и была окружена богомольцами и ханжами; несколько лет тому назад нужно было быть или тем или другим, чтобы быть в известной степени на виду».77
Мы видели, как приветствовало духовенство этот переворот. В его нападках на прежний порядок не только видны намеки, но произносились самые имена виновных: Остермана, Миниха и т. п. Мы видели также, как отразилась эта перемена на положении господствующей церкви и других иноверных учений в России. Но этим не удовлетворились. Уже в самом начале царствования Елисаветы, представители церкви выступают с знаменательным проектом церковно-административной реформы, инициативу которой взяли на себя Амвросий Юшкевич и Арсений Мацеевич.
В Сибири Арсений подвергся сильным припадкам цинготной и скорбутной болезни78 и, конечно, желал переселиться оттуда, но едва ли в такой короткий срок, каким было его пребывание в Сибири, он успел снестись со своим покровителем, Амвросием, чтобы вдруг изменить свое положение.79 Еще Арсений не успел приехать в Тобольск, как уже совершился переворот в пользу Елисаветы, а несколько дней спустя после его приезда умер ростовский архиепископ Иоаким. Таким образом это обстоятельство могло дать повод самим друзьям Арсения похлопотать о перемещении его поближе в Россию; но уже 10-го февраля 1742 г., не дождавшись решения своей участи, Арсений оставил Тобольск; под покровительством такого ходатая, как Амвросий, он мог рассчитывать на успех. Действительно, 28-го мая, во время пребывания императрицы в Москве, когда она пригласила Амвросия на совет о выборе законоучителя для великого князя Петра Феодоровича, Амвросий, предложив ей на это место своего товарища по киевской академии, Симона Тодорского, вместе с тем словесно представил о переводе на ростовскую епархию, с званием члена синода, Арсения Мацеевича, и Елисавета также словесно утвердила этот доклад.80
Виды Амвросия на Арсения вполне оправдались. Воспитанники одной школы, люди одинаковых воззрений на церковные отношения и духовную власть, притом давно успевшие сблизиться между собою, не могли не сочувствовать друг другу теперь, когда наступало, по-видимому, самое благоприятное время для осуществления их замыслов. И Амвросий, видевший в прежних порядках угнетение духовенства, которое будто бы хотели даже вовсе истребить, «чтобы завести свое вымышленное беспоповство», поспешил воспользоваться этим прекрасным случаем, чтобы совсем покончить с ненавистною для него и его единомышленников синодальною формою церковного управления и возвратиться к прежнему единоличному порядку правления – стремление, не раз проявлявшееся в русской духовной иерархии после Петра Великого. Таким образом, совместно с Арсением, Амвросий представил императрице доклад, в котором, после выписок из церковных правил и отцов церкви, излагались следующие мысли: «Если трудно покажется по регламенту духовному титлы синодальной оставить, то синод, хотя и сделать, однако, дабы был, хотя по малой форме, священнослужению церкви соборной, апостольской, восточной сообразен, сиречь имеющий в себе президента первоначального архиерея не иного кого, точно Московского, титулующагося Московским и С.-Петербургским, вице-президента первого – Новгородского архиерея, второго – какого-нибудь архиерея, близь Москвы обретающагося (конечно Арсения). А обер-прокурору и генерал-прокурору, как и экономии коллегии, нечего здесь делать: понеже и то за нужду делается, что в синоде мирские обер-секретари и секретари. По настоящему церковному порядку, надлежало бы и тем быть духовным лицам – иеромонахам или монахам; так как здесь не иные дела судятся и производятся, только поповские и причетнические, да монашеские; судятся также браки: законный и незаконный падежи совести. О таковых, что здесь смотреть или разбирать обер-прокурору или иной светской персоне, не имеющей посвящения или не имеющей власти решать и вязать? В собрании синодальном ныне не только архиереи, но и архимандриты и протопопы, да еще обер-прокурор и обер-секретари заключаются и до всех тая титла «святейший синод» или верховный святитель касается, ежели бы, чего не дай Бог, по прежним нашим временам, в наших глазах недавно бывшим, регент или генералиссимус с Остерманом утвердились: кто бы их смел поспорить, когда бы единого или двух своих пасторов в синод посадили. И как быть? Под тою ж титлою священства, они под овечью кожею истинные волки укрывалися бы на всеконечное истребление нашего благочестия».
В этом докладе еще не видно прямого заявления против синодального управления; но зато ясно ставился вопрос об исключении из синода не только светских чинов, но и членов низшей духовной иерархии. Тем не менее, тайная цель этих стремлений обнаружилась немного позже, в более откровенной форме. Уже в 1744 г. в другом докладе Амвросий писал:
«Его величество, государь император (Петр Великий) соизволил было восприять намерение, чтобы духовное правление паки оставить точию при едином правлении патриарха или митрополита, дабы церковное правление во славу Божию наилучше происходило. Но его величества соизволение к исполнению не достигло по причине его кончины».81
Ясно, что имелось в виду подействовать на нерешительность Елисаветы «намерением» её отца... Но ни того, ни другого виновникам этого проекта не удалось достигнуть, так как Елисавета Петровна не намерена была отступить от главных оснований реформы Петра Великого. Притом, в самом синоде в это время был такой энергический поборник учреждений последнего, как князь Я.П. Шаховской, которому приходилось выдерживать постоянную борьбу с подобными же навязчивыми желаниями. Еще в 1742 г. Амвросий вошел с докладом о беспорядках и грабежах в коллегии экономии, предложив, конечно, совсем закрыть ее. Дело это тянулось до 1744 г., когда его желание действительно было осуществлено, но с некоторыми ограничениями, предложенными князем Шаховским.82 Не менее враждебно относился к синоду и Арсений Мацеевич. Противники этого учреждения не могли равнодушно смотреть, что в его среде были не одни архиереи; а на их глазах был даже случай, что членом синода состояло лицо, не имевшее никакой церковной степени, как напр. Феофил Кролик, который был посвящен в иеродиаконы и иеромонахи в бытность свою членом синода. И Арсений намекает, что в синод предполагалось даже посадить лютеранских пасторов и сделать его высшею административною инстанциею, не только для православной, но и для других христианских церквей в России.83 Такое мнение, быть может, основывалось на том, что в первое время, при Петре Великом, ведению синода подлежали лютеранские церкви в России и их пасторы.84 Но тенденции Арсения в вопросе о церковной реформе вскоре обнаружились вполне по другому случаю. Представившись императрице Елисавете, он не остался в синоде и не дал обычной присяги, а уехал в свою епархию. Но, спустя некоторое время, вероятно по настоянию князя Шаховского, синод сделал запрос Арсению: почему он не дал установленной присяги и не является в синод? В ответ на это Арсений сослался на личное и письменное объяснение, которое он принес самой императрице Елисавете; и в кабинетных бумагах государственного архива сохранилось это «доношение» с весьма ценными приложениями, рельефно характеризующими личность и образ мыслей их составителя. Объяснения Арсения основываются на том 1), что в присяге, предложенной ему в синоде, оказалась будто бы прибавка о верности императрице, как высшему судии духовной коллегии, и 2), что член синода, псковский епископ Стефан (никогда не молчавший даже и перед князем Шаховским, как видно из записок последнего)85 не хотел уступить ему высшего места по его епархии; а это обстоятельство Арсений считал на столько для себя оскорбительным, что не согласился принести присяги даже тогда, когда ему предложено было дать ее без указанной прибавки. При этом, Арсений заявлял о своей верности императрице, которой он принес присягу еще в Тобольске и что он, в свое время, отказался от присяги Бирону, как регенту. Он препроводил также образцы присяги для светских и духовных лиц, из которых видны, его собственные воззрения на отношения светской и духовной власти.86
Дело о присяге было оставлено без последствий, но вскоре затем в 1743 году у Арсения возникло новое столкновение с синодом, и опять из-за присяги. В начале этого года, от всех лиц, присягавших при повышении в чины, в правление Бирона и Анны Леопольдовны, велено было отобрать присяжные листы в сенат и сжечь их. Между тем в присяге Арсения оказались прибавки собственной его руки, а потому от него потребовали новых объяснений. Арсений утверждал, что он сделал прибавку в опровержение раскольнического мнения, что настоящая церковь не есть церковь, архиереи – не архиереи и священство, от Христа и апостолов через хиротонию происходящее, совсем потерялося; «а кроме таковых богохульников, – прибавляет Арсений, – я отнюдь не чаял, чтобы другому кому, кто церкви святой, православно-восточной придержится, могла быть противность». В таком виде настоящая присяга была читана Арсением перед поставлением его в архиереи. Но, вступив на путь самооправданий, Арсений должен был уже просить прощения у синода.87 Донесение Арсения рассматривалось в синоде с 11-го июля по 13-е октября, когда состоялось определение сжечь присягу Арсения, выписав из неё только имена архиереев, участвовавших в его постановлении. Замечательно, однако, что на это отступление не обратили внимание в свое время и придали значение прибавке только теперь. Ясно, что в среде синода были члены, враждебно настроенные против Арсения, и это подтверждается тем, что Амвросий Юшкевич ни разу не присутствовал в синоде.88 К этому присоединились два новые обстоятельства, существенно повлиявшие на ход этого дела.
Еще в 1742 г. коллегия экономии распорядилась отправить в ростовские монастыри нескольких инвалидов, которых Арсений отказался принять, ссылаясь на недостаток средств. Тогда коллегия вошла с жалобою на него в сенат и синод, указывая на то, что по её расчету, в тамошних монастырях есть в запасе около 1 000 четвертей хлеба. Сенат потребовал объяснения от Арсения, который отвечал, что после донесения своего в коллегию (только-то теперь!) в этих монастырях было пострижено более 40 человек, лишившихся монашеского звания в прошлое царствование, а потому лишних порций у него нет. При этом Арсений, по своему обыкновению, не стеснялся в выражениях, так что сенат требовал чтобы синод воспретил Арсению обращаться к сенату с подобными оскорбительными речами, угрожая, в противном случае, донести о том императрице (12-го апреля 1743 г.); а спустя два месяца повторилась та же история, по поводу присылки в монастырь одного юродивого. Арсений отвечал теперь синоду в прежнем духе, называя подобное требование «весьма неосмотрительным и несправедливым». После этого синод решился сделать доклад императрице, которая повелела объявить Арсению указом, чтобы «он от подобных продерзостей воздержался, а ежели впредь будет оказывать к регламенту и указам сопротивление и презорство, то, как противник общего покоя и высочайшей власти, он будет лишен не только сана, но и монашества». И в своем указе по этому случаю (3-го сентября) синод ссылается на самые сильные места постановлений Петра Великого и его преемников о власти синода и обязанности всех – повиноваться ему, как и власти сената.89
Узнав о грозящей ему опасности (указ был дан еще 19-го августа), Арсений стал было проситься на покой в Новгород-Северский Спасский монастырь, ссылаясь на «скорбуточную болезнь», которую он нажил на море, и головные боли, вследствие которых он почувствовал такую слабость, что не в силах более управлять епархиею. Как видно, синод было обрадовался этой просьбе и потому поспешил составить новый доклад государыне, выражаясь в нем, что Арсения на покой уволить «надлежит», а в монастыре ему следует выдавать хлебную порцию и прочих припасов, против пяти монахов, назначить к нему трех служителей и, на случай выезда из монастыря, давать коляску с парою лошадей; на платье же и прочие нужды назначить по 300 р. в год и 200 р. на дорогу.90 Но императрица не утвердила этого представления и повелела Арсению, по-прежнему, оставаться ростовским митрополитом.91
Амвросий и Арсений были прямыми преемниками идей той партии, которая, в борьбе с реформою Петра Великого, группировалась возле «Камня веры» Стефана Яворского, как своего знамени, и «обличений» Феофилакта Лопатинского, сторонники которых встречали такой ожесточенный отпор в лице Феофана Прокоповича. С большими усилиями и значительным пожертвованием своих нравственных сил, вел эту борьбу Феофан, пока не одолел своих противников. Но теперь, явились новые защитники их учения, такие же, как и они, горячие поборники патриаршества и церковной реакции. Представители этого направления одинаково сурово относились и к расколу, и к иноверным учениям.
III. 1743–1762 гг.
Еще в 1742 году Арсению было поручено рассмотреть и приготовить к изданию труд Феофилакта: «Обличение неправды раскольнической», написанное в 1734 г., по поводу «Поморских ответов»92 , но остававшееся до сих пор, вследствие катастрофы, постигшей автора, не рассмотренным. Арсений, известный уже нам по своей полемике, веденной им во время пребывания в соловецком монастыре (1734), исправил сочинение Феофилакта и составил к нему предисловие (оно издано в 1745 году), а затем написал от себя «Дополнение» к сочинению, оставшееся до последнего времени в рукописи.93 В своих сочинениях Арсений обнаруживает большую начитанность в отеческой и русской церковной литературе (сочинения Максима Грека, Просветитель, Стоглав, Четьи-Минеи и разные полемические сочинения), в русских летописях (Нестор, хронографы, Степенная книга, летопись ростовских архиереев, летописная повесть сибирского митрополита Игнатия) и даже иностранных сочинениях (Бингама – Церковные древности, Бароний, Агриппа – о суете наук, Матвей Стрыйковский, Коран, Талмуд, Естествословцы).94 Но в этом случае заслуживает внимания то, что весь запас своих богословских знаний он употребляет на защиту преимущественно иерархии и менее касается обрядов и других спорных вопросов раскола. В своих же полемических доводах он основывается на примерах и авторитете известного творения Иосифа Волоцкого – «Просветитель», требующего вмешательства гражданской власти и казни еретиков, для которых он не находит ни одной из них суровою, не исключая даже сожжения, причем, подобно Иосифу, ставит в образец новым ревнителям – древних ревнителей, как Моисей, Иисус Навин, Илия, Лев, епископ Катанский. Мы не говорим уже о самом способе полемики, в которой постоянно встречаются такие обращения к противникам, как: разбойники, жиды, воры, плотоугодники, хищники, адские бесы, волки, сатанинские служители, антихристы, и т. п.95 Дополнение было представлено Арсением в синод, 12-го марта 1746 г., но было возвращено автору для исправления. Через год он снова представил его, но дальнейшая судьба этого труда неизвестна.96
Ростовская епархия была полна раскольнических сект, различных толков, которые дали обильный материал для сочинений Димитрия Ростовского.97 Увлекаемые ревностью и фанатизмом мученичества, которое так легко воспринималось, вследствие духа нетерпимости их противников, сектанты прибегали нередко, то к насильному голоду, то к самосожжению. Так из донесения иеромонаха Игнатия Димитрию Ростовскому видно, что в его прежнем приходе сожглось 1920 человек, не считая окрестных сел и деревень, где было также множество подобных жертв. Но как трудно было относиться к расколу в духе терпимости, может служить лучшим примером сам Димитрий Ростовский, который, посылая свою книгу о расколе (быть может, «Розыск») другу своему Феологу98, писал ему следующее: «посылаю бороду капитонскую (Капитон – расколоучитель), изрядную, долгую, широкую, расчесанную, в которую не жаль плюнуть».99 И в то время, как Амвросий настаивал на принятии строгих мер против распространения раскола, ссылаясь, как на главную опору их нападок на церковь, на их мнение, что «синодальное правление от единого образца протестантского взято»100, – Арсений торжественно клялся перед своею паствою в совершенном искоренении этих врагов православия.101 В самом деле, полемика с расколом была любимою темою его проповедей102, а нетерпимость его в этом случае доходила до того, что, когда Петр и Екатерина II облегчили участь раскольников, то он велел выписать из служебника и читать особые молитвы против них и вынимать частицы на проскомидии на гонящих церковь, ибо-де раскольники в церковь не ходят и плюют на нее.103 Тем же духом проникнуто и известное сочинение Арсения на «Молоток» («Молоток на Камень веры» – лютеранский пасквиль, написанный чрезвычайно бойко и пущенный в ход в России около 1731 года). В то время «Камень веры» был уже запрещен, а потому писать в его защиту – было опасно. Феофилакт Лопатинский хотел было писать против возражений Буддея, профессора иенского университета (которому приписываются эти возражения), но тайная канцелярия запретила ему писать против Буддея и даже упоминать о самом запрещении. Перевод же сочинения Рибейры (доминиканца, писавшего в защиту «Камня веры») на русский язык, повлек за собою преследование некоторых синодальных членов и других духовных лиц. Но, в царствование Елисаветы, перевес получила противная партия, и Мацеевич мог выступить на защиту идей Стефана Яворского.104 Впрочем, защитник Стефана пересыпает свои ответы такою крупною бранью и такими резкими выходками против автора «Молотка», что его полемика приняла совершенно личный характер. Между тем как «Молоток» везде ссылается на факты и исторические данные, автор возражения не дает почти никаких сведений о времени и действующих лицах, о которых пишет; о самом Стефане он сообщает самые общие сведения, сохранившиеся устно или печатно, и вовсе не опровергает своего противника, а только заподозревает достоверность изложенных фактов. Чтобы судить о приемах этой полемики, достаточно указать, что, на обвинение автором «Молотка» Стефана Яворского за уклонение в унию, а потом переход в православие, Арсений Мацеевич отвечает так: «А наипаче для чего Мартина Лютера и Катеринки его монашеством папским не токмо не порицаете, но и за святость приемлете?» Составитель «Молотка» старался набросить подозрение на Стефана в его католических тенденциях и склонности к папизму, а за его обличения лютеранства – отплатить тем же самым православию; таким образом, патриаршество, обрядность, чудеса, монашество – подвергаются в «Молотке» или полному осуждению, или посмеянию. Арсений, защищая все это, со своей стороны беспощадно бранит противника, причем не упускает случая затронуть мимоходом даже последователей раскола. Но два вопроса составляют больное место полемики Арсения это – восстановление патриаршества и защита монашества. Относительно первого Арсений высказывает мысль, что Петр Великий не думал отменять патриаршества навсегда, а напротив, намерен был снова учредить его, и потому не велел уничтожать патриаршего места в Успенском соборе, которое «по особому высокомонаршему усмотрению осталось в целости, как прежде было, и ныне настоятеля своего ожидает». В защиту монашества Арсений ссылается на пример Иисуса Христа, который был «первейший монах», на Богородицу, как образец монашества, наконец, на самих монахов, от которых преимущественно происходят чудеса.... При этом он, конечно, стоит за избрание в епископы исключительно монахов и, ссылаясь на церковные древности Бингама, доказывает, что в древней церкви в епископы избирали преимущественно аскетов или даже женатых, но «с обязательством, чтобы на архиерейских степенях детей не плодили».105
Заслуживает еще внимания возражение Арсения на обвинение «Молотка» в медленности исправления славянской библии, о чем безуспешно хлопотал Петр Великий. «Ежели рассудить в тонкость, – говорит Арсений, – то Библия у нас и не особенно нужна. Ученый, ежели знает по гречески, греческую и будет читать, а ежели по латыне, то латинскую, с которой для себя и для поучения народа, российскую, какая ни есть Библия, будет исправлять. Для простого же народа довольно в церковных книгах от Библии имеется».106 Выше мы указывали, что Арсений был человек начитанный. Его библиотека составляет теперь собственность ярославской духовной семинарии, и в ней же хранятся рукописи самого Арсения, заключающие в себе 12 томов проповедей (числом 217)107; но они не обработаны литературно, а представляют ряд набросков, конспектов, выписок из Священного Писания и отцов церкви. Напрасно, однако, утверждают те, которые желают в Арсение видеть образец всевозможных совершенств, что по своему характеру речи Арсения резко отличаются от приемов многих его предшественников, любивших, как известно, занимать своих слушателей анекдотическими рассказами из гражданской и церковной истории, апокрифов и средневековых бестиариев, и более подходят, к требованиям, поставленным Феофаном Прокоповичем, нежели – его противниками.108 По своему содержанию, это – поучения, произнесенные по поводу воскресных и праздничных евангелий и апостолов, толкования псалмов или катехизические объяснения Cимвола веры, заповедей и т. п.109, главным образом, догматического содержания, причем автор их постоянно имеет в виду вопросы, оспариваемые раскольниками, как мнения их о священстве, об антихристе и т. п.110, и даже в беседах нравственного содержания, которых также не мало, весьма часто встречаются длинные отступления догматического или полемического характера, а в изложении нравственных вопросов он обыкновенно прибегает к искусственным, чисто схоластическим приемам.111 Таким образом, отзыв о проповеднической деятельности Арсения, основанный не на предвзятом мнении или личных симпатиях, а на изучении самых его сочинений, будет совсем иного рода. «Если взять внешнюю сторону проповеднической деятельности Арсения, количество написанных им поучений и самый объем их, – читаем в подробном разборе этих сочинений, – то едва ли какой русский проповедник ХVIII столетия может сравниться в этом отношении с Арсением. Но его трудолюбие и широта его богословского образования представляются как-то двусмысленными, так как главное и существенное содержание его бесед составляют выписки из отцов и учителей церкви; искусственный подбор этих выдержек, равно как и многочисленных текстов из Священного Писания и примеров из житий святых, заставляют думать, что Арсений не самостоятельно изучал писателей, а имел у себя под руками какую-либо, по всей вероятности, латинскую конкордацию, где собраны были все параллельные изречения и толкования.... Мы думаем еще более, именно, что некоторые из его речей даже не им самим составлены, а только под его руководством и редакциею... Таким образом поражающее с первого взгляда трудолюбие Арсения и его эрудиция, при внимательном рассматривании дела, теряют свое значение. Но, если бы и действительно проповеди Арсения были самостоятельным трудом, то и в таком случае его литературная деятельность представляется не в очень привлекательном свете, особенно если сравнить ее с деятельностью современных проповедников».
Сравнивая его беседы с речами Феофана, Стефана Яворского, Димитрия Ростовского, так или иначе отзывавшихся на современные явления жизни, автор разбора замечает: «ничего подобного мы не видели у Арсения. В проповедях его нет указания ни на одно политическое происшествие, ни на одну правительственную реформу. Заявивши так энергически свой протест против одного из важных распоряжений правительства (о церковных имуществах, уже при Петре III и Екатерине II), он ко всем другим политическим и гражданским событиям века оставался как-бы безучастным... Вероучение его вращается в сфере отеческих толкований, или сухой схоластической отвлеченности.... Тогда как в полемике Димитрия Ростовского против раскола – мы находим не только обстоятельное изложение догматов раскола, но и опровержение многих частных раскольнических мнений и толков, а также знакомимся со складом и направлением самой жизни раскола; подобного живого отношения к последнему мы не видим в полемических беседах Арсения... Вообще, по его беседам, человек, незнакомый с расколом, составит самое смутное и неопределенное понятие даже об основных пунктах раскольнического вероучения. Вообще, полемика Арсения безжизненна и суха, и трудно предположить, чтобы она имела живое влияние на слушателей. То же нужно сказать и о других его беседах нравственного содержания... Нужно думать, что, по своему однообразию, по своей сухости и безжизненности, и особенно по своей чрезвычайной растянутости, они были слишком утомительны для внимания слушателей».112
До Арсения в его епархии существовала уже славяно-латинская школа, основанная при архиерейском доме его предшественником (1739 г.), для которой учители были вызваны из Малороссии, но, по смерти его, она пришла в упадок (1742 г.), а затем была заменена Арсением семинарией в Ярославле (1747 г.).113 Эта перемена объясняется нерасположением последнего к латинской науке и его взглядом на потребности духовного образования. Так, в 1763 году, он писал: «Духовенству нужны школы и академии, как в давности было в Греции и теперь есть на западе, т. е. по знатным местам в царствующих городах, на государственном содержании, ибо знаем все, что учение свет, а неучение тьма. Но, как свет, от начала создания всюду рассеянный и колеблющийся, приведен в порядочное состояние тем, что сосредоточен в одном солнце, так и свету духовного просвещения, т. е. академиям, не надлежит быть по грязям и болотам, но по знатным царствующим городам, как то и Духовный Регламент, если его прочесть внятно и в тонкость, повелевает академии быть при синоде на государственном содержании. А при архиереях быть школам для священнических детей». Эти школы, по мнению Арсения, должны быть русские, так как в церквах служба совершается по-русски, а не по-латыни и не на другом каком-либо языке. «В нашей ростовской школе, – замечает Арсений, – уже и производится такое обучение, только вместо книги, показанной в Духовном Регламенте, которая не бывала и быть не должна, толкуется православное исповедание (Петра Могилы). Книжка эта для священника нужнее философии и других академических книг, а особенно по деревням, где нужно работать на хлеб».114
И так, в одном случае, автор этих слов признает авторитет Регламента обязательным – там, где толкование его, основанное «на тонкости», освобождало бы архиереев от неприятной повинности, – в другом – он уклоняется от требований того же Регламента и отвергает их, как противные религии. Точно также смотрело на школу большинство иерархов того времени, сочувствовавшее взглядам Арсения.
Преданный партии, враждебной Регламенту, Арсений думал авторитетом лучших представителей подкрепить собственную деятельность. Своими литературными трудами он выдвинул на вид позабытые имена Стефана Яворского и Феофилакта Лопатинского. Возражение его на «Молоток» в значительной степени было личным панегириком тому же Стефану.115 Но и в ряду своих предшественников на ростовской кафедре, Арсений мог найти пример, которому он готов был следовать в своей деятельности, понимая последнюю в более широком смысле, чем выражение одних личных мнений. Мы говорим здесь о Димитрие Ростовском, и на этот раз мы вполне согласны с критиком истории господина Соловьева, что между Димитрием и Арсением далеко не было такой резкой противоположности, на какую указывает историк России. Разница заключалась, собственно, в том, что первый был человек более кабинетный и ученый, между тем, как второй старался немедленно переносить свои мнения в дело. Дух и образ мыслей Димитрия и Арсения, по некоторым, весьма существенным вопросам, почти тождественны. И Димитрий Ростовский любил останавливаться на отношениях светской администрации к духовенству и церкви; и он решался подымать голос против распоряжений Петра Великого с неменьшею резкостью, чем Арсений; но особенно он был неумолим к учреждению монастырского приказа. – «Хощети ли грабити церковная?», – восклицает он, – «Спросися Илиодора, казначея царя Селевка, иже пришел бе в Иерусалим грабити церковная и биен бысть ангельскими руками». В другом месте он отзывается о военном сословии, которому поручался надзор в монастырских имениях, следующим образом: «Моисей в минуту негодования на свой народ, за измену истинному Богу разбил, сходя с горы, скрижали закона на две половины, так что на одной остались отрицания: не... не... не..., а на другой: убей, укради, прелюбы сотвори... Вот этой-то второй половины скрижали и придерживаются теперь военные: убивают, крадут, прелюбодействуют». В таком же духе идут его обличения на разрешение есть мясо солдатам в посты, допущенное при Петре Великом, на стеснения монашествующих, на учреждение ассамблей.116 Не забудем также, что другими ближайшими предшественниками Арсения на ростовской кафедре были и Досифей Глебов, казненный при Петре Великом по делу царевича Алексея и царицы Евдокии, и Георгий Дашков, поплатившийся при Анне Иоанновне за свои честолюбивые стремления. Сочинения Димитрия Ростовского, без сомнения, хорошо были известны Арсению, а мнение его о церковных имуществах обратило на себя даже особенное внимание последнего.117
К Димитрию Ростовскому Арсений питал глубокое почтение; таким образом, по его донесению, синод разрешил, в 1752 г., открыть мощи Димитрия Ростовского и тогда же поручил Арсению составить службу и житие Димитрию.118 Открытие его мощей происходило в апреле 1757 г.119, а затем императрица Елисавета заказала для них богатую серебряную раку. В это время Арсений пользовался особым вниманием со стороны Елисаветы Петровны. Так, в марте 1753 г., узнав о приезде её в Москву, он поспешил выразить ей сожаление, что, по причине болезни, он не может лично предстать перед нею, и при этом препроводил ей свои сочинения: «Обличение на книгу раскольническую олонецкую» и «Возражение на пашквиль лютеранский, на книгу Камень веры сочиненный», «которые, – писал он, – не представить вашему величеству совесть моя мне воспрещает. Того ради и книги, и меня самого особенному вашего величества рассмотрению вручаю».
В ответ на это императрица почтила его особенным знаком благосклонности, как видно из его благодарственного письма: «За превысочайшее и всемилостивейшее вашего величества пожалование меня, всеподданнейшего раба и богомольца, вином венгерским, которое я чрез преосвященного Платона Малиновского (возвращенного из ссылки и возведенного в сан архиепископа московского Елисаветою) получил, всепокорнейшее рабское мое приношу вашему величеству благодарение и, по всемилостивейшему вашего величества приказу: начал я оное вино употреблять по совету лекаря с салволятилем и, чувствуя пользу, сосновую воду пить оставил. Тоеж вино на приношение бескровные жертвы, о дражайшем вашего величества здравии и спасении, при моем служении будет употребляться (июля 1-го 1753 г.)».120
Перед людьми, мнения которых он разделял, Арсений благоговел и преклонялся, но на людей, отступавших от установленной догмы, он призывал небесные и земные кары. Мы знаем уже, что против еретиков у него готовы были примеры из «Просветителя» Иосифа Волоцкого; а в одном из своих сочинений, Арсений прямо указывает на смертную казнь, совершенную над дворянином Возницыным121, перешедшим в Слуцке в жидовство и принявшим обрезание, хотя последний, по возвращении в Россию, до конца отвергал обвинение его в этой ереси, и замечательно, что увещание его также было поручено Арсению, и этот пример он приводит в доказательство неисправления еретиков.122 Так же сурово отнесся Арсений, когда ему пришлось произнести приговор над человеком, уклонившимся от общепринятых приемов проповедничества и заявившим открыто о необходимости более духовного понимания религиозных вопросов. Мы говорим о Владимире Каллиграфе, состоявшем сначала учителем риторики в киевской академии, а потом префектом и учителем философии и богословия в московской академии. 21-го мая 1757 г., он произнес в одной из московских церквей слово, в котором решился прямо напасть на привязанность русских к религиозной обрядности и внешности. «Пускай, – говорит он, – кому угодно различные суеверия вымышляют, пускай на одних святых, на иконы их или на Богоматерь всю надежду свою полагают; однако, твердо такому скажу, что ежели в нем не будет мудрствоваться тоже, что в Иисусе Христе, его вечная мука ожидает. Укрась, как хочешь, икону Богоматери, кричи, сколько у тебя мочи: «радуйся, благодатная Мария», а сам о той благодати не старайся, промели на всякий день по десять или по двадцать крат акафист Богородице, а сам сына её возлюбленного грехами распинай, никакой не получишь пользы».
Такая речь крайне смутила Москву, а молва разнесла о ней весть до Петербурга, Ярославля и Ростова.... Московская синодальная контора подвергла эту речь экстренному обсуждению, а в самом синоде – одни члены признали в ней иконоборческие идеи и полагали уже запретить Каллиграфу дальнейшее преподавание богословия, но другие обратили внимание на всю речь и вовсе не нашли в ней того вредного направления, какое приписывали автору. На этот раз его обязали только произнесть, при случае, другое слово в защиту икон, что он и сделал. Тем не менее, вскоре после этого происшествия, его послали было архимандритом в один из отдаленных монастырей (в Устюг), но затем вызвали в Петербург и назначили ректором семинарии в Ярославль (в июле 1759 г.). Здесь то его ожидала надлежащая кара. Арсений, имевший уже в своих руках список с московской проповеди Каллиграфа, потребовал от автора публичного отречения от своих мнений и признания их еретическими, а затем запретил ему служить с собою и ездить к нему, Арсению, в дом. В проповеди Каллиграфа Арсений видел явное «жидовство и кальвинство», чего не мог стерпеть ему по совести»; приравнивал его к названному выше Возницыну и даже не хотел признавать его «за христианина», хотя Каллиграф и объяснял ему, что синод не нашел в его мнениях никакой ереси и вторую проповедь велел произнести только «для простых-де». В таком положении виновный обратился за объяснением в синод, но Арсений послал со своей стороны донесение, в котором просил освободить его и епархию от такого волка и врага Божия. Но он не считал нужным ждать решения, а поспешил отрешить Каллиграфа от управления монастырем и велел выдавать ему одно пропитание, ссылаясь, в донесении синоду, на власть архиерейскую, данную ему от Бога и императрицы. Синод вынужден был назначить комиссию для рассмотрения этого дела, хотя и выразился, что сам такой вины за подсудимым не признает, а потому оставил за ним и управление монастырем. Однако обвиняемый не дожил до полного оправдания: в августе 1760 г. он скончался от апоплексического удара в Сергиевской лавре.
По смерти Каллиграфа была составлена опись его имущества и библиотеки, для продажи с аукциона. Библиотека эта состояла из 80-ти сочинений (до 100 томов) по богословию, философии и словесности, на латинском, греческом, еврейском, немецком, русском и славянском языках. Состав её знакомит вас с характером занятий и образом мыслей печальной жертвы ревности не по разуму Арсения. В числе книг, поименованных в описи, мы находим ученые издания Библии – католические и протестантские, сочинения Еразма Роттердамского (Epistolae etc.), Буддея (Theologia moralis, к которому питал уважение Феофан Прокопович), Рейхлина (Biblia hebraica), Adami Scherzeri (Colloquium antisocinianum, systema theologica), Salomonis glossii (Philologia sacra), Баумейстера (Institutiones metaphysicae etc.), Епиктета (Enchiridion graeco-latinum), Канта (Philosophia fundamentalis), у. Baptistae (Opera philosophica), Horatii Poemata. Lactantii (opera omnia), Р. Cuneci (orationes), Stoccis, clavis linguae sacrae, Buechneri Epistolae и др. Отсюда можно вывести заключение, что Каллиграф был один из тех ученых богословов, ряд которых открывает сам Феофан Прокопович. Часть денег, вырученных от продажи его библиотеки, пошла в уплату долга за медикаменты, взятые из лаврской аптеки, а часть выдана прислуге; но имущества у Каллиграфа почти не оказалось.123
Историки церковной словесности признают в речах Каллиграфа стройность изложения, силу аргументации, меткое изображение современных нравов, – качества, выдвигающие автора из общего уровня современных проповедников, а их было не мало в царствование Елисаветы.124 В приговоре Арсения над деятельностью Владимира Каллиграфа выразилась полнейшая его нетерпимость в религиозных мнениях. Выходя из положения: «не мнози учители бывайте» – он полагал, что лучше народу вовсе быть без наставления, или читать старые печатные произведения, нежели сеять плевелы по злонамеренности или заблуждению125, какими он считал, конечно, не только настоящую жертву своего приговора, но и всякого мало-мальски уклонившегося от рутинной колеи его собственных литературных традиций. Но приговор синода по этому делу ясно показывает, что в среде иерархии могла существовать иная точка зрения на мнения, осужденные Арсением. Строгий ригорист в исполнении религиозной буквы и суровый аскет в своих требованиях126, он был таким же мелочным блюстителем власти и в своих отношениях к подчиненным. Правда, то было время, когда и в среде дворянства, и в среде высшего духовенства еще вполне господствовали патриархальные нравы, когда грубый произвол и неуважение личности встречались на каждом шагу. Даже вблизи Москвы помещики держали себя в отношении к низшему духовенству полновластными господами, заставляли священников стоять перед ними без шапок и подвергали их побоям, хотя при Елисавете, как строгой блюстительнице церковных прав, духовный сан был огражден от подобных фактов весьма строгими постановлениями, а виновные подвергались жестоким наказаниям, как ссылка на вечное житье в монастырь, назначение на 10 лет в казенные работы, или наказанию 6 000 ударов шпицрутенами.127 Но и высшая иерархия не лучше относилась к своим подчиненным. В циркуляре устюжского епископа Варлаама (Скамницкого), прославившагося своею неуживчивостью и грубостью нрава, за самые мелкие проступки клира назначаются «наижесточайшие телесные наказания»; занявшись же устройством архиерейского села Богородского, он назначил на работы провинившихся духовных лиц: так, их руками были вырыты пруды, которые своими излучинами изображали вензель архиерея (Е. В.). Подобными же действиями заявили себя Вологодский епископ Серапион Лятошевич, Тобольский епископ Павел Конюскевич и епископ Тамбовский Пахомий.128 Не менее характеристичны некоторые типы этого рода администраторов, представленные в весьма замечательных записках Добрынина129, как например, севского епископа Кирилла Флоринского, человека, по своему времени, ученого, но в обращении с подчиненными не разбиравшего ни места, ни времени.
«Этот преосвященный, – пишет Добрынин, – всегда и даже в самом священнодействии обыкновенно доходил до такого позора, что иному из окружающих его подчиненных или сослужащих трикириями бороду подожжет, иному клок волос вырвет, иному кулаком даст в зубы, иного пхнет ногою в брюхо. Все сие делает он при чрезвычайном на всю церковь крике бранными словами, где бы то ни было: в алтаре, или среди церкви, а особенно в ту пору, когда его облачают в священные одежды. Можно сказать, что он тогда похож бывает на храброго воина, отбивающагося от окружающих его неприятелей».130
Говорят, что и Амвросий Зертис-Каменский, бывши епископом Переяславским и членом московской синодальной конторы, распорядился было высечь, в присутствии всей академии, и выгнать молодого катихизатора её Платона Левшина – будущего митрополита Московского, за найденные будто бы в его проповедях предосудительные места.131 Таковы, наконец, действия прославленного Екатериною II, в письмах Вольтеру, Димитрия Сеченова, бывшего при Елисавете епископом Нижегородским, известного нам уже по своей миссионерской деятельности. Так, он держал одного священника 6 лет в оковах в тюрьме, бил его «смертными побоями», деньги его забрал себе, дом разорил, заставил отца и сына 11-ти лет оставаться без пропитания, зато только, что отец не хотел, по принуждению архиерея, принять монашество.132 Будучи ростовским митрополитом, Арсений издал распоряжение, чтобы провинившихся священников наказывать веревками, обмоченными в горячую смолу, на конце которых навертывать проволоку в виде когтей. Такие плети назывались тогда кошками133 и этими кошками или «цепками», как называет их Арсений, был наказан при ростовской консистории один заказчик (благочинный) за то, что в его участке, в селе Сочиле, во время проезда Арсения, «было усмотрено на престоле много пыли», а священник этой же церкви был сослан на вечное житье в монастырь.134 В бывшей ростовской епархии, несмотря даже на последующую, печальную участь Арсения, о нем сохранились самые невыгодные предания. Нрава он был строптивого, рассказывают о нем, в суждениях и словах был самонадеян и дерзок, с подчиненными бранился неприличными словами; бывали случаи жестокой своеручной расправы, и жизнь он вел не совсем монашескую135. Но зато Арсений являлся не менее грозным защитником своих подчиненных, если на них посягала посторонняя власть. Узнав, что один помещик его епархии, будучи недоволен на своего священника, заставил его славить Христа в своем хлеве, Арсений пригласил помещика к себе откушать хлеба-соли, но как-только он вошел в покои, его схватили и высекли плетьми до полусмерти.136 Эти факты обрисовывают Арсения, как архиерея администратора, преобладающею чертою которого является крайнее самообольщение властью, не признававшею рядом с собою никаких других прав и мнений, а зная эти факты, едва ли можно находить в его личности какие-либо «семена» чего-то высшего, которые побуждали его «на высший подвиг» и могли бы заставить «историка» отыскивать в жизни и деятельности этого лица преимущественно поучительные страницы, достойные подражания.137
IV138. 1750–1762 гг.
Уже позднейшие распоряжения императрицы Елисаветы вызывали опасения и неудовольствие в среде духовной иерархии. Продолжительное управление крестьян духовного ведомства учреждениями, то стоявшими вне этого ведомства, то хотя и подчиненными ему, но сохранявшими до известной степени светский характер, – приучило самих крестьян смотреть на себя, как на освобожденных от непосредственного подчинения архиереям и монастырям. Называя себя «заопределенными», они считали, что духовным властям вовсе нет до них никакого дела, а потому нередко оказывали полное неповиновение и отказывались исполнять требуемые работы или нести другие повинности, а в крайности обращались с жалобами на духовных правителей в синод и светские учреждения. Замечательно также, что подобное настроение, в среде монастырских крестьян, проявилось именно в то время, когда, вследствие распоряжений Елисаветы Петровны, в начале её царствования, крестьяне снова были подчинены духовенству.139 Но уже в 1757 году, в заседании конференции, в котором присутствовала сама императрица, были сделаны существенные изменения в администрации монастырских имуществ; так, управление ими было передано, вместо монастырских служек, штаб и обер-офицерам; самые имения были положены в помещичьи оклады, и в таком размере велено было собирать доходы на монастыри, но с тем, чтобы на них расходовалось не более положенного по штатам, а остальная сумма не употреблялась бы иначе как с разрешения императрицы. Вместе с тем последовало распоряжение о сборе с монастырских и архиерейских вотчин денег для содержания отставных, которых в течение нескольких лет вовсе не собирали, и впредь эти деньги собирать ежегодно. Сумма, собранная за прошлые годы, назначена была на устройство инвалидных домов, а остаток от неё должен был храниться в банке и определялся на расходы по этой статье.140
О впечатлении, произведенном этими распоряжениями на духовенство, можно судить по письму известного Амвросия Зертис-Каменского к Арсению Мацеевичу.141 Посетивши незадолго перед тем Арсения в Ростове, Амвросий благодарит его «за Авраамле угощение и напутствование» и высказывает свое мнение, по поводу рассуждения Арсения о настоящем вопросе, копию с которого он вручил Амвросию при свидании. «По довольному мною о данной мне копии вашей рассуждению, усмотрел я, – пишет он, – что коль свято и полезно оное написано, однак не уповательно, чтоб тое другим, где надлежит, было представлено. Ибо натурально можно рассудить, что никто своих пороков на себя не отваживается объявлять; да еще пред таким, кой имеет власть за оные истязывать. А хотя-б и к другому кому написать, только за равночестие или за снисходптельство, желаемого успеха нельзя получить. И так! понеже надобных от присутствия (конечно, в синоде) заобыкли отдалять, и чрез то думают, что в случае не могут пособить, то непременно нужда надлежит в С.-Петербург съездить кому-нибудь из нас такому, который бы о всем обстоятельно и дельно представить мог. Законоправильные причины тому следующие: 1) отвратить нынешнее належащее об нас учреждение: 2) избавление сделать от львоименитого супостата, который ни ест, ни спит, но того ищет, как бы нас, аки пшеницу, рассеять и все желаемое ему в помешательство привесть; 3) исходатайствовать на вдовствующие епархии настоящих пастырей, а не азиатских выходцев и афонских прелазатаев142, за какое опущение нам ожидать неминуемого гнева Божия, на страшном же суде ответа; 4) посетить с Павлом святым братию нашу, уповающую, и в напатствующих случаях отраду и руку помощи подать им; 5) показать должность и ревность пастырскую, сколь она об общем церковном добре попечительна, и, где надобно, неупустительна». Для этой цели Амвросий советует Арсению исходатайствовать через графа Разумовского разрешение «высокомонаршие очи видеть» и в то же время отклоняет от себя эту честь, как «последнего в числе братии своей», тем более что он недавно был уже в Петербурге, где «с крайним изнурением для всего общества потрудился и неоднократно сам и через других утруждал». Он заявляет, что он поспешил оставить Петербург, между прочим, потому, что «нечем себя содержать», а иначе пришлось бы «последнюю копейку истратить».... «Того ради, – продолжает Амвросий, – по святости и по старости, и по другим превосходным дарованиям, якоже на Матфия, так паде жребий сей на ваше преосвященство; без ласкательства и без подлога сия пишу; пред Богом бо и пред вашим преосвященством свидетельствуюсь, что там вас под сие время вместо новоявленного чудотворца приимут и во сладость о всем послушают: причина сему не токмо у нас сдесь, но и там отличное об вас мнение.... Знаю, что ваше преосвященство изволите отрекаться и старостью, и слабостью, или медлительным тамо прожитием: неужели Флавиан святый помоложе и покрепче вас был, который, для взволновавшейся Антиохии, и чрез моря, и зимою в Царьград потрудился? Кольми же вашему преосвященству для неповинной всей церкви от сего спасительного труда отказываться сожалительно... Ведаю я, что ваше преосвященство нескоро на сие пристать изволите, по причине келейных подвигов ваших; но сами лучше меня изволите знать, что в подобных случаях все древние богоподвижники пустыни свои оставлять, затворы отверзать и молчания на представительства пременять, для приведения в благосостояние святых церквей, никогда не отрекались, и по вере своей все получали».143
Можно, однако, полагать, что ходатайство «через высокографское сиятельство» все-таки ослабило силу нового закона; так как, уже в 1762 году, император Петр III, подтверждая это постановление, настаивал «на действительном исполнении его и применении» без всякого изъятия, самым делом. Мало этого, он требовал, чтобы не только его собственный указ, но и экстракты из протоколов конференции (бывшей при Елисавете) по делу о монастырских имуществах «были для всех учинены известными».144 Вот почему это дело всею своею тяжестью обрушилось на память Петра III, как виновника такой жестокой меры; а между тем его распоряжения представляли только повторение или дальнейшее развитие того, что уже было выработано русским законодательством в период от Петра Великого до Елисаветы включительно; только по своей настойчивости и более резкой постановке вопроса, они напоминали скорее приемы первого, нежели последней. А насколько такая форма представлялась опасною даже для людей, известных своею решительностью и сочувствием к этому делу, вполне оправдываемому здравою политикою, – можно видеть из признания «тайного секретаря» Петра III, Д.В. Волкова. «Что ж до внутренних дел надлежит, – пишет он, – то главные моих трудов суть три: 1) о монастырских вотчинах; 2) о тайной канцелярии, и 3) пространный указ о коммерции. На первый поступал я тем охотнее, что и дело казалось мне справедливее, и рад я был случаю – воздать должную хвалу памяти покойной государыни императрицы. Но, по несчастью, перепорчена в сенате совсем вся сия история».145 Так писал Волков вскоре после переворота, находясь в опале, а потому вполне понятно, что он старался оправдаться в деле церкви, защитницею прав которой выступила в своем манифесте Екатерина II. Но если признание Волкова искренно, то оно показывает, что и сам Волков не думал идти далее желаний Елисаветы, а постановления Петра III, состоявшиеся при участии сената в более решительном смысле, находил и смелыми, и опасными...
1762 г.
Таким образом, уже 4-го января 1762 г. все дела, касавшиеся злоупотреблений по монастырским имуществам, были переданы в особую комиссию, учрежденную Елисаветою146; а 7-го февраля, будучи в сенате, император распорядился о немедленном исполнении постановления Елисаветы, «дабы, по решенному толь справедливо и предусмотрительно делу, в советованиях и сношениях не тратить напрасно время». Результатом этого настояния был указ 16-го февраля, требовавший исполнения постановлений Елисаветы Петровны, «дабы монашествующих, яко сего временного жития отрекшихся, освободить от житейских и мирских попечений», и, вместе с тем, возобновлялся указ «славные памяти государя Петра Великого», о непострижении в монастыри без особливых именных указов, для исполнения «во всем его содержании и силе».147 Спустя же две недели, синод получил новый указ, которым воспрещалось строить в партикулярных домах церкви, «ибо не умножение, – говорится в нем, – но благочинение и содержание оных полезно». Указ этот, написанный весьма искусно, мотивировал настоящее распоряжение тем, что «великое число» домашних церквей, построенных в Петербурге, лишает благолепия общенародные соборы и церкви148; но, несмотря на то, что он был вполне согласен с духом Регламента Петра Великого, он был истолкован впоследствии так, как будто бы виновники его помышляли о совершенном раззорении церквей, и действительно раззоряли их. «И таким образом, – читаем в том же обвинении, – православными владычествовать восхотел, перво всего начав истреблять страх Божий, писанием святым определенный началом премудрости».149 Однако, вскоре после этого, как своими распоряжениями о церковных имуществах, так и другими постановлениями по церковному управлению, Екатерина II доказала, что она не могла идти иным путем, кроме того, какой был проложен её предшественниками, и что, в случае уклонения от него, она готова была карать нарушителей своих требований даже более чувствительно, чем это сообразно было с её собственными философскими взглядами. Но возвратимся к нашему рассказу.
Дело, возбужденное при Елисавете, несмотря на свою опасность, не могло оставаться без движения. Уже в марте 1762 г. церковные имущества были поручены ведению коллегии экономии, учрежденной в Москве, и её конторе – в Петербурге. Духовные лица были отрешены от управления ими и заменены штаб и обер-офицерами; монастырские и архиерейские крестьяне освобождались от бывших до сих пор оброков, вместо которых с них был определен денежный взнос, наравне с дворцовыми и казенными крестьянами, а земли, которые они обработывали прежде на архиереев и монастыри, были отданы в их распоряжение. Сбор с оброчных статей и угодий, предоставляемых желающим, и взнос с крестьян – должны были впредь поступать в коллегию экономии. В распределении самых сумм положено было руководствоваться постановлениями Петра Великого, но духовным властям были назначены значительные по тому времени штаты: так, архиереям: Новгородскому, С.-Петербургскому и Московскому – определено было выдавать по 5 000 рублей серебром, остальным 23 архиереям по 3 000 р., архиереям же, заседавшим в синоде, добавлялось сверх того по 2 000 р.; на содержание семинарий (в 26 епархиях) было положено 78 000 р. Монастыри были разделены на три класса, причем содержание их настоятелям, сравнительно с положением Петра Великого, также увеличено (150–500 р.), а прочим монахам определено жалованье. Дела, возникшие до того, между крестьянами и духовными владельцами, велено было прекратить, за исключением дел о смертоубийстве; но все поборы, взятые с крестьян духовными управителями сверх положенного, велено было взыскать с последних и возвратить крестьянам; офицерам же, назначенным для управления в монастырские вотчины, было определено жалованье, «дабы, без всяких к крестьянству приметок и отягощения, порядочно должности свои отправляли», и десятая часть «от приращения», если умножат доходы с оброчных статей и от всего, «кроме крестьян, без наималейшего им отягощения». Остатки от сумм, собранных с имуществ, по-прежнему, предназначались на содержание богаделен и инвалидов.150
Такая настойчивость, со стороны правительства, ручалась за быстрое исполнение новых мер. О приведении их в исполнение, губернаторы и воеводы обязаны были доносить коллегии экономии. И когда открылись в псковской епархии поборы с крестьян, то император немедленно распорядился исследовать это дело.151 Штелин утверждает, что император сам принимал весьма близкое участие в проекте о церковных имуществах, рассматривал его в своем кабинете и делал на него свои замечания.152
Вполне понятно, что те, к кому относились эти меры, не могли равнодушно смотреть на все совершавшееся вокруг них. Сохранился весьма характеристический документ, свидетельствующий о том, как хозяйственно велась монастырская экономия. Акт этот принадлежит одному из небольших монастырей северо-восточной России, именно Угличскому Николо-Улейминскому, и относится ко времени, предшествовавшему указанной коренной реформе монастырского быта. Так, по ревизии, бывшей в 1744 году, этому монастырю принадлежали: село Дуброво и село Нефедьево с деревнями и пустошами; в них разночинцев, крестьян и бобылей считалось 1579 душ; у монастыря было стоялых меринов 25, кобыл 19, жеребенков 8, жеребят 4, коров 11, телиц 2, бык 1, телят 8, овец 26, ягнят приплодных, ярочек и барашков 24, козел 1. Наличного хлеба было: ржи 463 четверти и 3 четверика, овса 84 четверти и 5 четвериков, ячменя 12 четвертей. Следующая же запись монастырского казначея (составл. в 1761 г.) знакомит нас с подробностями самого хозяйства. В ней читаем:
«Копали в монастыре под всякой овощь в монастырских огородах гряды, по три дня, по сту человек на день. При том копании, для возки навозу, в один день, подвод имелось двадцать. Огребали в монастыре щепы «один день с подводами 376; орали, под яровой хлеб, пашню один день на 752 подводах; боронили один день на 376 подводах; пахали яровую пашню один день на 752 подводах; обирали, в монастырских полях и пустошах, покос пешие один день 376 человек; возили в монастырские поля с монастырских дворов навоз один день на 752 подводах; при них наметывальщиков имелось один же день 376 человек; орали под пар монастырскую пашню один день на 752 подводах; боронили 376 человек; косили, в монастырских полях и пустошах, пять дней по 376 человек на день, пешие; гребцов имелось по тому же числу на день; метальщиков в стоги с подводами по 188 на день, да пеших по тому же числу на день; пахали озимную под рожь один день на 376 подводах; боронили по тому же числу; жали в монастырском поле рожь пешие один день 1128 чел; жали монастырской же яровой всякой хлеб один день 1128 чел.; возили ржаные и яровые снопы два дни по 376 подвод на день; молотили монастырскую рожь и ярь по 8 овинов на день 60 утр; а на утро бывает молотильщиков с подводами по 16; да пеших по 80 на день; рубили в монастырь про монастырский расход капусту 10 дней, по 30 человек; варили про монастырский расход квас 10 варь, по 4 дни варь, по 4 человека на день; варили же про монастырский расход пива 6 варь, по 6 дней варь, по 4 человека на день; возили на монастырский конюшенный и скотный двор, в разные времена, из монастырского гумна, ржаную солому в 12 дней, по 30 подвод на день; возили из монастырских полей и пустошей на конюшенный и скотный дворы сена, в разные времена, 5 дней, по 376 подвод на день; свозили с конюшенного и скотного дворов, с плоских навесов, снег один день, на 376 подводах; набивали монастырские три погреба снегом один день, на 376 подводах; возили из монастырских лесов на всякие починки бревна, тес и слеги, в разные числа, по 50 подвод на день и больше; и того бывает в год по 752 подвод; для всякого монастырского деревянного строения вновь, и старой починки пешие, в разные времена, по 30 человек на день и больше; и того бывает в год по 752 человек; да при том строении бывает для возки из костров бревен, по 10 подвод на день и больше, и того по 94 подводы в год; и того вышеописанных работников в 1761 г. во всяких монастырских работах, в разные времена, в год имелось с подводами 11 398, да пеших 14 540».153
Нельзя не заметить, что освобождение крестьян от вотчинной власти духовенства, с указанными льготами и поземельным наделом, имеет гораздо более права на внимание, нежели последовавшее при Екатерине II отобрание церковных имуществ, самое назначение которых не соответствовало надлежащей цели. Вот почему, в возникшем затем крестьянском движении могло сложиться мнение, что секуляризация церковных имуществ при Петре III была началом освобождения крестьян от тяжкой зависимости, – мысль, с которою пришлось уже бороться преемнице Петра III, так прекрасно рассуждавшей о человеческих правах крепостного крестьянина, как «персоны».154
Но если мера Петра III могла вызвать величайший восторг у представителя тогдашней европейской публицистики – Вольтера, то она, с другой стороны, как громом поразила ту часть духовенства, к которой непосредственно относилась. Иностранные резиденты, бывшие тогда в Петербурге, считали необходимым сообщить об этом неудовольствии своим правительствам; но последнее еще усиливалось распоряжением Петра III о привлечении к рекрутской повинности детей священников155, хотя оно было только повторением постановлений, изданных в прежнее время. Замечательно, что и теперь во главе недовольных действиями правительства, относительно церковных имуществ, является тот же Арсений; к нему-то обращаются с своими заявлениями противники реформы. Мы не будем называть эту партию «патриотическою», как делают это некоторые писатели по данному вопросу, опирающиеся в своих исторических приговорах на авторитет Стурдзы, а потому обличающие и господина Соловьева в недостатке «должного освещения фактов».156 Мы ограничимся только изложением этих последних.
Вот что писал Арсению, в июне 1762 г., московский митрополит Тимофей Щербатский, также родом малоросс: «Бодрый и великодушный архиерей Божий! Истинный благодетель мой! С принятия вожделенного вашего письма прошедшего мая 30-го дня с Ростова отпущенного, в котором ваше преосвященство братскую свою любовь объявляете, не малую я радости возымел причину, уведомившиеь из оного и о здравии вашего преосвященства. Что же касается до упомянутой в писании вашего преосвященства печали, nunc, non solum vestram sanctitatem, sed omnes nos dolenda ista tetigit metamorphosis, quae vitum nostram ad gemitus et dolores ducit. И за оную вашего святительства братскую любовь, как в воспоминовение меня у престола Божия, так и в прочем являемую, благодаря, поклон мой и взаимное в желании вашему преосвященству всех благосчастливых сукцессов искренне мое братское свидетельствую усердие, пребывая навсегда тим (тем), как всеусердный мой изображает каламус истинные наружности от сердечного афекта»...157
Другое письмо того же Тимофея к Арсению знакомит уже с результатом распоряжений Петра III и отношением к происшедшей реформе самих монастырских крестьян, которым, под владычеством духовных управителей, как видно, жилось не особенно привольно. «Августа 1-го дня принял я писание вашего преосвященства всеприятно, – пишет Тимофей, – в коем объявленные, в прошедшем времени последовавшие несчастные приключения читал не без сожаления. В (У) нас в отдаленных только местах таким образом поступлено, и скот по описи весь взят. А в Москве сих наглостей не видели. Лошади, хотя все описаны, однак, и поныне не отобраны и остались под ведением нашим. Но и нам сия отрада не велика, ибо с другой стороны не без жалости видеть можно, что в вотчинах, от тех же наших крестьян, невозвратные поделаны разорения, леса порублены, сено наличное расхищено, мелкий скот и птицы инде прежде описи еще побраны, а инде при описи искоренены, в прудах рыба выловлена. И какие только вообразить можно, поделали как при описи бывшие офицеры, так и сами крестьяне опустошения. Да и при Москве в Черкизовском моем пруде не однажды описатели дерзостно рыбу ловили, однако, не одиножды за то и сменяемы были. В таких-то смутительных обстоятельствах одна только суть отрадою – надежда» – надежда, без сомнения, на близкую перемену, которая должна была произойти с вступлением на престол Екатерины II (письмо от 2-го августа 1762 года158).
Возникшее, вследствие распоряжений Петра III, неудовольствие духовенства должно было усилиться и вследствие других причин. Еще 26-го марта синоду был дан следующий указ: «Уже с давнего времени, к нашему неудовольствию, а в общему соблазну, примечено, что приходящие в синод на своих властей или епархиальных архиереев челобитчики, по долговременной сперва здесь волоките, наконец, обыкновенно без всякого решения, в тем же архиереям отсылаются на разсмотрение, на которых была жалоба, и потому в синоде или не исполняется существительная оного должность, или же, и того хуже, делается одна только потачка епархиальным начальникам, так что в сем пункте синод походит больше на опекуна знатного духовенства, нежели на строгого наблюдателя истины и защитника бедных и неповинных». Вместе с тем были препровождены в синод челобитные, по которым не состоялось решения с 1754 г., несмотря на именные указы по этим делам. Затем в том же указе говорится: «мы видим, какие тому причины могут быть поводом; но оные соблазнительнее еще самого дела. Кажется, что равный равного себе судить опасается, и потому все вообще весьма худое подают о себе мнение. Сего ради повелеваем синоду чрез сие стараться крайним наблюдением правосудия соблазны истребить и не только но сим двум челобитным немедленно решение сделать, но и всегда по подобным здесь же решить, нашим императорским словом чрез сие объявляя, что малейшее нарушение истины накажется как злейшее государственное преступление, а сей указ не токмо для всенародного известия напечатать, но в синоде к настольным указам присовокупить».159
Приведенный акт был только верным изображением действительности, общие черты которой нам уже известны; но подобный способ обращения императора к духовенству мог возбуждать новые опасения в среде последнего, а между тем новое правительство далеко не отличалось необходимою в подобных случаях прочностию. Несмотря на это, деятельность правительства в означенном направления оставалась неизменною до конца. Она напоминала собою, до известной степени, строгое и последовательное развитие церковной реформы Петра Великого. Смелые мысли Духовного Регламента в свое время производили неменьшую сенсацию в противниках реформы, но последующие постановления Петра I о монашестве, сопровождавшиеся не менее откровенными заявлениями о его жизни, представляли необходимое дополнение к Регламенту; а его распоряжения о церковном благочинии отличались даже весьма резкими замашками. Тем не менее, в это время синод был уже таким строгим исполнителем воли преобразователя, что даже сенаторы считали нужным заявить, что от разоренных часовен валяется множество крестов и глав, отчего народ соблазняется, и что крестных ходов можно было не запрещать; а если синодальным членам нет времени совершать их, то для этой цели можно было определить свободных лиц из духовенства. Указ синоду 1724 г. о том, чтобы последний озаботился составить краткое изложение учения веры, причем были бы строго отделены основные положения вероучения от преданий и позднейших толкований, и обращено главное внимание на нравственную сторону жизни, – показывает, что реформа не должна была ограничиваться одним административным порядком. Известно также, что Петр Великий не побоялся сделать распоряжение «о собрании римского, лютеранского и кальвинскаго катехизисов и прочия книг церковных действ», переводе их на славянский язык и напечатании для общего сведения. Подобные факты могли подавать надежду и Петру III на осуществление его намерений; но быстрый крутой поворот, замеченный уже в первых его действиях, при склонности самого императора к протестантизму, должен был производить иное впечатление не только на духовенство, но и на ближайшую к нему среду; тем более, что его прежнее поведение далеко не отличалось необходимою сдержанностью.160 Таким образом в действиях императора скоро усмотрели «намерение переменить совершенно религию»; по словам же Болотова, эти действия наиболее возбуждали ропот и негодование в народе. «Между тем, – говорит Болотов, – он призвал однажды к себе первенствующего архиерея (новгородского) Димитрия Сеченова и приказал ему, чтобы в церквах оставлены были только иконы Спасителя и Богородицы, а других бы не было; также чтобы священники обрили бороды и носили платье, как иностранные пасторы. Нельзя изобразить, как изумился этому приказанию архиепископ Димитрий. Этот благоразумный старец не знал, как и приступить к исполнению такого неожиданного повеления, и усматривал ясно, что государь имел намерение переменить православие на лютеранство. Он принужден был объявить волю государеву знатнейшему духовенству, и, хотя дело на этом до времени остановилось, однако произвело во всем духовенстве сильное неудовольствие, содействовавшее потом очень много перевороту».161 Поведение же императрицы в это время, по словам другого очевидца, составляло совершенную противоположность: «Никто усерднее её не выполнял обязанностей относительно покойной императрицы, предписываемых греческим духовенством» – говорит Бретейль. «Духовенство и народ были этим очень тронуты. Она строго выполняла праздники, посты, все, к чему император относился легкомысленно».162 Таким образом, неудовольствие духовенства против императора вскоре сообщилось народу. В депеше к Фридриху II, от 25 мая, Гольц, между прочим, писал: «Духовенство, повергнутое в отчаяние указом, изданным в начале царствования, по которому оно лишилось всех своих имений, подало императору представление на русском и латинском языках, жалуясь в нем на насилие и странные действия, причиненные этим указом, поступков, которых оно не могло ожидать даже от варварского правительства, а теперь вынуждено терпеть их от правительства православного, и это тем печальнее, что духовные лица терпят такое насилие потому только, что они суть служители Божии. Эта бумага, подписанная архиепископами и значительным числом духовных лиц, составлена в самом сильном тоне. Это скорее протест против государя, чем просьба к нему. Донесения, полученные вчера и третьего дня, от воевод отдаленных областей, свидетельствуют о старании духовенства возбудить народ против государя. В донесениях говорится, что дух мятежа и неудовольствия до того усилился, что воеводы не знают, какие меры предпринять, и потому требуют наставлений от правительства».163 Есть указание, что Арсений Мацеевич посылал от себя протест против распоряжений Петра III, который привел будто бы императора «в великий азарт», но решения по этому делу постановлено не было.164 По другому же известию, Димитрий Сеченов за свой протест был удален, однако вскоре опять возвращен на свое место, из страха перед народным неудовольствием.165 Подобные факты не могли быть забыты, когда переворот совершился.
V. 1762 г.
В приговоре нового правительства прежнему порядку, на первом плане стояли обвинения за нарушение церковных уставов. «Закон наш православный греческий первее всего возчувствовал свое потрясение и истребление своих преданий церковных, так что церковь наша греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности переменою древнего в России православия и принятием иноверного закона»166, – читаем в манифесте, составленном Тепловым по прибытии Екатерины II в Петербург; а спустя неделю был объявлен в сенате новый обвинительный манифест, в котором заявлялось, что Пётр III «коснулся перво всего древнее православие в народе искоренять своим самовластием, оставив своею персоною церковь Божию и моление, так что когда добросовестные из его подданных, видя его иконам непоклонение и к церковным обрядам презрение или паче ругательство, приходя в соблазн, дерзнули ему о том напомянуть, с подобострастием в осторожность, – то едва могли избегнуть тех следствий, которые от самовольного, необузданного и никакому человеческому суду не подлежащего властителя произойти бы могли. Потом начал помышлять и о раззорении самых церквей...»167 В промежутке этих двух заявлений, Екатерина распорядилась уже, чтобы сенат имел рассуждение о духовенстве, как бы ему учинить «удовольствие к его содержанию». Но духовенство, не дожидаясь какого-нибудь неопределенного решения, поспешило само подать прошение об отдаче ему во владение вотчин, а императрица передала это прошение (5 июля) на обсуждение сената, с тем чтобы последний представил ей по настоящему делу свое мнение. Затем, 9 июля 1762 г., Екатерина повелела распечатать домовые церкви, закрытые в предшествовавшее царствование.
Чтобы оценить впечатление, произведенное на духовенство первыми действиями Екатерины, нам необходимо снова обратиться к переписке уже известных нам духовных лиц. Так, узнав о перемене в судьбе бывшего Елисаветинского канцлера, графа А.П. Бестужева-Рюмина, призванного к участию в государственных делах, Арсений Мацеевич поспешил (12 июля) написать ему о деле, столь интересовавшем духовную иерархию «Не надлежало бы мне утруждать теперь ваше высокографское сиятельство просьбою, – пишет он, – однако крайняя нужда влечет, яко за отобранием ныне от дома архиерейского и от монастыря вотчин, приходится с голоду умирать, понеже хлеб у нас весь был по вотчинам в житницах, а при себе, в самом доме архиерейском, не держан, кроме как только на пищу молотый. А как указ застиг, то воевода ростовский тотчас по всем вотчинам житницы опечатал, и скот, и птицы описавши, в свою команду взял, оставив меня со всем духовенством и мирскими служителями без пропитания, и не токмо будет есть нечего, когда смолотое и лежавшее в сушилах приедим, но и литургии святой служить нечем и некому – все принуждены идти с нищими в мир. Всепокорно прошу показать милость к домам Божиим, дабы стараньем вашим возвращены вотчины были по-прежнему. Лошадей хотя малое число очень оставлено у нас, да и тех будет нечем кормить: не жаль того, что лошади у нас, все, с кобылицами и малыми жеребятами, нарочным полковником, из военной коллегии присланным, отобраны и в Петербург сведены, только жаль того, что завод, отчасти славный в государстве, совсем переведен и от нас не в прислугу высоко-монаршей власти, но как бы за вину нечто конфискованное отобрано».
Но и в этом случае сказалось больное место Арсения, не раз боровшегося против воевод в Сибири и не ладившего с ними в Ростове. Обращаясь с таким важным ходатайством к Бестужеву, он спешил принести при этом и свою личную просьбу: «В Ростове у нас воеводою надворный советник Петр Протасьев: не возможно-ли постараться его отсюда переменить».168
И переписка между русскими иерархами за это время, как видно, оживилась. Почти одновременно с этим письмом Арсений успел уже получить письмо от своего друга Крутицкого (бывшего Переяславского) архиепископа Амвросия (от 15 июля 1762 г.), следующего содержания: «За отеческое ваше писание много благодарствую, от усердия моего поздравляю общею радостью со вступлением её величества на всероссийский престол. Слава Богу, что мы все от мысленного ига избавление получили, а теперь, как из манифеста изволите усмотреть, к сентябрю месяцу просим и ваше преосвященство к нам в Москву пожаловать и нам о известном деле помогать, а паче в богоугодных своих к Богу молитвах о том напомянуть, которым и самого себя препоручаю».169 Письмо митрополита Тимофея, с выражением надежды на скорую перемену в их общем деле, нам уже известно. Так как в сентябре должна была совершиться коронация Екатерины в Москве, то этим объясняется и назначенный Амвросием термин с приглашением Арсения принять участие в общем совещании. Пока же представители иерархии не замедлили открыто заявить свое сочувствие вступлению Екатерины II на престол. Димитрий Сеченов, первенствующий член синода, приглашал ее воссесть на престол предков, как «защитницу отечества и благочестия.. «...Видела, – говорил он далее, – матерь свою – Святую Церковь бедствующую и озлобляемую, восхотела от страха и вредных перемен избавить; не допустила отечеству прийти в наглое расхищение, в горесть и воздыхание; не дала России быть от супостатов в посмех, в стыд и поношение». По его словам, одно сожаление о страждущих церкви и отечестве побудило Екатерину на такой подвиг; и на медалях, выбитых в честь этого торжества, были сделаны изображения, символически представлявшие избавление «православия и отечества» от угрожавших им бедствий с многозначительною надписью: «За спасение веры и отечества».170
Екатерина платила духовенству тою же монетою. Сохранилась весьма интересная записка её (за время пребывания в Москве) к секретарю Елагину о недозволении на придворной сцене представлений языческого характера, как противных христианской нравственности. «Россия, – пишет она, – быв просвещена святым крещением, тому слишком 1000 лет назад (sic), не может в XVIII веке приносить, и то еще в доме её благочестивые императрицы, жертвы богам римской республики, которых она не знала, быв погружена и в идолопоклонничество. Я, когда сюжеты вообще суть того века, когда идолам приносили жертвы, страдаю всегда, видя то на театре, хотя иногда для костюма того избегнуть не можно. И того ради я желаю, чтобы пролог весь («непостижимость судьбы») был оставлен».171 Такой отзыв императрицы о языческих представлениях, с юных лет воспитывавшейся на Вольтере, получает в наших глазах особенное значение. Действительно, когда, вскоре по восшествии на престол Екатерины, рассматривалось в сенате дело о допущении в Россию евреев, и все сенаторы были согласны на это, за исключением князя Одоевского, напомнившего императрице резолюцию императрицы Елисаветы («от врагов христовых не желаю интересной прибыли»), то Екатерина, как она сама рассказывает, «затруднилась, по тогдашним обстоятельствам, изъявить свое согласие», а распорядилась отложить самое дело.172 «Надо заметить, – пишет она, – что еще не прошло недели со вступления на престол Екатерины; она возведена была на оный для обороны православного закона; ей приходилось иметь дело с народом благочестивым, с духовенством, которому еще не возвращены были его имения, и которое, вследствие этой дурно принаровленной меры, не знало, чем ему пробавляться. Умы, как всегда случается после переворота, столь великаго, находились в сильном волнении. Начать свое царствование допущением евреев – вовсе не было средством к успокоению умов, объявить его вредным – было тоже невозможно... Так-то не редко случается, что недостаточно быть просвещенну, иметь наилучшие намерения и даже власть исполнить их. И тем не менее умное поведение часто подвергается безрассудным толкам».173 Точно также, спустя некоторое время (6-го сентября 1763), она обратила внимание на появление в обществе соблазнительных книг. «Слышно, – писала она, – что в академии наук продают такие книги, которые против закона, доброго нрава, нас самих и российской нации, которые во всем свете запрещены, как например, Эмиль Руссо, Мемории Петра III, письма жидовские по французскому и много подобных», и, под страхом конфискации их, она запретила продажу подобных книг, причем поручила цензуру книг, выписываемых из-за границы, академии наук и московскому университету.174
Но, при вступлении на престол Екатерины II, её политические идеалы уже вполне сложились. Вот что писала она в одной из своих записок, относящейся еще к предшествовавшему времени: «Не следует делать ничего без правил и разума, ни руководить себя предрассудками; уважать веру, но никак не давать ей влияние на государственные дела; изгонять из совета все, что отзывается фанатизмом, и извлекать, по возможности, пользу из всякого положения для блага общественного – это есть основание китайской империи, самой прочной из всех известных в свете».175 «Я часто читала, – говорит она далее, – что прежде в католических странах многие из светских владели церковными доходами. Я удивляюсь, что государи были довольно дурными политиками, допустив уничтожение этого обычая соборами». Но та школа, которую ей пришлось пройти при дворе Елисаветы Петровны, приучила Екатерину к известной сдержанности в отношениях, которой она охотно подчинялась вопреки собственным желаниям. Рассудочное направление ума Екатерины как нельзя более гармонировало с этою необходимостью применяться к данному положению вещей и сдерживало слишком смелые порывы её фантазии. «Счастлив тот, – замечает она в той же записке, – кто не допускает себя увлечь в этом вихре». Она рано привыкла не доверяться людям и в то же время поддерживать в них уверенность в её расположении. «Поздравляю себя с рождающеюся милостью ко мне, но я должна в ней сомневаться, несмотря на уверения и подарки, которые будут мне делать. Однако, это не должно мне мешать действовать так, как будто я считала эту милость за действительную... Я слишком молода, чтобы сделаться любимицею, но я должна делать так, как будто думаю быть таковою». Свой политический идеал она охарактеризовала в тех же набросках следующим образом: «Снисходительность, примирительный дух властителя сделают более, чем миллионы законов, а политическая свобода дает душу всему. Часто лучше вдохновлять к преобразованиям, чем приказывать о них».176 Между тем как Петр III, даже во время погребения императрицы Елисаветы, не мог сдержать своего обычного настроения духа, Екатерина обращала на себя общее внимание строгим выполнением установленного ритуала, а мы видели уже, как строго соблюдала она предписания церкви. Но, спустя несколько лет, она писала уже госпоже Жоффрен: «В молодости я также по временам предавалась богомольству и была окружена богомольцами и ханжами; несколько лет тому назад (т.е. при Елисавете), нужно было быть или тем или другим, чтобы быть в известной степени на виду (не думайте, однако, что я была в числе этих последних: я никогда не лицемерила и ненавижу этот порок). Теперь богомолен только тот, кто хочет быть богомольным; никому не мешают действовать как угодно» (от 15-го января 1766 г.).177
Таким образом понятия о власти уже вполне созрели у Екатерины задолго до того, когда ей пришлось самой властвовать... По вступлении на престол, она величала себя, в письмах к Вольтеру, «главою греческой церкви», которой духовная власть должна подчиниться безусловно. Этот взгляд вполне гармонировал с философскими воззрениями XVIII века, проповедывавшего просвещенный деспотизм там, где возникала борьба с церковью и средневековыми преданиями. С другой стороны, развязка вопроса о монастырских имуществах при Екатерине II лучше всего показывает, как далека была она от того решения этого вопроса, на какое надеялось духовенство по отречении от престола Петра III, и что решение его в смысле, предпринятом последним, было вполне в духе времени. Мало этого: на самый протест по этому вопросу Екатерина посмотрела не иначе, как на противодействие светской власти, и в таком именно смысле старалась объяснить, через оракулов общественного мнения Западной Европы, суровость собственного приговора над виновником возникшей борьбы. Мы видели, как отнеслась Екатерина к просьбе духовенства о возвращении церковных имений; а 16-го июля 1762 г. сенат представил уже доклад по этому делу. В докладе предлагалось: 1) имения духовенству возвратить; 2) собирать со всех крестьян, кроме семигривенного подушного оклада, по рублю, причем 50 коп. должны идти в казну, на содержание инвалидов, и 50 к. в пользу архиереев, монастырей и т. п.; 3) управление крестьянами вверить не монастырским служкам, а выборным или старостам. Затем, сенат имел общую конференцию с синодом, в которой архиереи объявили, что они довольны первым пунктом и согласны относительно третьего; но против второго некоторые из них, как напр. Афанасий, епископ Тверской – сделали замечание, что налог на крестьян будет тягостен, а сбор 50 к. на монастыри и семинарии недостаточен. Он предлагал возвратиться к решению синода, состоявшемуся при Елисавете, т. е. чтобы духовенство вносило ежегодно в казну по 300 000 р., а сбор на архиереев и монастыри был предоставлен их собственному усмотрению. С этим мнением согласились Гедеон Псковский и Вениамин Петербургский, но Палладий Рязанский и Димитрий Новгородский (Сеченов) присоединились к мнению сената. При этом последний предложил учредить комиссию из духовных и светских лиц, которая составила бы штаты для монастырей, архиерейских домов и семинарий.178
Таким образом дело о церковных имуществах снова затянулось, духовенство оставалось без определенного содержания, обреченное на неверные надежды, а правительство было поставлено в весьма затруднительное положение, которое ясно видно из следующей записки Екатерины к графу А.П. Бестужеву-Рюмину: «Прошу вас, – писала она, – приложенные бумаги рассмотреть и мнение ваше написать; дело в том, комиссию ли учинить ныне, не отдавая деревень духовным, или отдавать ли ныне, а после сделать комиссию. В первой бумаге написано отдавать, а в другой только, чтобы они вступили во владение до комиссии. Пожалуй, помогай советами».179 Следовательно, не напрасно обращался к Бестужеву и сам Арсений, так как эти советы клонились в пользу последнего мнения. Спустя четыре дня (12-го августа), уже состоялся именной указ о возвращении движимых и недвижимых имений духовенству, об устранении от заведывания ими коллегии экономии и удалении из церковных вотчин посланных для управления офицеров. Интересны некоторые подробности этого указа:
«Прилагая матернее наше старание о учреждениях и делах, до благополучия империи нашей касающихся, – читаем в нем, – равномерно оное прилагаем и об отрешении нововведенных в бывшее пред сим правление непорядков и неполезных установлений; из числа тех почитаем мы отнятие из ведомства духовного чина деревень и прочих имений, тем с большим сожалением, что оное учинено без всякого предыдущего порядка и рассмотрения: кажется надобность состояла именно в том, чтобы отобрать у духовных имения, а чтобы осмотрительные взять меры о порядочном и как для церкви и духовного чина безобидном, так и для отечества полезном управлении, о том и недумано». Но тот же указ соединяет владение вотчинами с обязательным для духовенства употреблением церковных богатств на школы, благотворительные учреждения и другие общественные потребности. Даже самую мысль об отобрании имуществ он связывает с существовавшими злоупотреблениями. «Не имеем мы намерения и желания присваивать себе церковные имения, – читаем далее, – но только имеем данную нам от Бога власть предписывать законы о лучшем их употреблении во славу Божию и пользу отечества. И для того намерены мы в совершенство привести учреждение всего духовного штата сходственно с узаконениями церковными, которым следовал дед наш, император Петр Великий, учреди на то особенную из духовных и светских персон комиссию». В то же время синоду и сенату повелевалось все имения отдать снова в управление духовенства, распечатать опечатанные при Петре III деньги и хлеб; уничтожить коллегию экономии, учрежденную для управления имениями; восстановить прежний сбор в пользу духовенства; удалить из вотчин недавно посланных офицеров и возвратить духовенству право распоряжаться вотчинными доходами, согласно с Регламентом и указами, соблюдая однако и отчетность в расходах. Что же касается крестьян, то им предписывалось повиноваться духовным властям и нести установленные подати, а в случае их сопротивления, сенату поручалось смирять их, на основании существующих гражданских законов.180
Ясно, что в этом указе заявлялось определенное намерение навсегда отказаться от опасной попытки Петра III, и восстанавливались, в несколько смягченной форме, порядки времен Петра Великого, а монастырским крестьянам, как это было сделано и относительно помещичьих, также определенно заявлялось намерение преследовать всякое сопротивление существующему порядку. Такое заявление казалось тем необходимее, что в то время уже обнаружилось движение в среде крестьян, недовольных своим положением и ожидавших полного освобождения.181 Замечательно, однако, что в царствование Петра III волнения происходили собственно между помещичьими и фабричными крестьянами, а не церковными182, а из дальнейших распоряжений Екатерины II (указ 8-го января 1763 г.) можно видеть, что указ 12-го августа послужил именно поводом к беспорядкам и в среде церковных крестьян.183 Так, 12-го декабря 1762 г., сенат читал уже, в присутствии императрицы, донесение, что 8539 душ крестьян не дали подписки в том, что они будут повиноваться монастырским властям; а в одной из своих записок Екатерина прямо говорит, что заводских крестьян в явном возмущении было 49 000 чел., помещичьих же и монастырских до 150 000184, причем из этого числа более 100 000 приходилось на долю последних.185 Монастырские крестьяне отказывались от уплаты рублевого оброка и работы – и оказывали полное сопротивление властям, вследствие чего правительство должно было напомнить первым о повиновении, а последним внушить, чтобы они крестьян своих держали в надлежащем порядке и послушании, не взыскивая с них ничего лишнего и не принуждая их ни к каким работам, кроме самых необходимых для экономии.186
Переезд двора в Москву (1-го сентября 1762 г.) и последовавшее затем торжество коронации отдалили на некоторое время действия комиссии по устройству церковных имуществ; но зато волнения крестьян вызвали, с одной стороны, необходимость смягчения в прежних распоряжениях, а с другой, несомненно повлияли на мнения самой комиссии, так как в то же время относительно заводских крестьян был поставлен уже вопрос 5 о замене их вольнонаемными людьми.187 И сама Екатерина, в одной из своих записок, говорит, что, вследствие учреждения коллегии экономии, в ведение которой были снова переданы монастырские крестьяне, – «непослушание их одним разом пресеклось»188; а в письме к Вольтеру, от 11-го августа 1765 г., она писала: «люди, подвластные церкви, страдая нередко от жестоких притеснений, к которым еще более способствовали частые перемещения их духовных, возмутились в конце царствования Елисаветы Петровны, и при моем вступлении на престол их было более ста тысяч под ружьем. Вот почему я, в 1762 г., выполнила план – совершенно изменить управление имениями духовенства и определить доходы лиц этого сословия».189
Только в конце ноября (29-го) 1762 г. состоялось учреждение комиссии, которая должна была находиться под непосредственным ведением императрицы. Членами её были назначены: Новгородский митрополит Димитрий, С.-Петербургский архиепископ Гавриил, Переяславский епископ Сильвестр; граф Иван Воронцов, князь Александр Куракин, князь Сергей Гагарин, обер-прокурор синода – князь Алексей Козловский и действительный статский советник Григорий Теплов. В руководство ей были даны: Духовный Регламент и указы Петра Великого, «так как ничего лучшего уже определить нам не возможно», – говорит Екатерина в своей инструкции. Комиссия должна была распределить доходы с церковных имений: 1) на содержание архиерейских домов, монастырей и церквей; 2) на учреждение училищ, и 3) на учреждение инвалидных домов.190 Ближайшими советниками императрицы в этом деле были: тот же граф Бестужев-Рюмин, к которому и она, и противники реформы, прибегали за содействием, и князь Я.П. Шаховской, елисаветинский обер-прокурор синода, который несмотря на все покровительство Елисаветы духовенству, не раз вступал в неравную борьбу с членами синода за права светской власти. Теперь ему поручено было заняться разработкою столь трудного дела. И вот что говорит он по этому поводу: «хотя и похвалюся, но ей! по истине, что еще не было тогда на театре в услугах недавно вступившей на престол нашей монархини кроме меня, ни знатока, ни старателя, о представлении с доказательствами к полезному учреждению оного о церковных имениях, долголетне тянувшагося и от многих происков запутанного дела». Он заявляет, что манифест о монастырских вотчинах составлен на основании его бумаг, «и тот-то есть началом тех с духовных вотчин в государственную сумму доходов, которых, за расходами на духовных персон и на продовольствие нескольких тысяч инвалидных офицеров и солдат, каковым прежде дач не бывало, еще на государственные расходы более миллиона в казну каждый год ныне приходит».191
В новом акте правительства была уже высказана мысль, что возвращение имуществ духовенству было допущено на время, пока «составляется к лучшему успеху новое и более полезное узаконение». Сославшись далее на права самодержавной власти, Екатерина говорит, что на ней поэтому лежит обязанность заботиться о делах церкви, «чтобы совесть наша не отягчена была сокрушением, когда мы, видя нестроение, оставим оное без исправления». Так, еще со времени Петра Великого, правительство хлопочет о заведении школ для духовенства и народа, но до сих пор, спустя 40 лет, и народ, и духовенство, остаются в прежнем невежестве. Церковное имущество тогда только употребляется целесообразно, когда оно идет на строение церквей, содержание духовенства, устройство благотворительных заведений, но какой великий соблазн бывает, если оно расточается на временные житейские попечения, вопреки своему назначению. Здесь императрица снова выражает намерение следовать Регламенту и указам Петра Великого, и требует привести сведения об имуществах в надлежащий порядок. На этом основании, комиссия должна была прежде всего: 1) составить подробные описи всем вотчинным имениям и крестьянам церковных учреждений; 2) собрать сведения о степени плодородия их земель, их расстоянии от больших городов и портовых рек, об их удобствах в хозяйственном отношении; 3) составить примерную форму для инструкции вотчинным управителям; 4) по составлении описей, положить каждую деревню, сообразно с её условиями, на оброк или на земледелие; 5) по определении денежных и хлебных доходов церковных учреждений, составить для всех их такие штаты, чтобы содержание их было беззазорное и безсоблазненное, и представить штаты на высочайшее утверждение. Далее, комиссии поручалось составить проекты содержания церквей, духовных училищ, число которых предполагалось увеличить, – благотворительных заведений и пенсий, соединенных с орденами. Заведывание церковными доходами предполагалось снова поручить духовной экономической коллегии, под дирекциею двух или трех знатных особ. Повторив наконец желание, чтобы церковное имущество употреблялось на пользу благочестия и народа, императрица прибавляет: «ибо мы собственной в том никакой пользы не ищем, и не нам, но имени Божию, служить стараемся».192
Но, хотя правительство ставило для комиссии в образец порядки Петра Великого, оно допускало и другой исход в решении этого вопроса; так, в той же инструкции мы читаем, что комиссии предоставляется «власть или нашему мнению последовать, или что лучше еще и благоугоднейше к пользе народной придумать». Очевидно, Екатерина находилась в данном случае меж двух огней, будучи вынуждена, с одной стороны, удовлетворить настояниям духовенства, а с другой, принимать в расчет волнение крестьян, недовольных духовным управлением. Поэтому она должна была осторожно идти к той цели, которая так ясно представлялась ей с философской и политической точки зрения; считая же церковные имущества государственными, она должна была и защиту их, в интересах духовной иерархии, представлять не иначе, как стремлением к опасному двоевластию. Впрочем, в тогдашнем синоде она не могла опасаться серьезной оппозиции. Правда, состав высшей иерархии при Екатерине напоминал еще, до известной степени, прежнее время. В интересах улучшения церковной администрации Петр Великий стал вызывать на высшие иерархические места людей, воспитывавшихся в южно-русских школах и киевской академии; но, за исключением Феофана Прокоповича, эти иерархи, начиная с самого блюстителя патриаршего престола, далеко не оправдали надежд Петра. Тем не менее, вследствие традиции и взаимного покровительства, число их в Русской Церкви значительно возросло; а расположение к ним Елисаветы Петровны, вследствие её личных симпатий к малорусскому элементу, дало им господствующее значение в церковном управлении, так что даже понадобился особый указ, разрешавший представлять на высшие духовные должности и великороссов.193 Вследствие этого, при вступлении Екатерины II на престол, синод представлял еще смешанное собрание. Во главе его стоял Димитрий Сеченов, воспротивившийся, было, при Петре III секуляризации церковных имуществ и чуть не лишившийся за то своего места. После этого он смело поддерживал права Екатерины на престол, удостоился от неё после коронации звания митрополита и 1000 душ крестьян. Таким образом самолюбие этого иерарха было польщено, и он, от сих пор, является лицом вполне преданным Екатерине. Несколько позже, в своих письмах к Вольтеру, Екатерина не раз упоминает о нем в самых сочувственных выражениях, заставляя преклоняться пред ним и такого противника духовной иерархии, каким был фернейский философ. «Димитрий митрополит новгородский, – пишет она, – не гонитель и не фанатик.194 В предписаниях Алексея нет ни одного правила, которому бы он не верил, которого бы не признал и не стал проповедывать, еслиб было полезно и нужно: он совершенно отвергает предположение двух властей. [В переводе 1803 года эта фраза звучит более понятной: «Нет ни одного закона в Уложении Царя Алексея Михаиловича, с которым бы он не согласовался, которого бы он не проповедывал и обнародовал, как скоро того требовала польза или нужда».] Несколько раз подавал он мне примеры, о которых я могла бы сказать вам, и если бы не боялась наскучить, то написала бы их на особом листке. Недавно эта духовная особа доказала еще чувства своя, которые вам известны. Некто перевел книгу и принес к нему; архиепископ советовал не выпускать ее, потому что она содержит правила, утверждающие две власти».195 Затем идут люди, также вышедшие из великорусских училищ, как: Гедеон Криновский (епископ Псковский), Гавриил Кременецкий, переведенный Екатериною из Казани в Петербург, на место Вениамина Пуцек-Григоровича, учившегося в Киеве.196 Прочие члены, как Крутицкий архиепископ Амвросий Зертис-Каменский, хорошо известный нам по своим отношениям к Арсению; московский митрополит Тимофей Щербатский, родом малоросс, человек престарелый, даже не вполне усвоивший русский язык, и Тверской епископ Афанасий Вальховский (родом из Полтавы), заявивший, было, в конференции голос в защиту прав духовенства, – были люди неопасные, как и член синода, архимандрит Мисаил.197 Но ученые великороссы усердно выдвигают теперь вперед своих учеников и сторонников, каковы: Иннокентий Нечаев, Гавриил Петров, Платон Левшин, которых Екатерина ставит в пример просвещенных иерархов в своем возражении на книгу аббата Шаппа.198
Некоторые из членов иерархии (Тимофей, Амвросий, Сильвестр) не сочувствовали лично предпринятой реформе, высказывали свои жалобы в переписке, наконец заявляли друг другу о необходимости противодействовать всякому посягательству на их права; но открыто действовать они не решались. Несмотря, однако, на такое отсутствие личной инициативы в среде членов иерархии и опасность в ведении этого дела, которую сознавали и правительство, и духовенство, – нашлось лицо, которое решилось поднять свой голос в защиту прав церкви и открыто поставить вопрос о их неприкосновенности, опираясь притом в своей защите на прерогативы и значение духовной власти.
То был Арсений Мацеевич.
VI199. 1763 г.
Программа, данная комиссии о церковных имуществах, не могла удовлетворить той партии в духовной иерархии, которая ждала бесповоротного закрепления имуществ за духовенством и монастырями. Но мы знаем уже, что Арсений выступал однажды ходатаем за это дело перед сильным Бестужевым, и на него возлагали свои надежды защитники имущественных прав церкви. Они звали его в Москву, чтобы он принял там участие в разрешении столь важного для церкви вопроса. Но их ожидания не сбылись. Арсений не был вызван туда, а это еще более раздосадовало его. До нас дошла его переписка с директором одного присутственного места в Москве, Ярославцевым, происходившая в январе и феврале 1763 г., в которой, в числе разных слухов и новостей (и более всего о герцоге Бироне и его действиях в Москве, с которым Арсений сблизился во время пребывания последнего в Ярославле, и теперь получал от него даже поклоны), встречаются намеки на отношения к Арсению некоторых членов синода. Арсений, по этому поводу, писал Ярославцеву: «По какой причине искали моей присяги, ныне отчасти открылося: надеялись, что я во время коронации в Москве буду, и хотели в синод до присутствия не допустить.200 И так-то потому явилось их во мне довольное доброхотство». На это Ярославцев отвечал: «Сколько времени злоба торжествовала! И мне бы не прилично злобу простирать, а святым людям и мыслить не довлеет. Разве кому места жаль, те старались не допустить. Да разумно, что и не поехали (т. е. Арсений, в Москву). Бог с ними!» Затем внимание их обоих сосредоточивается на отправке из Москвы, в Ростов, серебряной раки для мощей Димитрия Ростовского, причем Ярославцев сообщал, как слух, что делаются уже необходимые приготовления к поездке императрицы в Ростов предстоящим постом; но Арсений сомневался в этом. «Что касается о прибытии в Ростов её величества, – писал он, – то разве весною или летом надеяться, а теперь в пост и неизвестно, и ненадежно». Между тем Екатерина сама осматривала раку, и решила отправиться в Ростов (письмо 6-го февраля 1763).201 Решение её вполне понятно по тому значению, каким пользовался в народе Димитрий Ростовский, а торжество, устроенное в честь его, давало Екатерине возможность снова выказать свое благочестие, в противоположность недавно павшему правительству. Таким образом, волею-неволею Екатерине предстояло теперь встретиться с самим Арсением, и нет сомнения, что она прекрасно знала о поступках последнего в царствование Елисаветы Петровны; но ей также была известна и недавняя попытка Арсения – оказать свое влияние на решение вопроса о монастырских имуществах через Бестужева-Рюмина. Так, немного спустя, Бестужев должен был объясняться перед императрицею по поводу своих хлопот об Арсение, и при этом он заявлял Екатерине, что «прежде за ростовского архиерея никогда не заступал, но паче присланную от него в С.-Петербург цедулку представил с своим примечанием»202; а отсюда становится понятным, почему так интересовались теперь известною присягою Арсения, в разыскании которой он напрасно подозревал одних членов синода. К этому присоединилась поездка в Москву, в январе, 1763 г., ярославского воеводы Протасьева203, так ревностно принявшегося, было, за опись церковных имуществ в ростовской епархии, и об удалении которого ходатайствовал Арсений у Бестужева. Вот источник более точных сведений об Арсение, какие могла получить Екатерина.
Но вскоре затем произошли события, вполне подтвердившие опасения последней. Ряд новых постановлений, вызванных деятельностью комиссии, мог убедить, что право пользования церковными имениями будет значительно ограничено, и самый вопрос решится далеко не в том смысле, как ожидало духовенство.204 Все это вызвало новые неудовольствия и движение в среде высшего духовенства. Тот же Переяславский епископ Сильвестр склонял Арсения написать протест против предполагавшагося решения комиссии и даже нарочно приезжал для этого в Ростов, что вполне согласно с прежними мнениями и последующими заявлениями Сильвестра по церковным вопросам.205 При свидании же с Арсением Сильвестр вручил ему «инструкцию комиссии», копию с которой Арсений отправил к костромскому епископу Дамаскину, прося «иметь оную в скрытности», потому что сам переяславский архиерей говорил ему, что «нарочным повелением в укрытности оную содержать приказано». От себя Арсений прибавлял: «а в каковых оная комиссия обстоятельствах действие свое начинает и производить будет, о том сам он, преосвященный костромской, из оной инструкции довольно усмотреть изволит, и ту-де инструкцию Теплов сочинял, и она-де еще не в закон высокомонаршим намерением утверждена. Что же после воспоследует, судьбы Божии не знаю, а нам только надлежит Богу молиться, дабы церковь свою помиловал, якоже миловал во время Алексея святого, митрополита московского, за татарскую державу, по писанному в прологу февраля 12-го, в слове о житии святого Алексея».206 Переписка Арсения с Дамаскином, захваченная после его ареста, проливает свет на окончательную развязку дела Арсения. Уже 6-го февраля 1763 г. Дамаскин извещал последнего о получении от него исправленного чиноположения в неделю православия и заявлял, что он будет совершать этот обряд по новому чину. Дамаскин говорит о присланных к нему Арсением толкованиях на псалмы, в которых следователи нашли намеки на современные обстоятельства. Вот одно место из него: «Бог милостив, не оставит уповающих на него. Пусть противники дышут, однако столп и утверждение истины адского их ни мало боится дыхания». Но Дамаскин желал скорейшего прибытия императрицы к мощам Димитрия Ростовского и посещения ею Арсения, надеясь, конечно, на успех влияния последнего.
В третьем письме, по поводу введения в семинарии некоторых светских наук, Дамаскин писал: «Мудрии наши попы и причетники будут, только опасно, чтоб за математикою и астрономиею и тем мудрованием в собственной невеждами не остались, а паче от оных не заняли бы в голову. Я вашего держуся мнения. Довольно того, что и регламентом означено; да и того за бедностью совершенно исправить неудобно. А то-де наипаче затеваем странное оное учение, и кто с духовных в комиссии, не знаю». Нельзя не заметить здесь сходства мнения Дамаскина с доношением Арсения в синод. В заключение он просит Арсения прислать дальнейшие толкования на псалмы, прибавляя: «кроме тех, которые я от вас в проезд мой получил».207 Эта переписка и посещения Арсения лицами, заинтересованными в известном решении рассматриваемого вопроса, вполне обрисовывают пред нами роль Арсения в настоящем деле. Однако, по показанию лиц, служивших с Дамаскином в неделю православия, чин последнего он совершал по общему церковному обряду.208 Иначе поступил Арсений. Во время следствия, в Ростове были найдены три древних чиноположения этого обряда: одно печатное с письменным дополнением и два рукописные, а также одно новое, по которому был совершен этот обряд в 1763 г. (9-го февраля). Оказывается, что в письменном древнем экземпляре (1642 г.) были уже прибавки, которых нет в печатном; но Арсений сделал к ним еще новые дополнения, по которым был совершен обряд православия, в ростовском соборе, в 1763 году.209
Прибавки эти состояли из двух статей, направленных против похитителей церковных имуществ. Приводим их здесь, отмечая разрядкой [выделением] дополнения Арсения:
«1. Иже кто встанет на церкви Божии, на храмы и места святые, злии крамольницы и советницы их: да будут прокляти.
2. Вси насильствующии и обидящии святые Божии церкви и монастыри, отнимающе у них данные тем, от древних боголюбцов и монархов благочестивых имения и чрез то, воплощения Христова дело бескровную жертву истребляющии, аще не останутся от сего же такового начинания, но и еще помышляти будут таковое злодейство, яко Анания и Сапфира и яко крайний врази Божии, да будут прокляти».210
До сих пор Арсений ни разу не совершал этого обряда в своей епархии, но теперь он задумал придать ему торжественную обстановку. Все духовенство Ростова должно было принять в ней участие: а идя в алтарь, Арсений громогласно возносил молитву, в которой просил небо – отвратить хищников от исполнения их намерений; но если они воспротивятся тому, то чтобы память их погибла с шумом и имя их было истреблено в книге живых.211 Конечно, эти выходки не могли остаться тайною для Екатерины, жившей тогда в Москве, чем и объясняются отзывы её об Арсение в письмах её к статс-секретарю Олсуфьеву, от 28-го февраля.
«Адам Васильевич! – пишет она, – Понеже я знаю властолюбия и бешенства ростовского владыки, я умираю – боюсь, чтоб он не поставил раки (подлин. – рака) Димитрия Ростовского без меня; известите меня, как вы ее отправили, с каким приказанием, и под чьим смотрением (подлин. – под чей смотрения) она находится; и если не взяты, то возмите все осторожности, чтоб оная рака без меня отнюд не была поставлена». В ответ на это Олсуфьев тогда же писал Екатерине: «Для лучшего и точнейшего вашего величества изъяснения, на каком основании рака в Ростов отправлена, подношу при сем черновой отпуск письма моего к митрополиту, по которому такого дерзновения, кажется, чаять не можно. Приказано поставить впредь до указу в особом месте, по близости от церкви; сказано, что приложена печать кабинетная и что для охранения поставлены будут солдаты, да и майору Шадену, который с нею поехал, известно, что ваше величество намерены поставить раку в собственном своем присутствии; следовательно, надеюсь, что до самовольства и он не допустит. Il faudrait, que son Eminence fut d'une hardiesse inconcevable pour oser y mettre les doigts». Тем не менее, Екатерина все-таки пометила на письме: «Не худо бы подтвердить, чтобы без меня отнюд не поставили раки» (рака).212 Между тем Арсений, крайне возбужденный недавними распоряжениями комиссии, заставившими его сделать решительный шаг, и, быть может, вновь обиженный отношением к нему Екатерины, решился вступить в открытую борьбу за попранные, по его мнению, церковные права. Под такими впечатлениями написано было первое доношение Арсения в синод, от 6-го марта 1763 г.
Основываясь на манифесте Екатерины II, от 12-го августа 1762 г., который возвращал церковные имущества в ведение архиереев и монастырей, Арсений находит противоречие тому в распоряжении синода о внесении в шнуровые книги, разосланные (9-го октября) при особом указе, всех приходов и расходов по архиерейскому дому, «которое одолжение, – говорит он, – присланных ко мне книг кажется сану архиерейскому не без уничтожения: понеже в той силе имеются, яко бы архиереи о пользе церкви вси нестаратели, и в подозрении нестарательства и пренебрежения, что не по большой ли части, изыщется на светских, нежели на духовных» и в пример этого он представляет неустройство Александро-Невского монастыря, находившагося в ведении светских лиц. «Присланные от святейшего синода книги к архиереям и монастырским настоятелям, – продолжает он, – аки бы к прикащикам, тяжесть не только архиереям, но и всему духовному чину несносная и никогда же неслыханная, еще же слову Божию и закону не очень сходственная». Он напоминает обещание, данное Екатериною в манифесте 6-го июля, и обстоятельства восшествия её на престол, в которых было заявлено решительное намерение правительства «поднять скипетр в соблюдение нашего православного закона». Далее, сославшись на слова Духовного Регламента о согласии церковного управления с законом Божиим, Арсений делает отсюда своеобразный вывод: «Следовательно и Регламент, подчиняясь в своих определениях слову Божию и закону, надлежит в той силе принимать, поколику он согласен слову Божию закону, понеже всегда тому больше надлежит внимать, что власть Божия глаголет и повелевает, царями обладающая и всякому дыханию и души владычествующая, нежели власть человеческая». После такого вступления Арсений переходит к вопросу о церковных имуществах.
Приводя доказательства, что еще во времена апостолов «были имения церковные, никому не подчиненные, токмо единым апостолам, а после апостолов архиереям, на единую волю и рассмотрение архиереев оставлены, яко Богу данные и посвященные» – доказательства, основанные на апостольских писаниях и правилах апостолов и вселенских соборов, – Арсений заключает: «от сего является, яко не токмо епископы в своих епархиях, но и игумены в своих монастырях, властелины церковного имения свободные, токмо под властию архиерейскою состоящие; под страхом же отлучения от церкви никто не должен имения от них отбирать и на свое употреблять, отобранное же непременно должен возвратить. А ныне не только не думают возвращать, но, и до последнего взять, как уже сделалось в бывшее пред сим правление, от чего (!), по писанному в манифесте её величества, состоявшемся июня 28-го дня 1762 г., закон наш православный греческий первее всего возчувствовал свое потрясение и истребление своих преданий церковных, так что церковь наша греческая крайне уже подвержена оставалася последней своей опасности переменою древнего в России православия и принятием иноверного закона».213 Указав затем на «первого отнимателя церковных имений Юлиана отступника», Арсений приводит, как бы в противоположность ему, русских князей, всегда действовавших на пользу церкви, забывая, таким образом, весьма решительные попытки ограничения имущественных прав церкви, заявленные в России еще в XV–XVI веках. Впрочем, упомянув вскользь об этом, он спешит перейти к тому, действительно, замечательному явлению, что «и во время татарские державы церковь имела свободные имения, в первоначальной власти архиерейской содержащиеся», причем ссылается на жития митрополита Алексея и царевича Петра. Так было, по словам Арсения, «до времен Мусин-Пушкиновых», который, вопреки воле Петра Великого, «не токмо противу турка заопределил, но еще и превосходнее, и турок бо наших алтарных денег не знает, и не касается; а Мусин-Пушкин и сущие наши алтарные архиерейские деньги, сиречь венечные и данные церковные, едино то оставил, ежели кто что даст на поминовение и литургию архиерею, что в епархиях редко случается, а по большей части и не бывает». Он приравнивает распоряжение Мусина-Пушкина к действиям «царей римских идолослужительных», в подтверждение чего ссылается на слова «Камня веры»: «архиереи и священницы ветхозаветные доходы истинные имеяху, наши же новозаветные, служащий истине, доход имут сеновный». Взявши свое, турок не истязует, куда девалось остальное, «а ныне, когда даже о том, что дано на содержание, стало быть истязание, делом производимое, то уже архиерейство бедное с чем стало верстаться? Узник и последний богаделенный лучший и счастливейший, понеже что кто ему даст, свободен в том имеется... как же не воздыхать при самой бескровной жертве от такого ига мучительного и паче турков лютейшего которое иго её величеству представили и на нас возложили, дабы мы, архиереи всякие науки содержали и снабдевали, т. е. философские, богословские, математические и астрономические... Но «чтоб академии заводить, того нигде не обретаем, и еслибы того не было противно, то чем и каким иждивением заводить, когда последнее пропитание и содержание от архиереев и от монастырей отъемлется. Да и приходские священники по большей части в крайней бедности находятся, податьми государевыми не меньше мужиков обложены, обделывая землю к своему пропитанию: ежели будет богослов или астроном, то больше ничего не получит».214 Арсений стоял за необходимость «для духовенства однех элементарных церковных школ при архиерейских домах». «Нужны и школы, и академии, но надлежащим порядком; как издревле бывало в Греции, а теперь на западе, по местам знатным, в царствующих городах, на коште государевом, в коих академиях и святые Василий, Григорий, Богослов и Иоанн Златоуст училися: знаем бо вси, яко учение свет, а неучение тьма.... как то и Духовный Регламент, ежели его внятно, в тонкость прочесть, повелевает академиям и семинариям быть при синоде, на государственном коште, и учившихся там присылать к архиереям, дабы их производить на власти духовные, до каких они будут способны». «Для священников, – по мнению Арсения, – школы при архиереях должны быть русские, какие уже есть; так как в церквах у нас не по латыни и не другими иностранными языками читается и поется и служба совершается; при чем, дабы силу знали чтения и звания своего, вместо книги, показанной в Духовном Регламенте, которая не бывала и быть не должна, толкуется им книжица «православные веры исповедание» (т. е. сочинение Петра Могилы), от святейших патриархов апробованная... следовательно к уразумению священников более нужнейшая, нежели философия и другия академические книги, а наиболее по деревням, где непременно работать на хлеб надлежит, а не работая без пропитания быть». Он не забывает даже напомнить, что если бы пришлось умножить число таких проповедников, как бывший противник его, Владимир Каллиграф, распространявший в Москве лифтерские, кальвинские и жидовские ереси, – то лучше совсем остаться без проповедников, а довольствоваться готовыми словами и поучениями, и, кроме архиереев, никому не позволять проповедывать наизусть.
Сделав это отступление, направленное против известной уже нам комиссии о духовных училищах, преобразование которых должно было совершиться на средства монастырей и архиерейских домов, Арсений снова обращается к главному вопросу своей темы. Он жалуется на равнодушие современников к духовному клиру. «У нас же нынешнего века такой плод почти в душу не приходит, когда многие позволяют лучше кормить собак, нежели священников, церковников и монахов». Он возражает против всякого посягательства на прикосновение к церковным имуществам и установление штатов, в подкрепление чего указывает на «многие народы в нашем государстве, которые к своим идолам тоже доброхотствуют, и, сколько могут, обогащают их привесами и деньгами всякими, а также куницами, соболями, лисицами и т. п., но штаты к обогащению и умножению их не делают». Сославшись затем на грозные слова пророка Аггея о запустении храмов, Арсений с негодованием заявляет, что «теперь уже не только настоятели, но и сами архиереи хуже наемников имеются, так как от них «до последнего куса» требуют ответа, а власти их апостольской и дел, душевному спасению нужных, и в полушку не ставят». Он приводит примеры из Ветхого Завета – как ограждались священнические имения от всякого посягательства даже во время голода и плена, и из Барония – как духовенство отстаивало на соборах свои права против французских королей. Наконец, согласно с Иосифом Волоцким, мнения которого о преследовании еретиков всецело усвоил Арсений, – он, ставит в зависимость от имуществ существование самих монастырей, без которых не откуда будет взять архиереев. «Сохрани Боже такого случая, – говорит Арсений, – дабы нашему государству быть без архиереев; тогда возымеется нужда быть прежде поповщине, а после беспоповщине. И так нашему государству придется, не только со всеми академиями, но и с чинами, обратиться в раскольническое, лютеранское, кальвинское или атеисткое государство, и в таковом, сохрани Бог, случае познается, как то истинствует слово апостольское: «прилагаемому священству по нужде, и закону пременение бывает». Но здесь, как и в других случаях, Арсений немедленно сходит с общей точки зрения на частную, преследуя, главным образом, свои невзгоды и печали. Так, он указывает на обязанность монастырей содержать инвалидов, которых стали назначать в монастыри не только на вакансии, но даже на монашеские порции, вследствие чего стало невозможным содержать самих монахов.215 Арсений полагал, что эта повинность должна падать не только на монастыри, но и на мирских людей. Заключая свое доношение, Арсений заявляет, что написать последнее побудила его ревность к закону Божию, изображенная в манифестах императрицы, под которыми он конечно разумел те торжественные обещания о соблюдении интересов церкви, на которые не поскупилась Екатерина II, при вступлении своем на престол.216
Но, для своего протеста против нарушения этих обещаний, которое Арсений видел в действиях комиссии, он мог найти опору в не менее энергическом приговоре по тому же вопросу самого Димитрия Ростовского, занесенном в его «Келейный Летописец».217
Первое донесение Арсения в синод было отправлено им 10-го марта218, и в тот же день он написал два письма – одно к графу Бестужеву-Рюмину, а другое к духовнику императрицы, протоиерею Федору Дубянскому, в которых выражал желание, чтобы его мнение о монастырских имуществах сделалось известным всем, интересующимся этим делом, и просил у них защиты от нападений противников церкви. 219 К своим письмам Арсений присоединил и копии220 с мнения. Графу Бестужеву он писал: «По ревности моей о законе нашем православно-греко-российском и церкви Божией, до чего ныне оные пришли и приходят, от крайней моей горести и сожаления послал я в святейший синод доношение, а дабы о том и ваше сиятельство были известны и по ревности своей к защищению нашего православного закона о освобождении церкви Божией от причиняемого ныне крайнего утеснения возымели милостивое свое старание, того ради с оного доношения копию вашему сиятельству при сем сообщаю и прошу оную всю прочитать и прочим, кому благоволите показать, из чего можно всякому о законе нашем православном в чем оной есть (!!) обстоятельно видеть» и т.п. (марта 10-го, Ростов, 1763 г.). Арсений желал, чтобы его мнение было передано императрице вместе с представлением синода по делу о церковных имуществах. Но при этом, в особой записке, Арсений напоминал Бестужеву, что «пора бы великому князю учителя о законе приискать», для какой цели он предлагал «пригласить архимандрита Волоколамского монастыря Адриана» – «не безызвестного вашему сиятельству» – прибавляет он.221
Как видно, Арсений еще не чувствовал собравшейся над ним грозы: так, спустя несколько дней (14-го марта), он извещал Бестужева, что уже 11-го марта он получил инструкции для описи церковных имуществ, данные отправляющимся от комиссии обер-офицерам, и формы ведомостей, для рассылки их по всем монастырям; вследствие чего решился отправить в синод новое «доношение», копию с которого также сообщает Бестужеву, прося его «рассмотреть и сколько возможно церковь Божию от следующего ей гонения защитить и старанием своим не оставить».222 Другая копия того же доношения, с письмом при ней, снова предназначалась для протоиерея Дубянского.223
Коснувшись, в начале второго донесения, составления подробных описей церковных и монастырских вещей, Арсений замечает: «И так по сему следует непременно показанным офицерам в алтарь входить и иногда священных сосудов касаться, чего нам православный закон издревле, выключивши царских персон, правилами и узаконениями церковными запрещает...» – и приводит в пример: Зана или Оза (2-я книга Царств, глава VI), который, «будучи левитом, за прикосновение к кивоту был поражен смертию»; византийского императора Льва IV, прельстившагося в святой Софии драгоценным венцом, усеянным карбункулами, – который, «надев его на свою главу, подвергся жестокой болезни от язв, усеявших его чело (карбункулов), от чего и умер». Сославшись еще на отзыв Соломона о воинах, которые «не уснут, если зла не сотворят», Арсений замечает: «от таковых свойств, как древних воинов, так и нынешних, а наипаче наших, нельзя выключать, а если и не во всех такие свойства признавать, однако, надлежит засвидетельствовать, что стоит только дать им власть, то они готовы и Спаса и Богородицу ободрать224, как видно на самом деле от бывшей коллегии экономии, во время генерала Волкова, которая, в начале моей бытности в Ростове, определила было офицеров в Спасо-Ярославский монастырь переписывать евангелия, кресты и прочие, в ризнице, утвари, и на то уже указ дала монастырским властям, просителям денег, на починку монастыря; которое дело я тогда оспорил и так оно отменилось. А после, по особенному рассмотрению и на церковь призрению блаженные памяти Елисаветы Петровны, коллегия совсем упразднилась и, как экономическая канцелярия, синоду была подчинена».
Такого исхода этого дела желал и теперь Арсений. Он просил синод войти с представлением к императрице, так как «церковь от недавно бывшего удара и раззорения еще не отдохнула и в чувства не пришла», а между тем снова поднялись на нее «наветы и нападения, и таковые, подлоги, дабы ей со временем в конец истребиться». Он видел одни раззорения от присланных офицеров и грозил правительству непослушанием крестьян (!), если им будут отведены назначенные земли (как было положено при Петре III): «тогда, – говорит он, – они не будут и не захотят, хоть душу из них возьми (хорошее средство!), платить оброков, и так домы архиерейские и монастырские, не только без дров, но и без хлеба, и без денег, и без водовоза, последнего работника, останутся.225 А если бы такого случая не последовало, то у нас не Англия, едиными деньгами жить и пробиваться, а наипаче монастырям и домам архиерейским, на которых работать мужику сходнее и способнее, нежели деньги давать, которыми если бы он и изобиловал, то лучше ему умереть, нежели с ними расстаться (!)». Арсению представляется, что, при таком порядке вещей, архиереям и монастырям придется просить и умолять крестьян не отказываться от работы, каких бы денег это ни стоило; а крестьяне даже за малое дело будут вдвое и втрое требовать; о благолепии же церковном нечего и говорить.
Взгляд Арсения и его единомышленников на имущественные права церкви нисколько не разнится от мнения самых крайних защитников крепостного права того времени. Здесь все размерено и рассчитано на один прибыток и личное обеспечение; о праве же личности с религиозной точки зрения, какая проявлялась иногда у представителей этого направления в прежнее время, нет и помину. Поэтому толковать о существовании в протесте Арсения какого-то высшего духовного воззрения, как это делают его защитники, значит вовсе не понимать исторических явлений. Чем, в самом деле, разнится взгляд Арсения на личность человека от воззрений на нее защитников крепостного права? Вот что говорит, например, известный Сумароков, в своих замечаниях на Наказ Екатерины II:
«Сделать русских крепостных людей вольными нельзя: скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея иметь не будут и будут ласкать слуг своих, пропуская им многия бездельства, дабы не остаться без слуг и без повинующихся им крестьян; и будет ужасное несогласие между помещиками и крестьянами, ради усмирения которых потребны будут многие полки, и непрестанная будет в государстве междоусобная брань, и вместо того, что ныне помещики живут покойно в вотчинах, вотчины их превратятся в опаснейшие им жилища, ибо они будут зависеть от крестьян, а не крестьяне от них.... Помещики крестьян, а крестьяне помещиков очень любят, а наш низкий народ никаких благородных чувствий не имеет».226 Так рассуждали Арсений и Сумароков, уверявшие в благополучии своих крестьян, несмотря на открытые восстания преимущественно монастырских и помещичьих крестьян.227 Разница в отношениях обеих сторон к данному вопросу лишь та, что духовенство претендовало на насильственные захваты помещиками церковных земель и крестьян228, а дворянство заявляло, что действия правительства относительно церковных имуществ вполне законны, и что право владеть вотчинами принадлежит не духовенству, а исключительно дворянству.229 Очевидно, что мотивы угроз обеих сторон одинаковы.... Второе донесение Арсений заканчивает грозным предсказанием о судьбе церкви в России, если осуществятся намерения комиссии: «и так, – пишет он, – за малое время может благочестие все у нас перевестися и следа ему не остаться, разве только в памяти многих будет и в сожалении, что в толь древнем и благочестивом государстве, на весь свет славном и знатном, вдруг не от татар и ниже от иностранных неприятелей, но от своих домашних, благочестивыми и сынами церкви называющихся, церковь и благочестие истребилися». Вполне понятно, что о судьбе последней в России, Арсений плачет плачем Иеремии.230
Показания лиц, служивших в ростовской консистории, убедили, что они неоднократно заявляли Арсению, по поводу его донесений, что на именные указы представлений чинить не следует; но Арсений их не слушал, а объявлял только, сердясь: «то не ваше дело, а надлежит оному быть непременно». Доношения не были скреплены и занесены в книгу, а отправлены в синод самим Арсением231; что же касается писем к Бестужеву, то прежде, чем они успели дойти до Москвы, Арсений был уже взят из Ростова, а потому они были доставлены по назначению только 30-го марта, по вторичному распоряжению Арсения.232
Судя по быстрому течению дальнейших событий, мнения Арсения сильно смутили синод и правительство. Так, уже 12-го марта состоялся доклад синода императрице о первом его донесении, что оно «клонится в оскорблению её императорского величества, за что Арсений подлежит великому суждению, но без ведома государыни синод приступить к тому не смеет и предает на её усмотрение». Без сомнения, главным деятелем в синоде был Димитрий Сеченов; прочие члены или склонялись на сторону последнего, или не смели противоречить ему, хотя и сочувствовали мнениям Арсения. Прочитав донесение последнего, Екатерина II нашла в нем «превратные и возмутительные толкования писания», а в действиях Арсения «посягательство на спокойствие подданных», и поспешила предать его суду синода, предоставив себе лишь право смягчения его участи. Вследствие этого решения, уже 14-го марта синод определил послать за Арсением обер-офицера с командою, который должен был привезти Арсения, опечатать его бумаги и письма, и доставить их в синод, а его самого поместить под караулом в Симоновом монастыре. Вместе с тем, приступлено было к собранию церковных правил, необходимых для предстоящего суда, и постановлено производить все дело в секрете. Между тем, Арсений отправил в синод (15-го марта) второе донесение, которое могло только усилить неудовольствие против него.233 Впрочем, в это время он решился уже на все и потому не велел запирать монастырских ворот, объявив, что скоро будут гости, а в ночь на 16-е марта действительно явился за ним капитан-поручик гвардии Дурново с военною командою.234
17-го марта Арсений и чиновники его консистории были доставлены в Москву, а сочинения и письма Арсения, найденные в консистории, опечатаны и представлены в синод. Однако, увидя, что дело его принимает опасный поворот, Арсений, по-прежнему, стал проситься на покой в Спасский Новгород-Северский монастырь, ссылаясь на свою просьбу, поданную им в царствование Елисаветы Петровны; но на это не обратили теперь даже внимания.235
По случаю приезда Арсения в Москву Екатерина писала генерал-прокурору Глебову: «Александр Иванович! Нынешнюю ночь привезли враля, которого исповедывать должно; приезжайте ужо ко мне, он здесь во дворце будет».236 Говорят, что эта исповедь состоялась в присутствии императрицы, графа Орлова, Глебова и Шешковского, причем Арсений был до того откровенен, что императрица зажала себе уши, а ему закляпили рот.237 К этому времени относится переписка Екатерины с Бестужевым, объясняющая нам, как смотрела на это дело сама императрица задолго до решения суда. Только 30-го марта канцелярист архиерейского дома (Крылов) представил письма Арсения к Бестужеву, не дошедшие к нему по случаю совершившейся катастрофы. Но Бестужев опять представил письма Арсения императрице с собственным объяснением и приложениями238 (копий с доношений Арсения). Со своей стороны, он признавал, что письма и мнения Арсения «наполнены не только дерзостями, но и чувствительнейшими оскорблениями, за которые императрица справедливо на него прогневана». Отказываясь же при этом от всякого заступления за Арсения, он решался, однако, «по долгу к ближнему, в преступление впадшему, рабски просить о показании ему монаршего и матернего милосердия в том приговоре, который по суду, конечно, ему тягостен будет». Бестужев просил также: «не соизволит-ли её величество в явном и никакого уже исследования не требующем преступлении скорее сентенцию на монаршую конфирмацию учинить и тем кончить это дело, в предупреждение разных и без того в публике происходящих толкований» (31-го марта 1763). Ответом на это было следующее, весьма характеристичное, письмо Екатерины:
«Я чаю ни при котором государе столько заступления не было за оскорбителя величества, как ныне за арестованного всем синодом митрополита ростовского, и не знаю, какую я-б причину подала сумневаться о моем милосердии и человеколюбии. Прежде сего и без всякой церемонии и формы по не столь еще важным делам преосвященным головы секали, и не знаю, как бы я могла содержать и укрепить тишину и благоденствие народа (умолча о защищении и сохранении мне от Бога данной власти), если бы возмутители не были наказаны».239
Такое внушение сильно обеспокоило Бестужева, и он поспешил напомнить императрице, как поступил он с первым письмом Арсения, оправдываясь, что новые хлопоты его о скорейшем решении дела Арсения имеют целью только одно – желание: «пресечь излишния толкования и рассуждения в народе, который о точности дела не ведает; но ежели в чем старик погрешил, – заключает он, – то только от одного усердия, чем теперь от неповинности своей и сокрушается». Екатерина приписала на той же записке: «Сожалею, что сокрушается: я писала с тем, чтобы вы имели, что ответствовать тем, кто вас просьбою мучит. Желаю вам спокойно опочивать».240
На другой день (1-го апреля) открылся суд над Арсением.
VII. Суд.
Мы знаем уже содержание переписки Арсения. Она давала право заключать о значении Арсения в кружке недовольных иерархов, в котором на долю его выпала весьма видная роль.241 Ему поверяли они свои скорби по поводу новых церковных порядков; к нему обращались они за советом, побуждали его к предстоящей борьбе, для которой признавали его наиболее способным и готовым. Двое из них (Сильвестр и Дамаскин) лично посетили Арсения в это время. Члены синода Тимофей и Амвросий легко могли оправдаться в своих сношениях с Арсением, но Дамаскин не мог избежать опасности: он переписывался с Арсением о чине отлучения, изменение которого вполне одобрял; он применял толкования псалмов Арсения к современным событиям. Вследствие этого Дамаскин был вызван в Москву под конвоем. В своих ответах он объяснял, что его письмо «исторично писано»; «толкования на псалмы просил прислать для прочтения; под противниками церкви разумел раскольников; инструкцию просил у Арсения по любопытству, а чин отлучения в неделю православия совершал по установленному обряду». Но так как он имел у себя неправильное чиноположение и не донес об этом заблаговременно, то синод постановил учинить ему в своем собрании «реприманд» и отпустить в епархию, отдав на его совесть представленные им объяснения. Императрица утвердила этот доклад, но с тем, чтобы выговор Дамаскину был сделан посредством указа, который и отослать в Кострому. Сильвестр, по решении дела Арсения, также получил выговор.242
Сочинения Арсения были подвергнуты просмотру; а его переписка с Дамаскином заставила синод обратить внимание на более важный вопрос – на чин отлучения, все экземпляры которого, находившиеся в Ростове, были также доставлены в Москву.
Между тем начались допросы Арсения. На первом месте здесь стояли, конечно, его донесения в синод. Арсения спрашивали: «с какого предприятия и умыслу сочинить и в синод прислать отважился он? не было ли с кем сношений и совета о том? не разглашал ли Арсений о них письменно или словесно? как он дерзал писать в своих донесениях возражения на указы – и термины, оскорбительные для её величества, о чиноположении отлучения?». Арсений отвечал, что все он писал «по ревности и совести, чтобы не быть двоедушным; советов и сношений ни с кем не имел(?); разглашений не делал; в донесениях имел в виду не указы её величества, а комиссию243; чин православия исправил по древним спискам, где также внесены «грабители церковные». О толкованиях на псалмы, отосланных к Дамаскину, он отозвался, что «в них, кроме духовных наставлении, ничего до вышеозначенной материи не имеется». 1-го и 2-го апреля сделаны были допросы лицам, служившим при Арсение, о его сношениях и переписке, показаниями которых мы воспользовались выше. С другой стороны, синод выслушал выписку из церковных правил и гражданских законов относительно вин Арсения, причем в основание его приговора было принято дело архиепископа Феодосия Яновского, осужденного при Екатерине I «за противление высочайшей власти». Таким образом давалась соответственная окраска поступкам Арсения; но синод припомнил также старую вину Арсения, а именно, что он отказался при Елисавете Петровне принять присягу на звание синодальнаго члена и не присутствовал в синоде, хотя писался синодальным членом. На основании этих данных синод определил, было, лишить Арсения архиерейства и монашества; но – так как Арсений заслуживал, по гражданским законам, «жесточайшаго наказания», а императрица пожелала, чтобы мнение синода было представлено на её усмотрение, – то синод не сделал окончательного постановления. В дальнейших его заседаниях (4–7-го апреля) продолжалось обсуждение проступков Арсения (сношения его с графом Бестужевым и Дубянским, изменение чина православия), и вновь прибавлена статья о ссылке Арсения под крепкий надзор, в отдаленный монастырь, лишив его при этом права пользоваться чернилами и бумагою, т. е. писать.
В длинном приговоре синода, составленном по всем правилам тогдашней канцелярской риторики, девять первых пунктов прямо относятся к донесениям Арсения и представляют извлечения из них; затем идут статьи об отлучении и присяге при Елисавете Петровне, причем напоминается, что уже тогда он был призван в Москву, в синодальную контору, в которой, в собрании многих духовных персон, ему был дан письменный выговор с подтверждением, чтобы он впредь воздержался «от подобных продерзостей», а иначе, как помеха общего покоя и противник её величества, будет лишен сана и монашества, в чем Арсений тогда же расписался. Выслушав, этот приговор, Екатерина прибавила, чтобы, по старости лет, оставить Арсению монашеский чин; от гражданского суда и истязания освободить, а послать его в отдаленный монастырь, с тем чтобы он не мог развращать там никого ни письменно, ни словесно, о чем сообщить во все епархии для сведения духовенству.
12-го апреля конфирмация была объявлена в собрании синода, в присутствии других архиереев, бывших в Москве (Тихона Воронежского и Сильвестра Переяславского), и архимандритов ставропигиальных монастырей244; после чего с Арсения были торжественно сняты все принадлежности его сана, а он дал подписку, что впредь не будет именоваться, или действовать, ни митрополитом, ни архиереем, ни в другом духовном сане. Синод полагал сначала отправить его в Феропонтову пустынь, Вологодской губернии, в которой был некогда заточен патриарх Никон; но 15-го апреля переменил свое распоряжение, назначив ему местом ссылки Николаевский Корельский монастырь, куда был сослан Феодосий Яновский. На место ссылки Арсения велено было везти на Бело-озеро и Углич, под стражею, никого не допуская к нему; но ему позволено было оставить при себе прежних слуг, и на содержание его в монастыре было назначено по 50 к. в день.
Нет сомнения, что отношения Арсения к членам синода в известной степени влияли на ход его дела; иначе незачем было припоминать старые дела и заранее разыскивать его присягу. Но мы далеки от мысли полагать, что если бы не существовали эти отношения, то одно рассмотрение доношений его, с точки зрения канонического права о владении церковными имуществами, могло бы иметь для него другие последствия. Думать, что прежние его действия помешали синоду спокойно взвесить силу его доводов, – едва ли верно.245 Но в этом деле есть и другая сторона. В своих мнениях он ясно поставил вопрос об отношениях двух властей, а произнесенным отлучением отрезал для себя возможность выхода. Екатерина II постоянно смотрела на дело Арсения с политической точки зрения. Мы знаем уже её отзыв об Арсение Вольтеру. И в «Московских Ведомостях» (1763 г., 15 апреля), правительство поспешило заявить пред публикою, что доношения Арсения «от начала до конца наполнены ядом оскорбления её величества».246 Заслуживает также внимания, что в проекте указа о винах Арсения сначала был внесен пункт о ближайшем поводе его протеста («превратно поняв и толкуя вознамеренное ныне полезнейшее распределение церковного имения»), но затем этот пункт был исключен, а самое осуждение Арсения поставлено в связи с «письменными, крайне укорительными и злословными представлениями синоду, в котором её величество президентом быть изволит». В этом акте инициатива приговора приписывается синоду, а об участии императрицы замечено, что она «по своему природному великодушию, милосердию и человеколюбию, освободив его от гражданского суда», повелела только, согласно с синодскою сентенциею, по лишении сана, сослать в отдаленный монастырь с пристойным пропитанием».247
Уже впоследствии, под влиянием возникшего благоговения к личности Арсения, сложились рассказы о пророчествах Арсения насчет некоторых из его судей. Так, говорят, будто Димитрию Сеченову он сказал, что тот задохнется своим языком (он умер в 1767 г. от апоплексического удара), Амвросию Зертис-Каменскому – что его убьют как вола (он убит во время московской чумы), Гедеону Псковскому – что он не увидит своей епархии (он, будучи удален из Москвы, не доехал до Пскова и умер в дороге).248 Но подобные рассказы не могут иметь места в истории и ровно ничего не прибавляют в защиту лица, о котором передаются, хотя любители подобного материала хотят найти в нем именно это достоинство.
1763–1764 гг.
По окончании дела Арсения, Екатерина исполнила свое намерение – отправиться в Ростов – в конце мая 1763 года; но все время она была там в самом дурном расположении духа, навеянном на нее известным делом Хитрова, возникшим по поводу предполагавшегося брака императрицы с Григорием Орловым, – в которое были замешаны и многие из её приближенных.249 Арсения не было более в Ростове, но опасения не оставляли Екатерины. Оттуда она писала Н.И. Панину: «Завтра будет перенесение мощей Димитрия: вчерашний день еще чудеса были, женщина одна исцелилась, а преосвященный Сеченой хочет запечатывать раку, дабы мощей не украли: однако я просила, дабы подлый народ не подумал, что мощи от меня скрылись, оставить их еще несколько времени снаружи».250
Ровно месяц спустя после решения участи Арсения, судьба церковных имуществ была покончена... 12-го мая 1763 года состоялось учреждение коллегии Экономии духовных имений, президентом которой был назначен князь Борис Куракин, а членами её – шесть светских лиц.251 По инструкции, данной ей (6-го июня), она была подчинена непосредственно сенату и императрице – и только по духовным делам – синоду.252 Затем коллегии поручено было отправить в церковные вотчины обер-офицеров для описи имуществ.253 Впрочем, только в начале 1764 г. это дело было приведено к концу, на основании указа от 26-го февраля, который составляет самую важную эпоху в истории церковных имуществ.254 И в то время, как решался этот вопрос, граф Потемкин был определен за обер-прокурорский стол, с весьма широкими полномочиями.255
На основании закона 26-го февраля, все вотчины архиерейских домов, монастырей и церквей, в которых числилось, по этому акту, до 910 866 душ256, переданы были окончательно в ведение коллегии экономии, а духовные власти освобождены были от управления ими. Вместо всех прежних оброков и работы, крестьяне были обложены (с 1-го января 1764 г.) 1 1/2 рублевым сбором, который должен был ежегодно доставлять 1 366 299 р. На содержание духовных властей и учреждений определено было отпускать жалованье, по вновь составленным штатам, для чего все епархии и монастыри были разделены на три класса. По этому расчету на архиерейские дома было положено 149 586 р. 65 к.; на великорусские мужские монастыри 174 750 р. 40 к., и женские – 33 000 р. Те монастыри и пустыни, которые не владели вотчинами, были оставлены на своем содержании, а несостоятельные из них предполагалось присоединить к другим монастырям, или обратить в приходские церкви. Число служителей при монастырях и архиерейских домах было ограничено; но допускалось оставить за последними и двумя лаврами (Троицкой и Александро-Невской) определенное количество земли, садов, огородов и т. п. Для соборов и церквей также были установлены штаты. При архиерейских домах определено было содержать богадельни, а именно в 26-ти епархиях на 765 человек с назначением для них 3 825 р. Рассылка преступников по монастырям была прекращена, а содержание инвалидов натурою заменено взносом в 115 000 р.257 Коллегия должна была принять на себя содержание семинарий и духовных училищ, подробный штат которых предполагалось выработать со временем. Впрочем, самая коллегия существовала только до 1786 г., когда все её дела велено было сдать в архив, а имения духовенства слились с общею массою казенных имуществ и поступили в заведывание казенных палат и директоров домоводства.258 В том же году эти постановления были распространены на Малороссию259; а через два года и на духовенство губерний Харьковской, Екатеринославской, Курской и Воронежской.260
Разрешение этого вопроса не обошлось, однако, без новых жертв. Место Арсения занял в Ростове (с 26-го мая 1763 г.) епископ Тверской Афанасий Вольховский261, заявивший себя в начале царствования Екатерины II мнением в пользу сохранения церковных имуществ за духовенством. Поэтому, понятно, как должен был относиться он к своему предшественнику, и он опасался, чтобы не впутал его в свое дело угличский архимандрит Геннадий, сторонник Арсения. Дело последнего возникло в конце 1764 г., по доносу казначея монастыря Иллариона, из которого оказалось, что Геннадий распорядился, во время службы, читать молитвы об умирении церквей во время гонения, а в навечерие Богоявления запретил, вопреки церковному чиноположению, читать молитвы за императорскую фамилию. Дело его также рассматривалось в синоде, причем велено было присутствовать Григорию Теплову. Виновный был привезен в Петербург; но ответы его оказались неудовлетворительными. Так, во время следствия, было обнаружено, что он, в разговорах с монахами, по поводу последнего распоряжения, отвечал: «я это дело благопотребно делаю, ревнуя Арсению митрополиту, а я его ученик имеюся – извольте доносить». Синод, в докладе императрице (в июне 1765 г.), определил – лишить Геннадия сана и монашества и предать его гражданскому суду; но императрица от гражданского суда освободила и повелела сослать его в Соловецкий монастырь и содержать там под караулом, «не выпуская никуда кроме церкви».262
Дело Геннадия разыгралось в самый момент отобрания имуществ; в этом и состояла благовременность его ревности в духе Арсения; но подобные факты только могли побудить Екатерину к более решительному шагу в деле секуляризации. К этому же времени относится речь её, обращенная к синоду, которая, по своему общему характеру и способу выражений, напоминает подобное же обращение к духовенству Ивана IV Грозного, находящееся в записках Горсея, и нисколько не уступает приведенному нами выше обращению Петра III к синоду. Эти сближения лучше всего показывают, как поспешны были заключения Екатерины II о церковной реформе Петра III. Впрочем, речь Екатерины II передана в такой форме, что за подлинность её нельзя вполне ручаться. Вот она:
«Если спрошу вас, кто вы и какое ваше звание, то вы верно дадите ответ, что вы государственные особы, состоящие под властью монарха и законов евангельских, призванные на проповедывание истин религии и наставления в законе, служащем правилом нравов. Власть ваша есть власть людей просвещенных, наставленных в истинах христианской религии. Все уверены, что вы соблюли при исследовании их праводушие и беспристрастие, нужные к предохранению себя от заблуждений. Все ваши права и обязанности состоят в ясном предложении догматов веры, в убедительном истолковании их доказательствами, а не спорами... Существенная ваша обязанность состоит в управлении церквами, в совершении тайн, в проповедывании слова Божия, в защищении веры, в молитвах и воздержании. Для этого нужны: чистая вера, непоколебимое благочестие и всеобщая любовь. Сии три добродетели составляют должность вашего звания: без них или забывают, или оскорбляют Бога. Учитель веры должен убеждать, а не раздражать; проповедник трогать, а не восхищать; священник – наставлять на путь истины, а не подавать повода к соблазну. Я отдаю справедливость вашему сведению: вы люди просвещенные. Но отчего происходит, что вы равнодушно смотрите на бесчисленные богатства, которыми обладаете и которые дают вам способы жить в преизбыточестве благ земных, что совершенно противно вашему званию? Вы преемники апостолов, которым повелел Бог внушать людям презрение к богатствам, и которые были очень бедны. Царство их было – не от мира сего: вы меня понимаете? Я слышала эту истину из уст ваших. Как можете вы, как дерзаете, не нарушая должности звания своего и не терзаясь в совести, обладать бесчисленными богатствами, иметь беспредельные владения, которые делают вас в могуществе равными царям? У вас много подвластных. Вы просвещены: вы не можете не видеть, что все сии имения похищены у государства; вы не можете владеть ими, не будучи несправедливы к нему. Вы должны чувствовать, что вам более всех надлежит наблюдать справедливость; но когда нарушаете ее, то тем более виновны, потому что поставлены в должностях звания своего. Если вы повинуетесь законам, если вы вернейшие мои подданные, то не умедлите возвратить государству все то, чем вы неправильным образом обладаете».263
В связи с названными протестами против отобрания церковных имуществ, нельзя не упомянуть об участи, постигшей, около этого времени, другого единомышленника Арсения – Павла Конюскевича, митрополита тобольского (с мая 1758 по январь 1768 г.). Близкий Арсению по своему происхождению (он был родом из Галиции) и воспитанию (он учился в киевской академии, где и преподавал пиитику), – Павел Конюскевич напоминает его и по своему нраву, и по своим мнениям. Аббат Шапп, бывший в 1761 г. в Тобольске для наблюдения прохождения Венеры, отзывается о Павле как о человеке, исполненном нравственности, хорошем латинисте, вежливом в обращении, и приятном собеседнике, но как о не верившем в движение земли около солнца и фанатике в своих отношениях к язычникам, магометанам и раскольникам.
Возражая, на всяком шагу, Шаппу (в «Антидоте»), Екатерина подтверждает однако этот отзыв своего противника.264 К этому прибавляют обыкновенно, что, после выхода штатов для духовенства, лишивших архиерейский дом и сибирские монастыри 16 628 душ крестьян, Павел Конюскевич подал в синод смелый протест по поводу этого распоряжения. Его вытребовали к ответу, а синод приговорил к лишению сана; но императрица отправила его на жительство в Киево-Печерскую лавру, где он скончался в 1770 г.265 Слагатели религиозных легенд, по поводу опалы митрополита Павла, рассказывают о его появлении во сне Димитрию Сеченову и предсказании ему злой кончины; но грозные слова, вложенные в уста Павлу, вероятно, представляют вариант известного рассказа об обращении к Димитрию Сеченову – Арсения Мацеевича, свидетельствующий разве о том, как долго в известной среде держались мнения Арсения Мацеевича и Павла Тобольского.266
Павел Конюскевич, подобно Арсению Мацеевичу, отличался крутым нравом. Подчиненное ему духовенство, учители и ученики семинарии, за свои проступки, отсылались в черные работы и подвергались наказаниям плетьми. Таких жалоб, в течение 9-тилетнего управления Павла, накопилось в синоде до 30.267 В то же время до Екатерины стали доходить слухи, о неудовольствии архиерейских крестьян на жестокое управление митрополита Павла и особенно эконома архиерейского дома – архимандрита Иакинфа, называемого в жалобах «кровожаждущим». В интересной собственноручной записке Екатерины, писанной к новгородскому митрополиту Димитрию Сеченову, читаем: «Сии слухи подтверждены и от губернатора Соймонова с прибавлением еще многих дел, в коих, по советам эконома, архиерей беззаконно поступал. Его преосвященство показался им таковым, как его почти все в Тобольской (губернии) разумеют, то есть: мало достойным его звания, а дела его, сколько из разговоров с губернатором и прочими приметить было можно, великой хулы достойны. За малые, но по его, или советников его (коим он всем без изъятия верил), мнению – великие, проступки – наказывал отлучением от церкви; к тому же великие принуждения делает в пострижении в монахи своим подчиненным, употребляя к тому телесные наказания, и все делает, как ему нравится, хотя то и законам противно».268 Сведения, полученные Екатериною II от одного из лиц, отправленных в Китай, подтверждаются другими официальными данными. Так, тот же Иакинф, своим управлением в монастырских вотчинах, вызвал бунт крестьян, для подавления которого пришлось употребить в дело военную силу. По словам «Соликамского летописца», он был «нрава жестокого» и любил прибирать к монастырям соседния угодья, не забывая при этом и себя. Плети и кровавые расправы были обыкновенными явлениями в его отношениях к подчиненному духовенству. Слухи об этом доходили до Петербурга, но, замечательно, что, несмотря на удаление оттуда митрополита Павла, которому он много повредил, сам Иакинф оставался долго еще нетронутым, а следствия, назначавшиеся над его действиями, обыкновенно оканчивались в его пользу, пока он не погиб (в 1793 году) от рук крестьян, при содействии монахов.269 После таких фактов трудно согласиться с мнением преосвященного Филарета (История церкви) об особенно мягких отношениях духовных правителей к их крестьянам, которые будто бы способствовало их благосостоянию, сравнительно с крестьянами других ведомств.270
К довершению бед митрополита Павла присоединились жалобы на жестокие насилия и злоупотребления в Сибири при обращении язычников в христианство. Обращение их, по большей части, было только номинальное; но оно сопровождалось частыми наездами миссионеров, спаиваньем, чрезвычайными поборами и умышленным обвинением новокрещенных в отпадении от церкви; например, им подбрасывали посуду, намазанную молоком или маслом, лошадиные кости, или ставили в потаенных местах болванов, а потом разыскивали за это. В таком виде представлял, в своем донесении, положение миссионерского делав Сибири губернатор Чичерин, который заявлял, что «подобный беспорядок может быть пресечен только определением в сибирскую митрополию человека, который мог бы в эти дела благоразумно вникать». Вследствие его донесения была составлена комиссия, в которой участвовали Д. Сеченов и Теплов271 ; она решила сменить митрополита Павла, а на будущее время дать инструкцию миссионерам, в которой им предлагалось уже действовать не насилием, а мерами кротости («учить, увещевать, напоминать»); новообращенных не принуждать к таким преданиям церковным, которые могут быть неудобоносимы для непривычных; проповедник, по мнению комиссии, должен иметь вид человека, не по указу присланного, но добровольно пришедшего; проповедники отнюдь не должны прямой веры пополнять суеверием, рассказами о ложных чудесах и откровениях. Теперь предполагалось новообращенных брать в семинарии, но с тем, «чтобы они своего языка не забывали», и завести учение инородческих языков.272
Однако, два указа были посланы с вызовом митрополита Павла из Тобольска, а он не спешил выездом.273 Тогда обер-прокурор синода Мелиссино отправил ему подтверждение с приказанием о выезде в одну неделю, а тобольскому губернатору предписывалось даже употребить административные меры, в случае неисполнения этого требования, которых не пришлось применить, так как 11-го января митрополит Павел выехал уже из Тобольска.274 Таким образом, он напрасно представляется жертвою протеста по поводу секуляризации церковных имуществ.275 Впоследствии Екатерина, в своих «возражениях» аббату Шаппу, об этом случае отзывалась так: «Вот прекрасный образец, предлагаемый аббатом для подражания: невежа и фанатик; таковыми-то, господин Шапп, вам хотелось бы видеть епископов! Этот прелат, кроме того, был горд и мстителен – пороки, за которые он недавно был вынужден оставить свою епархию».276
Заметка о портрете Арсения Мацеевича.
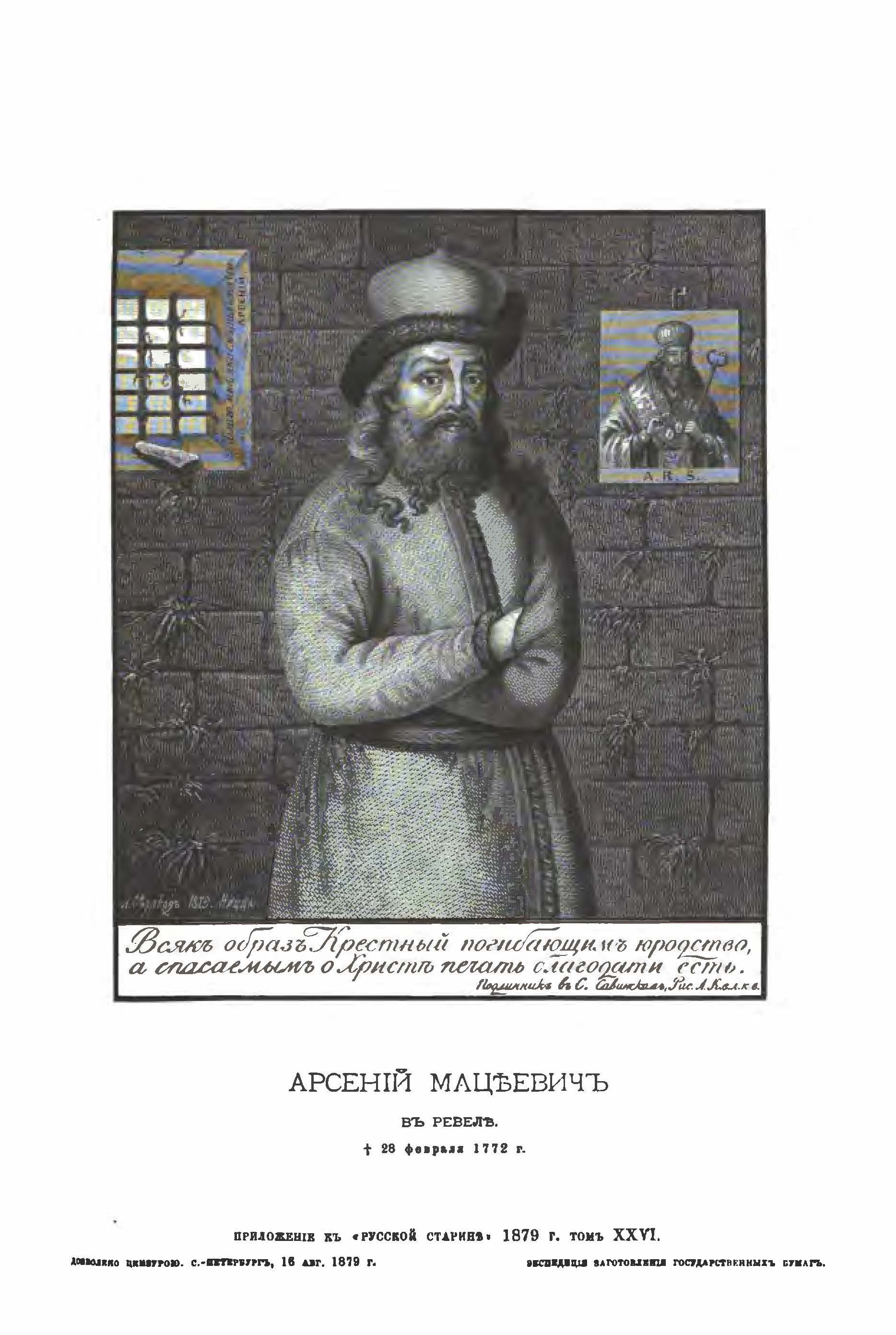
Портрет представляет Арсения в темнице; а с правой стороны на стене помещен его же портрет в архиерейском облачении, рисовал А. Ковальков, гравировал А. Осипов. Подлинник в Саввином монастыре; копия же в уменьшенном виде, гравированная Ф. Алексеевым, помещена была в издании: «Портреты именитых мужей российской церкви», М. 1844, составленном П.П. Бекетовым, но вышедшем после его смерти. См. «Словарь русских гравированных портретов», Д.А. Ровинского, в Сборнике Академии Наук, т. X, стр. LI и 18.
Литографированные весьма неудовлетворительные и неточные снимки портрета находятся в «Чтениях Моск. Общ. ист.» 1862, II, и «Рус. достопам.», Снегирева, в. IV (биография Арсения Мацеевича).
Приложенный к настоящему ХХVI-му тому «Русской Старины» портрет Мацеевича есть наивозможно точный снимок, воспроизведенный несколько в уменьшенном виде с помянутой выше гравюры А. Осипова. Прекрасный экземпляр этой гравюры сообщен «Русской Старине» И.А. Ефремовым; рисунок на дереве принадлежит К.О. Брожу, гравировал в Ницце академик Л.А. Серяков.
VIII277. 1764–1765 гг.
Напрасно Арсений и его сторонники опасались, что секуляризация церковных вотчин лишит владельцев их последних средств существования, отчего произойдут неисчислимые бедствия для церкви. Секуляризация недвижимых имуществ направила экономическую деятельность монастырей на приобретение движимой собственности, более производительной в наше время. Но примеры, современные Арсению, показывают, что он ошибался и в частных случаях. Когда его корреспондент Ярославцев сообщил ему о смерти воронежского епископа, после которого осталось «разного сорту денег 8 тысяч рублей», то и сам Арсений заметил на это: «о покойном Иоанникии разсуждают, что надобно бы у него больше денег быть, только, надеюсь, пошли по рукам и у людей остались».278 После катастрофы, постигшей в 1771 г. Амвросия Зертиса-Каменского, в его покоях, в Пудовом монастыре, были расхищены: драгоценные платья, картины, меха, разные материи, библиотека в 2 000 томов (латинских, греческих, французских и русских книг в золотых переплетах), стоившая по ведомости 6 000 р.; на 12 000 р. золотой и серебряной монеты (империалов, полуимпериалов и голландских червонцев), 252 полотняные тонкие рубахи, мраморные столы, мебель черного и красного дерева, серебряная чернильница в 1 000 руб., две золотые табакерки по 450 р., фарфоровая подзорная труба, серебряный чайный и посудный приборы, 9 очков в золотой оправе, большие запасы самого лучшего венгерского вина, шампанского, бургонского красного рейнвейну, белого старого французского, кагорского красного вина, английского пива, запас заморских водок и ликеров (семь погребцов, по 12 штофов каждый). Распространилась было молва, что в числе похищенного имущества находилось много женского платья; но по расследовании оказалось, что оно принадлежало титулярному советнику Паунцову (из пленных турок), который оставил его в Чудове, с разрешения Амвросия, для лучшего сбережения.279 Пожертвования, сделанные в настоящем столетии графинею Орловой на Юрьев и другие монастыри, также говорят против преувеличенных опасений Арсения.280
Иное дело употребление самых имуществ, которое правительство нашло необходимым секуляризировать. Крестьяне были отобраны от монастырей не с целью освобождения, подобие которого представляла собою мера Петра III – напротив, вскоре после их отобрания, их стали раздавать десятками и сотнями тысяч в частное владение. Верный исполнитель воли Екатерины II, Димитрий Сеченов, еще прежде получил в личную собственность 1 000 душ, что, конечно, шло в разрез с тем порядком вещей, какой установился теперь, при его личном участии и содействии. Между тем положение приходского духовенства вовсе не было обеспечено, а обещание умножить и улучшить состояние духовных школ – далеко не было приведено в исполнение.281 Таким образом, слова, обращенные некогда в известном манифесте Екатерины II, по поводу мер Петра III, находят здесь полное подтверждение: «кажется надобность состояла, – читаем там, – только в том, чтобы отобрать у духовных имения, а чтобы осмотрительные взять меры о порядочном и как для церкви и духовного чина безобидном, так и для отечества полезном управлении, о том и не думано». Тем не менее, никак нельзя согласиться со взглядом тех, которые против этой меры приводят такой аргумент: «Верное государственное право не отнимает ни у кого прав собственности».282 С таким аргументом немыслима никакая реформа, и государству, которое захотело бы следовать ему в настоящем случае, пришлось бы навсегда остаться на степени развития Средних веков. Притом, защитники этого аргумента забывают, что то учреждение, которое они считают необходимым оправдывать такими доводами, в то время давно утратило уже свой первоначальный характер.
Но дело Арсения имело и другое, важное последствие. Он был родом из польского края, учился в Малороссии, вступил на высший иерархический пост в России, благодаря покровительству малороссийской партии, господствовавшей тогда в духовной иерархии. Эта партия мечтала о восстановлении патриаршества и не могла свыкнуться с порядками Духовного Регламента. Понятно, что Екатерине II, строгой блюстительнице авторитета светской власти и политического единства России283, не могли нравиться подобные тенденции. И вот, в то время как Малороссия должна была лишиться своей автономии в лице гетмана, императрица, в инструкции графу П.А. Румянцеву, данной ему при назначении малороссийским генерал-губернатором, поручала: «искусным образом присматривать за тамошними архиереями и их подчиненными, дабы они, различными умозрениями закоснелого в них властолюбия, не выступали из надлежащих пределов сана своего, простирая иногда власть свою духовную над мирскою, иногда же рассеевая в народе простом и суеверном разные, их намерениям полезные, общему же покою предупредительные плевелы, под видом закона Божия и благочестия, как о том в Духовном Регламенте упоминается... К тому же небезызвестно, – читаем далее, – что обучающиеся богословию и определяющие себя здесь к чинам духовным, как в заграничных польских, так и в малороссийских училищах, по развратным правилам римского духовенства, заражаются многими ненасытного властолюбия началами, которого вредными следствиями наполнены прошедших времен истории европейские». На основании той же инструкции Румянцев «должен был стараться узнать совершенно власть тамошнего духовенства по всем её околичностям... И как по сему весьма нужно, чтоб в архиереи и архимандриты посвящаемы были такие люди, от которых бы, по настоящему смирению и крепости духовной, резонабельных сентиментов ожидать было можно, и не худо заранее таковых знать», – то Румянцеву давалось право представлять таких императрице кандидатами на убылые архимандричьи и архиерейские места, обозначая при этом: «искусство и образ мыслей и жития их».284 Мы видели, что уже в начале своего царствования Екатерина II старалась в самом синоде усилить великорусский элемент, а 17-го февраля 1765 г. последовал даже указ синода, по которому епархиальные архиереи должны были на праздные места монастырских настоятелей представлять по два кандидата, с непременным обозначением, кто какой нации, и с этого времени число малоруссов начало быстро уменьшаться285 в великорусских епархиях.
В это время Екатерина занималась составлением Наказа для будущей Комиссии Уложения, в котором она старалась провести свои излюбленные мысли о веротерпимости, о которой она так часто беседовала с Вольтером. Наказ почти совсем отвергал гражданские наказания за религиозные преступления, о которых он выражается: «Чтобы наказание за вышеописанные святотатства производимо было из свойства самой вещи, должно оное состоять в лишении всех выгод, (религией) законом нам даруемых, как то: изгнание из храмов, исключение из собрания верных на время или навсегда, удаление от их присутствия». В таком же роде мысли Екатерины и об еретичестве (§§ 74 и 75). Предлагая Наказ в первоначальном виде на обсуждение некоторых лиц, она предоставила это право и к духовным особам; но это были уже люди, выдвинутые вперед Екатериною, как Иннокентий Нечаев (епископ Псковский), Гавриил Петров (епископ Тверской) и Платон Левшин (тогда еще иеромонах); притом замечания их о противоречии Наказа общепринятым церковным мнениям, хотя и были выражены в самой мягкой форме, почти не повлияли на мнения императрицы. В Комиссии Уложения не было представителей от духовенства, как сословия, но синоду было предоставлено избрать депутата на ряду с другими правительственными учреждениями: таким членом в Комиссии является сначала Димитрий Сеченов, а потом тот же Гавриил. Но когда синод должен был вручить избранному депутату свой Наказ, то обер-прокурор Мелиссино поспешил внести от себя в синод 18 пунктов, для руководства в предстоящих прениях по церковным вопросам. Пункты эти были составлены в духе Наказа Екатерины, и, без сомнения, были написаны не без её ведома. В этих пунктах мы встречаемся с весьма существенными вопросами из области церковных отношений, как, например, о представлении раскольникам свободного отправления богослужения, сокращение постов и церковных служб, изъятие из Кормчей некоторых дополнений, уничтожение суеверий, прекращения содержания монахам, которые «великого кошта стоют, не принося пользы»; о дозволении выбирать из священников на епископские места, о разрешении духовенству носить «пристойнейшее платье», об отмене поминания умерших, об облегчении разводов и сокращении степеней родства при заключении браков.286 Синод отклонил эти пункты, и они не подвергались даже обсуждению, хотя, кажется, не остались без влияния на депутатский Наказ, а в вопросах о суевериях последний постоянно ссылается на Духовный Регламент. Другие пункты депутатского Наказа касались преимущественно церковного благочиния, расширения прав духовенства (например, приобретать крестьян куплей), запрещения православным вступать в другие законы, постановлений о браках, и т.п.287 Кроме того, в одной из частных комиссий был поставлен вопрос, к какому классу следует причислить духовенство. Комиссия касалась этого вопроса в двух заседаниях (11-го марта и 22-го мая 1768 г.) и пришла к заключению, что духовенство должно быть отнесено «к среднему роду людей». Более других говорил по этому вопросу известный историк, князь М.М. Щербатов, приводивший, по своему обыкновению, места из истории Юма, и ему же поручено было составить записку о правах духовенства. Комиссия отнеслась с похвалою к его записке, но в дирекционной комиссии митрополит Гавриил сильно восстал против означенного мнения и настоял на выделении духовенства в самостоятельный привилегированный класс в государстве.288 Мнения князя Щербатова о духовенстве основывались на воззрениях общих эпох просвещения. Вот весьма характерный отзыв его о значении синода: «В нем обретается обер-прокурор, – говорит он, – особа, нужная в сем месте для недопущения духовенству захватывать над гражданскими правами, к чему они весьма склонны... Духовные особы, присутствующие в синоде, суть люди почтенные их саном, а часто и пронырством, сочиняющие корпус между собою, яко беспрестанно борющийся для приобретения себе больше силы, а в сопротивление им посажен один обер-прокурор, человек небольшего чина и, по большей части, неслучайный при государе, то может-ли он единый силе их сана, пронырствам и соединению противиться? Правда, по ныне не видно еще, чтобы архиереи многое захватили, но посторонния тому обстоятельства противились. При Петре Великом не смели ничего начать, императрица Екатерина I и Петр II мало царствовали; императрица Анна Иоанновна имела при себе герцога курляндского, лютеранина, следовательно, противного духовенству; императрица Елисавета мало по набожности своей не возобновила чин патриарший, но временник её Разумовский, преданный духовенству, более упражнялся с ними пить, нежели в честолюбивых их намерениях им помогать; а потом её временник И. И. Шувалов, человек разумный, и совсем их проискам путь пресек. Петр III был внутренно лютеранин, а ныне царствующая императрица, последовательница новой философии, конечно, знает, до коих мест власть духовная должна простираться, и, конечно, из пределов ее не выпустит. Но я впредь не ручаюсь, чтоб духовный чин, нашед удобный случай, не распростер свою власть».289
1765–1766 гг.
С этой именно стороны Екатерина II старалась представить перед общественным мнением Европы, которым она так дорожила, свое отношение к делу Арсения Мацеевича. Вопросы о веротерпимости и отношениях светской и духовной властей служили любимою темою в переписке её с Вольтером; а имя Арсения упоминается в ней уже в половине 1765 г. (11-го августа), в связи с вопросом об отобрании церковных имуществ. Екатерина по этому поводу писала: «крестьяне, принадлежавшие духовному ведомству, часто терпели тираннические притеснения, чему еще более способствовала частая перемена властей, почему они и взбунтовались в конце царствования императрицы Елисаветы, так что при моем вступлении на престол их было более ста тысяч, взявшихся за оружие. Это побудило меня в 1762 г. осуществить проект о совершенном изменении в управлении духовными имуществами и определить доходы лиц этого сословия. Арсений, епископ ростовский, подущенный некоторыми из собратий своих, которые заблагорассудили скрыть свои имена, восстал против этого. Он послал две записки, в которых старался установить нелепое начало двоевластия. Подобное покушение он уже делал при Елисавете, но тогда удовольствовались тем, что принудили его к молчанию, но так как его наглость и безумие усилились, то он был судим новгородским митрополитом (важная опора для Екатерины, так как Вольтер уже знал о Димитрие Сеченове, по её же письмам) и целым синодом, и обвинен в фанатизме и действиях, противных как православной вере, так и самодержавной власти, почему лишен своего сана и священства и предан в руки светского начальства. Я его помиловала и удовольствовалась низложением в монахи».290 Спустя год (29-го июня 1766 г.), Екатерина снова возвращается к Арсению, но уже в связи с вопросом о терпимости: «Все, подобно Каласам и Сирвенам, вам должны всем, – пишет она Вольтеру, – ничего не стоит дать немного своему ближнему из того, что имеется в великом изобилии, но делается безсмертным, когда становишься адвокатом за человечество, защитником угнетенной невинности. Эти два дела привлекают к вам уважение, которого заслуживают такие чудеса. Здесь вы поражали соединенных врагов людей – суеверие, фанатизм, невежество, кляузы, худых судей и часть власти, находящейся в руках тех и других. Надобно много доблести и достоинства, чтобы побороть эти препятствия. Вы показали, что обладаете ими – вы победили». Изъявив готовность оказать вспомоществование пострадавшим семействам, Екатерина продолжает: «Неприятное приключение с ростовским епископом было обсуждаемо гласно (?), и вы, государь мой, по своему усмотрению, можете сообщить записку, как подлинную выписку, полученную вами верным путем». Затем, сообщая о предстоящих действиях Комиссии Уложения, она прилагает к письму извлечение из составленной ею инструкции, в которой говорится, что «в великом государстве, владычество которого распространяется на столько различных народов, на сколько есть различных верований у людей, будет самою вредною для покоя и тишины граждан ошибкою – нетерпимость к их различным верам. Только мудрая терпимость, одинаково признаваемая православною верою и политикою, может привести этих заблудших овец к истинному верованию. Преследование раздражает умы, терпимость их смягчает и делает менее упорными, так как потушает распри, которые противны покою государства и союзу граждан». Но это письмо было только ответом на благоговейное обращение Вольтера к «Северной звезде», с просьбою о покровительстве Сирвенам, после тех благодеяний, какими была осыпана семья Каласов. Вольтер просит императрицу даже умерить её доброту, но представить ему воспользоваться её именем.
«Мы просим, – пишет он, – только чести поместить ваше августейшее имя во главе тех, которые помогают нам раздавить фанатизм и сделать людей более снисходительными и человечными. У меня есть просьба к вашему величеству о другой милости, – продолжает он, – это – дозволить, чтобы я сообщил записку, которую вы удостоили мне передать на счет ростовского епископа, наказанного за то, что он вообразил, что есть две власти. Есть только одна, всемилостивейшая государыня, и это та, которая благодетельна», – спешит прибавить фернейский мудрец291, так умевший соединять философию с политикою. Понятно, почему обе стороны так хлопотали об оправдании в глазах общества осуждения «фанатика». Для Екатерины, постоянно проповедывавшей о терпимости, важно было дать объяснение своему поступку; для Вольтера, боровшегося против притеснений власти и в то же время опиравшагося на авторитет Екатерины, не менее важно было найти оправдание её приговору в настоящем случае. Но участь Арсения еще не была решена окончательно. Вскоре после обмена этих мыслей, обе стороны должны были снова встретиться.
IX. В ссылке и на суде, 1767 г.
В заключении Арсений пользовался большею свободою, чем было дозволено. Он собирал возле себя монахов и караульных солдат, с которыми вел беседы о современных событиях и действиях враждебного ему правительства; он нередко касался вопросов, имевших отношение к его собственному положению. И вот, по доносу одного из монахов (в сентябре 1767 г.), возникает новое дело об Арсение.292 По следствию обнаружилось, что Арсений продолжал оспаривать права Екатерины на престол: порицал её намерение вступить в брак с графом Г.Г. Орлoвым; утверждал, что Мирович не мог предпринять один освобождения Ивана Антоновича, «а конечно-де было много и больших господ согласников», почему его следовало пытать, да и бывших у принца на карауле офицеров, которые его убили, надлежало казнить, «за пролитие царской крови».293 Он делал намеки по поводу болезни великого князя Павла Петровича, о котором выражался: «у нас-де в России непостоянны и не берегут настоящих наследников»; утверждал, что Библия напечатана в России неисправно и в некоторых местах согласна с жидами, а книжка исповедания – с кальвинами согласна, в чем обвинял синод, и на допросе заявил, что готов свои слова подтвердить доказательствами. Но особенно подробны были рассуждения Арсения относительно монастырских имуществ и его собственного положения. «Ныне-де в монастырях, – говорил он, – и пива сварить не из чего; а первый-де император, хотя и определил от монастырей вотчины отнять, но рассудил оставить; прежние-де цари церковь награждали, а ныне всю разграбили, а в его-де епархии и сосуды обобрали294 ; и так-де, что в России делают, того у турков нет; ибо-де, турки свои мечети награждают, у нас де, ныне Содом и Гомор. А еслиб-де, наших духовных предателей, т. е. новгородского и петербургского не было, то б монастыри и церкви были в прежнем состоянии. А дворянство-де, не смотря на предков своих, давно уж добиралось, чтоб деревни от монастырей отобрать, и видя-де ныне государыню не тверду в законе и российских поведений незнающую, удобное к отнятию деревень время изыскали; ибо-де, ей, государыне, как доложили и что представили, то и подписала». В этом показании Арсений признался; остальные пункты стоят в близкой связи с последним. Так Арсений «называл Сеченова супостатом, а притом говорил, что если б Сеченов пропал, то-б он, Арсений, был свободен». Арсений заметил, что «говорил так с сердцов и синодских членов бранил». Он сетовал, что «прежде архиереев цари почитали и во всем благословения требовали у них, то-де тогда, – замечал он, – наша братья смело их в духовных делах обличала; а я-де, как послал правильное доношение, так за мою правду и в ссылку сослали». Арсений в этом сознался, оставаясь при своем мнении, что «его за правильное доношение сослали, и будет-де судиться о том на страшном суде.... Златоуст-де послан в заточение от царицы, где и пострадал – рассуждал Арсений. Он осуждал ссылку архимандрита Геннадия за чтение молитвы о гонящих церковь и на следствии заявил, что «он, Арсений, думает, что расстриг архимандрита Сеченов по злобе на него, Арсения, потому что оный архимандрит был им посвящен и определен».295 Однако Арсений и сам советовал архимандриту Корельского монастыря «читать на проскомидии молитву о гонящих церковь и часть вынимать, что и было, по приказанию архимандрита, исполняемо». Из этого видно, что Арсений пользовался большим влиянием в монастыре. Так, когда был получен там указ о поминовении императорской фамилии, с подробным реестром, то архимандрит заметил на это: «Пускай-де, те в положенные по реестру числа поминают, кто больше жалованья берет, а мы-де будем поминать по прежнему».296 На это Арсений дал такое объяснение: «Под гонящими церковь разумел он предателя Димитрия Новгородского и Гавриила С.-Петербургского, и всех немецких чинов, которые об отнятии старались и в комиссии присутствовали».297
Арсений слишком верил в силу своих мнений и доводов, которым он остался верен до конца. Уже вскоре после вторичного суда над ним (22-го октября), он обратился в канцелярию с просьбою «чтобы она записала его объявление и представила императрице; он просил, чтобы императрица прочла подлинное его доношение, за которое он осужден, и из которого, конечно, соизволит увидеть его правость». В подтверждение этого он ссылался на императрицу Елисавету Петровну, которая, находя, что он писал справедливо, подлинного доклада утвердить не согласилась, единственно послушав его письма, и сказала, что не подпишет: «как, де, после смерти моей хотите». Он полагал, что «доклад о нем был сделан в экстракте и на словах; а еслиб подлинное доношение её величество изволила читать, то конечно он так наказан не был бы». И он утверждал, по-прежнему, что «деревень от церквей на основании резонов, прописанных в его доношении, отбирать не подлежало».298
Но Арсений горько ошибался в своем расчете. Екатерина собственноручно отметила обвинительные пункты против него, сама составила записку для указа о его винах, на основании которой указ был написан генерал-прокурором Вяземским, а затем исправлен и значительно смягчен императрицею. В новом обвинительном акте на первом плане стоят уже пункты политического свойства, а именно, что Арсений рассевал о наследнике российского престола, великом князе Павле Петровиче, что в нем к правлению престола надежды нет, и, ежели-де скончается, то не за кого больше приняться, как за братьев принца Иоанна, коих почитает он за царское колено; ложно толковал житие Кирилла, что в России будут царствовать двое юношей, чем старался поколебать в других верность к самодержице и наследнику престола; не устыдился причитать убийство принца Иоанна яко бы данной караульным офицерам от императрицы Елисаветы инструкции299, чем не только оказал к ней свою неблагодарность, но и сделался оскорбителем; ложно рассевал, что будто бы императрица Елисавета намерена была возвести на престол, по своей кончине, принца Петра; забыв не только звание монашеское, но и самое человечество, жаждал пролития крови человеческой и лишения жизни людей, совсем неповинных (по делу Мировича). Вообще, Арсений являлся теперь в глазах императрицы человеком, возмущавшим «общественное спокойствие» и «желавшим возбудить негодование на правительство». Его предсказания были сочтены суеверием и святотатством. Только после этих обвинений стоят уже пункты об отобрании церковных имуществ. Наконец Арсений обвинялся в том, что он, будучи лишен сана, осмелился в монастыре сказывать проповеди.
Поэтому он признан был достойным истязания и лишения жизни, но, «по милосердию и человеколюбию» императрицы приговорен к расстрижению и вечному и неисходному содержанию в Ревеле, в каземате, под именем Андрея Враля (прозвание, везде прописанное рукою самой Екатерины), причем самый караул велено было определить из состоящих там иноземцев. Архимандрит Корельского монастыря был сослан в архангельский монастырь под надзор; караульный офицер – лишен чинов и отправлен в дальний сибирский острог на вечное житье; лишен был чинов и капитан Римский-Корсаков, который, из почтения к Арсению, вступил с ним в переписку. Доносчики-монахи награждены по 100 рублей деньгами и переведены в другие монастыри, но и оттуда один из них продолжал писать новые доносы на Арсения, которым, однако, приказано было более не верить.300
Теперь составлены были три инструкции: две из них офицерам, из которых один должен был везти Арсения, в сопровождении команды, от Архангельска до Вологды, а другой – от Вологды до Ревеля, и третья ревельскому коменданту Тизенгаузену. Они были написаны князем Вяземским, но исправлены Екатериною. В инструкциях офицерам Арсений назван «неизвестным колодником», а в комендантской – «Мужиком Андреем Вралем» и «Бродягиным». Соблюдение строгой тайны – было главным условием этих инструкций; сопровождавшим Арсения воспрещено было говорить с ним, а в случае они услышат от него что-либо, то им приказывалось никому о том не рассказывать; а содержать во всю жизнь секретно, объявив одному князю Вяземскому. В инструкции коменданту было прибавлено об угрозе, в случае разговоров Арсения, положить узнику в рот кляп, однако приказывалось отнюдь этого не делать, а «иметь его в кармане для одного страха, и в случае иногда его непослушания, тот кляп ему и показать». На случай смерти, разрешено было похоронить Арсения при русской церкви и позвать к нему священника, но взяв при этом с попа подписку «под смертною казнию, что не скажет век о том никому». Вся переписка об Арсение должна была идти безыменно: «о секретном деле» и отсылаться в руки князя Вяземского, без подписки которого или самой императрицы, колодник не мог быть выдан никому. После второго следствия, образа, бывшие у Арсения, велено было скрыть; вещи продать, не называя чьи они, а русские книги отдать ему, но ему запрещено было держать в каземате какой бы то ни было материал (даже бересту), годный для письма. Однако Екатерина подтвердила, чтобы с Арсением обходились без грубости, и чтобы он ни в чем не терпел нужды.
28-го февраля 1772 г.
Арсений прибыл в Ревель 8-го января 1768 г. Когда он заболел, к нему призвали доктора-немца, но предварительно взяли с него подписку в том, что «под смертною казнию не будет спрашивать у больного о его имени и состоянии и никому до конца жизни не объявит о нем ни в разговорах, ни догадками, или какими-нибудь минами». Ежемесячно Тизенгаузен доносил об Арсение в Петербург. В 1769 г. ему увеличили содержание (вместо 10 коп. по 15 коп. в день), но это обнаружилось только тем, что ему сделали белье тоньше прежнего. Тем не менее, по смерти Тизенгаузена (в июне 1769 г.), императрица сочла нужным сделать новое напоминание князю Вяземскому:
«Как Г.П. фон Бенкендорф ныне обер-комендант в Ревель определен, – писала она, – то не изволишь ли писать к нему, чтобы он за Вралем имел смотрение такое, как Тизенгаузен имел; а то боюсь, чтоб, не бывши ему поручен, Враль не заводил в междуцарствии, свои какие ни на есть штуки и чтобы не стали слабее за сим зверком смотреть, а нам от того не выливались новые хлопоты».301 Есть указание, что в начале своего пребывания в Ревеле Арсении искал случая, чтобы уйти на купеческом корабле в Англию.302 Но ему пришлось остаться в заключении до конца жизни. Он скончался 28-го февраля 1772 года, причем также с священника и всей команды взяли подписку, что они, под смертною казнию, до конца жизни будут хранить полное молчание о всем случившемся.303
Таинственность, соблюдавшаяся во время вторичной ссылки Арсения, была причиною многих толков и неправильных заключений о нем. Самое дело об Арсение хранилось так секретно, что о существовании его, кроме самых близких к императрице лиц, никто не знал.
Таким образом, вероятно, возник и рассказ И.В. Лопухина о существовавшем будто бы третьем деле об Арсение, вызванном некоторыми фактами религиозного почитания в нему, в производстве которого участвовал известный Шешковский, но которое было уничтожено; о свидании в Москве Арсения с Екатериною, в присутствии графа Панина и графа Григория Орлова, причем он заговорил в таком тоне, что они должны были уйти, зажавши уши. Благодаря той же таинственности, сложилось мнение, что Арсений был сослан не в Ревель, а в Нерчинск, откуда переведен в Селенгинск и умер на пути недалеко от Верхнеудинска, где и была устроена его почитателями часовня.304 Но по архивным справкам оказалось, что около того же времени туда был сослан иеромонах нижегородского монастыря Арсений, не имевший ничего общего с Арсением Мацеевичем.305
Его почитатели и противники
Екатерина опасалась, чтобы народ не смотрел на Арсения Мацеевича, как на святого и мученика, и потому в своих отзывах о нем старалась внушить, что он «доказанный клеветник, лжец и лицемер»306, но ей не удалось побороть народной молвы; а в Сибири самое место предполагаемой могилы Арсения считалось священным.307
В 1771 г. под знаменем именно Арсения выступил, с резким протестом против Екатерины, за отобрание монастырских имуществ, преследование Арсения, смерть Иоанна Антоновича, народные тягости и отступления от христианского образа жизни – некто Смолин. Екатерина и его признала фанатиком, заточила на пять лет в шлиссельбургскую крепость, а потом разрешила ему принять монашество.308
Впрочем, не одни «фанатики» чтили память Арсения. И.В. Лопухин, известный масон и филантроп, тщательно собиравший о нём рассказы и едва ли не первый близко познакомившийся с этим делом, поступок Екатерины с Арсением ставил наравне с делом Новикова, хота многое извиняет ей309, а в своем орловском имении, селе Воскресенском, он поставил Арсению памятник, подобно тому, как в подмосковском имении он устроил Юнгов остров, хижину Руссо и мраморную урну в честь Фенелона, с изображениями госпожи Гюйен и Руссо. Можно думать, что Лопухин почитал в Арсение борца за независимость церкви и религиозных убеждений, которой он сам был поборником, будучи также противником вмешательства церкви в дела государственные и врагом всякого рода гонений и притеснений, каким подвергся Арсений Мацеевич.310
Против Арсения были другие люди – это были противники независимости духовной власти и преобладающего значения монашества в русской иерархии. Известный московский протоиерей, Петр Алексеев, сообщивший в письме к императору Павлу – рассказ Петра Великого о патриархе Никоне, с тенденциозною целью, вполне одобряет действия светской власти против «бывших у нас замашек» и, сказав о подобных попытках, заключает так: «Не упоминаю здесь о Феодосие, нескромном архиерее новгородском (т. е. Яновском) и Арсение ростовском, мнимом святоше, кои, без титла патриаршего, восхотели было власть его восхитить: явно противилися самодержцам всероссийским, Екатерине I и II, за что осуждены правильно и во изгнание сосланы, вместо смертной казни, ими заслуженной по причине важных их вин, кои обнародованы в свое время».311Нет сомнения, что приговор над Арсением представляется крайне жестоким, особенно в начале царствования Екатерины II, когда она писала Наказ, созывала Комиссию Уложения, мечтала с философами о всеобщем человеческом благе. В этом отношении недостаточно одного объяснения, что она смотрела в настоящем деле исключительно с точки зрения прав светской власти, в которой она была вполне солидарна с Вольтером. Поэтому едва ли можно сомневаться в том, что мнения, высказанные Арсением насчет её собственных прав на престол – не могли остаться без влияния на участь Арсения. Но нельзя также не признать, что Екатерина прекрасно поняла всю важность этой борьбы и указала её настоящее значение. В этом виден её ясный ум и исторический смысл. Оценка этой борьбы была уже сделана в нашей литературе покойным Пекарским, и нам остается только привести его слова: «По направлению и убеждениям своим, Арсений является поборником начал, с которыми со времен оставления Никоном патриаршего престола до Екатерины II боролась светская власть в России. Что бы ни говорили убежденные, что у нас не было и не могло быть клерикалов в русской истории конца XVII и ХVIII столетий, – нельзя не заметить стремления привилегированного сословия – удержать прежнее свое влияние, сохранить все средства, которые были в руках его по милости невежества и неразвитости масс. Если бы не было Петра Великого, у нас, несомненно, явились бы клерикалы, и это доказывается Духовным Регламентом, где в начале, после напоминаний из византийской истории времен Юстиниана, а из западной – папства, сказано: «да не вспомянутся подобные и у нас бывшие замахи!». Мацеевич был последним представителем защитников старых распорядков, которым Духовный Регламент Петра нанес решительный удар и вместе с тем благодетельный по своим последствиям для русского просвещения».312
Киев. В.С. Иконников.
Примечание. Во время печатания нашего очерка об Арсение Мацеевиче, мы прочли в «Церковно-Общественном Вестнике» 1879 г., № 3-й, заметку господина Юсковского, под заглавием «Сыск протопопа», с приложением указа 1751 г., относящуюся к Дмитрию Сеченову (см. «Русскую Старину», том XXV, часть III). Из последнего видно, что священник Лутахин был заточен в Зеленогорский монастырь, на основании указа синода 1749 г., когда в Нижнем Новгороде был уже епископом Вениамин Пуцек-Григорович, а не Дмитрий Сеченов, уволенный, по болезни, от епархии в 1748 г., и заточен был за «вины», о которых не упоминается в жалобе его сына. Но если это обстоятельство может, до известной степени, смягчить приговор об отношении Дмитрия Сеченова к потерпевшему и указывать на другие причины его бедствия, кроме приведенной в тексте (см. в части III), то нельзя не признать также, что ссылка потерпевшего в 1749 году еще не значит, что приговор синода состоялся по докладу преемника Дмитрия Сеченова, а не его самого; тем более, что в жалобе, поданной императрице Елисавете в 1755 г., прямо указывается на последнего, как на виновника печальной участи Лутахина. Точно также «вины», о которых говорится в указе, не исключают самого способа отношений к нему Дмитрия Сеченова по другому поводу, о котором мы упомянули в своем месте, хотя, повторяем, эти «вины» могли действительно существовать.
Легенда. Выдуманное письмо о кончине Арсения Мацеевича.
Письмо это поддельное, любопытно потому, что оно разошлось во многих списках, что свидетельствует о том живом интересе, который принимал русской народ в судьбе Мацеевича.
«Ваше благородие, милостивый государь, дражайший родитель мой. Я ныне осмелюсь донести вашему благородию последовавшие ужасные обстоятельства, которые я с превеликою ужасностию и страхом самоличным всему был свидетель, которые новости, редко слыханные, сим, на рассуждение ваше, предлагаю.
Я отправлен был с монахом Арсением, который как через одну неделю, подозвав меня к себе, просил меня, чтоб я на прошение его склонился, чтоб его допустить, где случится, во церкви, для принятия Святых Таин, а что место было весьма степное, почему я отрекся; а он объявил чрез три дни, назначив село и час, в который в него вступим, и священника именем нарек. И как пришло самое то время, кое назначено, мы против оного села явились в самые те часы и минуты назначены, и так паки просил меня, чтоб позволено было в церковь идти, объявил, что и священник уже в церкви; потому, будучи в церкви, пели тогда «Слава в вышних Богу», и по отпении просил он священника, чтоб начинал литургию, и я в том хотя и много препятствовал, однако склонился на его прошение, и как большой выход был, тогда видно было одеяние на нем архиерейское и сакос, а стоял он в алтаре против северных врат, а я стоял у правого крылоса, а команда моя у всех окон была расставлена; тогда, видев необычайное, в великом был удивлении, и как время пришло святого причастия, тогда священник отдав ему поклон земной, и просил по обыкновению их прощения и причастился он сам так, как архиерею надлежит, а по прочтении заамвонной молитвы, вышед мало из алтаря, просил меня, чтоб я шел к священнику на обед, но я все делал на прошение его как по неволе, а противоречить не смел, видя себе такое внезапное удивление; а священник, по окончании обедни, весьма просил меня прилежно; и так с превеликою торопкостию и пошли, а он (Арсений) остался во святом алтаре, и так церковь была заперта, а караул вокруг церкви был расставлен. И весьма скоро по обеде возвратились для взятия его, однако царские двери были растворены и он стоит, среди оных врат на коленях в архиерейском одеянии мертв. И, рассмотря его, действительно усмотрена в руках его хартия, чтоб его во оной церкви погребсти, и просил у всех последнего прощения и поминовения, а на конце того всем православным царям, архиереям и иереям и всему православному собранию Божие благословение, однако в том прописал странное, аки провидя пророчески о России: – «Россия, рек, с тобою гнев Божий не коснит и погибель не дремлет: вси бо святые богоизбранные места то рекут: мощи святых презрены, церковное имение отъято и вкладчики благоверные и христолюбивые, не щадя отчизн своих, отдав все свое недвижимое имение, посвятив Богу и церкви святей, вопиют о отмщении своем! Видите, как благодать Божия умаляет! Смотрите себе плачевных. Течет едино по другом бедствия и все добро, обращается злом, и естьли всевидящее око не умилостивится на воздыхание убогих, то от своя и своих истреблением, друг друга изгнетая, все погибнут, о чем царь и пророк, вопия к Вышнему, когда положил о создании церкви Иерусалимской намерение, вопиял ко Господу, обещался Богу Иаковлю: аще вниду в селение дому моего или взыду на одр постели моея, сице дам сон очима моима и веждом моима дремания и покой скраниама моима, дóндеже обрящу место Господеви, селение Богу Иаковлю [Пс.131:3–5]. Какое усердие в то время было! О триипостасное Божество! влей в нынешнее время в сердцах их раскаяние о посвященном том имении Твоему святому имени, вложенном о возвращении ко храму святому Твоему и отврати праведный свой гнев, яко благословен еси во веки. Аминь».
«Списано 23-го марта 1776 году».
Найдено в бумагах А.П. Петрова, бывшего учителя ярославского духовного училища, ныне умершего, отец которого, П.И. Алешковский, родившийся в 1767 г. в Ростовском уезде, был в Ростове городским священником с 1792-го по 1814 год.
Сообщ. в 1872 г. В.И. Лествицын.
* * *
Примечания
Здесь и далее, в квадратных скобках, приводятся комментарии современной редакции (2025 год), сделанные для публикации на интернет-портале «Азбука веры».
Синод. деяние 1389 года, Архив историко-юридич. сведений, изд. Калачова, III, 1–20. Ср. также послание патриарха Луки Хрисоверга к Андрею Боголюбскому против образования новой митрополии в России и о необходимости подчиняться власти одного митрополита – киевского. Полн. собр. рус. летописей, IX, 223–224.
Акты историч., I, № 19 и 40. Полн. соб. рус. летоп., IV, 116. Верные византийским указаниям, представители русской церкви стремились даже оградить духовную иерархию от всякого вмешательства светской власти. Так, например, Киприан (серб), не принятый сначала в Москве вел. княз. Димитрием Ивановичем, проводит мысль о независимости епископов от воли вел. князя, который не должен ни назначать, ни судить их, и ставит их в непосредственную зависимость от собора и патриарха. Журн. Мин. Нар. Просв. 1868, февр. 331.
Acta patriarch. Constantinop., II, 182–192.
См. известия, современные Василию Ивановичу, «Правосл. Собесед.» 1861, май, и 1863, март. Послания старца Филофея.
Соборная грам. восточ. духов., утвержд. сан царя за вел. кн. Ив. VI, 1561 г., изд. кн. М.А. Оболенским, М. 1850 г.
Письма к Курбскому; Вельтман, «Моск. Оруж. Палата», стр. 27–34.
Библиот. в. кн. Вас. Ив. и Ив. IV, Журн. Мин. Нар. Просв. 1834 г., июнь.
Первый ответ Курбскому, 163–171–176.
Патриарх Филарет, в Чтен. Моск. Общ. истории и древностей, 1847, III книга, 33–34. Несудим. грамота в Собр. Госуд. грамот, III, № 71. Светские архиерейские чиновники в древней Руси, Н. Каптерева,1874 г., стр.188–232.
Соловьев, История России, IX, 166–167. Для полной характеристики патриарха Филарета заслуживает внимания открытие, сделанное при реставрации портрета Филарета, который был прислан вместе с другими портретами и картинами из коломенского дворца в Моск. Оружейную палату. По снятии с него слоев пыли, грязи и верхней краски, под изображением Филарета в патриаршей одежде, оказалось другое изображение, на котором он был представлен в царском кафтане, затянутом дорогим поясом, и в платье, надетом поверх кафтана и опушенном горностаем; на плечах его видны бармы, опушенные по нижнему краю также горностаем; на патриархе не крест, а панагия; волосы на голове, усы и борода подстрижены, по обыкновению светских лиц; наконец, правая рука патриарха оказалась не распростертою, но сжатою и держащею скипетр. По снятии портрета со второй холстины, на исподней стороне его открылась подпись: «Царь Федор Никитич». «Рус. Архив» 1863, 82–84. О распространении обычая стричь волосы, брить усы и бороду еще при Василие Ивановиче есть указание в обличениях митр. Даниила (Чтения о языке и словесности за 1856–1857 гг., 112–113); в смутное время и при Михаиле Федоровиче этот обычай стал распространяться в среднем классе и даже между крестьянами (см. заметку Куприянова в «Москвитянине» 1853, VIII, 130–132).
Акты экспедиции, IV, 78–79.
Акты экспедиции, IV, № 57.
История России, X, 206–211.
Задатки такого понимания отношений двух властей встречаются гораздо ранее и с особенною определенностью были выражены писателями-греками. «Елико отстоит небо от земля, толико отстоит наш сан паче всякого сана мирского», говорит митр. Фотий, в своем обращения к духовенству. «Правосл. Собесед.» 1861, II, 315. Максим Грек пишет: «Святительство венчает и утверждает царей, а не царство святителей.... Ибо больше есть священство царства земского, кроме бо всякого прекословия меньша от большаго благословляется». Сочин., III, 155. И царь Алексей Михайлович, в своем смирении, не допускал даже сравнения между «царем земным» и «великим светильником, прославленным Богом». Акты экспед., IV, 86–87.
Собр. Государств. грамот, III, № 147.
Записки русской и славянск. археологии, II, 511–513.
Милютин, О недвижим. имущ. духовенства в России, стр. 483–501.
Уложение, гл. XII и XIII; Котошахин, гл. VII; Акты экспед., IV, № 115, 175, III, № 207; Акты историч., III, № 162, 223; Дополн. II, М 64. Горчаков, Монастырский приказ, 50–65, 73.
Карамзин, III, примеч. 222.
Послание Никона к патриарху Дионисию, Записки русской и славян. археологии, II, 517–19.
Мнения Никона об уложении в Записк. рус. и славянской археологии, II, 126–160, и послание Никона к ц. Алексею Михайловичу. Субботин, «Дело Никона», прилож. 1-ое.
Зап. по отдел. рус. и слав. археолог., II, 449–460, 480, 527, 548.
Мнения Никона, в Записк. русск. и славян. археологии, II, 423–498, и Соловьев, XI, 319–321.
Epist. VII. 26. La papauté et l'empire. par. F. Laurent, 171–172.
Соловьев. XI, 327.
Розенкампф «О Кормчей книге», изд. I, 88, 260.
Вено Константиново помещено в соч. г. Терновского «Изуч. византийской истории в древ. Руси», II, 134–145.
Ibid., 145, и статья г. Петрова «Судьба вена Константина в русской церкви», «Труды Киевск. Духов. Академии» 1865, № 12, стр. 471–488.
Travels of Macarius etc., II, 227–229.
«Изучение византийской истории в древ. Руси», 203–204.
«Труды Киев. Акад.», статья Петрова, стр. 487–488.
Соловьев, XI, 293.
Рассказ этот помещен в Записке протоиерея П. Алексеева, представленной им импер. Павлу. По поводу Константинова вена он делает следующее, не лишенное интереса, замечание: «Что сия жалованная грамота (якобы) Константинова есть фальшивая, о том имеется у меня особливое рассуждение, с подлежащими примечаниями. Однако Никон не просто ее приклеил к Номоканону, но с замыслом об увеличении архиерейской власти и умалении царской – перед народом. Для того, после сея вылганные грамоты, пишет об отпадении ветхого Рима от православия, а как новый Рим, т. е. Константинополь, находится под игом турецким, то и следует патриарху царствующего града Москвы, яко третьего Рима, вступать в права папские. Но еще Господь Бог российских государей так благодати своей не лишил, как греческих в нерассмотрении излишества». «Рус. Архив» 1863, стр. 92–102 [699]. Биография Алексеева в «Истор. Российск. Академии», Сухомлинова, т. I. Отрицательный взгляд на эту Записку и материалы о Никоне высказаны в статьях Н. Субботина, в «Рус. Вестн.» 1864 г., № 1, 320–333, 1861, т. XXXV.
К этому месту протоиерей Алексеев делает следующее замечание: «Не папская ли то гордость, чтоб Богом венчанного царя учинить своим конюшим, т. е. в неделю Ваий, в подражание неподражаемого Христова входа в Иерусалим, патриарх, с великою помпою по Кремлю едучи на придворном осляти, заставлял самодержца вести подъяремника под усце при воззрении бесчисленного народа? И по исполнении той пышной церемонии дарил государю сто рублев денег, якобы для раздачи в милостыню, а в самой вещи для награждения за труды (стыдно сказать) поводильщику. Сему уничижению подвержен был в малолетстве и сам император Петр Великий, держа повод осла Иоакимова, вместе с братом своим, царем Иoанном Алексеевичем, при такой вербной церемонии. Но после сей нововведенный в церковь обряд вовсе отставлен по указу того же монарха», ib. 94–95. Этот обряд вошел в употребление не ранее второй половины XVI стол. и совершался в других городах архиереями. При выходах, царь целовал патриарха в руку, а он царя в голову, обняв ее руками. См. Патриаршие выходы, Чтен. Моск. Общества истории» 1869, II, стр. 7–64.
История Российская», т. I, Введение, и стр. 111, прим. 586; II, 270; III, 502; 118, прим. 477; II, прим. 314; II, 429 прим.
I, 573.
I, 567–571; III, прим. 477, 631.
I, прим. 645, II, прим. 71, 107, 116, 420.
Милютин, О недвижимых имуществах духовенства в России, 505–527; Горчаков, Монастырский приказ, 121–246; О земельных владениях всерос. митроп., патриарх. и синода, 443–509; Свят. Синод и отношения его к другим учреждениям при Петре Великом, Н.М. Востокова, «Журн. Министер. Народ. Просв.» 1875, ч. СLХХХ и CLХХХII); Материалы для истории синод. управления в России. «Прав. Обозр.» 1868 и 1869 гг.
Весьма замечательные в этом отношении материалы помещены в «Русской Старине» изд. 1872 г., том V, стр. 845–892; «Шутки и потехи Петра Великого» – собрание собственноручных шутовских церемониалов Петра для посмеяния папы и патриарха.
Нам сообщали, что при разборе Петровских бумаг, собираемых особою комиссиею со времени юбилея Петра Великого, стало ясным, как много важнейших актов этого времени исправлены или набросаны были рукою самого Петра.
Милютин, О недвижимых имуществах духовенства в России, 505–527. Горчаков, Монастырский приказ, 211–246. О земельных владениях всерос. митрополитов, патриархов и синода, 443–509. Уже в 1721 г. монаст. приказ успел устроить в Москве (в течение 20 лет) 93 богадельни, в которых было 4400 нищих, и огромный госпиталь, вмещавший в себе до 500 человек. В прочих монастырях были размещены престарелые и раненые инвалиды и их семейства, так что в 1723 г. вакансий более не было, а потому временно было издано постановление, воспрещавшее постригать и принимать в монастыри.
Он даже ездил с Петром Великим и Екатериною за границу в 1716–1718 гг.
Дело Феодосия в «Рус. Архиве» 1864 г.; Описание документов синод. архива; соч. Чистовича о Феофане Прокоповиче, 77–81, 113–115,151–179; статья Есипова: Чернец Федос, в «Отеч. Записках». Впрочем, еще при Петре Феодосий чуть было не подвергся опале за свои резкие суждения о штатах духовенства и об отобрании церковных имуществ, причем он напомнил даже отношения Иоанна Грозного к митр. Филиппу.
«Русский Архив» 1863 г., 101. О Георгие Дашкове, «Прав. Обозр.» 1863 г., и соч. Чистовича, «Феофан Прокопович», 229–230.
В одной казанской епархии, после падения митроп. Сильвестра, были произведены повсеместные гонения на духовенство, а в двух уездах (Казанском и Свияжском) все священники и монахи были приговорены к жестокому наказанию шелепами. Знаменский, «Приход. духов. в России», 427, 433, 435–438.
Чистович, «Феофан Прокопович и его время».
Милютин, 527–540. «Церк. история» Знаменского, 366–370.
«Проповеднич. в царствование Елисаветы», Н.А. Попова. «Лет. рус. литер.», том II, 1–32, и «Рус. Слово», 1859, № 8, «Царств. Елисаветы Петровны», исторический очерк М.И. Семевского. Приветственных речей Елисавете за 1741–1744 г. насчитывают до 77-ми.
Поэтому в 1747 году моск. госпиталь пришел в совершенное запущение, вследствие чего сенат вынужден был вступить в пререкания с синодом. Соловьев, XXII, 192–193.
Но в царств. Елисаветы прежний страх иногда продолжал оказывать свое действие; так, в 1752 г. весь Андреевский монастырь в Москве и московская консистория пришли в ужас, что иеродиакон Дамиан во время соборного служения пропустил в ектении имя супруги вел. князя «Екатерины Алексеевны». Не смотря на все оправдания, виновный был наказан плетьми и сослан в другой монастырь, а служившие с ним – за то, что не поправили его, должны были положить по 1000 поклонов в церкви. В вятской епархии священник был публично наказан зато, что он отправил торжество коронации, вместо 25-го апреля, 23-го (в воскресенье). Впрочем, теперь не всегда донос получал свою силу; но только с уничтожением тайной канцелярии при Петре III подобные процессы потеряли значение, хотя русское общество не могло тогда оценить все значение этой меры. Знаменский, ib., 458–459.
Законодательство Елисаветы Петровны относительно церкви и духовенства. «Прав. Обозр.» 1865 г. В 1743 и 1744 гг. совершалось повсеместное истребление мордовских кладбищ и татарских мечетей в Нижегородской губ. Казанской области. Так, в последней было уничтожено 418 мечетей. В 1745 г. мордва жаловалась императрице, что нижегородский епископ Димитрий (Сеченов) заставляет их креститься, а сопротивляющихся велит бить и заковывать в кандалы, или связанными окунает в купель и надевает на них кресты. Чуваши жаловались на насильственное обращение с ними игумена Неофита. Сибирские татары и бухарцы жаловались на насилия митр. Сильвестра и тамошних миссионеров. Сделано было распоряжение об обращении в православие пленных турок. Даже армянам запрещалось служить в прежних церквах (Соловьев, XXI, 253–255, 315–316; XXII, 28–30; XXIII, 146–147). Восстания инородцев заставили сделать потом некоторые уступки. Елисавета Петровна впервые озаботилась, чтобы при русских миссиях за границею были постоянные церкви и священники. Соловьев, XXII, 29.
Только 29-го апр. 1754 г. последовал указ о представлении на архимандритские и архиерейские вакансии великороссиян. «Чтения Моск. Общ. ист.», 1861, III. Интересный рассказ о столкновениях великороссиян с малороссиянами в Троицкой лавре, см. в Записках И.М. Снегирева, «Рус. Арх.» 1866, 534–535.
Записки кн. Я.П. Шаховского, изд. М.И. Семевского, Сиб. 1872, 35–41. Иногда самой императрице приходилось убеждаться, что её доверием «дерзко» злоупотребляют. Ibid., стр. 48–73.
Соловьев, XXIII, 34–35.
Соловьев, XXI, 319; XXII, 115–116, 193. Знаменский, «Приходское духов, в Рос.», 600, 609–611, 613. «Списки архиереев», составл. Ю. Толстым, стр. 86, 140. «Записки Шаховского», изд. М.И. Семевского, приложения, стр. 282–283, 295–296.
См. «Русскую Старину» изд. 1879 г., том XXIV, стр.731–752.
В приписке к сказке, поданной им в синод, 16-го мая 1738 г., говорится: «а от роду себе имеет сорок второй год». «XVIII век», II, 365, примечание.
«День» 1861, № 15, стр. 5. По Насецкому (Корона Польская), Арсений происходил из польской шляхты.
«Киев. Епарх. Вед.» 1869, № 10, стр. 385. Здесь перепечатана и самая «сказка» Мацеевича из «Ярославских Епарх. Вед.», в незнании которой Н.И. Барсов упрекает С.М. Соловьева (см. его статью по поводу XXV т. Ист. России в «Русской Старине» 1876 г., апрель). Такие малодоступные издания, как «Епархиальные Ведомости», действительно могут быть неизвестны; но, как видно, г. Барсов не знает, что та же сказка одновременно была напечатана и в «XVIII веке» г. Бартенева (том II, 365), без сомнения, хорошо известном г. Соловьеву.
Напечатано в сомнительной форме: «варенжской» (sic), но Варенж находился в диоцезе Хелнском и имел пиарский коллегиум, основанный в 1688 г., который потом был обращен в элементарную школу. Historya szkol w koronie i welkiem księstwie Litewskiem, przez Joz. Lukaszewicza, IV 246–247.
Антоний Стаховский, также учившийся в Киеве, был первый профессор и префект в черниговском коллегиуме, потом архимандрит Новгород-Северского Спасского монастыря, архиепископ Черниговский и Новгород-Северский (с 20-го сентября 1713 г.), наконец митрополит Сибирский (с 1721 г.). Ему принадлежит несколько сочинений церковного содержания, из которых одно писано стихами, и по его же распоряжению в 1716 г. был сделан учителями коллегиума перевод истории Тита Ливия, с латинского языка, приготовленный к печати. Но в 1722 г. синод доносил Петру Великому о каком-то переводе Тита Ливия, что он к печатанию весьма неудобен, а для поправления его потребуется «и труда многого и времени довольного» (Пекарский, «Литер. и наука при Петре Великом», I, 219). В витиеватом посвящении составителя календаря Квасовского из Корвена, напечатанного в Чернигове, Антоний восхваляется за свое покровительство наукам; но еще более витиеватое посвящение написал сам Антоний при поднесении Мазепе «Зеркала от Божественного писания» – это образцы тогдашних киевских панегириков. Пекарский, II, 116–118; 448–450; статья Снегирева в Учен. Запис. Моск. унив.1833; Обз. духовн. литер., Филарета, II, 17–18; списки иерархов и настоят. монастырей, Строева (издано Археогр. коммис., под ред. члена комиссии М.И. Семевского) и Юр. Толстого; Ант. Стаховский, митр. С.-Петербургский и Тобольский, Н. Абрамова, «Странник», 1863, № 1; описание Черниговской иерархии и Ильинского монастыря (грамоты и письма Антония).
Чистович, Феофан Прокопович и его время, 5–37.
Ист. Киев. академии, Макария Булгакова, стр. 124–171.
А.А. Куник, Матер. для истории Акад. Наук в ХVIII веке, 392.
Этим опровергается показание, что Арсений, по открытии Академии Наук (1726), был определен законоучителем в академическую гимназию. См. «Чтения Моск. Общ. ист.», 1862, II, 11.
Описание этих путешествий помещено в Записк. Гидрогр. Департ. Морск. Министерства, IX.
О преподавании Арсения Мацеевича в кадетском корпусе нет сведений, но в историч. записках Миллера о членах Академии Наук он показан законоучителем (1740 г.) при академии. «Чтения Моск. Общ. ист.» 1862, III, 135.
С основанием его дети многих знатных фамилий, обучавшиеся в академической гимназии, перешли в кадетский корпус.
Восемнад. век. II, 301–365; «Чтен. Моск. Общ. ист.» 1862, II, 10.
По другим – экзаменатором. Рус. Достопамят. В., IV. Арс. Мацеевич, И.М. Снегирева, 4.
«Чт. М. О. ист.» 1862, 3. В списках иерархов и настоятелей монастырей Рос. Цер., составл. П. Строевым, имя ярославского игумена Трифона не упоминается. Быть может, оно принадлежит к числу пропущенных Строевым, как и многие другие, не оказавшиеся при наших справках. В Афанасиевском ярослав. монастыре действительно оказывается такой пропуск на стр. 368.
Списки архиер., Юр. Толстого, стр. 4.
Чистович, Арс. Мацеевич, «День», 1862, №15, стр.4. К жизнеоп. Арс. Мац. «Чтен. Моск. Общ. истории», 1864, IV, смесь, 29. Списки, составл. Юр. Толстым, стр. 10.
Калым – плата за невесту.
«Чтения Моск. Общ. ист.», 1864, IV, смесь, 29–36. Матер. к жизнеописанию Арс. Мацеевича.
Сборник русск. истор. общества, I, 282.
Письмо к Пимену, еп. Вологодскому, «Чтен. Моск. Общ. ист.», 1862, III, 135–136.
Статья Чистовича, «День», 1862, № 15, стр. 4.
«День», № 15, «Чтен. Моск. Общ. ист.», 1864, IV, 42.
Филарет, Обзор рус. духов. литер., II, 24–25.
Записки кн. Я.П. Шаховского, изд. М.И. Семевского, 1872 г., стр. 51 и приложения.
Возражения Арсения на «Молоток», Опис. докум. синода, т. I.
Чистович, Феофан Прокопович, 573.
Приложения к Запискам кн. Шаховского, изд. М.И. Семевскаго, стр. 309–313.
«День», 1862, № 25 и «Чтения Моск. Общ. ист.» 1862 г., т. III, 144–151. В присяге духовным титул синода «правительствующего собрания» заменен словами: «церковного правительства»; слова: «действовать вся понаписанным в Духовном Регламенте уставам» пополнены так: «и действовать вся по Христову и Апостольскому и святых отец учению, и по написанным в Духовном Регламенте уставам, согласующим с церковью святою соборною Апостольскою, православно-восточною и аще-кие впредь уставы церкви Божией благопотребны непротивны согласием сего духовного православного правительства и соизволением её императорского величества определены будут». В другом месте: «но аще в чем и недоумение мое будет, всячески по крайней моей возможности, потщуся искать уразумения и ведения от священных писаний и правил соборных, и согласия древних великих учителей, от церкви свидетельствованных» (разрядкою означены [выделены] прибавки Арсения). Но особенно характерно следующее изменение в синодальной присяге: вместо: «исповедую же с клятвою крайнего судию духовные сея коллегии быти самую Всероссийскую монархиню, государыню нашу всемилостивейшую» – поставлено: «исповедую же с клятвою крайнего судию и законоположителя духовного сего церковного правительства быти самого Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, полномощную главу церкви и великого архиерея и Царя, всеми владычествующего и всем ищущего судити, живым и мертвым»... «Понеже, – замечает Арсений, – исповедывать с присягою и клятвою против символа веры, другого кого кроме Христа, крайнего судию, то уже Христос... какий нам останется быти судия? К сему же наша святая церковь... не по иному какому резону и папу римского отмещет и антихристом его быти присуждает, токмо наипаче посему, что он, в противность Христу, сделал себя целой церкви главою, спречь крайним судиею. А монаршей власти довольно в той силе на верность присягать... О чем довольно протолковало в книге «Камень веры»... без приложения такового излишнего ласкательства, во уничижение или во отвержение, самого крайнего судии Христа Господа».
Н.И. Барсов не воспользовался этими доношениями (см. «Русскую Старину», 1876, XV 752), напечатаны они в «Дне», 1862 г., 25, и «Чтен. Моск. Общ. ист.». 1862 г., кн. III, смесь, 144–152.
«День», 1862 г., № 25, стр. 6.
«День», 1861 г., № 15; «Чтения Моск. Общ. ист.», 1862 г., III, 154–157. Ссылаясь на указ 1722 г., синод говорит: «кто гораздо презирает власть церковную с великим соблазном немощных братий и тако безбожия воню из себя издает»...
«Чтения», 1862, III, 153.
«День», 1862, № 25, стр. 6.
Они были вызваны вопросами, составленными в 1722 г. иеромон. Неофитом, рекомендованным, для обращения выговских раскольников, известным деятелем по искоренению раскола в нижегород. епархии м. Питиримом. Но, начавши свою деятельность литературными приемами, Неофит, подобно Питириму, и сам пришел к заключению о необходимости «изыскания» раскольников, так как раскольники жили «на свободе без всякого опасения». В 1727 г. Неофит умер; что же касается вопросо-ответов и возражений на ннх Неофита, то они были переданы синодом на рассмотрение Феофилакта, который продержал их у себя до 1733 г., оправдываясь в этой медленности тем, что по смерти Петра Великого «на новописанные книги тяжкие цензуры настали». Представленное же в 1734 г. «Обличение» было разсмотрено сначала Питиримом, а потом Арсением. См. «Опис. докум., хран. в архиве синода», I, 471–485.
Отрывок его напечатан в «Прилож. к опис. докум., хран. в арх. синода», ССССХVIII и следующ.
Кроме того, в одной из своих проповедей он приводит выдержки из Плиния, из книжицы «ифики нарицаемые», повествующей, между прочим, о Есхилие, «изряднейшем стихотворце афинском, получившем известие от астрономов о смерти нечаянной, яко имати быти ему от сверху вержения». «Яросл. Епарх. Вед.» 1864, № 48, 472.
«Православ. Собесед.» 1861, III. Увещание к раскольнику; а также здесь изложено и Дополнение Арсения к соч. Феофилакта (по рукопис. Соловецк. монаст., означенный выше отрывок составляет начало его).
Документы синод. архива, 483 и 485.
См. Ереси и расколы, бывшие и существующие в яросл. епархии. Троицкого. «Яросл. Епарх. Вед.», 1864, №№ 11–27.
Иеромонах, ученик братьев Лихудов, справщик книг, библиотека и переписка которого поступили в синод. библиотеку.
Румянц. музея № 407, письмо 2. См. предыд. статью, № 16, стр. 155.
Обзор духов. литер. Филарета, II, 25.
«Ростовский летописец», изд. в Ярославле.
Опис. докум. Синод. Арх., 483.
«День», 1861, № 16, и допрос Мацеевичу.
В это время иметь в доме рукопись «Молотка» считалось уже ересью и богохульством. См. доношение императрице Елисавете на вольнодумцев Коржавиных, 1755 г. Воронц. арх., III, 316.
Чистович, Феофан Прокопович, 383–407.
Там же.
Некоторые из них достигают 20 листов. «Яросл. Епарх. Вед»., 1864, № 35, стр. 348.
«Русская Старина», 1876, XV, статья Н.И. Барсова, стр. 725.
«Христ. чтение», 1874, февр., 266. Наибольшее число проповедей Арсения приходится на 1747–1752 гг. (13–20 в год). Они были произнесены преимущественно в Ростове, другие были сказаны в Москве, в Ярославле, Угличе, или в разных селах его епархии. «Яросл. Еп. Вед.», 1864, № 35, стр. 349.
Там же, № 43, стр. 420–425; № 45, стр. 439–445.
«Яросл. Епарх. Вед.», 1864, № 50, стр. 485–490.
Арсений Мацеевич, как проповедник. Н. К–в. «Яросл. Епарх. Вед», 1864, №№ 35, 37, 39, 41–45, 48–52, особенно № 52, стр. 507–510. Из сочинений Арсения напечатаны весьма немногие. О них смотри у Филарета: Обз. дух. литер., II, 54; «Чтения Моск. Общ. ист.», 1862, III. Справочный словарь о русских писателях и ученых, Г.Н. Геннади, I, 44–45. О взгляде Арсения на проповедь в «Дне», 1862, № 15, стр. 3.
«Чтен. Моск. Общ. ист.» 1847 г., III, кн. 2, стр. 78, и «Ист. Иерархии», I, 444–445.
«Чтения Моск. Общ. ист.» 1862 г., III, и статья И.А. Чистовича, «День», 1862 г., № 15, стр. 3.
Впрочем, можно удивляться тому, что некоторые стремятся утвердить за «Возражением на Молоток» значение блестящей апологии «Камня веры» (статья Н.И. Барсова), тем более что и у церковных писателей существует уже более беспристрастный взгляд на это сочинение Арсения (Чистович, Феоф. Прок., 386 и 407); что его защите патриаршества хотят придать характер доклада о лучшем управлении церкви, изложенного с замечательною ученостью (!); что в его схоластических речах находят какие-то новые пути, а в самом исходе печальной история Арсения – результат того положения, в каком, по словам Стурдзы (еще бы!), находился синод, «двигавшийся по колее Духовного Регламента и грозных преданий века Петрова». (Ibid). Но факты, излагаемые нами, приводят к совсем иным заключениям.
Сочинения Димитрия Ростовского, II, 235, 317, 268, 448, 453. «Русская Старина», изд. 1876 г., стр. 733–734.
«Чтения Моск. Общ. ист.», 1862 г., II, 40–44.
Обз. духов. литерат., Филарета, 56.
«Чтения Моск. Общ. ист.» год III, кн. II, 39.
Русский Архив, 1866 г., 50–52.
При Анне Иоанновне.
Донесение Арсения по делу архимандрита Владимира Каллиграфа, малоизвестного русского проповедника ХVII стол., Н.И. Барсова, в «Христ. чтении», 1874 г., февр. и апр., и отдельно, стр. 33.
История этого дела и обе речи Владимира Каллиграфа в указанной статье Н.И. Барсова, стр. 1–73.
По библиографическим сведениям, за её царствование насчитывают их до 40, число же произнесенных слов с 1741–1754 г., доходит до 120 (Ibid, стр. 19–23).
«День» 1861 г., № 15, стр. 3.
В распоряжениях по епархии Арсений не раз настаивает на обучении народа молитвам и на толковании катехизиса, но большую часть религиозных требований он низводит на мелочное выполнение постов, поклонов и т. п. См. «Рус. Архив», 1863 т., 376–380, а также его речи в «Яросл. Епарх. Вед.».
Ист. моск. епарх. управ., Н. Розанова, гл.II, отд. I, стр. 181, прим. 456; Знаменский, Приход. духовенство, 454–455. Законодат. импер. Елисаветы относительно православного духовенства. «Прав. Обозр.», 1865 г.
Знаменский, 610–611. О действиях Павла Тобольского, см. сообщение Ф.А. Терновского, на основании синод. архива, в «Чтен. общества». Летописца Нестора, т. I.
См. «Русскую Старину» изд. 1871 г. том III и IV.
«Русская Старина», 1871, 150, 252–253 и др.
Правосл. Соб. 1876, февраль. Чтения Знаменского по истории церкви при Екатерине II, 110.
Дело это в настоящее время разъяснилось, и прославленный либерализм Димитрия Сеченова должен сильно пострадать. Экстракт из него см. в «Древ. и Нов. Росс.», 1878, №3; прошение сына в «Церк. Общ. Вест.», № 50, и заметка о нем «Древ. и Нов. России», № 6.
Чтения Моск. Общ. ист., 1862, II, смесь 3–4.
«Русский Архив», 1863, стр. 378–380.
«Ежегодник владим. статистич. комитета», вып. I, и «Древ. и Нов. Россия», 1876, № 12. стр. 415–416.
«День», 1864, № 11.
«Русская Старина», изд. 1876, статья Н.И. Барсова, том XV, стр. 724.
[Продолжение. Начало –] См. «Русскую Старину» изд. 1879 г., том XXIV, стр. 731–752; том XXV, стр. 1–34. [Опубликовано в ежемесячном историческом журнале «Русская старина», том XXV, 1879 год, август, стр. 577–608.]
Полн. Собр. Зак., т. XIII, № 10, 168.
Ibid. XIV, № 10, 765.
Ученик киевской, львовской и московской академий, а с 7-го ноября 1757 г. – епископ Переяславский.
Амвросий, без сомнения, разумел здесь Антония, царевича Карталонского, католикоса Грузии, с 23-го ноября 1757 г. архиепископа Владимирского, отпущенного в Грузию в декабре 1762 г. (списки Ю. Толстого, стр. 13 и 80); а также, может быть, недавния похождения в России мелетийского епископа Анатолия Мелеса, о котором см. биографический очерк Н.И. Григоровича, «Русский Архив» 1870 г., 689–743.
«Чтения Моск. Общ. ист.» 1862 г., II, 22–24. Письмо помечено 13-м января 1758 года.
П.С.З., ХV, 11, 441. Указ от 16-го февраля 1762 г.
Письмо Волкова к Г.Г. Орлoву, в «Русской Старине» 1874 г., том IX, 479–489. Биографические сведения о Волкове в «Русской Старине» 1874 г., том IX, 163–174.
П. С. Законов, т. XV, 11, 396.
П. С. Зак. XV, № 11, 441.
Ib. II, 460.
П. С. Законов, № 11, 582.
Полн.Собр. Зак., XV, № 11, 486 и дополнит. ук. от 1-го апреля, № 11, 493. В это время в монастырях содержалось 1358 отставных офицеров и солдат, которым производилось жалованья в год 12 464 р. и 3 333 четв. хлеба.
Полн. Собр. Зак., № 11, 493 (ук. 4-го апреля). При этом было подтверждено – объявить о строжайшем выполнении изданного закона, чтобы «с крестьян во всех епархиях никаких сборов не чинить, посланных же от духовных властей для взыскания – из тех вотчин выслать». Действительно, сенат поспешил обнародовать указ по этому предмету (указ 6-го апреля, № 11, 498).
По словам Штелина, в проекте этого манифеста между другими доводами были приведены и слова Евангелия: «взгляните на птицы небесные; они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы» и пр. Записки Штелина, в «Чтениях Моск. Общ. истории», 1866, IV, смесь, 103.
«Ярослав. Епарх. Ведомости» 1864 г., № 3, стр. 27–28.
См. интересное замечание Екатерины II (собственноручное) на мнения некоторых членов «Комиссии Уложения», у Соловьева, XXVII, примеч. 74. О крестьянском движения при Екатерине II – статьи В.И. Семевского в «Вестнике Европы» и «Русской Старине» 1876 и 1877 годов. Верная оценка законодательства Екатерины II относительно крестьян сделана И.Д. Беляевым в соч. «Крестьяне на Руси», М. 1860, 317–321.
Депеша английского посла Кейта: La cour de la Russie, il y a cent ans, 184.
Например, автор статьи об Арсение Мацеевиче в «Русской Старине» 1876 г., книга IV-я (г. Н.И. Барсов).
Переписка Арсения, захваченная во время его ареста при Екатерине II, хранится в архиве синода (Соловьев, XXV, примеч. 143) при его деле и была издана отчасти в «Чтениях Московского Общества истории» (1862), отчасти в «Дне» 1864 г. (№ 39). Вновь она напечатана г. Барсовым в «Русской Старине» 1876 г., том XV. Латинские фразы в письмах к Арсению были переведены «синодальным переводчиком» Григорием Полетикой, перевод которого также присоединен к делу. Приведенное здесь место передается так: «Ныне не токмо вашу святыню, но и всех нас печальная сия тронула перемена, которая жизнь нашу ведет к воздыханиям и болезням». Против этого места рукою митрополита Тимофея написано на поле: «in patientia nostram servemus animam: pro omni Supremo Regi Regum at Domino Dominantium devote ac magnanimo de flammantibus praecordiis agendae sunt gratiae. Sit de merito digni vivendo pervenimus» (в переводе: «В терпении стяжим душу нашу. За все Вышнему Царю царствующих и Господу господствующих благоговейно и великодушно благодарить должно. До сего дожили мы по заслугам нашим»). Письмо это, помеченное июнем 1762 года («День», 1864 г., № 39, стр. 8), неправильно отнесено Н.И. Барсовым ко времени Екатерины II, так как, очевидно, оно передает впечатление, произведенное на высшее духовенство реформою Петра III.
На поле, в конце этого письма, сделана приписка: «Spes alit aliquando aliter agit. Spes mutat discordia fratrum» (Надежда питает и когда иначе поступает. Надежду переменяет несогласие братии), а к нему приложена следующая записочка: «Diphtongum, ex duabus vocalibus in unum coalescentem, in varias dividere, discensu suo nostrates in unum non habitantes, vocales. Superi clementissimi de nostra, in possidendis ruribus calamitate adjuvent propituis (Двоегласную букву, составляемую из двух гласных, на разные гласные буквы разделили несогласием своим наши несогласно живущие. Всеблагий Бог да поможет нам в бедствии нашем возвращением в наше владение деревень»).
Этот указ хранится в государственном архиве (Соловьев, XXV, 80 и примеч. 63), но в последнее время напечатан дважды: сначала в «Русской Старине», издан. 1872 г. (том VI, 567–768), а потом у Соловьева (Ioc. cit.). В Полное Собрание Законов, как и многие акты, имеющие историческое значение (напр. манифест Екатерины II, от 6 июля 1762 г., относящийся к Петру III), он не вошел.
Говорят, что, будучи великим князем, он выражал свое нерасположение к духовенству, во время богослужения, неприличными жестами. Memoires de la princesse Dashkoff, I, 41.
Записки Андрея Тимофеевича Болотова, изданная редакцией «Рус. Ст.», II, 171–173. Вероятно, к указанным выше обстоятельствам относится следующая записка Петра III извлеченная А.М. Лазаревским нз рукописного сборника, принадлежащего графу А.С. Уварову, конца XVIII в., следующего содержания: «1) Чтоб дать волю во всех законах (вероисповеданиях), и какое у кого ни будет желание, то не совращать. 2) Принять вообще всех западных и чтоб их не имели в поругании и проклятии. 3) Уреченные посты вовсе прекратить и чтоб не почитать в закон, но в произвольство. 4) О гресе прелюбодейном не иметь никому осуждения, ибо и Христос не осуждал. 5) Всех ваших здешних бывших монастырских крестьян причислить моему державству, а вместо их мое собственное на жалованье дать. 6) Чтоб дать волю во всяких моих мерностях (мероприятиях), и что ни будет от нас впредь представлено, не препятствовать». В конце замечено. «Такое мнение было дано и собственною рукою его подписано и в синод представлено июня 25 дня 1762 году» («Русский Архив», 1871 г. столбец 2055).
La cour de la Russie, 188. Ср. Записки Дашковой, гл. III.
Депеши Гольца, извлеченные из государственного архива в Берлине Г.В. Есиповым, напечатаны в прилож. (№ XV) к соч. П.К. Щебальского: «Политическая система Петра III», стр. 58.
Материалы об Арсение Мацеевиче, в «Чтен. Моск. Общ. истории» 1862 г., II, 18. Впрочем это известие, как увидим ниже, не подтверждается.
Castera. Historie de Catherine II, t. II, 273.
Полное Собрание Законов, № 11, 582.
Собрание манифестов и указов Екатерины II 1762–1763 гг., изд. при Сенате, в 1764 г., весьма редкое издание. (Есть экз. у М.И. Семевского).
В государственном архиве. Напечатано в «Дне» 1862 г., 16, стр 3, статья Соловьева, и в Истории России, XXV, 146–147.
«День», 1864 г., № 39, стр. 8, сообщ. Н-в.
Соловьев. ХХV, 157–160.
«Сборник русского исторического общества», VII, 156.
Полное Собрание Зак., т. XI, № 8, 840. Первое дозволение евреям селиться в России и притом только в Новорос. крае – было дано 16-го ноября 1769 г. (П. С. Зак., № 13, 383).
«Рус. Архив», 1865 г. Рассказ Екатерины II о своем царствовании, стр. 492–494.
«Сборник русского исторического общества», VII, 318.
Ссылка на политич. историю Бальфельда, т. II, гл. 15, стр. 311. «Сборник русского исторического общества», VII, 97–98.
«Сборник русского историч. общества», VII, 98–101.
Ibid., I, письма Екатерины II к г-же Жоффрен, 282.
Журналы сената, в Ист. Рос., соч. Соловьева, XXV, 148
«Сборник рус. истор. общ.», VII, 135, и «День» 1862, № 16, стр. 3.
Полн. Собр. Зак., т. XVI, № 11, 643.
«Сбор. рус. истор. общ.», VII, 188–196.
Соловьев, XXV, 22–24.
Полн. Собр. Законов. XVI, № 11, 730.
Соловьев, XXV, 171 и «Сенат в начале царствования Екатерины II», «Древн. и Нов. Рос». 1875 г., тетрадь первая.
«Русская Старина», том XIV, 587. Письмо Екатерины к Вольтеру.
П. Собр. Законов, т. XVI, 11, 730. На основании указа 8-го января, некоторые полагали, что «духовенству не быть в покое». Заслуживает при этом внимания, отношение к церковному вопросу дворянства. По словам одного корреспондента Арсения, «дворянство необузданное забыло, что умереть, а помнит, что надлежит править и владеть вотчинами не духовенству, а дворянству». Письмо Ярославцева. «Рус. Старина», 1876, том XV, 730.
«Сборн. рус. истор. общ.», VIII. Инструкция Екатерины II князю Вяземскому, 188–195. Впрочем, еще 29-го марта 1762 г., последовал указ, чтобы «к фабрикам и заводам деревень с землями и без земель покупать не дозволять, а довольствоваться вольнонаемными по паспортам за договорную плату людьми». № 11, 490.
«Русский Архив» 1865 г., 485.
«Русская Старина», том XIV, 587 и «Oeuvres de Voltaire», edition Berochot, t. LXII, р. 411.
Полн. Собр. Закон., XVI, № 11, 716.
Записки князя Я.П. Шаховского, изданные ред. «Русской Старины», стр. 192–194.
Полн. Собр. Законов, XVI. № 11, 716.
«Чтения Моск. Общества истории», 1861 г., кн. III. Интересный пример борьбы между великорусским и малорусским элементами в это время, даже в среде братии Троицкой лавры, представляет случай, рассказанный в воспоминаниях И.М. Снегирева, «Русский Архив» 1866 г., стр. 534–536.
Мы знаем однако действия Д. Сеченова в нижегородской епархии.
Письма к Вольтеру, стр. 13–24.
Гедеон любил пожить в свое удовольствие. Будучи еще архимандритом Троицкой лавры, он прославился своею роскошью: его гардероб с шелковыми и бархатными рясами занимал целую комнату; он носил шелковые чулки и башмаки, бриллиантовые пряжки которых стоили до 10 000 р. О нем говорили: Гедеон нажил миллион. Однажды, вовремя прогулки, он нарочно столкнул в воду известного Платона, тогда еще молодого архимандрита, а потом отдарил его двумя лучшими рясами, причем дал ему такой совет «никогда не сердись, когда шутит с тобою начальник для испытания твоего характера». Снегирев, «Рус. Арх.» 1866 г., 536–537. Находясь при дворе, в качестве проповедника, Гедеон вполне сжился с этою сферою. См. Чтения по истории русской церкви в царствование Екатерины II, «Правосл. Собесед.» 1875 г., № 2.
3наменский, ibid., № 2, стр. 133. Ср. 106–121.
Антидот Екатерины II, в сборнике «ХVIII-й век», т. IV, 332.
[Продолжение. Начало –] См. «Русскую Старину», изд. 1879 г., т. XXIV, стр. 731–752; т. XXV, стр. 1–34, 577–608. [Опубликовано в ежемесячном историческом журнале «Русская старина», том XXVI, 1879 год, сентябрь, стр. 1–34.]
Арсений продолжал считаться синодальным членом.
Переписка Арсения с Ярославцевым, в «Дне» 1864 г., № 39.
Сообщено С.М. Соловьевым в «День» 1862, № 16, и перепеч. в «Чтен. Моск. Общ. истории», 1862, III, 191.
«День» 1864, № 39, стр. 9.
По инструкции 29-го ноября, комиссия распорядилась отправить по уездам обер-офицеров из дворян, знакомых с сельскою экономиею, для описи имуществ, и составила особые формы описей, утвержденные императрицею 29-то января 1763 г. Полн. Собр. Зак., XVI, 11, 745. Далее, именным указом от 5-го февраля, повелено было разослать, в течение июля и августа, во все епархии и монастыри шнуровые книги для внесения в них приходов и расходов, по сочиненным комиссиею формам, для поверки которых предписано было учредить при комиссии счетную экспедицию. Ibid., № 11, 747.
Сильвестр Старогородский (Ист. Спб. Дух. Акад., Чистовича, 37, и Списки Ю. Толстого, 15), а не епископ старогородский, как пишет г. Барсов («Рус. Стар.» 1876, том XV, стр. 737; или С. Старогородский, «Христ. Чт.», 1873, № 2). Он был крестник великой княжны (императрицы) Елисаветы Петровны.
«День» 1864, № 39 (письмо от 12-го февраля 1763 года).
«День», 1864, № 39, стр. 8. Ср. «Рус. Старину» 1876, том XV, стр. 741.
«День», Ibid.
Впервые анафематствование, за прикосновение к церковным имуществам, в чине православия встречается после вторичного отобрания земель у новгородского духовенства, до собора 1503 г., а примеру Новгорода последовали потом и другие епархии. Анафематствование это было заимствовано из подложного правила пятого вселенского собора, на которое ссылается собор 1503 г.; и в некоторых синодиках его вовсе нет (напр. в синод. моск. Успен. собора, «Древ. Рос. Библ.», VI). Но в рукописном ростовском синодике (моск. типограф. библ.) 1642 г., против анафемы «на обидящих святые Божии церкви и монастыри», сделана еще особая заметка для протодиакона: «возгласи вельми!». «Исторический очерк секуляризации церковных земель в России», А. Павлова, 50–51. Автор этой монографии говорит, что Арсений совершал в 1763 г. обряд православия по такому синодику, но это не вполне точно. Арсений, со своей стороны, сделал также прибавления, отмеченные нами в тексте, а потому синод, в своем представлении императрице, обвинял Арсения не только в совершении означенного чина по рукописному, а не печатному экземпляру, но и за то, что он «сверх того и другия перемены и прибавки, по своему мудрствованию, в том чиноположении учинил без ведома синода». «День» 1864, № 39, стр. 6.
«День» 1864 г., № 39.
В «выписке из последовавших в нынешнем году случившихся повестей» («Чтения Моск. Общ. истории», 1862, II, смесь, 15–18) означенное событие отнесено к 1762 г., причем сообщается, что вслед затем Арсений отправил два прошения – одно Петру III, а другое Екатерине II, по вступлении её на престол. Но это не верно. Арсений действительно посылал два «доношения» в синод, но оба – в 1763 г. Из следственного же дела видно, что Арсений во все время своего архиерейства («как пред собранием словесно объявлял») «церемонии оной никогда не чинил, а только в сем году отправлял»; почему синод сделал заключение, что «включенная в оном церемониале клятва ни к чему оному клонится, как и его вышеозначенные оба доношения»... «День», 1864 г., № 39, стр. 6.
Сообщены Лонгиновым в «День», 1862, 17; перепечатаны в «Чтен. Моск. Общ. истории», 1862, III, 192.
Буквальная выписка, см. маниф. Екатерины II. «XVIII век», IV, 216.
Это, случайно брошенное, замечание не доказывает особенной заботливости Арсения о белом духовенстве. Он и ему подобные защитники церковных прав думали только о себе и монастырях, а это забывают те, которые в протестах Арсения желают видеть строгую выдержанность канонического принципа!
В пример того, как отбывается эта повинность, Арсений ставит Спасо-Ярославский монастырь, обладавший 14 000 душ крестьян, с которых в экономическую канцелярию платилось 3 000 р., на монахов и монастырь шло 900 р., а на 71 чел. инвалидов 786 р. и 240 четвертей хлеба.
«Чтения Моск. Общ. истории» 1862, II, 25–39.
Выписка из «Келейного Летописца» Дим. Ростовского, по рукописи Моск. Дух. Акад., № 71, лист 36–137; «Чтения Моск. Общ. ист.», ibid., 40–44.
«Сборник русского исторического общества», VII, второе письмо к Бестужеву, стр. 270.
«День», 1864 г., № 39, стр. 4.
«Сборник, русского историч. общ.», т. VII, стр. 269–270; «День», ibid.
«Сборник», Ibid.
«Сборник», VII, 270.
«День» 1864, № 39, стр. 4.
Арсений здесь забывает, что «обдирали», например, и такие лица, как новгородский архиепископ Феодосий Яновский и т. п. др.
В этом случае представитель аскетизма забывал, что так, собственно, и должно было бы быть! Так и думали Нил Сорский, Артемий, Максим Грек и т. п. блюстители нестяжания, поднявшие свой голос против идей Арсения еще в XVI веке; но он их обходит и помнит одного Иосифа Волоцкого!
Замечания А.П. Сумарокова на Наказ, в «Сборн. русск. истор. общества», X, 85–86.
Второе доношение Арсения напечатано было в «Чтен. Моск. Общ. ист.» 1862, III, 158–162, и Н.И. Барсовым в «Русской Старине» 1876, том XV, 742.
Доношение Арсения, ibid.
Письмо Ярославцева, «Русская Старина», ibid., 730. Автор статьи, помещенной здесь, видит в корреспонденте Арсения – «человека очень либерального образа мыслей», потому что он высказался против дворянства: «необузданное дворянство забыло, что умереть, а помнит, что надлежит править и владеть вотчинами не духовенству, а дворянству» – сомнительный либерализм, если он допускает обратное.
Второе донесение помечено 15-м марта.
«День», 1864, № 39, стр. 4–5.
«Сборник русск. историч. общ.», VII, 270.
«День», 1864, № 39, 3–4.
«Русские достопамятности», выпуск IV, Арсений Мацеевич, Москва, 1862, стр. 21.
«День», 1864, № 39, стр. 3.
Ibid., 1862, № 25, стр. 6.
«Русские достопам.», IV, 22. Кляп – bаillon, которым заграждали уста опасным арестантам, и вынимали его тогда, когда давалась пища.
Подобная предупредительность Бестужева не была ли вызвана возможными против него подозрениями? Есть собственноручная записка Екатерины II к нему (12-го февраля 1763 г.) с уверением о нераспечатывании писем. («Сборн. русск. истор. общ.», VII, 233).
«Сборник русск. иcт. общ.», VII, 269–270. Прежде того, письмо Екатерины II было помещено в «Дне» 1862 г., № 16, и «Чтениях Моск. Общ. ист.» 1862 г., III, 192.
«Сборник русск. истор. общ.», VII, 271–272.
Латинские выражения в письмах Щербацкого к Арсению поручено было перевести Григорию Полетике (синод. переводчику). «Русская Старина» 1876 г., том XV.
«День», 1864 г., № 39. Выписка из дела.
Ответы Арсения писаны не им самим – он только подписался; но в этом месте сделана им собственноручная приписка: «что разумеется на представление комиссии».
В Крестовых патриарших палатах, при огромном стечении народа, окружавшего синодальный двор. «Русские достопамятности», Снегирева, 23.
«Русская Старина» 1876 г., том XV, 750, 752–753.
«Русские достопамят.», стр. 20.
«Сборник русского исторического общества», VII, 271. На личный характер отношения Екатерины к Арсению есть указание в последующем его деле, возникшем в 1767 г. «Монах-де Арсений, – читаем там, – говаривал слова такие: «её-да величество наша неприродная, и она-де не твердая в законе нашем и не надлежало-де ей Российского престола принимать, а следовало Ивану Антоновичу, или лучше бы было, кабы её величество за него вступила в супружество"». На поле против этого места Екатерина заметила: «Сии слова Арсений говорил и в 1762 г. (sic!) капитану Дурново, когда сей последний приезжал его брать в синод, и так Алексеевский то не выдумал». «Чтен. Моск. Общ. ист.» 1862, III. 165. Следовательно, эти слова Екатерина хорошо знала в 1763 году, а известно, как ревниво относилась она к сомнениям в её правах на престол, даже в пользу её сына. Впрочем, говорят, Дурново отрицал потом, перед почитателем Арсения, И.В. Лопухиным, и свое показание, и слова Арсения. «Чтен. Моск. Общ. ист.» 1862, III, 138.
«Рус. достопам.». Биография Арсения, Ив. Снегирева, 24.
«Cборник историч. общ.», VII, 287–294.
Ibid., 288.
Полн. Собр. Закон., XVI, 11, 814.
Ibid., № 11, 844.
Ibid., № 11, 864.
Ibid., № 12,000 с книгою штатов.
«Сборн. рус. истор. общ.», VII, 316–317. Лебедев, графы Панины, 105–106. Потемкин числился в синоде и в 1765 г. «Рус. Ар.» 1866, 133.
В действительности их было более, а именно 1 069 711 душ (включая и юго-западные монастыри). Делая расчет на основании этой цифры, полагают, что всей земли в это время за духовенством числилось 8 557 688 десятин, которая, будучи оценена по позднейшей (средней) продажной цене, дала бы весьма крупную сумму – в 213 942 200 р. См. Несколько цифр из статистики русской церкви с 1742–1786 год. О. «Труды Киев. Дух. Акад.» 1867, июнь, 482–502.
В каком положении находились в это время инвалиды в монастырях, видно из следующей секретной (собственноручной) инструкции, данной императрицею тому же капит.-поруч. Дурново: «1) ехать вам надлежит отселе в Москву. 2) Приехав туда, наведываться вам под рукою, есть ли на Москве остаточные сверх определения в инвалиды отставных солдат, прежде при монастырях живущих. Здесь слух носится, будто комиссия духовная меньше положила инвалидов, нежели при монастырях солдат было, и многия сотни остались без хлеба и по-миру по Москве будто шатаются, почему от меня гр. Салтыкову писано, и от него ко мне писан репорт, из которого противное значить; однакож как Мих. Баскаков сам таковых милостыни просящих видел, то ныне вас посылаю, чтоб вы истину узнали, и, сколько возможно, именно их переписывали и обнадеживали их, что они мною не оставлены будут, а ко мне пришлите роспись и подайте такую же гр. Салтыкову, которому уже от меня приказано, на первый случай, выдать по два рубля на человека.... Все сие вы прежде гр. Салтыкову не объявите и приложенные письма ему не вручите, пока вы не сведаете истинных слухов. 3) Из Москвы поедите в Александрову слободу под видом богомольства, где вам проведывать, много ли стариц сверх штатных, сколько им дается и в чем их нужды состоят, и, обнадеживая их немедленным моим о том рассмотрением, приезжайте обратно сюда с сими известиями, которых от вас ждать буду». «Сборн. рус. ист. общ.», VII, 394–395.
Полн. Собр. Закон., XXII, № 16,399; 16,358 и 16,359.
Ibid., XXII, № 16,375.
Ibid., 16,649 и 16,650.
Списки архиереев, Юрия Толстого, № 93, и «Чтения Моск. Общ. ист.», год III, кн. 2-я, стр. 79. Он был также южнорусс и состоял учителем сначала в харьковском коллегиуме, а потом в Троицкой семинарии.
«Сборник рус. истор. общ.», VII, 397–399.
Речь импер. Екатерины II, говоренная ею к синоду, по случаю отчуждения церков. имуществ в России. «Чтения Моск. Общ. ист.» 1862, II, смесь, 187–188.
«Антидот» Екатерины II в «XVIII веке», издан. Бартеневым, VI, стр. 342–349, 352–354, 376, 384.
«Чтен. Моск. Общ. истории» 1870, II, 158–168, статья Абрамова. «Павел, митр. тоб. и сибир.», гр. М.В. Толстого, «Странник» 1868, №11; 59–77. «Чтения по рус. церковн. истории за время Екатерины II», Знаменского, в «Православ. Собесед.» 1875 г.
Вот его слова, сообщаемые митр. Евгением:. «Quandoquidem patres nostri, е numero quorum quidam sancti, varia bona terrena Ecclesiae dederuut, anathematis omnibus detractoribus istorum bonorum, etiam ego, homo peccator et Ecclesiae Christi Episcopus indignus, non meo quidem ore, sed ore meorum patrum, tibi, detractori Ecclesiasticorum bonorum, anathema et inopinatam mortem profero». «Чтения Моск. Общ. ист.» 1870, кн. III, смесь.
Сообщение г. Терновского, на основ. документ. синод. архива в киев. историч. обществе, см. «Чтения в историч. общ. Нестора Лет.», I, 1879 г., стр. 204.
«Сборник рус. истор. общ.», X, стр. 275–276.
«Пермский Сборник», II, Архимандрит Иакинф, стр. 23–35. Жизнь архим. Иакинфа Кашперова, иер. Макария, «Москвит.» 1852. III. Он был игуменом разных монастырей, а в последнее время – архим. Долматовского и Соликамского-Пыскорского, в котором оставался до смерти.
Сравни, например, интересный указ верх. тайн. сов. 1727 г. рязан. воеводе Борису Неронову с повелением принять надлежащие меры против отягощения архиерейских крестьян, дозволяемого себе рязан. архиер. Гавриилом (известный сотрудник Петра Великого – Г. Бужинский). Баранов, архив правит. сената, II, 96.
Прежние действия Димитрия Сеченова в этом отношении лучше всего показывают, насколько он подчинился теперь духу времени или более удобному течению.
Дело об этом в госуд. архиве: см. Соловьев. XXVII, 158–160. Впрочем, еще в 1761 г. сибирскому губерн. начальству было предписано защищать сибирских и оренбургских жителей от притеснений, чинимых командами, которые посылались от раскольнической комиссии, учрежденной митр. Павлом. От этих команд однажды, в 1759 г., предали себя сожжению 150 чел. муж. и женск. пола; а обращение инородцев было усилено также при митр. Павле. См. статью гр. Толстого, 162–163.
В одной из жалоб говорится «о произношении архиереем о синоде непристойных поносительных слов». «Чтен. в ист. общ. Нест. Лет.», 204.
Сообщение г. Терновского, lос. cit., стр. 8–9.
«Чтения Моск. Общ. ист.» 1870, II. Павел, митр. тоб.
«Антидот», стр. 334.
[Продолжение. Начало –] См. «Русскую Старину», изд. 1879 г., т. XXIV, стр. 731–752; т. XXV, стр. 1–34; 577–608; т. XXVI, стр. 1–34. [Опубликовано в ежемесячном историческом журнале «Русская старина», том XXVI, 1879 год, октябрь, стр. 177–198.]
«День» 1864 г., № 39, стр. 9.
«История москов. епарх. управл.». 1721–1821. Ник. Розанова. Том II, кн. 2, стр. 332–336, прим., 442, 450.
См. книгу Ростиславова: «Опыт исслед. о богатствах монастырей»; см. также: архим. Фотий, «Русская Старина», изд. 1876 г., том XIII, и «Вест. Европы» 1878 г.
См. замечания Р.С.Т. по делу Арсения Мацеевича, в «Дне» 1861, № 16, стр. 3–5, и Знаменского, в «Чтениях по ист. церкви в царств. Екатерины II».
Обзор духов. литер. Филарета, кн. 2, стр. 90, – цитата у Н.И. Барсова, стр. 727, «Рус. Стар.» 1876, том XV.
Интересны в этом отношении её мнения о правах Остзейского края и Малороссии, см. «Русскою Старину», изд. 1876 г., том XVII, стр. 1–20; «Сборн. Рус. ист. общ.», т. VII, 375–391; X, 272–274.
«Сборн. Рус. историч. общ.», VII, 378.
Знаменский, «Чтения из истор. рус. церкви в царств. Екатерины II» «Правосл. Собесед.» 1875, февр., 108–122.
1) «Чтения Моcков. общ. ист.» 1871, III, стр. 114–119.
Наказ и пункты депутату от синода напеч. Е. Прилежаевым в «Христ. Чтении» 1876, сент., октябрь, 223–265.
Пекарский, Дополн. к ист. масон. в Рос. в XVIII стол., 17–20, в «Сборн. Ак. Наук», VII, и Знаменский, «Чтения» в «Правосл. Соб.» 1875, апр., 409–410. Сохранилось весьма интересное письмо крутиц. еп. Сильвестра (Старогородского), уже известного нам, к митроп. Гавриилу, от 12-го апр. 1768, касающееся того же вопроса. Он пишет: «Получил я от вашего преосв. сего апреля 2 дня письмо, в котором стужительность мыслей ваших по известным обстоятельствам довольно изъясняется: то-то оно, про что в Москве неоднократно говаривано! Я плод почестей епископских искусом дознал в бытность мою при комиссии, так что и при двойном теперь звании, однако половиной мне сноснее: вы узрите как пояшут вас и ведут аможе не хощете... В причислении к мещанству духовенства, de quo olim obiter et paucis, труда много, чтобы отстоять; однако не будет ли годиться предложение такое, что мещанам дозволены способы многих выгод и корыстей, как то: торги, откупи и прочее, почему и государственные тягости им сносны. А как духовные мещанских выгод по указам не имеют и иметь правилами возбраняется, так и в тягостях общества, соучастны быть или ex natura status sui не могут, какова поставка рекрут в солдатство, складка рекрутская и пр. Или, и то могут vi facultatum suarum, от всего того по правилам и примеру всех веков церкви, да и самых иноверческих держав свободны. А буде смешивать духовенство с мещанством, то надо дать ему и корыстей средства, чего одним дать не хочется, другим иметь не можно: так останутся только тягости мещанские на духовных безвыгодно»: «Христ. Чтен.» 1873, № 2, 340–341. Н.И. Барсов, коснувшись этого письма и означенной комиссии о правах духовенства, замечает: «как единственный источник поэтому предмету, как руководящая статья» читано было рассуждение господина Гуна (Юма, известного писателя-мистика), приличное к сей материи. Но в подлиннике сказано: «разсуждение из историй г. Гума»... Юм – известный историк и философ эпохи просвещения, а не мистик. Мистика здесь совершенно ни при чем.
Статистика в рассуждении России, соч. кн. Щербатова, в «Чтениях Моск. Общ. ист.».
Этого места нет в черновом списке письма, хранящемся в госуд. архиве; но оно находится в самом полном издании переписки Вольтера (раr М. Benchot, t.LХII, 411). Перевод этого места был сообщен уже в 1872 г., в X т. «Сборн. Русск. Истор. Общ.», стр. 37–38 (бумаги Екатерины II), затем вторично г. Гротом, с французским подлинником, в 1875 г., в «Русской Старине», том XIV , стр. 587–588.
«Сборн. Русск. Истор. Общ.», X, 93–96. Письмо Вольтера впервые напечатано в этом издании.
Оно производилось в архангелогородской канцелярии, при которой содержались теперь виновные: монах Арсений, архимандрит Антоний, подпрапорщик Алексеевский, монахи, солдаты, капитан Римский-Корсаков, служивший в архангелогородском гарнизоне, но вступивший с Арсением в переписку, когда он находился в Корельском монастыре. («Чтения Моск. Общ. ист.» 1862, III, 173, и «День» 1862, № 16). Предлагая произвести разследование, кн. Вяземский писал архангелогородскому прокурору, что так как по милосердию её величества «никакие истязания терпимы быть не могут, то чтобы по сему делу отнюдь побоями никто истязан не был».
По поводу чтения жития Кирилла Белозерского (так в статье г. Чистовича – «День», 1862 г., № 15, и в подлинном предложении генерал-прокурора князя Вяземского – архангелогородской губерн. канц., сообщенном нам редакцией «Русской Старины»); в «записке же о монахе Арсение», в «Чтен. М. О. ист.» 1862, III, 167, – Кирилла Новоезерского, – Арсений пророчествовал, что «будет России благополучие: турка выгонят и возьмут Грецию, и ныне-де, то время приходит и будут-де царствовать двое: первый его высочество, а другой – принца Ивана брат, Петр, который-де содержится в Холмогорах, и ему уже лет с пятнадцать».
Сначала Арсений это показание отверг, но потом «о сосудах показал, что князь Куракин (председ. коллегии эконом.) обобрал, а вместо того наделал оловянных». Екатерина приписала: «о сем исследовать, где, когда и кем». И в последующей её записке, по этому делу, прибавлено уже: «Но сие по исследовании нашлось зло выдумленное – ложь». «Чтения Моск. Общ. ист.» 1862, III, стр. 168, 171.
Екатерина приписала: «О сем исследовать, имел-ли сношения с Геннадием о читании молитвы, и почему то знает Арсений, быв под крепким караулом».
«Чтения Московск. Общ. истории», 1862, III, смесь, дело об Арсение Мацеевиче, 165–170.
«День», 1862, № 25, стр. 6. Екатерина сделала замечание: «Смешивая он, Арсений, таким образом святая вера с монаху непристойную корыстию, советывал из злобы читать молитвы о гонении церкви». «Чтения» 1862, III, 172. В заключении у Арсения были найдены бумаги и молитвы о гонящих церковь, выписанные из печатного киевского служебника. «День», 1862 г., № 15, стр. 5, статья г. Чистовича.
Соловьев, XXV, 255.
Арсений говорил, что эта инструкция «была дана для того, что если кто для взятия его приступать будет, то б его живого не отдавать, а умертвить, да конечно-де она забыла, а то бы, де, при кончине ту инструкцию отобрала, затем, что бывшего государя она не любила и не хотела, чтоб он был после её преемником престола, Ивана же Антоныча поближе и привезли для того, чтоб он после её престол принял». Арсений сознался, что он толковал об этом на основании слухов. Стр. 166.
«День», 1861, №15, стр. 6–7. Проект указа с поправками Екатерины II в «Чтениях моск. общ. ист.» 1862, III, 173–180. Предложение ген.-прок. Вяземского архангелогород. губерн. канцл., с подробным изложением приговора, сообщено нам редакцией «Русской Старины». По рассказам почитателей Арсения, виновника новых бед его (арханг. прокур. В.В. Нарышкина) также постигли кары судьбы. «Чтения» 1862, III, 137–138.
Без сомнения это письмо то же, которое передается в рассказе И.В. Лопухина другими словами, причем слово зверок заменено словом: «птичкою». «Чтения Моск. общ. истор.» 1862, III, 194 и II, 12. Инструкции и переписка об Арсение в «Чтениях» 1862, III, 181–194, и «День», 1862, № 15.
Заметка Закревского, «Чтения», II, 9.
«День», 1862, № 15, стр. 6. Арсений погребен при русской Никольской церкви.
«Чтения» 1862, II, 10–14. Говорят, что, узнав о вторичном решении по своему делу, Арсений будто бы в таком тоне выразился о жизни императрицы и пророчествовал о её кончине, что трудно передать в печати; но это без сомнения позднейшее изобретение фантазии его почитателей. См. Биографию Арсения, Лейпциг, 1863, стр. 13. Один из подобных рассказов, именно как легенда, напеч. в «Рус. Стар.» 1874, том X, 778. Более подробное изложение этого рассказа, с прибавлением тенденциозных аксессуаров, имеется в рукописях, принадлежащих редакции «Руской Старины». Кажется, был пущен нарочно слух о ссылке Арсения в Сибирь. «Чтения моск. общ. ист.», III, 139–140. В списках Ю. Толстого замечено: «назначен в ссылку «в Камчадалы» в Верхнеудинский острог, но из Вологды отвезен в Ревельскую крепость» (стр. 10).
Доказательства этого в статье Диева, «Чтения» 1862, II, 3–7; его же, в «Чтен. моск. общ.» 1864, IV, 11–28. Документы о ссылке иером. Арсения в статье Баскина, «Чтения», 1875, I, смесь, стр. 131–143
«Чтения» 1862, III, стр. 187.
«Чтения» 1864, IV, стр. 12.
Подметное письмо Смолина и документы о нем в «Памятниках новой рус. истории», I, 123–138.
Записки, стр. 56.
«Памятник Арсению Мацеевичу», статья М. Лонгинова, «День» 1862, № 19. Мы не считаем нужным говорить о тех, которые, в оправдание Арсения, приводят то, что сам Шешковский, почувствовав жестокость своих розысков, до самой смерти посылал в Ревель на поминовение по Арсение. «Рус. Достопамят.», 34. Гораздо интереснее сообщенное нам редакцией «Русской Старины» «письмо неизвестного» о кончине митр. Арсения, помеченное 23-м марта 1776 г. (!) и очевидно сочиненное в ХVIII-м веке, но показывающее, как трудно было известной партии примириться с совершившимся фактом. Больное место этого письма – отобрание церковных имуществ. Мы помещаем его в приложении.
«Рус. Архив», 1863, 101.
Энциклопедич. Словарь, составл. Русскими учеными и литераторами. Спб. 1862, V, 460.
