- От издателей
- Часть первая. Поучения катехизические
- 1. О том, как Бог открыл Свое учение людям, как это учение распространилось между людьми и дошло до нас
- 2. О том, почему мы знаем, что в книгах Священного Писания заключается действительно то учение, которое Бог открыл людям
- 3. О том, чем мы можем увериться в божественном происхождении книг Священного Писания, – мы, которые пророков, апостолов лично не знаем, чудес их не видали, пророчеств не слыхали
- 4. О том, каким образом мы можем убедиться, что в книгах Священного Писания заключается божественное учение, если не убедят нас в том ни чудеса, ни пророчества, ни высота, ни святость, ни могущественная сила сего учения
- 5. О Священном Предании
- 6. О том, чему главным образом учит нас православное христианское учение
- 7. О том, как мы можем приобрести веру
- 8. О том, как именно должны мы веровать
- 9. О вере в бытие Божие
- 10. О том, что Бог един
- 11. О том, что Бог есть Дух, что Он вездесущ и вечен
- 12. О том, что Бог преимущественно присутствует в особенных местах, что Он благ, всемогущ, правосуден и премудр
- 13. О том, что Бог пресвят, неизменяем, вседоволен, всеблажен
- 14. О том, что Бог есть Троица
- 15. О Святой Троице
- 16. О мире невидимом Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым...
- 17. О добрых духах
- 18. О злых духах
- 19. О кумирах
- Часть вторая. Поучения на Ветхий и Новый Заветы
- 20. А день седьмой – суббота Господу, Богу твоему (Исх. 20:10)
- 21. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа (Пс. 26:14)
- 22. Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь (Пс. 89:10)
- 23. Проклят, кто дело Господне делает небрежно (Иер. 48:10)
- 24. Глас в Раме слышан, плач и рыдание и вопль велик; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет (Мф. 2:18)
- 25. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. (Мф. 5:7)
- 26. И остави нам долги наши (Мф. 6:12)
- 27. Светильник для тела есть око (Мф. 6:22)
- 28. И будете ненавидимы всеми за имя Мое (Мф. 10:22)
- 29. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11:28)
- 30. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную (Мф. 19:29)
- 31. Злодеев... предаст злой смерти (Мф. 21:41)
- 32. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! Или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне (Лк. 10:40)
- 33. Да святится имя Твое (Лк. 11:2)
- 34. Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его (Лк. 11:28)
- 35. Но скажу вам, кого бояться (Лк. 12:5)
- 36. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец (Ин. 10:11)
- 37. Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! Любишь ли ты Меня больше, нежели они?.. Еще говорит в другой раз: Симон Ионин! Любишь ли ты Меня?.. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! Любишь ли ты Меня? (Ин.21:15–17)
- 38. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие (Деян. 14:22)
- 39. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие (Деян. 14:22)
- 40. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков (Иак. 5:10)
- 41. Итак, братия, будьте долготерпеливы (Иак. 5:10)
- 42. Много может усиленная молитва праведного (Иак. 5:16)
- 43. Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте (Рим. 12:14)
- 44. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши о Христе Иисусе (Фил.4:5–7)
- 45. Непрестанно молитесь (1Фес. 5:17)
- Часть третья. Поучения на изречения церковных молитв и песен и символические действия при богослужении
- 46. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас
- 47. Приидите, поклонимся и припадем ко Христу: спаси ны, Сыне Божий...
- 48. И, имиже веси судьбами, спаси мя, недостойнаго раба Твоего
- 49. Силою Честнаго и Животворящаго Креста
- 50. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа
- 51. Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще
- 52. О силе молитв служителей Церкви
- 53. О главопреклонении во время великого входа
- 54. О главопреклонении во время великого входа
- 55. О крестном знамении Крест – красота Церкви...
- 56. О хождении в храм Божий
- 57. Тем, которые редко ходят в храм Божий
- 58. О ежедневном хождении в церковь
- Часть четвертая. Поучения на праздники Господни
- 59. В навечерие Рождества Христова
- 60. В день Рождества Христова
- 61. В день Рождества Христова
- 62. В день Рождества Христова
- 63. В день Рождества Христова
- 64. В день Рождества Христова
- 65. В день Рождества Христова
- 66. На второй день Рождества Христова
- 67. На второй день Рождества Христова
- 68. В Новый год и в день Обрезания Господня
- 69. В Новый год и в день Обрезания Господня
- 70. В Новый год и в день Обрезания Господня
- 71. В день Сретения Господня
- 72. В день Сретения Господня
- 73. В день Сретения Господня
- 74. В день Сретения Господня
- 75. В день Сретения Господня
- 76. В день Богоявления Господня
- 77. В день Преображения Господня
- 78. В Лазареву субботу
- 79. В Неделю Ваий
- 80. В Неделю Ваий
- 81. В Неделю Ваий
- 82. В Неделю Ваий
- 83. В день Пасхи
- 84. В день Пасхи
- 85. В день Пасхи
- 86. В день Пасхи
- 87. Во второй день Пасхи
- 88. В третий день Пасхи
- 89. В четвертый день Пасхи
- 90. В день Вознесения Господня
- 91. В день Пятидесятницы
- 92. В день Пятидесятницы
- 93. В день Воздвижения Креста Господня
- 94. В день Воздвижения Креста Господня
- Часть пятая. Поучения на воскресные дни
- 95. В Неделю святых жен-мироносиц
- 96. В Неделю о слепом
- 97. В Неделю всех святых
- 98. В Неделю третью по Пятидесятнице
- 99. В Неделю шестую по Пятидесятнице
- 100. В Неделю десятую по Пятидесятнице
- 101. В Неделю одиннадцатую по Пятидесятнице
- 102. В Неделю двенадцатую по Пятидесятнице
- 103. В Неделю шестнадцатую по Пятидесятнице
- 104. В Неделю семнадцатую по Пятидесятнице
- 105. В Неделю восемнадцатую по Пятидесятнице
- 106. В Неделю девятнадцатую по Пятидесятнице
- 107. В Неделю двадцатую по Пятидесятнице
- 108. В Неделю двадцать четвертую по Пятидесятнице
- 109. В Неделю двадцать четвертую по Пятидесятнице
- 110. В Неделю двадцать седьмую по Пятидесятнице
- 111. В Неделю тридцать вторую по Пятидесятнице (о Закхее)
- Часть шестая. Поучения на праздники Богородичные
- 112. В день Рождества Пресвятой Богородицы (8/21 сентября)
- 113. В день Введения во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября/4 декабря)
- 114. В день Введения во храм Пресвятой Богородицы
- 115. В день Благовещения Пресвятой Богородицы (25 марта/7 апреля)
- 116. В день Успения Пресвятой Богородицы (15/28 августа)
- 117. В день Успения Пресвятой Богородицы
- 118. Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе, Спасе Моем (Лк.1:46–47)
- 119. Величит душа моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе, Спасе моем (Лк.1:46–47)
- 120. И вошла в дом 3ахарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа (Лк.1:40–41)
- 121. Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою
- 122. Пресвятую, Пречистую... со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим
- Часть седьмая. Поучения на дни памяти святых
- 123. В день пророка Божия Илии (20 июня/2 августа)
- 124. В день усекновения главы Иоанна Предтечи (29 августа/11 сентября)
- 125. В день святых первоверховных апостолов Петра и Павла (29 июня/12 июля)
- 126. В день святителя и чудотворца Николая (6/19 декабря и 9/22 мая)
- 127. В день преподобного Алексия, человека Божия (17/30 марта)
- 128. В день святителя и чудотворца Тихона Амафунтского (16/29 июня)
- 129. В день святителя Тихона чудотворца
- Часть восьмая. Поучения на Святую Четыредесятницу
- 130. В Неделю о мытаре и фарисее
- 131. В Неделю о мытаре и фарисее
- 132. В Неделю о мытаре и фарисее
- 133. В Неделю мясопустную, о Страшном Суде
- 134. В Неделю мясопустную
- 135. В Неделю сыропустную
- 136. В понедельник первой седмицы Великого поста
- 137. Во вторник первой седмицы Великого поста
- 138. В среду первой седмицы Великого поста
- 139. В пятницу первой седмицы Великого поста
- 140. Перед исповедью
- 141. В Великий пост
- 142. Перед причастием
- 143. В Неделю Торжества Православия
- 144. Во вторую Неделю Великого поста
- 145. В Неделю Крестопоклонную
- 146. В Неделю Крестопоклонную
- 147. В Неделю четвертую Великого поста
- 148. В Неделю четвертую Великого поста
- 149. В Великий Понедельник
- 150. В Великий Вторник
- 151. В Великий Вторник
- 152. В Великий Четверток
- 153. В Великий Пяток
- 154. В Великий Пяток, пред Плащаницей
- 155. В Великую Субботу
- 156. В Великую Субботу
- Часть девятая. Поучения на разные случаи
- 157. По освящении храма
- 158. По освящении храма в Рыбинске
- 159. По случаю освящения нового иконостаса
- 160. В присутствии Его Императорского Высочества Всероссийского Престола Наследника Цесаревича Великого Князя Николая Александровича в Рыбинском соборе 23 июля 1863 года
- 161. К новым прихожанам
- 162. По случаю благодарственного Господу молебствия о прекращении в Рыбинске холеры в 1848 году
- 163. При выборах в общественные должности
- 164. Во время Крымской войны
- 165. При погребении
- 166. При погребении
- 167. О соединении с ближними в загробной жизни
- 168. Молитву пролию ко Господу и Тому возвещу печали моя
- 169. О том, почему иногда добрые и честные люди умирают худой смертью, а злые и порочные – смертью хорошей
По благословению архиепископа Пермского и Соликамского Афанасия
От издателей
Родион Тимофеевич Путятин (+ 1869) родился в 1807 г., в семье священника. Окончил Рязанскую духовную семинарию. После окончания Московской духовной академии преподавал словесность в Ярославской духовной семинарии. В 1835 г. был рукоположен в сан иерея и долгие годы служил в храмах города Ярославля, а с 1845 г. – города Рыбинска. Однако о.Родион сделался известен всей православной России не только как опытный педагог и «пастырь добрый»: с 1842 г. стали появляться в печати, в т.ч. и повременной, его знаменитые краткие катехизические поучения, выдержавшие на протяжении семидесяти лет свыше двух десятков изданий. Богатейшее наследие о.Родиона – более трехсот поучений и проповедей – пользовалось исключительной популярностью, и заслуженно. Издатели надеются, что редкостный дар излагать в безыскусной форме самые глубокие христианские истины и задушевная теплота творений о. Родиона и ныне много послужат нравственному образованию ума и сердца и привлекут к себе внимание самого широкого круга читателей.
Часть первая. Поучения катехизические
1. О том, как Бог открыл Свое учение людям, как это учение распространилось между людьми и дошло до нас
Учение христианское – чье оно учение? Не человеческое, но Божие. Не люди придумали то, чему оно учит, но Сам Бог открыл это людям. Чему оно нас учит, тому некогда учил людей Сам Бог. Никогда не забывайте этого, слушатели; читаете ли или слушаете христианское учение, беседуете ли или размышляете о нем – не забывайте, что вы читаете, слушаете, беседуете, размышляете о том, чему Сам Бог научил людей, что открыто нам Самим Богом. Как Бог открыл Свое учение людям, как это учение распространилось между людьми и дошло до нас?
Различным образом открывал Бог учение Свое людям древле: иным являлся Он для этого в виде человека, с иными беседовал невидимо, иных вразумлял в сновидениях, иным внушал чрез Духа Святого. Открываемые таким образом истины и правила переходили после на словах от одного человека к другому: отец рассказывал о них детям и внукам, а те, в свое время, своим детям и внукам. И так они распространялись и сохранялись между людьми, переходя от Адама к Ною, от Ноя к Аврааму, от Авраама к Исааку и Иакову, а от них к Моисею.
Таким образом, книг тогда никаких не было. Тогда не было и нужды большой в книгах. Люди тогда жили очень долго; некоторые, например, доживали до восьмисот лет и даже более. Следовательно, один и тот же человек об одних и тех же истинах и правилах мог слушать сам и рассказывать другим целые сотни лет. Но когда во времена Моисеевы люди стали жить уже не так долго, стали скорее стареть и раньше умирать, Бог повелел Моисею написать все – и то, что он слышал от других людей, знал по преданию, и то, что слышал сам от Него лично, непосредственно. Моисей и написал таким образом, по внушению Божию, пять книг боговдохновенных, пятикнижие.
После Моисея благочестивые мужи стали уже постоянно записывать все, что открыл им Бог чрез Духа Святого. Эти благочестивые мужи большей частью называются пророками, потому что они не только от лица Божия учили народ, но и во имя Его пророчествовали, то есть будущее предсказывали. Таким образом написаны книги Ветхого Завета, которых всего двадцать две. Так было распространяемо учение Божие до пришествия Иисуса Христа; так оно было распространяемо и по пришествии Иисуса Христа. Иисус Христос Сам ничего не писал, а учил устно, на словах. Он преподавал учение всем, особенно же избранным Своим ученикам, которых и посылал проповедовать по городам и селам и которые посему названы апостолами, то есть посланниками. По Вознесении Иисуса Христа на Небо апостолы, получив Святого Духа, проповедовали учение сначала тоже устно, а после – письменно. Таким образом написаны книги Нового Завета, которых всего двадцать семь.
Что апостолы сами не могли или не успели написать, то передали своим преемникам, святым отцам Церкви, которые после все слышанное от апостолов передавали другим на словах и предавали письму, и утверждали на Соборах. Книги, писанные самими пророками и апостолами, называются словом Божиим, Священным Писанием, Библией. Библия – слово греческое, по-русски значит «книги». Этим названием выражается то, что книги Священного Писания преимущественно пред всеми достойны именоваться книгами и преимущественно пред всеми достойны нашего внимания. Что написано было святыми отцами Церкви, преемниками апостолов, то называется Священным Преданием, – как скоро святые отцы написали то как божественное, переданное им от апостолов. Итак, вот как распространилось и дошло до нас учение, открытое Богом, а именно сначала чрез устное предание, а после чрез писание.
Слушатели-христиане! Итак, было время, когда Сам Бог учил людей, Сам Бог сказывал им, во что они должны веровать, что делать, как должны поступать; было время, когда Сын Божий учил, было время, когда учили святые апостолы. А ныне кто учит? Пастыри Церкви, но пастыри, Самим же Богом избранные и на то поставленные, и притом пастыри эти не свое проповедуют вам учение, а Божие, на Божественном Откровении основанное; не от себя вас учат, не от своего ума, а наздани на основании апостол и пророк, сущу краеугольну Самому Иисусу Христу. Итак, слушая пастырей Церкви, возвещающих вам слово Божие, вы как бы Самого Бога слушаете, пророкам внимаете, у Иисуса Христа поучаетесь, с апостолами беседуете.
Возблагодарим же Бога, что до нас дошло Его спасительное учение, и, слушая и читая Его святое слово, будем всегда петь Ему: слава Тебе, Господи, слава Тебе! Аминь.
2. О том, почему мы знаем, что в книгах Священного Писания заключается действительно то учение, которое Бог открыл людям
Что Бог открыл людям некогда, то заключается теперь преимущественно в книгах, которые у нас называются Священным Писанием, словом Божиим, Библией. Но, слушатели, как мы знаем, что в книгах Священного Писания заключается действительно то учение, которое открыл Бог? Знаю, что вы веруете в слово Божие и не сомневаетесь в божественном происхождении книг Священного Писания; но этого мало, чтобы только веровать, – надобно и знать, почему мы так веруем. И потому в настоящем поучении мы поговорим о том, что в книгах Священного Писания действительно заключается то учение, которое открыл людям Бог.
В самом деле, почему мы знаем это? Пророки и апостолы сами говорят, что они написали эти книги не от себя, а по внушению Духа Божия. Да, когда пророки пророчествовали, когда апостолы благовествовали, тогда же они говорили и писали и то, что говорят и пишут не от себя, а по внушению Духа Божия, что они не от мудрости человеческой научились, а от Духа Божия. И словам их нельзя не верить, потому что они своими делами доказали, что в них действовал Бог, говоривший их устами, что их просвещал Дух Святой, действовавший их руками.
Если бы какой благочестивый муж сказал вам наперед, слушатели, что с вами случится в эту неделю или в этот год и даже в целую жизнь и если бы с вами все точно так сбылось, что и как он вам говорил, то поверили ли бы этому человеку, когда бы он вас стал уверять, что он это узнал не сам собой, но Бог ему открыл? Без сомнения, должны бы были поверить. Будущего никто, кроме Всеведущего Бога, знать не может. А если бы этот благочестивый муж, верно предсказав вам будущее, стал бы делать какие-либо чудеса, то есть такие дела, которые ни искусством, ни силой человеческой не могут быть сделаны, если бы, например, он исцелял неизлечимые болезни, воскрешал мертвых и тому подобные делал чудеса, то усомнились ли бы вы в словах его, если бы он стал вам говорить, что все это он делал не своей силой и не своим искусством, но силой и помощью Божией? Конечно, не усомнились бы. Кто же, кроме Всемогущего Бога, может делать дела, невозможные для человека?
Теперь судите: пророки и апостолы, мужи святые предсказывали много будущего; они предсказывали такие происшествия, которые человеку самому, по естественному ходу дел, предвидеть было невозможно. Они предсказывали такие явления, которые тогда по обыкновенному закону природы случиться никак не могли; они предсказывали такие деяния, которые зависели собственно от воли еще не существовавших людей. И все предсказывали они наперед за какое-либо время, и все предсказания их сбылись в свое время, и сбылись точно так, как были предсказаны.
Например, пророк Исаия предсказывал, что «Дева зачнет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, еже есть сказаемо: с нами Бог». Проходит несколько сот лет после сего пророчества, и Пресвятая Дева зачинает и рождает Иисуса Христа, Сына Божия, Которому теперь вся земля, поклоняясь, восклицает: с нами Бог. Как же после сего не верить словам пророка Исаии, когда он говорит, что узнал это не сам собой, но Бог ему открыл? Как же не верить и всем тем мужам, которые так верно предсказывали будущее, когда они уверяют, что чрез них говорил Дух Божий? Не верить в этом случае гораздо труднее, чем верить.
Пророки и апостолы, предсказывая будущее, творили чудеса, чудеса в собственном смысле. Мы знаем, что известная какая-нибудь болезнь излечивается не вдруг, а постепенно, и притом какими-нибудь лекарствами. Но вот является человек, который в одну минуту, без всяких лекарств, одним своим словом исцеляет больного. Можем ли мы не признавать этого за чудо? А таких чудес много делали пророки и апостолы; они излечивали болезни, вовсе неизлечимые человеческими пособиями. Всякому известно, что мертвое тело не может уже ожить и встать; но вот является человек, который говорит мертвому телу: востани (Деян. 9:40), и вдруг оно оживает и встает. Не явное ли это чудо? А таких чудес немало творили писатели книг Священного Писания.
После сего можно ли не верить им, когда они уверяют, что все это делают не своей силой и искусством, но силой и помощью Божиею? Если же в пророках и апостолах действовал Сам Бог, когда они делали чудеса, если они просвещаемы были Духом Божиим, когда предсказывали будущее, то, без всякого сомнения, они были люди, угодные Богу и причастные Духа Божия. А таким людям свойственно говорить только правду; следовательно, они истину говорят, правду пишут, когда уверяют, что говорят и пишут не от себя, а по внушению Духа Божия. Так, верно и несомненно то, что говорят о себе пророки и апостолы; верно и несомненно, что они писали книги Священного Писания не от себя, а по внушению Духа Божия. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2Пет. 1:21). Пророкам открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес (1Пет. 1:12).
Впрочем, слушатели, еще скажу: не подумайте, будто бы все это я говорю для того только, чтоб уверить вас, в чем и так вы уверены, а именно, что книги Священного Писания действительно по внушению Духа Божия написаны. Я хочу только сказать вам, чем всякий может увериться в божественном происхождении книг Священного Писания и чем мы можем подкреплять в этом свою уверенность. Без размышления о доказательствах верования может ослабеть вера. Аминь.
3. О том, чем мы можем увериться в божественном происхождении книг Священного Писания, – мы, которые пророков, апостолов лично не знаем, чудес их не видали, пророчеств не слыхали
Божественное происхождение книг Священного Писания доказывается тем, что пророки и апостолы, написавшие эти книги, сами говорят, что они писали по внушению Духа Божия; а что в них действовал и их просвещал Дух Божий, это они доказали своими чудесами и пророчествами. Как ни верны и как ни сильны эти доказательства, но для нас, очевидно, их одних не довольно; ими могли вполне довольствоваться люди, тогда жившие, – те, которые лично знали пророков и апостолов, которые видели чудеса и слышали пророчества.
Чем же мы можем увериться в божественном происхождении книг Священного Писания – мы, которые пророков и апостолов лично не знаем, чудес их не видали, пророчеств не слыхали? В божественном происхождении книг Священного Писания мы можем убедиться из самого Священного Писания. Да, в самом же Священном Писании есть несомненные признаки того, что оно есть учение Божие, а не человеческое; человеку самому, как бы он ни был умен и образован, никогда не написать того, что заключается в Священном Писании, и никогда не написать так, как оно написано. Какие же это именно признаки? Это – высота и чистота учения, заключающегося в Священном Писании, и та могущественная сила, которую оно оказывает на сердца людей.
Так, в Священном Писании заключается учение самое высокое. В нем открываются такие истины, которые человеку никогда и на мысль не приходили, которые между тем так необходимы для нашего духа, как пища для нашего тела, как свет для наших очей. Сознаваясь, что мы сами никогда бы не открыли этих истин, мы вместе сознаемся, что нам без них нельзя было бы жить, – ими наш дух питается и просвещается. В Священном Писании разрешаются такие вопросы, которые старались разрешить самые возвышенные умы и, однако же, не разрешили и которые теперь так для всех стали ясны, что малые дети легко их понимают, мудрые вполне ими удовлетворяются, а непокорные умы безмолвствуют пред ними.
Каким же образом пророки и апостолы умели разрешить вопросы, никем не разрешенные? Каким образом могли открыть те истины, которые и на мысль никому не приходили? Очевидно, им все внушал Дух Святой, их наставлял Дух Святой на всякую истину. Правда, в Священном Писании есть много и такого, что доселе для нас остается непостижимым. Но это и должно быть. В Священном Писании говорится о Боге, Которого мы никогда вполне постигнуть не можем, и говорит Дух Божий, Который есть Существо, для нас непостижимое. Таким образом, непостижимое в Священном Писании служит новым подтверждением того, что оно есть учение божественное. Если Священное Писание не по внушению Духа Божия написано, то как люди выдумали бы то, что выше их понятий?
Но не ум только человека возвышается и освещается Священным Писанием – оно возвышает и очищает всю его душу. Так, в Священном Писании заключается учение самое чистейшее; это – серебро в плавильне, от земли очищенное, семикратно переплавленное. Все правила его святы, все побуждения чисты. Живущий по правилам Священного Писания, действующий по внушениям его – в собственном смысле человек божественный, совершенно не похожий на людей века сего, человек в собственном смысле чистый, небесный, не имеющий никакой скверны или порока; он как бы уже не человек только, но и Ангел во плоти, существо богоподобное. Есть много правил и в человеческих книгах, и правил хороших, но все эти правила отзываются слабостью человеческой. Так и видно, что человек дошел до них своим разумом и опытом. Но совсем не таковы правила Священного Писания – они очевидно выше требований разума и явлений опыта.
Такого совершенного человека, каким образует его Священное Писание, никогда не было на земле; и разум человеческий не может даже требовать от человека того совершенства, какое ему предписывает Священное Писание. И потому-то были люди, которые говорили, что трудно, даже будто невозможно так жить, как учит Священное Писание; но такого человека, который бы сказал, что правила Священного Писания не хороши, вредны, – не было и быть не может. Трудно, очень трудно жить по правилам Священного Писания; но хорошо, прекрасно было бы, если бы все люди жили по его правилам: вот взгляд здравого разума на правила Священного Писания. Откуда же взяты эти правила, когда они выше требований разума и явлений опыта? Как человек сам себе мог предписать их, когда он исполнять их не может без особенной помощи Божией? Несомненно, эти правила внушал пророкам и апостолам Дух Святой, Который есть чистейший Ум, вышеопытная Премудрость, животворящий Дух.
Будучи возвышенным по своему содержанию, Священное Писание могущественно по своей силе. Так, Священное Писание имеет необыкновенную силу над сердцами людей: слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа (Евр. 4:12). Иудейские первосвященники и фарисеи однажды послали своих служителей к Иисусу Христу с тем, чтобы они взяли Его и привели к ним. Те пошли и воротились без Иисуса Христа. «Что же вы не привели Его?» – спросили пославшие. Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот, Человек (Ин. 7:46).
Что сказали служители первосвященнические об учении Иисуса Христа, то же самое должно сказать о всем Священном Писании: никакое учение так живо и сильно не действует на человека, как действует оно. Читая его, так и слышишь, что говорит не человек, а Бог: человеку не сказать так, как оно говорит. И потому тот, кто читает или слушает Священное Писание в простоте сердца, без предубеждений, тот не может не убеждаться им. В Священном Писании сияет такой свет, которого нельзя не видеть, в нем дышит такая теплота, которой нельзя не чувствовать. Мудрецы мира сего доказывают, и доводы их не всегда убеждают, пророки и апостолы просто говорят, и нельзя словам их не верить. Откуда же в пророках и апостолах такая чудная, могущественная сила? Без сомнения, от Духа Святого, Который говорил их устами и водил их пером.
Итак, слушатели, читайте, слушайте Священное Писание и тогда без внешних доказательств убедитесь, что в нем заключается учение божественное: вас убедит высота его истин и чистота правил, вас убедит его необыкновенная и могущественная сила. Впрочем, если кого из нас не убеждают в божественности Священного Писания никакие признаки, ни внешние, ни внутренние, если кто ничего особенного не видит в нем и ничего необыкновенного не чувствует от него, то и для того есть средство убедиться в божественности Священного Писания, и средство самое верное и действительное.
Апостол Фома не усомнился, требуя себе очевидных доказательств на то, что Иисус Христос действительно воскрес; не грешно и нам, если мы будем изыскивать все возможные средства к убеждению себя в божественности Священного Писания, лишь было бы в нас чистое и твердое желание узнать истину и убедиться в ней. Имейте только желание убедиться в истине, а средства к тому у Бога всегда готовы. Аминь.
4. О том, каким образом мы можем убедиться, что в книгах Священного Писания заключается божественное учение, если не убедят нас в том ни чудеса, ни пророчества, ни высота, ни святость, ни могущественная сила сего учения
Каким образом мы можем убедиться, что в книгах Священного Писания заключается божественное учение, если не убедят нас в том ни чудеса, ни пророчества, ни высота, ни святость, ни могущественная сила сего учения?
Иисус Христос, Учитель Небесный, Бог Слово говорил и учил с необыкновенной силой. Он сопровождал слова Свои чудесами, которые все видели, Он подтверждал Свое учение пророчествами, из которых многие вскоре сбывались. Как бы, кажется, после сего не трогаться Его словами, как бы, кажется, не убеждаться Его учением, однако же несмотря на то были люди, которые и Иисусу Христу не верили, которые и от Него требовали доказательства, точно ли Он от Бога пришел, действительно ли Его учение божественное. Что же Иисус Христос таким людям говорил? Какое предлагал Он им средство к убеждению себя в божественном происхождении Его учения? Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение – не Мое, но Пославшего Меня; кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю (Ин.7:16–17). Вы желаете знать, точно ли Мое учение божественное? Творите волю Божию, и вы убедитесь в том.
Итак, вот, слушатели, каким образом мы можем убедиться, что в книгах Священного Писания заключается учение божественное: будем жить по сему учению – и мы вполне убедимся в его божественном происхождении. Вас не поражают чудеса и пророчества, заключающиеся в Священном Писании; вы не сознаете высоты и святости божественного учения; вас не трогает могущественная его сила, ничто вас не убеждает, вы ничего в нем не видите божественного, ничего не чувствуете чрезвычайного и потому желали бы других доказательств того, что в книгах Священного Писания заключается учение божественное? Да каких же вам еще доказательств? Ужели, в самом деле, мертвые должны вставать из гробов для убеждения нас в этом? Но мы и им не скоро поверим, мы от них будем требовать доказательств, точно ли они из мертвых воскресли.
Да, слушатели, нет ни одной духовной истины, в которой бы мы не могли сомневаться; нет ни одного доказательства, против которого нельзя было бы сделать возражения. Кто не расположен верить, тот везде и во всем найдет причину к неверию. Были люди, которые и в бытие Божие не верили. Богач евангельский, будучи в муках, просил Авраама, чтобы тот послал Лазаря в дом отца его к братьям. «У меня, – говорил он, – пять братьев; пусть Лазарь пойдет и предостережет их, чтобы и они не пришли в сие место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он сказал: «Нет, отче Аврааме! Но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Что же Авраам сказал ему на это? «Если Моисея и пророков не слушают, то хотя бы кто из мертвых воскрес – не поверят».
Итак, одно средство убедиться в божественном происхождении Священного Писания – надобно слушаться сего учения, жить по его правилам. Кто не живет по учению Священного Писания, того ничто не может убедить в его божественности. Скажет, может быть, кто-нибудь: «Я тогда стану жить по учению Священного Писания, когда вполне уверюсь, что оно точно божественное». Но возможно ли так увериться? Если бы вам предложили неизвестную пищу и сказали бы, что эта пища самая вкусная и здоровая, то, не отведав ее, узнали ли бы и уверились ли бы, что она действительно вкусна и здорова? То же надобно сказать и о Священном Писании.
Нам говорят, что в Священном Писании заключается учение божественное; мы верим и сомневаемся и как можем вполне в этом увериться, если только слушать и читать будем? Нет, живите так, как учит Священное Писание, отведайте и вкусите этого учения, тогда уверитесь, что оно действительно не простое учение, но божественное; тогда узнаете, как совершенен закон Господень и какая отрада в нем для души, как верно свидетельство Господне и как оно умудряет простого, как праведны повеления Господни и как они веселят сердце, как светла заповедь Господня и как она просвещает очи. Вкусите и тогда увидите, что Священное Писание вожделеннее золота и множества камней дорогих, слаще меда, текущего из сота (см.: Пс.17:9–11). Да, просветление ума светом Священного Писания есть награда за соблюдение его заповедей (см.: Пс.17:12).
Не отведав пищи, хорошо не узнаете, каков ее вкус; не живя по учению Священного Писания, вполне не убедитесь, что оно божественное. Правда, были люди, которые с первого раза уверялись в божественности Священного Писания; но так бывает или легко может быть не со всяким, кто слушает Священное Писание. Самые порочные разве не убеждаются в божественности Священного Писания? И царь Агриппа, послушав апостола Павла, говорил ему: ты немного не убедил меня сделаться христианином.
И все мы, слушатели, бываем нередко в таком расположении духа, что верим всему, написанному в книгах Священного Писания. Но надолго ли это убеждение? Надолго ли сияет свет веры в сердцах порочных людей? Когда утихнут в человеке страсти, когда умолкнут в нем заботы о суете мирской, тогда он верит всему, чему учит слово Божие. Но вот страсти опять начинают в нем действовать, вот он опять принимается за суету мирскую – и тогда опять все забыто и опять в нем нет веры. Пока вода чиста и светла, все предметы в ней легко отражаются, а как скоро она возмутится, то в ней ничего не бывает видно. Так и в нашей душе, пока она чиста и ничем не возмущена, сияет свет веры, а как скоро она омрачится страстями и погрузится в суету мирскую, тотчас убеждение исчезает и свет веры затмевается. Да, скорое убеждение скоро проходит.
Итак, слушатели, если нас не убеждают в божественном происхождении Священного Писания ни чудеса, ни пророчества, ни высота, ни святость, ни могущественная сила сего учения, то это значит, что мы живем порочно, служим страстям, занимаемся мирской суетой. Будем жить, и жить постоянно, по учению Священного Писания, будем и наши мысли, и наши чувствования, и наши поступки всегда сообразовывать с ним – тогда мы и без всяких доказательств убедимся в его божественном происхождении. Святое слово Божие вполне понятно только святым или, по крайней мере, желающим и старающимся жить свято. Желать убедиться в божественности Священного Писания и не жить по сему учению – значит желать невозможного, мы можем тогда убедиться разве на минуту. Нет, кто хочет знать, что пророки и апостолы точно писали не от себя, а от Бога, тот непременно должен постоянно творить волю Божию. Аминь.
5. О Священном Предании
В книгах Священного Писания заключается учение божественное, на это доказательств много, и потому кто искренно желает в этом убедиться, тот легко может, а кто этого не хочет, того уже ничем не убедишь. С закрытыми глазами и среди белого дня все будет нам темно, со злым испорченным сердцем и в Священном Писании божественного не увидишь. Побеседуем ныне, слушатели, о Священном Предании.
Апостолы в своих книгах не написали всего, что слышали от Иисуса Христа и что внушал им Дух Святой, многое из этого они передавали верующим на словах, устно. И потому-то апостол Павел писал к солунянам: итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим (2Фес. 2:15). Это-то учение словесное, переданное апостолами и после написанное святыми отцами, называется Священным Преданием. Таким образом, вот какое различие между Священным Писанием и Священным Преданием: Священное Писание заключает в себе божественное учение, письменно переданное нам апостолами, а Священное Предание заключает в себе божественное учение, переданное нам апостолами словесно.
Что же именно такое дошло до нас посредством Священного Предания? Это – некоторые истины и происшествия, которые с самых первых времен христианства Церковью признаются за откровенные и совершенные Самим Богом; это – некоторые постановления и обычаи, которые первенствующими христианами соблюдались и доселе соблюдаются, как от Бога происшедшие. Мы, когда молимся, творим на себе крестное знамение, мы святым иконам и святым мощам поклоняемся, мы святых угодников Божиих и святых Ангелов на помощь призываем, мы в известные времена года и дни постимся, мы церковные службы совершаем по известному чину, мы при Таинствах различные обряды соблюдаем, мы об умерших молимся, да и много творим и принимаем такого, о чем в Священном Писании прямо нигде не говорится.
От кого же мы узнали, что все это должно признавать и исполнять как божественное, как необходимое для нашего спасения? Все это дошло до нас по преданию: отцы Церкви все это слышали от апостолов, а апостолы слышали от Иисуса Христа или научены были Духом Святым; и потому-то мы все, дошедшее до нас по преданию от апостолов, исполняем как божественное и признаем за божественное. Вот что святитель Василий Великий говорит о Священном Предании: «Из соблюдаемых в Церкви догматов и проповеданий некоторые мы имеем от письменного наставления, а некоторые приняли от апостольского предания по преемству в тайне. Те и другие имеют одну и ту же силу для благочестия, и сему противоречить не станет никто, хотя и мало сведущий в установлениях церковных. Ибо, ежели отважимся отвергать неписаные обычаи, как будто невеликую важность имеющие, то неприметно повредим Евангелие в самом главном или, паче, от проповеди апостольской оставим пустое имя. Например, упомянем всего прежде о первом и самом общем. Чтобы уповающие на имя Господа нашего Иисуса Христа знаменались образом креста, кто учил писанием? К востоку обращаться в молитве какое писание нас научило? Слова призывания, в преложении хлеба Евхаристии и чаши благословения, кто из святых оставил нам письменно? Ибо мы не довольствуемся теми словами, которые апостол или Евангелие упоминают, но и прежде их и после произносим и другие, как имеющие великую силу для Таинства, приняв оные от неписаного учения. По какому также писанию благословляем и воду Крещения, и елей помазания, еще же и самого крещаемого? Не по умолчанному ли и тайному преданию? Что еще? Самому помазыванию елеем какое написанное слово научило нас? Откуда и троекратное погружение человека? И прочее, относящееся к Крещению, отрицаться сатаны и аггелов его, из какого взято писания? Не из сего ли необнародованного и неизрекаемого учения, которое отцы наши сохранили в недоступном любопытству и выведыванию молчании, быв основательно научены молчанием охранять святыню Таинств? Ибо какое было бы приличие писанием оглашать учение о том, на что некрещеным и воззреть не позволительно» (Прав. 79 о Св. Духе, глава 27).
Но так как есть и могут быть предания ложные, выдуманные, то необходимо знать, как от них отличить предания истинные, божественные. Истинные предания от ложных вот как можно и должно отличать: надобно обращать внимание на то, с которого времени вошло в употребление известное предание и, главное, согласно ли с духом Священного Писания. Если оно дошло до нас не от первых времен христианства, а притом и с духом Священного Писания не согласно, то это явный знак, что оно не священное, не божественное предание. Таковы многие предания у еретиков; хотя они и давние у них, но все же не апостольские, не Духом Святым внушенные, а людьми придуманные.
Может быть, кто-нибудь скажет: «Есть много преданий ложных и спорных, почему бы апостолам самим не написать всего, что нам нужно знать и что мы должны делать для благоугождения Богу и спасения души? Тогда не было бы тех недоумений и споров, которые после занимали и теперь иногда занимают христиан». Об этом мы поговорим после, а для нынешнего дня довольно сказанного. Аминь.
6. О том, чему главным образом учит нас православное христианское учение
Будем, слушатели, знать и твердо помнить, откуда заимствуется истинное христианское учение и чем оно утверждается: книги Священного Писания и предания святых апостолов – вот откуда оно заимствуется; учение Святой Церкви, писание святых отцов ее и постановлений семи Вселенских Соборов – вот чем оно утверждается.
При изложении мы увидим, что все оно действительно заимствуется из книг Священного Писания и преданий святых апостолов, и все утверждается на учении Святой Церкви и постановлениях семи Вселенских Соборов. Итак, чему главным образом учит нас православное христианское учение?
Главное отличительное свойство христианина должны составлять три сии: вера, надежда и любовь. А теперь, пишет апостол Павел, пребывают… вера, надежда, любовь (1Кор. 13:13). Все, что христианин в себе имеет христианского, относится к трем сим добродетелям: к вере, надежде и любви. И потому можно сказать, что и все христианское учение главным образом учит вере, надежде и любви; все правила в жизни и все истины веры, заключающиеся в Священном Писании и в священных преданиях, преимущественно к сим трем относятся. На сем основании изложение православного христианского учения мы разделим на три главные части: в первой части мы будем излагать учение о вере, во второй – учение о надежде, в третьей – учение о любви.
Будем, по порядку, беседовать о вере.
Что такое вера, которая христианину прежде всего необходима? Вера есть уверенность души нашей в невидимом, как, в видимом, в желаемом и ожидаемом, как в настоящем. Верующий уверен в невидимом, как будто это невидимое у него находится пред глазами; верующий убежден в будущем, как будто уже наслаждается этим будущим, как будто оно сбылось. Бог есть Существо невидимое, но царь-пророк говорит: Всегда видел я пред собою Господа (Пс. 15:8). Это верой он видел. Ангел благовествует Деве Марии, что от Нее родится Сын Божий; Дева Мария слышит и после радуется духом, как будто Он уже родился от Нее. Это верой Она радовалась. Страшный Суд будет, хотя неизвестно когда, христианин боится его, как будто он уже наступил. Это вера заставляет его бояться. Так определяет веру апостол Павел: вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр. 11:1).
Итак, вот какой способностью, какой силой должна обладать наша душа: она должна видеть невидимое и как бы осуществлять для себя будущее. Почему необходима нам эта вера? Потому же, почему необходимы человеку глаза, ноги и руки. Да, без веры на пути спасения в делах благочестия мы ничего ни видеть, ни получить, ни сделать не можем. Надобно ли нам служить, чтить Бога? Без нее нельзя: без веры невозможно угодити Богу. Надобно ли получить благодать от Бога? Без нее не получим: дары благодати по мере веры даются. Надобно ли заботиться о спасении души? Без нее не спасемся: кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет (Мк. 16:16). Словом сказать, без веры мы, христиане, хуже, беднее, бессильнее, чем человек без глаз, без рук, без ног.
Ужели, скажете, без веры решительно невозможно нам обойтись? Решительно невозможно. Нам необходимо знать, что есть Бог; но как без веры мы можем это знать, когда Бог есть существо невидимое и непостижимое? Мы необходимо должны быть уверены, что в Евхаристии причащаемся истинного Тела и истинной Крови Христовой, но как без веры мы можем увериться в этом, когда простыми глазами видим только простой хлеб и вино? Мы должны признавать за несомненную истину, что наши тела по смерти опять оживут, но как без веры можем не усомниться в этом, когда видим, что наши тела, умирая, истлевают, обращаются в землю?
Таковы, слушатели, и прочие предметы нашего христианского учения; они или невидимы для нас, или непостижимы для нашего ума, только верой и можем видеть и постигать их. Чудная сила – вера: видит то, чего видеть нельзя глазами; знает то, чего понять нельзя разумом; уверена в том, что и на мысль человеку самому прийти не может; наслаждается тем, чего и ожидать нельзя по человеческому понятию. Да, кому ночь, а для веры день; кому тьма, а ей свет; кому слабость, для нее сила; кому невозможно, для нее все возможно. Так сильна вера, так чудна ее сила! Ужели же все мы можем иметь веру такую, эту уверенность твердую и полную в невидимом и непостижимом для ума нашего? И можем при помощи Божией, и должны по непременной обязанности нашей. Аминь.
7. О том, как мы можем приобрести веру
Если вера для нас необходима непременно, так что без нее Богу угодить и душу спасти нам невозможно, то каким образом мы можем иметь, приобрести ее? Как мы можем научиться веровать тому, чего нельзя понимать разумом, что и на мысль самому человеку прийти не может, чего и ожидать нельзя по обыкновенному человеческому понятию?
Не подумайте, что для этого от нас требуется что-нибудь необыкновенное: веру можно приобрести самым обыкновенным образом. Апостол Павел, рассуждая с римлянами о вере, говорит, что она рождается в нас от слушания: вера от слышания (Рим. 10:17). Итак, вот как можно приобрести веру: надобно слушать, читать и размышлять о том, во что мы должны веровать. Когда у нас на уме будут истины веры, тогда будет в нас и вера. Святой царь Давид всегда видел пред собой Господа за то, что он день и ночь изучал творения рук Его; Пресвятая Дева Мария радовалась духом, вскоре после того как услышала от Ангела благовестие о рождении от Нее Спасителя мира, за то, что Она непрестанно думала о Спасителе и душа Ее давно истаивала от желания видеть Его, как это известно по преданию. А мы… мы хотим иметь веру, не размышляя об истинах веры? Ведь это то же, что желать видеть вещь, не обращая на нее глаз, хотеть дойти до известного места, не делая к нему ни одного шага, хотеть все знать, ничему не учась!
Нет, слушатели, так нельзя приобрести веру. Надобно непрестанно думать об истинах веры, надобно как можно чаще читать и слушать, надобно день и ночь учиться тому, во что мы должны веровать; и тогда и только тогда родится в нас вера, только тогда воссияет свет ее в сердцах наших. А читая, слушая и размышляя, мы должны чаще обращаться к Богу с молитвой, чтобы Он дал веру, – вера преимущественно есть дар Божий. Вы скажете: что же нам делать, когда, думая об истинах веры, мы встречаем разные сомнения и недоумения? Что делать? Вот в этих-то случаях особенно и надобно обращаться с молитвой к Богу и взывать к Нему: верую, Господи! помоги моему неверию (Мк. 9:24).
Что делать? Чего видеть и понять невозможно, в том нельзя иногда и не поусомниться, от того нельзя иногда не прийти в недоумение. Да, сомнения тут и недоумения, можно сказать, неизбежны. И потому не надобно на них обращать большого внимания или даже надобно оставлять их вовсе без внимания. Сомнения и недоумения, появляющиеся в душе нашей касательно истин веры, – это облака мрачные, наводимые на нашу душу врагами нашего спасения, – с тем, чтобы ими омрачить, смутить наш дух и поколебать нашу веру. Не удерживай их, эти сомнения и недоумения, в своей душе своим вниманием к ним, не усиливайся их вполне разрешить, понять, уяснить себе своим умом, – и они сами собой пройдут, как пришли, так уйдут. Так, читай, слушай, размышляй об истинах веры, но разуму своему над ними воли не давай, а покоряй его в послушание веры, говори ему: молчи, не твое тут дело, не твоим силам здесь все понять.
Впрочем, не довольно только размышлять об истинах веры – надобно размышлять о них правильно. И суеверы веруют, но они веруют в то, чего нет. И еретики веруют, но они веруют не так, как должно. От неправильного размышления о вере происходит и вера неправая, а вера неправая не лучше неверия – она не спасает человека, а губит, не ведет к Богу, а отводит от Него. Чтобы дойти до известного места, мало того, чтобы только идти, – надобно идти по прямой дороге. Чтобы правильно видеть предмет, мало того, чтобы только смотреть на него, – надобно смотреть прямо. Так и для того, чтобы иметь веру, мало того, чтобы только веровать, – надобно веровать правильно. Только правая вера – прямой путь (см.: 2 Пет.2:15).
Итак, чтобы приобрести веру, веру истинную, спасительную, для сего необходимо нам мыслить и веровать правильно. Кто же научит мыслить и веровать правильно? Будем, слушатели, продолжать изучать наше православное христианское учение, и мы научимся мыслить и веровать правильно. Аминь.
8. О том, как именно должны мы веровать
Трудно жить на свете, слушатели благочестивые! Мы так слабы, что и малое огорчение нас тревожит, и легкая неприятность нас беспокоит; а из людей многие так злы, что при всяком случае готовы делать нам зло и за всякую малость на нас злиться. Отчего бы, кажется, не жить нам всем мирно, согласно? У всякого из нас довольно своего; всякий из нас, по милости Божией, имеет чем жить. Пользуйся же своим – тем, что дал тебе Бог, а другого не обижай. Ты хочешь жить спокойно – давай же покой и другому. Тебе неприятно, когда тебя обижают; а ближнему разве весело терпеть от тебя обиды? Суди о других по себе, и всякому хочется, чего ты желаешь. У тебя нет того, что ближний твой имеет; зато у него нет того, что у тебя есть. Тебе бы хотелось одному всем овладеть; а разве другие не такие же существа, как и ты? У Бога мы все равны, ко всем Он равно милостив. Но нет, злые люди не любят внимать таким суждениям: они знают свое, делают зло и злятся. И оттого, слушатели, жить на свете иногда действительно тяжело. Впрочем, если мы будем иметь веру, то нас и в мире ничто много не беспокоит: вера укажет нам, где найти утешение, научит нас, как отражать зло; вера – наша отрада, наш щит. Будем же продолжать наше собеседование о вере, и беседа о ней может нам доставить успокоение.
Итак, чтобы приобрести веру, для сего необходимо правильное иметь понятие об истинах веры. Только от правильного понятия о предметах веры происходит правая, истинная, спасительная вера. Как же именно мы должны веровать? Без сомнения, мы должны веровать так, как учил Иисус Христос, как учили пророки и апостолы, как веровали святые отцы, как утвердили Вселенские Соборы. Как же это именно? Святые отцы, выбрав из Священного Писания все то, во что мы главным образом должны веровать, изложили это в коротких словах, заимствованных из Священного же Писания, и, утвердив все на двух Вселенских Соборах, передали это изложение Церкви для всеобщего и всегдашнего употребления и руководства. Это краткое изложение того, во что мы должны веровать, называется обыкновенно Символом веры и читается так: Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, и пр.
Итак, вот как мы должны веровать: так, как учит Символ веры. Учение, в нем заключающееся, есть учение самое правое и чистое. Оно извлечено из Священного Писания: о чем в Священном Писании говорится подробно со всеми обстоятельствами, то в Символе веры выражено кратко, в немногих словах. Оно утверждено и признано правым и чистым учением на первых двух Вселенских Соборах; после бывшие Соборы ничего к нему не прибавляли и не убавляли, а только утверждали все. Свт. Кирилл Иерусалимский говорит: «Как горчичное семя из малого зерна много пускает отраслей, так и сии истины веры (т.е. истины Символа веры) в кратких словах вмещают все ведение благочестия, заключающегося в Ветхом и Новом Завете». Таким образом, Символ веры можно назвать сокращением Священного Писания и сущностью христианской веры. По этому Символу легко можно отличить истину от лжи, правую мысль от неправой: что сообразно с Символом веры, то право и верно, а что ему противно, то ложно и неправо. И потому, слушатели благочестивые, этот Символ нам надобно знать как можно тверже, наизусть, а знать твердо, наизусть Символ веры очень легко для всякого из нас: он за каждой церковной службой повторяется иногда по несколько раз, а за Литургией торжественно поется Церковью во услышание всех. И какой же это христианин, если он не знает своего христианского знамени, Символа веры?
Впрочем, и зная его твердо, надобно как можно чаще повторять его, и повторять со вниманием, с участием, не одной памятью, но умом и сердцем, чтобы это занятие доставляло душе пищу, утешение, успокоение, ободрение, подкрепление. Для такого повторения самое удобное и способное время – утро и вечер. Впрочем, нет особенной нужды назначать определенное время для повторения Символа веры. Повторяй Символ веры во всякое время: то время самое удобное и способное для повторения, когда ты можешь повторять со вниманием и с участием. В начале нашего поучения мы сказали, что на свете жить трудно. Вот и в эти трудные минуты, когда обиды от ближних тебя беспокоят или свое горе тяготит, чем без пользы роптать, повторяй Символ веры: прочти раз, прочти другой, третий – и тебе будет легче, и обида твоя утихнет, и горе твое забудется, если только будешь читать со вниманием, с участием. Аминь.
9. О вере в бытие Божие
Чтобы знать, во что мы должны веровать, для этого нам надобно знать Символ веры; в Символе веры кратко изложено все, во что мы должны веровать. Вы, без сомнения, слушатели, этот Символ уже твердо знаете, и потому нам остается теперь раскрыть учение, в нем заключающееся.
Символ веры разделяется на двенадцать членов или частей. Первый член читается так: верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.
Итак, прежде всего мы должны веровать в Бога, Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть (Евр. 11:6). Когда мы уверуем в Бога, тогда легко уверуем и во все божественное. Как от солнца исходит и в солнце сосредоточивается весь видимый свет, так от Бога начинается и в Боге заключается весь божественный свет веры. Кто не верует или неправо верует в Бога, тот и ни во что не верует. И в самом деле, отчего еретики к учению веры примешивают свои неправые мнения, противные божественной истине? Оттого, что они в Бога неправо веруют. Отчего евреи не веруют в Иисуса Христа? Оттого, что не знают и забыли Бога. Отчего язычники не принимают христианского учения веры? Оттого, что ложным богам кланяются. Словом сказать, все заблуждения людей, какие были, есть и будут, все оттого, что они не веруют или неправо веруют в Бога. Итак, необходимо веровать в Бога, и веровать прежде всего.
Что же значит – веровать в Бога? Веровать в Бога – значит иметь живую уверенность в Его бытии, свойствах и действиях. Я не вижу Бога чувственным образом, но уверен, что Он действительно есть, так уверен, как будто я теперь пред Ним стою, на Него возвожу удивленный свой взор, – вот что значит веровать в Бога. И почему же не веровать так? Слыхали ли вы, чтобы кто-нибудь при вас сказал: нет Бога? Конечно, не слыхали.
Кто дерзнет сказать: нет Бога? Если бы не было Бога, то кем же сотворен сей мир, который весь так премудро устроен и в котором все так великолепно украшено? Если бы не было Бога, то откуда первоначально взялся этот человек, в котором такая высокая душа и у которого такое удивительное тело? Если бы не было Бога, то что была бы наша жизнь на земле? Если бы не было Бога, то к кому бы нам было прибегать с молитвою? Если бы не было Бога, то в ком бы находить нам утешение и отраду? От кого ожидать помощи и защищения? Если теперь, когда Бог есть, иногда тяжело нам бывает жить, что было бы без Него? Ах, и Бога люди не боятся, но друг друга ненавидят, обижают, презирают, злословят, даже убивают – что же было бы между нами, если бы Его у нас не было?
Нет, нет, слушатели, не напрасно душа наша жаждет, ищет Бога, не напрасно в минуты горькие мы взываем к Нему, не напрасно нам так отрадно всегда к Нему обращаться. Есть, есть Бог! Именно безумен тот, кто говорит в сердце своем: нет Бога. В том, видно, души нет, кто отвергает бытие Божие; душа наша невольно сама, как бы без нашего ведома, по природному влечению ищет, жаждет Бога: без Бога ей невозможно быть, жить. У язычников не было истинного Бога. Он им был неведом. Но они сами выдумали себе богов, а без Бога жить не хотели, не могли. Так необходим человеку Бог! Не подумайте, слушатели, что я доказываю бытие Божие; нет, это такая истина, которая не требует доказательств. Нет, я выражаю этим радость мою о Боге.
Да, да возрадуется ваша душа, слушатели! У нас есть Бог, Бог истинный; у нас есть, к Кому прибегать с молитвой, есть, у Кого искать правды, есть, в Ком искать утешения. У нас есть Бог – что сделают нам злые люди? У нас есть Бог – что сделают нам коварные враги? Будем же чаще обращаться к Нему, будем непрестанно мыслить о Нем. Язычники выдумали себе богов; ужели мы не будем думать о Боге, Который Сам Себя нам открыл? Язычники не забывали своих многих богов, ужели мы забудем своего единого Бога? Язычники служили своим ложным богам, ужели мы оставим служение нашему истинному Богу? Нет, если мы забудем мыслить о Тебе, Боже наш, да затмится в нас после того всякая мысль, да прильпнет язык наш к гортани, если мы не будем помнить Тебя, если славословие Тебе не будем поставлять выше всякого нашего веселия, если имя Твое, Господи, не будет благословляемо нами отныне и до века. Аминь.
10. О том, что Бог един
Что значит веровать в Бога? Мы с детства так привыкли о Боге слышать, о Боге поминать, что, и поминая Его, мы иногда и большей частью ничего о Нем себе не представляем, никакой о Нем мысли не имеем и, таким образом, хотя читаем, говорим, поем верую, но едва ли веруем.
Итак, что такое Бог? Какой Он в существе Своем? Как Его представить? В Священном Писании приписываются Богу наши человеческие руки, очи, уши и другие члены, но приписываются Ему не потому, что Он имеет их, а это говорится так только, приспособительно к нашему понятию, говорится, чтобы мы хотя несколько могли понять духовные, невидимые, непостижимые свойства Божии, например Всеведение, Всемогущество. Бог как бы имеет очи такие, которыми все видит, или уши такие, которыми все слышит, или руку такую, которой все может сделать. Да, Бог ничего телесного и видимого не имеет, Он – Дух, то есть такое существо, которое действительно существует, но невидимо, так невидимо, что Его никому невозможно видеть. Да, Бога невозможно нам ни глазами видеть, ни разумом постигнуть, мы можем только верой Его видеть и познать и только то знать о Нем, что Он Сам о Себе открыл. Что же Он о Себе открыл? В Символе веры, в этом сокращении откровенного учения о Боге, и именно в первом члене его, сказано о Боге, что Он един. Верую во единаго Бога. Вот главное о Боге: Бог един. Что же это значит? Бог един, то есть такого другого существа, каков Бог, нет.
Бог есть Дух вечный и неизменяемый, не было времени, когда бы Его не было и когда бы в Нем что изменилось, и не будет того, чтобы Он перестал существовать и чтобы в Нем что изменилось; Он был, есть и будет и каков от вечности был, таким есть и таким вечно будет. И Бог единственный так вечен и неизменяем; все прочие духовные бессмертные существа не от вечности существуют и временем изменяются, как и все сотворенное. Бог один вечен и неизменяем.
Бог есть Дух всемогущий; Он так всемогущ, что мы и одним именем Его можем делать все. И один Он так всемогущ; Он – само всемогущество; Им сильные сильны, крепкие крепки.
Бог есть Дух всеведущий: Он все знает и видит. Ему видно все – и прошедшее, и настоящее, и будущее; Ему видно, что на Небе, что на земле, что в преисподней; видны Ему все мысли, желания, намерения, все слова и дела всех существ – и существовавших, и существующих, и имеющих существовать. И Он один так всеведущ. Все существа – и Ангелы, и человеки, что знают, что видят – знают и видят, озаряемые Его всеведением: только при свете Его им везде видно и все ясно.
Бог есть Дух вездесущий: во всем мире нет места, где бы Его не было; везде, везде Он, но на Небе и в Церкви Он особенно присутствует; на Небе славой Его особенно наслаждаются святые, в Церкви благодатью Его особенно святятся верующие. Мысленно и мы можем быть везде, но Бог везде всем существом Своим. И вездесущ так Он один.
Бог есть Дух всеблагий: Он всем желает одного добра и дает и делает всем только то, что всякому служит во благо, во спасение; кроме добра, Он никому ничего ни пожелать, ни сделать, ни дать не может; уж если что кому Бог дает, то это непременно что-нибудь полезное, спасительное; Он милует, прощает, любит всех; беззакония Он не любит, потому только именно и не любит, что оно гибельно для беззаконников. И Бог один так благ. Существа добрые, милостивые ко всем, любящие всех, делаются такими, Бога любя; они всех любят, Ему подражая, они для всех добры, ко всем милостивы; Бог есть любовь, благость, милость не сотворенная, а от вечности такая.
Бог есть Дух всесвятый: Он и мыслит, и желает, и действует вечно свято, ни на одну йоту и ни на одну минуту Он не отступает от вечного закона святости, по которому и нам велит поступать, чтобы быть святыми; Он так свят, Он так грехов не любит, что не только не может Сам согрешать, но и грешники при мысли о Нем согрешать стыдятся, не смеют. И Бог один так свят; Он – сама святость, та несотворенная святость, которой святы Ангелы Божии и которой освящаются святые Божии человеки.
Бог есть Дух всеправедный: Он всем существам свободно-разумным желает одного, чтобы каждое из них заслуженное получало, и делает непременно так, что все они получают все, что заслужили; никого Он не пощадит, кого наказать по делам надобно, и всякого помилует, кто милости достоин; и апостолу сребролюбивому во ад идти попускает, а и разбойника покаявшегося в рай первого принимает, и дело по видимости доброе без награды иногда оставляет, а и помышление святое всегда ценит; и ангельскими языками поющих Ему славу иногда не слышит, а и вздох один к Нему грешника о грехах всегда выслушивает. Так Бог праведен, и так праведен Он один. Праведные, правосудные все только при мысли о Его правде право судят, правый суд творят.
Бог есть Дух вседовольный: Он ни в чем недостатка не имеет и ни от кого ни в чем не зависит, Он все имеет и имеет все в Самом Себе, и Он один так доволен. Довольство всех существ в Нем, от Него: Сам Он всем дает живот и дыхание и вся.
Бог есть Дух всеблаженный. Вечно вечный, неизменяемый, всемогущий, всеведущий, вездесущий, всеблагий, всесвятый, всеправедный, вседовольный… о, какое обилие радостей пред лицем Божиим! И Бог один так всеблажен. И сей единый всеблаженный Бог – твой Он, собственно твой, слушатель-христианин; и всем блаженством Божиим ты можешь наслаждаться, и все радости Божии ты можешь вкушать, сколько то возможно для тебя, можешь: Бог и есть то самое блаженство, которым наслаждаются все блаженные; Он и есть та самая радость, которой радуются все радующиеся.
Итак, вот что такое Бог. И все же Бога, что Он такое в существе Своем, понять, постигнуть невозможно; зато тебе, слушатель-христианин, можно – о, блажен ты, слушающий, – тебе можно Бога иметь в себе, можно о Боге радоваться, вечно о Нем радоваться, вечно Им блаженствовать; можно тебе, потому что Бог Сам тебе поможет быть того достойным.
Итак, веровать в Бога – значит видеть, иметь пред собой единого, вечного, неизменяемого, всемогущего, всеведущего, вездесущего, видеть пред собой саму благость, само милосердие, саму святость, саму чистоту, саму правду, саму радость, само блаженство.
Веруй же так в Бога, имей всегда в мыслях пред собой Бога единого, и будет пред тобой во Едином все, чем все мы живем и оживляемся, чем укрепляемся, просвещаемся, спасаемся, очищаемся, освящаемся; в Нем одном весь покой, вся радость, все блаженство всех нас. Да, все твое пред тобой во Едином, когда ты веруешь в Него единого. Аминь.
11. О том, что Бог есть Дух, что Он вездесущ и вечен
Что такое есть Бог? Как вы, слушатели, понимаете Его и каким Его себе представляете? Как ни старайтесь понять, вы никогда не поймете Его; как ни усиливайтесь представлять, вы никак не представите Его себе таким, каков Он в существе Своем. Бог – существо непостижимое. Не только мы, люди, не можем знать, каков Он в Своем существе, этого и Ангелы не знают и знать не могут. Бог живет во свете неприступном. Его никто из человеков не видел и видеть не может (1Тим. 6:16).
Итак, если Бога нельзя знать, каков Он в Своем существе, то что же мы хотим узнать о Нем? Мы хотим узнать о Боге то, что нам открыл о Нем Иисус Христос, Сын Божий. Бога никто никогда не видал; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, явил нам Его. Что же именно явил нам Иисус Христос о Боге? Вот что явил нам Иисус Христос или вот что явило Откровение Божие о Боге: Бог есть дух (Ин. 4:24) вечный, всеблагий, всеведущий, всемогущий, всеправедный, неизменяемый, всесвятый, вседовольный, всеблаженный. Больше этого нам знать и не нужно в настоящей жизни. В этих словах есть все, чего душа наша желает и что ей нужно знать о Боге.
Итак, Бог есть дух. Что такое дух? Этого опять хорошо понять мы не можем. Дух есть такое существо, которое невидимо, но существует действительно. Таков есть Бог по Своему существу. В Священном Писании Ему приписываются телесные руки, очи, уши и другие члены, но это так только говорится, а не потому, что Бог имеет какие-либо члены, и говорится для того, чтобы мы как-нибудь и что-нибудь могли себе представить о Боге по-своему, по-человечески. Мы все делаем руками, видим глазами, слышим ушами; вот потому и о Боге, Который все может, все видит, все слышит, мы говорим, что Он как будто имеет руки, глаза, уши, а в самом деле Он их не имеет, потому что ничего телесного не имеет. Таким образом, руки, приписываемые Богу, означают Его всемогущество, очи и уши – всеведение.
Так, Бог всеведущ: Он знает все – и мысли наши, и намерения, и желания. Мало этого: Бог не только знает настоящее, Он знает, что мы прежде думали и делали, что будем думать и делать впредь. Он знает, что думали и делали люди, которые жили до нас, знает, что будут думать и делать люди, которые будут после нас. Так чудно всеведение Божие. Бог больше сердца нашего и знает все (1Ин. 3:20). Он весь око, весь слух, весь ум, говорит свт. Кирилл Иерусалимский. От Него ни одна мысль не укроется, ни одно слово не утаится. Все обнажено и открыто перед очами Его (Евр. 4:13).
Каким же образом Бог так может все знать? Он вечен и вездесущ, оттого все и знает. Мы ясно видим то, что у нас пред глазами; но у Бога все пред глазами, потому что Он вездесущ. Нет места, где бы Его не было, нет убежища, куда можно было бы от Него сокрыться. Куда уйду от духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на Небо – Ты там; упаду ли в преисподнюю – Ты там; понесусь ли на крыльях зари, перенесусь ли на край моря – и там рука Твоя найдет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли: по крайней мере, тьма сокроет меня. Но и ночь, как свет, вокруг меня и тьма не затмит от Тебя; и ночь светла, как день, тьма так же, как свет (см.: Пс.138:7–12).
Будучи вездесущ, Бог вместе и вечен. Не имел Он начала, не будет иметь и конца. Не было времени, когда Его не было, и не будет времени, когда бы Он перестал существовать. Он был, есть и будет. Когда еще не было гор и не устроена была земля и вселенная, и от века и до века Ты – Бог (см.: Пс.89:3). Мы прошедшее должны вспоминать, будущее угадывать – Он и так все знает: для Него нет ни прошедшего, ни будущего, у Него все настоящее, потому что Он вечен. Чудно для меня ведение Твое, Боже, высоко, не постигаю его!
Нам, слушатели, и не нужно вполне постигать Его. Довольно для нас знать и помнить, что Бог есть Дух, Который все видит, все знает, везде присутствует, вечно существует. Бог есть Дух. Будем же кланяться Ему не телом только, но и духом, будем славить Его не словами только, но и мыслями. Одни поклоны без духа, одни слова без мысли не доходят до Бога; это кимвал звенящий и медь звучащая. Бог всеведущ: все наши мысли и слова, желания и поступки так Ему известны, как будто записаны у Него в книге. Ты сказал или подумал худое – Богу это уже известно. Ты худое сделал или пожелал, Бог и это знает и вечно не забудет. Забудет только тогда, когда ты раскаешься, когда ты слезами сокрушения изгладишь это из книги Божией. Как же после сего мы должны быть, слушатели, осторожны, когда Бог знает и помнит все, что мы скажем, подумаем, пожелаем, сделаем, но вместе как и утешительно это для нас! Люди не воздают тебе должного, стараются отнять у тебя твое; не беспокойся, твое не пропадет, потому что оно все известно Богу, все твое записано у Него в книге.
Да, все, все записано: и вздох твой внесен в книгу Богом, и слеза твоя хранится у Бога в сосуде (см.: Пс.55:9). Аминь.
12. О том, что Бог преимущественно присутствует в особенных местах, что Он благ, всемогущ, правосуден и премудр
Бог везде присутствует, следовательно, Он во всяком месте с нами; следовательно, Он теперь с нами и здесь. Отчего же, слушатели, мы не ощущаем Его присутствия? Отчего мы не чувствуем Его близ себя? Главная причина этому та, что мы мало и редко думаем и размышляем о Нем. Бог всегда с нами и близ нас, но мы своим невниманием к Нему удаляем Его от себя и себя от Него. Бог тогда только приближается к нам, когда мы приближаемся к Нему своими мыслями, своей душой (см.: Иак.4:8). Чтобы видеть свет, надобно открыть глаза; чтобы чувствовать близ себя Бога, надобно думать и размышлять о Нем. Представьте же Его себе, представьте, что Он теперь здесь с нами, утвердите на этой мысли все внимание ваше, и вы ощутите Его, почувствуете Его присутствие, вы тогда скажете с апостолом Фомою: Господь мой и Бог мой!
Так, Бог присутствует везде; впрочем, слушатели, есть места, в которых Он особенно присутствует, в которых Он преимущественно являет бытие Свое. Какие же это места? Таковое место есть Небо. Небо – любимое Божие жилище, Престол славы Его, там сонмы святых и тьмы Ангелов непрестанно славословят Его, там некогда, может быть, и мы будем славословить Его. О, когда бы Господь нас сподобил! Оттого мы все так любим смотреть на небо, оттого нам так отрадно мысленно бывать там. Ах, так иногда и улетел бы туда, укрылся бы там от здешних сует, беспокойств… Да, там среди славословий живет наш Бог, там и мы некогда будем жить.
Есть, впрочем, и на земле место особенного присутствия Божия: это, слушатели, Святая Церковь. Святая Церковь – второе Небо, второе жилище Божие, второй дом Божий. Тут есть и Престол Его, тут и Небесные силы невидимо служат Ему, тут и мы Ему поем, тут и мы теснейшим образом соединяемся с ним, когда вкушаем Тело Христово и пием Кровь Его. Ах, и что есть на Небе, чего бы не было здесь? Да, слушатели, когда мы во Святой Церкви, мы точно на Небе, а не на земле. Будем же всегда думать о Боге, и Он всегда будет с нами; будем чаще возводить очи свои на небо, и помощь Его оттуда скоро к нам придет; будем чаще обращаться к Нему в Его доме, во Святой церкви, всегда и везде будем иметь Его перед глазами, и Он нигде и никогда не оставит нас. Да, нигде и никогда не оставит нас, потому что Он есть Бог всеблагий. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делех Его (Пс. 144:8,9).
Бог, по словам Писания, есть любовь (1Ин. 4:16). Он то только и делает, что может соделать нас счастливыми. Мы согрешим – Он терпеливо ждет, пока мы покаемся. Мы покаемся – Он все забывает, любит нас, как будто никогда ничего худого и не делали. И Бог любит так всех нас – мы все у Него равны, на всех щедроты Его изливаться готовы. Будучи всеблаг, Он есть всемогущ. Для Него нет ничего невозможного. Не останется бессильным никакое слово у Бога (Лк. 1:37). Он пожелает – и исполняется, Он скажет – и делается. Бог сказал, чтобы был этот мир, – и мир явился: рече, и быша… повеле, и создашася (Пс. 32:9). Если бы Бог захотел, чтобы этого мира не было, в минуту его не было бы, все бы исчезло и обратилось в прах. Так могущественна сила Божия, так сильна десница Его! Впрочем, при всем всемогуществе Он не делает того, что противно правосудию. Так, Бог наш есть существо правосуднейшее: Он всякому воздает по делам, у Него ни к кому нет лицеприятия; за добрые дела всякого награждает, за худые никого не щадит. Праведен Господь, и правды возлюби, правоты виде лице Его (Пс. 10:7). И доброе наше желание не остается у Него без награды, и худое слово не проходит без наказания; добро и в грешнике он награждает, а зло и в праведнике наказывает.
При таком строгом правосудии как же Бог удовлетворяет Своей беспредельной любви, которая всех желает соделать счастливыми? Так, как может один только Бог. Мы все грешим и все терпим за свои грехи; но, терпя за грехи, мы по беспредельной любви Божией к нам в то же время заглаживаем их. Мы теперь плачем, чтобы нам после радоваться. Мы бедствуем, чтобы после блаженствовать. Мы теряем, чтобы после приобрести. Мы теперь изнуряемся болезнями, чтобы после спасением наслаждаться. Вообще, всякая потеря, по благости Божией, может служить нам средством к приобретению, всякое наказание – случаем к награждению, всякое несчастье – приготовлением к счастью, все худое – к лучшему.
О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия (Рим. 11:33)! И мы еще дерзаем роптать на свою участь, и мы смеем жаловаться на свои несчастья, и мы можем быть недовольны своим состоянием, когда у нас такой премудрый и всеблагий Бог! Нет, мы, видно, не думаем о Боге, мы, видно, забываем, как Он благ и премудр, мы, видно, не хотим помнить, что все случающееся с нами Он направляет к наилучшим целям, самые грехи делает случаем к освобождению от больших грехов, самое наше падение – случаем к нашему лучшему восстанию.
О, будем, слушатели, будем чаще, будем непрестанно помнить, думать о благом, всемогущем, премудром Боге – и сердца наши всегда будут полны мира и радости. Аминь.
13. О том, что Бог пресвят, неизменяем, вседоволен, всеблажен
Побеседуем, слушатели, о том, что Бог пресвят, неизменяем, вседоволен, всеблажен. Бог свят, пресвят. Мы в церкви, славословя Бога, часто поем Ему: Свят, Свят, Свят Господь, а Ангелы на Небе непрестанно воспевают Ему: Святый Боже! Слово Божие называет Бога святым, праведным, ненавидящим беззакония, и наш разум не иначе может представить себе Бога, как существом, не причастным никакому пороку. Что же значит это – Бог свят, пресвят? Бог всегда и во всем неизменно поступает по закону, по тому вечному закону, по которому Он и нам велит поступать, чтобы быть святыми; Его и мысли, и желания, и действия ни на одну йоту и ни на одну минуту не отступают от сего закона. От такого неизменного исполнения вечного закона происходит в Боге высочайшая святость.
Высочайшая святость Божия – это такая чистота в Боге, пред которой и чистейшие существа кажутся себе нечистыми; это – такой свет, пред которым и святые Ангелы стыдятся своего недостоинства. Люди делаются святыми, живя по закону, Бог свят по естеству Своему. Люди заимствуют свою святость от Бога, Бог Сам Собою свят. Люди могут грешить, и самые святые были в таком состоянии, что могли грешить, Бог так свят, что в Нем и малейшей тени греховной нет, не было и не будет. Так неизменна святость в Боге. Так и все в Боге неизменно, потому что Он по существу Своему неизменяем. Каков Он теперь, таким и всегда был, таким и всегда будет; что Он теперь имеет, то и всегда имел и всегда иметь будет. У Бога, Отца светов, говорит апостол Иаков, нет изменения и ни тени перемены (Иак. 1:17). И мысли Его никогда не изменяются, и намерения Его всегда одинаковы: совет Господень во век пребывает, помышления сердца Его в род и род (Пс. 32:11), воспевает Давид.
Бог весь и во всем неизменяем: Я – Господь, говорит Он чрез пророка Малахию, Я не изменяюсь (Малах.3:6). И невозможно в Боге быть какому-либо изменению: Ему приобретать нечего, потому что Он все имеет, что только можно и нужно иметь, Ему лишиться чего-либо нельзя, потому что все в Нем и все от Него. Так, Бог вседоволен: Он ни в чем не имеет недостатка и ни от кого не зависит. Он все имеет, и имеет все в Самом Себе, и потому-то апостол Павел говорит, что Он не требует служения рук человеческих… Сам дая всему жизнь и дыхание и все (Деян. 17:25).
Будучи пресвят, неизменяем, вседоволен, Бог наслаждается чистым, неизменяемым, совершенным покоем, и потому апостол Павел называет его блаженным и единым сильным Царем царствующих и Господом господствующих (1Тим. 6:15). А псалмопевец, благословляя Господа, говорит: исполниши мя веселия с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец (Пс. 15:11). Таким образом, Бог не только Сам блажен, но и есть единственный источник блаженства для всех тварей.
Слушатели-христиане! Живя на земле, мы грешим, и очень часто; трудно иногда не грешить – так трудно, что невольно даже грешим. Но Бог пресвят. Он грехов не любит. Что же делать нам, грешникам, чтобы не погибнуть от грехов? Взывать к Нему из глубины души: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас, просить Его чаще: имиже веси судьбами, спаси нас, Сыне Божий! Бог всегда готов нас миловать и прощать нам, если только мы просим у Него милости; грехи наши прощаются нам, когда мы пред Ним сознаем себя грешниками. Сознать себя виновным пред Богом, исповедать пред Ним свои грехи – значит как бы оправдать себя пред Ним.
Живя в мире, мы многое теряем, многого лишаемся; но несмотря на то, страсти все влекут нас к миру чувственному, мы все любим земное, мирское. Что же нам делать, чтобы не погибнуть с миром и от мира? Взывать к Богу от всего сердца: сердце мое к Тебе, Слове, да возвысится, и да ничтоже усладит мя от красот мирских и сладостей. Да, пока будем любить и привязываться к земному, мирскому, мы все будем терять и лишаться. Только тогда ничего не потеряем, когда всего будем искать в Боге и всего будем ждать от Него. Бог неизменяем и нам никогда не изменит; напротив, земное, мирское все изменчиво и всякую минуту изменить нам готово. Живя во времени, мы почти ничего не готовим, не приобретаем себе для вечности, мы все нищи и бедны добрыми делами.
С чем же мы явимся на тот свет к Богу? Будем признавать пред Богом нашу нищету и бедность, наши грехи и слабости, и Он не отринет нас от лица Своего, и нам будет с чем явиться на тот свет – с Его к нам милостью мы явимся туда. Бог наш вседоволен: Ему ничего от нас не нужно. Сознание нищеты и бедности, сознание своих грехов приятнее Ему наших даров и приношений. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс. 50:19). Живя на земле, в сей юдоли плача, мы часто слезы льем, мы много горя терпим. Кто же в этом виноват? Почему не прибегаем к Богу? У Бога много радостей; десница Его полна всяких утешений. И потому будем чаще взывать к Нему: Ты мой Бог, Ты мое радование, не оставь меня в моем горе! И Он не оставит, обрадует нас.
Так будем во всех случаях и всегда обращаться к Богу. Бог пресвят, Он соделает нас святыми. Бог неизменяем, Он нам не изменит. Бог вседоволен, Он ничего от нас не требует. Бог блажен, Он и нас соделает блаженными. Аминь.
14. О том, что Бог есть Троица
Почему мы, слушатели, взываем к Богу иногда как к единому, например, слава Тебе, Боже, или Господи, помилуй, а иногда как трем, например, слава Отцу и Сыну и Святому Духу; почему это? К Богу взываем как к единому, потому что Он действительно един, а как к трем взываем к Нему, потому что Он действительно в трех Лицах.
Да, Бог един по существу, и, кроме Его единого, нет другого; но единый по существу, Он троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух, Троица Святая, то есть Бог есть существо единое, но имеет три Лица, и первое в Нем Лицо – Отец, второе – Сын, третье – Дух Святой.
Почему мы иногда к Отцу взываем как к Богу, например, Господи Боже, Отче, Вседержителю, и к Сыну иногда взываем как к Богу, например, Господи Иисусе, Сыне Божий, и к Духу Святому тоже как к Богу, например, Царю Небесный, Утешителю, Душе истины! Итак, почему? К Отцу как к Богу мы взываем, потому что Он действительно есть истинный Бог, и к Сыну как к Богу взываем, потому что Он действительно есть истинный Бог, и к Духу Святому как к Богу взываем, потому что Он действительно есть истинный Бог. Да, и Отец есть Бог, и Сын Бог, и Святой Дух Бог, но Бог един, а не три.
Видите, что Отец действует отдельно как Бог, Сын действует отдельно как Бог, и Дух Святой действует отдельно как Бог. Потому-то мы и обращаемся отдельно к каждому Лицу как к истинному Богу, но не как к трем богам, а как к трем Лицам единого Божества, потому что Они как Лица, действуя и отдельно, существуют нераздельно, все Они три – одно существо. Они три – единое, Троица единосущная и нераздельная. Они же и все три совершенно равны между Собой, по всему равны, во всем равны, имеют равное божеское достоинство, имеют все одну и ту же силу и одни и те же совершенства, ни одно из Лиц Святой Троицы не имеет какого-нибудь преимущества пред другим; Они и различаются между Собой ничем более, как только тем одним, что Отец не рождается и не исходит от другого Лица, Сын Божий предвечно рождается от Отца, Дух Святой предвечно исходит от Отца.
Почему мы иногда взываем преимущественно к одному какому-нибудь из Лиц Святой Троицы? Это потому, что иное дело Божие есть дело преимущественно одного какого-нибудь Лица Божества, например, сотворение мира есть преимущественно дело Бога Отца, искупление – преимущественно дело Сына Божия, освящение – преимущественно дело Духа Святого; потому-то мы и славим все сотворившего – Отца, всех искупившего – Сына, всех освящающего – Духа Святого. Но, впрочем, обращаясь со славословием преимущественно к одному кому-нибудь из Них, мы в мыслях имеем и славим все три Лица Троицы, потому что, и действуя друг от друга отдельно, Они, как единое существо и единая сила, все действуют совокупно, нераздельно.
Так, Отец сотворил мир, но сотворил Словом – Сыном Своим и Духом Своим Святым; Сын Божий совершил искупление, но совершил благоволением Отца и содействием Духа Святого; Дух Святой всех нас освящает, но освящает по любви к нам Отца и ради заслуг за нас Сына. Да, и когда мы взываем к Богу Отцу, к Богу Сыну, к Богу Духу Святому, мы в мыслях имеем не трех богов, но Бога единого, потому что Бог по существу всегда един, вечно един; и когда к одному Лицу Святой Троицы как Богу взываем, мы в мыслях имеем единого Бога в трех Лицах, потому что Бог всегда в трех Лицах, вечно в трех Лицах.
Из трех Лиц Святой Троицы почему мы чаще взываем к Сыну Божию, Иисусу Христу? Это потому, что Иисус Христос, как Богочеловек, как бы ближе к нам, доступнее нам по Своему человечеству, да Он же и ходатай наш к Богу, Его именем мы и всего просим у Бога, чрез Него мы и все получаем от Бога, чрез Него мы и Отца узнали, чрез Него и Дух Святой сошел к нам, и потому к Нему чаще и обращаемся, чем к другим Лицам Святой Троицы. Но и тут, призывая Сына Божия, мы все равно в то же время призываем и Отца и Святого Духа, хотя и не называем Их по имени, потому что как никогда Они неслиянны по личным Своим свойствам, так никогда и нераздельны Они по Своему существу и вечно равны по Своему достоинству. И потому, призываешь ли Отца, призываешь ли Сына, призываешь ли Духа Святого, во всяком случае ты всегда призываешь всю Святую Троицу, хотя и одного кого-нибудь имя именуешь. Но довольно, в Боге все непостижимо, но всего непостижимее в Нем то, что Он един, но в трех Лицах.
Впрочем, еще предложим вопрос. Для чего Бог открыл и для чего нам знать такую непостижимую тайну, что Он есть Троица? Необходимо нам знать это, необходимо для нашего спасения. Без веры спастись невозможно, а без какой веры? Именно без этой, без веры в Святую Троицу, без веры в Бога единого в трех Лицах. Святая Троица проста для верующего просто. Она и открылась просто, открылась, так сказать, Сама Собой, при открытии и устроении нашего спасения. Она Сама видимо, гласно явилась. Например, при Крещении Спасителя Господа нашего Иисуса Христа был слышен голос Бога Отца, был виден в воду погруженный Сын Божий, виден был и Дух Святой, сходящий в виде голубя.
Да, вместе с открытием, с устроением нашего спасения открылась, для спасения нашего явилась тайна Святой Троицы. И потому-то в Ветхом Завете, когда спасение наше не вполне было совершено, о тайне сей очень немного говорится, притом не вполне и не так прямо, определенно же, прямо и вполне стали говорить о ней только в Новом Завете, и то только тогда, когда спасение наше вполне устроилось. Да, только возносясь от нас на Небо, Иисус Христос сказал Своим апостолам: Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28:19).
Итак, спасение наше устроилось с открытием тайны Святой Троицы. Как же мы могли бы спастись, если бы мы знали только, что Бог един, а не знали, что Он един, но в трех Лицах? Значит, мы не знали бы ни Отца, ни Сына, ни Святого Духа, то есть не знали бы самого главного для своего спасения, не знали бы, как Отец нас любит и как спасения нашего нам желает, как Сын приобрел и чем заслужил нам спасение наше, как Дух Святой нас обновляет и освящает во спасение, и, следовательно, не могли бы и веровать, не могли бы во спасение себе воспользоваться любовью Отца, заслугами Сына, освящением Святого Духа. Да, только тогда мы спасаемся, когда веруем во единого Бога, но в трех Лицах, ибо только тогда Бог бывает к нам всею Своей любовью, Сын Божий ходатайствует за нас всеми Своими заслугами, Дух Святой действует в нас всею Своей силой животворящей.
Слышишь ли, христианин, слышишь ли, в чем вся сила твоего спасения, вся надежда тебе на твое спасение? О, слышишь ли? Когда ты взываешь, молишься Богу единому в трех Лицах, то Бог Отец обращается к тебе со всею Своей любовью, Сын Божий ходатайствует пред Отцом за тебя всеми Своими заслугами, Дух Святой действует в тебе всею Своей святой животворящей силой, чтобы твоя молитва благоприятна была Отцу и Сыну. Итак, слышишь; но веруешь ли?..
О, верую, Господи, верую, что Ты еси воистину Троица Святая, верую и во веки буду поклоняться Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
15. О Святой Троице
В Боге есть такие свойства, которые могут быть нам известны и по разуму. «Прилежно рассматривая творение мира, – говорит свт. Василий Великий, – мы познаем, что Бог премудр, всемогущ, благ; познаем также и все невидимые свойства, ибо невидимое Его, по словам апостола Павла, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы (Рим. 1:20)». Но есть в Боге и то, что известно нам только по одному Откровению Божию. Что же это такое? Бог един есть по существу, но и троичен в Лицах: Бог есть Троица.
Иисус Христос, посылая учеников на проповедь, повелел им учить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28:19). Апостолы, исполняя повеление своего Господа, и крестили и учили поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу. Пророки, хотя не так ясно, и в видениях созерцали, и в песнях воспевали Святую Троицу. Православная Церковь, утвержденная на основании апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, и учит, и поклоняется Отцу и Сыну и Святому Духу.
Мы и на себе творим крестное знамение во имя Отца и Сына и Святого Духа. У нас и на святых иконах изображается Отец в виде старца ветхаго денми, Сын Божий в том виде, как Он жил на земле, Дух Святой в виде голубя, как Он явился на Иордане. Таким образом, все свидетельствует, что Бог есть Отец, Сын и Святой Дух. Но между тем все же свидетельствует: и Иисус Христос, и пророки, и апостолы, и Православная Церковь, все свидетельствует, что Бог един. Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть (Втор. 6:4), говорили пророки; Бог один (Гал. 3:20), и никто же ин, токмо един, проповедовали апостолы. Верую во единаго Бога, повторяет из века в век Святая Православная Церковь.
Итак, что же? Не три ли у нас Бога? Нет, Бог един и у нас, и у всех, и над всеми. Кто же это – Отец, Сын и Святой Дух? Это Лица (ипостаси) Божества. Да, Бог по существу един, но по Лицам троичен. Три Лица имеет Бог, но сии три Лица составляют одно существо. Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино (1Ин. 5:7). Бог наш есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой; но их не три Бога, а один Бог. Кто из них больше и выше? Никто. Они равны между Собой, имеют равное божеское достоинство, имеют одни и те же божеские совершенства, а потому как Отец есть истинный Бог, так равно и Сын есть истинный Бог, и Дух Святой есть истинный Бог, впрочем так, что в сих ипостасях есть один Триипостасный Бог. Каждое из трех Лиц Божества действует самостоятельно, как Лицо, отличное от других Лиц; но все Они существуют нераздельно, как Лица, составляющие одно Божество, и потому, действуя друг от друга отдельно, Они действуют совокупно; таким образом, по Лицам Они неслиянны, а по существу нераздельны. Какое же различие между Лицами Святой Троицы? Они различаются между Собой по одним личным Своим отношениям или свойствам: Бог Отец не рождается и не исходит от другого Лица; Сын Божий предвечно рождается от Отца, Дух Святой предвечно исходит от Отца.
Впрочем, слушатели благочестивые, не будем много углубляться в изъяснения Святой Троицы: это тайна, ничем не объяснимая и для нас непостижимая, Божьего никто не знает, кроме Духа Божия (1Кор. 2:11). Мы должны веровать, что Бог по существу один, а по Лицам троичен, но как Он – один в трех Лицах, этого мы не должны исследовать. Чрез меру трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай. Что заповедано тебе, о том размышляй; ибо не нужно тебе, что сокрыто (Сир. 3:21).
Послушайте, как излагает учение о Святой Троице святой Афанасий, епископ Александрийский: «Вера кафолическая сия есть, да единаго в Троице и Троицу во единице почитаем, ниже сливающи ипостаси, ниже существо разделяюще. Ина бо есть ипостась Отча, ина Сыновня, ина Святого Духа; но Отчее, Сыновнее и Духа Святого едино есть Божество, равна сила, соприсносущно величество. Каков Отец, таков Сын, таков и Дух Святый. Тако, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый: обаче не три бога, но един Бог. Отец ни от кого есть сотворен, ни создан, ни рожден. Сын от Отца Самого есть не сотворен, ни создан, но рожден. Дух Святый от Отца ни сотворен, ни создан, ниже рожден, но исходящ. И в сей Троице ничтоже первое или последнее, ничтоже более или менее, но целы три ипостаси, соприсносущны суть Себе и равны». Будем держаться этого изложения учения о Святой Троице, которое Святая Церковь всегда принимала и считала достойным и верным. Этим мы окончим учение о Боге вообще. После будем мы говорить о каждом Лице Святой Троицы в отдельности, о Боге Отце, Боге Сыне и Боге Духе Святом.
Слушатели-христиане! Теперь мы имеем некоторое понятие о Боге, полного понятия о Нем нам иметь невозможно. Скажу еще более: не только мы, но и Ангелы не знают и знать не могут, что такое Бог в существе Своем. Но как бы ни было ограничено наше понятие о Боге, мы должны как можно чаще размышлять о Нем. Знание без размышления бесплодно. Напротив, и размышление о том, что мы вполне не знаем Бога, весьма спасительно для нас. Тот много, очень много знает Бога, кто чувствует, что он не знает Бога; святой Кирилл Иерусалимский говорит: «В вещах божественных великое есть знание – сознавать свое незнание».
Итак, будем размышлять о Боге, как знаем, будем размышлять, что Он есть Дух вечный, всеведущий, всеправедный, всемогущий, вездесущий, всесвятый, неизменяемый, вседовольный, всеблаженный. Будем размышлять и о том, что мы не постигаем Его. «Не постигаю Тебя, Боже, и не смею постигать; Ты неизречен, недоведом, невидим, непостижим, присно сый, Ты и Единородный Твой Сын и Дух Твой Святый». Да, слушатели, еще повторю: мы не должны стараться постигнуть, что такое Бог в существе, но должны чаше размышлять о том, что дано нам знать о Нем. В Боге такое обилие всех совершенств, что и одна мысль о Нем может улучшить, усовершить нас. Когда мы явимся на тот свет, будем подобны Богу, потому что узрим Его, якоже есть. Будем пока теперь размышлять о Боге, и мы еще здесь несколько уподобимся Ему. Верьте и помните, что и минутное размышление о Боге приносит продолжительную пользу; мысль о Боге, в нашей душе появляющаяся, есть семя благодати Божией; мыслить о Боге – значит привлекать к себе благодать Его. Итак, когда Бог приходит тебе на мысль, радуйся: это благодать Его посещает тебя. Напротив, когда у тебя редко Бог на уме, взывай к Нему скорее: «Боже мой, Боже мой, вскую мя оставил еси?» И тогда благодать Его опять с тобою. Аминь.
16. О мире невидимом Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым…
О мире невидимом Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым…
Кроме этого видимого мира, в котором мы живем, есть еще другой мир – невидимый, в котором тоже живут существа разумные. Потому-то Бог и называется Творцом всего видимого и невидимого. Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое… (Кол. 1:16). Невидимое – это и есть невидимый мир, о котором будем беседовать.
Невидимого мира нам видеть нельзя; почему же мы знаем, что действительно есть этот невидимый мир? Потому знаем, что Бог открыл нам о нем и бывали различные явления из него. В Священном Писании и в писаниях святых отцов много тому примеров. И самый разум не отвергает бытия мира невидимого, а сердцу нашему было бы больно, если бы не было этого невидимого мира: у кого на земле ничего не остается, тому только и утешения, что мир невидимый. Так, есть невидимый, духовный мир. Ведь потому только нельзя отвергать бытия мира невидимого, что мы его не видим. Невидимый мир только для нас невидим, а те, кто там живет, видят все в нем ясно, точно так, как мы теперь видим друг друга, и даже гораздо яснее.
Кто живет в этом невидимом мире? В нем живут Ангелы. Ангелы – это духи бесплотные, существа невидимые, духовные. Они по своей сущности то же, что наши души, имеют и разум, и волю, только они совершеннее и сильнее, чем мы, человеки. Да, Ангелы выше нас по уму, крепче нас по силам, дальше нашего умными очами видят, лучше нашего все знают, больше нашего все могут. Человек немного ниже Ангелов, но все же ниже (см.: Пс.8:6). Такими Ангелы были сотворены вначале.
Когда сотворены они, об этом в Священном Писании прямо нигде не говорится, только в книге Иова в одном месте говорится, что Ангелы восхваляли Бога велиим гласом, когда сотворены были звезды. Егда сотворены быша звезды, восхвалиша Мя гласом велиим вси Ангели Мои (Иов. 38:7). Значит, Ангелы сотворены до четвертого дня. В который же именно день? Некоторые святые отцы полагают, что Ангелы сотворены в первый день, когда сотворено Небо, под которым и разумеют они невидимый мир, это невидимое жилище бесплотных духов. Впрочем, нам довольно знать, что невидимое сотворено прежде видимого и Ангелы прежде человеков.
Все Ангелы сотворены добрыми и чистыми, но не все из них сохранили себя такими – некоторые из них возгордились, возмечтали о себе, не стали повиноваться Богу и таким образом отпали от Бога. Гордость всегда всех губит, людей и Ангелов, и неповиновение никого никогда к добру не ведет. Те Ангелы, которые остались Богу покорны, послушны, стали еще добрее, еще святее, еще тверже в добре, так что при помощи Божией благодати уже не могут и сделаться худыми, злыми. А те, которые отпали от Бога, стали теперь так злы, что им уже невозможно сделаться добрыми. Итак, Ангелы двух свойств: одни – добрые, чистые; другие – злые, нечистые. Как велико их число? Их так много, что в слове Божием о них говорится, что из них целые легионы злых, нечистых и тысячи тысяч, тьмы тем добрых, святых, поющих, взывающих и глаголющих: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея.
Да, и земля и небо полны славы Твоея, Господи! Аминь.
17. О добрых духах
Когда мы, слушатели, видим красивое, умное дитя, мы говорим о нем: точно Ангел. Когда видим человека, который очень ко всем добр, ласков, или по жизни чист, свят, – мы говорим о нем: Ангел, а не человек. Когда слышим хорошо поющих, мы говорим: точно Ангелы поют.
Что же такое Ангелы?
Духи добрые, существа невидимые, дивные красотой, дивные светлым умом, святой волей, могучею силой, существа самые добрые, самые блаженные, непрестанно радующиеся и от радости непрестанно поющие.
Где они, эти Ангелы?
На Небеси, в небесном раю. Есть и не на Небе, не в раю ангелы, а в преисподней, в аду, но то ангелы злые. На Небе добрые Ангелы. Да, Ангелы двух свойств: одни добрые, другие злые.
Где то Небо, тот рай, в котором добрые Ангелы?
Обыкновенно полагают его там, вверху, над нами, за этим видимым небом, куда вознесся Иисус Христос, куда вознесена Пресвятая Дева Мария, куда взяты Илия и Енох, куда на время восхищен был апостол Павел. Словом, Небо, рай – это там, в невидимом, духовном мире, где во всем великолепии открывается Божий свет, Божия слава, Божия радость, где благословенное Царство Отца и Сына и Святого Духа.
О, помяни меня, Господи, помяни в том Своем Царстве! Почему они, эти добрые Ангелы, названы Ангелами? Слово «Ангел» значит «вестник», значит и «посланник». Так, Ангелы добрые – это Божии посланники и Божии вестники, Божии по преимуществу. Да, они по преимуществу Бога возвещают, возвещают, как Бог благ, как премудр, как всемогущ. Божьего всемогущества, Божией премудрости, Божией благости ни в ком из сотворенных существ так много не видно, как в них, Ангелах. Возвещая славу Божию, они преимущественно возвещают и волю Божию. Никем так свято не исполняется Божия воля, Божий закон, как Ангелами. Любя Бога самой пламенной любовью, они непрестанно предстоят Ему, выну видят, смотрят на Него, чтобы лететь по Его манию, исполнять то, что Он повелит, или быть там, куда Он пошлет.
Как Ангелы возвещают, как выражают свою радость о Боге, свою любовь к Нему?
Песнопениями неумолчными. Они непрестанно поют, радуясь, Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея. Так их, поющих, слышали и видели пророк Исаия, Иоанн Богослов, апостол Павел и другие святые Божии человеки.
Благоговея пред Богом, Ангелы преисполнены любви друг ко другу и к людям.
Чем Ангелы выражают свою любовь друг ко другу? Общими своими песнопениями. Их бесчисленное множество, тысячи тысяч, тьмы тем, и вообразить нельзя, как их много. По мнению некоторых святых отцов, в девяносто девять крат Ангелов больше, чем людей на свете. По природе своей они все равны и все совершенны, но по силе, по достоинству разнствуют – одни пониже, другие повыше, третьи еще выше и одни как бы начальствующие, другие как бы подчиненные. Их считается девять чинов, и эти чины разделяются на три лика: в первом лике – Серафимы, Херувимы, Престолы; во втором – Господства, Силы, Власти; в третьем – Начала, Архангелы и Ангелы. Так много Ангелы разнствуют между собой, и несмотря на то они всегда вместе, с любовью друг на друга взирая, друг другу кланяясь, как у нас священнослужители при служении, поют победную песнь, как у нас певчие, в четыре голоса, поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще: Свят, Свят, Свят!
Как Ангелы к нам, к людям, свою любовь выражают?
Пребывая на Небесах, Ангелы, по своей любви к людям и по Божию изволению, бывают и на земле. С нами они Бога славят, иногда слышно славят, поют, как, например, их поющих слышали пастыри вифлеемские. Особенно в церкви и преимущественно на Литургии они всегда невидимо с нами, они входят со священнослужителями в алтарь славить Бога, сопровождать Царя всех, грядущего к нам, входящего заклатися и датися в снедь верным. Да, слушатель благочестивый, чины ангельские невидимо провожают Иисуса Христа к тебе, когда ты причащаешься Тела и Крови Его.
Как Ангелы могут быть и на Небе, и на земле?
По своей сущности Ангелы – то же, что наша человеческая душа, но ни тела человеческого и ничего видимого не имеют; они бесплотны, они чистые духи, только на время могут они принимать вид человека, чтобы тот, кому они, по изволению Божию, иногда являются, мог видеть, слышать их, невидимых; явятся, сделают, скажут что нужно – и тотчас отходят, делаются невидимыми. Итак, не имея ничего телесного, Ангелы быстро, как на крыльях, подобно мысли нашей, могут нисходить на землю и опять точно так же восходить на Небо. Мыслью или желанием и мы можем бывать везде, на Небе и на земле, но Ангелы могут быть везде всем своим существом, то есть и умом, и волей, и могуществом своим; только в одно и то же время везде они быть не могут, они могут быть везде там, куда пошлет их Бог, един вездесущий. Да, устрояя спасение людей, Господь Бог посылает Ангелов возвещать людям Свою волю; так, например, послан был Ангел возвестить Пресвятой Деве Марии, что Она родит Спасителя мира.
Желая всем спастись и в разум истины приити, Господь Бог посылает Ангелов служить спасающимся, хранить их от бед, от видимых и невидимых врагов, научить добру, истине, отводить от греха, от неправды. Да, Ангелы нам служат, нас вразумляют, наставляют нас, спасают, нам во всем помогают, помогают и молитвам нашим возноситься к Богу. Вообще, где люди бывают, где людям что нужно от Бога или к Богу, там всегда с ними Ангелы, туда Господь всегда посылает их, Своих посланников. Эти Ангелы, посылаемые Богом людям, называются Ангелами хранителями, наставниками. И такие Ангелы есть у всякого села, у всякого города, у всякой области, у всякого государства, у всякого монастыря, у всякой церкви христианской. Такие Ангелы хранители есть и у всякого человека.
Как только человек родится и будет окрещен, тотчас дается от Бога ему особый Ангел в хранители, в наставники. И с этого времени Ангел хранитель остается навсегда с человеком; с ним человек живет, с ним и умирает, с ним в тот свет вступает, с ним и на Страшный Суд является.
Как Ангелы хранители могут помогать нам, наставлять, хранить нас? Потому могут, что они выше нас по уму, крепче нас по силам; хотя они не всеведущи, не всемогущи, но умными своими очами дальше нашего видят, больше нашего знают и своим могуществом больше нашего могут.
Как именно Ангелы нам помогают?
Невидимо, неслышно. Видимо хранить, слышно наставлять Ангелы хранители могут только по особенному Божию повелению, в случаях чрезвычайных, когда Божие поручение иначе исполниться не может, как слышно, видимо. Например, слышно Иосифу во сне Ангел говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет. Видимо – женам-мироносицам при Воскресении Иисуса Христа Ангелы являлись и слышно говорили: воста… Видимо являлся и слышно говорил Ангел Пресвятой Деве Марии, что Она зачнет и родит Сына. Такие явления – явления чудесные, а чудеса творит один Бог.
Итак, обыкновенно всегда Ангелы своим невидимым с нами присутствием нам помогают. Да, Ангел хранитель всегда со мною; со мной он, что когда я ни делаю; со мной он, когда я размышляю, желаю, решаюсь; со мной он, когда я говорю, пою, читаю, пишу; со мной он, когда я служу, молюсь; со мной он, когда я учусь, узнаю, работаю, тружусь, пью, ем и прочее, когда что делаю в славу Божию, он все со мною; со мной он, когда храню себя от всего – от грехов, от бед, от всяких врагов, от всяких опасностей. Действуя таким образом все с Ангелом хранителем, я и вразумляюсь, освещаюсь его умом, который выше, светлее моего ума, и охраняюсь, укрепляюсь его могуществом, которое сильнее, могущественнее моих сил.
Если бы не Ангел мой хранитель был со мной, я бы не знал, не понимал так ясно истины и не желал, не делал так усердно добра, и не служил, не молился так пламенно Богу; если бы не Ангел мой хранитель был со мной, я бы так не сохранил себя от греха, от заблуждения и так легко не избавился бы от беды, от опасности, от всего мне враждебного, вредного, безрассудного. Да, Ангел наш хранитель тем именно и помогает нам, что он, хотя и невидимо, но с нами всегда, везде, во всякое время, во всяком месте.
Как он бывает с нами, когда мы согрешаем в чем?
Вдали он тогда бывает. Да, не бывает со мной моего Ангела хранителя, когда я худое делаю, замышляю, говорю, пою, читаю, пишу; удаляется от меня мой Ангел хранитель, когда я скучаю, ропщу, досадую, сержусь, бранюсь, лгу, обманываю, обижаю, осуждаю, завидую, поношу – словом, далеко от меня добрый Ангел мой хранитель, когда я недоброе, худое делаю. Да, если я себя не храню от греховного, вредного, враждебного мне, и Ангел хранитель не сохранит меня. Без моего желания себе спасения, избавления, без моего о себе старания, усилия, действования и Ангел хранитель ничего со мной для меня не делает, потому что он удаляется тогда от меня. Хранят Ангелы детей невинных без их участия, так сказать, без их ведома. И не детей, а всех людей невинных хранят Ангелы, и тоже без ведома, без участия их хранят; но потому невинных и хранят, что они так безгрешны, невинны, что по своей ангельской невинности и не ведают и не верят, чтобы им могла грозить когда беда какая.
Что же Ангел наш, нас грешных хранитель, что делает, когда мы согрешаем? Добрые знают, что делать, когда сами лично кому помочь не могут за отдаленностью, – они Богу молятся.
И мой хранитель, добрый Ангел, удаляясь от меня, молится обо мне, чтобы Господь меня вразумил, от греха удержал, остановил, чтобы я одумался, очувствовался, чтобы поскорее я раскаялся, и если хоть чуть начну я раскаиваться, он тотчас опять со мной, я заплачу, а он возрадуется. И о, как Ангел хранитель наш радуется, когда мы плачем о грехах, и не он один – за ним все Ангелы святые на Небе радуются, когда мы раскаиваемся, когда плачем! Оттого-то так и сладки нам слезы наши о грехах; слезы о грехах радостью ангельской отзываются.
Итак, Ангелы хранители хранят, наставляют нас своим светом, своим могуществом и своей молитвой о нас.
А что такое эти особые хранители областей, государств, городов, сел, монастырей, церквей и других обществ человеческих, когда у всякого человека есть свой Ангел хранитель? То Ангелы высшие, они светлее, могущественнее наших Ангелов хранителей, и тем светом люди в общих делах освещаются, вразумляются, их могуществом люди при общих бедах охраняются, укрепляются.
Итак, вот что такое Ангелы добрые.
Слушатель-христианин! Ты радуешься ли на Божиих Ангелов? Радуешься ли, слушая, что есть невидимые существа, обладающие самым светлым умом, самой могучей силой, существа самые добрые, любвеобильные, всегда готовые всем прийти на помощь, существа самые блаженные, непрестанно радующиеся и от радости поющие непрестанно, неумолчно поющие? Радуешься ли, что есть такие существа?
О, радуемся, Господи, радуемся на Твоих дивно-прекрасных, блаженных Ангелов, радуемся, потому что они Твои, что Ты их таких создал, потому что о Тебе они так радуются, Тебе они так поют, Тебе, Богу нашему: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея! И мы с ними Тебе поем, вопием, и если бы во веки веков нам с ними так петь! Аминь.
18. О злых духах
Духи нечистые, нечистая сила, лукавый дух, демон темный, бесы нечистые, сатана, диавол, ангелы его… Кто это такие? По природе своей они такие же, как и добрые Ангелы, то есть и они – существа невидимые, бесплотные, одарены умом, волей и могуществом, только по своим свойствам злые. Да, это те духи или ангелы злые, которые не на Небе, а в аде, в преисподней. Их, этих злых ангелов, хотя меньше, чем добрых, но все же очень много, без числа много, целые легионы, и из них есть низшие, высшие, сильные, сильнейшие, злые, злейшие, и сатана, диавол – это главный, самый злой и сильный.
Место, где находятся злые духи, называется преисподнею, то есть местом самым низшим, отдаленнейшим от Неба и совершенно противоположным Небу, называется адом, то есть местом самым мрачным, темным, и просто называется тьмою кромешною, называется также геенною огненною, то есть местом, исполненным огня неугасимого, мучительного, и просто называется огнем вечным, мукою вечною. Что это значит? То это значит, что там, где злые духи, нет Божьего света, а всегда там мрак, вечно мрак страшный, ужасный мрак. Нет там и никогда не бывает никакой радости Божией, а всегда там печаль, воздыхание, мучения и страдания – мучения, как от огня, страдания до скрежета зубов.
Отчего же это место такое мрачное, страшное, отчего там такие страдания, мучения? Не место само по себе там такое, а злые духи, ангелы делают его таким. Что такое злые ангелы? Существа, которые Бога не любят, Бога не славят, о Боге не радуются, которые злы на Бога, злы, что Он благ, что Он людей любит, и которые, ненавидя Бога и все доброе и святое, делают только злое, пагубное, гибельное, то есть делают именно только то, что заставляет их самих мучиться, страдать, стенать, воздыхать. Так вот от них-то, от этих злых духов, не любящих славить Бога и радоваться о Боге, и нет света Божия, нет радости Божией там, где они; их-то и слышны там мучения, страдания, стоны, вопли. Злые ангелы до того злы, что хотят лучше мучиться, страдать, стенать, воздыхать, только бы Бога не славить, о Боге не радоваться, только бы, кроме зла, ничего не делать.
Отчего злы они? Всеблагий Бог ничего злого, вредного, пагубного не создал и никого из существ на зло, на муки, на страдания не сотворил. Всякое создание Божие служит всем во благо, в пользу, в радование, в веселье, и всякое творение сотворено Богом для наслаждения жизнью, для покоя, для радостей, для блаженства. Такими и для того были сотворены Богом и злые ангелы, то есть добрыми. Но они сами сделались злыми, сами не захотели быть тем, чем и для чего Бог сотворил их, не захотели быть спокойными, довольными, то есть не захотели радоваться, блаженствовать, хваля и благословляя Бога, сотворившего их.
Как злые духи дошли до такого состояния, что, зная, чувствуя, как гибельно, мучительно быть злым, однако же остаются злыми, не хотят не злиться, не хотят не мучиться, не страдать? Гордость довела их до того. Один из них, самый главный, денница, сиявший, подобно утренней заре, Божиим светом и красотой, преисполненный Божией радости и веселия, обладавший особым Божиим могуществом и крепостью, рассматривая свои совершенства, засмотрелся на себя и, забыв своего Творца, забыв, что все у него Божии дары, умолк, перестал петь Богу, возмечтал о себе и задумался: «Я могу, могу… с такими силами чего я не могу? О, я сам могу сделаться всеблаженным, вседовольным, Всевышнему подобным…»
Такое его мечтание о себе и молчание о Боге заметили под его влиянием и начальством находящиеся ангелы и тоже обратили внимание на свои достоинства, и тоже стали умолкать, забыв петь Того, Чьи они создания. И вот молчание о Боге на Небе стало распространяться, вот стала было затихать хвала Всевышнему; искушение было для всех Ангелов, все могли увлечься денницей. В это время Архангел Михаил вдруг громким голосом возгласил: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу; за ним миллионы торжественно воспели: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея. И денница, не захотев присоединиться к поющим, пением их, как громом, пораженный, пал молнией с неба, а за ним и все ему подчиненные, единомысленные. Об этом-то падении денницы говорил Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, когда сказал: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию (Лк. 10:18).
С падением злых духов добрые Ангелы еще тверже стали в добре, еще ближе стали к Богу, еще пламеннее возлюбили Его, так что невозможно, чтобы они, непрестанно видя пред собой Господа Сил, могли перестать когда-нибудь Ему петь, о Нем радоваться. А падшие духи, не сделавшись спокойными, блаженными сами собой, подобными Всевышнему, навсегда остались злыми, навсегда отпали от Бога, так что невозможно, чтобы они когда-нибудь обратились к Богу, сделались добрыми. Вечно злясь, будут вечно мучиться, страдать, но не захотят от гордости блаженствовать по Божией милости.
Какое отношение злые ангелы имеют к людям?
Сами, без согласия людей, особенно без попущения Божия злые ангелы никакого не могут иметь влияния на людей и ни малейшего не могут делать нам зла. Но Бог, не желая стеснять ничьей свободы, попускает злым ангелам до времени делать для людей злое на земле, а люди по своей слабости склонны бывают слушаться их, соглашаться с ними на злое себе. Да, не стесняя свободы злых ангелов, Бог попускает им действовать на людей, но однако так, чтобы и они не употребляли насилия ни над одним человеком, чтобы тоже не стесняли ни в чем никогда свободы людей.
Как могут злые ангелы делать людям зло? Они, как и добрые Ангелы, и по уму выше, и по силам крепче людей. Главный из них по силе и влиянию на людей называется князем мира сего и князем власти воздушныя. Оттого-то на земле бывают такие ужасающие, бесчеловечные дела, каких люди, без участия злых ангелов так придумать не могли бы и без их содействия так исполнить были бы не в силах. И потому нет зла на земле, в котором бы злые ангелы не принимали участия, и нет погибшего, который бы погиб без их содействия.
Какое именно злые ангелы делают зло людям?
Бог желает всем людям добра, спасения, покоя, блаженства; злые ангелы этому противятся – главный из них оттого и называется сатаной, то есть противником Божиим, – противятся они воле Божией о людях и хотят, на зло Богу, чтобы все люди, подобно им, погибали, чтобы все были злы, мучились, страдали. И вот они стараются всячески, чтобы люди не знали Бога, чтобы не веровали в Него; вся забота их об этом, потому что злыми, погибшими, развратными, злодеями люди делаются, бывают именно от этого, от незнания Бога, от неверия в Него.
Что злые ангелы делают для того, чтобы люди Бога не знали, в Него не веровали? Прибегают к клевете, ко лжи, к обману, к обольщениям; потому-то главный из них и называется отцем лжи и диаволом, то есть клеветником и обольстителем. Да, злые духи лгут, клевещут, что и нет Бога, и заповеди Его вовсе не нужны, что и без Бога и без Его заповедей можно жить спокойно, весело, даже спокойнее будешь, если станешь жить и действовать по своей воле, по своему разумению. Вообще, что только можно придумать, сказать, написать против Бога, против Его бытия и свойств, против Его дел и учения, – все это злые духи в людях поддерживают, усиливают. А чем Бог на земле прославляется, что к познанию Его служит, что для славы Его делается, от чего воля Его исполняется, что во спасение людей устрояется, – все это злые духи стараются, ослаблять, уничтожать, затмевать, истреблять.
Так, они идолопоклонство поддерживают, чтобы люди ложным богам поклонялись, не знали истинного Бога; они сеют и поддерживают ереси, расколы – чтобы люди, живя по вере, ими самими выдуманной, не веровали в истинного Бога; они поддерживают клевету всякую на Святую Церковь, на ее учение и уставы, на ее учителей и пастырей, чтобы неверующие в Святую Церковь, внимая этим клеветам, не уверовали в нее, в которой одной поклоняются Отцу и Сыну и Святому Духу; они возбуждают, поддерживают везде притеснения, гонения на Церковь нашу Православную, чтобы в нас, верующих, ослаблять, колебать веру в Бога истинного. Они же, злые духи, мутят мир, поддерживая и усиливая раздоры, несогласия, мутят воду и воздух, возбуждая и распространяя пагубные волны, тлетворные ветры, чтобы люди, страшась, страдая, мучаясь, погибали, забывая Бога. Да, мир, то есть злые люди, силы противления – это жительство, достояние злых духов, где они действуют полновластно на погибель людей. Особенно злобу свою злые духи проявляют к душам умерших, усиливаясь удержать их в своей области, препятствуя им восходить на Небо, в Царство Божие.
Итак, вот чего хотят, чего всеми мерами домогаются злые ангелы: чтобы Царства Божия не было, то есть чтобы Бога никто не знал, чтобы никто в Него не веровал.
Есть ли у человека особый злой ангел, как есть Ангел хранитель? До крещения человек находится под властью злых ангелов; потому Святая Церковь при крещении отгоняет от оглашенных всякого лукавого, нечистого духа. Таким образом, при тебе, слушатель-христианин, нет особого злого духа, зато всякий из них всегда готов тебе делать зло, они ждут только на то знака твоего согласия.
Чем же мы даем знак злому духу, что мы согласны внимать ему, слушаться его? Мыслями, желаниями нашими злыми, неправыми, греховными. Да, когда я начинаю мыслить злое, неправое, греховное, желать злого, неправого, греховного, то этим даю знать злому духу, что я согласен слушать его, и он тотчас же начинает на меня действовать. И вот, по обычаю, клевеща мне на Бога, возобновляя в моей памяти со своими пояснениями все, что только я когда думал, слышал, читал, говорил против Бога и Его заповедей, обольщая меня, внушая, объясняя, доказывая, почему я могу, почему я должен, имею право, основание, нужду думать, мыслить, делать, говорить то, что хочу, чего желаю, что думаю. Так обольщаемый злым духом, я наконец, как злым вином упоенный, забываюсь, забываю, что Бог есть, и зло, неправда мной овладевают, и грех во мне царствует, и я… погиб!.. Все мы, слушатели, погибли бы, если бы Сын Бога Живого не пришел в мир грешных спасти.
Действуя на душу человека, злые духи могут действовать и на тело его, тревожа, смущая его дух и таким образом поддерживая его телесные болезни, усиливая их так, чтобы больной забыл о Боге или чтобы роптал на Него. Так злой дух делал с праведным Иовом Многострадальным, хотя и не довел его до того, до чего хотел. Злые духи могут даже вселяться в человека и мучить его тело, мучить страшными муками. Так они действовали и действуют в тех людях, которые называются бесноватыми.
Являются ли злые ангелы видимо человеку? Как добрые Ангелы по особому Божию повелению видимо являются, так и ангелы злые тоже только по особому Божию дозволению могут иногда видимо являться. Так, они в разных чужих видах являлись святым и подвижникам благочестия. Без особого же Божия дозволения и попущения, сами собой, самовольно злые духи видимо людям являться не могут; это невозможно для них, потому что они духи, не имеют плоти, никакого видимого для нас вида. Да и нам видеть злых духов очами телесными невозможно, и для них самовольно являться видимо нам тоже невозможно. Действуют иногда они, по-видимому, самовольно на нашу душу, когда поддерживают и усиливают в нас против нашего желания, нам на муку мысли нечистые, скверные, хульные против Бога и всего святого, божественного. Но то только нам так кажется, что самовольно, а в самом деле – и это часто бывает – и не без попущения Божия, и не без повода с нашей стороны, и притом не без пользы для нас – именно то бывает для смирения нас, для убеждения, что без Божией помощи мы и помыслить доброго не можем.
Итак, вот какое отношение имеют злые ангелы ко всем людям и к каждому из нас. Они враги нам, враги нашего спасения, враги нашего покоя, враги нашего блаженства. Да, они враги злые, сильные, но у нас против них – Бог всемогущий и Иисус Христос, ада победитель. При одной моей мысли, что есть Бог, при одном моем слове: Господи Иисусе, при одном на мне знамении крестном злые духи убегают от меня, расточаются, исчезают. Мучительные мысли, против нашего желания влагаемые в нашу душу злыми духами, те нечистые, скверные, хульные мысли, которые приходят иногда нам при самых святых занятиях, и эти мучительные мысли, стоит только спокойно дунуть и плюнуть на них, тотчас пропадают, исчезают.
Что ожидает в будущем злых духов?
Устами мучимых ими людей, так называемых бесноватых, говорили они Иисусу Христу, когда Он хотел их изгнать: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас (Мф. 8:29). Итак, злых духов ждет мука, или, лучше сказать, они ждут муки, которая настанет после Второго пришествия Христова на землю и которая будет вечной. Да, мука существ злых, которые от гордости хотят лучше вечно мучиться, чем с мольбой обратиться к милостивому Богу, будет мукой вечной; огонь, ими себе уготованный, не угаснет вовеки.
Слушатели-христиане! Слышали вы о злых ангелах? Что они говорят нам? Конечно, то же, что все существующее говорит: есть Бог. Да, ангелы злые своим бытием, своей злостью и злобой, своими делами и страданиями говорят, что есть Бог; есть всемогущая, вечная благость, которая жизнь дает всему, что только может жить, существовать; есть всемогущая, вечная правда, которая по делам воздает всем, кто только может делать, действовать; есть всемогущая, вечная премудрость, которая одна все может объяснить и в свое время объяснит, что, почему так, а не иначе есть, бывает, будет.
Так, есть невидимая сила, нечистая, недобрая, есть духи злые, невообразимо злые, как люди есть злые, до невероятности злые. Но я не боюсь их, Господи, не боюсь, ибо Ты со мной, ибо верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. Аминь.
19. О кумирах
Вторая заповедь Божия запрещает творить себе кумиров с тем, чтобы поклоняться и служить им.
Какие кумиры тут разумеются? Всякие изображения какой-либо твари – небесной или земной, или в водах живущей, которой вместо Бога поклоняются и служат.
Разве есть люди, которые таким изображениям поклоняются и служат? Есть. Например, язычники – это люди, не верующие в истинного Бога. Мы, христиане, поклоняемся и служим нашему Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу, а они бездушным кумирам поклоняются и служат. Суетно, напрасно, греховно поклонение и служение этим кумирам. Кумир не Бог, не только не Бог, но одно изображение, и притом ложного божества, такого, которого в самом деле вовсе нет, не существует.
Кумир ничего не может посему и сделать для человека, как ни кланяйся ему, как ни проси его. Кумир – ничто, и потому – что ему поклоняться, за что почитать? Поклоняться надобно одному истинному Богу, просить надобно живого Бога. Как же святые изображения, иконы святые мы почитаем? Святые иконы, изображения мы почитаем только, то есть лобызаем их, главы и колена преклоняем, свечи возжигаем, фимиам курим пред ними, и почитаем так потому, что иконы у нас суть изображения истинного Бога, явившегося во плоти, Пречистой Матери Его и святых Его угодников.
Да, почитаем только святые иконы, а не боготворим их. Если бы стали боготворить святые иконы, мы согрешили бы против заповеди Божией, подобно идолопоклонникам, согрешили бы пред Богом, если бы стали благодарить их, то есть если бы стали думать, что икона сама по себе имеет божественную силу, сама собой может нас спасать. Но мы не так думаем. Иконы у нас только напоминают нам о Боге, о Его делах и угодниках. Взирая на икону телесными очами, мы мысленно представляем себе и как бы видим того, кого она изображает. Поклоняясь Пречистому образу Божией Матери, мы Ей Самой, Царице Небесной, поклоняемся. Без икон святых мы были бы тоже почти, как без книг божественных. Да, по иконам, как по книгам, мы видим, узнаем, воспоминаем нужное для нашего спасения.
Итак, взирая на иконы святых, молясь пред ними, чествуя их, взирайте умом к Богу и святым, которые на этих иконах изображены, представляйте себе, что вы Богу и святым Его молитесь, поклоняетесь, Бога и святых Его чествуете, лобызаете.
Что еще под кумирами, запрещенными второй заповедью, можно разуметь? Под кумирами должно разуметь и все то, что мы слишком любим, боготворим, то есть любим до того, что из-за этого забываем Бога, бросаем заповеди Божии, забываем любить Его, надеяться на Него, всего ожидать от Него.
Если ты слишком любишь чреву своему угождать, лакомиться, пить, есть, объедаться, упиваться, если для тебя чувственные удовольствия выше, приятнее всего на свете, если ты для чрева пост и молитву оставляешь, то чрево твое – твой кумир, твой идол, и ты грешишь против второй заповеди так же, как и идолопоклонник.
Если ты слишком богатство любишь, если ты только о том и думаешь день и ночь, чтобы больше и больше денег наживать, если ты для денег оставляешь церковь, не знаешь праздников, забываешь бедных, то богатство кумир твой, идол твой, и ты так же служишь богатству, как идолопоклонник идолу своему.
Если ты слишком себя любишь, выше всех себя ставишь, лучше себя никого не считаешь, если гордишься, тщеславишься, то ты – сам кумир для себя, гордость твоя – идол твой.
Вообще, что бы ты ни любил, все – кумир твой, если ты это слишком боготворишь, любишь. И потому, слушатели, не будем привязываться ни к чему земному, чувственному, временному; ничего хорошего не найдем и можем дойти до того, что из-за этой привязанности к земному Бога забудем, заповеди Божии оставим. Временное, чувственное, земное не стоит того, чтобы к нему привязываться.
Не делай никого и ничего для себя кумиром. Все пусто, ничтожно – все, кроме Бога и божественного. Аминь.
Часть вторая. Поучения на Ветхий и Новый Заветы
20. А день седьмой – суббота Господу, Богу твоему (Исх. 20:10)
Если нам когда нужно бывает кого попросить или поблагодарить, или так почтение кому отдать, то мы приходим непременно в дом к этому человеку, особенно если он человек большой, и приходим непременно в положенное время, в определенные часы. Вне дома, кое-как, где придется или когда случится, просить, благодарить, почтение отдавать такому человеку нехорошо, неприлично, непочтительно. Отчего же, слушатели, некоторые из нас не соблюдают этого закона, порядка, приличия, уважения в отношении к Богу? Почему не ходят или очень редко ходят в дом к Нему просить Его, благодарить и славу воссылать Ему? Ведь и есть о чем всем нам просить Бога; хоть всякий час, всякую минуту проси у Него прощения себе или помощи, потому что всякий час мы грешим перед Ним и всякую минуту нужна нам помощь Его. И есть за что нам благодарить Бога: бесчисленные мы благодеяния от Него получаем. Все наше, все, что мы имеем у себя, чем пользуемся для нашего здравия и спасения, – все это от Него нам дар, все это Его к нам милость.
И достойно нам славословить Бога, поклоняться Ему. Все в Нем достойно нашего славословия, всегда Ему праведно поклонятися. Да, когда помыслишь о Его дивных совершенствах, когда посмотришь на Его творение непостижимое, то невольно воскликнешь: Велий еси, Господи, и чудна дела Твоя, и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих (Последование Святого Крещения); достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными (вечерняя песнь «Свете тихий»); возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси (Пс. 103:24); Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его (Ис. 6:3). Ангелы на Небе непрестанно поют и поклоняются Богу, немолчно хвалят и воспевают Его. И во веки веков так и будут они петь и воспевать Его, хвалить и поклоняться Ему, потому что все блаженство их в этом состоит. Ведь и наше, слушатели, будущее блаженство в этом же состоять будет.
Итак, как же некоторые из нас не ходят, не хотят ходить, нужным не считают ходить или ходят очень редко к Господу Богу в дом Его просить, благодарить и славу воссылать Ему?.. Ведь не довольно это делать у себя дома и везде, где случится, на всяком месте, во всякое время. Непременно надобно для этого в известные дни в церковь Божию приходить, например, в праздники. Дни эти Сам Бог назначил преимущественно для принятия, так сказать, у Себя нас, для принятия от нас наших прошений, благодарений, славословий. Таким образом, не ходить в церковь Божию, особенно в праздники, значит не то, что идти, действовать против закона, порядка, приличия, уважения в отношении к Богу, но прямо против заповеди Божией, нарушение которой есть настоящий грех.
Слушатели-христиане! И люди большие бывают к нам благосклоннее и милостивее за наши им поздравления, за наши им приветствия, к самым просьбам нашим дома у себя внимательнее они. Ужели же Всеблагий Бог не воздаст нам особенной Своей благодатью и милостью за наши посещения церкви Его Святой, за наши прошения, благодарения и славословия, Ему здесь нами воссылаемые? Аминь.
21. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа (Пс. 26:14)
В жизни нашей настоящей много у нас бывает бед и скорбей, много различных неприятностей, огорчений, лишений, опасений, затруднений, неудач, потерь. Но знаете ли, что всего хуже в этих горестных и бедственных случаях? Потеря присутствия духа, малодушие, уныние.
Доколе человек сохраняет присутствие духа, он еще не беден, не несчастен при самом большом несчастии, в самой крайней нужде он еще много тогда имеет у себя, хотя бы всего в жизни лишился. Доколе мы духом не упадем, доколе в уныние не приходим, мы найдемся, как встать нам, как поправиться, как бы глубоко мы ни пали, как бы жестоко ни пострадали. Да, в присутствии духа великая сила наша заключается, можно сказать, вся сила наша в присутствии духа. Пока я есть, все могу: Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Флп. 4:13). Но вот беда, вот горе истинное человека: когда от разных неприятностей, огорчений, лишений, опасений, затруднений, неудач, потерь он теряет присутствие духа, духом падает, руки опускает. Тогда он в собственном смысле все теряет, потому что теряет себя самого, следовательно, теряет всю силу, следовательно, теряет всякую возможность встать, поправиться, воспользоваться средствами к своему восстанию. Да, человек без присутствия духа – вполне несчастный человек, совершенно потерянный для неба и земли, для жизни будущей и настоящей.
Что же делать? Как сохранить присутствие в себе духа, как поддержать себя, чтобы не пасть духом при обстоятельствах невыносимо трудных, при горестях непредвиденных, при падениях глубоких, при лишениях невозвратимых? Делать надобно что-нибудь, делом каким-нибудь надобно заниматься. От бездействия, от праздности люди и при хороших обстоятельствах жизни всегда скучают, унывать иногда готовы. Как же не придешь в уныние, как же будешь бодр духом, когда и дела у тебя плохи, и делать ничего не делаешь, когда и помощи тебе нет ниоткуда, и сам себе ничем не помогаешь? Ведь в этом-то и уныние состоит, что в горе человек перестает делом заниматься, действовать; если он лишится чего, то уж и все бросает, если ему не удастся что, то уж ни к чему руки приложить не хочет, если он испугался чего, то уж и шагу сделать не смеет.
Нет, а ты не давай духу своему падать, ослабевать, то есть не переставай делом заниматься, действовать. Упал – вставай. Потерял – ищи. Не удалось – удвой силы. Опасение тревожит – будь смелей. Силы слабы – через силу займись. Словом, не будь никогда без дела, без занятия. Бездействием беде не поможешь, и молчание – плохое в печали утешение. А занятие делом, хотя бы усиленное, даже принужденное, до уныния тебя не допустит и оживит, подкрепит тебя. При движении и в большой холод тело наше не охладевает, при занятии и в большой беде не упадешь духом. У кого дело на руках, у того половина горя на душе. Делая что-нибудь, хоть что-нибудь да сделаешь для себя.
Что же делать надобно, чем заниматься в беде, в горе? Делай то, что следует тебе по твоему званию, по твоей должности, что нужно тебе для поправления твоих дел, что полезно тебе в твоих обстоятельствах. Делай особенно то, что следует христианину делать, и преимущественно для благоугождения Богу и спасения души. Когда этим делом будешь заниматься, когда спасение души устроять будешь, тогда никакие прочие неустройства не расстроят твоего духа, тогда будет чем утешиться, есть чего ожидать, есть чему радоваться – милости Божией и спасению души своей. А то ведь невольно унывать станешь, когда и внешние дела плохи, и совесть неспокойна, потому что душа нечиста, осквернена грехами. Когда и в настоящей жизни ничего хорошего не видишь, и в будущей на лучшее не надеешься, потому что не на что надеяться, потому что ничего доброго не делаешь.
Как же мне быть, когда у меня нет ничего ни для тела, ни для души, ни для Неба, ни для земли, и нет ничего, и сделать ничего не надеюсь? Силы слабы, препятствия велики, опасения на каждом часу, средств никаких, помощи нет ниоткуда – что тут делать? Делая свое дело, молиться ты должен. Ужели же в самом деле не может никакой помощи тебе сделать Тот, Кто вселенную сию из ничего сотворил единым Своим словом?.. Ты не надеешься? Оттого ты и не надеешься на Него, что не молишься Ему. У не молящегося не может быть надежды, кроме разве самообмана.
Итак, христиане, молитесь непрестанно, но соединяйте молитвы свои с молитвами служителей Церкви, просите их, чтобы они с вами о вас всегда молились, тогда будете получать себе от Бога всякую милость, тогда будут исполняться вся, яко ко спасению, ваши прошения. Не мы, служители Церкви, молящиеся о вас и за вас, но Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матери и всех святых будет спасать и миловать вас. Аминь.
22. Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь (Пс. 89:10)
И что же это за жизнь, настоящая наша жизнь? Семьдесят лет, много восемьдесят – вот и вся она. Но и до этих лет, до семидесяти, до восьмидесяти, многие ли из нас доживают? Ах, сколько умирает людей в самых цветущих летах, в первом возрасте, в младенчестве. Бесчисленное множество таких: целые миллионы только что родившихся лежат, тлеют в земле. Да и долгая жизнь, самая долгая… все же ведь проходит она, оканчивается, и проходит скоро, быстро и оканчивается навсегда, невозвратно. Живали люди по двести лет и по триста, и по четыреста, и по пятисот, и даже более, но кончали все тем же – умирали, исчезали, истлевали. И в этой быстро проходящей жизни много ли бывает у людей радостных дней, покойных? Праотец Иаков… да и тот на сто тридцатом году своей жизни со вздохом говорил: малы, и злы быша дние жития моего (Быт. 47:9). Но он был, можно сказать, один из счастливейших людей по жизни. А другие?
Ах, так ли живут другие, многие, бесчисленные? Родившись на свет, победствуют, помучаются, пострадают, да так и умрут, как будто они и родятся только для того, чтобы помучиться, пострадать и потом умереть, исчезнуть, истлеть. И как умирают иные! Ах, среди каких ужасных, всю душу потрясающих мучений многие умирают, многие, бесчисленные! Кроме смерти от меча, от огня, от воды, от яда, от язвы, от голода, от холода, от людей, от зверей есть тысячи смертей, одна другой мучительнее. Так, и коротка настоящая жизнь, и скоротечна, и тяжела, и бедственна, и то проходит слишком скоро, то идет слишком долго, и потом скоро ли, долго ли идет, а оканчивается все тем же – смертью, гробом, могилой, тлением.
Итак, что же это значит, что такова наша жизнь здесь на земле? То значит, что мы по смерти будем жить не так, как здесь, а все радоваться, блаженствовать будем. Ужели же, в самом деле, жизнь наша только и есть, что здесь мы поживем-поживем, потом умрем и этим все кончим, истлеем, исчезнем?.. Нет, нет – так и подумать, помыслить страшно, а допускать, утверждать это – жестоко, бесчеловечно, безбожно. И где же бы страдальцы, эти многие, бесчисленные страдальцы утешались? И где же бы мученики увенчались? И где бы подвижники упокоились? И где же бы праведные возрадовались?..
Непостижимо для тебя, слушатель, что по смерти будет другая, и притом вечная, жизнь, а для меня еще непостижимее, если ее не будет. Что видимое нами солнце светить когда-нибудь перестанет, я могу себе представить: это солнце может быть заменено каким-нибудь другим светилом. Но чтобы люди когда-нибудь перестали вовсе существовать, этого вообразить нельзя, этому быть невозможно. Бытие жизни другой, вечной, ничем не заменимо. Нет, недаром нам все жить и жить так хочется: мы вечно будем жить. Недаром мы все радоваться и радоваться так любим: мы вечно будем радоваться.
Да, эта наша жажда жизни и радостей, жизни нестареемой, радостей непрестающих есть знак того, что мы сотворены Богом для жизни вечной, для радостей нескончаемых. Для этой одной жизни для чего бы Всеблагому нашему Творцу и вызывать нас из небытия? Для этой одной жизни к чему бы человеку и его дивная душа с ее высокими, дивными способностями, с ее вечной любовью ко всему вечному, святому, божественному? Так вот что это значит, что таковая наша жизнь здесь – начало только нашей жизни.
О, не скорби же, слушатель, что мы умираем, – мы и по смерти будем жить. Не бойся же за свои здесь радости, что они проходят, – мы и по смерти будем радоваться. Не приходи же в уныние от страданий, которые терпишь сам или терпят другие, – смертью кончатся всякие страдания и заменятся после радостями нескончаемыми. Не изнемогай духом и ты, трудящийся до изнеможения, до пота, до воздыхания, до слез, – отдохнем по смерти. Аминь.
23. Проклят, кто дело Господне делает небрежно (Иер. 48:10)
Кого это слово Божие поражает такой страшной угрозою? Кто сей, творящий дело Господне с небрежением?
Вы, слушатели, может быть, удивитесь, когда услышите, кого слово Божие поражает проклятием. Оно, во-первых, поражает проклятием священно– и церковнослужителей, когда они творят свое дело с небрежением, когда служат без всякого благоговения, читают и поют без всякого внимания. Ах, если кто должен все делать с благоговением, то это именно священно– и церковнослужители; и потому, если кто достоин проклятия за свое небрежение, так это более всех они.
Благоговение священно– и церковнослужителей, как благоухание фимиама, разливается более или менее по всей церкви; равно и небрежность их, как заразительная язва, более или менее отражается на всех стоящих во храме. Впрочем, слушатели, бойтесь осуждать священно– и церковнослужителей: каковы бы они ни были, все они ближе к Богу, нежели вы; тот Бога бесчестит, кто худое говорит о служителе Божием. Не судите других, а смотрите за собой, смотрите, как бы вам самим не быть осужденными. Слово Божие, поражая проклятием небрежных священно– и церковнослужителей, поражает проклятием небрежность и прочих христиан.
Да, слушатели, в храме Божием всякая небрежность и во всяком достойна проклятия. Ты не вовремя приходишь в храм или прежде времени уходишь из него и думаешь, что ничего? А разве это ничего, что тишину в церкви, спокойствие молящихся, внимание священнодействующих ты возмущаешь твоим безвременным приходом и уходом? Стоя в храме, ты разговариваешь, смеешься, смотришь по сторонам или другое что-нибудь делаешь непристойное – и это, по-твоему, все ничего же?
Ах, слушатель, мы и так мало внимательны к службе Божией, а ты еще не даешь нам слушать! Мы и так холодны к молитве, а ты еще и препятствуешь нам молиться! По крайней мере, хоть бы ты не во всяком месте и не во всякое время обнаруживал твою небрежность, а то не страшишься и Престола Божия, этого видимого жилища невидимого Бога, не страшишься и совершения Страшного Таинства, при котором и Ангелы стоят со страхом. Больно, слушатели, больно смотреть, как некоторые из христиан с каким-то бесстыдством стоят в церкви, когда прочие с благоговением возносятся умом своим горе, к Богу. Да зачем же и ходить в храм молитвы, когда не хочешь молиться? Зачем же и ходить в это училище благочестия, когда не хочешь ничего слушать? Ужели затем, чтобы мешать другим?
Достойно же и праведно слово Божие поражает проклятием небрежность стоящих в храме. Слушатели-христиане! Ангелы, смотря на Пречистую Деву, когда Она входила в храм, дивились и радовались. Будем и мы так входить и стоять в храме Божием, чтобы, смотря на нас, Ангелы радовались, а не плакали. Аминь.
24. Глас в Раме слышан, плач и рыдание и вопль велик; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет (Мф. 2:18)
Вы, конечно, слыхали, слушатели, что есть грехи, так называемые вопиющие на Небо. А знаете ли, какие это именно грехи и кто повинен в них?
Главный вопиющий на Небо грех есть беззаконное убийство: человеческая кровь всех громче вопиет на Небо, как глас крови Авеля, убиенного Каином. Но вот и это грех, тоже вопиющий на Небо, – когда кто вдову обижает, бедных притесняет, сирот угнетает. Вот и это такой же грех – когда кто своим рабам и работникам, своим подчиненным и подвластным должного не воздает или не отдает и чрез то страдать и бедствовать их заставляет. Вот и это грех, тоже вопиющий на Небо, – когда кто людей в крайности, в беде или под судом находящихся до того доводит, что они, бедные, при всей правоте и невинности принуждены бывают свое последнее, трудом и скорбью добытое, отдавать ему, чтобы выйти из крайности, чтобы избавиться от беды или освободиться от суда.
Теперь, слушатели, вы несколько можете понять, что такое вопиющие на Небо грехи; это те грехи, из-за которых ближние наши крайнюю нужду терпят во всем необходимом для жизни, бедствуют, страдают, плачут, вопиют; грехи, от которых им слишком тяжело, больно бывает до глубины души, до слез, до крови больно. Беззаконие этих грехов так противозаконно, противоестественно, гласно, очевидно, ничем не извинительно, что им, так сказать, неестественно, невозможно долго оставаться без наказания, и правосудный Бог, при всем Своем милосердии, не может не наказать за них людей ныне же, в этой жизни, не отлагая до жизни будущей.
Итак, христианин, вспомни, не плачет ли из-за тебя вдова какая, не ходят ли по миру из-за тебя нищие, сироты малолетние не обижены ли тобой. Смотри, ведь это грех, вопиющий на Небо, и Бог ныне же, в этой еще жизни накажет тебя за него. Вспомни, не страдает ли от тебя подчиненный твой, подвластный тебе, не бедствуют ли из-за тебя рабы твои или работники, смотри, ведь это грех, на Небо вопиющий, и Бог ныне же, в этой еще жизни, накажет тебя за него. Вспомни, не доводишь ли ты каких бедных или несчастных до того, что они из-за страха суда или беды, или крайности какой последний свой кусок или лепту свою последнюю, потом и кровью добытую, отдают тебе; смотри, ведь это грех, вопиющий на Небо, и Бог ныне же, в этой еще жизни накажет тебя за него.
И все мы, слушатели, будем всячески остерегаться, чтобы другие от нас не бедствовали, не страдали, не плакали, не вопияли; это страшный грех, вопиющий на Небо грех, когда от нас кто без всякой вины своей страдает, бедствует, плачет, вопиет. Аминь.
25. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. (Мф. 5:7)
«Господи, помилуй! – взываем мы к Богу при всякой нашей нужде в Нем. – Господи, помилуй!» Но сами милуем ли других? Если милуем, то Господь и нашу молитву услышит и нас помилует. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Милостивые будут помилованы. Где же? Где всего нужнее и всего дороже помилование, там и будут помилованы, именно на Страшном Суде Божием. Да, милостивые будут там помилованы, не будут наказаны, не будут осуждены на мучения. Милостыня грехи покрывает, может очищать всякий грех (Тов. 12:9). Милостивым Господь дает особенную благодать ко спасению; скорее они исправляются, скорее раскаиваются и во грехах не умирают, как умирают часто люди немилосердные. Впрочем, и до Страшного Суда, в этой еще жизни Бог много милует милостивых. Где бы следовало наказать их непременно бедами и нуждами, Бог не наказывает или скоро, иногда тотчас, неожиданно от беды избавляет и в нужде явно помогает. Милостивые даже от смерти неминуемой иногда избавляются (см.: Тов.12:9). Именно блаженны, счастливы милостивые.
Какие же милости должен делать милостивый? Всякие и всевозможные. Да, кому есть нечего, того накорми. Кто от жажды истаивает, того напои. Кому одеться не во что, того одень. Кто в темнице заключен, к тому сходи или милостыню вместо себя к нему пошли. Кто болен, того посети, сходи узнать, что ему нужно, выздороветь помоги или по-христиански умереть приготовь. Кому похорониться не на что, того похорони или нужное все для того припаси. Кому негде главы преклонить, не у кого приюта, покоя найти, того в дом свой прими или где-нибудь успокой. Это дела милости телесные.
А вот другие милости, милости для души, духовные. Грешника увещевай, чтобы он исправился и грешить перестал. Неведущего научи истине и добру. Человека в опасности предостереги, в беде, в затруднении – совет хороший подай. Если сам кому в чем помочь не можешь, у Бога помощи тому проси; впрочем, и помогая, за всякого молись. Кто в печали, в скорби, в унынии – того ободри, утешь, успокой. Кто зло тебе сделал, тому не мсти, не воздавай злом. Кто тебя обидел, тому прости.
Впрочем, всех способов милования не исчислишь и всех случаев для подания милости не означишь. Различен образ милования и широка заповедь сия, говорит святитель Иоанн Златоуст. Делай милости всякие, какие только кому нужны, и всевозможные, на какие только способен ты. И не только делай милости, но и говори милостиво, и смотри милостиво. Иному иногда взгляд твой ласковый нужнее всякой помощи, речь твоя сладкая – слаще меда, слово доброе – дороже золота.
К каким людям надобно быть милостивым? Ко всякому человеку будь милостив, ко всем, кому только нужна милость, никого не исключая и ни на что в них не взирая – ни на вид, ни на звание, ни на жизнь, ни на дела, ни на какие-либо недостатки. Кто ближе к тебе, кого первого узнаешь, увидишь, встретишь нуждающегося, тому первому и делай милости, тому и помогай скорее, тотчас, не раздумывая.
Если нуждающийся по виду или по званию, или по жизни, или по делам, или по другому чему-нибудь человек самый низкий, ничтожный, презренный и ни малейшей милости недостойный, то и к такому будь по возможности милостив, снисходителен, ласков. Ах, их-то, этих по мирскому, человеческому суду низких людей, не стоящих никакой милости, внимания, и надобно всевозможно миловать, успокаивать, потому что они всего лишены, лишены последнего утешения, последней милости – милостивого к себе от людей внимания, благосклонности, снисхождения.
Так, слушатель благочестивый, будь милостив ко всем, всегда, всевозможно, всячески: и делай милости, и смотри милостиво, и говори милостиво, и суди милостиво, и молчи милостиво. Конечно, нелегко быть милостивым иногда к иным людям, потому что есть такие, на которых и взглянуть не хочется, не только что помочь. Но за то и награда какая великая тебе, когда окажешь милость этим людям: вечная милость от Бога, вечное помилование от праведного Судии. Да, на всю вечность милость от милостивого Бога за твою иногда, можно сказать, минутную милость, за одно слово доброе, за один взгляд ласковый, за одно суждение снисходительное или молчание благосклонное, за один стакан воды жаждущему, за одну лепту, вовремя поданную нуждающемуся. Именно мзда многа!
Итак, не взывать только к Богу будем: «Господи, помилуй», но и сами будем других миловать, всячески миловать, тогда и Он нам сделает всякую милость и, что всего нужнее и всего дороже, на Страшном Суде нас помилует. Аминь.
26. И остави нам долги наши (Мф. 6:12)
И остави нам долги наша, то есть прости нам грехи наши. Кому же нам остави, прости, когда ты молишься и говоришь так иногда один? Кого другого тогда ты разумеешь? Молиться всегда надобно с разумом, со вниманием, разуметь и помнить надобно, о ком и о чем молишься. Итак, кому же нам остави, прости, когда ты молишься один? Или ты при этом никого, кроме себя, в мыслях не имеешь? Нет, надобно иметь. Кого же? Всех людей, знакомых и незнакомых, всех, особенно же присных по вере, близких по сердцу. И по закону любви мы должны о всех молиться, да и потому, что во грехах ближних наших, особенно близких нам, живущих или живших с нами и мы более или менее бываем виноваты. Все мы как спастись друг другу неприметно помогаем, так и грешить друг друга невольно учим. Мы у других многое перенимаем, а другие – у нас. Самый высокий праведник падением своим невольным может расположить других к вольным прегрешениям.
А ты, слушатель-христианин, иногда осуждаешь других, всем рассказываешь про их грехи, слабости и недостатки или сердишься, досадуешь на них за то. Нет, не осуждать, не сердиться, не досадовать, не рассказывать всякому, а жалеть, скорбеть про себя и молиться Богу ты должен о них. Может быть, ты и сам много виноват в этих их грехах, слабостях и недостатках. Ты говоришь: «Я из жалости говорю, от скорби досадую; мне жаль этого человека, что он так худо себя ведет, мне больно, что он так неисправен и нерадив или так горд и зол, или таким предан слабостям и порокам». Так ты не людям говори о нем, а Богу, не сердись, а молись, чтобы Господь Бог по Своей милости помиловал его и Своей благодатью помог ему одуматься, исправиться, измениться.
Да, вот для чего случается тебе видеть, знать, слышать о грехах ближнего, о его слабостях и недостатках, вот для чего Бог приводит тебя жить и общаться с людьми нехорошими, недобрыми – для того чтобы ты к Богу о них чаще взывал: заступи, спаси, помилуй и сохрани их и меня, Боже, Твоею благодатию. Нищий тебе навстречу попадается для того чтобы ты подал ему милостыню; грешника ты встречаешь или о грехах, слабостях и недостатках его слышишь – для того, чтобы ты помолился о нем Богу. Грех не подать нищему, бедному, которого увидишь; грешно не помолиться о порочном, худом человеке, про которого знаешь.
И что от этого пользы, что ты осудишь ближнего или посердишься, подосадуешь на него? Грех один. А если помолишься за него Богу, то большая будет польза тебе и ему. За твою молитву о нем Господь, может быть, вразумит, поддержит, сохранит его, и сам ты после молитвы и даже во время молитвы успокоишься и перестанешь осуждать, сердиться, досадовать. Да, хочешь хранить себя от осуждения, от гнева, от досады на других за их грехи и проступки, за их слабости и недостатки? Молись о них Богу – и сохранишь. Кому у Бога просишь благодати и милости, к тем и сам сделаешься милостивее, к тем и сам почувствуешь благорасположение.
Итак, слушатель благочестивый, когда ты молишься и говоришь: остави нам долги наша, то произноси эти слова с такой мыслью: «Прости, Господи, грехи мне и всем людям, близким и дальним, живым и умершим, особенно же тем, на которых я досадую, гневаюсь, которых осуждать я готов за их грехи и слабости, за их злость и злобу». Аминь.
27. Светильник для тела есть око (Мф. 6:22)
Начиная поучение мое к вам, слушатели, я, оградив себя крестным знамением, сказал: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Что это значит? Для чего это? Для того чтобы дать знать, с какой мыслью хочу говорить поучение. Да, мы все должны делать с мыслью. Дела наши получают достоинство от того, с какой мыслью они нами делаются. Если что мы делаем с мыслью чистой, святой, то наше дело свято, а если мы делаем с мыслью нечистой, греховной, то дело наше греховно, как бы по-видимому ни было оно свято.
В церковь Божию, например, ходить есть дело святое; но кто ходит для того, чтобы себя здесь другим показать, с кем-нибудь увидеться, поговорить или с другими нечистыми мыслями, тот грешит только, что за этим ходит сюда. Милости другим делать, милостыню нищим раздавать, в церкви, в монастыри и на другие богоугодные дела жертвовать – дело тоже святое, доброе; но кто делает все это с той мыслью, что его все за то будут хвалить или отличиями награждать, или с другими подобными корыстными видами, того милосердие – одно лицемерие, и жертвы – медь звучащая или кимвал звенящий. И какое из святых дел наших остается в нас святым, когда, делая его, мы помышляем в сердце своем злое, когда имеем в виду что-нибудь нечистое, корыстное, греховное? Так, светильник для тела есть око. Отличие дела от мысли: мыслью дело освящается, мысль делу дает значение.
Какие же именно мысли мы должны иметь, чтобы дела наши были святы? Первая и главная мысль всегда должна быть у нас одна: мы должны все делать для того, чтобы Богу угодить, волю Его исполнить, имя Его прославить. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа: так научены мы Святой Церковью все начинать. Да святится имя Твое, да будет воля Твоя… – так научил нас Сам Господь всегда мыслить, желать и молиться. Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки, аминь. Или: слава Тебе, Боже! – так научены мы все оканчивать. Я делаю это для того, чтобы волю Господа Бога моего исполнить, имя Его прославить. Или, волю Господа Бога моего исполняя, имя Его прославляя, я это делаю – вот единственная святая мысль, с которой мы должны все делать. Свято только то, что Богу нами посвящается, что ради Бога нами делается.
При этой главной мысли можно иметь и другую мысль, подобную ей, сродную с нею, относящуюся собственно к нам самим, к нашему счастью, к нашему спокойствию и преимущественно к нашему вечному спасению. Делая это дело, я делаю нужное, полезное, спасительное для себя и для ближних или делаю для того, чтобы оно послужило в пользу, во спасение мне и другим – вот мысль вторая, которую мы должны иметь в уме при наших делах. Бог наш того именно Себе и желает от нас, что для нас спасительно, в том и славу Свою поставляет, чтобы мы все были счастливы, спокойны, блаженны, всегда спокойны, вечно блаженны. Научив нас взывать к Нему: да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, Он научил к этому прибавлять: Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша… и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Так, когда идешь в церковь Божию, имей в мыслях своих: я иду Богу молиться, Бога славить, Бога благодарить, слово Его слушать, а вместе – просить у Него милости и благодати, мирных и премирных благ себе и ближним. Когда жертвуешь в церковь, подаешь на свечу, на ладан, на устроение и украшение и на другие ее дела и потребности, имей в мыслях своих: я жертвую это Богу, чтобы Господь, приняв сию жертву в пренебесный Свой жертвенник, в воню благоухания духовного, ниспослал мне благодать Свою и помянул всех – и близких мне и дальних, живых и умерших, в Царствии Своем. Когда милость кому делаешь или милостыню раздаешь, или другие какие делаешь дела милосердия и благотворения, имей в мыслях своих: я делаю это ради Бога, во имя Его, а вместе и для того, чтобы Господь явил мне милость Свою и ближним моим, живым и умершим, чтобы первым подал здравие и спасение, последним – прощение грехов и упокоение со святыми.
С подобными мыслями и все делай – и тогда дела твои будут всегда чисты, святы пред Богом и спасительны для тебя. Так мы можем и должны при делах своих иметь в виду и себя самих, свою пользу и спасение, равно пользу и спасение ближних. Но первое и главное, что должно быть всегда у нас на уме, это одно – Бог, Его воля, Его слава, Его закон, Его имя, так чтобы нам и самих себя, и друг друга, и всю жизнь свою Ему посвящать, чтобы душой и телом Ему служить, Его прославлять, Ему благоугождать.
Да и всего желать, и всего просить себе у Бога мы должны – всякой благодати и милости, здравия и спасения, прощения и оставления грехов, и все иметь у себя мы должны, всякий дар совершенный и всякое дарование свыше, для того единственно, чтобы удобнее, вернее, святее могли мы исполнять Его волю, чтобы, спасени душею и телом, с дерзновением могли мы славить Его имя. Самого вечного спасения себе и другим мы должны желать, просить, достигать для того единственно, чтобы нам всем вечно творить Его всеблагую волю, вечно славить Его пресвятое имя. В прославлении Его имени, в исполнении Его воли как вся наша святость состоит, так и все наше спасение, все наше блаженство заключается.
Итак, слушатель, прежде нежели приступишь к какому делу, подумай сначала, спроси себя самого так: для чего хочу я это делать, для Бога ли? Если дело такое доброе, законное, богоугодное, то так и старайся направить мысль свою: я буду это делать для Бога, для того, чтобы волю Его исполнить, имя Его прославить. Эта мысль – волю Господа моего я исполняю, имя Господа моего я прославляю – эта святая мысль будет освящать твое тело, оживлять твои силы, укреплять, ободрять, радовать и утешать тебя в твоем делании.
Если же дело твое не богоугодное, недоброе, греховное, то при вопросе, для чего ты хочешь, будешь это делать, для Бога ли, ты остановишься, не решишься его делать. Худого дела для Бога делать нельзя. Ах, и от скольких худых дел мы удержались бы, если бы приступали ко всякому делу с мыслью о Боге, с вопросами: что побуждает меня это делать; какая есть на это заповедь Божия; что из этого выйдет, чем это кончится; какая от этого слава Богу? Когда у нас Бог на уме, тогда от нас, как от огня, убежит все худое, всякая злая страсть.
Так, светильник для тела есть око, а нам при наших делах да будет светильником Бог, Его воля, Его слава, чтобы все нам делать во имя Отца и Сына и Святаго Духа, чтобы таким образом все дела наши были чисты и святы пред Богом. Аминь.
28. И будете ненавидимы всеми за имя Мое (Мф. 10:22)
Иисус Христос, когда посылал учеников Своих на проповедь, говорил им, между прочим, что их будут все ненавидеть за имя Его. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Так действительно и было, всеми они были ненавидимы за имя Его. За имя Его… Как это за имя Его? За то, что они были Его ученики и апостолы, что Его именем назывались, что Его почитали, что Его учение проповедовали, о Нем говорили.
Всеми ненавидимы. Кем – всеми? Всеми, разумеется, теми, которые в Иисуса Христа не веровали, которым веровать в Него и жить по Его учению не хотелось, которым посему видеть и слышать учителей и почитателей Его было неприятно, тяжело, противно, нестерпимо.
Ужели же за то только одно всеми были ненавидимы ученики и апостолы Иисуса Христа, что они ученики и апостолы Его, что чтили Его, проповедовали о Нем? Да, так. Сами по себе ученики и апостолы Христовы были люди добродетельнейшие, честнейшие по жизни и чистейшие по душе. Ненавидимы были они именно за то только одно, что Иисуса Христа почитали, Иисуса Христа проповедовали. Странно – ненавидят лиц совершенно невинных за имя Иисуса Христа, имя единое благословенное вовеки! Однако же так было, так было с первыми учениками и апостолами Христовыми. Так было и после со всеми, кто почитал Иисуса Христа, кто проповедовал, учил о Нем; всегда и везде эти люди были ненавидимы, презираемы, гонимы – и именно за то единственно, что они почитали Иисуса Христа, учили, проповедовали о Нем.
Так было, а частью так есть и доселе. Да, и доселе есть у некоторых какая-то ненависть к почитателям Иисуса Христа, к учителям и проповедникам Его; может быть, даже есть она у некоторых и из нас, несмотря на то что мы все христиане.
Слушатель-христианин! Не бывает ли иногда и у тебя чего-нибудь похожего на эту ненависть к почитателям Иисуса Христа, особенно к учителям Его, к пастырям Его Церкви? Тебе неприятно, досадно иногда бывает видеть лиц духовных, встречаться с ними, быть вместе, говорить или сидеть с ними?.. Обрати внимание на это свое чувство, разбери его беспристрастно: отчего оно в тебе?
Смотри, не оттого ли, что они напоминают тебе об Иисусе Христе, что говорят о Нем, имя Его повторяют, крестом Его знаменуются, даже когда молчат, все как будто напоминают об Иисусе Христе своим видом, своим одеянием, напоминают, учат, чтобы ты жил по Его учению, честно и чисто, помня Бога и не забывая будущей жизни, а тебе жить так не хочется, напоминание об этом неприятно – словом, не за то ли ненавидишь ты их, за что ненавидимы были почитатели и ученики Христовы, то есть за имя Его?
Ты, без сомнения, с негодованием отвергнешь это. Ты говоришь: напротив, если я ненавижу кого из этих лиц, то скорее за то, что они злоупотребляют именем Иисуса Христа, что они лицемерно почитают Его и учат о Нем, что они себя только показывают истинными христианами, представляют только из себя святых, набожных и делают это больше из видов корыстных, чтобы их самих за это почитали, уважали…
Но почему все это ты знаешь? Впрочем, допустим, предположим, что действительно я таков, какими кажутся тебе эти лица, что я по виду только ученик Христов и почитатель, что я действительно показываю только себя христианином, только представляю из себя человека набожного, святого и делаю это, может быть, действительно из нечистых, корыстных видов, чтобы меня почитали, уважали. Но за что же, однако, поэтому ненавидеть меня? Почтения и уважения я не стою, по твоему внутреннему убеждению. Ты и не чти, не уважай меня, не делай против убеждения своего. Но зачем же ненавидеть, зачем презирать меня, гнушаться?.. Если я не истинный христианин, все же я человек. Ненависть ни к какому человеческому лицу непохвальна, неизвинительна. А как прискорбна и тяжела она для всякого, кому приводится часто быть предметом ее! Да, я, как человек, чувствую очень, как это тяжело.
Признаюсь, тяжело, больно, до глубины души больно – знать, слышать, даже видеть, что тебя видимо ненавидят, явно тобой гнушаются, очевидно тебя презирают; тяжело, больно мне это, потому что я человек. Ты действуешь по убеждению, но ведь и я убежден, по крайней мере, в том, что я человек. Докажи, что я не человек, а если я человек, за что же ты меня ненавидишь?..
Как человек, я нередко разбираю, за что, в самом деле, нас духовных ненавидят некоторые, и как ни разбираю, никакой не вижу причины, за что бы следовало нас ненавидеть. Никакой, кроме разве той, что мы почитаем Иисуса Христа, что мы пастыри и учители Церкви, что мы о Нем говорим, о Нем напоминаем, напоминаем собой, своим видом, своим одеянием.
Итак, ужели, в самом деле, нас ненавидят ныне именно за имя святое, за которое ненавидимы были почитатели Его всегда, начиная с первых учеников и апостолов Его?.. О, в таком случае я спокоен, и мне нимало не тяжело быть ненавидимым. Не смею я о том радоваться с апостолами, что меня ненавидят за имя Господа Иисуса, но все же я спокоен. Да, слушатель-христианин, рассуди, разбери, узнай хорошенько причину своей неприязни, ненависти к некоторым лицам; узнай, не за имя ли Иисуса Христа ты ненавидишь их. Ненависть ни к какому лицу не похвальна и ни по каким причинам не извинительна, а за имя Иисуса Христа – она страшна, ужасна, безбожна.
Да сохранит тебя от нее Господь Бог! Аминь.
29. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11:28)
Слушатели-христиане! Спокойны ли вы? Не тревожит ли вас что в жизни? Не тяготят ли душу грехи совести? Семейство не обременяет ли? Болезнь не мучит ли? Дела у вас не идут ли худо, по службе не несчастливы ли? Словом, отчего-нибудь и почему-нибудь не беспокоитесь ли, при всех ваших усилиях, стараниях, трудах, занятиях?
Если так, то почему в таком случае не хотите вы искать успокоения себе у Иисуса Христа? Вот, Он всех обещается успокоить: Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Или вы не знаете, не понимаете, как может успокоить вас Иисус Христос? Для чего же вам знать и понимать это? Положитесь на Него, поручите Ему успокоить вас.
Итак, станешь ли, христианин, отселе во время всякой тревоги, беспокойства, огорчений искать спокойствия себе у Иисуса Христа? Будешь ли в минуты сомнений, недоумений, колебаний обращаться к Нему? Или ты все еще не решаешься, все еще не вполне убежден, что Он тебя успокоит? Странный ты человек! Ведь стараешься же ты сам себя чем-нибудь успокоить. Выдумываешь же разные способы для своего успокоения. Так чем тебе трудиться выдумывать что-нибудь самому для своего спокойствия, поручи это сделать для тебя Иисусу Христу.
Ты, например, согрешил в чем-нибудь, совесть тревожит, мучит тебя; и вот ты, желая себя успокоить, выдумываешь для успокоения своей совести: да ведь как удержаться от греха, ведь это не важный грех, да ведь я ли один грешу, ведь люди и высшие тоже грешат, да ведь это неизбежный грех, без этого греха прожить нельзя… Таким и другим способом ты себя стараешься успокоить. Зачем тебе трудиться успокаивать себя таким образом? Ты к Иисусу Христу обратись и скажи: Господи! Я согрешил, помоги мне воздержаться от греха.
Зачем говоришь: как не согрешить, нельзя не согрешить? А говори Богу: согрешил я, Господи! Прости меня, грешного. Положим, что ты себя можешь успокоить сам как-нибудь, но твое это спокойствие непродолжительно и греховно: грех каким-нибудь грехом же ты прикрываешь только. Но Иисус Христос и спокойствие тебе доставит, и грехи твои загладит, Он и боль греховную уймет, и рану греховную заживит.
Возьмем еще другой пример. У тебя дети, ты стар становишься или болен опасно и потому скоро можешь умереть. Что будет с моими детьми, говоришь ты. И вот начинаешь тревожиться, беспокоиться. Ну что тревожиться, к чему беспокоиться? Поручи детей своих Иисусу Христу, приведи их с собой к Нему – и тогда и ты успокоишься, и они проживут спокойно, при тебе ли, без тебя ли.
Указывать ли вам другие случаи, где мы вполне можем успокоиться, если только будем искать спокойствия в Господе нашем Иисусе Христе? Что указывать? Во всех случаях, когда только беспокоитесь, обращайтесь к Иисусу Христу. Если бы даже беспокойство наше происходило от неудовлетворения какого-нибудь желания греховного, то и в таком случае надобно к Иисусу Христу обращаться.
Например, ты любишь наряды, рядиться тебе не во что – и вот ты скучаешь, беспокоишься, досадуешь. Зачем тебе так делать? Ты обратись к Иисусу Христу и мысленно скажи Ему: Господи, меня беспокоит то, что мне хочется нарядов, а рядиться не во что. Так скажи, и Господь успокоит, истребит в тебе это суетное твое желание. Ты честолюбив или завистлив: другие получают награды, а ты нет, другие богатеют, а у тебя все мало, и вот ты досадуешь. Что досадовать? Обратись к Иисусу Христу и скажи Ему: мне хочется богатства, славы, почестей, это желание меня мучит, беспокоит. Успокой меня, Господи! И Он сделает тебе так, что ты и без богатства, без славы и почестей будешь спокоен.
Итак, при всех ваших беспокойствах, от чего бы они ни происходили, будем обращаться к Иисусу Христу. Иисус Христос обещается нас успокоить, говорит, что всех успокоит. А слово Божие всегда верно, и обещание Его во всем непреложно. Аминь.
30. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную (Мф. 19:29)
Итак, ужели всякому из нас непременно надобно оставить дом, братьев, сестер, отца, матерь, жену, детей и все имение? Мало этого – оставить, надо, как говорит Спаситель, возненавидеть отца своего и матерь, и жену, и детей, и братьев, и сестер, если хотим спастись.
Есть в жизни случаи, при которых непременно должно оставить отца, матерь, жену, детей, братьев, сестер и все имение. Известно, что на пути ко спасению враги человеку домашние его. Вспомните притчу о званных на вечерю. Все эти званные отказывались от вечери, то есть от вечного спасения, именно по домашним обстоятельствам и семейным делам. Один говорил: я село купил и имею нужду видеть его, и потому мне некогда – некогда заняться спасением души. Другой говорил: я волов купил, надо их испытать, и потому некогда – некогда попещись о спасении. Третий говорит: я женился и не могу оставить жену.
Не то же ли бывает и ныне, когда требуется исполнять дела благочестия? Как часто люди принуждены бывают отлагать нужное для своего спасения, чтобы заняться тем, чего требуют хозяйственные заведения, дом, соседи, друзья, жена, дети и домашние? Да пусть бы все это затрудняло нас только на пути ко спасению. Нет, все это иногда ведет нас совсем на противный путь погибели. Хозяйство нередко у многих превращается в любостяжание, обидное для ближних, домоводство у иных соделывается удручением рабов и прислужников, хлебосольство становится роскошью и невоздержанием, слепая привязанность к жене и детям производит потачку их прихотям и разврат в их поведении.
Не говорю уже о том, что иногда, чтобы соблюсти правила светского приличия, надобно льстить, притворяться, обманывать и двоедушествовать, чтобы удовольствовать и насытить друзей, надобно иногда домашних лишить нужного, чтобы нарядить жену, надобно иногда входить в долги и разоряться, чтобы воспитать детей, надобно иногда праведными и неправедными средствами приобретать богатство. Но если бы какой хозяин, супруг или отец не захотел этого делать, то мир обругает его, сами домашние, жена и дети возненавидят его.
Итак, можно ли спастись тому, кто захочет угождать и им? Но ведь было же много святых, которые не оставляли родителей, имели жен и детей, занимались хозяйственными делами? Так, это правда. Но их родители не развращали, а наставляли в страхе Божием и добродетели. Их жены не отягощали своими прихотями, а разделяли с ними честные труды и попечения. Их дети не огорчали своим распутством, но веселили благонравием. Домашними делами они занимались так, что не забывали Бога и благочестия. И в этом случае они согрешили бы, если бы возненавидели, оставили их.
Итак, надобно любить отца и мать, жену и детей, заботиться о близких, заниматься домом, если все это не препятствует нам любить Бога, заботиться о своем спасении, заниматься благочестием. А если отец и мать, жена и дети, дом и близкие препятствуют нам любить Бога, отвлекают нас от спасения, требуют незаконного, в таком случае надобно их оставить, то есть не обращать на них внимания, возненавидеть их, как ненавидит отец любимого своего сына, когда тот требует чего-нибудь незаконного, вредного.
Еще прямее выразимся: если отец и мать, жена и дети, дом и близкие не дают нам заниматься спасением души, то мы должны их оставить. Если же они не препятствуют нам заниматься спасением души, то грешно и беззаконно оставлять их, хотя бы это было для спасения души. Аминь.
31. Злодеев… предаст злой смерти (Мф. 21:41)
Один хозяин развел виноградник, устроил его как следует, сделал все нужное для него, отдал виноградарям, а сам отлучился в свое место.
Когда же пришло время собирать плоды, послал он служителей своих к виноградарям собрать у них плоды. Но виноградари всех служителей побили, а иных и убили. Хозяин послал других, больше прежнего, но виноградари и с теми поступили точно так же. Наконец, послал он сына своего – пожалеют, побоятся, посовестятся, постыдятся, думал он, убить сына. Но они и сына убили – чтобы после него, как они говорили, завладеть наследством, имением.
Это, слушатели, притча Иисуса Христа к первосвященникам и фарисеям иудейским. Сказав ее, Иисус Христос обратился к ним и спросил их: когда придет хозяин виноградника, что сделает с виноградарями теми? Говорят ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник поручит другим (см.: Мф.21:33–41).
Будем смотреть на это происшествие не как на притчу, а как на действительное событие, потому что и на деле так бывает, может быть.
Как это виноградари не боялись бить и убивать служителей своего хозяина? Как не пожалели, не посовестились, не постыдились убить, наконец, и сына его? Жадны, корыстолюбивы они были, чужим завладеть хотели, а у людей жадных и корыстолюбивых ни жалости, ни опасения, ни стыда, ни совести не бывает, когда они задумывают, хотят чем-нибудь завладеть, воспользоваться и что-нибудь приобрести.
Корыстолюбивые, жадные до прибыли, до выгод, до приобретений всегда таковы. Им бы лишь приобрести побольше, неважно каким способом. Обидеть, притеснить, вынудить, обмануть, присвоить чужое, взять не должное, недодать или вовсе не отдать – все это и прочее тому подобное люди жадные и корыстолюбивые грехом большим не считают. Эти жадные и корыстолюбивые всегда таковы; зато и конец их всегда таков же, одинаков – сами они, как злые, умирают злой смертью, исчезают с лица земли, как прах, и имение их, как злом приобретенное, после их смерти, а иногда еще и при жизни зле гибнет, идет по ветру и ветром разносится, подобно праху, пыли. Да, делать другому зло в жизни – значит готовить себе злую смерть и брать чужое – значит вносить огонь в свой дом.
Слушатель-христианин! Подумай о себе: как ты приобретаешь то, что имеешь? Без сомнения, ты ведь что-нибудь приобретаешь и что-нибудь имеешь у себя. Надобно чем-нибудь жить всякому, а потому трудиться приобретать что-нибудь должны все. Итак, как ты приобретаешь? Смотри, не обижаешь ли, не обманываешь ли других, чужого не присваиваешь ли, недолжного тебе не берешь ли, платы не удерживаешь ли, не отягощаешь ли, не притесняешь ли, не слишком ли много наживаешь при малых твоих трудах и занятиях, не слишком ли богато живешь при ничтожных твоих средствах? Словом, не приобретаешь ли ты себе чего-нибудь так, как приобретают жадные, корыстолюбивые люди? Совесть твоя чиста, ни в чем тебя не упрекает? Ах, и совести своей не во всем верь, не всегда верь. У людей жадных и корыстолюбивых ни стыда, ни совести не бывает, когда они получить что захотят. Да, никакая, кажется, страсть так не ослепляет людей, как эта жадность, это желание иметь побольше, жить получше, подовольнее, побогаче.
Итак, слушатель, как ты приобретаешь то, что имеешь? Не так же ли, как приобретают корыстолюбивые? Если не все законно, не всегда праведно, не все трудами честными, иногда с обидой, с отягощением, с притеснением других, то бойся участи злых корыстолюбцев. Конец всех жадных и корыстолюбивых всегда одинаков. Он таков: сами они умирают злой смертью, исчезают с лица земли, как прах, и имение их по смерти их, а иногда и при жизни их погибает, идет по ветру, ветром разносится, подобно праху.
Эта истина – вечная, непреложная: злые злой смертью умирают, злом приобретенное во зле погибает. Аминь.
32. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! Или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне (Лк. 10:40)
У Марфы был настоящий праздник, когда посетил дом ее Иисус Христос, и она, желая получше угостить Иисуса Христа, все хлопотала, суетилась, и не только сама не слушала, чему Он учил, но и сестру свою Марию хотела отвлечь от слушания слова Божия, чтоб та помогла ей.
Так проходят праздники Господни у многих из нас, слушатели. Вместо того чтоб идти в праздник в церковь помолиться Богу и послушать слова Божия, многие дома остаются, хлопочут, суетятся, иногда сердятся, досадуют на других, чтобы ради праздника Господня приготовить обед получше. И не только сами остаются дома, но и других, домашних своих, служащих своих не пускают, чтобы они помогли им в приготовлении стола.
Для праздника обед, конечно, нужен получше повседневного, но ты так распоряжайся, чтобы приготовление обеда твоего не отвлекало тебя и других от церкви Божией. Говорят: нельзя, мне некогда приготовить.
Некогда приготовить? Если действительно некогда, то лучше в праздник быть без праздничного обеда, чем без обедни. Праздник в том и состоит, чтобы в церкви Божией в день этот Богу молиться и слово Божие слушать. А многие думают и поступают наоборот: лучше готовы остаться без обедни, чем без обеда. Если ты ради праздника приготовишь обед хороший, а в церкви не побываешь и других не пустишь, то у тебя не будет праздника, ты погубишь праздник свой, праздник Господень променяешь на обед хороший. Да, грех тому и садиться за стол праздничный, кто в праздник не бывает за обедней.
Так, слушатели, особенно вы, занимающееся делами домашними, не оставайтесь дома в праздники ради приготовления праздничного обеда; распоряжайтесь так, чтобы приготовление обеда не препятствовало вам быть в церкви за службами. Лучше оставайтесь вовсе без праздничного обеда, но никогда не оставляйте обедни ради обеда. По крайней мере, если самим нельзя почему-либо идти, то других домашних отпускайте, посылайте в церковь Божию, чтобы они и за вас там Богу помолились и, таким образом, принесли бы из дома Господня к вам в дом праздник Господень. Аминь.
33. Да святится имя Твое (Лк. 11:2)
Бог свят, имя Его свято. А в молитве Господней мы просим: да святится имя Твое. Итак, о чем мы через это молим? Какой святости Богу желаем? Славы святости Его желаем, известности имени Его просим. Имя Божие, святое само по себе, на земле не всегда свято, не у всех свято, то есть не всем известно, ведомо, не для всех похвально.
Не свято имя Божие, например, у язычников, потому что они не знают истинного Бога. Не свято имя Божие у еретиков, потому что они не так знают, не так почитают Его, как должно, или забывают, не помнят Его. Не свято имя Божие бывает и у нас, православных, когда мы, зная и почитая Его, мало веруем в Него и не всегда живем свято.
Итак, говорим: да святится имя Божие, чтобы все люди знали, поминали, помнили Бога, чтобы узнали Его язычники, чтобы вспомнили Его еретики, чтобы и мы, христиане, все твердо веровали в Него и всегда помнили Его. Да святится имя Твое: да будет всем известно, да будет всем ведомо имя Твое. Да знают все, что Бог – дух вечный, вездесущий, всемогущий, праведный, всеблагий, премудрый.
Почему этого надобно желать и просить? Потому что от этого живот вечный наш зависит, в этом жизнь души нашей состоит. Душа, не знающая Бога, мертва, во тьме и сени смертной. От этого знания зависит мир всего мира, благоденствие всех существ, а равно мир, спокойствие и всякого человека. О, как мы были бы всегда спокойны духом, если бы твердо веровали в Бога и всегда помнили Его! Как было бы хорошо, спокойно и в мире, если бы все общества, все державы знали Бога и помнили и не забывали Его! Тогда не было бы никаких браней и нестроений в мире.
Отчего турки угнетают христиан? Оттого, что Бога не знают. Истинный Бог – не ведом им. Имя Божие не известно у них. Отчего союзники их вооружились против нас? Оттого, что они Бога не понимают, не знают, как должно, не помнят Бога, забыли Его. Отчего мы сами бываем часто неспокойными, малодушными? От маловерия.
Господи, да святится имя Твое у турок, да святится имя Твое у англичан и французов, да святится имя Твое у всех врагов нашего отечества! Просим и молимся Тебе, Господи, чтобы враги наши узнали Тебя, вспомнили Тебя. При свете Твоем они успокоятся и другим покой дадут.
Да святится имя Твое и в нас, Господи! Просим и молимся Тебе, чтобы мы твердо веровали в Тебя, чтобы свет веры Твоей всегда светился в нас. При вере в Тебя ничто для нас враги – видимые и невидимые.
Слушатели-христиане! Вы желаете, молитесь, чтоб имя Божие святилось. Но знаете ли, чем всего больше святится имя Божие? Святыми делами, святой жизнью святится оно. Ты желаешь, молишься, чтобы имя Божие святилось, чтобы другие узнали Бога, помнили Его, веровали в Него, – действуй честно, старайся вести себя всегда так, чтобы и в словах, и в делах твоих видна была святость Божия, чтобы видно было всем, что ты Бога знаешь, поминаешь и помнишь, – и тогда будет святиться имя Божие и другие узнают Бога, вспомнят и уверуют в Него.
Царица Небесная, Мати Господа Вышнего! Помолись о нас, чтобы Господь услышал нашу грешную молитву, чтобы имя Сына Твоего и Бога везде и у всех святилось, чтобы и враги наши узнали и вспомнили Его. Аминь.
34. Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его (Лк. 11:28)
Однажды случилось Иисусу Христу прийти в одно селение. Тут женщина по имени Марфа, приняла Его в дом свой. У нее была сестра, по имени Мария, которая села у ног Иисусовых и слушала слово Его. Марфа же много заботилась об угощении и, подойдя, сказала: Господи! Или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус сказал ей в ответ: Марфа, Марфа! ты заботишься… о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее (Лк.10:38–42).
Случилось, когда Иисус Христос говорил слово, некоторая женщина из народа, возвысив голос, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, питавшие Тебя. Он же сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его (Лк.11:27–28).
Слушатели-христиане! Иисус Христос пришел к Марфе в дом для того, без сомнения, чтобы откушать хлеба-соли. Но когда подавали, по обыкновению, на стол, Он говорил слово, поучение, и Мария, сестра Марфы, с таким вниманием слушала Его, что все забыла, забыла и о том, что надобно позаботиться об угощении Гостя. Почему Мария так внимательно слушала Иисуса Христа, что и о хлебе забыла? Потому что Иисус Христос так говорил, как никто из людей говорить не может. Из уст Его исходила благодать, слово Его слаще меда, поучение Его вкуснее всякой пищи. Счастлива Марфа, что удостоилась принять в дом свой Иисуса Христа, но еще счастливее сестра ее, что удостоилась слышать слово Божие из уст Иисуса Христа.
Слушатели-христиане! Как всякий из нас может слушать слово Божие из уст Иисуса Христа? Слушая и читая Святое Евангелие. Да, апостолы в своих посланиях, пророки в своих пророчествах говорят об Иисусе Христе, во имя Иисуса Христа. Но в Евангелии говорит Сам Иисус Христос.
Вот потому-то, слушатели, каждому из нас непременно бы следовало иметь у себя в доме книгу Евангелие. Всякий христианин имеет в доме иконы святые, точно так же необходимо всякому христианину в доме и Евангелие Святое. Только надобно, чтобы книга Евангелие так же чтима была нами и в доме, как чтим мы святые иконы. Где святая икона Иисуса Христа стоит у нас, там должно стоять и Его Святое Евангелие. Видите, на каком святом месте лежит Евангелие у нас в церкви, – на самом святом, на святом престоле.
Вот особенно почему всякому христианину непременно нужно учиться грамоте – чтобы всякий мог сам читать Святое Евангелие. Да, и для этого одного, чтобы всякому самому уметь читать Святое Евангелие Господа и Спаса нашего, стоит всем учиться грамоте.
Счастлив дом, в котором есть книга Святое Евангелие, – домашние, значит, могут видеть у себя Иисуса Христа. Но еще счастливее тот из домашних, кто умеет читать Святое Евангелие, – он, значит, может слышать Самого Иисуса Христа, беседовать с Ним.
А знаете ли, слушатели, что всех счастливее – слушающие и хранящие слово Божие. Слушающие могут быть блаженными, а хранящие уже блаженны. Аминь.
35. Но скажу вам, кого бояться (Лк. 12:5)
В жизни мы многого боимся: дня, кажется, у нас не проходит без того, чтоб мы чего-нибудь не боялись. Но боимся мы большей частью все не того, чего должно. Чего должно бояться? Греха одного, одного того надобно бояться, чтоб Бога грехом не оскорбить, чтобы заповедей Его не преступить. Да, все мы и все наше в руках Божиих, в Божией власти. Кто же у тебя отнимет без Божия попущения, и кто может что-либо дать тебе без Его соизволения? Если Бог захочет что дать тебе, кто может Ему воспрепятствовать? Если Бог захочет что отнять у тебя, кто может остановить? Что тебе бояться разных потерь, лишений, неудач, огорчений, неприятностей, когда Бог обо всем, что тебе нужно, печется. Бог за всем, что тебе принадлежит, смотрит и так отечески печется и так внимательно смотрит, что видит, когда и волос с головы твоей упадет.
Итак, что бояться тебе чего-нибудь, когда ты у Бога, как дитя в объятиях матери? Спишь ли, встаешь ли, сидишь ли, едешь ли, живешь ли, умираешь ли, Господь все с тобой, все при тебе. Поэтому никогда не бойся. Одного бойся, чтобы Бога не оскорбить, бойся, чтобы заповедей Его не преступить. Кто греха не боится, тот всего должен бояться, ибо лишается всего: милости Божией, Божией благодати, Божия благословения, Царства Небесного, если не покается. Вечно будет мучиться в геенне огненной, вечно будет там каяться, если здесь не покается.
Итак, Бога бойся, чтоб не согрешить против заповедей Божиих. Если ты не будешь преступать десять заповедей Божиих, то тебе нечего бояться, хотя бы тысячи неприятностей тебе угрожали, хотя бы все люди тебя обвиняли, потому что тогда Господь будет с тобой и за тебя. Да, слушатели, Бог Сам нашим хранителем бывает, когда мы Его заповеди храним.
Итак, вот чего бойтесь: бойтесь греха, бойтесь, чтоб Бога не оскорбить, чтоб заповедей Его не преступить, а прочего ничего не бойтесь. Господь от всего сохранит вас: если не от всех бед, то во всех бедах сохранит. Аминь.
36. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец (Ин. 10:11)
Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец – что это значит? Заботясь о спасении других, пастырь добрый трудится изо всех сил и готов душу свою положить за них, то есть умереть готов.
Ужели есть люди такие добрые, что умереть готовы за других? Св. апостол Павел больше готов был сделать, чем умереть: он желал быть сам отлученным от Христа, если бы того потребовало спасение братьев его, сродников по плоти (см.: Рим.9:3). Св. пророк Моисей подобное апостолу Павлу готов был сделать. Моля Бога о прощении греха израильтянами, он говорил: прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей (Исх. 32:32). Да, есть, бывают люди такие добрые, что готовы положить свою душу, готовы умереть и умирают за других, ради их спасения или ради их спокойствия.
Что же заставляет этих людей умирать за других, что их побуждает, что располагает к тому? Как назвать это чувство, которое доводит человека до того, что он ничего не щадит, ничем не тяготится, всем собой жертвует для других? Любовь – это чувство. Да, любовь доводит человека до того, что он ничем не тяготится, ничего не щадит, все отдает, всем жертвует для других. Любовь в человеке – такое сильное и сладостное чувство, что при ней все прочие чувства слабеют, умолкают, как бы не чувствуются.
Оттого человеку при любви и не жаль ничего, и не тяжело ничто. Напротив, это его радует, когда он отдает, переносит, терпит для других. Трудности и препятствия, скорбь, тягота, гонение, глад, нагота, огонь, меч, которые грозят, предстоят ему тогда, увеличивая его любовь, усиливая ее пламя, увеличивают его радость, его блаженство. Оттого так весело люди идут на смерть из любви к другим. Да, в горькой смерти за других, в смертельных мучениях за ближних есть какая-то сладость особенная, неизъяснимая, неизглаголанная. Оттого-то и мы такие сладкие слезы проливаем, когда слышим или читаем о ком-нибудь, что он пожертвовал собой для других. Оттого-то мы так любим и чтим всех умирающих за ближних.
О, будь, слушатель-христианин, будь как можно добрее к другим, старайся делать все для них, для их спасения или спокойствия. Будь готов в случае нужды и душу свою за них положить: в такой любви великое блаженство. Аминь.
37. Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! Любишь ли ты Меня больше, нежели они?.. Еще говорит в другой раз: Симон Ионин! Любишь ли ты Меня?.. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! Любишь ли ты Меня? (Ин.21:15–17)
Слушатели-христиане! Любите ли вы Иисуса Христа? О, любите Его, всей душою любите, больше всего на свете любите.
Как же любить Его? Из любви к Нему заповеди Его исполняйте, худого не делайте, потому что этого Иисус Христос не любит, добро делайте, потому что это Иисус Христос любит, радуйтесь с той мыслью, что вам Иисус Христос послал эту радость, терпите с той мыслью, что Иисус Христос любит, когда мы терпим.
Тогда не тяжелы будут для нас заповеди Его, тогда нам нетрудно будет хранить себя от всякого худого, тогда нам легко будет делать все доброе; тогда нам весело будет радоваться; тогда нам отрадно будет плакать.
Итак, когда худое на ум нам придет, будем так говорить: я не стану этого делать, потому что Иисус Христос этого не любит. Когда доброе придет на мысль, будем так говорить себе: я сделаю это потому, что Иисус Христос это любит. Когда испытаем радость, какую Бог пошлет нам, будем так говорить: это Иисус Христос послал мне радость. Когда терпеть что-нибудь придется, будем так говорить: стерплю я это потому, что Иисус Христос любит, когда мы терпим.
Любите, слушатели, любите Иисуса Христа, и эта любовь научит вас всему и напомнит вам все.
Христе Иисусе! Научи нас любить Тебя, чтобы нам нетрудно было творить волю Твою; научи нас так любить Тебя, как любит Тебя Твой первоверховный апостол святой Петр! Аминь.
38. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие (Деян. 14:22)
Многими скорбями… а ужели вовсе без скорбей нельзя достигнуть Царства Божия? Нельзя, ибо только при скорбях душа наша очищается от скверн греховных, с которыми невозможно войти в Царство Божие. И потому-то нет теперь на Небе ни одного святого, который бы на земле прожил век свой без скорбей, всякий из них непременно терпел скорби в жизни и умирал скорбной смертью. Так, к Царству Божию для всех один путь, путь скорбный. Не иметь нам скорбей в этой жизни теперь уже невозможно, ибо мы и родимся во грехах, и живем грешниками. Если бы на нас не было никаких грехов, то мы были бы совершенно свободны от скорбей, потому что тогда не от чего и не за что было бы скорбеть нам. А так как в настоящем нашем греховном состоянии нам нельзя быть без грехов, то нельзя нам быть и без скорби, ибо скорбь есть неизбежное следствие греха.
Что же нам теперь делать, когда мы не можем в этой жизни быть без скорбей? Благодарить Бога, что он скорбный путь нашей жизни соделал путем к Царству Небесному, и, благодаря Его, очищать неизбежными скорбями свою душу от скверн греховных. Итак, прилагай всякую тебя постигающую скорбь к своим греховным ранам, то есть признавай, что она постигла тебя за твои грехи. Заслуженная скорбь поставится тебе в заслугу, если ты сознаешь себя в ней виновным. И потому как бы ни было тебе прискорбно, не сердись на других, не прилагай твоей скорби к чужим грехам, иначе лишаешься той пользы, которую она могла бы тебе принести.
Скорбь тогда только полезна нам, когда мы прилагаем ее к своим греховным ранам, когда, скорбя, обвиняем себя одних. И как нам винить других? Хотя бы действительно другие причиняли нам скорбь, но главной причиной ее остаемся все мы же сами, ибо если бы в нас не было грехов, то никто и ничто на свете не могло бы причинить нам скорби. Да, скорбь есть следствие греха; мы оттого и скорбим, что в нас еще живет грех, еще действуют страсти. Для больного места на нашем теле малейшее прикосновение ощутительно, и для больной грехами нашей души всякая неприятность оскорбительна.
Итак, от чего бы и от кого бы скорбь твоя ни приходила, от себя ли, от других ли, от высших ли, от низших ли, от болезни ли, от потери ли, от бедности ли, от трудов ли, от видимых ли, от невидимых ли врагов, словом – всякую скорбь к своим грехам прилагай, за все себя обвиняй. «Видно, я великий грешник, когда всем и всеми оскорбляюсь, видно, сильны еще во мне страсти, когда от всякого неприятного случая так скорблю». Впрочем, обвиняя себя во всем, не забывай милосердия Божия, бия себя руками в грешную грудь, обращай свои очи к Всеблагому Богу. Иначе скорбь твоя сокрушит тебя вконец и обличение себя во грехах повергнет тебя в бездну отчаяния.
Обращаясь же к Богу, надейся вполне на Его беспредельное милосердие к тебе. Да, Он беспредельно милосерд, Он давно ждет тебя, Он для того и ударяет скорбью в двери сердца твоего, чтобы ты к Нему обратился, стучит тебе, чтобы ты обратился к Нему принять милости, которые Им приготовлены для тебя. Не упускай же случая: скорбь – самое благоприятное время для получения милостей Божиих, никогда так скоро не доходит до Бога наша молитва, как в то время, когда она исходит из стесненного скорбью сердца.
Итак, прибегай к Богу, ищи Его особенно там, где Он являет особое Свое благодатное присутствие, ищи Его во святом храме, ищи Его в Святых Тайнах, ищи Его в святом слове, ищи – и ты все найдешь в Нем. Когда ты таким образом будешь переносить свою скорбь, то немедленно к тебе придет утешение. Утешение неразлучно с терпеливым перенесением скорби. Скорбь – такой пластырь, от которого тотчас бывает легче, как скоро приложишь ее к своим греховным ранам и обратишься к Врачу душ и телес. Тяжка и мучительна скорбь, когда не решаешься еще переносить ее терпеливо; а как скоро примешь решительное намерение, как скажешь: «Буди воля Твоя, Господи! Ведь это мне за мои грехи и для очищения моих грехов. Стану же терпеть, стану терпеливо ждать, пока скорбь пройдет», – тогда, будь уверен, она пройдет, и на душе сделается так легко, и сердцу будет так отрадно, и из очей польются слезы, самые сладкие слезы!.. О, для таких утешений можно целые годы терпеть самые тяжкие скорби!
Ищи же и ожидай в скорби утешений духовных, божественных, благодатных, но бойся утешать себя чем-либо земным, чувственным, греховным – это значило бы прилагать скорбь к скорбям. Сиди со своей скорбью в своем скорбном доме или иди в дом плача, а не ходи искать утешения в веселых собраниях мира, лучше плачь и оставайся без всякого утешения, а не утешайся мирским. Дома поплачешь, поскорбишь – и утешишься, а после тех утешений станешь еще больше плакать и скорбеть. И среди невинных удовольствий не забывай, что тебе надобно еще плакать о грехах, и при самых духовных утешениях ожидай, что тебе придется еще скорбеть от грехов. Царство Божие не утешениями достигается, а скорбями, и скорбями многими. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.
Итак, будем с терпением проходить предлежащее нам скорбное поприще: оно и все непродолжительное, а Царство Божие, ожидающее нас, вечно, его же и да сподобит всех нас Господь наш Иисус Христос молитвами Владычицы нашей Богородицы и всех святых. Аминь.
39. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие (Деян. 14:22)
Не скорби слишком, не доходи в скорби до уныния. Тяжело тебе? К Богу поскорее, Богу, Отцу твоему, скажи: тяжело мне, Господи! Бог для того и попускает нам скорби, чтобы при них мы скорее к Нему обращались, чтобы скорее о Нем вспоминали. Звоном колокола Церковь созывает христиан на молитву, а скорбью нашей сердечной Бог заставляет нас к Нему обратиться.
«Мне слишком тяжело, горькая моя жизнь, – говоришь ты, – я не могу и к Богу обратиться, перекреститься не могу, сказать Богу, что мне тяжело, не могу, не хочется». Но ты хоть это скажи Богу: «Мне слишком тяжело, Господи, я не могу и к Тебе обратиться, перекреститься не могу, сказать Тебе, что мне тяжело, не могу, не хочется». Скажи так, и именно этими словами или подобными какими-нибудь, выражающими скорбь души твоей, только непременно скажи – и увидишь, как это хорошо, спасительно для тебя; не успеешь договорить слов своих, как тебе легче будет. Скорбными словами нашими, особенно когда мы к Богу их обращаем, скорбь наша всегда облегчается. Что Богу выскажешь от души, то не будет больше тяготить душу (см.: Пс.31:5). Бог Слово всегда благодатью Своей отзывается в сердце нашем на сердечные наши к Нему слова.
«Но зачем же мне все скорбеть и скорбеть, так часто и так много скорбеть? Успокоюсь я теперь, как к Богу обращусь, но после ведь и опять будет то же, и опять буду скорбеть так же». Что делать! Прогоняй от себя теперешнюю твою скорбь, а о будущей не беспокойся: будущей скорбью займешься, когда придет она, если только придет. Да, теперь, когда тяжело тебе, обратись к Богу, и если успокоишься, будь этим доволен. А после, когда опять скорбеть будешь, ты опять за то же, опять к Богу.
Весело тебе, легко на душе? Будь весел и благодари Бога. Тяжело стало, скорбит душа твоя? К Богу поскорее. «И так мне надобно всю жизнь?» Да, и так всю жизнь. И так живя, ты наконец приучишься к Богу всегда обращаться, в Боге всегда находить успокоение и таким образом многими скорбями войдешь в Царство Божие, где уже не будешь больше скорбеть, а все будешь радоваться о Боге, вечно, непрерывно радоваться. Да, вот зачем тебе надобно по временам скорбеть, чтобы со временем войти в Царство Божие, где живут и радуются только те, которые в этой жизни многими скорбями приучаются в Боге находить радость и успокоение себе.
«Ах, скорби мои не о грехах, а от грехов, грешные скорби мои: скорблю о неудачах, о нуждах, о потерях земных, скорблю о суетном, мирском, житейском, скорблю даже иногда от неудовлетворения пустых, низких желаний».
И это ничего. Отчего бы скорбь твоя ни происходила, все хорошо, спасительно для тебя, если только ты при скорби своей к Богу обращаешься, печаль свою греховную Спасителю открываешь, чтобы Он Своею благодатию истребил ее в тебе. Ведь не скорбь собственно спасает человека, а она на путь спасения его наводит. Гораздо было бы хуже для тебя, если бы ты никаких скорбей не испытывал в жизни; тогда ты легко мог бы забыть Бога и таким образом сойти с пути, ведущего в Царство Божие. Оттого и трудно богатым войти в Царство Небесное – печалей у них больших не бывает, в довольстве всегда они живут – к Богу прибегнуть нет им случая, так все у них идет хорошо.
Нет, не сетовать безутешно, а Бога благодарить ты должен, что Он хоть какие-нибудь попускает испытывать скорби, при которых ты о Нем вспоминаешь. Это значит, что Он тебя не забыл, не оставил Своею благодатию и ведет тебя в Царство Свое Небесное. Рассказал некто из отцов другому, что, бывши в Александрии, он пришел однажды в церковь помолиться и увидел там женщину богобоязненную. Она была в черном печальном одеянии и, молясь пред иконой Спасителя, все плакала и со слезами повторяла: «Оставил мя еси, Господи, помилуй мя, милостивый!» «Что это она так плачет? – подумал он. – Вдова она и, видно, от кого-нибудь обиду терпит. Поговорю с ней и успокою ее». Дождавшись конца ее молитвы, он подозвал к себе слугу, который был при ней, и сказал ему: «Скажи госпоже своей, что мне нужно с ней поговорить». Когда она подошла, он, оставшись с ней наедине, спросил ее: «Видно, обижает тебя кто-нибудь, что ты так плачешь?» «Ах, нет, – отвечала она и опять заплакала. – Нет, отче, не знаешь ты моего горя. Среди людей я живу и ни от кого не терплю оскорбления никакого. И вот о том-то я и плачу, что поскольку живу в забвении о Боге, то и Бог забыл посещать меня, и три уже года, как я не знаю никакой скорби. И ни я сама не была больна, ни сын мой, и ни курицы у меня из дома не пропадало. Думая поэтому, что Бог за грехи мои оставил меня, не посылая мне никаких скорбей, я плачу пред Ним, чтоб Он помиловал меня по милости Своей». Выслушав от нее это, старец удивился богобоязненной и крепкой ее душе и помолился за нее Богу. Вот как люди богобоязненные рассуждают, когда долго не бывает у них скорбей: им тогда думается, что Бог забыл их. Скорби они считают за особенное к себе внимание от Бога, за особенную Его к себе милость.
Итак, не скорби слишком, не доходи в скорби до уныния, а благодушествуй и радуйся, что у тебя есть о чем скорбеть. Бог, значит, не оставил тебя, любит тебя особенно, если часто приходится тебе скорбеть, – любит и многими скорбями ведет тебя в Царство Свое Небесное. А когда тебе сделается слишком тяжело, от чего бы то ни было, то ты к Богу поскорее. Богу, Отцу Твоему, скажи: мне слишком тяжело, Господи! Аминь.
40. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков (Иак. 5:10)
При всех неприятных обстоятельствах жизни будь терпелив, слушатель благочестивый. Терпи, чтобы с тобой ни случилось: не досадуй, когда получишь оскорбление, не огорчайся, когда встретишь неудачу, все терпи без ропота. В пример терпения возьми себе пророков. Пророки ли не были добры? Но и они много терпели на земле, они терпением и жили, терпением и спасались.
Так, слушатель благочестивый, ты тогда только можешь жить спокойно на земле, когда будешь терпелив, – без терпения настоящая жизнь будет не жизнь, а мучение. На земле многое нас беспокоит – одно только терпение доставляет нам покой. Словами в этом убедиться трудно, лучше испытай. Когда тебя горе какое тяготит или люди оскорбляют, или болезнь изнуряет и вообще какая-нибудь неприятность беспокоит, то возьми терпение, крепись, и ты успокоишься. Терпение – лекарство от всех беспокойств, уметь спокойно жить – значит уметь терпеть.
Но не одно временное спокойствие получаем мы от терпения: терпение отворяет двери к вечному покою. Так, слушатели благочестивые, кто все переносит терпеливо, тот этим спасет душу; чем больше мы терпим, тем меньше становится в нас грехов. От огня золото делается светлее, от терпения наша душа делается чище.
Хотите ли на опыте видеть, как спасительно для души терпение? Выслушайте, что рассказывает один праведный муж, который сподобился видеть те места, где по смерти покоятся святые. В одном славном месте он увидел некоего человека и спросил его: «Что ты делал в мире и чем заслужил такое место?» «Я был работником у одного злого человека, – отвечал тот, – и много терпел от него до конца жизни». После он увидел другого человека в столь же славном месте и спросил его: «Ты чем занимался в мире?» «Я долго был болен и терпеливо переносил свою болезнь». Наконец, он увидел еще человека, но не в столь славном месте, как те, и также спросил его: «Ты как жил в мире?» «Я сначала был простым монахом, день и ночь трудился для спасения души, после произвели меня в епископа».
Итак, вот что значит терпение. Терпеть так же спасительно для нашей души, как и заниматься спасением, переносить что-нибудь горестное так же полезно, как и делать добрые дела, удерживаться от слов оскорбительных для ближнего так же приятно Богу, как и славословить Его непрестанно. Терпение даже важнее иногда иных богоугодных дел (см. Иоанн Златоуст, беседа 31 на Матфея.).
Итак, слушатель благочестивый, все переноси терпеливо, все – малое и великое. Нетерпением ты не умалишь горя, а только прибавишь, огорчением не утушишь оскорбления, а только усилишь – так лучше терпи. Терпением вашим спасайте души ваши (Лк. 21:19). Тот слабый имеет дух, кто всем огорчается, на все досадует. Так докажи своим терпением, что ты не слабого духа. Претерпевший же до конца спасется (Мф. 10:22), так терпи же, и ты спасешься. Аминь.
41. Итак, братия, будьте долготерпеливы (Иак. 5:10)
Еще о терпении?! Что же делать! Терпение для нас так необходимо, а у нас его так мало, слушатели! Иной из нас век живет и не может научиться терпению. Итак, еще послушайте о терпении, только в пример терпения возьмем не пророков – они, может быть, для нас слишком высоки, – но простого человека (см. Пролог, 5 февраля).
В одном монастыре жил благочестивый инок. Пять братий любили его, а один оскорблял. Не желая терпеть оскорблений, он перешел в другой монастырь, но тут восемь братий его любили, а двое оскорбляли. Он ушел в третий монастырь, но и в этом было не лучше: семь его любили, а пять ненавидели. Что было делать? Он решился идти в четвертый монастырь и пошел.
На пути между тем стал размышлять сам с собою: «Если мне слушаться моего помысла, то придется обойти весь мир, и, верно, не найду нигде покоя, ибо люди везде одни и те же – много добрых, много и злых. Должно быть, и в этом монастыре, куда теперь иду, будет мне не лучше». Подумав немного, он взял записную свою книжку и написал в ней: «Пусть меня оскорбляют, я терплю все для Иисуса Христа».
Написав это, он свернул книжку, навязал ее на пояс и пошел в монастырь. Как он ожидал, так и случилось: и в этом монастыре, куда он пришел, тоже стали оскорблять его. Но он тотчас брался за книжку и, прочитав в ней слова: «Я терплю все для Иисуса Христа», в ту же минуту успокаивался, в ту же минуту ему становилось легче. Таким образом он, наконец, приучился все терпеть, все сносить.
Итак, вот, слушатель благочестивый, как ты можешь научиться терпению: какое бы ни постигло тебя горе, какая бы ни случилась неприятность, ты говори: стерплю для Иисуса Христа. Только скажи это, и тебе будет легче. Имя Иисуса Христа сильно: при нем ветры утихают, бесы умолкают, утихнет и твоя досада, пройдет и твое горе, когда ты будешь повторять сладчайшее Его имя. Аминь.
42. Много может усиленная молитва праведного (Иак. 5:16)
Итак, только усердная молитва праведника много может. Но мы, слушатели, и грешники, и молимся часто без усердия, и потому что же наши молитвы? Полезны ли они сколько-нибудь для нас, или мы, молясь, только время тратим? Нет, и мы не напрасно время тратим, когда молимся, и наши молитвы полезны для нас.
Если мы не имеем усердия к молитве, то это усердие может возбудиться в нас, когда мы будем молиться постоянно. Усердная и пламенная молитва не вдруг приобретается, она не есть собственно упражнение, а следствие и, так сказать, награда уже за постоянное упражнение в молитве. Таким образом, от нашего усилия во время молитвы может родиться в душе нашей молитвенный жар. Так от движения происходит теплота и в холодном теле человека.
«Молясь с принуждением, – говорит святой Макарий, – с нетерпеливостью, мы пролагаем путь к тому, чтобы молиться с радостью в покое; молитва с принуждением состоит в нашей воле, а молитва в покое есть дар благодати». Итак, ни в каком случае не надобно оставлять молитвы, надобно, насколько возможно, принуждать себя к молитве. И потому, когда звон колокола созывает христиан на молитву, иди и ты, хотя бы тебе не хотелось идти молиться; когда приходит время сна или наступает утро, непременно читай свои молитвы, как бы это ни казалось тебе тяжелым.
Грехи, конечно, служат препятствием успеху наших молитв. Наши грехи, как облака, препятствуют нисходить к нам лучам Божия благословения; вопль страстей, как шум моря, не попускает нашим прошениям доходить до слуха Божия. Но ужели посему грешник и не должен молиться? Нет, он-то и должен молиться, ему-то и необходима молитва. Ибо и ум наш просвещается светом истины, когда мы молимся Богу, Который есть Вечная Истина; и сердце наше воспламеняется огнем любви, когда мы молимся Богу, Который есть Беспредельная Любовь; и воля наша направляется к добру, когда мы молимся Богу, Который есть Верховное Добро.
Оттого-то и бывает, слушатели, что иной начинает молитву грешником, а оканчивает ее праведником, приступает к молитве оскверненным нечистотами греховными, а отходит убеленным благодатию паче снега. Таким образом, грешник своей молитвой может исходатайствовать себе у Бога прощение грехов, а по прощении грехов будет исполнено и прошение его. Пройдут греховные облака, утихнут вопли преступных страстей, и Бог, как солнце после мрачной бури, явится к нему со Своей милостью, и молитва его, как фимиам благовонный, будет приятна для Бога.
Итак, слушатели, не смущайтесь ничем, когда приступаете к молитве. Молитесь, когда и не чувствуете усердия к молитве. Молитесь, когда и чувствуете за собой много грехов. Молитесь лишь неослабно – и ваша молитва много будет значить пред Богом. Аминь.
43. Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте (Рим. 12:14)
Слушатели-христиане! Мы часто во гневе, не желая мстить другому делом, мстим ему словом. Мы говорим: чтобы тебя постигло такое-то несчастие, чтобы с тобой приключилась такая-то беда. Или, что то же, мы клянем того, кто нас оскорбит, обидит, притеснит, не думая, впрочем, делать чрез то существенного ему зла. Эта слабость, замеченная апостолом Павлом в послании к Римлянам, очень часто обнаруживающаяся и в нас, есть слабость самая опасная.
Слова, у нас говорят, – ветер, но, скажу я, этот ветер может быть благотворным и смертоносным, смотря по тому, из какого сердца он исходит.
Слова человека, особенно когда они исходят прямо от сердца, бывают очень сильны и действенны; как благословение утверждает домы, так клятва нередко разрушает их до основания. Родители благословляют детей, и дети благоденствуют всю жизнь, мать проклинает сына, и сын бедствует до гроба. Нищие благословляют своих благодетелей, желая им того или другого добра, и то или другое добро нередко сбывается. Вдовы и бесприютные вопиют на жестокость своих ближних, и вопли их не проходят даром, слезы отзываются. Вообще, в доброжелательных и зложелательных словах человека заключается некая чудная, как бы сверхъестественная сила: кто чего пожелает кому на словах, то нередко сбывается и на самом деле.
И потому, слушатели, будьте осторожны, во гневе никого не кляните, но вместе и сами не давайте другим повода к проклятию. Живите так, чтобы вас все благословляли, а не проклинали. Не равно слово и не равен час – иное слово в иной час хуже меча. Аминь.
44. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши о Христе Иисусе (Фил.4:5–7)
«Миром Господу помолимся», – так начинается великая ектенья, то есть не порознь, не всякий по-своему и о своем, но помолимся обще, согласно, помолимся спокойно, мирно, при уверенности нашей в любви к нам других, при уповании нашем на любовь к нам Бога Отца, на ходатайство за нас Сына и на содействие нам Духа Святого.
Так, Господу помолимся мы обо всем, что необходимо нам и другим, для души и тела, для здравия и спасения, для спокойной жизни на земле и для вечного покоя в жизни будущей. Все это, нами просимое, в великой ектенье по порядку перечисляется, потому-то она и называется великим, пространным, протяжным молением.
Почему пред Богом на молитве мы перечисляем все свои нужды? Разве Бог не знает их? Не только знает, но и подает Бог нам все нужное, и не только подает Бог нам все нужное, но и промышляет, печется о том, чтобы все получаемое от Него нами служило нам в пользу, во благо, во здравие и спасение. Да, Бог знает, что нам нужно. Но мы-то, слушатели, не знаем, что нам нужно и спасительно, и знать и думать о нужном и спасительном иногда не хотим, а потому или вовсе не молимся, или не умеем, как помолиться, или не знаем, о чем помолиться. Вот потому-то Святая Церковь, наша наставница и руководительница, перечисляя в ектенье, что нам нужно, учит нас, сказывает нам, о чем должны молиться: вот того и того у Господа Бога попросите.
Итак, слушатели, молимся мы по наставлению и руководству Святой Церкви, то есть по внушению Святого Духа, следовательно, молимся мы о том, что действительно нам необходимо и что действительно Бог нам подать может, потому что Сам Он чрез Святую Церковь внушает о том молиться. Однако же не всегда и не все бывает у нас по нашим молитвам. Молясь о свышнем мире, то есть о нашем мире с Богом, о милосердии Его к нам и о спасении душ наших, о прощении нам грехов, мы молимся, просим у Бога и мира всему миру, то есть чтобы между людьми на земле везде был мир, чтобы таким образом всем было хорошо, чтобы все жили спокойно.
Однако много ли спокойных на земле? Сколько раздоров, несогласий всяких, сколько друг на друга разных нападений, друг другу притеснений! Мы молимся о мире, о благостоянии Святых Божиих церквей и соединении всех. Но много ли мира церквам Божиим, хорошо ли благостояние присных нам по вере христиан, каково им, например, на Востоке, в Турции и в других местах отдаленных? Много ли примиряющихся с нами еретиков, много ли присоединяющихся к нам язычников?
Молимся о Святейшем Синоде, о епископах, пресвитерах, диаконах, о всем причте и людях, а мало ли беспокойства Святейшему Синоду, много ли покоя православному духовенству и всем ли православным христианам хорошо жить?
Молимся о Благочестивейшем Государе Императоре Александре Николаевиче, о всем царствующем Доме. Ах, и ему, царю нашему, и всему царствующему Дому мира и покоя очень мало, гораздо меньше, чем нам всем. Сколько у него внешних и внутренних врагов, явных и тайных!
Молимся мы о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных, о плавающих, путешествующих, о больных и пленных, а пленных все еще много в плену и больные все не скоро выздоравливают, и плавающие и путешествующие плавают и путешествуют не всегда мирно, благополучно, и плодами земными в иных местах иные очень и очень бедны, иногда иным есть бывает нечего; словом, о чем мы ни молимся Богу, бывает много не так и не всегда так, как мы просим.
После этого, может быть, подумает кто: что же и молиться Богу, когда все-таки бывает не по-нашему, а по-Божию? Все не по-нашему, а по-Божию!.. Ах, слушатели, об этом-то особенно, преимущественно мы и должны молиться, чтобы все было не по-нашему, а по-Божию!.. Да будет, да исполнится воля Твоя! Мы, Господи, просим у Тебя и того и другого и третьего, всего просим, чего желаем и что нам нужно; но Ты подаждь то, что Сам знаешь, что находишь нужным, полезным и спасительным для нас. Святая Церковь так и учит нас оканчивать молитвы о себе и других: сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу нашему предаем – на Его волю, на Его попечение отдаем.
Для чего же молиться, когда мы и желать не должны того, чтобы Бог по нашему желанию и по нашей молитве подавал, но чтобы Он делал все по Своему изволению?
Для чего молиться? А для чего вы беспокоитесь о том, о другом – и о мире всего мира, и о благостоянии церквей Божиих, и о Благочестивейшем Государе, о плавающих, о больных, о пленных и обо всем прочем? Для чего беспокоитесь? Скажете, мы не можем не беспокоиться. Так чем беспокоиться понапрасну, молитесь – и Господь успокоит вас, успокоит и всех тех, за кого вы беспокоитесь. Всеблагий, Премудрый, Всемогущий, Он и знает, и может, как кого успокоить, и не оставит никого без успокоения.
Да, никогда не беспокойтесь, ни о чем не заботьтесь, как пишет апостол Павел в послании к Филиппийцам, но всегда в молитве и прошении открывайте перед Богом свои желания (см.: Флп.4:6), и будете спокойны, так будете спокойны, как будто у вас все идет хорошо, все есть, все бывает как будто по вашему желанию; сами себе вы не объясните, умом своим вы не постигнете, как это так вы успокоились. Вот это-то успокоение на молитве, после молитвы и есть тот свышний Божий мир, превосходящий всякий ум (см.: Флп. 4,7), который Бог подает нам за нашу к Нему молитву. Да, только на молитве, по молитве и за молитву Бог подает нам мир, непостижимо для ума нашего успокаивающий душу нашу во всем.
Итак, молитесь в церкви миром, то есть сообща, согласно, мирно, спокойно, с любовью друг к другу, с упованием на любовь Божию, и будете спокойны, спокойны за себя и за других, и за всех, и за вся. Во всем вас успокоит Царь мира, Господь Иисус Христос, Который всегда там, где двое или трое мирно, согласно во имя Его молятся. Аминь.
45. Непрестанно молитесь (1Фес. 5:17)
Слушатели благочестивые! Вот какую милостивую и утешительную заповедь завещает нам Господь наш Иисус Христос чрез Своего апостола: непрестанно молитесь.
Люди, люди высшие, непрестанно ходить к себе не позволяют. У них назначены известные часы, в которые принимаются прошения, они чрез своих приближенных объявляют, чтобы просители к ним в такое-то время приходили, а в другое чтоб не беспокоили их. От людей, как бы они высоки ни были, нельзя большего и ожидать – им всем нужен покой, отдохновение, никто из них не может быть в непрестанной деятельности. Но у Бога нет запрещенных часов для молящихся, к Нему во всякое время приходи с прошением. Он чрез избранных Своих объявляет нам: непрестанно молитесь, молитесь и днем и ночью, и утром и вечером, и в полдень и в полночь; молитесь, как только нужда вам откроется. Стучись в двери ко Мне всегда, во всякий час, во всякую минуту. Тебе тысячу раз в день нужно утешение от Бога – всякий раз и молись. Тебе на всяком шагу нужна помощь Божия – на всяком шагу и проси.
Ах, какой же милости больше нам надобно? Бог непрестанно, во всякое время, во всякий час готов слушать нашу молитву и исполнять наше прошение!
И имея такого Бога, слушатели, мы можем предаваться унынию и беспокойствам в жизни?! Что же унывать, когда Бог наш непрестанно готов подавать нам утешение? Что же беспокоиться, когда Бог наш всякую минуту готов подавать облегчение?
Тебе что нужно? Молись Ему, и Он все даст. Тебе чего недостает? Проси Его, Он не откажет. Грехи тебя беспокоят? Скажи Ему: я грешник, Господи! Скажи – и грех тебя не будет беспокоить.
Горе тебя тяготит? Обратись к Нему: Господи, я в горе – и тебе будет легче. Ты не знаешь, что делать? Возведи ум твой к Нему, и Он скажет, что тебе делать. Вообще, в какой бы ты крайности ни находился, какая бы ни была у тебя нужда, проси Бога, стучись в двери Его милосердия…
Ах, слушатели, веры в нас мало, и молиться мы ленивы, а то как бы нам не жить спокойно и в этой жизни, когда мы имеем повеление от Господа во всем и за всех непрестанно обращаться с молитвой к Нему, Всеблагому и Всемогущему Богу нашему. Аминь.
Часть третья. Поучения на изречения церковных молитв и песен и символические действия при богослужении
46. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас
Песнь «Святый Боже» иначе называется «Трисвятое» потому, что поется во имя Святой Троицы, и потому, что слово «Святый» повторяется в ней трижды.
Песнь эту мы читаем и поем очень часто, а за обедней она поется с особенным торжеством, с особенным приготовлением к ней. Пред тем как петь «Святый Боже», диакон, став у Царских врат и обратившись к иконе Спасителя, возглашает: Господи, спаси благочестивыя и услыши ны. За ним лик повторяет то же – услыши ны, то есть услыши от нас песнь Трисвятую, услыши нас, когда мы будем петь «Святый Боже». О том же просит Господа и священнодействующий, стоя пред святым престолом, в молитве своей, которую он тихо читает: Прими и от уст нас грешных Трисвятую песнь.
Почему, слушатели, песнь «Святый Боже» так важна, что мы как особенной милости себе у Бога просим, чтобы нам петь ее? Выслушайте, по какому случаю стали петь ее все христиане.
В царствование Феодосия Младшего, при Цареградском архиепископе Прокле было страшное землетрясение. По случаю этому было молебствие с крестным ходом, как это всегда бывает у христиан при общественных бедствиях.
Вот все молятся о помиловании. Вдруг сильный ветер одного мальчика, на виду всех, поднял вверх и унес высоко к небу. Через несколько минут мальчик, невредимо спустившись оттуда, сказал, что он слышал там, вверху, поющих: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный! Когда слышавшие это воспевали песнь – Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный – и когда прибавили к ней: помилуй нас – Господь тотчас явил Свою милость: землетрясение в ту же минуту прекратилось. С этого-то времени христиане стали петь Трисвятую песнь.
Таким образом, эта песнь, «Святый Боже», можно сказать, не земная, не наша человеческая, а небесная, ангельская. Так на Небе поют Богу, так Ангелы славословят Его, и вот как сильна она пред Богом. За эту песнь, когда воспели ее, Бог помиловал людей. И потому, слушатели, с вниманием пойте и читайте песнь: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. Это великая нам от Бога милость, что мы можем Ему петь на земле так, как Ангелы поют Ему на Небеси.
У кого в устах небесная песнь, у того на сердце небесное веселие. Кто молится Богу с ангельской песнью, тот имеет такое же дерзновение пред Богом, какое имеют пред Ним Ангелы святые. Аминь.
47. Приидите, поклонимся и припадем ко Христу: спаси ны, Сыне Божий…
Некоторые из вас, слушатели, говорят иногда: невозможно нам спастись, не простит нам Господь грехов наших! Не знаете, значит, вы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; если бы знали, не стали бы так говорить.
Иисус Христос однажды обедал в доме одного фарисея. Во время обеда подошла к Нему женщина с алавастровым сосудом мира и, ставши у ног Его, заплакала. Горько плачет женщина, ноги Христовы смочила слезами своими. И вот она наклонилась и стала отирать ноги Его волосами своими и мазать их миром благовонным; и плачет она, и отирает, и мажет, и лобызает. Что это за женщина плачет у ног Иисуса Христа? Грешница, и грешница, известная в городе. Зачем пришла она к Иисусу Христу? Пришла получить от Него прощение грехов своих. Как же она знает, почему уверена, что Иисус Христос простит ей грехи? О, как этого не знать ей! Как этого не знать тому, кто знает Иисуса Христа!
Да, слушатели, Иисус Христос так благ, милостив и человеколюбив, что нам стоит только узнать, увидеть Его, и мы тотчас узнаем и уверимся, что Он спасет и помилует нас. Дитя, испугавшись нападения от кого-нибудь, к матери бежит, лишь только завидит ее где, и, прибежавши к ней, успокаивается в полной уверенности, что мать не даст его обидеть кому-нибудь. Грешник, устрашившись погибели за свои грехи, к Спасителю припадает, лишь только узнает Его как или вспомнит Его, и падши пред ним успокаивается в полной надежде, что Спаситель не даст ему погибнуть ни за какие грехи. У Господа нашего Иисуса Христа, возлюбившего нас даже до смерти крестной, на всем написана и во всем видна любовь к нам и милость беспредельная, потому-то при приближении к Нему, при мысли о Нем тотчас уверяешься, что Он тебя спасет и помилует.
О, взгляните, посмотрите: вот Он в саду Гефсиманском. Он преклоняет колена. Он молится, долго молится; пот Его, как капли крови, а Он все молится. О ком же Он, безгрешный, так молится? О грешниках молится к Отцу Своему Небесному, чтобы все были спасены и помилованы.
Взгляните, посмотрите еще: вот Он распят на кресте за грехи мира, голова Его в терновом венце, руки и ноги гвоздями прибиты, из ребра течет кровь. Он мучится, Он в предсмертном борении, а убийцы и мучители Его тут же над Ним издеваются, смеются, ругаются, и в эти-то минуты Он молится, и о ком? О них же, об этих мучителях и убийцах Своих, молится, чтобы Отец Небесный простил их: Отче! прости им, ибо не знают что делают (Лк. 23:34).
Теперь видишь ли, слушатель, хотя бы немного, кто твой Спаситель и Бог? И Он ли не спасет, не помилует тебя? Он, молившийся о твоем спасении до кровавого пота, претерпевший за грехи твои все даже до смерти и миловавший самих мучителей и убийц Своих, и не просивших о помиловании?
Да как же, да за что же Он спасет и помилует меня, говоришь ты. Ах, ты, значит, все еще не знаешь Иисуса Христа, не знаешь, что Он милует и спасает по тому одному, что милостив и человеколюбив; ты, видно, никогда Ему и не молился как следует, не приносил Ему и малого, но искреннего моления. Помолись, попроси Его настоящим образом, как просят утопающие, как молят безнадежно больные, и уверишься в Его милости и своем спасении. Тогда и спрашивать не будешь, как и за что спасет и помилует Он тебя; ты в душе почувствуешь, что Он тебя милует, спасает; ты заплачешь теми слезами, после которых так легко бывает у грешника на душе.
Нет, слушатель, не будем говорить, что невозможно нам спастись, что не простит нам Господь грехов наших. Не будем говорить, ничего не делая для своего спасения, а дело будем делать, приходить, поклоняться и припадать ко Христу, просить, молить о спасении, о помиловании, и тогда… о, тогда, Господи, мы на деле увидим, какой милостивый и человеколюбивый Ты Бог, и в душе уверимся, что Ты воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешные спасти и помиловать. Аминь.
48. И, имиже веси судьбами, спаси мя, недостойнаго раба Твоего
Слова эти из молитвы, которая читается преимущественно на полунощнице. Полунощница у нас ныне не в полночь совершается, а в древние времена совершалась ночью, в полночь или около этого времени.
Никогда так не нападают на человека мысли мрачные, скорбные или греховные, преступные, как ночью, в полночь или около этого времени. Кто днем скорбит или сомневается, тот ночью, в полночь может прийти в совершенное уныние или отчаяние. У кого днем греховное или преступное на уме, тот ночью, в полночь легко впадает в грех или совершает само преступление. Потому-то святые отцы и сами молились, и других убеждали бдеть и молиться особенно в полночь.
Никогда так не нужна нам помощь Божия, как в это время, потому что никогда так не действует на нас мрачное, скорбное, греховное, преступное, как в эти часы. Полночный час – час вражьих на нас нападений.
Вышеприведенные нами слова молитвы, читаемой на полунощнице, видно, истекли в полночь из души, скорбевшей о грехах своих и сомневавшейся в своем спасении. Не знаю, как мне спастись, не думаю, что я спасусь, отчаиваюсь, совершенно отчаиваюсь в своем спасении. Что мне делать? Не знаю, что мне делать. Господи! Имиже веси судьбами, спаси мя. Спаси меня Тебе Единому известными способами.
Слушатель-христианин! Не так ли и ты думаешь иногда о себе, о своем спасении? То есть не знаешь, как тебе спастись, не думаешь, что ты спасешься, сомневаешься в своем спасении, отчаиваешься? Не знаешь, что тебе и делать, чтобы спастись? Не в полночь только могут приходить такие мысли, но и во всякое другое время; в полночь только преимущественно они приходят, сильнее нападают, больше тяготят.
Но ты, обращаешься ли ты при этих мыслях к твоему Спасителю? Говоришь ли ты Ему: имиже веси судьбами, спаси мя, спаси меня Тебе Единому известными способами?
Что же просить мне моего Спасителя, когда я делаю совершенно противное для спасения моего? Что говорить Спасителю – спаси, когда сам я явно гублю себя и таким образом препятствую, не даю Спасителю спасать меня?
Так не один ты рассуждаешь, думаешь, говоришь. Но ты так думай на молитве пред Спасителем; не сам с собой рассуждай – сам себе не поможешь, не придумаешь, как себе помочь, а со Спасителем. Ему говори: я делаю совершенно противное моему спасению, я явно, Господи, гублю себя, я сам препятствую, не даю сам Тебе спасти меня, иногда вовсе и не думаю о том, спасусь я или не спасусь, я забываю себя, забываю о своем спасении. Не знаю, не постигаю, как я спасусь. Не оставь меня, Господи, не забудь меня, Господи, имиже веси судьбами, спаси мя, спаси Тебе Единому известными способами, спаси, как Ты ведаешь. Так молись, так на молитве говори Спасителю Богу; стоишь ли пред Его иконой или на Небо к Нему обращаешься, говори – и Он поможет тебе спастись.
Спаси, Господи, и меня, имиже веси судьбами, спаси. Спаси Тебе Единому известными способами, спаси, как Ты ведаешь, – из глубины души и я к Тебе вопию. Аминь.
49. Силою Честнаго и Животворящаго Креста
Сильна пред Богом молитва Пречистой Его Матери, сильны молитвы святых Его угодников, и в Кресте Его Животворящем тоже заключается сила, сила чудная, могущественная. Крест и оживляет нас, и укрепляет, и хранит, и зловредное, пагубное прогоняет от нас, и нужное, спасительное подает нам. Откуда в кресте такая сила? С того времени как Иисус Христос умер на кресте, Его непобедимая, непостижимая, божественная сила сообщилась кресту, вселилась в него и осталась в нем навсегда. Да, Иисусом Христом крест силен, Иисуса Христа в кресте сила. Присутствует таинственно на кресте Всемогущий, Всесильный, оттого крест так могуч и силен.
Как мы можем воспользоваться силою Честнаго и Животворящаго Креста Господня?
1. Воздавая ему честь подобающую. Да, поклоняйся ему, лобызая Его, приноси кадило, возжигай свечи и елей пред ним, как и делают христиане православные, – и сила его сообщится тебе, и подастся тебе то, что для тебя спасительно, нужно, и удалится от тебя то, что тебе вредно, пагубно. Так, по мере нашего почтения, благоговения ко кресту действует на нас его непобедимая, непостижимая, божественная сила.
Какой крест мы должны так чествовать, четвероконечный или восьмиконечный? Настоящий истовый крест есть крест четвероконечный. Больше четырех концов при распятии человека и не нужно; один конец для головы, другой для ног, третий для правой руки, четвертый – для левой. Ко кресту Иисуса Христа прибавляются еще две дщицы, которые у Него и были при распятии Его: одна для надписи вверху, над головой, другая внизу, под ногами, и, таким образом, выходит у Иисусова креста как бы восемь концов, как он иногда устрояется и у нас. А потому не только четвероконечному, но и восьмиконечному кресту можно и должно поклоняться, только надобно поклоняться тому и другому с мыслью, с благоговением и с верой к Распятому на нем, и будет тебе оттого великая благодать. Сила креста не оттого в нем, что он так или иначе устроен, а оттого, что Иисус Христос на нем был распят.
2. Делая на себе знамение креста, мы можем воспользоваться его силой. Да, знаменуй себя крестом, так знаменуй, чтоб и тело чувствовало знамение твое, и душа сознавала, что творит десница твоя; и найдет на тебя сила Божия спасительная, и убежит от тебя сила вражья, сопротивная, и ты оживишься и укрепишься душевно и телесно. Когда мы знаменуем себя крестом, мы тогда в Христа облекаемся, Христову силу себе усвояем, Христовой силой себя ограждаем, защищаем, охраняем, спасаем. Так, при крестном знамении на нас Иисус Христос присутствует с нами Своей благодатию; оттого мы так и сильны бываем, когда крестимся.
Каким крестом мы должны знаменовать себя, и как надобно слагать персты для крестного знамения? Мы крестимся во имя Святой Троицы, во имя Отца и Сына и Святого Духа – как мы большей частью и говорим, творя крестное знамение. Во имя Святой Троицы крестимся, следовательно, триперстным крестом и надобно креститься. Как именно? Два перста правой руки, мизинец и безымянный, пригнуть надобно к ладони, а остальные три – большой, указательный и средний, – как они есть, соединить и так знаменовать себя ими, кладя их на чело, на грудь, на правое плечо, потом на левое. Для чего такое соединение перстов? Тремя перстами – большим, указательным и средним, мы означаем Святую Троицу: Отца и Сына и Святого Духа, а двумя перстами, мизинцем и безымянным, означаем два естества в Иисусе Христе: божеское и человеческое.
Итак, утешая и укрепляя себя молитвами Богородицы и угодников Божиих, будем помнить, что у нас есть, всегда с нами и пред нами Животворящий Крест Господень, силой которого мы можем оживляться, укрепляться, охраняться и защищаться, если будем воздавать ему честь и творить его знамение. Аминь.
50. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа
Как начинается у нас Божественная литургия? При начале литургии мы, слушатели, благословляем Бога, и при начале всех других наших дел, – духовных, божественных и житейских, человеческих, тоже благословляем Бога. Что это значит, что все начинаем мы с благословения Божия, то есть с прославления Божия?
Этим показываем, что мы делаем или должны все делать во славу Божию, делать для того, чтобы Бога прославить, чтобы сказать, показать, что Бог есть, что Он Отец, Сын и Святой Дух, Творец, Вседержитель. Да, когда мы с благословения Божия дело начинаем, то это значит, что мы делаем его во славу Божию, в прославление Божие.
Как же это можно все делать во славу Божию? Как во славу Божию делать дела житейские, мирские, человеческие? Как есть и пить во славу Божию? Когда мы что делаем с мыслью о Боге, хваля и благословляя Его, тогда мы все и житейское, человеческое делаем во славу Божию (см.: 1Кор.10:31). Да, кто Богу служит, молится или другое что божественное делает, но в мыслях имеет себя, свои выгоды, величаясь своими способностями и достоинствами, ожидая себе награждений и вознаграждений, тот ведь делает не во славу Божию, хотя по видимости и славит Бога, а на себя. Если же работаем, трудимся для своего здоровья, если пьем и едим или иное что для своей пользы делаем, но в мыслях имеем Бога, относя все к Нему, благодаря за все Его, – мы делаем во славу Божию, хотя по видимости делаем для себя.
Почему же мы должны все делать, все начинать с благословения Божия, во славу Божию?
Во-первых, потому, что не иначе как чрез это мы получаем благословение от Бога. Да, Бог подает нам Свое благословение, помощь, очищение, освящение, когда мы благословляем Его, когда мы все делаем во славу Его, с мыслью о Нем. Именно оживешь, обновишься, светом озаришься, когда вспомнишь, что есть Бог, когда перекрестишься, подумаешь, скажешь: во имя Отца и Сына и Святого Духа. И не нам только, благословляющим Его, подает Он Свое благословение, но очищает и освящает и все то, чем мы во славу Его пользуемся, что с мыслью о Нем употребляем.
Таким образом, наши пища и питие, одеяние и жительство Божиим благословением очищаются, освящаются, обновляются, улучшаются. И потому-то кто с благословения Божия все начинает, тот и делает все чисто, свято, успешно, тому и служит все в пользу, во благо, тот и с небольшими средствами, и чрез малое делание многого достигает и немногим достоянием бывает доволен… А мне и черный хлеб, и вода простая очень вкусны бывают, когда я ем и пью с Божиим благословением; я и в небогатое одеяние с весельем одеваюсь, когда помню одевающего меня Бога; поя Бога, я и в хижине моей убогой живу, будто в чертогах царских.
Во-вторых, и это главное, мы потому все должны начинать с благословения Божия, делать во славу Божию, что мы сотворены для славы Божией, созданы для этого. И все существующее сотворено для славы Божией (см.: Притч.16:4), небо и земля, и все неразумные, бессловесные существа сотворены для славы Божией, то есть так сотворены, устроены, что своим существованием и устройством поведают славу Божию, как бы говорят, что Бог есть, что Он Всемогущ, Благ, Премудр, говорят другим, сами того не сознавая, радуют других, сами того не чувствуя. А мы, разумные и словесные существа, сотворены славить Бога с сознанием, устами говорить и петь, сердцем утешаться и радоваться, что Бог есть, что Он Благ, Премудр, Всемогущ; сотворены мы так, то есть тем существуем, живем, блаженствуем мы, что Бога славим разумно, что чувствуем, сознаем, что Бог есть.
Да, знать Бога, славить Его – это существенная потребность нашей души, это жизнь нашей жизни. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа (Ин. 17:3). И не оттого-то ли мы так любим смотреть на небо – и смотрим до слез иногда, до самых радостных слез, – не оттого ли, что нигде так не видна нам слава Божия, как на небесах? Не оттого-то ли мы особенно так любим бывать в церкви Христовой, служить и слушать служение здесь – и служим и слушаем до умиления, иногда до восторга, – не оттого ли, что нигде так и не видится и не слышится слава Божия, как в церкви Христовой? Да, видно, что радование о Боге – родное нам веселие.
Так, вот главное, почему мы все начинаем с благословения Божия, все делаем во славу Божию: мы сотворены для славы Божией, мы созданы так, что мы тогда только и будем существами разумными, блаженными, когда Бога будем славить. Божие благословение нам необходимо, но для чего, собственно, необходимо оно? Для чего нам всякая помощь, всякая благодать от Бога, для чего здравие и спасение, для чего всякое радование и во всем благое поспешение? Все для того одного, чтобы мы с дерзновением могли славить Бога, чтобы от всего сердца могли радоваться тому, что Бог есть, чтобы от всей души могли говорить: слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже!
Итак, ничего, слушатели, не будем делать не благословясь, а будем все начинать с благословения Божия – тогда, если что у нас выйдет и не так хорошо или сделается не по-нашему, все же мы хорошее дело сделаем – то, что, по крайней мере, Бога благословим, вспомним. Ах, это-то одно и хорошее дело, всех дел наших лучше, когда мы Бога благословляем, славим. Ни в чем, как в этом, все наше достоинство и блаженство.
О, вразуми, Господи, тех из нас, которые, принимаясь за дела, никогда не благословляют Тебя, не молятся и не крестятся; вразуми их, что без благословения Твоего, без молитвы к Тебе нельзя нам жить и действовать чисто, свято, благочестиво, благополучно и что в будущей жизни мы тем только и будем вечно веселиться и радоваться, что будем благословлять, вечно благословлять Твое Царство, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
51. Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще
Кто это поет и вопиет, взывает и глаголет? Ангелы в невидимом, духовном мире. Кому они поют? Богу Отцу и Сыну и Святому Духу. Почему они поют так и поют непрестанно? От избытка радости: поют потому, что непрестанно там радуются, блаженствуют, наслаждаясь лицезрением Бога и служением Ему.
Да, слушатели, кроме этого видимого мира, в котором мы живем, есть еще другой мир – невидимый, в котором живут Ангелы. Потому-то Бог называется Творцом всего видимого и невидимого. Невидимое – это и есть невидимый, духовный мир, к которому принадлежат Ангелы, непрестанно там всячески радующиеся, поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще.
Кто такие Ангелы? Ангелы – духи бесплотные, существа невидимые, духовные, одаренные умом, волею, могуществом. Слово «Ангел» по-русски – вестник. Почему Ангелы так названы? Потому что Бог посылает их возвещать волю Свою. Так, Архангела Гавриила Бог посылал к Пресвятой Деве Марии предвозвестить, что Она зачнет Спасителя, Господа Иисуса Христа.
Для того ли только Ангелы существуют, чтобы возвещать волю Божию людям? Нет, они сотворены для того же, для чего Богом все сотворено, – для того, чтобы радоваться и блаженствовать, хвалить и воспевать Бога.
Ангелы, духи бесплотные, называются еще Ангелами хранителями; почему так называются? Потому что Бог посылает их хранить землю и живущих на земле.
Да, по Божию распоряжению есть Ангел хранитель у всякого государства, у всякого города, у всякого села, у всякой церкви, а потом у всякого христианина есть свой особенный Ангел. О, как же должно быть их много! Да, их бесчисленное множество, несравненно больше, чем людей; тысячи Архангелов и тьмы Ангелов, Херувимов и Серафимов поют и воспевают, взывают и глаголют эту победную песнь: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея».
Как это Ангелы нас хранят – душу и тело, как наставляют, вразумляют, предостерегают нас? Как они это могут делать? Они выше нас по уму, крепче нас по силам, они дальше нашего умными очами видят, лучше нашего знают, больше нашего могут, хотя они тоже не всеведущи и не всемогущи.
В каких случаях Ангелы нас хранят, нам помогают? Когда у нас для чего сил своих недостает, когда сами чего предусмотреть не можем. Да, это Ангел твой помог тебе, если ты не по силам своим что сделал доброе или, сверх чаяния, от чего худого избавился, или усердно помолился, доброе придумал. Впрочем, что я говорю – когда сил своих у нас недостает, Ангелы помогают. Всегда Ангелы помогают нам, без них никакое доброе дело у нас не производится. Где какое добро ни делается, тут непременно содействует Ангел. Где кому помощь Божия ни подается, тут непременно помогает Ангел.
Всегда ли мы можем пользоваться их хранением, помощью? Всегда, во всех случаях, если мы только чисты по душе и по телу или сами очищаем себя покаянием, постом и молитвой.
Да, слушатели, грехами, беззакониями и прегрешениями мы удаляем от себя наших Ангелов хранителей, а покаянием, постом и молитвой мы опять их к себе приближаем. Ангел твой хранитель непременно опять при тебе, с тобой, когда ты каешься во грехах, молишься, постишься.
Что еще сказать вам об Ангелах, наших верных наставниках, хранителях душ и телес? Будьте, слушатели, повнимательнее к ним, помните, что они всегда с вами, при вас, а то мы очень мало помним о них, как будто их вовсе и нет у нас. Внимателен будь, христианин, к твоему Ангелу хранителю, молись ему.
А то как же он будет к тебе внимателен, когда ты о нем и не думаешь? Будь внимателен к твоему невидимому хранителю, наставнику, которого Бог с самого Крещения к тебе приставил, чтобы всегда, всю жизнь твою был с тобою; будь внимателен, чтобы вам с ним и с прочими Бесплотными и по смерти петь Богу, победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще. Аминь.
52. О силе молитв служителей Церкви
Почему, слушатели, когда вы приносите Богу молитвы, моления, прошения, благодарения, то не сами только молитесь, но и нас, служителей Церкви, просите, чтобы мы с вами молились?
Потому что Бог скорее услышит вас, когда о вас и за вас будут с вами вместе молиться служители Церкви; молитвы, воссылаемые к Богу служителями Церкви, особенно святы пред Ним и преимущественно доступны Ему. Якоже некия многоценныя бисеры приемлет их Господь, как кадило благовонное, приятны они Ему.
Вы знаете, как скоро и непреложно Бог слышит молитвы служителей Церкви, когда они молятся Ему при совершении Святых Тайн? При освящении, например, даров хлеба и вина священник говорит: и сотвори убо хлеб сей, честное Тело Христа Твоего, а еже в чаши сей честную Кровь Христа Твоего, и по слову его молитвы тотчас хлеб прелагается в Тело, а вино в Кровь Христову. И такую могущественную силу имеет сия молитва только в устах служителей Церкви, никто, кроме них, не имеет власти совершать Святые Тайны. Если же так скоро и непреложно Бог слышит служителей Церкви при совершении Святых Тайн, то, без сомнения, и во всех других случаях, и во всякое другое время, и во всяком другом месте Он скорее слышит их молитву, чем других, Ему молящихся. Кого Господь допускает выну предстоять Своему Святому Престолу, тех молитвы, без сомнения, всегда святее и доступнее к Нему. От кого Господь всегда с любовью принимает дары и жертвы духовные, от тех всякое прошение Он с особенной любовью всегда выслушивает.
Да, слушатели, устам служителей Церкви преимущественно внимает Бог и по их преимущественно молитве нисходит благодать свыше, их преимущественно молящимися устами объявляется вам милость Божия, их преимущественно благословляющей рукой подается вам благословение Господне, чрез них преимущественно все от вас принимает и все нам подает Господь.
Отчего же это? Откуда у служителей Церкви такая благодать и сила? Отчего так святы и доступны к Богу их молитвы? Не от собственной их святости и силы – они иногда бывают не святее других, хотя и должны быть святее, – но от святости и благодати Того, Кого они собой представляют и изображают, когда молятся. Кого они тогда изображают и представляют? Святую Церковь, которой они служители. А глава Святой Церкви Кто? Господь Иисус Христос, всегда неразлучно с ней пребывающий Своею благодатию. Следовательно, о ком служители Церкви совершают молитву, о том молится вся Церковь, о том ходатайствует Сам Иисус Христос, един ходатай Бога и человеков (1Тим. 2:5). Иисус Христос обещался всегда быть там с молящимися, где их двое или трое соберутся во имя Его (см.: Мф.18:20). Тем паче Он бывает со всей Церковью, молящейся в лице служителей ее, и их устами Он молится тогда, их руками Он приносит приношения.
Да, когда служители Церкви о вас и за вас молятся с вами, то это все равно, что Сам Иисус Христос со всей Своей Церковью о вас и за вас молится Отцу Своему с вами; молящимися устами священника Сам Иисус Христос объявляет вам милость Божию; благословляющей рукой его Сам Иисус Христос подает вам благословение Господне.
Вот чья благодать льется из уст служителей Церкви, когда они совершают молитвы церковные, и вот чья сила исходит от их десницы, когда они благословляют кого во имя Божие: благодать и сила Господа нашего Иисуса Христа. Вот отчего святы и доступны Богу молитвы служителей Церкви – в лице их Сам Сын Божий молится Богу Отцу.
53. О главопреклонении во время великого входа
Когда на Божественной литургии совершается так называемый великий вход, то есть когда священнослужащие, взяв с жертвенника приготовленные для священнодействия Тела и Крови Христовой дары, хлеб и вино, несут их по церкви, останавливаются потом близ амвона для произнесения своих молитв и входят после с ними в святой алтарь, чтобы поставить их на святой престол, – вы все это время стоите, благочестивые христиане, преклонив главы свои.
Для чего преклоняете в это время главы и о чем вам надобно при этом случае мысленно молиться?
Дары, в это время несомые, хотя еще и не освящены, совсем приготовлены уже к освящению. Сей хлеб на дискосе, что у диакона на голове, скоро будет пречистым Телом Христовым; сие вино в потире, что у священника в руках, скоро будет животворящей Кровью Христовой. И потому дары сии, вместообразная Тела и Крови Христовой, уже священны. В изъявление своего почитания к этим священным дарам вы и преклоняете главы, когда священник и диакон переносят их в алтарь.
А некоторые из вас, слушатели, не преклоняют главы пред ними в это время, равно и в других случаях, и пред другими священными предметами. Отчего не преклоняют? Оттого, может быть, что хорошо не знают, для чего надобно преклонять? Итак, вот для чего: для того, чтобы преклонением главы воздать почтение святым дарам, приготовленным к освящению в Тело и Кровь Христову, а чрез то самим осветиться и таким образом приготовиться к святому возношению и (иногда) к принятию принесенных и освященных даров.
Да, святыню Божию всякую мы чтим не потому только, что она свята, досточтима, но и потому, что, воздавая ей почитание, мы сами чрез то освящаемся, достойными пред нею делаемся. Святость ее, при нашем ее почитании, сообщается нам, как бы отражается в нас, и оттого мы делаемся пред нею чище, святее. Так озаряются светом предметы при обращении их к солнцу, так получает магнитную силу железо чрез прикосновение его к магниту.
Почитанием нашим святыни, поклонением главы, преклонением колен и другими знаками почтительного нашего уничижения пред нею мы, как бы повинностью некоею, уменьшаем, исправляем нашу греховную вину, прикрываем, восполняем наше недостоинство пред ней. А потому и грешник недостойный делается достойным святыни Божией, даже божественной, Пречистой, Страшной, святыни Тела и Крови Христовой достойным делается; когда смиренно чтит ее, с благоговением преклоняется пред ней, со страхом Божиим приступает к ней, тогда он уже чист, свят бывает пред нею; одно это благоговейное почитание его, воздаваемое им святыне, есть в нем уже святость, благочестие. Да, свят и чист, кто почитает святыню, уже потому свят он и чист, что святыню почитает.
А тот, напротив, еще грешнее делается, кто не воздает почитание святыне, кто пред нею ведет себя неблагоговейно, не смиряется душой, не преклоняется телом; к грехам своим он еще грехи прибавляет – небрежение к святыне Божией и невнимание к своей греховности. Кто при свете солнца не видит ничего ни на себе, ни пред собой, тот, конечно, очень слеп и крепко сомкнул свои глаза. Так и кто при святыне Божией не проникается святостью, не сознается в греховности, тот, видно, очень грешен, и мрак велик в душе его. Да, это верх нечестия, или, лучше сказать, глубина греха, когда грешник при святыне Божией не становится святее, когда не воздает ей почтения, не хочет поклониться ей, как должно, со смирением, – подойти к ней как следует, со страхом. Таковым грешникам лучше не являться пред святыней Божией, особенно не присутствовать за Божественной литургией, при святом возношении, и не приступать к Святому Причастию: на суд себе, на осуждение будут ходить они сюда; особенно в суд себе, в осуждение будут они причащаться Тела и Крови Христовой…
Но как можно и не причащаться? Как не бывать и за Божественной литургией? Как ни пред какой святыней не являться? Ведь это значило бы отказаться навсегда от всякой святости и чистоты, от всякой благодати и спасения, от самой вечной жизни и вечного блаженства отказаться и отдать себя прямо на осуждение вечное, на муки вечные. Нет, лучше являйтесь, грешники, и чаще являйтесь пред святынею; только будьте пред нею попочтительнее, поблагоговейнее, повнимательнее, поклоняйтесь ей со смирением, со страхом, с повинностью. Чрез это вы будете освящаться, очищаться и таким образом делаться достойными всякой Божией святыни, всякой Божией благодати, самого Святого Причастия будете достойны.
Итак, вот, слушатели, как важно и нужно во время великого входа на Литургии преклонять главы пред святыми дарами в знак почитания к ним – так же, как вам важно и нужно во всякое время чтить всякую Божию святыню. Святыня потому и святыня, что, будучи сама в себе свята, освящает собой чтущих ее свято. Аминь.
54. О главопреклонении во время великого входа
Не в знак только почитания, благоговения к святым дарам, но вместе и в знак моления и прошения вашего к священнику и диакону вы, слушатели, преклоняете главы во время великого входа. О чем же надобно мысленно молиться и просить их в это время?
Служители Божии всегда ваши служители, ходатаи и молитвенники пред Богом. Да, о вас они молятся, ради вас священнодействуют. Всякое их слово к Богу, можно сказать, о вас; всякий шаг их за службой Божией ради вас. И о себе они молятся больше потому, чтобы скорее Бог услышал их о вас молитву; и Святых Тайн причащаются они так часто, всегда, как совершают Божественную литургию, больше для того, чтобы с большим дерзновением молиться о вас. И потому во время великого входа, как и во всякое другое время, молитесь сперва о служащих, о священнике и диаконе, о благодати и милости им от Бога, а потом просите их себе, для своих нужд, соображаясь с их молениями и священнодействиями.
Да, в церкви за службой должно сообразоваться с молениями и действиями служащих священника и диакона: какое когда они священное действие совершают, какую когда они молитву произносят, – сообразно с этим и вы мыслите и молитесь, чтобы таким образом вам всегда единеми усты и единем сердцем с ними молить, славить и воспевать Бога. А какую молитву священнослужащие произносят во время великого входа? Да помянет Господь Бог во Царствии Своем. Так они молятся тогда о Благочестивейшем Государе Императоре и о всей, по порядку, Августейшей Его Фамилии, о Священном правительствующем Синоде, о местном архиерее и о всех православных христианах вообще. В древние времена вслух же поминали они тут и тех, о ком приносились приношения, что у нас ныне делается на проскомидии.
Итак, вы, слушатели, в это время мысленно просите священника и диакона так: помяните нас в своих молитвах, помолитесь о Благочестивейшем Государе нашем Императоре… то есть о всех тех просите их помолиться, кого они тогда поминают; присоединяйте тут же, по имени, и родных своих и благодетелей, вообще всех тех, о ком вы обязаны молиться особенно, кому желаете от Бога особенной какой-нибудь благодати или милости.
Священнослужащие своими молитвами как бы ответствуют или соответствуют вам на ваше к ним моление, мысленное или гласное; о чем вы просите их, чего желаете от них, о том они и молят Бога, то они и подают от Господа. Благословение Господне на вас, или: да помянет вас Бог во Царствии Своем, так они молятся. Почему? Потому что вы желаете, просите, чтобы они вас благословили или помянули. Да, просить надобно священнослужащих, мысленно или гласно просить, чтобы они помянули вас в своих молитвах, когда вы видите их молящихся или приступающих к молитве. Они молятся о всех людях, но преимущественно о тех, которые того достойны, заслужили или которые желают, просят их молитв. Для таковых преимущественно и действительны их молитвы, о таковых особенно и сильно пред Богом их поминовение.
Когда же именно помянуть вас должны вы просить священнослужащих во время великого входа? В это ли только время помянуть? Нет. Они идут тогда со Святыми Дарами в алтарь. Для чего? Чтобы там, на святом престоле, принести Дары сии в жертву Богу о всех и за вся, чтобы там в своей молитве к Богу помянуть и всех и вся. И потому вы в это время просите священнослужащих так: помяните нас во святом алтаре, пред престолом Божиим, когда будете приносить Дары сии в жертву Богу; помяните нас, когда будете там, в этом Царстве Божием, молиться.
Поминание, во время великого входа совершаемое, как и на проскомидии, есть только приготовление к поминанию; настоящее, действенное поминание бывает в святом алтаре, пред престолом Божиим, при возношении Святых Даров в жертву Богу. Во время великого входа священнослужащие поминают для того, чтобы своей молитвой освятить поминаемых и таким образом приготовить их к участию в принесении Бескровной Жертвы Богу, к получению благодати и милости от Бога, а при возношении Святых Даров, поминая, они делают поминаемых участниками в принесенной Богу жертве, удостаивают их благодати и милости от Бога, вводят, так сказать, их в Царство Божие.
Да, это великая милость Божия, когда священнослужащие кого помянут в алтаре при возношении Святых Даров, это все равно что поминаемый сам лично с ними, пред престолом Божиим жертву Богу приносит и благодать от Бога принимает. Великая честь святым прославленным и Самой Пресвятой Деве Марии честь воздается, когда святые имена их поминаются при возношении Святых Даров. Как же велика милость Божия для нас, грешных, когда наши грешные имена в это время поминаются! И вечность блаженная не выше этого божественного времени, ибо тогда здесь бывает Сам Господь наш Иисус Христос, ибо Он всегда Сам есть приносяй святое возношение в алтаре. О, помяни тогда, Господи, и мое недостоинство!
Так, слушатели, во время великого входа, преклонив главы, мысленно молитесь к Богу о священнике и диаконе и их просите, чтобы они в своих молитвах помянули вас и всех ваших в святом алтаре, пред престолом Божиим, при возношении Святых Даров в жертву Богу. И не в это только время, но и чаще, всегда за службой церковной мысленно просите служителей Божиих, чтобы они о вас молились, вас поминали, благословляли. Тогда молитвы, поминания и благословения их будут действительны для вас. Аминь.
55. О крестном знамении Крест – красота Церкви…
Никогда ни перед кем не стыдись креститься, слушатель благочестивый! С дерзновением всегда и при всех клади на себе крестное знамение, как такое украшение, которое составляет твою красоту видимую. Никакое украшение так не идет тебе, как крест. Да, крест – прекрасное для тебя украшение. Лучше золота оно, лучше, красивее камней драгоценных.
Прочие твои внешние украшения по их блеску ценятся: хороши, потому что хорошо блестят. Крестное украшение ценно по его благодати: слава креста внутрь.
Да, крестное знамение не простое украшение, а благодатное. Без прочих внешних украшений, может быть, не обратишь на себя внимание людей, людского одобрения не заслужишь. Без крестного украшения не обратишь на себя внимания Божия, Божией благодати не получишь. Без крестного украшения наг человек духовно, обнажен Божественной благодати.
Что если бы на нашем соборе не было креста наверху? Святитель не освятил бы его, и, следовательно, в нем не было бы благодати Божией, а потому он был бы обыкновенным простым зданием, ничем не отличающимся от наших домов, в которых мы живем.
Да, крест – красота Церкви – неотъемлемая принадлежность храма Божия, необходимая. Церковь без креста – не православная церковь; храм, на котором нет креста вверху, все равно что дом простой.
То же надобно сказать и о христианине: крестное знамение – украшение для него неотъемлемое, принадлежность его необходимая. Без крестного знамения христианин – неправославный христианин, на ком нет креста, тому нет благодати от Бога.
Итак, не стыдись креститься, христианин, никогда не стыдись, ни при ком не стыдись, всегда и при всех с дерзновением и смело клади на себе крестное знамение.
Крест – красота Церкви; крест и для тебя прекрасное украшение, благодатное, необходимое, неотъемлемое украшение. Никаким внешним знаком не привлечешь к себе благоволения и благодати от Господа, как крестным знамением. Эту одну внешнюю красоту в тебе Бог преимущественно любит. Все внешнее благочестие в тебе крестом благоукрашается. Аминь.
56. О хождении в храм Божий
Ни дождь, ни грязь не оставили вас дома, слушатели благочестивые; вы и ныне пришли в храм Божий. Так и всегда надобно делать: несмотря ни на что надобно ходить в храм Божий. Что же нам делать, куда же нам и ходить, особенно в праздничные дни, как не в храм Божий? Мы всего более должны заботиться о спасении души. А где же лучше заботиться об этом, как не в храме Божием? Сами мы или не знаем, как спасти душу, или забываем об ее спасении, но здесь непрестанно и напоминают нам о том, и учат нас тому. Дома нам многое препятствует заботиться должным образом о спасении души, но здесь и самое удобное место, и самое удобное время сим заниматься. У нас так много нужд, о которых мы должны просить Бога, а где же нам и просить о них, как не в храме Божием?
Здесь Бог присутствует особенным, таинственным образом и потому доступнее к Нему наша молитва. Здесь Богу приносится умилостивительная жертва и потому Он скорее исполнит нашу молитву. Здесь мы молимся Богу все вместе, а Он особенно любит, когда Ему молятся двое или трое вместе. Здесь, если твоя молитва не дойдет до Бога, то другие умолят Его за тебя. И потому, слушатель благочестивый, когда ты бываешь в церкви, то никогда не забывай, что тут за тебя молятся с тобой и другие. И если на свою молитву не надеешься, то утешайся той мыслью, что, может быть, Бог услышит молитву других, за тебя молящихся. Здесь, если не будет у тебя усердия к молитве, то и оно удобно родится в тебе – смотря на других молящихся, и ты станешь молиться.
Итак, вы хорошо делаете, что ходите в храм Божий. Только вот что нехорошо: многие из вас скучают в храме Божием, стоят как бы нехотя, ждут не дождутся, как бы уйти поскорее. Знаете ли, отчего вам бывает скучно стоять за службою? Это оттого, что вы не понимаете церковной службы и не обращаете на нее внимания, не понимаете и не слушаете того, что поют и что читают, не понимаете и не смотрите на то, что делают служители Церкви. Если бы вы все это понимали, если бы вы на все это обращали внимание, то не стали бы скучать, как бы длинна ни была служба. Вам тогда некогда было бы скучать, вы были бы все заняты.
Вы скажете: что же нам делать, если мы не понимаем церковной службы? Я к тому все это и говорю, что вам надобно стараться понимать службу церковную. Все вдруг, конечно, понять нельзя, трудно, а понемногу и постепенно очень легко. Знаете ли вы, что в церковных службах изображается и повторяется пред нашими глазами все наше христианское учение? Да, здесь не только слышишь, но и в разных лицах, действиях и образах видишь все: и историю веры, и истину веры, и правила веры. И потому, чтобы хорошо понимать церковные службы, непременно надобно основательно знать главные истины христианского учения. А для того опять же надобно чаще ходить в церковь Божию и внимательнее слушать проповеди; в проповедях церковных и учение христианское излагается, и службы церковные нередко изъясняются.
Итак, не оставляйте же, слушатели, своего благочестивого обычая, ходите в церковь Божию. За это вас Бог не оставит Своими милостями, за это Его благословение всегда будет изливаться на вас. Аминь.
57. Тем, которые редко ходят в храм Божий
Сегодня пришло в церковь Божию много таких христиан, которые в другое время ходят очень редко. Что же это значит? Ужели они не считают своим долгом отдавать Божие Богу?
Не знаю, что и сказать им в назидание, потому что слишком о многом надобно бы поговорить с ними и слишком во многом надобно бы убеждать их. Да, многого не знают, многому не веруют те христиане, которые редко ходят в церковь Божию. Самое нужное для спасения души едва ли все твердо знают они. И как им знать и веровать, когда не слушают? И где им слушать, когда в церкви Божией не бывают? Можно сомневаться, веруют ли твердо и в Бога, в бытие Божие те люди, которые редко ходят в церковь Божию. А что они мало чтут Его, то это несомненно: кого мы почитаем, к тому и в дом часто ходим, особенно в важные, нарочитые дни приходим к нему непременно, чтобы выразить ему наше почтение. Итак, что сказать ныне и ради праздника, и в назидание тем из нас, которые, может быть, опять не скоро придут в церковь Божию? Вот что.
Фарисеи одно время посылали своих учеников к Иисусу Христу спросить Его, следует ли платить подать кесарю или нет. Хотя фарисеи знали, что платить подать кесарю непременно надобно, однако же посылали спросить об этом Иисуса Христа, со злым намерением посылали – чтобы как-нибудь уловить Его в словах. И Иисус Христос, хотя знал, что со злым намерением спрашивали Его фарисеи, дал, однако же, им ответ настоящий.
Тем из вас, слушатели, которые очень редко ходят в церковь Божию, советую обратиться, хотя бы дома на молитве, к Иисусу Христу и спросить Его, должно ли им для благоугождения Богу и спасения души ходить в воскресные и праздничные дни в церковь Божию или нет. Не со злым намерением спросите, а с тем именно, чтобы вам действительно увериться в этом. Если вы действительно не уверены, спросите – и Иисус Христос ответит вам, если вы знаете Его: не телесными уже, но душевными ушами вы услышите ответ Его. Спаситель наш, Господь Иисус Христос, всегда отвечает тем, кто спрашивает Его о своем спасении, и ищущий себе вразумления у Него непременно вразумлен будет Им: Он и не ищущим Его явлен бывает, и не спрашивающим пути Божию учит.
Вы скажете: что спрашивать Иисуса Христа, должно ли в воскресные и праздничные дни ходить в церковь Божию, когда мы и так знаем, что ходить непременно нужно? Что же вы не ходите, если знаете, что ходить непременно нужно?..
Раб… который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много (Лк. 12:47).
Отдавайте кесарево кесарю, и Божие Богу (Мф. 22:21). Аминь.
58. О ежедневном хождении в церковь
В городских церквях, особенно где два или три причта, служба Божественная совершается всегда и в будни. Почему? Не потому только, что городским священно– и церковнослужителям, как не занимающимся работой, есть когда служить в церкви, но и потому, что в городах есть кому ходить на службу и в будни, потому что есть много таких людей, которые и в будни свободны от дел. Да, для вас, которые в будни нужными делами не занимаетесь, для вас преимущественно в эти дни служба в церкви совершается. Ходите же. Бог для того и освободил вас от забот житейских, чтобы вы свободно могли чаще ходить в церковь; Бог для того и подает вам все нужное для жизни без ваших трудов особенных, чтобы чрез то дать возможность вам побольше трудиться для спасения души. За вас работают, трудятся или трудились другие, а вы должны помогать им в трудах или платить им за труды своими молитвами о них к Богу. Марфа хлопочет и суетится дома о нужном для тела, а ты, Мария, помолись и послушай в церкви о нужном для своей и ее души. Так, на ком не лежит прямой обязанности заниматься делами в будни, те обязаны в эти дни ходить в церковь на службу.
Но и вам, занимающимся делами, почему бы не ходить в будни, по крайней мере на обедню? Ужели дела ваши остановятся, если вы на какой-нибудь час или на два оставите их для того, чтобы сходить в церковь помолиться? Остановятся, может быть, на время, пока вы будете в церкви, но зато после пойдут еще лучше, успешнее. Господь и временными благами благословляет тех людей, которые часто ходят в дом Его; Он и в житейских делах, и в мирских службах особенно помогает тем, кто при всех своих трудах и занятиях успевает бывать и на Его Божественной службе. Нет, не потому некоторые не ходят в будни в церковь, что боятся, как бы дела у них не остановились, а не ходят, ленятся ходить, привычки не приобрели ходить.
Да, если бы от частого хождения в церковь ты в делах своих сделал и большое запущение, то жалеть не будешь, не должен, потому что не запустишь зато главнейшего своего дела, попечения о спасении своей души, и взамен убытка временного можешь приобрести блаженство вечное. Ходящие часто в церковь Божию на службу идут самой прямой дорогой в Царство Небесное. Если же вам действительно никак нельзя быть в церкви по делам, по службе, по нездоровью или по другим каким причинам, то вот что, по крайней мере, старайтесь вместо этого делать: в те часы, когда божественная служба совершается, вспоминайте о том, что в церкви идет служба, мысленно молитесь с молящимися, мысленно просите их, чтобы о вас помолились и помянули вас пред престолом Божиим.
Святая Церковь молится всегда о всех людях, о всех сущих на земли, на море, и на всяком месте, следовательно, и о тебе, где бы ты ни находился. Ужели же в часы молитв Святой Церкви о тебе ты минуты времени от своих дел и занятий не уделишь на то, чтобы мысленно помолиться с ней, чтобы мысленно попросить ее помянуть тебя в молитвах? Ведь и за то, что ты издали мысленно попросишь помолиться, Святая Церковь помянет тебя, то есть сделает участником в своих молитвах, которые она приносит Богу, и уделит тебе часть должную от Божиих щедрот, которых она испрашивает у Него своими молитвами. Куда мы мысленно переносимся, там мы целой половиной нашего существа бываем, участвуем. Особенно, слушатели, не забывайтесь в то время, когда совершается Божественная литургия; будьте тогда у себя дома так, как будто вы стоите в церкви за службой Божией.
Для кого за Литургией бывает у нас благовест особенный, так называемый к Достойно? Не столько для стоящих в церкви – чтобы они стояли с большим вниманием, – сколько для находящихся вне церкви, дома или где в другом месте, чтобы тем дать знать, какое начинает совершаться служение в церкви. Благовест к Достойно бывает тогда, когда начнут петь: Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу… Следовательно, чрез этот благовест дается знать, что в церкви наступает самое важнейшее служение, начинает совершаться то, что некогда Господь наш Иисус Христос совершил на Голгофе, начинает приноситься Богу бескровная жертва о всех и за вся – следовательно, о тебе и от тебя, слушатель благочестивый! И потому, когда ты услышишь благовест к Достойно, то где бы ни был ты, чем бы ни занимался, оставь свое дело, встань, перекрестись, поклонись, говоря: Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущней и Нераздельней. Потом помолись о себе и о других, о живых и умерших, проси Бога о своих нуждах, особенно о прощении своих грехов. Это время – самое благоприятное для молитвы: ради бескровной жертвы, приносимой тогда в церкви, Господь всего скорее может услышать тебя во всем. Эти минуты – самые милостивые у Бога; они подобны той минуте, в которую благоразумный разбойник на свою краткую молитву – помяни мя, Господи, во Царствии Твоем – услышал от Господа самый скорый ответ: днесь со Мною будеши в раи. Недаром ударяют к Достойно: служение, затем совершаемое, особенно достойно нашего внимания. Дорожи же этим временем, этими минутами, дорожи всегда – и в церкви и дома.
Итак, божественная служба, в церкви совершаемая, совершается и в будни для всех христиан, хотя преимущественно для тех, которые в эти дни свободны бывают от дел. Возбуди в людях Твоих, Господи, внимание и любовь к Церкви Твоей и сотвори благодатию Твоею, чтобы могущие ходить каждодневно – ходили неленостно, а не могущие – были и издали внимательны к службе Твоей, да тако все с нами здесь всегда славят Пречестное и Великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Часть четвертая. Поучения на праздники Господни
59. В навечерие Рождества Христова
Нынешний день есть по преимуществу день приготовления к завтрашнему празднику. А потому мы побеседуем о приготовлении.
Слушатель благочестивый! Если бы завтра у тебя был день рождения какого-нибудь важного для тебя человека или любимого тобой лица, или благодетеля твоего, или твоего отца и матери, то ты, без сомнения, заранее придумал бы, позаботился, как бы этого человека завтра получше поздравить, как бы что-нибудь сказать ему и сделать для него приятное, особенно стал бы об этом много думать, заботиться ныне. Так всегда бывает у всех разумных сколько-нибудь людей, благородных и благодарных.
Завтра день рождения любвеобильнейшего Господа нашего, сладчайшего Иисуса, Который для тебя, слушатель благочестивый, всех людей выше, важнее, дороже – и отца и матери дороже. Думал ли ты, заботился ли о том, как тебе завтра поздравить Иисуса Христа со днем Его Рождения? Думал ли, заботился ли, что бы тебе завтра сказать или сделать приятное для Него, угодное Ему?
Если ты об этом не думал, не заботился, если в шесть недель приготовления к празднику тебе и на ум это вовсе не приходило, то по крайней мере ныне позаботься, подумай побольше. Для себя, может быть, ты много приятного приготовил, а для Спасителя что? Подумай же!
Подумай, как провести тебе завтрашний день. Чем больше будешь думать и заботиться об этом, тем будет приятнее твоему Спасителю все сделанное тобой для Него.
И одна эта дума твоя, одна забота сделать что-нибудь завтра угодное Спасителю будет Ему приятна, потому что она будет выражением твоей любви к Нему и доказательством твоей заботы о своем спасении. А для Спасителя твоего нет ничего дороже в тебе твоего спасения.
Итак, и еще скажу, подумай хорошенько, позаботься побольше ныне: чем бы тебе почтить завтрашний праздник, как бы поздравить завтра Господа Иисуса Христа со днем Его рождения, что бы такое завтра сделать или сказать для Него, ради Него?
Такое приготовление и для тебя будет спасительно, и для Спасителя твоего приятно. Аминь.
60. В день Рождества Христова
Сего ради Бог на землю сниде, да нас на Небеса возведет (Из акафиста Иисусу Сладчайшему, кондак 8).
Многие из нас в нынешний день совсем не так радуются, как бы следовало; а это, конечно, происходит оттого, что они хорошо не знают или забывают настоящую причину нынешней радости. И потому, слушатели, побеседуем о том, почему мы в нынешний день должны радоваться.
Ныне Святая Церковь вспоминает то время, когда Иисус Христос, Сын Божий, сошел с Неба и воплотился от Пресвятой Девы Марии. Но для чего Иисус Христос, Сын Божий, сошел с Неба? Да нас на Небеса возведет. Итак, вот в чем заключается главная причина нынешней нашей радости: Иисус Христос, Сын Божий, сошел с Неба для того, чтобы нас возвести на Небо.
Небо, это блаженное жилище невидимых духов и наше будущее вечное жилище, прежде очень мало было известно. О, одно это незнание как было бы убийственно, мучительно для нас! В минуты скорби, в часы сетования куда было бы нам улетать душою? В минуты смерти, в часы разлуки где было бы нам находить утешение? И что была бы это за жизнь, которая должна кончиться невозвратно? Лучше бы вовсе так не жить. И что были бы за радости, которые должны исчезнуть навсегда? Лучше бы вовсе так не радоваться.
Теперь, слушатели, подобные мысли не могут и не должны нас беспокоить. Теперь у нас есть Небо, страна отрады и утешения, куда так часто мы от сует мирских улетаем отдыхать душой, успокаиваться сердцем; теперь есть у нас вечная жизнь, где мы некогда будем жить новой жизнью, неразлучно со всем тем, что так дорого и любезно нашему сердцу.
Но кто же нам сказал об этом? Кто нам сказал, что есть вечная жизнь? Иисус Христос, Сын Божий. Иному мы бы не поверили, но Ему не можем не верить, ибо Он Сам пришел с Неба. Иной не мог бы нас убедить, но в Его словах не можем сомневаться, ибо Он есть истинный Бог. После сего можем ли мы не радоваться в тот день, в который Иисус Христос, Сын Божий, сошел с Небес, в который открыта нам неведомая страна, это Небо, блаженное жилище невидимых духов и наше будущее вечное жилище?
Правда, мы и без Иисуса Христа некогда узнали бы эту неведомую страну. Тело, в котором заключена наша душа, теперь препятствует нам видеть духовный мир; с разрушением же его не будет этого препятствия. Но, увы, мы увидели бы тогда блаженный мир для того только, чтобы вечно не видать его; мы тогда узнали бы, к какому блаженству сотворил нас Бог, но вместе узнали бы, что нам невозможно воспользоваться этим блаженством. О, это знание было бы мучительнее самого незнания, этот свет был бы убийственнее самой тьмы! Но теперь, с пришествием Иисуса Христа, нам бояться нечего: Иисус Христос не только сказал нам, что есть Небо, есть вечная жизнь, но Он указал нам и путь к достижению этого Неба; Он дал и средства к наследию этой жизни.
Что лишает нас Неба? Что нам препятствует наслаждаться вечной жизнью? Грехи. Но Иисус Христос избавил нас от грехов; мы теперь из купели Крещения выходим чистыми от всякой греховной скверны. Иисус Христос пролил Кровь Свою за нас – можем ли мы сомневаться в возможности взойти на Небо? Может ли Иисус Христос не принять на Небо нас, которых искупил честною Своею Кровию для Неба? И после сего можем ли мы не радоваться в нынешний день, в который положено начало сему искуплению?
Итак, слушатели, будем в нынешние дни размышлять или беседовать друг с другом о том, для чего сошел Иисус Христос на землю; тогда радость чистая сама придет к нам, наполнит нашу душу и отразится вовне. Эта чистая и святая радость очистит и освятит собой и земные наши радости, которые мы ныне вкушаем. Да, слушатели, пока мы на земле, нам и земные радости тоже нужны, и Церковь не возбраняет нам и не осуждает их, только бы эти радости не заглушали в нас духовных радостей. А они непременно заглушат их, если мы будем забывать настоящую причину нынешней нашей радости. Аминь.
61. В день Рождества Христова
Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? (Пс. 115:3).
Два великих благодеяния Божия к нам мы ныне воспоминаем: рождение Иисуса Христа, Спасителя нашего, и избавление России, отечества нашего, от нашествия галлов с двадцатью народами.
Это мы делаем в церкви Божией, это мы делаем все вместе; чем же каждый из нас в отдельности должен почтить праздник сей? Что же вне церкви мы можем приносить Спасителю нашему за Его благодеяния к нам?
Что всего более любит в нас Господь наш Иисус Христос, то мы и должны приносить Ему в благодарность. А Спаситель Иисус Христос всего более любит спасение наше; Он и родился для спасения нашего, жил для спасения, учил спасению, пострадал для спасения, умер и воскрес для спасения, восшел на Небеса и сидит одесную Бога Отца – все для спасения, все о спасении печется, все о спасении ходатайствует Он.
Итак, что мы сделаем для нашего спасения, тем мы принесем Спасителю самую приятнейшую благодарность. И жертв не нужно Ему от нас, если мы себя от греха не храним, и прошений Он не примет, если мы спасение свое забудем.
Итак, слушатель, делай что-нибудь для своего спасения, молись о своем спасении, говори о своем спасении – это всего дороже для твоего Спасителя. Храни себя от греха, не думай о грехах, прогоняй от себя желания греховные, бегай дел греховных; это – честь от тебя празднику Христову, самая приятнейшая для твоего Христа.
Но, храня себя от греха, и других удерживай от греха, позаботься о спасении ближних твоих, помолись о их спасении, сделай что-нибудь для их спасения.
Впрочем, не это одно, а все, все с радостью себе в благодарность примет от тебя Спаситель, все, что ты сделаешь ныне для твоего ближнего: и стакан воды, и кусок хлеба, и ласковое слово к ближнему – все это будет приятной от тебя жертвой для Спасителя.
А если ты обидишь, обеспокоишь, уничижишь, прогневишь ближнего твоего, ты этим Спасителя твоего оскорбишь, Который дорожит всего более спасением твоим. Что ни сделай для Спасителя, что ни приноси Ему в жертву, – все неприятно Ему будет, если ты ближнему неприятное сделал, если ты от ближнего неприятности не перенес.
Христе, Спасителю наш! Все наше в Тебе и все от Тебя: сами мы ничто, и нашего доброго у нас ничего; ничего своего, кроме наших слабостей, наших грехов. За все мы Тебя должны благодарить, но и благодарить Тебя достойно мы не можем без Тебя. Ты Сам нас и вразуми, и просвети, и спаси и сохрани, и уста наши Твоего хваления исполни. Аминь.
62. В день Рождества Христова
Повествование о делах человеческих, как бы ни было занимательно, очень скоро может наскучить, а о предметах божественных сколько ни слушай, всегда найдешь в них занимательное: чем чаще слышишь, тем больше слушать хочется. На сем основании, слушатели, я намерен ныне рассказать обстоятельства рождения Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа.
Когда Дева Мария возвратилась домой от родственницы своей Елизаветы, то Иосиф, обрученный Ее муж, начал с недоумением смотреть на Нее, ибо замечал Ее непраздною, и, наконец, когда ясно увидел, что Она имеет во чреве, то пришел в величайшее беспокойство. В горестных размышлениях об этом он однажды заснул. Во сне явился ему Ангел и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся держать у себя Марию, жену твою. Она будет Матерью Сына Божия; родившегося от Нее младенца ты назовешь Иисусом, то есть Спасителем, потому что Он спасет людей от грехов их. Проснувшись, Иосиф тотчас успокоился и поступил так, как велел ему Ангел. После сего Иосиф и Мария спокойно, мирно и свято жили в своем Назарете.
Время между тем текло, они со дня на день ждут обещанной Богом радости. Вдруг от римского императора Августа выходит повеление сделать перепись всем подданным. Вследствие сего повеления всякий должен был вписывать свое имя в том месте, где родился; Иосиф и Мария, как потомки царя Давида, должны были вписать имена свои в Иудее, в городе Вифлееме, отчизне Давидовой. Таким образом, из Назарета должны были они отправиться в Вифлеем. Они прибыли в Вифлеем уже вечером. По случаю переписи туда собралось множество народа; все дома были заняты. Иосиф тщетно искал пристанища, где бы провести ночь; их никто не хотел пустить, частью потому, что дома все были полны, а частью потому, что наружность их показывала величайшую бедность (видно, нигде бедных не любят). Ночь наступила; они, утомленные от пути, еще не нашли себе приюта. Что было делать? На самом конце города была пещера, в которую пригонялись на ночь стада. Туда-то поспешил Иосиф с Марией. В сем-то месте Пресвятая Дева Мария родила Иисуса, Сына Божия, Сама приняла Его, Сама спеленала Его, Сама положила Его в ясли. Поистине славное и преславное чудо! Небо – вертеп, престол Херувимский – Дева, ясли – вместилище, в нихже невместимый Христос Бог.
Итак, Спаситель при появлении Своем на свет встретил бедность, уничижение: родился среди ночной тишины; обвит был скудными пеленами; покоился на жесткой соломе. А мы, слушатели, хотим отдыхать на мягких ложах, а мы жаждем ходить в блистательных одеждах, ищем несметных сокровищ, почестей высоких.
Об Иисусе Христе почти никто и не знал, что Он родился; Вифлеем был погружен в сон глубокий; только пастухи узнали о Нем, только они возблагодарили Бога, сподобившего их узреть Спасителя; только волхвы с востока пришли к Рождшемуся, только они почтили Его златом, ливаном и смирною.
Слушатели-христиане! Кто не благодарит за полученные благодеяния, для того благодеяния бесполезны: не чувствуя их цены, он не может ими воспользоваться. Итак, благодарим ли мы Бога за те благодеяния, которые Он явил ныне нам в Сыне Своем? Мы собрались ныне в храм сей: но точно ли чувство благодарности к Богу привело нас сюда? Мы поем Ему песни хваления почти с полуночи, но участвует ли сердце в этих столь ранних хвалениях? Мы готовы ныне плакать от радости, но готовы ли пожертвовать хоть чем-либо для радости? Вот что я хочу сказать: хорошо, что мы ныне пришли в храм Божий; хорошо, что ныне так рано оставили ложе свое; хорошо, что радуемся ныне, – но еще будет лучше, если мы для нынешнего дня оставим хотя бы один порок, если для нынешней радости обрадуем хотя бы одного человека. Оставить грех, сделать доброе дело есть благодарность Богу самая приятнейшая для Него, какую только можем мы принести Ему. Аминь.
63. В день Рождества Христова
Любити убо нам, яко безбедное страхом, удобее молчание, любовию же, Дево, песни ткати спротяженно сложенныя, неудобно есть: но и, Мати, силу, елико есть произволение, даждь.
Песни в честь Рождества Господа нашего Иисуса Христа готовы: святые отцы написали их, сложили; Святая Церковь сберегла их – для нас. Но мы, слушатели, готовы ли петь сии божественные песни? Чисты ли наши уста? Чист ли язык? Чисто ли сердце? Чиста ли душа? Шесть недель Святая Церковь приготовляла нас к пению песней в честь Рождества Христова; но и в эти шесть недель хранили ли мы уста наши от осуждения ближних? Удерживали ли сердца от пожеланий греховных? Обуздывали ли язык наш от слов непотребных? Берегли ли душу нашу от мыслей нечистых? По крайней мере в эти шесть недель святого поста прибегали ли к посту и молитве, к слезам и покаянию для очищения себя от всяких скверн плоти и духа?
Да, праздник наступил, и песни в честь его готовы; но мы, кажется, не приготовились еще праздновать святой праздник и не готовы петь божественные песни. Когда же приготовимся?.. Ах, как бы нам на тот свет не явиться такими неготовыми! Там в том и блаженство, что все непрестанно поют и славословят Господа, а мы петь не будем уметь, а мы петь не будем способны или от пения скучать будем, как здесь иногда скучаем.
Праздник Рождества Христова наступил, и песни в честь его готовы, но мы… Что же нам делать? Будем праздновать, будем и неготовые петь песни в честь Рождества Христова, приготовленные нам другими: эти божественные песни так святы, что и чрез одно пение их наша душа может освещаться; эти божественные песни так чисты, что одним слушанием их сердце наше может очищаться; от них так благоухает благодатью, что и чрез внимание наше к ним мы можем исполниться благодати.
Итак, слушатели, пойте Богу нашему, пойте – пойте Цареви нашему, пойте! Ты же, Дево Богомати, елико произволение есть, даждь нам силу петь божественные песни в честь рождшегося от Тебя Христа. Аминь.
64. В день Рождества Христова
Величай, душе моя, честнейшую и славнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу.
Иисусу Христу ныне, в день Рождества Его, все какую-нибудь воздают честь, все как-нибудь радуются Ему.
Одни с пастырями поклоняются Ему, другие с Ангелами славословят Его, те с Пречистой Матерью Его в молчании внимают пению во славу Его, некоторые с волхвами приносят дары Ему какие-нибудь.
А ты, слушатель благочестивый, как радуешься ныне Рождшемуся, какую честь воздаешь Ему, твоему Спасителю Богу?..
Будем со мной величать Пречистую Матерь Его, Деву Богородицу. Величая Матерь, мы Сына возвеличим; воздавая Ей честь, мы Рождшегося от Нее почтим.
После песней Господних нет для Бога славнее и для духа нашего сладостнее песней, в честь Божией Матери нами воспеваемых.
Итак, будем петь: величай, душе моя, честнейшую и славнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу. Аминь.
65. В день Рождества Христова
И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям (Лк. 2:10).
Это говорил Ангел пастырям вифлеемским, бывшим в поле в ту ночь, когда родился Господь наш Иисус Христос.
Пастыри вифлеемские были по внешности, вероятно, не лучше или немного лучше наших нынешних пастухов, то есть чуть не последние люди в городе. Но, слушатели, какой милости они сподобились! Господь Своего Ангела посылал сказать им о рождении Иисуса Христа, и они первые из всего рода человеческого поклонились новорожденному Спасителю мира. Чем же они заслужили эту милость Божию? Конечно, не тем, что, может быть, они одни в ту ночь не спали, хотя не спали по делу нужному, честному.
Итак, чем? Низки были они по званию и черной работой занимались, но, видно, высоки были по душе, выше многих своей добротой и чистотой. В самом деле, всмотримся в них повнимательнее, и мы это увидим.
Ангел сказал им: «Не бойтесь; я возвещаю вам радость великую, которая будет всему народу». Итак, радость великая будет не им одним, а и всем, всему народу.
Знаете ли, что на их месте сделали бы люди низкие, черные сердцем, черствые душою?.. «А, так не нам одним будет великая радость, а всем, всему народу! Что же нам и торопиться смотреть?» Так бы сказали и не пошли бы, и остались бы у своего дела. Не так сделали пастыри вифлеемские. Как только они услышали, что будет радость, и радость всем, не им одним, тотчас все свое оставили, бросили и пошли в Вифлеем посмотреть, что там случилось, что там за радость Божия родилась, от которой все люди будут радоваться.
Да, человека низкого, черного сердцем, черствого душой общая радость не веселит, не занимает; он, если радуется, радуется один, вовсе не думая о других, веселы ли они. Он сыт, спокоен, доволен, а другие? Что ему другие? Лишь бы он был сыт, спокоен, доволен. Он даже и не рад бывает, когда другие радуются или когда ему надобно делить радость свою с другими. А людей, великих по доброте, по чистоте сердца и души, радует радость общая; они веселятся, когда знают, что весело всем. Да, значит, велик тот душой и сердцем, в ком отражается, вмещается радость о многих, у кого достает участия ко всем. Мал, напротив, значит, человек, низок душой, сжат и черств сердцем, когда у него нет места для радости о других, когда ему ни до кого, а только до себя.
Мы удивляемся иногда, отчего некоторые люди не делят радостей с нами в Церкви, радостей святых, Божественных: именно это оттого, что они не чисты сердцем, не добры душой, наше веселье не по их черной душе, наше радование со всеми и о всех невместимо для их сжатого сердца. Им даже неприятно, досадно, что мы Богу служим, что мы о Господе радуемся. О, да как же это можно, не говорю досадовать, а как можно не радоваться, когда смотришь или слышишь, что человек Бога славит, Бога хвалит, поет, величает! И на язычника порадуешься, когда тот по-своему молится Богу и раздает милостыню бедным, ибо, видя это, тут же уверяешься, что Господь пошлет когда-нибудь Своего Ангела к нему сказать, что он должен делать для своего спасения (см.: Деян. 10).
Только одни враги рода человеческого могут досадовать, не радоваться на наше служение Богу; для тех всякий Божий свет нестерпим, и всякое занятие святое противно. Так, пастыри вифлеемские, эти низкие по своему званию и занятию люди, удостоились первые увидеть и поклониться Иисусу Христу потому особенно, что были добры душой и чисты сердцем. Доброта души к Богу человека приводит, и чистые сердцем Бога узрят.
Не подумайте, впрочем, слушатели, что доброта души и чистота сердца бывают достоянием только людей простых, низких по званию и занятию. В высших это величие еще скорее увидите. Тот, которому одному мы ныне торжественно поем вечную память, которого во все веки будут все величать благословенным, чем заслужил такую память и такое благословение, как не чистотой и добротой своею? Да, чистое сердце Александра I могло успокаиваться только миром Европы, и добрая душа его могла утешиться только радостью всего мира.
О, старайтесь, слушатели, чтобы у вас было сердце чистое и душа добрая, чтобы все вам близки были и все доступ к вам имели; тогда будете вы Богу близки и будете иметь к Нему доступ, наконец, будете с дерзновением поклоняться Ему уже не на земле, в яслях лежащему, но на Небе, на Престоле славы сидящему с Отцем и Святым Духом. Аминь.
66. На второй день Рождества Христова
На второй день Рождества Христова Глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий: Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет (Мф. 2:18).
Не плачь, не сокрушайся, не скорби много, когда тебя люди обижают, притесняют, отнимают у тебя счастье, лишают тебя спокойствия. Бога они у тебя ведь не отнимут и вечного спасения не лишат. Напротив, за то, что люди отнимают у тебя счастье в этой жизни, Господь вознаградит тебя блаженством по смерти; и за временное твое здесь беспокойство, которое от других терпишь, воздаст тебе спокойствием там вечным.
Вот когда плачь, сокрушайся, скорби заранее: когда станешь ты других обижать и притеснять, когда от тебя другие будут плакать и скорбеть. Несчастнейшее существо тот человек, который других делает несчастными. Накажет Господь всякого обидчика, притеснителя, досадителя; будут сами после горько плакать и скорбеть все эти люди. И это бы еще была великая тебе милость, если бы ты в этой жизни понес наказание за злые свои дела, если бы здесь успел оплакать грехи свои против ближнего и загладить их добрыми делами. Кого здесь Господь наказывает, тех в жизни будущей помилует; кто здесь покается, те там не будут страдать от раскаяния. Но если ты нераскаянным и ненаказанным останешься до жизни будущей, то вечное будешь там нести наказание, вечно там будешь плакать и скорбеть от злых своих дел.
«К кому из нас относятся эти слова? – скажете вы. – Мы, кажется, не обижаем других; из нас никто не знает за собой этого греха».
Дай Бог, чтобы и никогда мы не знали этого греха за собою; да сохранит Господь всех нас от этого величайшего несчастья – делать других несчастными. Обижать других так грешно, что и слово обидное сказать, и желание обидеть другого есть большой грех. Говоря ныне об этом, я не имею никого из вас в виду: я говорю это так только, в предосторожность себе и вам, и всем. Мне подали случай сегодня поговорить с вами именно об этом следующие из ныне чтенного Евангелия слова: Глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий: Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Это вы знаете, когда было; когда, по повелению царя Ирода, были убиваемы в городе Вифлееме и окрестностях его все младенцы мужеского пола от двух лет и ниже. Четырнадцать тысяч погибло их тогда. Ах, слушатели, читая описание этого ужасного события, задолго до нас бывшего, мы, и невиновные в нем, как будто видим и слышим, как убивают этих бедных младенцев, как рыдают их несчастные матери; и больно нам за них, и плакать мы готовы с ними. Но Ирод бесчеловечный… он ведь в аду читает описание этого события, и вечно он будет читать его там, и вечно будут видеться ему эти страдания младенцев, и вечно будут слышаться ему эти рыдания матерей, и вечно будет мучиться он ими, и вечно будет страдать он от них.
Да, слушатель, ты теперь не чувствуешь, какое делаешь зло, что обижаешь и притесняешь других; не знаешь, как бесчеловечно это, что ты доводишь других до слез и скорбей; не чувствуешь, как больно плакать и скорбеть от твоих обид и притеснений; может быть, ты и не знаешь и знать не хочешь, что от тебя плачут и скорбят другие. После все узнаешь; узнаешь, изведаешь на себе все зло злых своих дел. С воскресением твоим в жизнь будущую оживут пред тобой все злые твои дела; тогда и скрытое во мраке осветится, и сердечные намерения обнаружатся (см.: 1Кор.4:5); тогда услышишь рыдания обиженных, увидишь и слезы притесненных тобою; и будут жечь тебя эти слезы огнем неугасимым, и будут грызть тебя эти рыдания червем неусыпаемым. Да, зло вечно будет мучительно для тех, в чьей памяти оно вечно будет оставаться; червь их никогда не умрет, и огнь их вовеки не погаснет (см.: Мк.9:48).
Нет, не делай себе вечного зла, то есть не обижай, не притесняй других, не доводи понапрасну никого до слез горьких, никогда не доводи, хотя бы оттого пришлось тебе самому плакать и скорбеть, нуждаться и бедствовать.
Если ты решишься лучше терпеть нужду и бедность, чем для своего довольства и обогащения обижать других, то бедность твоя будет пред Богом лучше всякой богатой Ему жертвы, потому что эта бедность спасет тебя от греха.
Если ты решишься лучше плакать, чем других доводить до слез, то слезы твои будут Богу приятнее всяких твоих славословий, потому что они будут выражением твоих славословий, потому что они будут выражением твоей любви, полагающей душу за други своя (см.: Ин.15:13).
Да ведь и плакать утешительно, когда плачешь, а не хочешь доводить другого до слез; и в бедности весело, когда нуждаешься, бедствуешь, а у других не отнимаешь, чужого не берешь. Беден, да никому не должен обидами; на глазах часто слезы, зато на душе нет греха против ближнего. Впрочем, беден ты и не будешь, только трудись честно, не обижай других, не притесняя никого. Господь благословит твои труды, и ты с блаженными кроткими наследуешь землю (см.: Мф.5:5); плакать также ты не будешь, по крайней мере долго не будешь, лишь бы другие от тебя не плакали. Господь скоро утешит тебя с блаженными плачущими (см.: Мф.5:4). Нет, слушатели, чего бы вам ни стоило, не обижайте других, не отнимайте ни у кого довольства и счастья, не лишайте никого спокойствия. Горе тем веселящимся, от которых другие плачут; горе тем насыщенным, от которых другие голодными остаются; горе вам, богатые, если вы наживаете богатство обидами, притеснениями и другими неправдами; не здесь, в этой жизни, ваше горе, а там, за пределами гроба, – там, где глас в Раме, некогда слышанный, вечно будет слышаться бесчеловечному Ироду. Аминь.
67. На второй день Рождества Христова
Иже в вертепе родивыйся и в яслех возлегий нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш молитвами Пречистыя Своея
Матере и всех святых помилует и спасет нас.
Слушатели благочестивые! Как же мы спасемся, как же нас помилует Господь? Мы все грешим, все оскорбляем Бога…
Вчера, стоя в церкви, мы от всего сердца радовались и думали, что мы всю жизнь с радостью будем подвизаться против грехов; и не успели выйти из церкви, как стали по-прежнему грешить не мыслью только и желаниями, но и словами и делом. После всякого греха и проступка мы раскаиваемся, скорбим, сокрушаемся, но едва только совесть успокоится, как опять принимаемся за то же, за те же грехи.
И сколько раз мы давали обещание всячески хранить себя от грехов, и не сдерживали его! Как же мы спасемся, как же Господь нас помилует?
Не унывай: спасет и помилует тебя Господь. Ты плачешь о грехах своих, сокрушаешься, скорбишь, что оскорбляешь Бога своими грехами: плачь больше, сокрушайся сильнее, но не унывай, а на Господа надейся и к Нему прибегай. Он рожден для того, чтобы мы все чрез Него могли спастись; Он для того в мир пришел, чтобы спасти грешников. Грешников пришел Господь спасти. Что же тебе унывать, грешник? Ты первый из грешников – тебя первого Господь и спасет. Только не переставай плакать, не откладывай каяться во грехах своих. Тотчас, в ту же минуту, как согрешишь в чем, к Богу с раскаянием, со слезами обратись. Если согрешишь опять – опять кайся, прибегай к Нему. И если после этого согрешишь – опять к Нему же со слезами, с раскаянием. Долго ли же так? До того времени, когда ты от всего сердца, от всей души скажешь Господу: Господи, мне невозможно спастись без Твоей помощи, без Твоего помилования; Ты – мое спасение, Ты – мой Бог, Ты – мое радование.
Господь, когда увидит, что ты, при всем желании сохранить себя от грехов, все не можешь не грешить, грешишь и все раскаиваешься; падаешь и все плачешь; плачешь и опять падаешь, когда увидит это, поспешит к тебе тотчас на помощь. И мать, пока дитя ее, падая несколько раз, не плачет или не больно плачет, не торопится к нему: а как скоро дитя упадет и сильно заплачет, она тотчас к нему бежит, и чем больнее оно плачет, тем скорее она бежит. Так и Господь наш Иисус Христос: не тотчас спешит нам на помощь, когда впадем в грех, но когда мы горько восплачем о грехах наших. Да, Господь попускает нам падать во грехи и не тотчас поспешает к нам на помощь, чтобы мы опытом дознали, что без Него спастись нам невозможно от грехов; Он попускает нам падать в бездну греховную, чтобы сильнее мы призывали неисследную бездну Его милосердия, в котором одном все наше спасение, вся наша радость, все блаженство.
Не унывай же, слушатель благочестивый: Господь помилует и спасет тебя, молитвами Пречистыя Своея Матери и всех святых помилует и спасет. Аминь.
68. В Новый год и в день Обрезания Господня
Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа (1Кор. 2:2).
Ныне у нас Новый год; это, без сомнения, все вы знаете, слушатели. Ныне память иже во святых отца нашего Василия Великого; и это тоже редкие не знают. Но какой еще ныне праздник? Едва ли все из вас это знают. Да, многие, как мне известно, не знают, что ныне еще по плоти обрезание Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Видите, слушатели, какого важного обстоятельства из жизни Иисуса Христа не знают, не помнят некоторые из христиан. От чего это? От неразумия? Без намерения?..
Впрочем, не из этого одного случая видно неведение или забвение христиан об Иисусе Христе – подобных случаев немало. Взгляните, например, в ином доме на иконы святые: икона Спасителя или не первое между ними занимает место, или даже вовсе нет ее. Это тоже от неразумия? Без намерения?.. Посмотрите у некоторых на книги: всяких книг увидите много, и духовных, и светских, а Евангелия Господа нашего Иисуса Христа или нет вовсе у них, или оно лежит где-нибудь далеко. И это также от неразумия? Без намерения?..
А почитайте книги нынешние, светские книги, так часто и в таком множестве издаваемые ныне для просвещения людей, для распространения между ними света истины. О Иисусе Христе или ни слова в них не говорится, или, если где неизбежно было сказать о Нем, говорится в таких выражениях, что не скоро поймешь, что писатель хотел сказать тут о Иисусе Христе, точно он боялся назвать Его настоящим именем, Господом и Богом Иисусом Христом. Ужели и это от неразумия? Без намерения?.. Или послушайте, когда иные христиане говорят между собой где-нибудь, дома или в беседах, в собраниях, в обществе… Об Иисусе Христе едва ли и там услышите, куда собираются рассуждать о предметах важных, об усовершенствовании людей, об их умственном и нравственном образовании, а в других собраниях, мирских… о, там странным, почти неприличным показалось бы для многих, если бы кто произнес имя Господа Бога нашего Иисуса Христа!.. Ужели и это тоже от неразумия? Без намерения?..
Ах, слушатели-христиане, от чего бы и почему бы это неведение или забвение о Иисусе Христе ни происходило – от неразумия ли или от разума, положим, что и от неразумия, – но как же христианину не разуметь, как же не знать Иисуса Христа? Или как же, разумея Иисуса Христа, не помнить, забывать о Нем! Ведь Его мы и должны знать всего больше и помнить всего чаще; ведь весь наш ум мы должны употреблять на познание Его, всю нашу память на памятование о Нем. В этом-то ведь и состоит истинное просвещение наше, в этом-то и есть истинный свет, чтобы знать и помнить Иисуса Христа, Его жизнь, Его учение, Его дела. Мы и учиться всему должны для того только, чтобы лучше познать Иисуса Христа. Бесполезны все наши познания, когда мы при них Иисуса Христа не знаем; тьма – наше просвещение, когда оно нас ко Иисусу Христу не приводит.
Мы все читать и все помнить должны для того только, чтобы о Иисусе Христе вспомнить. Ведь все святое только Иисусом Христом свято; все чтимое только по Иисусе Христе досточтимо. Ни к чему нам не служат всякие памяти, нами творимые, когда мы при них о Иисусе Христе забываем. Мы и говорить и писать все должны для того, чтобы о Иисусе Христе при этом что-нибудь сказать или написать. Мертво то писание, которое не во имя Иисуса Христа пишется; гнило то слово, которое не ради Иисуса Христа из уст наших исходит. Весь свет наш, слушатели, от Него, а потому и все наше светить нам должно для познания Его.
Так, христианин, с Нового года положи себе за правило: все внимание свое обращать к Иисусу Христу. Как можно чаще о Нем читай и слушай, чтобы тебе каждый шаг из Его жизни и каждое слово из Его учения помнить; как можно чаще о Нем говори и пиши, как можно чаще на Его святую икону взирай и молись, чтобы ты мог Ему непрестанно духом молиться и неумолчно Его устами славословить. В познании Иисуса Христа весь наш свет; в молитве к Иисусу Христу все наше спасение; в славословии Иисуса Христа – все наше блаженство.
Господи! Твоею благодатью вразуми нас; всех нас, Господи, вразуми; и мы узнаем и уразумеем, и будем помнить, и не забудем, что Ты Един Свет, всех освящаяй, и Тебе Единому подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом. Аминь.
69. В Новый год и в день Обрезания Господня
У нас ныне Новый год, и мы пришли в храм Божий молиться; о чем же мы ныне должны молиться, чего должны просить себе у Бога в Новый год? Когда мы шли в храм Божий, слушатели, подумали ли об этом? А подумать надобно бы непременно. Так, по крайней мере, хоть теперь побеседуем: чего мы должны просить себе у Бога в Новый год, о чем ныне должны Ему молиться?
Вот о чем: чтобы Господь Бог помог нам с Нового года начать новую жизнь, жить добродетельно и не грешить. Надобно, слушатели, надобно нам позаботиться об этом. Для многих из нас наступающий год, может быть, будет последним годом на земле, а, может быть, и никто из нас, находящихся теперь в сем храме, не доживет до будущего Нового года. Вот, многие из наших родных, друзей, знакомых тоже думали, желали, старались дожить до нынешнего года, но где они теперь? Впрочем, пусть так, что мы еще долго проживем на земле; что же потеряем, когда будем жить добродетельно? Не только ничего не потеряем, но все возвратим, сохраним, умножим.
Да, слушатели, и здоровье наше немало поправится, если будем жить добродетельно, ибо мы слабы и больны бываем едва ли не всего чаще оттого, что ведем жизнь невоздержную и порочную. Наши болезни большей частью происходят от грехов или изнуряют нас за грехи. Адам в раю, пока не грешил, был здоров, а как преступил заповедь Божию, то и болезнь узнал. Если мы будем жить добродетельно, то и бедность тяготить нас не будет. Бедность хотя и не порок, но и она очень часто бывает следствием пороков. Святой царь Давид говорил, что за всю жизнь свою не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба (Пс. 36:25); праведник всякий день дает и милует, а у него все не убывает. Как в реке не убывает вода, хотя она и непрестанно течет, так и у праведника не убывает богатство, хотя он и непрестанно расточает его. И что праведнику богатство? Он и в бедности богат. У праведника малое лучше, чем у грешника большое. Да, слушатели, сладок для того и черный хлеб, кто добывает его трудами собственными.
Если мы будем жить добродетельно, то и в бесчестии не будем. Добродетельных все уважают; их уважают и самые небогобоязненные люди. Впрочем, и бесчестия, и укоризн от других что бояться тому, у кого душа чиста и кого совесть ни в чем не укоряет? На всех угодить нельзя. А станешь всем угождать, так, пожалуй, Бога оскорбишь.
Если мы будем жить добродетельно, то и в несчастьях не будем несчастны, – мы или скоро от них избавимся, или они не так будут для нас тягостны. Для доброго и горести имеют свои сладости; тому и страдать весело, по крайней мере, не тяжело, у кого совесть чиста. После бури и ненастья погода бывает лучше, веселее; так и после горестей и несчастий душа добродетельного бывает еще чище и спокойнее. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь (1 Пет.4:15–16). Словом сказать: если мы будем жить добродетельно, то все нужное для жизни у нас будет и преизбудет. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, говорит наш Спаситель, и это все приложится вам (Мф. 6:33), то есть лишь главного не забывайте и живите правдой, а что нужно, все будет: и пища будет, и одежда, и жилище.
Помолимся же, слушатели, теперь Господу Богу, чтобы Он помог нам с нынешнего Нового года начать новую жизнь, жить добродетельно и не грешить, и не теперь только, но и непрестанно будем Его о том просить и молить. Аминь.
70. В Новый год и в день Обрезания Господня
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга (Ин. 13:34).
Для нас, слушатели, заповедь о взаимной любви самая новая заповедь, потому что мы ее не знаем, забываем, не исполняем, оставляем. И потому для Нового года выслушайте эту новую заповедь: любите друг друга, друг друга любите.
Мы между собой самые близкие люди, самые сходные друг с другом: мы все сотворены по одному образу и подобию, образу и подобию Божию; мы все искуплены одной кровью, Кровью Господа нашего Иисуса Христа; мы все члены одного тела, дети одного Отца и одной Матери.
Слышишь ли ты, который рад отнять последнее у другого, слышишь ли эту новую для тебя истину? Ты отнимаешь у самого близкого тебе человека, самого сходного с тобой, самого похожего на тебя. Разве он какое бессловесное животное, что ты так жестоко с ним поступаешь? Да и с бессловесными разве хорошо жестоко поступать? Праведный печется и о жизни скота (Притч. 12:10), а ты и человеку не хочешь сделать милости, и не только милости не делаешь, но немилосердно поступаешь. Какой же ты человек? Жалкий ты человек, погибший ты человек!
Слышишь ли ты, который не желает добра другому, не помогает ему в нуждах, даже должного, законного не подает ему? Слышишь ли ты эту новую для тебя истину? Ведь Бог Отец так его любит, что для его спасения Сына Своего не пощадил, но на смерть отдал; а Сын Божий, помогая его спасению, Кровь Свою за него пролил.
От тебя терпит другой, от тебя прискорбно ему, от тебя изнемогает он, а ты не чувствуешь? А тебе не больно? Какой же ты человек! Ты не член тела человеческого, ты – не человек. Члены тела друг другу сострадают: когда рука болит, всему человеку больно; а ты не болеешь, не скорбишь, когда человек – член одного с тобой тела человеческого – болит, скорбит? Спрашиваю, какой же ты человек? Нет, видно ты не человек!
Итак, вот что, слушатели: если мы не будем любить друг друга, если забудем, оставим эту заповедь, то в нас не останется ничего не только христианского, но и человеческого. Если не будем желать друг другу добра, друг другу помогать, снисходить, уступать, то мы – не христиане и даже не люди будем.
И потому с Нового года будем помнить и исполнять эту новую для нас заповедь – любить друг друга. Помните эту истину: что мы делаем или говорим другому во вред, то делаем себе в вечную погибель; обижать другого значит навек губить свою душу. Аминь.
71. В день Сретения Господня
Когда царь Птолемей, основатель славной александрийской библиотеки, вознамерился перевести книги Ветхого Завета с еврейского языка на греческий, тогда из израильтян выбраны были семьдесят два мужа мудрых, которые основательно знали языки еврейский и греческий.
В числе сих семидесяти двух мудрых израильтян был некто Симеон, муж праведный и благочестивый (Лк. 2:25). Переводя книгу пророка Исаии и остановившись на известном его пророчестве: се, Дева во чреве приимет и родит Сына (Ис. 7:14), он усомнился в этом и, подумав немного, взял нож и хотел было выскоблить это место, как недостойное вероятия. Но вдруг пред ним явился Ангел и, удержав его руку, сказал: веруй тому, что написано; ты своими глазами увидишь исполнение сего непостижимого пророчества. Симеон оставил намерение свое и с того времени начал ожидать исполнения слов пророка Исаии и, наконец, дождался.
В Ветхом Завете был закон, по которому родильницы, родившие детей мужеского пола, в продолжение сорока дней не могли являться в церковь (закон этот соблюдается и у нас). На сороковой день они обязаны были явиться в храм для принятия очистительной молитвы от священника и для принесения в жертву двух горлиц или агнца, смотря по достатку.
Иисус Христос родился; сороковой день после Его Рождества наступил, и вот Мария и Иосиф, исполняя закон, берут двух горлиц и идут с Младенцем Иисусом в храм. В то самое время, когда они вошли в храм, пришел туда, по внушению Божию, и праведный Симеон и увидел Младенца Иисуса. Взяв Его на руки и узрев в Нем утеху Израилеву, он воскликнул: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видесте очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей… (Лк.2:29–31). Итак, слова пророка Исаии сбылись, и предсказанное Ангелом исполнилось: праведный Симеон увидел, сретил рожденного от Девы Господа; потому-то и праздник нынешний назван Сретением Господним.
Слушатели-христиане! Учение нашей веры заключает в себе много таинственного и непостижимого для нашего разума. Бойтесь сомневаться в чем-либо; как вера учит, так и веруйте. Непостижимое нельзя постигнуть и нет нужды постигать. Не будем ожидать и чудесного явления какого-нибудь Ангела, который бы вразумил нас и истолковал нам то, чего не понимаем: у нас есть Ангел, верный наставник и толкователь – Святая Церковь. Ее будем слушаться, ей будем верить во всем.
Праведный Симеон пред смертью увидел исполнение непостижимого таинства, в котором однажды дерзнул было усомниться. Пред смертью, слушатели, и у нас откроются глаза, и мы узнаем то, чего теперь не хотим знать, и мы тогда убедимся в том, в чем теперь сомневаемся. Да, пред смертью узнаем, убедимся, что по ту сторону гроба есть другая жизнь – вечная, о которой мы теперь так мало заботимся; пред смертью узнаем, убедимся, что в будущей жизни грешников ожидают мучения – вечные, которых теперь так мало боимся, пред смертью узнаем, убедимся, что есть Правосудный Бог, воздающий каждому по делам, Которого теперь мы так мало страшимся; ясно узнаем и вполне убедимся тогда во всем, чему учит нас Святая Церковь, которой мы так мало слушаемся; но, увы, может быть, не на радость нам откроются тогда наши глаза. Праведный Симеон увидел пред смертью спасение, а грешник узрит тогда свою погибель; сердце Симеона наполнилось утешением, а сердце грешника наполнится отчаянием; Симеон говорил: иду с миром, а грешник принужден будет сказать: иду с трепетом, ожидая мучений во аде.
О, Господи, дай нам прежде конца покаяться, не допусти нас умереть во грехах, пошли нам такую смерть, какой умер праведный Симеон, открой теперь нам наши глаза, чтобы мы видели и страшились Твоего Страшного Суда. Аминь.
72. В день Сретения Господня
Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое (Лк.2:29–30).
Святой праведный Симеон, как увидел Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, сделался спокоен, хотя тут же он вспомнил, что ему вскоре после этого предстоит умереть, потому что так было ему предсказано Духом Святым. Видя перед собой Спасителя, он не боялся увидеть смерть свою. Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видесте очи мои спасение Твое… Слушатели-христиане! При воспоминании нашем о том, что нам надобно будет когда-нибудь умереть непременно, очень многое нас беспокоит, тревожит, страшит, ужасает; но если при этом мы будем помнить о нашем Спасителе, то во всем легко можем себя успокоить.
Так, я боюсь иногда, как бы мне не умереть скоро; мне хочется пожить подольше. Впрочем, что же мне слишком бояться того, как бы не умереть скоро? Спаситель мой не даст мне умереть прежде времени, жизнь моя в Его спасительных руках. Беспокоят меня иногда предсмертные мучения умирающих: ужасны эти мучения, страшно смотреть, в каких иногда муках люди умирают. Впрочем, что же мне слишком беспокоиться от этого теперь? Спаситель мой будет со мной, когда я умирать буду, а при Нем мне не будут мучительны мои предсмертные муки. Ужасает меня иногда эта мысль, что меня в могилу опустят, землей зароют и я там сгнию, истлею, обращусь в землю, в прах. Впрочем, что же мне ужасаться этого? Спаситель мой и в могиле не оставит меня, Он и прах мой сбережет там, и я, по гласу Его, и из гроба встану живой.
Тревожит меня иногда участь детей моих, родных, близких моему сердцу; умру я – как они без меня будут жить? Кто им в нужде поможет, кто их в горе утешит, кто их доброму научит, кто от худого сохранит? Ах, до каких иногда слабостей и пороков доводит людей нужда и бедность, невежество и необразованность! В какие иногда преступления впадают люди потому только, что некому за ними посмотреть и некому их вразумить! Впрочем, что же мне этим слишком тревожиться? Спаситель мой – и их Спаситель, и они у меня знают Его. Так, Господи, Ты и в нужде поможешь, и в горе утешишь, и доброму научишь, и от худого сохранишь детей моих, родных моих и всех близких моему сердцу, когда меня при них не будет. Тебе, Христу Богу моему, теперь я их поручаю, предаю, Тебе же поручу их, когда и умирать буду, и верую, что Ты их не оставишь, заступишь, спасешь, помилуешь и сохранишь.
Страшат меня по смерти муки вечные. Страшны эти муки! Вечно скорбеть, вечно плакать, вечно в огне гореть, вечно во тьме сидеть! Впрочем, что же мне приходить в уныние и от этого страха? Лучше молиться Спасителю, чем унывать. Да, Спаситель мой – спасение мое от вечных мучений по смерти. Ему я молюсь, чтобы Он избавил меня от огня неугасимого и прочих вечных мук, молюсь теперь и умру с этой молитвой, а если умру с молитвой к Спасителю, то Он спасет меня и от вечных мучений.
Многое и еще может нас тревожить, страшить, ужасать, когда мы будем думать о нашей смерти; но во всем мы легко можем себя успокоить, если только будем помнить, что у нас есть Спаситель, Господь Иисус Христос. Спаситель наш от всякого страха нас спасает, при всяком беспокойстве нас успокаивает. Да, Господи, многого приходится мне бояться; дня одного, кажется, не проходит без того, чтобы я чего-нибудь не боялся, – за себя и за других, больше же всего и чаще всего боюсь за себя из-за моих грехов. Но когда о Тебе, моем Спасителе, я вспомню, то от всякого страха тотчас успокаиваюсь; тогда и грехов моих меньше боюсь, потому что уповаю, что Ты меня и от них спасешь, как бы они ни были тяжки.
О, я был бы спокойнейший человек, если бы о Тебе всегда помнил! Напомни же, Господи, Ты Сам мне о Себе, когда я забуду вспомнить. Помня Тебя и успокаиваясь Тобой, я боюсь только одного – чтобы мне после вдруг не забыть Тебя. Но, впрочем, и тут я верую и уповаю, что Ты меня не забудешь. Не забудешь, если бы я стал когда забывать о Тебе. О, Ты всегда мой Бог, Ты мое вечное упование! Аминь.
73. В день Сретения Господня
Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.
По закону Моисееву, Матерь Божия на сороковой день после рождения Иисуса Христа приходила и приносила с Собой Его в храм Божий, где святой праведный Симеон встретил Его и, взяв Его на руки, благословил Бога и воспел известную песнь: Ныне отпущаеши…
Воспоминая это событие, Святая Церковь установила праздник и, веселяся, величает приносимого тогда Христа Младенца и прославляет приносившую Его Пресвятую Деву Богородицу.
По закону церковному у нас матери, тоже на сороковой день после родов, приходят и с собой приносят новорожденных своих детей в храм и, приняв известную молитву, подносят их к Святому Причастию. Некоторые матери и после, в продолжение всего года через каждые шесть недель, то есть на каждый сороковой день, приносят детей своих или посылают их с другими в церковь для причащения их Святым Тайнам. И не для причащения только, а и так, слушатели, хорошо детей приносить или, когда станут подрастать, приводить в церковь на службы, и чем чаще, тем лучше.
Для чего же? Для чего детей выносят или выпускают на воздух в хорошую погоду? Чтобы подышали они благорастворенным воздухом; это для их здоровья хорошо. И в церковь надобно детей носить или водить – для того, чтобы они здесь, так сказать, подышали воздухом благодатным, чтобы послушали здесь божественного, посмотрели на святое. Это для их души спасительно. Теперь их малых носят и водят; вырастут большие, сами с большой охотой ходить сюда станут. Ко всему, к хорошему и к дурному, люди больше с малолетства приучаются. Только надобно так делать, чтобы дети в церкви были, по возможности, тихи, спокойны. Невинный крик детей в церкви, более или менее нарушая мир и покой служащих и молящихся, обращается в вину, в грех матери или тех, кто приносит их, когда они не заботятся успокоить их или уйти с ними подальше. Особенно же отцы и матери, да и все стоящие в церкви должны смотреть, чтобы дети взрослые стояли тихо и смирно. Грех всем большим, когда малые дети ведут себя в церкви нескромно, нечинно.
Святая Церковь, слушатели, ныне радуется, торжественно воспоминая о том, что Божия Матерь некогда приносила в храм Своего Младенца Иисуса Христа, Спасителя мира, ибо из этого видит между прочим, что Христос явился мирови не мнением, ни привидением, но истиною. С радостью и вы, родители, после воспоминать будете о том, что приносили и приводили детей своих в церковь, ибо увидите, что это было хорошо, увидите на деле, что это спасительно для них. Аминь.
74. В день Сретения Господня
Благослови, Владыко!
Так диакон от лица всех христиан говорит, обращаясь к священнику. Не сам диакон благословляет, а священника просит благословить. Почему? Потому что у нас, православных, особенно за службами церковными, благословляет Бога, славу Богу воссылает, а равно Божие благословение и освящение преподает преимущественно священник. Так у нас, так было и у ветхозаветных. Вот и тогда, когда праведный Иосиф и Пресвятая Дева Мария с Младенцем Иисусом на сороковой день после Его рождения пришли в храм Божий, чтобы благословить Бога и получить от Бога благословение, кто благословлял? Священник, святой праведный Симеон. Благословляла тогда Бога и Анна пророчица, но она благословляла после, когда услышала благословляющего Симеона, и потому благословляла как бы с его благословения, как мы благословляем Бога с благословения священника.
Что же это, слушатели, значит? Почему у нас, особенно в церкви, за службами Бога благословляет и Божие благословение преподает преимущественно священник? Почему благословение священника особенно свято пред Богом, благоприятно и для нас особенно благодатно, спасительно?
Благословляя Бога и преподавая благословение Божие, священник посредствует таким образом между Богом и благословляемыми. Но как же он посредствует? Посредник у нас один – Иисус Христос: Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус (1Тим. 2:5). Между Богом Святым, живущим во свете неприступном, и людьми грешными, живущими во тьме и сени смертной, не может быть иного посредника, кроме Богочеловека, Иисуса Христа.
Да, только Один Иисус Христос мог нас искупить, и искупил ны от клятвы законныя, и даде нам благословение. Без Него мы никогда, во веки веков не благословляли бы Бога, а следовательно, не получали бы от Бога себе благословения; без Него мы, по слепоте своей, не могли бы и, по грехам своим, не посмели бы Бога благословлять, о Боге радоваться. Только Он, как Сын Божий, мог сказать нам и сказал, что есть Бог, сказал и, как Сам Бог, показал Собой Бога, показал и доказал, что Бог всеведущ, всемогущ, свят, праведен, милостив, человеколюбив, показал нам Бога Своим учением, Своими делами, особенно же Своими страданиями, смертью и Воскресением; показал, доказал, уверил, убедил нас, что есть Бог, есть Правда вечная и Любовь беспредельная, и таким образом нас успокоил, примирил с Богом, так что мы с дерзновением можем Бога благословлять, от души о Боге радоваться. И Богоприимец Симеон почему так радовался и благословлял Бога? Именно потому, что держал на руках у себя Иисуса Христа и видел в Нем спасение для всех людей и свет язычников.
Итак, благословляя Бога со священником и получая благословение от Бога чрез священника, мы этим показываем свою веру в Иисуса Христа, нашего Ходатая к Богу, нашего Посредника, Искупителя, Примирителя, звание Которого священник собой представляет и самое имя Которого сложением перстов руки своей изображает. Священник представляет Иисуса Христа… Не то что напоминает только собой Его или повторяет слова Его и действия, нет, а действует, говорит с такой властью и силой, какую имеет только один Иисус Христос, Ходатай Бога и человеков.
Есть у нас, христиан, кроме священника, у каждого из нас есть, так сказать, свой всегдашний представитель Иисуса Христа: это крестное знамение. Когда, благословляя или призывая Бога, мы осеняем себя знамением крестным, этим мы тоже показываем, что благословляем Бога или призываем Его, благословляемся и освящаемся Им при посредстве Иисуса Христа, распятого на кресте. Да, благословлять Бога, молиться Ему с крестом значит благословлять, молиться со Иисусом Христом, Сыном Божиим, с Его посредничеством и ходатайством о нас пред Богом. Где крестное знамение, там Христос со Своею благодатью и святостью. Так, и крест есть представитель Иисуса Христа, но преимущественно представляет Его собой священник.
Иисус Христос всегда с нами, так что мы ничего без Него не можем делать; особенно же, преимущественно же Он с нами, когда мы приносим Богу наши общие и согласные моления, прошения, благодарения, так что если нас соберется для того хоть только двое или трое, Христос посреди нас. Вот это-то особенное, преимущественное присутствие Иисуса Христа с нами и представляет собой священник. Христиане служат, молятся Богу со священником, значит, посреди их Христос, посредствующий и ходатайствующий о них пред Богом. Священник благословляет, значит, тут Христова благодать особенная, сугубая. Когда ты один благословляешь Бога, молишься, осеняя себя знамением крестным, ты действуешь, пользуешься тем орудием, которым Иисус Христос заслужил нам доступ, дерзновение к Богу и приобрел право на благословение Божие. Но когда священник Бога благословляет, молится и, осеняя рукой крестообразно, преподает благословение Божие, это все равно что Иисус Христос Сам устами священника молится и благословляет Бога, посредствуя и ходатайствуя о нас пред Богом, и Сам рукой священника преподает благословение от Бога.
Как же это Его благословение священник имеет право преподавать? Как же это он имеет право представлять собой Иисуса Христа? Иисус Христос Сам Духом Своим Святым, чрез архиерейское рукоположение дает священнику это преимущество, чтобы он представлял Его, чтобы говорил и действовал Его властью и силой. Сначала Иисус Христос это преимущество дал Своим апостолам, апостолы же передали своим преемникам, и так в нашей Церкви преемственно родятся от Духа Святого духовные лица с властью и силой Христовой. Таким образом, благословение священника, по данной ему власти и силе Христовой, не есть изъявление его собственного благожелания или соизволения, но даяние Божией благодати или Божия разрешения, и потому всегда свято и законно то, что благословлено священником, какими бы устами он ни благословлял и какой бы рукой ни преподавал благословение.
Итак, вот почему у нас, православных, особенно за службами церковными, благословляет Бога и благословение Божие преподает преимущественно священник: священник преимущественно представляет собой Иисуса Христа. Вот почему благословение священника особенно свято пред Богом, благоприятно Ему и особенно благодатно, спасительно для нас: в благословениях, исходящих из уст священника, слышится Богу Отцу голос возлюбленного Его Сына, и благословляющей его рукой преподает благословение Божие Тот, о Ком благословятся… все племена земные (Быт. 12:3).
Слушатели-христиане! Когда Симеон Богоприимец, держа на руках своих Младенца Иисуса, благословлял Бога и потом преподавал благословение Божией Матери, Божия Матерь молчала, слушала, внимала. Видите, Матерь Божия со вниманием слушала, когда Симеон, как священник, благословлял Бога и преподавал Ей благословение.
Будьте и вы внимательны к священнику, к его благословению, и не в церкви только, но и везде, и всегда. Благодать священства неотъемлема от священника, она с ним на всяком месте, во всякое время. Невнимание, неуважение, непочтение ваше к священнику, смотрите, чтобы не отнеслось к Богу, Которого он благословляет, и к Иисусу Христу, Которого он собой представляет!..
О, если бы, Царица Небесная, по Твоим молитвам и к нам, служителям Христовым и строителям Таин Божиих, христиане все были внимательны, как Ты некогда внимала святому праведному Симеону! Тогда видно было бы, что они знают Бога, веруют в Иисуса Христа и ублажают Тебя, Преблагословенную. Ах, тогда только и будет это видно! Аминь.
75. В день Сретения Господня
И пришел он по вдохновению в храм (Лк. 2:27).
Сретение Господа нашего Иисуса Христа – такой в нашей Церкви праздник, каких у нас в году только двенадцать, а потому и называется он двунадесятым. Кто же встретил Господа нашего Иисуса Христа, где, когда и как? Праведный Симеон встретил Господа нашего Иисуса Христа в храме иерусалимском, когда на сороковой день по рождении родители Его по закону принесли Его туда.
Слушатели-христиане! И всякий из нас непременно еще в этой жизни встретит Господа Иисуса Христа. Если не встретим Его, то не найдем покоя в жизни, не будем спокойны при смерти, не будем покоиться со святыми и по смерти, – весь век, во всю вечность будем беспокоиться, мучиться от грехов, если не встретим Иисуса Христа.
Где же мы можем Его встретить? Праведный Симеон встретил Иисуса Христа в церкви, и мы нигде в другом месте не можем встретить Его, как в Церкви Православной. Если вам кто говорит: вот там Христос, у раскольников, например, или у еретиков, то не верьте; в одной Православной Церкви Иисус Христос, у одних православных христиан.
Как мы можем встретить Его? Не так, как праведный Симеон. Он видимо встретил, очами телесными видел Его, на руках в объятиях держал Его; но мы теперь духовно можем Его встретить, умными очами можем Его видеть и в душе только, в сердце держать Его должны. Как же это встретить духовно, видеть умными очами?
Встретить, видеть Иисуса Христа умными очами – значит уверовать в Него, так уверовать, как будто Он у нас перед глазами находится. Да, когда встретишь, увидишь умными очами Иисуса Христа, то уверишься в Нем так, как будто Он у тебя перед глазами. Умными очами нашими мы видим невидимые вещи точно так, как глазами телесными видим вещи видимые. У всякого ли человека есть такие умные очи? У всякого, только не все ими видят. Иные этими очами ничего не видят, потому что не открывают их, потому что живут, ни о чем духовном не заботясь.
Как же знать, что встретил и видишь Иисуса Христа умными очами? Если ты уверен в душе, что Иисус Христос тебя спасет, грехи твои очистит, от мук вечных тебя избавит, то это знак, что ты встретил, видишь Его умными очами. Тот встретил, видит Иисуса Христа, кто уверен в своем спасении через Него. Веровать в Иисуса Христа и не быть уверенным в своем спасении нельзя, можно сказать – неестественно.
Уверен ли ты, слушатель-христианин, что ты спасешься через Иисуса Христа? Уверен ли, что Иисус Христос все грехи твои очистит, простит, от мук вечных тебя избавит, сохранит? Если не уверен, то ты еще не встретил Иисуса Христа, еще не видишь Его умными очами, еще не держишь Его в душе, не имеешь в сердце.
Что же делать, чтобы встретить, чтобы увидеть Его? Ходи чаще в церковь Божию, слушай внимательнее, что поют и читают, смотри прилежнее, что совершают, принимай усерднее, что преподают, особенно чаще причащайся Тела и Крови Христовой, прося и моля непрестанно, чтобы Господь отверз твои умные очи, осиял тебя светом Своим, и ты увидишь умными очами Его, Невидимого, уверуешь в Него, будешь держать Его в сердце, иметь Его в душе и уверишься в своем спасении, найдешь себе покой в жизни, спокоен будешь при смерти и покоиться будешь со святыми по смерти.
Ходи в церковь Божию; но не подражай тем людям, которые ходят без цели, без мысли, а иногда, еще хуже, стоят и мысленно судят, осуждают служителей церкви или стоящих в церкви. Служители церкви суть слуги Христовы, и потому судить и осуждать их значит судить и осуждать прямо в лицо Самого Иисуса Христа. Ведь Он – Господь Иисус Христос – нас, служителей церкви, избрал и поставил Себе в служители. И земной царь не дает у себя слугам служить в худых, разодранных рубищах, на свой счет оденет их, если они бедны; ужели у Царя Небесного не достанет милости и благодати одевать в приличные одежды нас, служителей Своих? Ужели у Него не достанет сил и премудрости укреплять и вразумлять слабых и убогих в святом служении Ему?
Простите меня, что я сказал несколько слов суровых в защиту служителей церкви: ради вашего спасения вступился я за честь их. Кто судит и осуждает служителей церкви, тот никогда не встретит, не увидит Иисуса Христа и, следовательно, не увидит и своего спасения.
Итак, слушатели, ходите в церковь Божию, ходите чаще, ходите, пока ноги ходят, пока есть силы, есть возможность – и вы встретите Иисуса Христа, увидите Его умными очами; уверитесь в своем спасении через Него, найдете покой в жизни, спокойно умрете и успокоитесь со святыми по смерти; хотя, может быть, и долго проходите, но рано ли, поздно ли встретите. И праведный Симеон много лет ждал Его, однако же дождался. Дождетесь и вы, слушатели, ожидаемого Спасителя и желаемого спасения. Аминь.
76. В день Богоявления Господня
Днесь вод освящается естество, и разделяется Иордан, и своих вод возвращает струи, Владыку зря крещаема (Тропарь при освящении воды).
С миром изыдем мы теперь, о имени Господни, на реку и будем там погружать в воду Животворящий Крест Господа нашего Иисуса Христа. Для чего погружать будем? Для воспоминания Господа нашего Иисуса Христа, крестившегося некогда в реке Иордане. Для одного ли только воспоминания? Нет, но вместе и для освящения воды. Днесь вод освящается естество, и разделяется Иордан, и своих вод возвращает струи, Владыку зря крещаема. Да, при воспоминании Господа нашего Иисуса Христа, чрез погружение в воду Креста Его Животворящего, вода освящается, святой делается, целительной для душ и телес и всякие сопротивные силы отгнательною. Обыкновенная вода, по естеству своему, для тела только здорова, а чрез освящение естество ее изменяется, улучшается, возвышается, так что она делается спасительной для тела и для души.
Вот что, слушатели, хочу ныне напомнить вам. Воспоминание или призывание Господа нашего Иисуса Христа и всегда, во всех случаях, спасительно для нас. Непременно какую-нибудь от Господа благодать получим, пособие какое-нибудь божественное для души и для тела, для здравия и спасения, если с мыслью и со вниманием, с верой и благоговением вспомянем, призовем Его имя или если хоть скажем только: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! И имя человека доброго, который близок нам душой, который готов для нас на все, когда произнесешь, радость какую-то и удовольствие в сердце чувствуешь; как же сердцам нашим не исполниться радости и веселия при воспоминании Всеблагого Господа нашего Иисуса Христа, Который, преизбыточествуя всякой благодатью, преисполнен любви к нам и готовности на помощь нашу!
Вода, вещество ничего не чувствующее, как бы чувствует погружаемого в нее Господа, потому что очищается, освящается, Владыку зря крещаема; ужели же мы, существа разумные, не очувствуемся, не сделаемся чище, святее при воспоминании Господа, стоя как бы пред лицом Его Самого, Царя нашего Небесного? Так, в присутствии человека важного, почтенного мы тотчас принимаем вид на себя лучший, скромный, почтительный, как только он явится пред нами. Бог Отец, любя Сына Своего Единородного, Господа нашего Иисуса, милостив и богопослушлив бывает всегда и к тем, кто пред Ним воспоминает имя Его или просит во имя Его. Так нежная мать обращает тотчас ласковые взоры свои туда, где с похвалой произносят имя любимого ее сына.
Да, слушатель, призови Сына, и Бог Отец – твой Отец, и благодать Святого Духа – с тобою. А против врагов наших, против всего враждебного нам, нашему здоровью и спасению какое сильное и непобедимое оружие для нас в Господе нашем Иисусе Христе! Да, и доныне бесы убегают от имени Его, и доныне недужные здравы бывают именем Его, и доныне смертоносное не вредит при имени Его (см.: Мк.16:17, 18). И никогда ничто устоять не может пред именем Господним. Имя Его и тогда помогает, когда обуреваемый страстью или страхом, мучимый недугом душевным или телесным как бы нехотя или не зная, что ему делать, воспоминает, призывает Его или крестным знамением ограждает себя.
Спасался некто старец в опустевшем капище идольском. Враги спасения захотели выгнать его оттуда. Противился старец кое-как их нападениям; наконец, они с такой дерзостью напали на него, что он не знал что делать и закричал: «Иисусе, помоги!» И враги мгновенно исчезли. Заплакал после этого старец. «О чем ты плачешь?» – спросил его невидимый голос. «О том, что враги веры и благочестия смеют издеваться над рабами Божиими», – отвечал старец. «Ты сам виноват, – возразил небесный голос. – Зачем обо Мне не вспомнил? Вот видишь: как только ты призвал Меня, Я тотчас помог тебе». Старец понял глас Глаголавшего и пал ниц пред Невидимым.
Вот мы иногда, слушатели, жалуемся, роптать бываем готовы. Зачем страсти нас так мучат, борют, враги досаждают, тревожат? Зачем помыслы нечистые покоя не дают, недоумения смущают? Зачем беды до уныния доводят, болезни тяготят? Зачем не делаем того, что любим, и впадаем в то, чем гнушаемся? Зачем мы так скоры на зло и так неподвижны на добро? Зачем мы не Ангелы Божии, духи чистые, а люди злые, существа гнусные? Так, а зачем забываем об Иисусе Христе, Господе нашем? Зачем не призываем Его? Зачем не вспоминаем Его непрестанно, как Ангелы на Небе вечно видят лицо Отца Небесного?.. Ведь мы слабы, немощны только без Иисуса Христа, а при Нем мы сильны, и с Ним для нас все возможно. Да, есть, есть в мире сила вражия, сопротивная, влекущая Нас всегда ко злу и вовлекающая нередко во зло, – сила крепкая, могучая, против которой нам устоять трудно, но вместе самая немощная, бессильная, которая при одном имени Иисуса бежит от нас, тает, как воск близ огня, исчезает, как тьма при появлении солнца.
Так, слушатели-христиане, воспоминающие ныне Господа Иисуса Христа, крестившегося в Иордане и тем освятившего естество вод и доселе освящающего! Будем чаще вспоминать и призывать Его в наше очищение и спасение, в здравие тела и в веселие души, в избавление от страха и страстей, от помыслов нечистых и желаний пагубных, от напастей и болезней, в отгнание всего враждебного нам и в приложение всякой Божественной благодати. О имени Господни мы всегда сильны и с именем Его, куда бы мы ни пошли, везде мы безопасны, везде в мире целы. Аминь.
77. В день Преображения Господня
Преображение Господне, которое мы ныне воспоминаем, происходило таким образом: Иисус Христос, взяв с Собой трех Своих учеников – Петра, Иакова и Иоанна, взошел с ними на высокую гору, на Фавор, и там во время молитвы преобразился пред ними, то есть явился в прославленном виде: лицо Его просияло, как солнце, ризы сделались белы, как снег, и явились Моисей и Илия, с Ним беседующие. Апостол Петр, восхищенный таким чудесным зрелищем, сказал Иисусу Христу: «Господи! Хорошо нам здесь; если хочешь, построим здесь три сени: одну Тебе, другую Моисею, третью Илии».
Слушатели-христиане! Отчего апостолу Петру вдруг так стало хорошо на горе, что он желал там остаться навсегда? Святой Петр, вероятно, и прежде бывал на этой горе; отчего же именно теперь стало ему так хорошо? Это оттого, что во время Преображения от Иисуса Христа сиял необыкновенный свет, свет Божественный, и апостолы, сколько вместить могли, наслаждались сим светом. При свете Божественном везде хорошо: и во мраке светло, и в пустыне весело.
Желаете ли вы, слушатели, чтобы и вам на земле было хорошо и весело, чтобы и вас осиявал свет Божественный? Живите между собой в любви и согласии, и вам будет хорошо и весело, и вы будете жить во свете Божественном; кто любит брата своего, говорит возлюбленный ученик Христов, тот пребывает во свете (1Ин. 2:10). Как свет Божественный сиял на горе Фавор, где апостол Петр хотел построить три сени, так он всегда сияет в том семействе, где живут все согласно. Как роса на Ермоне, как роса, сходящая на горы сионские, так нисходит от Бога благословение на тех людей, которые живут между собой в любви. И со стороны сердце радуется, как смотришь на людей, живущих между собой согласно, какой же радостью они наслаждаются сами!.. К несчастью, редки такие семейства и немного таких людей.
Что делать! Говорим мы иногда: и рад бы я жить со всеми в мире, но не от меня зависит; и готов бы я забывать все оскорбления, но меня не только оскорбляют, но и примириться со мной не хотят. Нет, слушатели, от нас главным образом зависит жить в мире со всеми: от нас зависит мирно жить даже с теми, которые не хотят мирно жить и мириться. Выслушайте следующее происшествие, и вы убедитесь в истине слов моих. Один инок, оскорбленный братом, пришел к нему, чтобы помириться с ним, но тот не принял его и дверей ему не отворил. Отвергнутый инок пошел после того к одному опытному старцу и сказал ему об этом. «Знаешь ли, – сказал ему старец, – отчего обидевший тебя брат не захотел с тобой примириться? Ты, идя к нему мириться, себя самого в душе оправдывал, а его мысленно обвинял. Советую тебе так поступить: хотя и брат твой согрешил против тебя, но ты утверди в душе твоей ту мысль, что ты согрешил против него, а не он против тебя; себя обвини, а его оправдай». Инок сделал по совету старца, пошел к своему брату, и что же? Не успел толкнуть в двери, как тот отворил их тотчас и встретил его с распростертыми объятиями.
Итак, слушатель благочестивый, если ты хочешь мирно жить или помириться с кем-нибудь, а тот не хочет, то ты в душе твоей старайся оправдывать его, хотя бы он был действительно виноват пред тобой, а себя самого обвиняй, хотя бы ты был пред ним по всему прав. Души наши как-то понимают друг друга, и сердечные наши расположения сильно действуют на сердце другого. В ту минуту как ты будешь оправдывать и извинять другого, тот со своей стороны будет тебя оправдывать и извинять; таким образом между вами всегда будет мир и согласие.
На горе преобразивыйся Христе Боже наш! Соедини любовью наши сердца так, чтобы мы всегда жили мирно и никогда не имели нужды мириться. Аминь.
78. В Лазареву субботу
Господи! Уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе (Ин. 11:39).
История Лазарева воскрешения вам, слушатели, известна. Мы ныне обратим внимание на одно ее обстоятельство. Когда Иисус Христос подошел ко гробу праведного Лазаря, чтобы воскресить его, и когда сказал, чтобы взяли камень, который лежал на гробе, сестра умершего Марфа сказала: Господи! Уже смердит, слышен гнилой запах; ибо четыре дня, как он во гробе.
Слушатели-христиане! От грешника смердит, гнилой слышен бывает запах, как смердит от умершего на четвертый день после его смерти. От всякого ли грешника смердит? От всякого нераскаянного. Кто слышит, что от грешника смердит? Слышат люди, слышат особенно Ангелы хранители, Иисус Христос слышит, и всех явственнее слышит смрад греховный; но Он не удаляется, не бежит от грешника, а подходит, и подходит как можно ближе к нему, чтобы его, умершего от грехов, воскресить, чтобы отнять от него смрад греховный. Подходит и стоит, и ждет, чтобы грешник открыл свой грех, который, как камень, лежит на нем и давит его душу.
Но не забудем, какое долготерпение нужно безгрешному Богу, чтобы подойти к грешнику, от которого смердит! Помните, как Он прослезился, как восскорбел, возмутился духом, когда желал воскресить Лазаря? А отчего? От смрада греховного, от того зла, которое грех делает людям, от тех слез и скорбей, которых причиной грех.
Итак, не будем держать греховного камня на душе нашей, будем скорее открывать грехи свои Богу. Тяжко это до слез, до скорби тяжко; но слезы о грехах и скорби пред Богом непродолжительны, Иисус Христос при нас, и тотчас умершую нашу от грехов душу, как Лазаря умершего, воскресит, и слезы, и скорбь, и смрад греховный отгонит, и мы оживем, успокоимся. О Господи, сердце чистое созижди во мне и уста мои отверзи мне, чтобы я мог плакать пред Тобой о грехах моих и открывать Тебе согрешения мои. Аминь.
79. В Неделю Ваий
Бог Господь и явися нам, составите праздник, и веселящеся придите возвеличим Христа, с ваиами и ветвьми, песньми зовуще: благословен, грядый во имя Господа Спаса нашего (Песнь 9).
В нынешний день мы, по уставу нашей Церкви, имеем обыкновение держать в руках древесные ветви и горящие свечи.
С каким намерением наша Православная Церковь ввела такой обычай? Скажем об этом несколько слов в наше назидание.
Для чего мы в нынешний день имеем обыкновение держать в руках ветви? Этим мы воспоминаем торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Когда Господь входил в Иерусалим, народ вышел Ему навстречу; некоторые снимали с себя одежду и бросали на дорогу, по которой проходил Господь, а некоторые срезали с деревьев пальмовые ветви и бросали на дороге, оглашая воздух восклицаниями: Осанна в вышних! Благословен грядый во имя Господне! Таким образом мы ныне, держа в руках ветви, как будто встречаем Иисуса Христа, как некогда встречал Его народ иерусалимский. Мы и сами, слушатели, некогда на самом деле будем встречать Иисуса Христа, только не таким, каким встречали Его иерусалимляне. Иерусалимляне видели в Нем кроткого царя, сидящего на ослике, а мы узрим Его грядущего на облаках силой и славою многою, узрим Судией, страшным для нечестивых. И потому-то, держа в руках древесные ветви, мы воспоминаем и будущее наше Воскресение, наше исшествие на сретение Судии, страшному для нечестивых.
Посмотрите на сии ветви: они зимой были как бы мертвы, без жизни, но вот с наступлением весны они опять ожили. И мы умрем, и для нас наступит смерть, эта суровая зима; но придет наша весна, и мы опять оживем, и наше тело, истлевшее в земле, опять соединится с душой. Смотря зимой на деревья, и вообразить, кажется, не вообразишь, чтобы они могли опять ожить, зазеленеть, и однако же так бывает. Смотря на мертвых, опуская тела их в могилу, так и думаешь, что ты уже с ними простился навеки, и представить себе не можешь, чтобы истлевшее их тело когда-либо ожило, восстало, и однако же так будет. Таков у Бога закон – Он тленное облечет в нетление и мертвое сделает бессмертным.
Итак, держа в руках древесные ветви, мы выражаем то, что встречаем Господа Иисуса Христа. Что же теперь значат горящие свечи? Для чего мы держим их в своих руках? Этим мы показываем наше усердие к Иисусу Христу, наше пламенное желание встретить Его. Как у нас в руках горит свеча, так в нас сердце горит любовью к Иисусу Христу и желанием встретить Его. О, когда бы это было так! О, когда бы наши сердца так горели любовью к Иисусу Христу, как горят свечи пред святыми иконами!
Но мы можем, слушатели, и теперь еще встретить Господа, и нам не нужно далеко выходить для сретения Его. Он непрестанно стоит при дверях сердца нашего. И потому стоит только отворить сии двери, то есть пожелать от всего сердца, и Он взойдет. И какая радость тогда водворится в нас! Если бы в мрачную, холодную зимнюю ночь вдруг воссияло майское солнце, как тогда бы все оживилось, все обрадовалось! Вот так бывает и с душой грешника, когда в ней воссияет Солнце правды, Христос Бог наш.
Но что я сказал – так! Нет, этого язык наш изречь не может; тогда в сердце бывает настоящий рай. Мы, справедливо называя себя грешниками, считаем себя недостойными того, чтобы обитал в нас Христос, и потому многие иногда не хотят и отверзать для Него дверей сердца своего. Ах, слушатели, потому-то и надобно отверзать двери сердец, что мы грешники: Иисус Христос сделает нас праведниками. Тогда-то и надобно спешить принимать в себя Иисуса Христа, когда грехов у нас много: Иисус Христос уничтожит в нас все наши грехи, ибо Он есть умилостивление за грехи наши (1Ин. 2:2).
Итак, надобно только отворить двери сердца, изъявить только желание встретить Иисуса Христа, и Он войдет. Но отворяем ли мы сии двери для Иисуса Христа, изъявляем ли желание встретить Его? Увы, двери нашего сердца все заперты, нас все дома нет для Иисуса Христа; наше сердце полно забот о мире, о богатстве, о почестях, об удовольствиях, а для Господа в нем нет и места. И подлинно. Чем мы доказываем, что рады встретить Господа, грядущего в сердца наши?
Когда Иисус Христос входил в Иерусалим, то некоторые из народа снимали с себя одежды и бросали на дорогу, по которой Господь проходил. Но мы, слушатели, что бросаем для Господа? Бросаем ли те свои удовольствия, которых Он не любит? Бросаем ли те свои дела, которые ему неприятны? Что же пользы, что мы составили праздник и пришли в храм сей? Что пользы, что величаем Христа, зовуще: «Благословен грядый»?
Нет, слушатели, если мы действительно желаем встретить Господа и иметь Его всегда в душах наших, то непременно должны оставить те удовольствия, которые Он не любит, и бросить то, что Ему неприятно. А мы все очень хорошо знаем, чего он не любит и что Ему неприятно; это то, что нам слишком приятно и что мы слишком любим, любим до забвения Бога.
Христе Спасителю наш! Ты все стоишь при дверях сердца нашего; Ты все ждешь от нас раскаяния. О, не удаляйся, подожди еще и еще; может быть, наконец, мы одумаемся, раскаемся! Аминь.
80. В Неделю Ваий
Тебе, Победителю смерти, вопием.
Вчера вечером, за всенощным бдением, с ваиями и песнями мы торжествовали и радовались о нашем Спасителе, Иисусе Христе, как Победителе смерти. Иисус Христос победил смерть. Какую же Он смерть победил? Люди все умирают, умер и Сам Иисус Христос. Итак, какую же смерть? Кроме смерти телесной, есть еще смерть духовная. От телесной смерти тело умирает, с душой разлучается, в земле истлевает, в прах обращается. От духовной смерти душа умирает, с Богом разлучается, хотя, как существо бессмертное, не истлевает, а остается навечно. Но это хуже уничтожения – остается навечно во мраке, не видит света, не чувствует радости и от сего скорбит, мучится, страдает; как истомленный от жажды без питья, она страдает, как голодный без пищи, мучится.
Радость и веселие – жизнь души, скорбь и уныние убивают душу, впрочем не уничтожают ее, потому что душе, как духу, уничтожиться нельзя. Смерть духовная есть смерть вечная. Да, вечно страдать, вечно скорбеть, вечно мучиться – вот смерть души; вечно быть вдали от Бога, во мраке, без всяких радостей, без всякого веселия – вот смерть духовная. Сию-то духовную смерть Иисус Христос победил, то есть Он Своей смертью сделал то, что смерть духовная не имеет над нами вечного своего права. Хотя мы и теперь, при жизни умираем душой, лишаемся света, разлучаемся с Богом, теряем веселие, не смеем радоваться, но опять можем ожить, опять можем соединиться с Богом, увидеть свет, наслаждаться весельем и радостью.
Да, слушатели, есть духовная смерть, есть вечный мрак, есть вечные скорби, есть червь неусыпаемый, есть огонь неугасаемый, есть мучения вечные. Но если есть вечные мучения, то есть и Спаситель, Который спасает нас от этих мучений; если есть грехи, за которые грешники будут вечно мучиться, то есть и Спаситель, Который спасет грешников от этих грехов. Эти истины тесно между собой соединены. Кто будет отвергать вечность мучений, тот этим отвергнет и пришествие в мир Спасителя. Если бы не было вечных мучений за грехи, то для чего было Сыну Божию приходить на землю, для чего было Ему страдать, умирать? Ты, слушатель, боишься ли вечных мучений по смерти? Бойся, но не унывай, не ослабевай духом. Если есть у тебя грехи, которые подвергают тебя вечным мучениям по смерти, то есть у тебя и Спаситель, Который спасет тебя от этих грехов и, следовательно, от вечных мучений.
Ты скажешь: я не могу не грешить, не могу противиться страстям, не могу истребить в себе греховных склонностей, не могу оставить греховных привычек. Что мне делать? А что делает тот, кто сам не в силах чего-нибудь делать? Просит того, кто может помочь ему. А что делал апостол Петр, когда от страха тонуть начал? Спасителю воззвал: Господи, спаси меня. Делай ты то же, проси Спасителя, чтобы Он помог тебе спастись от грехов, чтобы помог противиться страстям, истреблять греховные склонности, оставить греховные привычки.
Спаситель знает, что ты сам по себе, без Его помощи не можешь не грешить. Спаситель не пришел бы на землю, если бы ты сам по себе мог спастись от грехов. Да, вот тебе яснейшее доказательство, что тебе самому спастись невозможно; если бы возможно было одному, то Спаситель не сошел бы на землю, не нужно было бы Ему приходить на землю для спасения рода человеческого.
Сильны в тебе греховные страсти, сильны в тебе греховные привычки, сильны для тебя соблазны мира, сильны над тобой удовольствия чувственные, тебе невозможно сохранить себя от грехов. Но сила Спасителя твоего в тысячу крат сильнее всех твоих страстей. Чистота Его святости в одну минуту омоет все твои скверны греховные. Тебе невозможным представляется, чтобы ты мог прожить без грехов; но почему же ты забываешь представлять, что у тебя есть Спаситель, для Которого все возможно, сила Которого всемогуща, Который может тебя сделать святым, хотя бы ты был, как лед, холоден ко всему святому; Который может сердце твое сделать чистым, добрым, хотя бы оно было, как камень, равнодушно ко всему доброму и нечисто, как сама скверна?
Вся сила в Спасителе, и всей силой Его ты воспользуешься, если только будешь просить. Таким образом, вся сила твоего спасения в том, чтобы сильнее просить Спасителя о помощи. Ты никак, никогда не погибнешь, не умрешь смертью вечной, если только будешь просить о спасении твоего Спасителя, Победителя смерти.
Итак, знак победы, одержанной Спасителем над вечной смертью, да будет нам, слушатели, знамением, что мы не умрем во грехах, не умрем смертью вечною. Нас спасет Спаситель наш, если только мы с ваиями и песнями, с верой и любовью не перестанем радоваться Ему, Победителю смерти. Аминь.
81. В Неделю Ваий
Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий (Мф. 21:5).
Святая наша Церковь за каждой Божественной литургией возглашает: Со страхом Божиим и верою приступите. Кто этим приглашается, кому это говорится? Кто приступит? В первенствующие времена христианства это относилось ко всем христианам, в церкви стоящим, потому что тогда все без исключения всякий день приступали ко Святому Причастию. В нынешние времена – со страхом Божиим и верою приступите – говорится тем из христиан, которые приготовились ко Святому Причастию. Без особого семидневного или, по крайней мере, трехдневного говения и приготовления ныне никто из простых христиан, кроме опасно больных, не может приступить ко Святому Причастию.
Слушатели-христиане! Неделя одна святого поста остается, а из вас не все говели, не все приступали ко Святому Причастию. По обязанности моего звания, по желанию вам спасения напоминаю ныне вам: в настоящую неделю непременно причаститесь Тела и Крови Христовой, кто еще не причащался.
По двум особенно предлогам некоторые из христиан иногда не причащаются: одни потому, что им будто некогда говеть, потому что делами нужными заняты; другие потому, что боятся причащаться, потому что считают себя недостойными Святого Причастия.
Некогда тебе говеть, потому что нужными делами занят, дел оставить нельзя. Но разве есть какое дело в свете нужнее Святого Причастия, нужнее Пречистого Тела и Животворящей Крови Христовой? Не только в этой временной жизни, но и в будущей вечной не будет ничего нужнее, потому что и там, в будущей жизни, будем жить этой же пищею и питием, тем же Пречистым Телом и тою же Животворящею Кровью. Без Тела и Крови Христовой ты вечно мертвым душой будешь в жизни будущей, то есть вечно там умирать будешь и мучиться от голода и жажды. Так оставь на время – на неделю, хоть дня на три все твои дела и самонужнейшие по твоему понятию, для того чтобы тебе причаститься во оставление грехов и в жизнь вечную.
Тебе дел оставить нельзя? Что ты говоришь? Твой Бог, Творец мира, Владыка Неба и земли, твой Спаситель жил на земле больше тридцати лет, для того чтобы приготовить в пищу и питие тебе Тело и Кровь Свою. А ты на неделю одну не хочешь оставить дел твоих, чтобы поговеть – приготовиться к принятию этой пищи и пития? Ах, христианин! Если ты веруешь во Иисуса Христа, то решительно нельзя поверить, чтобы ты действительно за какими делами мог оставить Святое Причастие; не дела житейские, а и самую жизнь сию ты должен оставить для Святого Причастия, потому что с Причастием ты примешь источник жизни вечной.
Ты боишься причащаться, потому что считаешь себя недостойным. О, не бойся! Царь твой, к Которому ты приступаешь, – кроткий Царь. Он всегда кроток, но особенно тогда, когда под видом хлеба и вина дается в снедь верующим; тут Он весь – кротость, весь – милость, весь – благость и милосердие, потому что весь отдается тебе в твое спасение; всего Себя, Тело Свое и Кровь Свою тебе отдает, чтобы ради них твои грехи тебе были прощены. И за что? За то одно отдает всего Себя для твоего спасения, что ты приступаешь, подходишь к Нему со страхом и верой, за то, что боишься, чтобы не приступить недостойно, и приступая веруешь, что когда причастишься, то оставятся тебе все твои грехи. Да, слушатели-христиане, за то одно, если мы желаем, просим Господа, чтобы нам достойно причаститься, если веруем, надеемся, что чрез Святое Причастие мы избавимся от всех грехов своих, то за это одно Он преподает нам Тело и Кровь Свою во оставление грехов и в жизнь вечную.
Не бойся, христианин: Царь твой кроток; если в тебе есть хотя бы малейшая искра веры и надежды на Него, приступай ко Святому Причастию. И искра твоя чрез соединение с Ним сделается большим пламенем, который попалит в тебе все скверное, греховное, нечистое, мерзкое.
Скажешь: Тело и Кровь Христовы есть огнь, попаляющий недостойных: суд себе яст и пиет, кто недостойно причащается. Но кто эти недостойные Святого Причастия? Это те, которые приступают без всякого страха и внимания, без всякой веры и упования – так, по одному обыкновению. Приступают вовсе не для того, чтобы Господь оставил им грехи, а – так, без всякой мысли об очищении грехов. Словом, те грешники недостойно причащаются, которые не считают себя грешниками, которые не считают Святое Причастие нужным, необходимым для очищения грехов.
Если же в самом деле ты, слушатель, считаешь себя недостойным, то все же тебе необходимо говеть и готовиться, как должно, к Святому Причастию, а то считающие себя недостойными Святого Причастия и не говеют, и не готовятся, и на исповедь не ходят. Нет, не так истинно кающиеся должны поступать. Ты говей, ты ходи в церковь Божию всю неделю, сходи и на исповедь к духовнику твоему – словом, делай все, что делают готовящиеся к Святому Причастию, и делай так непременно всякий год. Как же иначе и когда же ты приготовишься к достойному причащению, если не станешь готовиться? Скажешь: я говею, пощусь, только на исповедь не хожу, не хожу потому, что исповедь – тоже Таинство, и я боюсь обманывать Бога на исповеди: тут надобно давать обещание впредь удерживаться от грехов, а я не могу удерживаться, и потому лучше не ходить, чем давать обещание и не держать его. Это – внушение лукавого духа, слушатели; Святая наша Церковь, как попечительная мать, от Святого Причастия иногда на время удаляет некоторых, но от исповеди – никогда и никого. Как Господь наш Иисус Христос призывает к Себе всех труждающихся и обремененных, так и Святая Церковь Его на исповедь всех принимает.
Нет, слушатели, не Дух Христов учит некоторых не ходить на исповедь, а дух антихристов. Итак, слушатели, непременно причаститесь Тела и Крови Христовой, кто еще не причащался; а те, которые считают себя недостойными Святого Причастия, поговейте, по крайней мере, и исповедуйтесь – откройтесь, скажите духовному вашему отцу, почему вы недостойны. Без исповеди и Святого Причастия спастись невозможно. Аминь.
82. В Неделю Ваий
Общее Воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже…
Вчера пели мы эту песнь и ныне повторяли ее. Займемся теперь ею снова, обратим внимание побольше на ее смысл.
Общее Воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже… Яснее и полнее смысл этой песни можно выразить так: пред наступлением Своих страданий, прежде Своего распятия и погребения желая уверить учеников Своих, что умершие все воскреснут, Иисус Христос воскресил умершего Лазаря. Лазарь умерший воскрес, значит, и все умершие могут воскреснуть… Лазарь на глас Иисуса Христа, Сына Божия, восстал из гроба, в котором уже истлевать начинал; значит, и все сущии во гробех, услышавши глас Его, восстанут, оживут, как бы они там ни истлели. Почему Иисус Христос пред страданиями Своими, пред смертью Своею особенно желал уверить Своих учеников и всех прочих во всеобщем Воскресении? В уныние чтобы не пришли они, увидевши Его страждущим и потом умершим. Ведь никогда так не смущает нас мысль о смерти, как при виде больных, страждущих; и никогда так не нужна нам уверенность в Воскресении, как при виде умирающих или умерших.
Слушатели-христиане! Ученики Иисуса Христа и прочие последователи и современники Его могли увериться в общем нашем Воскресении – воскрешением Лазаря: они своими глазами могли видеть, как Лазарь умерший, по гласу Господа, встал и вышел из гроба, или от очевидцев могли слышать, что так действительно было. Чем мы можем увериться, что умершие все воскреснут? Мы еще больше имеем доказательств на это. В день смерти Иисуса Христа многие давно умершие восстали из гробов своих и явились многим. Но главное, чем можно вполне увериться в нашем Воскресении, это Воскресением Иисуса Христа. Христос воскрес воистину, воистину и мы воскреснем. Или вы желали бы увериться в этом чем-нибудь таким, что к вам ближе?
Нечто похожее на наше Воскресение мы можем видеть, можно сказать, своими глазами. Посеянное семя или зерно сгнивает совершенно, в земле в прах обращается, но потом опять после вырастает, как бы оживает, воскресает. Вот вам пример или подобие того, как тела людей умерших, хотя истлевают в земле, в прах и пыль обращаются, но потом, после, опять тоже восстанут, оживут, воскреснут. И кроме этого, помимо семян есть в видимой природе много такого, что не оживало бы, если бы прежде не умирало; и таким образом можно сказать, что у нас пред глазами всегда есть доказательства того, что люди хотя и умирают, но опять все оживут, воскреснут.
Итак, не будем, слушатели, забывать о том, что мы хотя умрем непременно, но непременно и оживем, воскреснем. Вот и Господь наш Иисус Христос тоже умирал, но и воскрес, Сам воскрес и многих умерших, кроме Лазаря, воскрешал. Вот и в природе чувственной многое умирает, истлевает, но опять оживает, воскресает – даже иное не оживет без того, если прежде не истлеет. Да, тление в природе бывает началом иной, новой, лучшей жизни. Почему же и для нас нашему гробу не быть лестницей к Небеси? Будем так себя уверять в своем Воскресении всегда, особенно при воспоминании о страшном часе смертном. В минуту страха смерти уверенность в Воскресении оживляет, ободряет, успокаивает трепещущую нашу бессмертную душу. Ах, только и утешения нам тогда, что вера в Бога и уверенность в Воскресении мертвых.
Отчего ведь мы так страшимся, трепещем, ужасаемся смерти? Оттого больше, что сомневаемся, будем ли мы еще жить по смерти; боимся, чтобы умирая совсем не умереть, чтобы совсем не перестать существовать, чтобы всем существом своим не обратиться в безвозвратное ничто. Умру, перестану жить и действовать здесь, в этой жизни – это еще ничего, это не так страшно; все же буду где-нибудь жить и действовать, хотя и не здесь уже. Но что, если так умру я, что нигде, никогда и никак уже более жить не буду, совсем перестану мыслить, желать, чувствовать, и как было время, когда меня не было, так с того времени, как умру, меня более не будет, никогда не будет, во веки веков не будет?!. Это ужасно! От этого вся душа возмущается, трепещет, содрогается… О, лучше вовсе не начинать бы жить, когда так надобно умирать!..
Христе Боже, упование мое! Не лишай меня Твоего последнего утешения – уверенности, что я хотя и умру, но жив буду; умру, истлею, но опять оживу, воскресну – воскресну и жив буду всегда, вечно, во веки веков. Аминь.
83. В день Пасхи
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси.
Итак, не мы одни празднуем нынешний день: и на Небе ныне праздник. Не мы одни славим воскресшего Христа: и Ангелы на Небесах поют Его Воскресение: Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси.
Что же Ангелам? Иисус Христос не для них сходил на землю, не за них пострадал, не за них умер, не для них и воскрес; почему же они поют Его Воскресение? Потому и поют, что они Ангелы, существа добрые. Вот злые духи не станут ныне петь, для них всякая духовная радость нестерпима, для них мучение, когда другие блаженствуют. Таково уж свойство злых. Но не таковы Ангелы на Небесах. Они всегда радуются, когда другие наслаждаются радостями; кто ни получи благодеяние от Бога, они торжествуют, как будто сами получили это благодеяние. Таким образом, Ангелы на Небесах ныне радуются, потому что мы веселимся, торжествуют, потому что у нас ныне торжество.
Слушатели благочестивые! Остановимся здесь на несколько минут. Ангелы ныне с нами радуются и торжествуют, потому что они – существа добрые; диаволы не радуются с нами, не торжествуют, потому что они – духи злые. Перейдем теперь от существ духовных к себе, к людям. И кто из нас добр душой, кто чист сердцем, тот ныне от души радуется, от сердца торжествует; а кто имеет душу недобрую, сердце нечистое, у того ныне нет и радости, нет и торжества. Да, закон везде один, и на Небе, и на земле: нечестивому, злому не свойственно ныне радоваться; радуются всегда и ныне только добрые.
И в самом деле, как ныне радоваться и торжествовать тем, у кого сердце полно злости, у кого душа омрачена грехами? Такие люди не могут сознавать нынешнего торжества, не могут чувствовать нынешней радости: воскрес ли бы Христос, остался ли бы Он во гробе – для них все равно. Они и празднуют нынешний день потому только, чтобы быть в праздности, чтобы свободнее удовлетворять своим похотям. В мутной воде самые явственные предметы не отражаются; так и нечестивых людей самые торжественные радости не радуют. И что много объяснять вам эту истину? Посмотрите на злого человека, и вы сами это увидите, увидите, как он нехотя приветствует вас с нынешней радостью и как он принужденно ответствует вам на ваше радостное приветствие. А это отчего? Оттого, что в нем самом вовсе нет радости; его душа – такая глушь, в которой никогда не отдается гласа радования.
Ах, как было бы хорошо, если бы на свете не было таких людей! Как весело было бы торжествовать нынешний день, если бы не было этих гордых и надменных, этих коварных и завистливых, этих жестоких и своекорыстных! И всегда больно встречаться с такими людьми, но особенно больно встречаться с ними в радостные дни – так и бежал бы от них! Ты хотел бы от души разделить с ними радость, от чистого сердца поздравить их с праздником, а они как камни бесчувственны, как лед холодны, точно не слышат и не видят тебя. Впрочем, не будем роптать, все к лучшему. Мы не на Небе, а на земле: здесь полной радости не может быть.
Кто из нас чист от скверны? Никто; все мы грешники, все мы более или менее злы. На Небе Ангелам злые духи не препятствуют радоваться; и нам злые люди не помешали бы радоваться, если бы мы сами не были причастны злу. И потому чем роптать на злых и нечестивых людей, лучше очистим себя от скверн греховных, выбросим злость из своих сердец. Тело мы украшаем для праздника, одежды темные меняем на светлые. Так и должно быть.
Ныне и Церковь, как царица, вся является в золоте, вся она одеяна и преиспещрена, все в ней благоухает смирной и алоем. Стыдно и неприлично нам, ее чадам, ходить ныне в каких-нибудь рубищах. Но, заботясь о внешнем украшении, еще более позаботимся об украшении внутреннем; переменяя одежду тела, переменим и одеяния души нашей. Ведь белая одежда не закрывает черноты души; злость сердца и под золотом видна. При том же, украшение тела для праздника каких требует беспокойств и издержек! А украсить душу так легко и скоро! Стоит только воззвать к Богу – и Он даст нам сердце новое; стоит только пролить слезу раскаяния – и душа наша, яко снег, убелится.
Итак, будем, слушатели, хранить сердце в чистоте, омоем душу слезами раскаяния – и мы будем светло торжествовать настоящий день, и нам никто не помешает радоваться ныне и всегда. Аминь.
84. В день Пасхи
Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный! (Пс. 117:2).
Нынешний день есть день особенного веселия, особенной радости; нет у нас праздника веселее и радостнее настоящего. И с каким желанием все ожидают его, с каким приятным беспокойством приготовляются к нему, с каким удовольствием друг друга приветствуют с наступлением его. При словах «Христос воскресе» – мы и сами как бы воскресаем, душа оживает, сердце восхищается. Да, сей праздник для того и установлен, чтобы мы радовались и веселились.
Ужели же ныне всем, даже нераскаянным грешникам, надобно радоваться? О чем, кажется, такому грешнику ныне радоваться? Христос воскрес, но в душе нераскаянного Он не воскрес; Христос разрушил царство тьмы, но нераскаянный все в неволе у диавола; Христос сокрушил вереи ада, но нераскаянный все не избегнет огня геенского; Христос смерть попрал, но нераскаянный все не минует вечной смерти; Христос приблизил к нам Ангелов, но от нераскаянного все они бегут, как от смердящего трупа.
Увы, бедный нераскаянный грешник! У всех ныне праздник, только у тебя нет. Все ныне веселятся, торжествуют, люди и Ангелы ликуют вместе, только тебе нечего торжествовать и не с кем веселиться. Как ни украшай себя совне, как ни убирай своего тела – видно, не бывать у тебя ныне радости, ибо у тебя душа не убрана, замарана грехами, не омыта слезами сокрушения, не очищена в бане покаяния. Какой ты ни готовь себе стол – видно, быть тебе ныне голодным, ибо у тебя голодна душа, ты не питал ее ни словом Божиим, ни Телом и Кровью Христовою. Куда ты ни пойди, везде тебе не радость – ибо тут встретишь нищего, которому ты отказал; там увидишь вдову, которую ты презрел; на всяком шагу тебе будут попадаться или обиженный тобой, или обольщенный, или обманутый, или оклеветанный, или…
Но что я в такой праздник тревожу душу грешника? Ах, он, бедный, и без того не имеет никогда покоя. Нет, успокойся, грешник! Ты беден добрыми делами, но Бог богат милостями к тебе. Успокойся! Дверь покаяния для тебя еще не затворена, а чрез эту дверь ты войдешь в полную радость нынешнего дня. Восплачь же, вздохни к Богу из глубины души о своих грехах. Иные плачут от радости, а ты от своих слез возрадуешься. Весело проливать слезы раскаяния; сладко плакать о грехах. Восплачь же, вздохни для праздника – и у тебя будет настоящий праздник Воскресения: в тебе воскреснет Христос, ты освободишься от рабства диавола, ты не умрешь смертью вечной, о тебе возрадуются на Небе Ангелы Божии. Да, Ангелы Божии на Небе возрадуются, когда увидят твои слезы раскаяния, когда услышат твои вздохи о грехах.
Так, никто из нас не должен ныне унывать; двери веселия всем отверсты – входите без сомнения; реки радости для всех текут – черпайте без опасения.
Оживимся же настоящим торжеством, обнимем друг друга, ненавидящим нас простим все для Воскресшего и будем устами и сердцем воспевать: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Аминь.
85. В день Пасхи
Христос воскресе! Благодарим Тебя, Господи, что Ты сподобил нас грешных достигнути поклонитися Святому Твоему Воскресению!
Христос воскресе! Желаю вам, слушатели, свято и в радости проводить сей святой и радостный праздник. Сколько прилично ныне радоваться, столько же необходимо ныне вести себя свято; грешно, можно сказать, ныне не радоваться, – так велик для нас нынешний праздник; сугубо грешно ныне грешить, – так святы нынешние дни. Итак, и еще повторяю вам мое желание: желаю вам свято и в радости проводить сей святой и радостный праздник Светлого Христова Воскресения; желаю, чтобы вы ныне и веселы были, и не грешили.
Как же нам совместить то и другое? Как сделать, чтобы мы в настоящий праздник и веселились, и не грешили?
Святость и веселье нынешнего праздника происходят от воспоминания об Иисусе Христе, Который есть источник всякой святости и веселья. Как свет и теплота исходят на землю от солнца, так и святость и веселье изливаются на нынешний праздник от Иисуса Христа. Итак, вот, слушатель благочестивый, из какого источника можешь и должен почерпать для себя и святость и веселье: воспоминай об Иисусе Христе, Виновнике настоящего праздника, и ты будешь праздновать и свято, и в радости. Воспоминание об Иисусе Христе и от грехов тебя сохранит, и весельем сердце твое наполнит, Иисус Христос преисполнен святостью и преизобилует весельем, так что и минутное воспоминание о Нем надолго оставляет в душе святость и веселье; как сосуд, наполненный благоухающим миром, сообщает благоухание всем, кто приближается к нему, так Иисус Христос, сей неисчерпаемый сосуд святости и веселья, изливает святость и веселье на всякого, кто воспоминает о Нем.
Воспоминай же об Иисусе Христе, воспоминай непрестанно, относи все к Нему, делай все для Него, смотри во всем на Него, да будет Иисус Христос весь праздник с тобой и пред тобой – и ты будешь праздновать и свято, и в радости. Если тебе придут на ум греховные помыслы, то скажи им: ради Иисуса Христа не хочу я заниматься вами. Если придет тебе на ум что-нибудь доброе, скажи себе самому: сделаю я это ради Иисуса Христа. Если тебя что-нибудь порадует, то говори: буду радоваться ради Иисуса Христа. Если скорбь мирская будет тяготить тебя, то скажи ей: не хочу иметь скорбь такую ради Иисуса Христа. Если ты несчастен, беден, одинок, огорчен, обижен, то говори: забуду все сие, стану радоваться, веселиться ради Иисуса Христа. Если ты согрешишь в чем-нибудь… но нет, не греши, ради Иисуса Христа не греши, не оскверняй святого праздника. Так решись веселиться и вести себя ради Иисуса Христа, тогда Иисус Христос сохранит тебя от грехов и даст сердцу твоему веселие. Делай все для Иисуса Христа, и Иисус Христос сделает все для тебя.
Но если и при всем том ничто тебя не будет радовать в сей радостный праздник, если, и стараясь хранить себя от грехов, ты не можешь не скорбеть, если ты так будешь малодушествовать, что не в состоянии петь и Воскресение Христово, то обратись тогда к сладчайшему Иисусу, расскажи Ему о своей скорби, возвести Ему свою печаль, открой Ему свою немощь: «Господи! Меня горе тяготит, я скорблю, я не могу радоваться. Пошли же мне какое-нибудь веселье, обрадуй меня чем-нибудь, чтобы мне в Твой праздник не было грустно». Так молись, так воздыхай, и тогда ты сам не захочешь мирских радостей, ибо для грешников, каковы мы с тобой, никакое веселье не может быть выше того, которое грешник чувствует, когда плачет пред сладчайшим Иисусом.
Да, сладостно плакать пред сладчайшим Иисусом. Впрочем, Иисус Христос Сам не захочет оставить тебя в скорби и в слезах ради Своего праздника. Он непременно тебя обрадует чем-нибудь, обрадует, чем ты и не думаешь; и ты будешь благодушествовать, и ты будешь весело петь Христово Воскресение. Аминь.
86. В день Пасхи
Итак, сподобил нас Господь Бог дождаться Светлого Христова Воскресения. Возрадуемся и возвеселимся в сей день, слушатели благочестивые!
И как не радоваться, как не веселиться в нынешний праздник! Мы страшимся ада – теперь нечего его страшиться, он ныне разрушен. Мы трепещем смерти – теперь нечего ее трепетать, жало ее уничтожено. Мы боимся диавола – нечего и его бояться, он низложен. Мы желаем рая – отверсты райские двери. Все готово, чего только наша душа желает; все доставило нам Воскресение Спасителя.
Впрочем, слушатели, несмотря на то, что реки радости текут везде, двери отверсты всем, несмотря, говорю, на то и ныне есть много печальных между нами, христианами, унылых среди общего веселия, мрачных при полном сиянии радости.
Кто же эти унылые и печальные? Унылы и печальны ныне бедные, впрочем, не те только бедные, которые стоят у дверей храма, ходят по домам, кланяются на переулках. Эти бедные имеют голос: добрые люди не дадут им долго плакать. Ныне особенно унылы и печальны те бедные, которые не имеют чем жить, но не умеют просить, которые бедствуют, но скрывают свою бедность, льют слезы горести, но таят их от других. Это люди, имеющие свое, бедное, состояние, не соответствующее их званию, возрасту, достоинству. Это – бедные вдовы с малыми детьми, небогатые отцы с большими долгами, дома, некогда знатные, теперь пришедшие в крайнее разорение. Эти-то бедные ныне унылы и печальны. Горе и в простые дни не сладко, но как оно мучительно в светлый праздник! Нужды и всегда не легки, но как они тягостны среди общего довольства!
Конечно, при сердечном веселии и лицу весело; при внутренней красоте можно обойтись и без внешнего украшения; в мирном семействе и черствый кусок хлеба вкусен; но… не в праздник, слушатели.
Унылы и печальны ныне грешники; впрочем, не те только грешники, которые грешат против Бога: одна слеза раскаяния, один вздох моления – и Бог простит им грехи, и они веселы. Но ныне унылы и печальны особенно те грешники, которые грешат против нас, и грешат часто потому только, что живут с нами или зависят от нас. Это – люди, прогневавшие нас, с которыми мы еще не помирились; это – подчиненные наши, нами унижаемые и пренебрегаемые; это – родные и близкие, нами оставляемые без всякого внимания; это – рабы и служители, работающие и служащие нам из-за куска хлеба. Это вообще все те люди, которые, имея отношение к нам или находясь при нас, или зависев от нас, не видят и ныне ласкового взгляда, не слышат приветливого слова. Видно, навсегда прошли те времена, когда для светлого праздника ссоры забывались, тягостные приличия оставлялись, различия в звании и состоянии игнорировались. Прошли и, видно, никогда не воротятся те времена, когда в нынешний день подчиненный спокойно веселился со своим начальником, раб беспечно радовался со своим господином, небогатая родня радостно ликовала с родней богатой, когда общий для всех праздник праздновали все вместе.
Впрочем, никому так не горько ныне, как бедным заключенным. Для них и колокольный нынешний звон заглушается громыханием их собственных цепей; они и в сей светлый праздник едва видят солнечный свет, тускло светящий им сквозь каменные ограды и железные решетки. Горько и тем страждущим, которыми наполнены больницы и богадельни, которые и ныне с нетерпением ожидают себе куска хлеба из рук корыстолюбивого попечителя, вопли которых и ныне от излишней радости не слышат те, которые обязаны слушать их всегда. Горько бесприютным сиротам, коими наполнены дома призрения; брошенные отцами и матерями, они и ныне забыты теми, которые обязались за ними смотреть.
Итак, вот кто ныне уныл и печален: унылы и печальны те, которых Иисус Христос называет меньшей Своей братией, с которыми Он делит печаль и уныние, как всегда, так особенно ныне. Аминь.
87. Во второй день Пасхи
Бога не видел никто никогда (Ин. 1:18).
Это из чтения Евангелия на нынешний день. Бога не видал никто никогда, и невозможно человекам видеть Бога. Неверующие спрашивают: «Как же Бог есть, когда Его никто никогда не видал?» «А как же вы, неверующие, знаете, что Бога нет, когда видеть Его невозможно, следовательно, и знать невозможно, есть Он или нет Его?» – спрашиваем их мы, верующие. «Почему же Бог, Которого видеть невозможно, не явил Себя людям так, чтобы видели все, что Он есть?» – опять спрашивают неверующие.
Мы, верующие, на это им отвечаем, что явил Себя Бог, явил так, что всякий может видеть, что Он есть: Он сходил на землю, приняв на Себя плоть человека, то есть, сделавшись человеком, жил на земле более тридцати лет, около трех лет учил, и учил так, как из людей учить никто не может; делал дела, и дела такие, которых, кроме Бога, делать никто не может; пострадав от людей, умер, умерши на кресте, был погребен во гробе, и, погребенный в третий день, воскрес из гроба и таким образом торжественно доказал, что Он Сын Божий, Бог. Через сорок дней Он вознесся на Небо и послал Духа Святого, Который доказывает непрестанно, что Бог есть.
Какого же от Бога явления, каких доказательств неверующие требуют на то, что Бог есть, когда есть тьма видимых, явных доказательств Его бытия, всемогущества, премудрости и благости? «Но, – говорят неверующие, – мы все-таки не видим Бога». Да ведь видеть Его невозможно. Есть очевидные доказательства Его бытия, всемогущества и благости; на эти доказательства смотрите; из них видно, что Бог есть. «Но мы все-таки Его не видим, – продолжают говорить неверующие, – не видим Его, следовательно, Его нет».
Нет, вы, неверующие, вы не не видите, но видеть не хотите Его, потому что вам во тьме жить лучше, вольнее: во тьме вы ничем не связаны, никого не стесняетесь, ничто глаз вам не колет за разврат ваш в жизни. Неверие ваше – намеренное невежество. Невежды, необразованные, не мыслящие люди думают и говорят по своему неведению, что солнце – небольшой кружок, в тысячу крат меньше земли. Их спрашивают, да как же солнце могло бы освещать и согревать такую обширную, пространную землю, если бы оно было в тысячу крат меньше ее. «Что вы нам говорите? – отвечают те. – Ведь мы видим, что солнце меньше земли». Таковы и неверующие в Бога. «Как же Его нет? Откуда же столько дел таких, которые может делать только один Всемогущий, Премудрый, Всеблагий, если Его нет?» – говорим мы неверующим. А те отвечают: «Мы не видим Его, и никто не видит, следовательно…»
О, Господи! Пошли России и всем странам побольше света Твоего и истины Твоей. С Запада слишком много нашло к нам тьмы неверия и разврата всякого. Аминь.
88. В третий день Пасхи
Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете (Лк. 6:25).
Кому это, слушатели, Иисус Христос возвещает горе? Каким насыщенным Он угрожает голодом? Каким смеющимся предвещает плач и рыдание? Не нам ли, которые ныне сыты и довольны всем? Не нам ли, которые ныне вот уже третий день веселимся и радуемся?
Нет, слушатели, это не нам. Это – горе тем насыщенным, которые сами сыты, а другие при них томятся голодом; это – горе тем, которые насыщаются чужим стяжанием, едят нажитое чужими руками, пьют добытое чужим потом; это – горе тем, которые насыщаются обманом, хитростью, лукавством. А мы ныне сами сыты и других насыщаем по возможности; мы насыщаемся от своих трудов праведных; насыщаемся тем, что нам досталось по праву, по закону.
Это – горе тем смеющимся, которые веселятся без меры и без времени, у которых веселие состоит в одних чувственных наслаждениях, которые веселятся, смотря на погибель других, радуются несчастью ближних; это – горе тем веселым, которые веселятся потому, что вовсе не верят в жизнь по смерти. Но мы, благодарение Богу, веселимся не без меры, ибо веселимся со страхом; веселимся не без времени, ибо был пост – мы постились, а теперь у нас Светлое Христово Воскресение. Мы не чувственным удовольствиям предаемся, ибо мы веселимся в храмах Божиих весельем духовным; мы не погибели других радуемся, но радуемся спасению всех человеков; веселимся, ибо Иисус Христос обещает всех привлечь к Себе, обещает всех нас поместить там, где Он, в небесных обителях. Мы не с отчаяния веселимся, но от радости, что и тело наше некогда воскреснет; мы пием пиво новое, текущее из источника нетления – Христа.
Итак, слушатели, и паки реку: возрадуемся и возвеселимся; ничто нам не препятствует ныне веселиться и радоваться о Господе. Аминь.
89. В четвертый день Пасхи
Видно, слушатели, вы любите божественную службу, а потому в нынешние особенно дни, когда она вся совершается у нас при отверстых Царских вратах, открыто для всех, вы постоянно ходите, всякий день, на всякую службу, особенно на Литургию. Это – добрый, утешительный знак.
Божественная служба в церкви, особенно Литургия, есть служение самое святое; и на Небе, по словам святого Амвросия, нет служения святее сего… А кто любит святое, у того душа свята, по крайней мере способна быть святой, близка к святости. Мы обыкновенно любим то, что нам по душе; мы радуемся всегда подобному нам. Да, если вы от души любите святую божественную службу, если она вас радует, то это значит, что у вас душа свята, по крайней мере, вы близки к святости, легко можете сделаться святыми. Грешники, пришедшие во глубину грехов, потерявшие желание и способность быть святыми, не радуются, видя божественную службу: не по душе она им, не занимает и не утешает она их, потому что они только греховное любят, а святого ничего не любят; святое для их души, как яркий свет для глаз больных, тяжело, неприятно. Да, в ком нет любви к божественной службе, тот – преданный грехам человек, в том нет и искры святой.
Еще о тех, которые любят божественную службу. Божественную службу в церкви можно и должно назвать служением небесным. Так на Небе служат Богу, как мы служим Ему в церкви, и потому, в храме стояще, на небеси стояти мним. А кто небесное любит видеть, кто о небесном радуется, тот будет на Небе, по крайней мере тот недалек от Неба, тому есть большая надежда наследовать Царство Небесное. Где кому быть, где чье сокровище, туда сердце его наперед стремится, туда очи его заранее обращаются. Да, вы будете на Небе, по крайней мере вы недалеки от Неба, вы легко можете наследовать Царство Небесное, если действительно любите божественную службу в церкви, если она вас радует, утешает. Грешникам, которым Царства Небесного не наследовать, те и в церкви Божией быть не любят; служба ее для них не занимательна, она их не радует, не утешает. Да, это худой знак, если какой человек не любит быть в церкви: ему не быть и в раю, на Небе; он и там при таком расположении духа стал бы скучать. Кого церковь не радует, тот не найдет ничего радостного и в Царстве Небесном.
Итак, слушатели благочестивые, еще скажу: это – добрый, утешительный знак, что вы любите ходить в церковь Божию. Если вы и впредь всегда будете с любовью слушать, с участием смотреть, как совершается божественная служба в церкви, то никогда не потеряете святого направления души своей и в жизнь будущую перейдете с этим направлением. Если вы здесь, на земле, всегда будете любить славословие Богу, то вы и там, на Небе, вечно станете славословить Его. Святая наша церковь делает человека святым; служение, приносимое нами Богу в нашей церкви, делает нас способными к служению на Небе.
Что сказать в назидание тем из нас, которые в церкви скучают, которых божественная служба не занимает, не утешает? Что сказать?
Ходите чаще в церковь Божию и стойте всегда со вниманием, и вы полюбите служение церковное. Вы ведь оттого больше скучаете здесь, что редко ходите, и оттого не находите здесь ничего занимательного, что стоите рассеянно, без внимания. Служение в нашей церкви так свято и божественно, что его нельзя не полюбить тому, кто ходит сюда часто и стоит здесь со вниманием.
Хорошо, Господи, у Тебя в церкви Твоей святой; всегда, за всякой службой хорошо, особенно же хорошо за Божественной литургией. Ужели по смерти я не буду, ужели по грехам моим мне нельзя будет тогда так петь, так славословить, так благодарить Тебя, как мы ныне здесь Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим? Ужели мне нельзя будет тогда и молиться Тебе, как мы теперь Тебе молимся? О, буди милостив мне грешному! Аминь.
90. В день Вознесения Господня
И так Господь, после беседования с ними, вознесся на Небо… (Мк. 16:19).
Вы, слушатели-христиане, по смерти своей желаете ли на Небо, в Царство Небесное, где теперь Господь наш Иисус Христос? Конечно, скажете: желаем. Из чего же видно, что желаете? Кто чего желает, тот о том и думает; но мы часто ли думаем о Небе? Кто чего желает, тот о том и говорит; но мы часто ли говорим о Небе? Кто чего желает, тот для того и работает, трудится; но мы для Неба ли работаем, трудимся? Кто чего желает, тот всего больше о том Бога и просит; но Царства ли Небесного всего больше просим мы у Бога, когда молимся? И теперь в храм молитвы ради Царства ли Небесного пришли мы? Ах, слушатели, по жизни нашей почти не видно, что мы желаем быть на Небе.
Чего же мы желаем? Где же по смерти мы будем?.. В жизни будущей только и есть два отделения, два места: Небо и ад, Царство Небесное и тьма кромешная, и, следовательно, кто не вознесется по смерти на Небо, тот ниспадет в ад. Без всякого сомнения, мы не желаем быть в аду. Да избавит Господь Бог всех от места, уготованного диаволу и аггелом его! Итак, чего же мы желаем? О чем заботимся, для чего трудимся, из-за чего беспокоимся?.. Сами не знаем! Да! Наша жизнь иногда мало походит на жизнь существ разумных, еще меньше она походит на жизнь последователей Христовых. Какие мы последователи Христа, когда не стремимся туда, где теперь Он, Господь наш? Какие же мы и разумные существа, когда не хотим размыслить, подумать о том, где мы по смерти будем?.. Так, подумать о своем спасении, пожелать себе спасения, не только достигнуть его, мы не можем, Господи, без Твоей нам помощи!
Христе Иисусе, вознесыйся на Небо, вразуми меня Твоею благодатию, что я не ведаю, что творю; и хощу ли или не хощу, спаси, направи меня на путь к Небесному Твоему Царствию. Аминь.
91. В день Пятидесятницы
Теперь, слушатели, мы с коленопреклонением все вместе будем молиться. О чем мы будем молиться? Мы будем молиться о том, чтобы Дух Святой сошел на нас.
Но действительно ли вы, слушатели, этого желаете? Желаете ли, чтобы Дух Святой Своим наитием просветил ваш ум, очистил ваше сердце, направил к добру вашу волю? Желаете ли, чтобы вам отныне не мыслить по-своему, а мыслить так, как будет вам внушать Дух Святой; не желать того, что вам нравится, а желать того, к чему Он вас будет побуждать; не делать того, к чему влекут вас страсти, а делать то, что Он будет вам повелевать? Если желаете, то желание ваше будет исполнено; Дух Святой сойдет на вас, будет действовать в вашей душе. Об излиянии Его на вас будет молиться вся Церковь; Бог и каждого из вас готов слушать – тем скорее Он услышит тогда, когда мы будем Ему молиться все вместе. Не бойтесь вашего недостоинства: Дух Святой обновит вас. Не бойтесь вашей слабости: Дух Святой укрепит вас. Ничего не бойтесь, только желайте искренно, от всей души, чтобы Дух Святой сошел на вас, – и Он непременно сойдет.
Впрочем, слушатели, мы не смеем надеяться от сего сошествия каких-нибудь мгновенных перемен, внезапных действий; не дерзаем думать, что вдруг просветится наш ум, вдруг очистится наше сердце, вдруг устремится наша воля к добру, как этого удостоились апостолы. С нами все это делается постепенно и неприметно: не придет Царствие Божие приметным образом (Лк. 17:20). Неприметно и медленно принимаются, растут и зреют семена в земле; еще медленнее, еще неприметнее действует на нас Дух Святой. Мы не можем ясно знать, когда именно Он сойдет на нас, и не можем определенно сказать, что Он точно действует в нас. Сила Святого Духа соединяется в нас с собственными нашими усилиями; Он действует в нас по той мере, как мы сами стараемся что-нибудь делать; перестанете стараться – и Он перестанет в вас действовать.
Дыханием воздуха мы живем, но не дышите сами – и воздух не будет действителен, мы умрем. Так и Дух Святой в нас действует: Он непременно просветит наш ум, но только тогда, когда мы сами будем стремиться к свету истины. Он непременно очистит наше сердце от скверн греховных, но только тогда, когда мы сами будем желать и домогаться чистоты. Он непременно направит волю нашу к добру, но только тогда, когда мы сами будем удаляться от зла. Наблюдали ли вы, как дождь, напояя растения, оживляет их? Так живит и нас Дух Святой. Дождь не оживит растения, если не будет в них своей растительной силы; не поможет и нам Дух Святой, если мы сами не будем усиливаться.
Итак, молитесь, ожидайте Святого Духа в простоте сердца – и Он сойдет на вас. Аминь.
92. В день Пятидесятницы
Дух истины наставит вас на всякую истину (Ин. 16:13).
Есть много из христиан таких, которые не имеют надлежащего правильного понятия о самых главных и необходимых истинах христианских; а есть даже и такие, которые вовсе ничего не понимают, которые только по имени христиане, а по мыслям и по чувствам – не лучше язычников. Больно, прискорбно видеть сих поистине несчастных людей; не вкушают они радостей в сей жизни, не насладятся они радостями и в жизни будущей. Больно, прискорбно видеть их, оттого особенно больно, прискорбно, что их и научить чему-нибудь так трудно, почти нет возможности! В самом деле, как их научить, как вразумить? Других они не слушают, а если слушают, то ничего не понимают; сами или читать не умеют, или читать не любят. И когда им читать, когда им слушать, как им понимать? Одни из них с утра до вечера заняты все мирскими делами и житейскими попечениями, другие – день и ночь проводят в суетных удовольствиях и в греховных делах, им вовсе нет времени одуматься, научиться чему-нибудь божественному. Что же? Ужели эти христиане так и погибнут во тьме заблуждения и неведения?..
Да, неминуемо погибнут, если не попекутся о себе, если не пробудятся от своего усыпления, если не будут молиться, если не изменятся. Да, молитва, молитва – единственное и последнее средство, чрез которое таковые христиане могут выйти из тьмы неведения. Человек оттого погибает во тьме неведения и заблуждения, что не слушает, не читает, не понимает истин христианских, божественных, не молится Богу.
Душа наша только молитвой живет и действует, только во время молитвы озаряется светом истины. Чем больше человек молится, тем становится живее и деятельнее по душе. Душа без молитвы – как мертвая, ни на что духовное, святое и истинное не способна. Посмотрите на людей добродетельных, посмотрите, как они много молятся. У них все время проходит в молитве. Они оттого и добродетельны, оттого и делают много добра, что молятся много; если они перестанут молиться, то перестанут быть добродетельными и оставят добрые дела. Посмотрите и на всех истинно верующих; посмотрите, как они часто молятся. Они непрестанно молятся. Да, они оттого и веруют твердо, что молятся непрестанно; с ослаблением усердия к молитве неминуемо в них ослабеет самая вера. Вера и добрые дела – плоды молитвы. Так жизнь духовная и молитва тесно, неразрывно между собой соединены.
Кто живет духовной и благочестивой жизнью, тот любит молиться и непременно молится. Как дыханием обнаруживается и поддерживается жизнь телесная – тот и жить перестает, кто перестает дышать, – так молитвой обнаруживается и поддерживается жизнь духовная, благочестивая; тот живет худо, порочно, кто молится мало и редко.
Итак, вот отчего некоторые из христиан неправо веруют, не имеют точного понятия о самых главных и необходимых христианских истинах: оттого, что Богу не молятся. Оттого у них нет желания, чтобы научиться божественным истинам; оттого нет смысла, чтобы понимать божественные истины: Богу не молятся; у них душа мертвая, ни к чему божественному не способна. Кто умер, того не вылечишь, и кто не молится Богу, того ничему не научишь. Итак, слушатели, если из вас есть такие, то поспешите выйти из тьмы неведения, молитесь Богу, молитесь как можно чаще. В вас родится желание познать божественные истины, и тогда вы с радостью будете о них слушать и читать, тогда вы ясно будете понимать их и надолго удерживать в памяти. Обратитесь всей душой к Богу – и Он наставит вас на всякую истину, и Он даст вам случай и укажет средства к познанию истины. Бог – свет присносущный и любовь беспредельная; Он и язычника не оставит во тьме неведения; Он и еретика выведет из мрака заблуждений; Он и развратного исхитит из бездны грехов; Он никому не даст оставаться во тьме неведения и заблуждения, кто только будет молиться Ему. Аминь.
93. В день Воздвижения Креста Господня
Кресту Твоему покланяемся, Владыко!
Ныне – праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня; я расскажу вам, слушатели, что означает нынешний праздник и по какому случаю он установлен.
Равноапостольный царь Константин Великий некогда, идя на сражение против Максентия, увидел днем в воздухе крест, составившийся из звезд, а внизу креста слова: «Сим побеждай». Ободренный таким чудным явлением, Константин Великий смело вступил в сражение и счастливо победил своего врага. Мать Константина, святая равноапостольная царица Елена, приписывая сию победу Иисусу Христу, с этого случая приняла намерение отыскать Крест, на котором был распят Иисус Христос. И вот она отправляется в Иерусалим, ищет, наведывается, спрашивает у жителей иерусалимских о Кресте Господнем, но о нем никто ничего не знал. Наконец, от некоего престарелого еврея, по имени Иуда, она узнает, где Крест Господень: он был зарыт в земле, под языческим храмом. Святая Елена тотчас приказала сломать здание; здание сломали, начали рыть и нашли в земле три креста.
Который же крест Христов? Промысел неожиданно разрешил это недоумение. Мимо того места, где рассматривали вырытые кресты, несли мертвеца на погребение. Патриарх Макарий повелел несшим остановиться, и полагаемы были кресты на мертвеце. Полагают на нем один крест – ничего, другой – тоже ничего, полагают третий – мертвец оживает. Таким образом, наконец, и узнали, который Крест Господень. Святая Елена, духовенство, вельможи, народ, воины начали поклоняться Кресту Господню и лобызать его. По чрезвычайной тесноте все не могли его видеть, а хотелось всем, и потому патриарх Макарий, взойдя на возвышенное место, поднимал, воздвигал его и таким образом показывал всему стоящему народу. Народ смотрел, молился и падал на землю. Сие-то воздвижение Креста Господня, совершенное некогда в Иерусалиме, ныне воспоминается нашей Церковью.
Слушатели-христиане! Мы теперь взираем, молимся и лобызаем Животворящий Крест Господень; будем и непрестанно иметь его пред глазами, будем и всегда молиться пред ним, будем и чаще лобызать его. Крест Христов, на небе виденный Константином, победу даровал, а из земли вырытый – мертвеца воскресил; будем взирать на него очами веры – и мы победим своих врагов видимых и невидимых; будем лобызать его сердцем и устами – и мы оживем от болезней душевных и телесных; будем, молясь пред ним, всего ожидать от него – и все мы получим.
Кресте честный! Хранитель души и тела буди ми, образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упраздняя, и благословение даруй ми, и жизнь, и силу, содействием Святого Духа и честными Пречистыя мольбами. Аминь.
94. В день Воздвижения Креста Господня
Так возлюбил Бог мир… (Ин. 3:16).
Для чего, слушатели, Крест Господень воздвизается, то есть поднимается, возносится и как бы показывается?
14 (27 н.ст.) сентября Он торжественно, особенно у нас в соборе за всенощной, воздвизается в память известного древнего события, когда Крест Господень был обретен в земле, вынут и был воздвижен, показан предстоящим.
Так бывает один раз в год, а то и всякий день, после молений и служб церковных, вроде воздвижения бывает. Итак, для чего это? Священник воздвигает, поднимает, возносит Крест Господень, чтобы вы видели Его, поклонились Ему, потом вас осеняет Крестом, чтобы вы поклонялись, приняли благословение вам Распятого на кресте.
Для этого ли только? Нет, а вот еще для чего, и думаю, это главное: для того чтобы привлечь ваше внимание к Тому, Кто вознесен на крест, чтобы вы видели, как Он любит нас. Вот Он из любви к нам умер на кресте за наши грехи.
Бог наш Отец, но такого отца, каков Бог наш, не было в мире, нет и не будет: Сына Своего сей Отец, Бог наш, отдал на смерть за нас, грешников, и Сын Его, Господь наш, Сам пошел на смерть ради нашего спасения от грехов. Но знаете ли, для чего нам надобно знать, что Бог нас любит, много, беспредельно любит? Для того чтобы, видя, как нас Бог любит, мы каялись во грехах и не боялись просить прощения.
А то как мы обыкновенно делаем? Когда собираемся сделать или делаем что худое, греховное – мы не боимся ничего, о Боге и вспомнить не хотим, забыть о Нем стараемся или, вспомнив о Нем, успокаиваем себя тем, что ничего, что грешим или согрешим, – Бог милостив, Он простит, нет греха, которого бы Он не простил. Но после, как одумаемся, опомнимся, тотчас начинаем беспокоиться, мучиться, зачем мы грешили, согрешили; беспокоимся, мучимся – а прощения у Бога не просим. Боимся, думаем, что так Он и не простит, так и останутся грехи наши на нас и Бог накажет нас за них, а чтобы себя успокоить, стараемся забыть и о грехах, и о Боге; забываем и грешить продолжаем и таким образом продолжаем погибать.
Нет, грешник, не так делай. Храни себя всячески от греха, помощи у Бога проси, чтобы тебе сохранить себя; если же согрешишь, не оставайся во грехах, а скорее, тотчас обращайся к Богу, покайся, сознайся и проси прощения. Так любит Бог прощать грехи, что Сына Своего Единородного отдал за грешников на смерть, чтобы они уверились, что ради Его, умершего на кресте за них, Он им простит грехи, лишь бы каялись и просили прощения и, таким образом, чтобы не погибали во грехах.
Так Крест Господень возносится, поднимается, главное, для того, чтобы привлечь твое внимание, чтобы ты видел, как любит тебя Господь Бог, и, видя это, каялся во грехах и чтобы не боялся просить прощения; чтобы не думал, что не простит Он, смертью Своей на кресте Сам заслуживший тебе прощение.
Кающиеся и просящие прощения близки к Царству Небесному, а не кающиеся, не просящие прощения далеки от него. О, привлеки нас к Себе Своею благодатию, чтобы, видя Тебя, вознесенного на кресте, мы каялись и просили прощения. Аминь.
Часть пятая. Поучения на воскресные дни
95. В Неделю святых жен-мироносиц
Третья неделя по святой Пасхе называется Неделей святых жен-мироносиц. Чем это жены-мироносицы заслужили такую честь и память, что воспоминанию и прославлению их Святая Церковь особую в году назначила неделю? Ужели только тем, что в день Воскресения Иисуса Христа, очень рано утром, они несли миро благовонное ко гробу Его, чтобы помазать им Его тело, за что и названы мироносицами? Нет. Конечно, и этим они доказали, что любили Иисуса Христа, но это было только последнее их дело, которое они сделали для Него, из любви к Нему, умершему. Нет, еще прежде, гораздо раньше и гораздо больше своей любви к Иисусу Христу показали они. При погребении Его они были, при распятии Его находились, когда вели Его на Голгофу, шли за ним и плакали. Но главное, во все время, как Иисус Христос ходил по городам и селам и учил народ, эти женщины одни из первых следовали за Ним и служили Ему своим имением.
Но что привлекало их к Иисусу Христу? Они тогда еще не знали, что Он – Сын Божий, Спаситель рода человеческого, Творец, Вседержитель, Бог. Что же именно заставляло их так любить Его? Учение, которое Он проповедовал. Никто еще тому не учил, чему учил Иисус Христос, и никто так не говорил, как Он говорил. Из уст Его лилось слово благое, как миро благовонное, и они отойти от Него не могли, все услышать что-нибудь от Него желали. Да, потому-то они и называли Его все больше Учителем только, почти и имени другого у них Ему не было, кроме как Учитель.
Итак, вот чем жены-мироносицы заслужили честь и память у Святой Церкви: своей любовью к Иисусу Христу, особенно тем, что любили слушать Его учение и, следуя за Ним повсюду, служили Ему своим имением. И потому не только сами учились у Него, но некоторым образом помогали Ему учить других, доставляя Ему и ученикам нужное для жизни. Так, жены-мироносицы были особенные любительницы учения, которое Иисус Христос проповедовал, ревнительницы просвещения, которое Он всюду распространял.
При воспоминании о женах-мироносицах прилично нам вспомнить о наших женщинах. Но что мы о них скажем?.. Что они любят? Чем увлекаются? Как время проводят? Чем занимаются? Бедные большей частью работают, трудятся. Но что делают не бедные, богатые? Читают ли, слушают ли что-нибудь нужное, полезное, спасительное, божественное? Некоторые умеют ли даже и читать?.. Жалуются они часто на пустоту жизни, на скуку. Да как же не скучать, как не чувствовать пустоту в жизни, когда они ничего доброго не делают, ничем хорошим не занимаются и, таким образом, живут большей частью себе и другим только в тягость? Ведь нас, как существ разумных, занимать и радовать может что-нибудь умное, дельное, святое, нужное для нас, полезное для других.
«Что же делать нам, чем заняться?» – говорят они. Занимайтесь учением Иисуса Христа, чтением и слушанием его. Вы полюбите это учение и не отстанете от него. О, какой в нем свет для ума, какая отрада для души, какое веселие для сердца! День и ночь вы стали бы помышлять о нем, вовек не забыли бы его внушений, наставлений.
Что вам делать, чем заняться?.. Ныне везде, по городам и селам так много училищ открывается. Почему бы вам, особенно богатым, достаточным из вас, почему бы не заняться этими училищами, почему бы не послужить для них своим имением, доставляя нужное учащим и учащимся в них? Сколько бы от этого славы для Бога, пользы для ближних, утешения для вас! Ведь и в этих училищах все Христово же преподается учение, и, таким образом, служа училищам, вы, подобно святым мироносицам, служили бы Христу, единому во вся веки всех людей Учителю.
Что вам делать, чем заниматься? О, делайте все во имя Иисуса Христа, ради Него, на пользу других, во спасение ближних, и тогда всякое дело, как миро благовонное, будет услаждать и радовать вас в жизни, и вы заслужите себе добрую славу и оставите по себе добрую память, вечную. Пример святых жен-мироносиц, прославляемых ныне Церковью, да напомнит вам о том, что вы должны любить и чем преимущественно заниматься, а собственное ваше осознание пустоты своей жизни да вразумит вас, что вы не так живете, как должно, не то любите, не тем занимаетесь, чем бы следовало.
Жизнь не по Христу Иисусу, без любви истинной, святой, без дел добрых, без занятий полезных – всегда скучна, пуста. Аминь.
96. В Неделю о слепом
Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии (Ин. 9:3).
Иисус Христос, проходя по городу Иерусалиму, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус Христос ответствовал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии.
Слушатели-христиане! И ныне много таких людей, которые бедствуют, по-видимому, без всякой вины, и мы, видя сих несчастных, часто спрашиваем: за что они, бедные, страдают? Ответ на этот вопрос тот же, какой Иисус Христос дал апостолам: сии несчастные страдают для того, чтобы на них явились дела Божии; именно они мучаются, чтобы избавиться от больших мучений; бедствуют, чтобы избавиться от больших бед. Да, слушатели, они страждут телом – зато не будут страдать душою; страдают какое-то время – зато будут блаженствовать нескончаемые веки; не видят света солнечного – зато узрят Свет незаходимый; не ходят по земле – зато возлетят на Небо; не слышат мирского – зато будут слышать небесное; безмолвствуют среди людей – зато будут беседовать с Ангелами.
Но вы скажете: ужели благий и премудрый Бог не может иначе являть Своих дел? Ужели Он не может дать людям счастья, не подвергая их прежде жестоким наказаниям? Ужели не может спасти человека, не предав его прежде мучениям? Да, так, слушатели! Бог при всей Своей благости всегда и все делает по закону, по порядку. Сосуд серебряный, если он испорчен, покрыт ржавчиной, как поправляется? Его обыкновенно разбивают, кладут в огонь, жгут, а потом устрояется из него новый сосуд, чистый, светлый, правильный. Люди в настоящем состоянии подобны испорченному сосуду: они повреждены, покрыты греховной ржавчиной; чтобы их поправить, очистить, надобно прежде размягчить ударами горестей и провести сквозь огонь страданий. По сей-то причине страдали все святые: и патриархи страдали, и пророки страдали, и апостолы страдали, и все праведники страдали; потому-то и невинные страдают.
Ведь как же иначе? Люди – все грешники, все преступники пред Богом; все рождаются во грехах, во всех есть семена преступлений. Чтобы задушить и подавить сии семена преступлений в человеке, надобно прежде ослабить и остановить в нем действие злых сил; чтобы загладить грехи, надобно вытерпеть за них, что следует. Этого требует закон вечный, непреложный. Вот почему необходимо, чтобы люди и без видимой вины подвергались бедствиям, и вот как благость Божия к людям видна и в ударах правосудия. Временные бедствия, которым подвергаются невинные, подавляют в них семена преступлений.
Таким образом (опять повторяю, что прежде сказал), все от рождения – слепые, глухие, умалишенные, младенцы, умирающие в мучениях, вообще все – страдают для того, чтобы на них явились дела Божии, дела спасительные. Но из числа таких счастливых страдальцев надобно исключить тех, которые, страдая, ропщут на Промысел; равно надобно исключить и тех, которые страдают за свои грехи, страдания которых бывают следствием их произвольных преступлений; впрочем, и сии страдальцы много пользы получают от своих страданий.
Страдания останавливают поток дальнейших преступлений, не дают созревать плодам греховного дерева, не дают вырастать преступным отросткам. Иной, может быть, сделался бы величайшим злодеем, если бы у него не отнялись руки; иной прошел бы весь мир с огнем и мечом, если бы он владел ногами или видел глазами; иной привел бы в заблуждение тьму людей, если бы у него не повредился рассудок. Посему и страдания, которым подвергаются люди за свои грехи, если совершенно не избавят их от вечных мучений, то по крайней мере много убавят тяжести их. Таким образом, в мире нет ни одного страдальца, который бы страдал безвинно, понапрасну; но и нет ни одного бедствия, которое бы не приносило пользы. В мире что ни бывает от Бога, бывает все к лучшему. Это лучшее иногда сбывается на земле, но большей частью оно там, на Небе.
Итак, слушатели, если нас и ближних наших постигнет какое горе, то вместо напрасного ропота предадим себя в волю Божию, помня, что без вины и без пользы никто здесь не страдает. Аминь.
97. В Неделю всех святых
Какой-то иудейский законник спросил однажды Иисуса Христа: «Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
Вопрос, кажется самый простой, но ответить на него, слушатели, нелегко. В самом деле, как спастись, как наследовать жизнь вечную? Что мы должны для этого делать, как мы должны для этого вести себя? Примеры святых, конечно, всего лучше могли бы нам помочь в этом случае: но эти примеры так бесчисленны и разнообразны, что не знаешь, которому последовать: один жил так, другой иначе; один делал то, другой совсем другое. Один спасался в пустыне, другой среди городского шума; один в храме, другой на поле брани; один проводил дни и ночи в посте, другой пил и ел; один принимал всех к себе, а другой никого не пускал. Словом сказать, жизнь святых и разнообразна, и часто одна другой противоположна.
Итак, слушатели, что же мы должны делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус Христос разрешил этот вопрос таким образом. Он сказал законнику: люби Бога более всего, а ближнего, как самого себя. Так поступай, и будешь жить, то есть спасешься.
Но как можем мы исполнить этот закон? Как можем доказать нашу любовь к Богу и ближним? Разрешим, слушатели, этот вопрос. Не с тем, впрочем, чтобы только узнать и забыть, но чтобы поступать так, как разрешим. Разрешим же его в коротких словах, чтобы было памятнее и понятнее.
Живите так, как велят совесть и закон Божий. Что совесть запрещает и закон Божий не велит, того никогда не надобно делать; напротив, что совесть одобряет и закон Божий повелевает, то непременно надобно делать. Слушайтесь своей совести и закона Божия.
Кто слушается закона Божия и своей совести, тот непременно спасется, где бы он ни был и как бы он ни жил. Ты в мире живешь – живи, только живи так, как тебе велят закон и совесть, и ты спасешь свою душу; ты отказался от мира – хорошо, живи по совести и по закону, иначе и в пустыне не спасешься; ты пьешь и ешь – и пей и ешь, только пей и ешь, что одобряют совесть и закон; ты постишься – постись, только ничего не делай против совести и закона, иначе и пост тебя не спасет; ты занимаешься торговлей – торгуй, только торгуй так, как велят совесть и закон Божий, и ты не погубишь своей души; ты владеешь рабами, повелеваешь рабынями – владей и повелевай, только так владей и повелевай, как велят совесть и закон. Ты служишь и работаешь – знай свое дело, работай и служи так, как велят совесть и закон, и ты спасешься. Вообще, делайте и поступайте по вашему званию и состоянию, но делайте, как велят совесть и закон.
Оттого, слушатели, и жизнь святых так разнообразна, так по-видимому одна другой противоположна, что они находились в различных обстоятельствах, занимали различные должности, были различных званий, жили в различных местах, потому-то и делали различное, поступали не одинаково; но поступали всегда и делали все по своей совести и по закону Божию. Оттого все и наследовали жизнь вечную.
Итак, слушатели, что бы вы ни делали, как бы вы ни жили, где бы ни находились, поступайте только по своей совести и по закону Божию – и вы спасетесь. Что совесть и закон одобряют, то всегда свято. Аминь.
98. В Неделю третью по Пятидесятнице
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам (Мф. 6:33).
Слушатели-христиане! Отчего ныне у нас много недовольных? А очень много недовольных! Недовольство становится общей почти болезнью. Кто ныне доволен? Крестьяне большей частью недовольны; мещане, купцы – тоже недовольны, и самые богатые из них недовольны; дворяне, чиновники и все служащие большей частью недовольны; даже мы, духовные, не всегда довольны. А ведь сколько ныне всяких удобств для жизни, всяких улучшений, преобразований к лучшему по всем частям!
Итак, отчего же нам жить стало не лучше прежнего, несмотря на все жизненные улучшения? Оттого это, слушатели, что мы главное забываем. Что такое? Бога, Божие Царство, Божию правду. Да, чего мы себе желаем, о чем заботимся, чего ищем? Того только, чтобы было нам где жить, что есть, что пить, во что одеваться и как бы повеселиться. А о Боге, о достижении Царства Его, об оправдании перед Ним и не думаем и не помышляем или мало помышляем, как будто мы для того, главное, и рождаемся, и крестимся, чтобы пожить, повеселиться – только. Царство Божие внутри нас, то есть наше спокойствие, наше довольство – в душе нашей, а в ней-то и нет у нас спокойствия, довольства, потому что она у нас не сыта. Настоящая, истинная наша пища, действительно питающая нас, – пища духовная: Бог, Царство Его и оправдание пред Ним, а мы большей частью кормимся одной земной, чувственной пищей. Да, так.
Отчего бы, кажется, людям богатым, знатным не быть довольными? Все удобства для жизни и в жизни у них есть, а они очень и очень недовольны – недовольнее нас, небогатых, недовольнее иногда самых бедных из нас. Именно это оттого, что у них, у этих богатых и знатных, душа не довольна, потому что у них она не сыта, они не дают ей пищи духовной, то есть не о Боге думают, не Царства Божия ищут, не об оправдании своем пред Богом заботятся. Иисус Христос сказал для всех людей, на все времена: ищите прежде Царства Божия и правды его, и это все приложится вам, то есть главным образом Царства Божия ищите, желайте, правыми пред Богом быть, старайтесь, заботьтесь – и будете всегда сыты, спокойны и всем в жизни довольны. А без этого никогда, ничем довольны не будете и ни от каких улучшений жизненных лучше вам не будет в жизни.
Да, причина нашего недовольства жизнью в нас самих. От всех нынешних улучшений нам не лучше прежнего, потому что мы в душе своей не улучшаемся, не делаемся лучше.
Так, Царства Божия прежде всего ищите и пред Богом правыми главным образом живите, тогда и земным своим царством будете довольны; тогда и неправдой человеческой огорчаться не станете. Недовольство наше – болезнь души нашей, а не что-нибудь другое. Аминь.
99. В Неделю шестую по Пятидесятнице
И, видя Иисус веру их (принесших расслабленного), сказал расслабленному: дерзай, чадо! (Мф. 9:2).
Принесли однажды к Иисусу Христу в Капернауме больного расслабленного. Больной до того был слаб, что не только сам идти не мог, но не мог и слова выговорить, попросить не мог Иисуса Христа об исцелении своем. И потому Иисус исцелил его ради веры других, ради принесших его. Они просили Иисуса Христа об исцелении его, уже тем одним просили усердно, что на своих руках принесли его к Иисусу Христу. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! Больной молчал, не просил, потому что не мог: он только поручил себя другим – не препятствовал им нести себя и разве только мысленно просил их, чтобы они несли его к Иисусу Христу.
Итак, слушатели, когда вы не можете, не в силах просить Бога сами или почему-нибудь не смеете просить, или не надеетесь упросить, то поручите себя другим, чтобы они за вас помолились, – если не на словах, то по крайней мере мысленно попросите о том. Господь ради молитвы других все равно поможет вам, как бы вы сами молились Ему, точно так же, как Он помог расслабленному, ради веры принесших Его. Когда не можете, не смеете, не надеетесь… Нет, и всегда так делайте: сами молитесь и других просите, чтобы о вас молились. И святые, когда жили на земле, считали для себя нужным прибегать к молитвенному пособию других, не по чувству только смирения своего, но и по сознанию своих немощей. Святой апостол Павел умолял верующих подвизаться с ним в молитвах за него к Богу (см.: Рим.15:30).
Кого же других мы должны просить? Всех, кто молится, особенно же тех, кто ближе к Богу и кто расположеннее к нам. Кто ближе к Богу, тех Бог скорее услышит; кто больше нас любит, те усерднее о нас помолятся. Преимущественно же просите священнослужителей Церкви. Они всегда пред престолом Божиим стоят, следовательно, близки к Богу, по крайней мере по сану своему; они Самим Богом на то поставлены, чтобы за всех молиться, следовательно, их скорее Бог услышит, чем кого другого. И потому-то святой апостол Иаков пишет: Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним (Иак. 5:14).
Других просите, чтобы они за вас молились; других просите, да и сами за других молитесь. Молитвой нашей о другом мы можем и его возбудить к молитве о нас, и таким образом мы, по заповеди апостола Иакова, будем молиться друг за друга (см.: Иак.5:14); а таковая взаимная молитва, как выражение взаимной любви, много может. Когда мы друг за друга, тогда Бог за всех нас. И как это утешительно, что мы о других можем молиться и что по молитве нашей Бог может являть им Свою благодать и милость!
Чем поможешь иногда другому? Помочь хочется, помочь нужно, надобно; страдаешь с ним, скорбишь за него. Ах, иногда больше него страдаешь, скорбишь из-за него, а помочь нечем. Так вот чем можно помочь – молитвой. Помолись за него, и Бог пошлет ему помощь за тебя, которой ты не в силах ему дать. И всякое пособие другому надобно делать с молитвою; с молитвой и милостыню надобно подавать; подавай и мысленно говори: да послужит это ему в пользу. Тогда лучше, действительнее будет наше пособие. Молитва наша всему нашему дает жизнь и силу.
Сделаем еще замечание для себя ныне. Иисус Христос, вознамерившись исцелить расслабленного, сначала грехи ему простил, а потом исцелил его от болезни. Почему? Потому, без сомнения, что причиной болезни расслабленного были его грехи: за грехи или от грехов он сделался болен. Да, не без нашей вины мы больны бываем, а или за грехи, или от грехов, или, по крайней мере, непременно во спасение наше, в сохранение нас от грехов. Если бы у иного не болезнь, он, может быть, был бы большим грешником. Очи Господни и несодеянные грехи наши видят.
Итак, в болезни молись о ниспослании тебе здоровья, и тут же проси прощения во грехах ведомых и неведомых, вольных и невольных. «Грехи мои мне, Господи, прости, и выздороветь мне помоги». Тогда скорее выздоровеешь. Если же и не выздоровеешь скоро, то все равно не переставай молиться и каяться. Бог иногда долго, как мы ни просим Его, не избавляет нас от болезни и слабости, чтобы хоть этим приучить нас к молитве и покаянию. Если и вовсе не выздоровеешь, то потери тебе никакой не будет: ты приобретешь привычку к молитве и покаянию, а в покаянии – наше спасение и в молитве – здравие наше душевное.
Когда в болезни молишься Богу со слезами раскаяния, тогда забываешь, не чувствуешь, что ты и болен, что нездоров, и все бы стоял так перед Богом, все бы молился и плакал перед Ним, хоть всю жизнь, хоть всю вечность, так молитва возвышает, оживляет, укрепляет, услаждает человека. Ведь и здоровье, собственно, нужно нам для того, чтобы мы в силах были молиться и каяться во грехах, и здоровья нам нужно столько, сколько надобно его для совершения молитв и для принесения покаяния. И потому, когда я и не выздоравливаю от болезни, но каяться во грехах и молиться могу и действительно молюсь и каюсь, то я спокоен тогда бываю, не унываю, не падаю духом. Видно, я и без здоровья спасусь, когда Бог доселе мне не дает здоровья. Видно, для спасения души не нужно мне здоровья, видно, мне для спасения нужнее слабость, чем крепость.
Все наше – здоровье ли, слабость ли, бедность ли, ученость ли и образование, необразованность ли и невежество, высокий ли сан, низкое ли звание – все ценится по тому, что нам полезно или вредно для спасения нашей души. Если болезнь моя в обновление души мне служит, если не препятствует мне служить Богу и каяться во грехах, то она дороже мне всякого здоровья. А что и в том здоровье, которое мне в спасении души не помогает, при котором я Богу не молюсь, о грехах не плачу? Да, здоровье – благо хорошее, дорогое, когда оно для души спасительно, а и болезнь здоровья не хуже, лучше даже поста и молитвы, когда больной перенесет ее с благодарностью к Богу и с сознанием грехов своих.
Пошли мне, Господи, здоровье, пошли столько здоровья, сколько нужно его мне для спасения души моей, сколько нужно его для того, чтобы я молиться и каяться мог. Если я могу, если в силах каяться во грехах моих и молиться Тебе о себе и о других, то с меня довольно здоровья. Мне бы пожить в молитве и в покаянии и потом умереть с покаянием и с молитвою!.. Если же когда, подобно расслабленному евангельскому, я недвижим буду лежать и безгласен, если буду не в силах ни слова молитвы вымолвить, ни слезы покаяния пролить, то пошли мне людей таких, которые бы с усердием Тебе помолились за меня, хотя бы четырех таких, как тому расслабленному, хотя бы трех, двух, хотя бы одного только: и одного праведного усердная молитва много может. Аминь.
100. В Неделю десятую по Пятидесятнице
Хулят нас, мы молим (1Кор. 4:13).
Слушатели-христиане! Что надобно делать тогда, когда нас кто-нибудь обидит или оскорбит? Гневаться в таком случае вредно – вредно и для души, вредно и для здоровья; платить обидой за обиду еще вреднее; забыть обиду вдруг хотя и всего лучше, но это очень трудно. Итак, что же надобно делать? Так как случаи, в которых мы можем оскорбляться, очень нередки, то небесполезно нам знать то средство, к которому должно прибегать в таковых случаях.
Апостолы, когда проповедовали Евангелие, встречали много оскорблений: их оскорбляли на земле и на море, оскорбляли в городах и пустынях, оскорбляли свои и чужие, везде и все их оскорбляли. Что же они делали? В чем находили утешение? В молитве. Хулят нас, писал апостол Павел к коринфянам, мы молим. Итак, слушатель благочестивый, когда кто тебя оскорбит или обидит, то ты тотчас спеши в уединенное место и там в молитве открой Богу скорбь твою и печаль твою Ему возвести. Душа твоя тогда успокоится, волнение сердца утихнет и обида пройдет со слезами, как солнечный зной проходит с появлением дождя. И простые слезы, в оскорблении проливаемые, много облегчают душу, но гораздо прочнее и больше облегчения могут доставить слезы молитвенные. О чем же тогда молиться? Конечно, не о том, чтобы Бог мстил за тебя оскорбившему, потому что этим оскорбишь только Бога. Молись о том, чтобы Бог дал тебе силы перенести и забыть оскорбление, и ты легко перенесешь его.
Итак, слушатель благочестивый, при всяком оскорблении и при всякой обиде делай то, что делали апостолы, – молись. Аминь.
101. В Неделю одиннадцатую по Пятидесятнице
Так Отец Мой Небесный поступит с вами (Мф. 18:35).
Слушатели благочестивые! Вы помните евангельскую притчу о царе, состязавшемся с рабом? Помните, как этот царь сначала совсем было простил своему должнику десять тысяч динариев, а после до того на него разгневался, что посадил в тюрьму, как тот ни просил о пощаде? И помните, конечно, за что царь вдруг так прогневался на своего должника? За то, что тот должник сам не простил малого долга одному своему товарищу, не простил в самое то время, когда у царя выпросил было себе прощение.
Вот так Бог и с нами поступает. Как бы мы Его ни просили, как бы мы ни умоляли Его, Он не прощает нам ни одного греха, не забывает ни одного худого нашего поступка, если мы сами не прощаем нашим ближним, не забываем обиды, какие от них терпим. Напротив, если мы не злобствуем на наших ближних, когда они нас обижают, если забываем всякое зло, какое они нам делают, то и Бог забывает злые наши дела, оставляет нам наши грехи, как бы они ни были тяжки и оскорбительны для Него. Даже так, слушатели, что и молитва, и пост, и милостыня, и другие добрые дела не угодны Богу, когда мы питаем злобу на наших ближних. Напротив, Бог бывает милостив к нам, хотя мы и мало молимся, и мало подаем милостыню, и мало делаем других добрых дел, да только прощаем и забываем все обиды и оскорбления, какие делают нам другие.
В одном монастыре был монах, который всю свою жизнь провел в лености и небрежении. Когда пришло время ему умереть, то братия того монастыря собралась к нему посмотреть, как будет душа его разлучаться с телом. Так как жизнь его беспечная была всем известна, то и думали, что он будет мучиться, беспокоиться. Но что же увидели? Беспечный монах умирал смертью праведника – умирал весело, спокойно. Все дивились, изумлялись и приступили к умирающему с просьбою: скажи нам, брат наш, отчего ты так спокойно и весело умираешь, несмотря на то, что ты всю жизнь провел во всяком небрежении? Больной, укрепленный благодатной силой Христа, встает и говорит: «Честные отцы, я мою жизнь провел в небрежении, и недавно Ангелы Божии приносили рукописание моих грехов, которых очень много, и, прочитав, спросили меня: помнишь ли ты эти грехи? Помню, отвечал я; но вспомните и вы слова Господа нашего Иисуса Христа: не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и простится вам. А я с того самого дня, как отрекся от мира и постригся, не осудил ни одного человека, не питал ни к кому злобы, всем и все прощал. Да исполнятся же на мне слова моего Господа! Не успел я сказать это, как Ангелы тотчас раздрали рукописание моих грехов. Вот оттого я теперь так спокойно и так весело умираю. Мне все прощено, потому что я всем и всех прощал». Сказав сие, больной лег на одр свой и почил в мире сном вечным.
Вот, слушатель, как спасительно для нас прощать все ближним нашим. Когда Бог прощает нам, то навечно уже забывает о наших грехах, как будто мы никогда и не грешили пред Ним, любит нас, как будто мы всегда делали угодное Ему. Так и мы должны прощать, то есть, прощая, мы все должны забывать, не помнить никогда того, что этот человек зло нам делал; должны так любить его, как будто он не зло, а добро нам делал.
Из этого вы, слушатели, можете видеть, что то наше прощение, за которое нам все прощает Бог, дело очень нелегкое, оно даже выше сил наших, оно – дар Божий. Да, мы непрестанно должны просить Господа Бога, чтобы Он помог нам Своей благодатью научиться прощать все обиды и забывать все оскорбления, какие мы терпим от других. И потому знайте, что если для вас никакого труда не стоит прощать, то это прощение еще не важно пред Богом. Прощение тем спасительнее для нас, чем труднее нам прощать. Итак, когда вам трудно, не хочется прощать, и вы несмотря на то просите Бога, чтобы Он вам помог простить, и наконец прощаете, тогда прощение ваше приятно Богу и спасительно для вас. Аминь.
102. В Неделю двенадцатую по Пятидесятнице
Человекам это невозможно, Богу же все возможно (Мф. 19:26).
Один богатый юноша спросил Иисуса Христа: «Учителю благий! Что доброго должен я сделать, чтобы получить жизнь вечную?» Иисус Христос сказал ему, что должен он делать, и в заключение прибавил, чтобы тот продал имение свое и раздал нищим.
Услышав это, юноша отошел с печалью, потому что имел большое имение. И жизнь вечную хотелось ему наследовать, и с имением жалко ему было расстаться.
По этому случаю Иисус Христос сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, трудно войти богатому в Царство Небесное.
И еще сказал им: удобнее верблюду сквозь игольные уши пройти, нежели богатому войти в Царство Божие. А верблюду, этому огромному животному, как пройти сквозь игольные уши? Невозможно. Значит, и богатому, при богатстве невозможно войти в Царство Божие.
Услышав это, ученики изумились и говорили между собою: кто же после этого может спастись?
Слушатели-христиане! Богатым невозможно спастись; а нам, вы думаете, можно легко?
Если мы и не богаты, то желаем постоянно богатства, думаем непрестанно о нем, стараемся всеми силами приобретать богатство, досадуем, скорбим, что нет его у нас, небогаты мы. Таким образом, из-за богатства и мы для спасения ничего не делаем. Богатые не делают доброго для спасения своей души, для жизни будущей потому, что им жалко для этого богатством жертвовать, а небогатые не делают ничего потому, что желание приобретать богатство отнимает у них время делать что-нибудь спасительное. Тем вовсе не хочется заниматься спасением, а этим вовсе некогда.
Богатые могли бы делать добро, да не хотят; небогатые хотели бы, да не могут. Богатым что думать о Царстве Небесном? Им хорошо жить, весело, спокойно. А небогатым когда думать о Царстве Небесном? Они непрестанно беспокоятся о том, чем им жить здесь.
Ах, слушатели, если получше, поподробнее, побеспристрастнее разберем себя, разберем свою жизнь, если сообразим, чем мы заняты по большей части, что делаем всякий день, то еще более уверимся, увидим, что мы все, богатые и небогатые, очень мало или почти ничего не делаем для спасения души, для получения Царства Небесного.
Ныне праздник у нас. Мы пришли в церковь. А зачем пришли? Затем ли, чтобы чем-нибудь воспользоваться для спасения души или услышать что-нибудь спасительное для себя? Едва ли. Мы и прощение грехов просим только, кажется, для того, чтобы спокойнее нам было здесь жить, а не для того чтобы в будущей жизни покоем вечным наслаждаться. Вечный покой, вечная жизнь, Царство Небесное, вечное блаженство – о, как мало нас это занимает!
О том, как нам провести день, который весь состоит из каких-нибудь двенадцати часов, мы ведь гораздо больше думаем, беспокоимся, чем о том, как мы будем проводить жизнь будущую, которая будет продолжаться бесконечные веки!
Итак, не только богатым, но и небогатым, всем нам, слушатели, невозможно спастись, невозможно войти в Царство Небесное.
Кто же после этого спасется? Тот, кто сознает себя слабым, ни к чему доброму и святому не способным; кто чувствует, что ему самому спастись невозможно, и, сознавая это, просит помощи у Бога, молит Его о помиловании. Да, сознание своего бессилия и своей невозможности спастись не к тому должно нас вести, чтобы ничего не делать, а к тому, чтобы нам усерднее прибегать к помощи Божией и надеяться, уповать на Его беспредельное милосердие.
Да, один Иисус Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матери и всех святых помилует и спасет нас, ибо Он всемогущ, ибо Он благ, ибо Он человеколюбив. Невозможно нам спастись? Значит, мы удобно спасемся, ибо в таком случае непременно поможет нам Бог, если мы будем прибегать к Нему, непрестанно взывать к Нему: ими же веси судьбами спаси нас. Богу все возможно; значит, и нас спасти Он может и спасет. Аминь.
103. В Неделю шестнадцатую по Пятидесятнице
Один человек, отправляясь в дальний путь, призвал рабов своих и поручил им свое имение: одному дал пять талантов, другому два, третьему один. Первый пошел, пустил свои деньги в оборот и приобрел пять талантов прибыли. То же сделал и другой и получил соразмерную талантам выгоду. Но третий, которому дан был один талант, пошел и закопал в землю серебро господина своего. Спустя несколько времени господин возвращается и требует рабов к отчету. Пришел первый и говорит: я получил от тебя пять талантов, вот тебе другие пять, которые я приобрел ими. Пришел второй и сказал: я получил от тебя два таланта, вот еще два, мною приобретенные. Довольный господин отвечал им: хорошо! В немногом вы были мне верны, над многим вас поставлю; внидите в радость вашего господина. Но вот пришел и третий, получивший один талант и с видом робости и некоторого негодования доносит: господин мой, я знаю тебя, что ты человек расчетливый и строгий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И потому я пошел и скрыл талант твой в земле, а теперь вынул его, и вот тебе твое. Огорченный господин отвечал: раб лукавый и ленивый! Надлежало бы серебро мое отдать купцам, и я, возвратясь, получил бы его с прибылью. Возьмите у него талант, сказал он слугам своим, а непотребного раба – бросьте во тьму кромешную: там будет плач и скрежет зубов. Вот вся ныне прочитанная притча. Какой же смысл заключается в ней?
Вот какой: господин, раздатель талантов, есть Бог; таланты – это способности, силы, имение: все это у нас Божие, а не свое, все это поручено нам только на время. На Страшном Суде мы дадим отчет Богу, как и на что все это употребили. Мы таланты пускаем в оборот – когда эти способности, эти силы и имение употребляем на пользу ближних. Кто живет для одного себя, тот закапывает свои таланты в землю. Тьма кромешная, куда брошен ленивый раб, есть тот страшный ад, где будут мучиться грешники. Вот смысл настоящей притчи.
Итак, не будем зарывать наши таланты в землю: сколько есть у нас сил, будем помогать ближним, и последний талант, какой нам дан, пустим в оборот; что мы употребляем на себя, то может погибнуть, а что употребляем на других, то навечно останется нашим. Не забудьте, что Бог на Страшном Суде спросит у нас отчета именно в том, сколько мы пользы сделали нашим ближним, сколько прибыли принесли другим. Тот не спасает своей души, кто, заботясь о своем спасении, забывает ближних. Спасай других, если хочешь спасти себя; давай временное счастье ближним, если хочешь насладиться счастьем вечным; уделяй земные блага другим, если хочешь вкушать блага небесные.
Тьма кромешная назначена тому, кто невнимателен к своим ближним; нестерпимый плач ожидает того, кто попускает плакать ближних; вечный огонь ожидает того, кто холоден к другим. И евангельский богач попал в ад именно за то, что сам пировал и веселился, а Лазарь пред вратами его лежал без всякого пособия. Нельзя отговориться тем, что мы сами мало имеем: что имеем, то и дадим для приращения – не для временного, а вечного. И третий раб один только имел талант, однако же за то, что скрывал его без пользы, выброшен во тьму кромешную. Имеяй уши слышати да слышит. Аминь.
104. В Неделю семнадцатую по Пятидесятнице
Что надобно, слушатели, делать в таком случае, когда мы не получаем от Бога просимого, несмотря на то, что просим себе чего-нибудь доброго, просим от всей души, просим с раскаянием во грехах? Что делать? Надобно продолжать более и более молиться, и мы получим то, о чем молимся.
Хананейская жена, о которой упоминается в нынешнем Евангелии, служит тому самым верным доказательством. У нее была больная дочь, одержимая нечистым духом. Иисус Христос является в той стране, где она жила. Зная о чудодейственной его силе, жена хананейская поспешила к Нему и стала просить об исцелении своей дочери. Иисус Христос сначала не отвечал ни слова на ее просьбу; она, несмотря на то, не отступала от Него; Иисус Христос отказал ей, но она все не переставала просить и тем неотступнее просила Его. Чем же кончилось? Молитва матери была услышана: дочь ее немедленно выздоровела (см.: Мф.15:22–28).
Впрочем, не одна хананейская жена так долго молилась, она, можно сказать, молилась еще недолго; некоторые гораздо дольше молились, молились по десять и более лет и наконец получали просимое. Долго молилась Сарра, чтобы Бог даровал ей сына, и сын дан был ей в самой глубокой старости; долго молился Захария, и жена его Елисавета зачала уже в преклонных летах. Так долго иногда Бог медлит исполнить молитвы молящихся Ему! Потому-то Иисус Христос предложил и притчу о том, чтобы мы не унывали и не переставали молиться, когда долго не получаем просимого (см.: Лк.18:1–8). В одном городе, говорит Он, был некоторый судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была некоторая вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. А он долгое время не хотел. Но после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как вдова сия не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. «Слышите, что говорит судья неправедный?» – прибавляет Иисус Христос.
Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Я вам сказываю, что подаст им защиту вскоре. Земным царям и владыкам, слушатели, приятно предварять наши прошения, но Небесный Царь и Владыка хочет и любит, чтобы Его просили. Чем дольше Его просят, тем Он щедрее бывает, чем дольше Он не делает, тем больше дает; в то время, когда не дает нам просимого, Он как бы готовит, как бы придумывает, чем бы получше наградить нас. Наша неотступная просьба настолько же приятна Богу, насколько людям она противна: из нее Бог видит, что мы усердно желаем просимых благ и что мы не хотим получить этих благ ни от кого другого, кроме Него.
Итак, слушатели, когда просите у Бога каких-либо благ, временных или вечных, то просите неотступно. Чем дольше Бог не дает, тем неотступнее просите. Если Он вместо того, чтобы дать просимое благо, подвергнет вас несчастьям, и тогда не отступайте от Него. Если увидишь Бога, посылающего тебе меч, если ощутишь этот меч в твоем сердце – и тогда не отступай от Него, и тогда ожидай просимой милости. Когда гневается на нас человек, в таком случае всего безопаснее бежать от него, а когда гневается на нас Бог, тогда всего лучше и надежнее стоять пред Ним. Аще убиет мя, на Него уповаю. Так уповай, и не посрамишься. Если Бог не дает тебе того, чего желаешь и просишь, то, будь уверен, Он готовит и непременно даст что-нибудь лучшее, более полезное для тебя. Аминь.
105. В Неделю восемнадцатую по Пятидесятнице
Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет (2Кор. 9:6).
Каково нам будет жить по смерти? В покое будем там мы или в непокое? Радоваться будем или страдать? Утешаться или скучать? Вот что говорит на это апостол Павел: Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет.
Настоящая наша жизнь есть время сеяния для жизни будущей; будущая жизнь есть время жатвы: мы здесь сеем, а там будем жать. Какое же это семя, которое мы здесь сеем? Дела, которые мы здесь делаем, есть то семя, которое сеем для будущей жизни.
Где же земля та, в которую мы сеем? Наши ближние – та земля, в которую мы сеем. Что мы здесь в них посеем, то там пожнем, то есть что для ближних сделаем, то там получим. Итак, слова апостола Павла заключают в себе вот какой смысл: кто не делает добра ближним, здесь на земле, тому худо будет там по смерти; кто делает добро ближним здесь на земле, тому хорошо будет там по смерти. Добрые люди здесь не всегда наслаждаются счастьем: это оттого, что добрые дела теперь еще не зрелы; им теперь еще и не время созревать; они вполне созреют в будущей жизни, и потому добрые люди полным счастьем насладятся по смерти. Насладятся: то не пропадет, что мы делаем для других. Бог, дающий семя сеющему и хлеб в пищу, подает обилие посеянному и умножит плоды правды. Если бы за добрыми делами смотрели люди, то добрые люди могли бы остаться без награды; но за ними смотрит Сам Бог, Он ничего не оставит без награды – и доброе слово, в пользу ближнего нами сказанное, Он вспомнит, и ласковый взгляд наш Он не забудет.
После этого легко, слушатели, узнать, каково нам будет по смерти. Если мы хорошо, мирно со всеми живем здесь на земле, то и нам хорошо будет, мы спокойны будем там по смерти; а если мы худо живем с ближними – и нам будет худо. Если от нас другие не плачут здесь, а радуются, то мы сами не будем плакать по смерти, а будем радоваться; если другие от нас льют слезы, то и мы будем проливать слезы по смерти. Одним словом, каково здесь от нас нашим ближним, таково нам будет в будущей жизни. Человеку, который здесь беспокойно со всеми живет, там не будет покоя.
Итак, вот как важны для нас наши ближние! О них нам больше надобно заботиться, чем о себе. Мы по смерти будем жить только тем, что ныне ближним нашим сделаем: ничего не сделаем им, нечем будет нам и жить. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Аминь.
106. В Неделю девятнадцатую по Пятидесятнице
Любите врагов ваших (Лк. 6:36).
Вот какую заповедь дает нам, слушатели, небесный наш Учитель Иисус Христос: велит нам любить врагов наших. Ближний твой сделал тебе зло, а ты несмотря на то люби его, за зло плати ему добром. Почему же это Иисус Христос дал нам такую по видимости строгую и трудную заповедь? Потому и дал, слушатели, что она для нас очень необходима, необходима и для настоящей жизни, необходима и для будущей.
И в самом деле, что было бы на земле, если бы Бог не велел любить врагов, если бы позволил платить злом за зло? Тогда ссорам и смятениям не было бы конца, тогда на земле жили бы, как в аду. Зла злом остановить и пресечь невозможно, оно может быть остановлено и пресечено только добром.
Да, слушатели, добром всего скорее можно усмирить злого человека: доброе дело, которое мы делаем ему, как огонь, жжет его, жжет дотоле, доколе он не перестанет делать зла. И потому, когда вас кто обидит или оскорбит, то старайтесь поскорее сделать ему какое-нибудь добро, и он перестанет на вас злиться. Если же добром не преклоните, то старайтесь преклонить его к себе другим, молитвой. Молитва о враге – это фимиам, самый приятный Богу и самый невыносимый для нашего врага; только разве каменный не дрогнет, не смягчится, когда мы будем молиться за него Богу.
Если же при всех усилиях вашей любви вы не преклоните к себе своего недоброжелателя, то оставьте его: Бог с ним! Нечего бояться тех врагов, которым мы делаем добро. Эти враги не сделают нам вреда, ибо зло, которое они нам делают или хотят сделать, Бог обратит нам во благо. Опасны для нас те только враги, которых мы сами не любим; зло от них нам действительно есть зло, ибо мы тогда и сами делаем зло. Таким образом, делая добро друг другу и молясь друг за друга, мы истребим или, по крайней мере, уменьшим на земле зло.
Но если любовь к врагам необходима в настоящей жизни, то тем более необходима она для жизни будущей. Настоящая жизнь дана нам для того, чтобы мы приготовили себя к жизни будущей. Но в чем, вы думаете, преимущественно должно состоять это приготовление? Именно в том, чтобы мы здесь приучались любить друг друга, любить всех, даже врагов. Жизнь на земле есть училище любви. Тому невозможно быть в раю, кто здесь не приучится любить всех. Вы скажете: есть такие люди, которых любить невозможно. Если есть у тебя такие люди, которых тебе невозможно любить, то будь уверен, что тебе и в раю быть невозможно. Врагов твоих там не будет, если они злы, да и тебя не будет, если ты злишься на них. Ведь не свойство людей, с которыми мы живем, делает нас блаженными или несчастными по смерти, а то свойство, которое мы в себе образуем, живя с людьми. Иисус Христос, Который для того сходил с Неба на землю, чтобы приготовить людей к вечному блаженству, учил нас жить в любви не с некоторыми только, а со всеми. Это еще не любовь, когда мы любим тех, которые нам нравятся или нас любят. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность, говорит Спаситель, ибо и грешники любящих их любят… Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего (Лк. 6:32,35).
Итак, слушатели, будем любить друг друга, будем любить всех, даже врагов и недоброжелателей наших. Но любят ли они нас или нет, нам об этом нечего много беспокоиться; будем о том только заботиться, чтобы нам их полюбить. Не иметь врагов нельзя, нельзя, чтобы нас все любили. Но нам любить всех очень можно. Аминь.
107. В Неделю двадцатую по Пятидесятнице
Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери (Лк. 7:12).
Исцелив в Капернауме заочно сотникова раба, Иисус Христос пошел оттуда в город, называемый Наин. С Ним пошли многие из учеников Его и множество народа. Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народу шло с ней из города. Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал: не плачь. И подойдя, прикоснулся к одру; несшие одр остановились, и Он сказал: юноша! Тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери (см.: Лк.7:11–15).
Какое счастье для бедной вдовы, что Иисус Христос приблизился к городским воротам в то самое время, как выносили умершего ее сына! Да, Иисус Христос всегда поспевает туда, где нужно Его утешение, Он всегда там, где нужна Его помощь.
Господи! Мне теперь всех нужнее Твоя помощь, Твое утешение, поспеши же ко мне. У меня не сын, а душа умирает, не по воле Твоей умирает, а от моего своеволия; не по закону природы умирает, а от моего беззакония; не на время умирает, а навсегда. Умирает, унывает душа моя, и плачу, и скорблю, и сокрушаюсь я о грехах моих, и все нет облегчения мне, и все, как мертвая, душа моя во мне. О, поспеши ко мне, сладчайший мой Иисусе, сжалься надо мною, бедным, коснись окаянного моего сердца, скажи унылой душе моей: встань. Поспеши, пока не унесли душу мою туда, где она вечно будет оставаться мертвой, где вечно я буду плакать, скорбеть и сокрушаться. Поспеши, пока не умер я.
Взывай так, грешник, к сладчайшему Иисусу, когда печаль греховная, как бремя тяжкое, тяготит твою душу, взывай, и Он услышит тебя. Как услышит, легко будет на душе у тебя, ты перестанешь сокрушаться, скорбеть и плакать безутешно, ты, как из мертвых, воскреснешь. Ибо Иисус Христос снимет с тебя бремя грехов твоих, оживит тебя благодатию Своею; и ты станешь жить душой и радоваться духом о Боге, Спасителе твоем. Аминь.
108. В Неделю двадцать четвертую по Пятидесятнице
В нынешнем Евангелии, между прочим, описывается исцеление одной больной женщины, которая двенадцать лет лечилась у лекарей, имение все истратила на лекарства, а пользы никакой от них не получила. Двенадцать лет лечилась и не вылечилась (см.: Лк. 8,43)! Отчего же это произошло? Уж не грешно ли пользоваться лекарствами? Не противно ли Богу, что лечишься у лекарей? Нет, слушатели, не противно Богу лечиться у лекарей, не грешно пользоваться лекарствами. Лекарства тоже Богом сотворены: Господь создал из земли врачевства, говорит мудрый Сирах, и потому почитай врача честью по надобности в нем (Сир. 38:4,1). Только надобно знать, как лечиться у лекарей. Кто на одни лекарства надеется, кто от одних лекарей ожидает помощи, тот не всегда, и то разве по особенному Божию снисхождению получает пользу, а чаще таким больным еще хуже делается от этих пособий.
Как же надобно лечиться у лекарей? Прежде всего больной должен помолиться Богу, покаяться во грехах, сделать пожертвование в церковь, подать помощь нуждающимся и после уже прибегать к лекарям. Сын мой, говорит Сирах, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь… и от всякого греха очисти сердце. Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву и сделай приношение… и дай место врачу, ибо и его создал Господь, да не удаляется он от тебя, ибо он нужен (Сир.38:9–12).
Да, вот отчего мы иногда, истратив на лекарей имение, не получаем от них никакой пользы – оттого, что надеемся на лекарей, а не на Бога. Лекарей призываем на помощь, а о Боге забываем. Нет, лекарь уже не поможет своими лекарствами, когда Бог не станет помогать нам Своей благостью. Да, впрочем, если и поможет лекарь, так что мне и в том здоровье, за которое я Бога благодарить не могу? Лучше больным оставаться, чем без призывания Бога выздоравливать.
Итак, не грешно пользоваться лекарствами и не противно Богу призывать лекарей. Только прежде всего надобно, раскаиваясь во грехах, прибегать к Богу и, принимая лекарства, надеяться на Бога. Тогда лекарства помогут и болезнь пройдет. А если и не пройдет болезнь, то Бог поможет переносить ее терпеливо и умереть спокойно. Аминь.
109. В Неделю двадцать четвертую по Пятидесятнице
Не бойся, только веруй, и спасена будет (Лк. 8:50).
Многие из вас, слушатели, приметно заботятся об угождении Богу и спасении своей души: молятся дома, ходят в церковь Божию, хранят посты, Церковью установленные, исповедуются и причащаются Тела и Крови Христовой, словом сказать, стараются жить по учению Православной Церкви. Между тем они часто боятся, беспокоятся, мучатся, тревожатся о том, что они ничего угодного Богу не делают, что они никак не спасутся, – так боятся, что до уныния доходят, до того, что готовы все дело спасения оставить.
Не изумляйтесь, если скажу вам, что такое беспокойное, тревожное, мучительное состояние вашего духа действительно едва ли угодно Богу. Бог наш – любовь беспредельная, благость бесконечная; у Него милосердия бездна, милостей неисчерпаемая пучина. Ему все приятно, что мы делаем ради Него, Он все принимает, что приносим Ему, Он помнит всякое слово, сказанное о Нем, помнит всякую мысль, обращенную к Нему, помнит всякую слезу, пролитую ради Него, каплю такой слезы нашей помнит Он. Ему приятно и то, когда мы скажем пред Ним: «Господи! Я ничего для Тебя не делаю, я ничего Тебе не приношу и принести ничего не могу, я человек грешный, человек слабый, нищий, бедный». Зачем же мучиться, тревожиться о том, как мы спасем душу, когда делаем то, что Бог повелел делать нам для нашего спасения?
Сказать ли вам, отчего происходит в нас это тревожное чувство, это мучительное недоумение о спасении души? Оттого, что мы думаем, что мы спасемся сами собой, думаем, что одними своими усилиями должны достигнуть Царства Небесного, за одни свои дела должны получить вечное блаженство! Так думаем и по жизни своей, по делам своим видим, чувствуем, сознаем, что мы далеки от своего спасения, что мы Царства Небесного недостойны и к вечному блаженству не готовы, не способны, и, сознавая это, мучимся, тревожимся, беспокоимся. Надеющийся на себя, а не на Бога ни в чем и никогда спокоен быть не может.
Нет, не на себя, не на свои силы и усилия надейтесь в деле своего спасения, а на Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, на Его помощь, на Его помилование. Наше дело – делать дела нашего звания, трудиться для нашего спасения, а спасти нас может только Он один, Господь наш Иисус Христос. После этого зачем же до ослабления мучиться, до уныния тревожиться нам о своем спасении, когда все оно зависит вполне от Иисуса Христа? Ужели и Иисус Христос не может, не в силах спасти нас? И ужели Он меньше нашего думает и печется о нашем спасении? Он с Неба сошел для нашего спасения, Он Кровь Свою пролил на кресте ради нашего спасения. И теперь на Небе, седяй одесную Бога Отца, о чем ходатайствует пред Отцем Своим Небесным? Все о нашем же спасении. Зачем же нам при таком Ходатае нашего спасения, зачем мучиться до ослабления, зачем тревожиться до уныния о своем спасении?
Так, старайтесь жить по учению Святой Православной Церкви, занимайтесь делами своими, трудитесь ради спасения своего и – не бойтесь, не унывайте, ожидая спасения себе от Иисуса Христа, Сына Божия, от Его помощи, от Его помилования. Не бойся, христианин, не бойся, только веруй во Иисуса Христа, и спасена будет душа твоя. Аминь.
110. В Неделю двадцать седьмую по Пятидесятнице
Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего (Лк. 13:12).
В одной из синагог иудейских Иисус Христос учил народ в субботу. Тут была одна женщина, восемнадцать лет одержимая недугом от нечистого духа; она была скорчена и не могла стоять прямо. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина! ты освобождаешься от недуга своего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога (см.: Лк.13:10–13).
Итак, Иисус Христос Сам усмотрел женщину, одержимую недугом, Сам отыскал ее, Сам вызвался подать ей помощь. Так и Мы, слушатели, всегда должны поступать: мало того, что должны помогать в нужде другим, мы должны сами высматривать и отыскивать нуждающихся в нашей помощи. Особенно же мы должны этим заниматься в праздничные дни. Эти святые дни делами милосердия и святятся. Ты для праздника сходишь в церковь, принесешь дар алтарю, а нуждающимся не окажешь помощи – у тебя еще не полный будет праздник.
И потому, когда наступает какой-либо праздник, то, приготовив нужное для себя и для своих домашних, смотри, нет ли у тебя кого-нибудь нуждающегося из родных: родные наши всех прежде имеют право на нашу помощь. Если из родных такого не найдешь, то смотри, не нуждается ли кто из живущих около тебя: Бог для того и поселяет бедных около нас, чтобы мы им помогали. Если же около себя не найдешь никого, кому бы ты мог оказать помощь, то выйди на улицу, в переулки, и посмотри там, нет ли каких-нибудь нищих, увечных, слепых, хромых. Если же ты так будешь несчастлив, что и тут не встретишь никого, то проси Бога, чтобы Он послал тебе такого человека, которому бы ты мог оказать помощь для праздника.
Да, слушатели, нуждающихся в нашей помощи посылает нам Бог. Милость к нам Божия, когда нам открывается случай оказать милость другим. Нищий, бедный, просящий у нас помощи есть посол к нам от милующего нас Бога. Таким образом, убегать и скрываться от просящих у нас значит убегать и скрываться от Божией милости к нам.
Так будем всегда, особенно же в праздники стараться сами высматривать и отыскивать нуждающихся. Кто не делает другим праздника, у того самого не может быть праздника. Окажи пособие для праздника хоть одному кому-нибудь, хоть малым чем-нибудь, и у тебя будет праздник. Если же бы тебя сподобил Господь помочь всем нуждающимся, и своим, и чужим, и ближним, и дальним, о, тогда у тебя был бы праздников праздник, торжество торжеств! Счастлив в жизни тот, кто имеет средства делать других счастливыми, кто может помогать и действительно помогает всем, имеющим нужду в его помощи; у такого человека всякий день праздник и на всяком шагу торжество.
Знаю, слушатели благочестивые, что многие из вас рады бы подавать помощь в нужде другим, если бы имели к тому средства. Да подаст же вам Господь Бог эту радость – помогать нуждающимся. Аминь.
111. В Неделю тридцать вторую по Пятидесятнице (о Закхее)
В одно время проходил Иисус Христос через Иерихон. И вот некто по имени Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Забежав вперед, он влез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что Он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраамов, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».
Почему, слушатели, Иисус Христос зашел в дом к Закхею, а не к другому кому-нибудь из жителей Иерихона? Конечно, не потому, что Закхей был в городе важный и богатый человек, важнее, может быть, и богаче других, а вот почему: потому что Закхей был человеком грешным. И роптавшие тут именно потому и роптали, что Иисус Христос зашел к человеку грешному. И Сам Иисус Христос после сказал роптавшим, что потому именно и зашел, что Закхей был грешником.
Что это значит? В городе Иерихоне грешников было, без сомнения, много, но такого, каким был Закхей, не было. Да, прочие грешники не считали себя грешниками, а Закхей считал, сознавал себя грешником. Он не смел и попросить Иисуса Христа к себе в дом, потому что считал себя грешником, недостойным того, чтобы Иисус Христос зашел к нему в дом, хотя желал этого от всей души и потому-то принял с радостью. Итак, вот чем Закхей привлек к себе внимание Господа Иисуса Христа и благодать Его спасительную: тем, что сознавал себя грешным человеком, погибающим, считал себя грешнее всех в городе.
Так, Иисус Христос Сам приходит спасать того человека, который считает и сознает себя грешником.
Слушатели-христиане! Мы иногда думаем: отчего это Спаситель редко приходит нам на мысль, редко бывает в доме души нашей? Это оттого, всего больше, что мы не сознаем себя грешниками, не сознаем, что для нас, для нашего спасения нужна помощь Спасителя. Мы считаем себя грешниками, но такими, что и без благодати Божией спастись от грехов своих можем, считаем себя такими больными, что у нас болезнь наша может пройти сама собой, без особенного пособия лекаря. Нет, слушатели, болезни телесные некоторые могут проходить и без особенного пособия лекаря, при помощи своих домашних средств, а из грехов ни один не простится нам без благодати Господа нашего Иисуса Христа; грехи прощать может только один Бог.
Итак, не будем переставать просить Господа Бога чаще: даруй ми зрети моя прегрешения, чтобы таким образом нам сознавать себя грешниками. Когда мы сознаем себя грешниками, тогда уверуем в Иисуса Христа; Иисус Христос Сам тогда придет нам на мысль для спасения нас, как Он Сам пришел к Закхею спасти дом его. Аминь.
Часть шестая. Поучения на праздники Богородичные
112. В день Рождества Пресвятой Богородицы (8/21 сентября)
Непрестанно молитесь (1Фес. 5:17).
Некоторые из вас, иногда думая, что Бог их не услышит, или полагая, что желание их не сбудется, Богу вовсе не молятся, не просят Его о том, чего им хочется, что им нужно, чего им недостает, – Богу не молятся, Его не просят, а скорбят, сокрушаются, беспокоятся, досадуют, даже ропщут иногда, что у них нет того или другого.
Вот вам пример – святые родители Пресвятой Девы Богородицы, что и невозможное, по нашему понятию, может сбыться, если мы будем просить Бога. Иоаким и Анна были в преклонных летах, в таких летах, когда уже нельзя надеяться иметь детей, и особенно им нельзя было надеяться, потому что у них и до того времени не было детей вовсе. Несмотря на то они просили себе у Бога детей, неотступно просили. Почему? Потому что им очень хотелось иметь детей и они очень скорбели, что у них нет их.
Казалось бы, что просить старым людям детей себе? Возможно ли родить тому в старости, кто не рождал в лета молодые? И однако же, оказалось, что у Бога возможно и невозможное по нашим соображениям. У Иоакима и Анны, по вере и молитвам их, в глубокой старости, как известно, родилась дщерь, Пресвятая Дева Мария.
И потому, слушатель, обо всем Бога проси, обо всем, чего тебе недостает, что тебе нужно, чего ты сильно желаешь, хотя бы казалось тебе делом невозможным, чтобы Бог исполнил желание твое. Да, чем скорбеть, сокрушаться, досадовать, беспокоиться, лучше молись; может быть, Бог и сделает по твоему прошению; может быть, услышит твою молитву. Просите, и дано будет вам (Мф. 7:7), говорит Господь. Тебе кажется это невозможным, но для Бога нет ничего невозможного.
Бога надобно просить смелее, просить со дерзновением. Когда просишь Бога, забывай, что ты, может быть, просишь невозможного; помни одно: для Бога все возможно.
Положим, что Бог и не сделает по твоему прошению, но твоя молитва и тогда не останется для тебя бесплодной. Если Бог и не сделает для тебя такового чуда, чтобы ты получил то, чего желаешь, о чем скорбишь, так Он сделает за твою молитву другое для тебя чудо: сделает то, что и без нужного ты обойдешься, и о том не будешь скорбеть и сокрушаться, чего у тебя недостает. Больной молится, чтобы Бог избавил его от болезни. Болезнь не проходит, но он все не перестает молиться – и при молитве его к Богу болезнь его становится не так уже мучительна для него, он благодушнее и легче переносит ее тогда. Бедный просит себе у Бога довольства, богатства; Бог не дает ему, но он все просит, и Бог подает ему за его молитву такое утешение, при котором он и в бедности, без богатства доволен и спокоен не меньше богатого.
Если бы даже желал ты себе чего-нибудь чувственного, хоть даже греховного, то и тогда молитвенное твое к Богу обращение не останется тщетным. Господь вразумит тебя, чтобы ты об этом не молился, или удержит тебя от греховных желаний, и ты, как скоро станешь на молитву, тотчас успокоишься, перестанешь и желать греховного.
Итак, при наших нуждах и недостатках, при неудачах и тягостях жизни будем чаще рассуждать так: своим беспокойством, сокрушением, роптанием помогу ли я себе, сделаю ли что-нибудь для себя? Не помогу, ничего не сделаю. А если буду молиться, Бог может мне помочь, может даже и то для меня сделать, что представляется мне невозможным. По крайней мере, уж во всяком случае я сделаюсь спокойнее, когда к Нему с молитвой обращусь. Так лучше молиться Всеблагому и Всемогущему Богу, чем без пользы мучиться, беспокоиться, досадовать, роптать. Аминь.
113. В день Введения во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября/4 декабря)
Церковь ныне празднует Введение во храм Пресвятой Девы Марии. Что же значит это введение? Родители Пресвятой Девы Марии, богоотцы Иоаким и Анна, будучи долгое время бездетны, молили Бога даровать им дитя и, если Бог даст, обещались посвятить его Богу на житие и служение в храме.
Усердная молитва праведников не остается тщетною: Бог даровал Иоакиму и Анне дщерь, которую они назвали Марией. Три года жила Она у них дома; на четвертом, по данному обету, Она была приведена ими во храм. Тут лик поющих жрецов и левитов встретил Ее, а первосвященник торжественно благословил. Таким образом, Она осталась жить и жила неисходно до известного времени при иерусалимском храме. Сие-то Введение Пресвятой Девы во храм ныне празднует Святая Церковь.
Итак, Пресвятая Дева Мария с трех лет начала жить в храме, с трех лет начала служить Богу. Ужели же могла быть какая-нибудь польза от столь раннего занятия? Ужели трехлетий младенец может что-нибудь понимать и перенимать? Не только трехлетние, даже двухлетние и однолетние младенцы могут много понимать и перенимать.
Вы, конечно, замечали, как младенцы бывают до всего любопытны, а это есть знак того, что они хотят узнать, значит, и могут понимать; об их памяти и говорить нечего; на ней, как на мягком воске, все отпечатлевается. И в самом деле, когда дети научаются говорить, когда успевают запомнить столь различные наименования вещей? Конечно, в младенчестве. Когда успевают узнать те пороки, которые они обнаруживают, когда приходят в возраст? Опять в младенчестве. Так, слушатели, почти все то остается на всю жизнь в детях, что они видят и слышат в младенчестве. И потому чему вы хотите со временем учить детей, то надобно внушать им и тогда, когда они бывают младенцами. Пусть они заблаговременно приучаются видеть и слышать это; пусть, по крайней мере, их уши и глаза привыкают к тому, чем со временем должны заниматься их умы и сердца.
И потому-то родители Пресвятой Девы Марии премудро сделали, что так рано отпустили Ее жить в храм. Там все мирское от Нее было скрыто; Она видела и слышала божественное; Она жила и дышала божественным. Напротив, весьма неосторожно поступают те из родителей, которые при младенцах делают и говорят худое или позволяют другим говорить и делать непристойное. Рано еще учить их доброму, говорим мы обыкновенно. Рано? А к худому разве приучать уже время? Мы станем учить детей благочестию, когда у них откроются понятия. А много ли будет пользы от этого учения? Мы тогда будем словами удерживать их от того, чему давно научили делами. Мы не учить только их будем, а отучать от того, к чему они давно привыкли, беря пример с других.
Итак, слушатели, будем как можно осторожнее вести себя при младенцах, а мы все имеем случай часто быть с ними. Будем вести себя осторожно при младенцах, чьи бы они ни были, свои или чужие; за своих и чужих мы равно дадим ответ Богу. Положим, что они и ничего не понимают, но у них открыты глаза, у них отверсты уши, и потому будем удерживаться от худого, чтобы они не видели и не слышали; не будем приучать ушей и глаз их к худому. И нам лучше будет на том свете, если они спасутся; и нам отраднее будет, если они по смерти не пойдут в ад, в сие место мучений вечных. Аминь.
114. В день Введения во храм Пресвятой Богородицы
Ангели, вхождение Пречистыя зряще, удивишася.
При воспоминании вхождения в храм Пресвятой Девы Богородицы мне пришло на мысль наше хождение в храм Божий. Как, должно быть, святые Ангелы удивляются, когда видят некоторых христиан, входящих в храм Божий. Ах, слушатели, некоторые из нас приходят сюда иногда с такою злостью и злобой в душе, что и мы, недостойные, не можем не удивиться, как это они такими входят, такими стоят и остаются такими злыми, злобными. У нас в храме Божием присутствует Бог Своею благодатью, Всеблагий, Всемогущий Бог, и потому здесь столько всего святого, освящающего, радующего, утешающего, что, кажется, невозможно бы злому и злобному не успокоиться, не оставить своей злобы и злости.
Итак, что же это значит, что некоторые христиане и в храме Божием не перестают злиться и злобствовать на других? То и значит, что они забывают, что в храме Божием невидимо присутствует Бог. Стоя здесь, они о Боге и не думают, не молятся Ему или, молясь, знаменуя себя крестом, поклоняясь пред иконами, они Его в мыслях вовсе не имеют и сердцем к Нему вовсе не обращаются. Да, так. Что мы можем злиться и сердиться, это, конечно, понятно. Понятно, мы родимся с наклонностью ко злости, к злу; но решительно непонятно, можно сказать, неестественно, как это стоять в храме Божием, в этом жилище Божия мира и – не успокаиваться, не переставать злиться, молиться Богу, Богу любви – и не утихать, не забывать злобы!..
Что-нибудь одно из двух: или, став на молитву, ты тотчас перестаешь злиться, злобствовать, или ты вовсе не имеешь в мыслях Бога, когда молишься. Кто открывает глаза на свет, тот освещается, и кто обращается душой к Богу, тот непременно успокаивается. Нельзя иногда на иного не рассердиться, но нельзя же и не забыть зла, когда вспомнишь о Боге и молишься Ему, Всеблагому, Всемогущему. От иного человека в иное время, как от холода, дрожит наша душа, а Богом, как солнцем, всегда она согревается.
Что же мне делать, когда я не могу не сердиться, не могу оставить злобы? То и делать, чего ты не делаешь. Оставив всякое житейское попечение, ты должен обратиться весь к Всеблагому и Всемогущему Богу. Когда от души молишься Богу, особенно когда молишься Ему в храме Божием, бываешь так доволен, мирен, спокоен, успокаиваясь благодатью и милостью Божией, что все забываешь, перестаешь злиться на человека, как бы много ни наделал он тебе зла. Злятся и зло помнят только люди робкие, боящиеся за себя, недовольные собой, непокойные духом.
Помни же, слушатель, отчего ты бываешь зол и сердит: оттого, что не молишься Всеблагому и Всемогущему Богу или молишься не от души. А помня это, не забывай, что и Ангелы и люди удивляются, как это ты и в храме Божием не оставляешь своей злости и злобы на других. Аминь.
115. В день Благовещения Пресвятой Богородицы (25 марта/7 апреля)
Благовестите день от дне спасение Бога нашего.
В день Благовещения Пресвятой Богородицы я, как пастырь Церкви, от лица Бога вам, христианам, чадам Церкви Православной, благовествую, что вы чрез Иисуса Христа спасетесь, наследуете Царство Небесное, будете в раю радоваться с Ангелами, блаженствовать со святыми. Еще послушайте внимательнее сие благовестие Божие: вы все чрез Иисуса Христа непременно спасетесь, непременно наследуете Царство Небесное, непременно будете в раю радоваться с Ангелами, блаженствовать со святыми. О, я рад каждый день, каждый час твердить вам о сем благовестии.
Радуется ли сердце твое, слушатель-христианин, при сем благовестии? Или ты еще недоумеваешь и, размышляя сам с собой, говоришь: как это может быть? Как я, слабый, могу спастись? Как я, грешный, могу наследовать Царство Небесное? Как я, нечистый, могу быть в раю, радоваться с Ангелами, блаженствовать со святыми? Что же тебе смущаться, что недоумевать? Иисус Христос благодатью Своею спасет тебя; Иисус Христос по любви Своей соделает тебя наследником Царства Своего Небесного; Иисус Христос по милости Своей введет тебя в рай радоваться с Ангелами, блаженствовать со святыми.
Что же тебе смущаться, что недоумевать? Отвечай от всего сердца, как некогда Пресвятая Дева отвечала на благовестие Ангела, отвечай: буди мне по сему благовестию; верую от всего моего сердца, что спасусь чрез Иисуса Христа, наследую чрез Него Царство Небесное, войду с ним в рай радоваться с Ангелами, блаженствовать со святыми. Ты, видно, еще не понимаешь, не знаешь, какую силу имеет вера? Ведь как только ты скажешь: от души верую, что спасусь чрез Иисуса Христа, – тотчас сойдет на тебя благодать Святого Духа, и ты почувствуешь в себе перемену, в душе твоей начнется уже спасение твое; ты уж так и начнешь себя вести, так станешь и мыслить, и желать, и чувствовать, как следует спасающимся, как прилично наследникам Царства Небесного, как должно всем тем, которые готовятся в раю радоваться с Ангелами, блаженствовать со святыми.
Ты, видно, еще не знаешь, какую силу имеет вера? Пресвятая Дева Мария до благовестия ангельского не только не могла подумать, что может родить Спасителя, но и желать этого не смела. Она, как говорит предание, за величайшее блаженство считала для себя быть рабыней той Девы, которая имела родить Спасителя; но когда явился к Ней Ангел и сказал, что Она зачнет и родит Спасителя, и когда они приняла с верой сие благовестие Ангела, – тотчас, в эту самую минуту Дух Святой сошел на Нее, сила Вышнего осенила Ее и Она зачала в утробе Своей.
Что же смущаешься, что недоумеваешь о своем спасении ты, христианин? Скажешь: да это невозможно, я и подумать не смею, что я наследую Небесное Царство, что я буду в раю, буду с Ангелами радоваться, буду со святыми блаженствовать. Невозможно? Оттого и невозможным тебе представляется, оттого ты и не смеешь подумать, что ты не имеешь веры во Иисуса Христа, Спасителя твоего. Да, веры в Иисуса Христа, Спасителя, в тебе нет, оттого невозможным тебе и представляется, что ты чрез Иисуса Христа, твоего Спасителя, спасешься.
Без веры в Иисуса Христа действительно спастись невозможно; кто не имеет веры в Иисуса Христа, тот не наследует Царства Небесного, тот не будет в раю радоваться с Ангелами, блаженствовать со святыми. Начни же веровать – и ты зачнешь спасение, и тебе возможным покажется быть наследником Царства Небесного, и ты будешь проливать слезы радости о том, что ты можешь в раю радоваться с Ангелами и блаженствовать со святыми. Иже веру имет и крестится, той спасен будет, сказал Сам Спаситель наш. Спасен будет, то есть наследует Царство Небесное, с Ангелами будет радоваться, со святыми будет блаженствовать.
Что же ты смущаешься, что же ты недоумеваешь? Подойди поближе к иконе Спасителя, взгляни на святое лицо Его и скажи, скажи только: я от грехов моих спасусь чрез Тебя, мой сладчайший Иисусе – скажи, и у тебя польются те слезы, которыми омываются грехи наши, и ты в радости воскликнешь: верую, Господи, помоги моему неверию.
Итак, слушатели-христиане, веруйте, от всей души веруйте тому, что мы спасемся чрез Иисуса Христа, что мы наследуем чрез Него Царство Небесное, что мы войдем за Ним в рай и будем там, по любви Его к нам, радоваться с Ангелами и блаженствовать со святыми; веруйте сему благовестию сами, благовествуйте и другим о сем.
Может быть, спросит кто-нибудь: где мне взять эту веру, если у меня ее нет? Как уверую я от всей души, когда не могу веровать так, и что мне делать, когда у меня очень часто слабеет моя вера?
Как уверовала Пресвятая Дева Мария, что Она зачнет и родит Спасителя? Чрез благовестие Ангела. Как только выслушала Она благовестие Ангела, тотчас и уверовала. И у тебя, слушатель, есть Ангел благовестник – Святая Православная Церковь.
Слушай же благовестие Святой Церкви о твоем спасении – и в тебе вера родится и день ото дня будет возрастать, укрепляться. У тебя оттого и нет веры или слаба вера, что ты или не слушаешь, или редко слушаешь глаголы о твоем спасении, благовествуемые Святой Церковью, или, может быть, и оттого, что еще время не пришло зачаться в твоей душе спасению. Не переставай же слушать благовестие Святой Церкви, и рано ли, поздно ли родится в тебе вера, и ты непременно спасешься. В благовестии Святой Церкви всегда заключается сила спасительная, сила благодатная; но эта сила не всегда и не всяким вдруг усвояется.
Так, слушатели, будем слушать благовестие Святой Церкви и слушаться Ее благовествования – и мы услышим о нашем спасении, и мы уверуем в нашего Спасителя, и мы научимся спасению, и мы спасемся, наследуем Царство Небесное, будем радоваться с Ангелами, блаженствовать со святыми. Мы и здесь на земле будем много иметь случаев радоваться и веселиться.
Внимая ныне благовествованию Святой Церкви о Тебе, Матерь Божия, Матерь нашего Спасителя, мы радуемся; услыши наше радование. Архангельский глас вопиет Тебе, Чистая; радуйся, благодатная, Господь с Тобою. Аминь.
116. В день Успения Пресвятой Богородицы (15/28 августа)
Не веселый предмет избираю я для нынешнего радостного дня: я хочу побеседовать с вами о смерти.
И чаще бы нам надобно беседовать о ней, слушатели благочестивые. Ведь думай – не думай, а от смерти не убежишь; так уж лучше думать. Чем чаще будем думать о смерти, тем меньше будем ее бояться. Мы оттого именно слишком боимся смерти, что редко о ней думаем или думаем не так, как должно.
И подлинно, что страшного в смерти, если посмотреть на нее с лучшей точки зрения – так, как должно смотреть? Скажи, отчего ты так боишься смерти? Оттого, скажешь, что мне хочется пожить, мне жизнь еще не наскучила. Так, желать жить очень нам естественно: животные бессловесные – и те не любят умирать. Но рассуди, разве смерть отнимет у тебя жизнь? Ведь ты и по смерти будешь жить. Ибо что такое значит умереть? Умереть – то же, что перейти из старого, худого дома в новый, хороший: смерть есть переборка с одного места на другое. Что же в ней страшного?
Ты скажешь: мне хочется пожить на земле; здесь мои родные, здесь мои друзья, здесь мои удовольствия, здесь все мое, что я так люблю. Как же мне не бояться смерти, которая все это от меня отнимет? Но рассуди, все ли отнимет у тебя смерть? Родные твои и по смерти будут с тобой, друзья – тоже. Да, кого мы теперь любим искренно, с кем нам теперь жить приятно, с теми и по смерти мы не разлучимся: смерть еще теснее соединяет людей, взаимной любовью между собой соединенных. Не скорби же, сердобольная мать, при разлуке с детьми, они и там будут с тобой. Не сокрушайся, любящая жена, о своем супруге, ты и там будешь неразлучна с ним. Не печальтесь и вы, нежные друзья, вы и там будете друзьями. Да, всякий из нас при смерти может и должен говорить всякому: до свидания! Что же касается мирских удовольствий, которые смерть у нас отнимает, то они не стоят того, чтобы говорить о них; по смерти будут свои удовольствия – такие, каких только душа желать может. После сего что же бояться смерти?
Ты скажешь: я боюсь потому, что я грешник, а грешникам по смерти худо – там ожидают их мучения. Вот эта причина твоей боязни основательна, грешникам по смерти, точно, худо. Ах, и в самом деле, слушатели, как мы явимся на тот свет с нашими грехами? Грехи и здесь иногда нас мучат, тревожат, беспокоят, а там и вовсе не дадут нам покоя. Теперь мы еще не видим их вполне, а там они представятся во всей своей гнусности. Теперь мы многих своих грехов и не знаем, и не сознаем, а там все узнаем, все они придут на память и ни от одного из них не откажемся. Так, грешнику при воспоминании о смерти, точно, есть чего бояться. Но и тут рассуди: смерти ли ты должен бояться? Ведь не смерти, а грехов, омывай их слезами покаяния, заглаждай добрыми делами, а смерти не бойся. Грешить бойся, а умирать нечего бояться.
Но ты скажешь: что же мне делать? Я грешить не боюсь, искреннего покаяния не приношу, дел добрых не делаю. Как же я могу не бояться смерти? О, если ты таков, то я даже советую тебе бояться смерти; если ты точно грешить не боишься, покаяния не приносишь, добрых дел не делаешь, то трепещи; люта смерть таких грешников. Аминь.
117. В день Успения Пресвятой Богородицы
Когда Божия Матерь открыла своим родственникам и знакомым, что она скоро умрет, и когда те стали плакать, то Она в утешение им сказала: не плакать, а радоваться вы должны, когда Я умру, ибо по смерти я ближе буду к Престолу Божию и, беседуя лицом к лицу с Богом, Сыном Моим, удобнее умолю Его о вас и скорее милости испрошу у Него вам.
Слушатели-христиане! Можем ли и мы, когда будем умирать, тем же утешать родственников и знакомых наших, чем утешала Матерь Божия? Может ли перед смертью всякий из нас говорить: не плачьте, не скорбите, когда умру я, вам и без меня будет хорошо; я там буду молиться за вас, там удобнее мне будет молиться за вас.
Можем так говорить, так утешать. Если мы здесь, среди суеты мирской, среди хлопот домашних молимся с усердием, от чистого сердца о наших родных и знакомых, то отчего же по смерти не можем делать того же? Тогда нам еще удобнее будет молиться, тогда нас ничто не будет отвлекать от молитвы. Да, если мы теперь желаем от всего сердца добра нашим родным и знакомым, так, что готовы и по смерти желать им и молиться о них, то ничего не воспрепятствует нам тогда молиться. Сердечные желания со смертью не прекращаются, а остаются с нами.
Только разве тот по смерти не в состоянии будет молиться о родных и знакомых, кто здесь о них не молится. К чему здесь человек не приобретает навыка, того и там по смерти делать не может.
Итак, слушатели, при воспоминаниях о наших умерших родных и знакомых не будем забывать того, что они там молятся за нас. Только будем напоминать им о том, чтобы они там молились за нас, то есть будем сами здесь о них молиться. Если мы забудем их в своих молитвах здесь, то и они могут забыть молиться за нас там.
Царица Небесная, Матерь Божия! Умирая, Ты обещалась помолиться не только о родных и знакомых Твоих, но и о всем мире, о всех людях. Ты и молишься о нас. Твоими молитвами мы живем и спасаемся.
Не переставай же молиться о нас, не переставай изливать милости Божии на нас. Мы только тем и утешаемся в жизни, что Ты о нас молишься. Аминь.
118. Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе, Спасе Моем (Лк.1:46–47)
Чудная песнь, восхитительная песнь, божественная песнь! Так и радуется сердце, когда поют ее. Видно, от большой радости она воспета. Да, действительно, от большой радости. Ведь это песнь Пресвятой Девы Богородицы, это Она так радовалась о Бозе Спасителе, когда Он призрел на смирение Ея. Это Она так величала Господа вскоре после того, как приняла благовестие от Ангела. Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе, Спасе Моем.
Но, слушатели, эта песнь Богородицы воспета была Ею здесь, долу, на земле. Как же чудны, как восхитительны должны быть Ее песни там, горе, на Небе, где Она зрит Своего Господа лицом к лицу… О, послушал бы тех горних, небесных Ее песней! Послушал бы, как Она там вместе с Ангелами воспевает Господа и вместе со святыми радуется о Боге Спасителе! Послушал бы, как теперь там, подражая Ей, как Ликоначальнице, тысячи тысяч и тем голосов, раздаваясь в бесчисленных местах и разливаясь, подобно морским волнам, по беспредельному пространству, сливаются, наконец, в один радостный голос и составляют одну хвалебную песнь!.. О, какой чудный, восхитительный хор услышали бы мы!.. А придет время услышать; о, когда бы поскорее наступило это вожделенное время! Некоторые из нас, может быть, и сами присоединятся там к лику поющих; о, если бы всех нас сподобил сего Господь молитвами Пресвятой Девы Богородицы!
Да, придет это вожделенное время. И почему не желать нам ускорения его?
Не желать? Не желать Неба? Но разве мы не для Неба сотворены? Разве не для Неба мы здесь живем? Разве не к Небу мы должны каждую минуту готовиться? Разве не для Неба мы должны день и ночь трудиться? Разве не на Небо мы должны устремлять и ум и сердце? Горняя мудрствуйте, пишет апостол Павел. Не желать Неба? Да разве это естественно? Как же из темницы не стремиться на волю? Как же из мрака не проситься на свет? Как же в земле чуждой не плакать по стране родной? Увы мне, яко пришельствие мое продолжися, взывал и, конечно, не один раз, царь-пророк.
Не желать Неба? Но неужели это возможно, как подумаешь о том, что там, на Небе? Ах, ведь там наш сладчайший Иисус, прекраснейший из всех сынов человеческих, там наша Владычица, Пресвятая Дева Богородица, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим! А сами Серафимы и Херувимы, а Архангелы и Ангелы, а пророки, апостолы, святители, преподобные, мученики, и ведь они все там, в Царстве Отца Небесного!
Не желать Неба? Да чего же лучшего мы можем и желать себе? Разве желание Неба не самое святое желание? Чем больше мы будем желать Неба, тем меньше будем привязываться к земле (а нам вовсе бы к ней не надобно привязываться). Чем чаще будем вздыхать о жилище святых, тем реже будем ходить в собрание грешников (а нам и никогда бы не надобно туда ходить). Чем сильнее будем плакать о сладостях райских, тем противнее нам будут удовольствия земные.
О, Царица Небесная! Обрати все желание наше к небесному, возвыси всю нашу душу к горнему, истреби в нас всякую плотскую страсть, умертви всякую нашу привязанность к земле? Что нам в этой земле? Она чужая нам сторона. Небо – наше родное отечество. О, там так хорошо, так светло, так отрадно, там такие чудные красоты, там такое восхитительное пение!
Будем, слушатели благочестивые, будем больше желать Неба, будем сильнее воздыхать о красотах вышнего Иерусалима, о песнях горнего Сиона.
Так, желание Неба есть самое святое желание. Желай от всей души оказаться там, только с терпением ожидай исполнения сего желания; радуйся, если бы скоро тебе нужно было оставить сей мир, только будь готов с радостью оставаться и здесь, если угодно святой воле Божией. Желай скорее устремиться ко Христу, только желай со Христом и о Христе; желай чаще песней небесных, только не переставай на земле петь Господу.
И еще обращаемся к Тебе, Пресвятая Дева Богородица, мы и никогда не перестанем к Тебе обращаться! Отверзи нам вход в Царство Небесное, чтобы мы, спасенные Тобою, и там могли петь Твою чудную песнь: «Величит душа моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе, Спасе моем». Аминь.
119. Величит душа моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе, Спасе моем (Лк.1:46–47)
Начиная и сие слово к вам песнью Богородицы, я не думаю, слушатели, наскучить вам ею: это такая песнь, которую никогда не скучно повторять; она исполнена такой радости, что и в самые горькие минуты ты возрадуешься духом, если только достанет у тебя сил петь ее. Итак, мы теперь радуемся, когда поем эту песнь. Какой же радостью было исполнено сердце Пресвятой Девы Богородицы, когда Она в первый раз воспела эту песнь? Не нашему нечистому сердцу чувствовать эту радость: высоту ее могут понимать только Ангелы Божии.
Но вот, слушатели, еще песнь, которая пришла мне теперь на мысль, песнь, которую Святая Церковь поет от лица Пресвятой Девы Богородицы. Ах, от одного воспоминания об этой песне наполняется сердце скорбью! Послушайте ее: Увы мне, Чадо мое, увы мне, Свете мой. Утроба моя возлюбленная… Вам не нужно сказывать, к кому была обращена эта плачевная песнь: так плакала Матерь Божия, когда стояла пред бездыханным телом Сына Своего и Бога. О, кого не поразит скорбью сия скорбная песнь? Какой же скорбью было преисполнено сердце Матери Божией, когда Она так скорбела! Не нашему сердцу знать эту скорбь, глубину ее могли чувствовать только разве стоявшие при кресте умершего Господа Иисуса.
Итак, слушатели благочестивые, в настоящей жизни и Матерь Божия много страдала; можем ли же мы так здесь жить, чтобы нам все радоваться, все веселиться? Нет, надобно и нам скорбеть и страдать, без скорбей и страданий никому нельзя войти в Царство Небесное. Матерь Божия после радости Благовещения немного в жизни видела радостей. И ты, христианин, после радости жди себе какую-нибудь скорбь, непременно жди, ибо она непременно придет, ибо она для тебя спасительна. Такой у Промысла Божия закон для ищущих спасения: после радости непременно бывает скорбь. Такой у Бога порядок и в видимой природе: после ведра следует ненастье.
Что же это значит? Почему Богу угодно, чтобы мы в жизни испытывали так много горя? У Бога все премудро устроено, и все для нашего спасения, все для нашего блаженства.
Не дает Бог нам на земле много радоваться, чтобы мы слишком не привязывались к земному, посылает нам в жизни Бог часто скорби, чтобы нам не слишком тяжело было расставаться с жизнью, не дает Бог нам много веселиться на земле, чтобы нам веселее было жить на Небе. Да, на Небе весело. Но еще веселее нам будет там, когда мы здесь, на земле, побольше пострадаем, поплачем, поскорбим ради Господа. Нынешняя временная наша скорбь готовит нам вечную радость на Небе, нынешнее наше горе есть семя будущего нашего веселия. И потому, чем больше у кого горестей и скорбей, претерпеваемых ради спасения, тем больше у того будет там утешения и радостей. Тяжело скорбеть в жизни, утомительно трудиться, зато там весело будет радоваться, зато там сладко будет покоиться.
Царица Небесная! Мы готовы умолять Тебя, чтобы Ты послала нам больше бед и скорбей, когда они так нужны и спасительны для нас. Но, Мати Божия, Ты знаешь, Ты испытала, как тяжело бедствовать и скорбеть, и потому молим Тебя, Радосте всех скорбящих, спаси нас от бед и скорбей. А если уж нам нужны беды и скорби, если они неизбежны, то помоги нам терпеливо переносить эти беды и скорби. Аминь.
120. И вошла в дом 3ахарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа (Лк.1:40–41)
Пресвятая Дева Мария, вскоре после благовестия ангельского Ей о рождении Ею Сына Божия ходила в город Иудов к родственнице своей Елисавете, жене праведного Захарии. И вот что произошло в доме Захарии с Ее прибытием. Когда Она вошла в дом и приветствовала Елисавету, тотчас младенец во чреве Елисаветы радостно взыгрался, и она исполнилась Духа Святого. Видите ли, слушатели, как от присутствия и приветствия Благодатной приветствуемая исполнилась Божией благодати. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа.
Такова благодать Духа Святого: от одного она может сообщаться, переходить к другому. От человека благодатного, чистого, святого и место, где он бывает, исполняется чистоты, святости, благодати. Благодать Божия, сила Божия невидимая видимо проявляется, отражается в наружности человека благодатного: она сияет в его взорах, слышна в его речах, видна в его лице; благодатный и дышит, можно сказать, благодатью, и от одежды благодатного исходит благодать. И потому блажен дом, в котором есть хоть один человек добрый, чистый, благодатный. Как от благовонного фимиама, в одном месте находящегося, по всему дому распространяется благоухание, как от одной горящей свечи вся горница освещается светом, так от одного добродетельного, благодатного по всему дому благоухает благодать и светит всем ее свет. Так удобосообщаема благодать Божия!
Кстати скажу: так же, к несчастью, удобосообщаемы и пороки. И пороки удобно и легко переходят от одного человека к другому; от порочного самый невинный может заразиться пороками. Как бы ни был порок скрытен, он непременно обнаруживается, проявляется во внешности порочного. Порочный и дышит зловонием порочным, и от одежды его исходит зловоние порочное. Самый воздух там, где живут порочные, наполняется зловонием порочным. И потому великое несчастье для дома, когда есть в нем хоть один человек, предающийся порокам. Порочного, как огня, надобно остерегаться, как заразы, бояться. С порочным долго бывать, часто общаться опасно. Самая заразительная и прилипчивая болезнь – пороки. Да сохранит нас Господь Бог от дружбы и сожительства с людьми порочными!
Слушатель-христианин! Икону Божией Матери имей у себя в доме, где живешь ты, непременно имей. С Ее присутствием будет обитать у тебя в доме благодать Божия. Где икона благодатная, там есть благодать. Аминь.
121. Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою
Радостное намереваюсь сказать вам, слушатели, в нынешний радостный день. Что же скажу?
Скажу вам то, что апостол Павел писал к Солунянам: всегда радуйтесь (1Фес. 5:16). Всегда, всякий день, всякий час, всякую минуту радуйтесь, как Ангелы на Небе, как святые пред Престолом Божиим. Скажете, это невозможно. Как можно всегда радоваться? Есть тысячи к тому препятствий в жизни, есть тысячи случаев, которые заставят невольно плакать, скорбеть, сокрушаться. А я скажу: если бы невозможно было всегда радоваться, апостол Павел не написал бы к Солунянам, чтобы они всегда радовались. Значит, можно всегда радоваться, при всех препятствиях. Как же это? Послушайте.
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; мы часто поем так. Словами этой песни – радуйся Благодатная, Господь с Тобою – приветствовал, как известно, Пресвятую Деву Марию Архангел Гавриил. Видите, слушатели, Архангел Гавриил, сказав Пресвятой Деве, чтобы Она радовалась, тотчас прибавил, что с Нею Господь. Радуйся, Благодатная, как Тебе не радоваться? С Тобою Господь. Итак, надобно только всегда помнить нам, что Господь с нами, – и мы всегда будем радоваться, будем всегда веселы, спокойны. С кем Господь, источник всякой радости, тот не может не радоваться. Ведь и Ангелы на Небе, и святые перед Престолом Божиим всегда веселы, спокойны отчего? Именно оттого, что Господь всегда с ними, что Отца Небесного всегда видят они пред собой.
Так, это, несомненно, верно, что если мы всегда будем помнить, что Господь с нами, то будем всегда радоваться, всегда будем спокойны, веселы. Но помнить-то это всегда мы не можем, иногда невольно забываем, что Господь с нами, иногда не хотим вспомнить, что Господь с нами, иногда с намерением забываем, что Господь с нами, – чтобы мысль эта не мешала нам жить во грехах. При мысли о Боге слишком страшно грешить.
И потому вот что скажу тебе, слушатель благочестивый: когда ты печален, не весел, когда скорбишь, унываешь, то не затрудняйся узнавать, отчего это. Это просто оттого, что ты забыл, что Господь с тобой. Да, если бы я помнил, что Ты со мной, Господи, я бы не скорбел, не унывал так, я бы был спокоен и радовался духом, моя бы и печаль в радость мне обращалась, мои бы и слезы были для меня слезами утешения. О, я бы и при скорбях смертельных весело пел тогда с царем-пророком (Пс. 22:4): аще и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси.
Итак, поя Божией Матери: Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, будем помнить, что и мы все бы радовались духом, если бы не забывали, что Господь с нами. Вот вам, слушатели, краткое слово о радости.
Обрадовало ли вас, утешило ли, успокоило ли? По крайней мере я, со своей стороны, желал сказать вам в моем слове что-нибудь такое, что могло бы вас обрадовать, порадовать, чем могли бы вы утешиться, успокоиться… Да, слушатель благочестивый, когда ты не можешь другим радостное делать, не можешь делом их утешить, успокоить, то говори по крайней мере с ними поласковее, успокоительнее, говори так как-нибудь, чтобы они при словах твоих ободрялись, а не трепетали. Слово ласковое, успокоительное – ангельское слово, архангельский глас. Ангелы, когда говорят, когда возвещают кому что, покой и радость в душе оставляют… Слово ласковое, успокоительное – слово ангельское, а жесткое, неуспокоительное слово – не ангельское слово. Аминь.
122. Пресвятую, Пречистую… со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим
Что будет? Что если случится то, чего я боюсь, чего мне так не хочется? О будущем все мы более или менее думаем. И нельзя не думать о будущем, особенно нельзя не думать о нашем будущем по смерти. Подобного рода вопросы часто занимают нас, смущают, тревожат, беспокоят.
Что будет со мною? Чем и как мне спастись от всего худого, особенно от грехов? Что будет с моими ближними, близкими моему сердцу? Как и чем они будут жить? Как и чем они спасутся от всего худого, особенно от грехов? Подобного рода вопросы всегда занимают нас, а иногда беспокоят, страшат, мучат.
Что должно делать в таких случаях? Делай то, что велит Святая наша Церковь: молись, молись Богу Христу, молись святым Его угодникам, особенно Пресвятой Деве Богородице – молись от всей души, от всего сердца и предавай, поручай себя и всех, о ком молишься, Христу Богу. Что будет? Не тревожься, не думай ни о чем, говори: пусть будет то, что Богу угодно. Чем я буду жить? Бог не оставит меня Своей милостью. Как я спасусь от всего худого, особенно от грехов? Иисус Христос спасет меня Своей благодатью. Что будет с ближними моими, с близкими моему сердцу? Будет то же, что и со мной, – что Богу угодно. Буду жить той же милостью Божией, которой я живу, будут спасаться той же благодатью Христовою, которой я спасаюсь. Что будет? Что будет со мной, с другими? Непременно хорошо будет – потому что Бог никому никогда худого не делает. Так предавайте, поручайте сами себя и друг друга и весь живот ваш Христу – все будет хорошо.
Имеем ли право предавать, поручать себя во всем Христу Богу? Так предавать и поручать, как учит нас Святая Церковь, имеем право и непременно обязаны.
Да, если ты соблюдаешь все меры предосторожности, от тебя зависящие, если молишься от всей души и если после этого предаешь – поручаешь Христу Богу и себя и других, то будь покоен, все будет хорошо, хорошо и тебе, и ближним твоим. Бог для тех людей, которые себя Ему отдают – поручают, делает возможным и невозможное. Пусть невозможно, чтобы было хорошо нам и ближним нашим, невозможно по нашим понятиям и соображениям, невозможно по нашим достоинствам, невозможно по нашим силам и способностям – пусть по всему будет невозможно, чтобы могли жить хорошо и спастись от всего худого, особенно от грехов. Но Бог, для Которого все возможно, непременно сделает по нашему желанию, по нашей молитве; за то сделает, что мы Ему себя поручаем, отдаем; за то, что мы на Него надеемся, Ему вверяемся. Преданность наша Богу всего приятнее Ему и всего сильнее перед Ним; сильнее перед Ним всякой молитвы, приятнее Ему всякой жертвы. Она должна быть концом всякой молитвы нашей и принадлежностью всякой жертвы, ибо тогда мы приближаемся к Нему и не препятствуем Ему делать для нас все нужное, полезное, спасительное.
Предавать себя во всем Христу Богу значит то же, что делать для себя и для других руками Всемогущего и Всеблагого Бога. Да, когда ты во всем предаешь себя и других Богу, тогда Бог Сам за тебя будет все делать для тебя и для твоих ближних.
Итак, слушатели, когда вы в церкви слышите эти слова: Пресвятую, Пречистую… со всеми святыми помянувше, сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим, – вспоминайте при сем, что мы всегда и во всем должны предавать себя Богу, все поручать Ему, во всем на Него полагаться, все Ему доверять. Соблюдая все меры предосторожности, от вас зависящие, молитесь от всей души Богу, от Которого все зависит, молитесь святым угодникам Божиим, особенно Матери Божией, и в это время вполне предавайте – поручайте себя самих и друг друга Христу Богу, и все будет хорошо, будете спокойны, поживете и спасетесь.
Преданность Богу, Пресвятой Деве Марии низвела Бога, Спасителя нашего, на землю; спасемся и мы, непременно спасемся от всяких бед, временных и вечных, если поручим – предадим себя Христу Богу, Спасителю нашему. Эта-то одна преданность и спасет нас всех. Аминь.
Часть седьмая. Поучения на дни памяти святых
123. В день пророка Божия Илии (20 июня/2 августа)
В честь пророка Божия Илии и в ваше назидание, слушатели, мне хочется сказать какое-нибудь слово. Расскажу вам один вчерашний случай. Шли мы мимо вашего храма. У вас еще не кончилось всенощное бдение; мы обрадовались этому – подошли к церкви и увидели великолепное освещение вашего храма, и услышали стройное ваше пение. Как это хорошо, по-христиански, по-православному; ревнитель славы Божией пророк Илия, без сомнения, радовался, что вы в честь него составили такой торжественный праздник. Но послушайте, что мы тут же увидели. Не могу умолчать об этом. Когда взрослые с благоговением стояли и молились в церкви, в это время малые дети бесчинничали, бегали, смеялись около церкви, а из видевших это ни у кого не нашлось ревности вразумить, унять их, вступиться за славу Божию, за честь пророка Божия. Это нехорошо, не по-христиански; не так должны вести себя дети православных родителей.
И мы это терпим, и мы это допускаем, и мы на это смотрим равнодушно, и нам дела нет до этого. Ах, слушатели, будьте внимательны к подобным случаям. Мы сами бесчестим Бога, когда не останавливаем других бесчинствующих, мы сами оскорбляем Бога, когда позволяем им при себе говорить или делать оскорбительное для Бога. Не наше дело, вы говорите обычно. Нет, слушатели, наше дело, наша обязанность, наше существенное дело, наша священная обязанность – останавливать и вразумлять бесчинствующих. Я еще скажу: мы сами бесчестим, оскорбляем Бога, когда допускаем других делать и говорить что-нибудь бесчестное и оскорбительное для Бога. Особенно мы грешим, тяжело грешим перед Богом, когда не останавливаем, не вразумляем детей бесчинствующих, неблагоговейно стоящих за божественной службой во храме Божием.
Дети, бесчинствующие во время церковнй службы, – пустые дети, стыд для родителей, бесчестие для соседей, пагуба для селения, язва для будущего поколения, ибо от таких детей, если не исправятся, не могут рождаться хорошие дети: от худой яблони и плоды худые. Таким образом вы, не унимающие детей, позволяющие им стоять бесчинно в церкви, много грешите и будете отвечать на том свете не только за своих детей, но за внуков и правнуков.
Не так судил, не так поступал прославляемый нами святой пророк Илия. Он всегда вступался за славу Божию, никому не спускал, никого не щадил. Он мечом и огнем наказывал всех, кто Богу осмеливался не воздавать чести. Он и царю Ахаву прямо говорил: ты худо делаешь, Бога бесчестишь, подданных развращаешь.
Святой пророче Божий Илие! Вдохни в нас твою святую любовь к славе Божией, пошли нам твою пламенную ревность по Богу, чтобы мы и словом, и делом прославляли Бога. Аминь.
124. В день усекновения главы Иоанна Предтечи (29 августа/11 сентября)
И почитаем вси честныя твоея главы усекновение.
Мы ныне с почтением и благоговением торжественно вспоминаем усекновение честной главы честного, славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Почему так почтенно, так важно и дорого для всех усекновение главы Иоанна?
Потому что из-за истины он пострадал, из-за истины отсечена ему глава, а истина для всех дорога, потому что в ней спасение всех.
Что было бы на земле, если бы между людьми правды не наблюдалось, если бы истина не была так хранима, уважаема? Тогда и жить никому нельзя было бы на земле. Общество людей неправедных и лживых долго существовать не может: истребятся они сами собою или друг друга истребят. Где правды не наблюдается, там близок всему конец, и неправедное приобретение – всегда прах. Где истина не хранится, там скоро все погибает, и беззаконная жизнь – близкая смерть. Что была бы земля без солнца? Мрачная, холодная, мертвая пустыня. А без правды еще хуже было бы на земле. Правда нужнее солнца для людей. И потому величайшее благодеяние делает роду человеческому тот, кто правду на земле водворяет.
Вот почему почтенно, важно, дорого для всех усекновение главы Иоанна Предтечи: он, уча людей правде, уча истине, доказал своей главой, что истина достойна всякого уважения и правда должна быть всего дороже для всех; своими страданиями заставил других любить правду и почитать истину. Если бы он перестал говорить Ироду, что недопустимо ему иметь женой жену брата своего, то могли многие подумать, что им можно подобным образом жить. Мученической смертью его все убедились, что беззаконная жизнь Ирода есть действительно беззаконие; таким образом, правда и тогда торжествует, когда праведник умирает. Она тогда-то особенно и торжествует, когда за нее праведник умрет: кровь, пролитая за истину, самая красноречивая проповедь об истине.
Слушатели-христиане! Люди страдают, умирают, лишь бы научить всех правду любить и истину хранить, а мы по крайней мере жить будем правдой и истиной, чтобы тем заставить других правду любить и истину почитать. А от одной нашей неправды родятся сотни неправд, для нас пагубных; наш один незаконный поступок научает многих преступать закон – нам же во вред.
Итак, будем, слушатели, и для себя, и для других любить истину и хранить правду. Неправда ни для кого не полезна, и беззаконие для всех пагубно. Почитая усекновение главы Иоанна Предтечи, почтим истину, которую он так желал водворить. Аминь.
125. В день святых первоверховных апостолов Петра и Павла (29 июня/12 июля)
Молите Бога о нас, святии и первоверховнии апостоли Петре и Павле, яко мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощникам и молитвенникам о душах наших.
У нас у всех есть обыкновение в день именин преимущественно молиться тому святому, имя которого мы носим: нареченный во имя апостола Петра – молится ему, во имя святителя Николая – святителю Николаю молится. Почему такое обыкновение? Потому что этот святой, имя которого носим, – наш особенный помощник, наш особенный молитвенник. Ведь и отцы дают имя известного святого с тем именно, чтобы святой этот особенно нам помогал, чтобы он особенно за нас молился, чтобы был нашим Ангелом хранителем в жизни. Потому-то мы и называем его нашим Ангелом, и день его называется днем нашего Ангела.
Есть еще, если не у всех, то у многих, другое обыкновение – обыкновение в день святого ходить преимущественно в тот храм, именем которого храм называется; это почему? Это потому, что святой в том храме, который его именем назван, особенный помощник и молитвенник; он преимущественно за тех молится и тем помогает, которые в его храме молятся ему, прибегают к нему. Да, святой в том храме, который назван в его имя, как в своем жилище обитает, невидимо присутствует, божественной силой и благодатью действует в нем.
Когда мы идем молиться в какую-нибудь церковь, то мы иногда прямо говорим: я пойду к Петру и Павлу, к святителю Николаю, к Георгию. Куда же это? В те храмы, которые во имя этих святых названы.
Итак, в день именин молитесь – молитесь преимущественно тому святому, имя которого носите, потому что он ваш особенный помощник и молитвенник. А в день памяти святых ходите преимущественно в те храмы, которые их именем названы, потому что там они скорее вас услышат и вам помогут.
Слушатели-христиане! Ныне день святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и придельный храм, в котором вы теперь стоите, их именем наречен. Следовательно, они теперь невидимо здесь, как в своем доме о нас и за нас молятся. И вы им молились, вы их просили. Веруйте же и надейтесь: они слышали ваши молитвы и помогут вам в том, о чем вы их просили. Аминь.
126. В день святителя и чудотворца Николая (6/19 декабря и 9/22 мая)
Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец (Ин. 10:11).
Вот каковы бывают добрые пастыри: они ничего не жалеют для своих пасомых, саму жизнь они готовы положить за них. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Таков был в жизни святитель и чудотворец Николай, память которого ныне прославляет Святая Церковь! Не думая о своем спокойствии, он, как на крыльях, летал всем на помощь; забывая себя, он день и ночь заботился о спасении всех.
Таковы бывают добрые пастыри, такими должны быть и все мы. Пастыри жертвуют собой для своих пасомых, а мы должны жертвовать собой друг для друга. Да, непременно должны, ибо мы только то и сохраняем, что жертвуем, то только и оставляем себе, что отдаем другим, тем только будем сами некогда жить в будущей жизни, что делаем ныне для ближних.
Да, слушатели, то никогда не погибнет, с избытком нам возвратится, что мы употребляем на пользу для других, что делаем ближним. Какими семенами земледелец засевает землю, те у него сохраняются, ибо истлевая возрастают и приносят плод, а какие семена у себя оставляет, какими сам пользуется, те пропадают навсегда, безвозвратно. Подобное бывает и будет с нами. Наши ближние – та земля, в которой мы сеем семена для будущего; в них, как в сокровищницах, на будущее время для нас сохраняется все, чем мы им жертвуем, что им отдаем. Земледельцы не соберут плодов, будут с голоду умирать, если все свои семена сами поедят, а землю оставят незасеянной. Так и мы ничего себе не оставим на будущее время, если свои способности и силы, свое богатство и достояние истратим только на себя, а ближним добра не сделаем.
Итак, когда вы уступаете что-нибудь другим, когда чем-нибудь жертвуете ближним, то не беспокойтесь, это не пропадает. Бог, дающий семя сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей (2Кор. 9:10). Если бы за нашими пожертвованиями, за нашими делами смотрели люди, то мы могли бы сомневаться в награде за них. Но за ними смотрит Сам Бог. Бог Сам хранит наши пожертвования, могут ли они не сохраниться? Бог Сам поливает наши семена, могут ли они не произрасти? Бог порукой, что наше не пропадет, может ли что-нибудь пропасть? Нет, не будет забыт и стакан воды, который мы подадим ближнему, не будет забыто и ласковое слово, которое скажем другому, не пропадет даром и сажень земли, которую уступим соседу.
Но скажете: как же и чем же мы сами будем здесь жить, когда станем все уступать, будем все жертвовать другим? Проживем, слушатели, без всякой нужды проживем: в этом нам порукой Бог, у Которого в руках богатство всего мира.
Так, будем жертвовать собой друг для друга, тогда и нам, и другим, и всем будет хорошо. Аминь.
127. В день преподобного Алексия, человека Божия (17/30 марта)
Кто отлучит нас от любви Божией (Рим. 8:35).
Вам, без сомнения, слушатели, известно, как жил и спасался преподобный Алексий, человек Божий. Сын богатых и знатных родителей, в цветущей юности отказавшись от всех мирских радостей и удовольствий, самых невинных и безгрешных, он добровольно сделался нищим – пил, ел, одевался, как нищий, жил и обращался с нищими и так прожил с лишком тридцать лет, перенося от всех всякие обиды и оскорбления, поругания и насмешки.
Редким людям дается от Бога благодать такой жизни, как ему; и такие люди, как он, можно сказать, веками бывают в наше поучение. Чему мы можем поучиться у Алексия, человека Божия?
1. У кого из нас есть блага мира сего, есть радости, есть удовольствия, те не должны всем сердцем любить их и всей душой привязываться к ним, то есть не должны ими только заниматься, радоваться, утешаться. Опасно так любить блага мира, так привязываться к ним: легко можно тогда забыть Бога и жизнь будущую.
Зачем же преподобный Алексий, человек Божий, блага мира сего оставил, бросил, презрел? Именно затем, чтобы не привязаться к ним, и привязавшись не забыть о Боге и о жизни будущей. При благах мира сего легко забыть Бога и будущую жизнь: тогда и без мысли о Боге жить бывает не скучно, тогда и здешняя жизнь бывает хороша, так что лучшей и желать людям богатым не хочется. Да, иные из нас вечно желали бы жить в этой жизни: так много у них радостей и удовольствий всяких!
2. А у кого из нас нет никаких особенных радостей и удовольствий в жизни, кто трудом тяжким и самое необходимое для жизни себе добывает, те не должны скорбеть, сокрушаться, в уныние от того приходить. Есть у нас Бог Всеблагий, Премудрый, Всемогущий, есть жизнь будущая, нас ожидающая, жизнь вечная, блаженная: вот что они должны помнить. Что в жизни утешало, что радовало Алексия, человека Божия, несмотря на то, что он никаких не имел земных радостей, жил с нищими, ходил в рубищах, питался самой скудной пищей? Мысль о Боге, о жизни будущей. Да, Бог есть радость, Бог есть то, что радует, Бог – сама радость. И потому-то при мысли о Боге, при радовании о Нем забываются все радости другие, и не нужно их, никаких других, человеческих, ни даже ангельских. И не радости только тогда забываются, а все, даже страдания всякие забываются, не чувствуются и не мешают о Боге радоваться. Радующиеся о Боге с апостолом говорят: Кто отлучит нас от любви Божией то есть от радования о Боге, скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?.. Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы… ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим.8, 35, 38-39).
Так не скорби, не сокрушайся, если у тебя нет земных радостей, если у тебя в жизни многого часто нет, если иногда и самого необходимого недостает, не скорби… Но ты и не будешь ни о чем скорбеть и сокрушаться, напротив, будешь весел, спокоен – только помни, что есть Бог, есть будущая жизнь, – вспомни это, и возрадуется душа твоя, и никаких радостей тебе не будет нужно, ибо с тобой будет сама радость – Бог. Аминь.
128. В день святителя и чудотворца Тихона Амафунтского (16/29 июня)
В честь и славу святого Тихона, прославляемого ныне Церковью, и в собственное наше назидание побеседуем, слушатели, о тех чудесах, которые совершил он в своей жизни. Может быть, и много совершил он чудес, но до нас дошли только два из них.
Святой Тихон в молодости своей продавал хлеб и, имея сострадательное сердце, раздавал его нищим без денег. Отец не мог этого не заметить и потому в одно время строго наказал его за то. Святой Тихон, желая успокоить своего отца, сказал ему при сем: «Батюшка! Напрасно ты на меня гневаешься, я твой хлеб трачу не попусту, а отдаю его взаймы Богу и имею от Него в том расписку – Его божественное слово. В слове Божием именно сказано: Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его (Притч. 19:17). Ты мне не веришь? Пойди посмотри, и увидишь, как верно слово Божие». Сказав сие, Тихон взял отца за руку и повел его в житницу. Отворили двери житницы, и отец увидел подтверждение слов Святого Писания: житница была наполнена самой чистой и лучшей пшеницей, хотя прежде в ней ничего не было. Отец пал на землю, возблагодарил Бога и с того времени не стал уже запрещать своему сыну раздавать милостыню бедным.
Другое чудо, совершенное святым Тихоном, было не менее разительно. В некотором саду обрезали сухие ветви с виноградных кустов и по обыкновению выбрасывали их вон. Святой Тихон, собрав эти сухие ветви, рассадил их в своем огороде. При сем он попросил Бога, чтобы сии сухие ветви принялись и выросли, чтобы виноград на них был полон и красив, чтобы ягоды были сладки и здоровы и чтобы виноград в его саду скорее всех поспевал. Как хотелось святому, так и сделалось. На другой день он вышел в огород посмотреть, что сделалось с его виноградом, и увидел на нем благословение Божие: все ветки принялись. В то же лето они принесли чрезвычайно много плодов; в других садах виноград был еще зелен, а у святого Тихона самый спелый, сладкий и здоровый.
Слушая о чудесах святого Тихона, вы, конечно, слушатели, заметили ту детскую простоту, с какой он верил словам Святого Писания, и ту детскую смелость, с какой он всего ожидал от Бога. Заметьте же еще, и все святые мужи, особенно чудотворцы, всегда бывают таковы, все они точно дети. Дети, нимало не размышляя, верят всему, что им скажут старшие, и святые, нимало не сомневаясь, верят всему, что говорит слово Божие. Дети всего смело ожидают от родителей, и святые всего смело ожидают от Бога.
Не думайте, впрочем, что эта простота веры не далеко видит. Нет, она далеко видит; она просто на все смотрит, оттого просто, как что есть, видит. Она потому и не усиливается знать, потому и не размышляет, что все с первого раза видит. Умствование нужно для слабого только ума – это лествица, без которой он не мог бы дойти до истины, – а о великих умах говорят, что они умствуют просто, им истина всегда представляется прямо, они ее не ищут, а видят с первого взгляда.
Равно и детская смелость святых не есть какая-нибудь самонадеянность, в ней и тени нет надеяния на себя, она вся, так сказать, повергается в Бога, как дитя в объятия матери. Сия-то детская смелость была при всех чудесах, которые совершали святые; она вся покоряется Богу, и за то ей покорно все. Может быть, потому ныне так мало чудес, что у нынешних христиан надежда на Бога слишком осторожна.
Подражайте же и вы, слушатели, детской простоте и детской смелости святых, старайтесь просто веровать и смело надеяться. Господи! взывает Давид. Не надмевалось сердце мое и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя (Пс. 130:1).
Такую душу и вы, слушатели, старайтесь в себе образовать. Аминь.
129. В день святителя Тихона чудотворца
Бывают в жизни такие случаи, что мы молимся Богу и ничего не получаем. Не удивительно, если ничего не получают те из нас, которые молятся о чем худом, молятся без внимания, без раскаяния во грехах. Но нельзя не удивляться тому, что иногда многие молятся о добром, полезном, спасительном, молятся от всей души, со слезами, с раскаянием, однако же не получают того, о чем молятся. И не только Бог нас не слушает, но и угодники Его тоже иногда, кажется, вовсе не обращают внимания на наши к ним молитвы. Многие из нас, может быть, и к святителю Тихону, ныне прославляемому, прибегали несколько раз с молитвой – отходили без всякой помощи. Слабые в вере и уповании на Бога могут соблазниться такими случаями, и потому надобно вразумить и успокоить их, что Бог, богатый милостью, иногда не скоро исполняет наши прошения и делает это с особенным, для нас спасительным намерением.
Так, слушатели, молитесь. Бог рано ли, поздно ли, а непременно исполнит нашу молитву. Он иногда медлит, не скоро исполняет прошения молящихся Ему. Долго молилась Сарра, чтобы Бог даровал ей сына, и сын дан ей был в самой глубокой старости. Много лет Захария приходил в храм, и жена его Елисавета зачала уже в самых преклонных летах. Много лет Симеон и Анна ожидали Утехи израилевой, и эта Утеха утешила их уже при конце их жизни.
Такие и им подобные случаи бывали и всегда могут быть. И потому-то Иисус Христос предложил притчу о том, чтобы мы, долго не получая просимое, не ослабевали в молитве, не унывали. В одном городе, говорит Иисус Христос, был некоторый судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была некоторая вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. А он долгое время не хотел. Но после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как вдова эта мне докучает, вступлюсь за нее, чтобы она не приходила беспрестанно докучать мне. Слышите, что говорит судья неправедный? – прибавляет Иисус Христос. Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Я вам сказываю, что подаст им защиту вскоре.
Когда, слушатели, Бог медлит подавать помощь нам, просящим у него, то делает это с особенным для нас спасительным намерением. Если мы молимся и вместе сомневаемся в помощи Божией, если мы в вере подобны трости, ветром колеблемой, то Бог медлит исполнять наши молитвы, желает, чтобы мы молились с полной верой и держались прямого пути постоянно. Сомневающийся в помощи Божией никогда не получит оной, молящийся в грехах никогда не будет услышан. Если же вера наша тверда, жизнь наша постоянна, то Бог медленным исполнением наших прошений желает еще более утвердить нас в вере и доброй жизни. Мы все дети: молимся, пока еще не имеем; исполни наше прошение по первой просьбе – и мы, может быть, предадимся беспечности, забудем Бога, оставим благочестивые занятия.
Впрочем, и такие опыты бывают, что иной молится и – вовсе не получает того, о чем молится. Ты просишь себе славы: Бог не дает тебе, потому что в славе ты погибнешь бесславно. Вообще то, чего тебе Бог не дает, – для тебя гибельно. Если бы было полезно, спасительно, то Бог непременно бы тебе дал.
Впрочем, ты несмотря ни на что все продолжай молиться, лишь бы предмет молитвы твоей был чистый; исполнит ли Бог твое прошение или нет, тебе и знать не нужно. Молитва твоя ни в каком случае не останется тщетной. Как приходящие к тому человеку, у которого продаются разного рода благовония, хотя бы ничего не купили, заимствуют у него несколько благовоний, так и христианин, молящийся Богу, хотя бы и не получил просимого блага, не может не заимствовать чего-нибудь из беспредельной сокровищницы Его. По крайней мере, Он научит, вразумит, как и о чем надобно молиться.
Итак, слушатели, ни в каком случае не унывайте, продолжайте просить Бога и Его угодников о чем бы то ни было, только о добром, непрестанно молитесь. Ищите, ищите постоянно, толцыте, толцыте неотступно. Бог наш не как люди, Он не скучает нашими просьбами, Он любит, когда мы, так сказать, не даем Ему покоя нашими прошениями. Скажи Богу так: Господи, Тебе все возможно, все в Твоих руках. Дай же мне то, чего я у Тебя прошу; я не отойду от Тебя, доколе Ты не исполнишь моего прошения. Так молись, и молитва твоя будет услышана.
Богу приятно, когда мы докучаем Ему нашими молитвами, ибо в этом Он видит нашу сыновнюю Ему преданность. Аминь.
Часть восьмая. Поучения на Святую Четыредесятницу
130. В Неделю о мытаре и фарисее
Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится (Лк. 18:14).
К некоторым людям, которые уверены были о себе, что они праведны, а других унижали, Иисус Христос сказал следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, встав, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие человеки, грабители, обидчики, прелюбодеи или как сей мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже очей возвести на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, милостив будь ко мне грешному! И далее прибавляет Иисус Христос, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится (см.: Лк.18:10–14).
Итак, вот что значит хвалиться собой, а про других худое говорить, других унижать! Посмотрите на этого фарисея, молящегося в храме Божием. Он ни у кого ничего не отнимал, никого ничем не обижал, вел жизнь целомудренную, два раза в неделю постился, десятую часть из имения отдавал в церковь и на бедных. Кто не скажет, что фарисей этот – человек праведный? Однако же не он пошел оправданным в дом свой, а мытарь. Да, этот фарисей добродетельный потерял все свои добродетели тем, что собой похвалился, а про мытаря сказал, что он худой человек.
Но посмотрите на этого мытаря, молящегося в храме Божием. Посмотрите, как он поодаль от всех стоит, как он бьет себя в грудь, как он потупил долу свой взор; по всему видно, что он великий грешник. Однако же этот великий грешник пошел оправданным в дом свой. Да, этот великий грешник оправдан, потому что осудил себя, осознал себя грешником, каким он был и на самом деле. Не будем же, слушатели, и мы про других худое говорить, а собой хвалиться. Хвалиться собой значит унижать себя. И Бог и люди перестанут любить того, кто вздумает собой хвалиться. Добрые дела наши перестают быть добрыми, когда мы похвалимся ими. Мы теряем должную награду за свои труды, когда с самодовольством расскажем о них всем.
Равно и унижать других – значит унижать себя. Мы сами делаемся низкими пред Богом и людьми, когда низко отзываемся о ближнем; мы себя бесчестим, когда черним честь других. Да и как мы можем говорить худое о других? Разве долго худому человеку сделаться лучше нас? Разве долго ему исправиться и получить оправдание от Бога? Разве долго ему с мытарем сказать: Боже, милостив буди мне грешному? Мы видим и слышим, что этот человек обижает, грабит, живет распутно. Но видим ли, но слышим ли, как он бьет себя в грешную свою грудь, как он плачет о своих грехах пред Богом? Мы знаем, как он каждый день грешит, каждый час делает неправду. Но знаем ли, что в то самое время, как мы его осуждаем, он, может быть, на коленях, весь в слезах, стоит пред милосердным Богом и молится из глубины души: Боже, милостив буди мне грешному? Может быть, в ту самую минуту, когда мы говорим, что этот человек сделал то, другое, третье, – в ту самую минуту Бог говорит ему: прощаю тебе и то, и другое, и третье, и все прощаю. Так-то, слушатели, мы, может быть, осуждаем нашего ближнего в то самое время, когда Бог оправдывает его на праведном суде Своем. Будем помнить, что и самые низкие грешники недалеки от глубокого смирения, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
131. В Неделю о мытаре и фарисее
Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче.
С нынешней Недели, Недели о мытаре и фарисее, Святая Церковь начинает петь: покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!
Это значит, что скоро наступит Великий пост и, следовательно, скоро нам надобно будет исповедоваться во грехах. Обратим внимание на эти слова песни.
Покаяния отверзи ми двери. Разве двери эти туги и разве самим нам не отворить их себе? Действительно, туги они иногда для нас бывают, и самим нам, без помощи Божией, никак не отворить их. Что это значит? То, что нам иногда очень трудно бывает покаяться во грехах, самим не вспомнить о грехах, как должно, самим не заплакать слезами грехоомывательными. Нам думается, будто и не грешники мы, будто и не оскорбили мы Бога нашими грехами, нам иногда очень тяжело бывает сходить на исповедь к духовнику, нужным идти не считаем, без этой исповеди бываем спокойны, как больные в беспамятстве.
Отчего же это? Отчего трудно каяться? Отчего тяжело ходить на исповедь? Отчего туги двери покаяния? Оттого же, между прочим, отчего всякие двери могут сделаться туги; долго не отворяй дверей каких-нибудь, долго не ходи в них – они и окрепнут, туги сделаются, и не скоро после отворишь их. Так бывает и с дверьми покаяния: долго не кайся во грехах, долго не ходи на исповедь – и тяжело будет идти, и трудно будет покаяться.
Да, если в тот час или день, как согрешишь ты, о грехе своем не подумаешь, не поскорбишь, не поплачешь, если неделю, месяц, два, три месяца не вспомнишь о нем, то ты уже не можешь после так скорбеть о нем, как бы раньше поскорбел, тебе уже трудно будет тогда так заплакать, как плачут кающиеся грешники. Если в нынешний пост не пойдешь на исповедь, год, два, три не пойдешь, то тебе после нелегко будет собраться идти; а как лет пять или больше не побываешь, то тебе уже очень тяжело будет идти; ты без страха вспомнить не можешь о том, что тебе надобно идти: дверь покаяния будет тебе казаться неприступной.
Все хорошо делать в свое время, иначе и легкое сделается трудным, и возможное – невозможным. И болезнь, если она застареет, мудрено вылечить, и пятно на платье, если вскорости его не смоешь, нелегко после отмыть; и поле, если всякий год не станешь его полоть, нескоро очистишь от трав негодных.
Итак, помните, слушатели, что двери покаяния очень туги для нас сделаются, то есть нам очень трудно будет покаяться во грехах и очень тяжело будет идти на исповедь, если мы долго не будем каяться, если долго не станем ходить на исповедь. И потому каждый день раскаивайтесь во грехах своих; тотчас, как только согрешите, плачьте пред Богом о грехах своих и давайте обещание исповедаться в них в свое время пред духовником; чаще ходите на исповедь. Не давайте застареваться в себе душевным болезням, поскорей омывайте свои греховные скверны, долго не медлите очищать свою душу от порочных терний.
А мы все откладываем покаяние наше, все говорим: после покаемся. Все после да после; да когда же после? Ах, не пришлось бы раскаиваться после смерти!.. Иначе когда же? Пред смертью? Нет, бойтесь этого успокоения: слишком ненадежно и большей частью бесполезно бывает покаяние перед смертью. Умирающий от голода до того наконец ослабевает в силах, что уже не может принять пищи, которая в свое время могла бы спасти его от смерти. Так и умирающий во грехах перед смертью до того ослабевает в духе, что не может, не смеет воспользоваться покаянием, этим спасительным от грехов лекарством.
Нет, поскорее, как можно поскорее покаяния отверзи нам двери, Жизнодавче! Поскорее, тотчас же, как согрешим, помоги нам каяться, плакать, скорбеть и сокрушаться о грехах. Поскорее, в наступающий же пост помоги нам исповедаться перед духовником, получить от Тебя через него прощение и разрешение от грехов наших. Аминь.
132. В Неделю о мытаре и фарисее
Почему, слушатели, молитва фарисея была не угодна Богу, несмотря на то что он был человек, кажется, праведный? И отчего, напротив, Богу угодна была молитва мытаря, хотя он был всем известный грешник?
Бог грешников не слушает, Он слушает только праведных. Отчего же фарисей, добрый своей молитвой, заслужил осуждение, а мытарь грешный получил оправдание?
Фарисей оттого заслужил осуждение своею молитвой, что он, молясь, сознавал себя праведным, а мытарь получил оправдание своей молитвой за то, что сознавал себя грешником.
Как бы вы ни были чисты и правы – не сознавайте себя такими пред Богом, а сознавайте себя грешниками. Да, Бог не услышит нашей молитвы, когда мы, молясь Ему, бываем уверены, что мы правы.
Но вы скажете: как можно довести себя до сознания, что я грешник, когда я не грешу, по крайней мере гораздо меньше других грешу, когда я исполняю и заповеди Божии, делаю и добрые дела? Можно, слушатели, и легко можно осознать себя грешником, когда мы будем должным образом рассуждать. В самом деле, будем рассуждать хорошенько: ты не осознаешь себя грешником – вот и знак, что ты не праведник, а грешник, ибо праведники никогда не считают себя правыми пред Богом. Ты к тому же осознаешь себя лучше других, а это знак еще вернее, что ты действительно грешник, ибо праведники всегда почитают себя хуже других.
Будем рассуждать далее: на мне нет теперь грехов, нет никаких важных грехов, какие есть за другими. Как же мне сознаться, что я грешник и грешнее других? Очень легко. Пусть так, что на тебе грехов теперь нет, но зато были прежде. Положим, что тебе прежние грехи прощены, положим, что ты загладил их добрыми делами, омыл слезами. Но все же ты был грешником, стало быть, грешил; ты чист от грехов по милости Божией, а сам по себе ты грешник. Ты даже большой грешник: ты имел силы воздерживаться от грехов, ибо теперь воздерживаешься; другие грешат по слабости, а ты имел силы не грешить и грешил.
Будем и еще рассуждать: я и прежде не грешил, грешил гораздо меньше, нежели другие. Положим, что и это правда. Но как ты мог воздерживаться от грехов? Сам собой или при помощи благодати Божией? Если ты сам по себе воздерживался от грехов, то ты вовсе не праведник, ибо твоя природа такова, что ты не грешить не мог. Если ты боролся со грехом, вооружился против страстей, то тебе помогла благодать Божия воздержаться. Без благодати Божией ты никогда не мог бы воздержаться. Что же думаешь о себе, что ты праведник, когда ты по благости Божией праведник? Да если бы этому человеку, которого ты почитаешь хуже себя, так помогла благодать Божия, как тебе, то и он не согрешил бы. Да, слушатели, грехи, которые мы имеем или имели, – наша собственность, а добрые дела, которые мы делаем, не наши; это – дело благодати и милости Божией.
Итак, если ты не грешишь теперь, а грешил прежде, то явно, что ты грешник и хуже других, ибо мог воздерживаться и не воздерживался; другие грешат потому только, что воздержаться не могут. Если ты и прежде не грешил и теперь не грешишь, то все же ты грешник, ибо не сознаешь себя грешником. Да, не сознавать себя грешником есть грех, и грех великий.
Будем же, слушатели, так рассуждать, и мы сознаемся наконец, что мы – великие грешники. Да, и сознавая себя грешниками, не будем почитать себя праведниками, ибо и это будет грех. Да, и это грешно, если я буду успокаиваться тем, что сознаю себя грешником. Нет, вконец надобно истреблять в себе грех; никогда не надобно уверять себя, что ты праведник; ничем не надобно успокаивать себя, что не грешник. Надобно, чтобы после всех пощений и молений, после всех суждений о себе выходило одно заключение: я, Господи, великий грешник, я недостоин милостей Твоих, я недостоин и просить помилования у Тебя, Господи. Аминь.
133. В Неделю мясопустную, о Страшном Суде
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный (Мф. 25:41).
Вот что Иисус Христос на Страшном Суде Своем скажет людям, стоящим по левую руку: подите от Меня, проклятые, в огонь вечный. Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда они скажут ему в ответ: Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице – и не послужили Тебе? Тогда скажет Он им в ответ: истинно говорю вам, так как не сделали вы сего одному из сих меньших, то не сделали Мне. Скажет Иисус Христос, и они пойдут в муку вечную (см.: Мф.25:41–46).
Слушатели-христиане! Ужели в муку вечную пойдут люди только вот за эти грехи, что алчущего не напитают, жаждущего не напоят, странника в дом не примут, нагого не оденут, не посетят больного и в темнице? Есть много других грехов, и грехов тяжких, великих; почему же Иисус Христос не напомнит грешникам об этих грехах? О тяжких и великих грехах не нужно напоминать и говорить: они и без произнесения приговора Судии осуждают грешников на вечные мучения. Великие и тяжкие грешники на Страшном Суде будут стоять безответные, сами, не говоря ни слова, пойдут в огонь вечный; им нечего будет и сказать в свое извинение, им нечем будет оправдываться.
И потому приговор Иисуса Христа, который Он произнесет на Страшном Суде, имеет такой смысл: вы, грешники, не хотели исполнить Моих заповедей; вы по своей воле поступали, а Меня не слушались; вы для себя только жили, а для Меня ничего не делали; вы даже и такого легкого дела не хотели сделать для Меня; вы для Меня и алчущего не накормили, жаждущего не напоили, странника в дом не приняли, нагого не одели, больного и в темнице не посетили, самого легкого дела вы не хотели сделать; значит, в вас нет вовсе милости к людям, за то и вам нет от Меня милости: ступайте от Меня, проклятые, в огонь вечный. Я милостив, но только к тем, которые сами к другим милостивы.
Итак, слушатели-христиане, что же нам, грешникам, теперь делать, как нам спастись при наших грехах от вечных мучений, которые ожидают грешников по смерти? Примемся поскорее за дела человеколюбия, будем побольше делать милостей ближним нашим, и Бог явит нам Свою милость, то есть даст время нам раскаяться в грехах наших, даст средства загладить преступления наши и, таким образом, простит все грехи и преступления и уже не вспомнит их на Своем Страшном Суде.
Но не забудем, слушатели, что Бог грехи прощает и разрешает здесь, на земле и потому будем делать милостыни не для того, чтобы Бог простил нам грехи наши на Страшном Суде, но чтобы здесь простил и разрешил. На Страшном Суде Он не вспомнит наших грехов, если в них мы здесь раскаемся, если здесь получим прощение и разрешение. Тогда Он вспомнит одни только милостыни наши, которые мы сделаем, тогда Он скажет нам: вы были милостивы, вот за это и Я явлю вам милость – придите и наследуйте уготованное вам Царство Небесное.
Но если мы здесь не захотим раскаяться во грехах, если не получим прощения и разрешения в них и, таким образом, на Страшный Суд явимся с грехами, то нам уже не будет никакой милости, нам уже воздаст Господь по грехам нашим. Он не вспомнит уже и того, если мы алчущего напитаем, жаждущего напоим, нагого оденем или другие дела милостыни сделаем. Еще повторяю: Господь на Страшном Суде вспоминает милостыню и за нее милость являет тем только грешникам, которые здесь раскаялись и получили прощение во грехах своих. Итак, старайтесь, слушатели, чтобы Господь вспомнил наши милостыни на Страшном Суде, но страшитесь, бойтесь, чтобы Он не вспомнил тогда грехов ваших, а Он непременно вспомнит все, если мы в них забудем раскаяться. Аминь.
134. В Неделю мясопустную
Был болен, и вы посетили Меня (Мф. 25:36).
На Страшном Суде Господь наш Иисус Христос стоящим по правую руку Его скажет: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира.
Кто эти счастливцы, которых с такой любовью Иисус Христос будет приглашать в Царство Небесное? Много будет их, и между ними будут и те, которые больных посещают. Да, слушатели, за то, что мы больных посещаем, Иисус Христос примет нас в Царство Небесное.
Кого же именно Иисус Христос за посещение больных примет в Царство Небесное? Например, духовников и врачей, когда они, по своей обязанности, посещают больных; когда врачи посещают больных с тем, чтобы дать им пособие к излечению от болезней телесных, а духовники – с тем чтобы исповедать их и причастить Святых Таин и, посредством врачевания болезней душевных, уврачевать болезнь телесную или преподать им напутствие благодатное в жизнь вечную.
Вы и не духовники, и не врачи, но и вас за посещение больных тоже Господь примет в Царство Небесное. За какое же посещение? Всегда бывают случаи делать такие посещения, но и в настоящее время у нас в городе, можно сказать, тысячи их, этих случаев, потому что не только в каждом доме, но на каждом шагу больные лежат.
Итак, ты больного видишь такого, за которым некому присмотреть, некому подать пособия, некому за лекарем сходить или за лекарством, некому духовнику сказать. Возьмись же ты сам за это дело: походи за этим больным, помоги в чем нужно, сам сходи за лекарем, извести духовника, вообще сделай для больного все, что сделал бы ты для ближайшего своего родственника, и ты окажешь помощь больному, за которую примет тебя Иисус Христос в Царство Небесное, за которое услышишь ты от Него на Страшном Суде радостное для тебя приветствие: приди, наследуй Небесное Царство.
Но ты сам не можешь, не умеешь, не способен помощь оказывать больным. Проси других, убеди словами, мольбой, наградой, всем, чем только можешь, упроси походить за больным – и ты получишь награду за твое усердие вместе с теми, которые больных посещают. Больной этот, за которого ты просил других, сам за тебя Бога попросит или тоже других попросит, чтобы те исходатайствовали тебе милость у Иисуса Христа. Впрочем, тебе и не нужно будет ходатаев других: Иисус Христос, Судия твой, Сам будет за тебя ходатайствовать пред Отцом Небесным, потому что ты сам Его, больного, в лице ближнего не оставил, посетил.
Если же ты по своему состоянию или по своим летам, или по своим силам не можешь ничего сделать больным, то и для тебя есть средство заслужить на Страшном Суде милостивое приветствие Иисуса Христа. Какое же это средство? Молитва за больных. Да, если ничего сделать не можешь, молись за больных, за страждущих; если не можешь ходить, посещай мысленно больницы и дома больных – воссылай мысленно к Богу усердное моление, чтобы Он помог им выздороветь, и ты за это молитвенное посещение больных услышишь милостивое приветствие от Иисуса Христа: Я был болен, и ты молился обо Мне.
Но, слушатели, если кто из нас может посещать больных, имеет силы помогать им, имеет средства помогать им, но не хочет помогать, то да убоится тот, чтобы ему не услышать от Иисуса Христа на Страшном Суде слова: пойди от Меня, проклятый, в огонь вечный за то, что ты ради Меня больному не помог, о излечении его не позаботился, лекаря для него не пригласил, духовнику не сказал и никакого участия не принял.
Господь Иисус Христос Своею благодатью да вразумит вас, да поможет вам оказывать помощь всяким больным и да сохранит вас самих от болезни Своею милостью. Аминь.
135. В Неделю сыропустную
В нынешний день мы, христиане, имеем обыкновение просить друг у друга прощение, потому и самый день сей у нас называется прощеным воскресеньем. Обыкновение это, слушатели, самое христианское, ибо чем же приличнее начать наступающий пост, как не взаимным прощением? В пост святой Четыредесятницы мы преимущественно испрашиваем себе у Бога прощение во всех грехах, какие сделали в продолжение года. Но простит ли Бог нам грехи наши, когда мы не простим грехов нашим ближним? Господь нам только тогда прощает, когда мы сами все прощаем другим; если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф.6:14–15). Кто не прощает грехов ближнему, тот не истинно раскаивается в своих грехах. Истинно раскаивающийся грешник не может помнить оскорблений, какие он терпел или терпит от других; у него одно на уме – грехи, которыми он Бога оскорблял; печаль по Бозе заглушает в нем все другие попечения.
Правда, нелегко прощать обиды и забывать оскорбления; ах, есть такие оскорбления, которых, кажется, вечно забыть нельзя! Но что же делать! Трудно прощать, зато как легко, как спокойно бывает после! Точно камень спадет с души, когда превозможешь себя, бросишь обиду, забудешь оскорбление. Именно божественный мир водворяется в душе, когда помиришься с кем. Богу подобными мы делаемся, когда друг друга простим; Христос посреди нас бывает, когда друг друга лобзаем.
Впрочем, слушатели, не думайте, что довольно в душе помириться и простить, как некоторые говорят. Нет, непременно пойди к тому, с кем тебе надобно помириться; пойди, поклонись и скажи: прости меня. Ибо отчего тебе не хочется пойти поклониться и попросить прощения? Отчего ты даже не хочешь сказать: прости меня? От гордости, гордость запрещает. А ее-то и надобно сокрушать, истреблять, ибо от нее-то и происходят все ссоры, она-то и причиной всякому злу. Только вот когда довольно в душе помириться с ближним: когда этот ближний далеко от тебя живет или ни за что не хочет с тобой мириться. В последнем случае лишь ты не злись на него да молись Богу, чтобы Господь вразумил его оставить злобу на тебя. Невозможного Бог от нас не требует.
Говорят некоторые в оправдание гордого и непреклонного своего сердца: что мне мириться и просить прощения? Через день или даже скорее опять, пожалуй, поссоримся и часто будем ссориться. Миритесь, слушатели, всегда миритесь, а о том не думайте, надолго ли будет мир между вами; миритесь, хотя и через день или через минуту вы можете опять поссориться. И солнце да не зайдет во гневе вашем, и спать не ложитесь, доколе не успокоите себя и других миром и прощением.
Итак, старайтесь всегда иметь мир, по возможности со всеми. Позаботьтесь, особенно в нынешний день, простить друг друга, простить по-христиански, от души. В противном случае и пост ваш будет не в пост, и молитва ваша не в молитву. Аминь.
136. В понедельник первой седмицы Великого поста
Вот и святой пост наступил. Благодарение Господу Богу, что Он дает нам время раскаяться во грехах. Небесполезным считаю сказать теперь вам, слушатели благочестивые, несколько слов о том, чем преимущественно мы должны заниматься в дни святого поста.
Чем заниматься ныне? Ныне, обыкновенно, по уставу Церкви воздерживаются от пищи и пития. Да, это необходимо, и необходимо не только воздерживаться, то есть меньше есть и пить, но необходимо есть и пить только то, чего Святая Церковь не запрещает. Впрочем, не в этом сила поста. В чем же? Ныне больше, нежели в другое время, молятся Богу, слушают слово Божие. Да, это необходимо, необходимее самого воздержания. Как можно чаще надобно молиться и слушать слово Божие. Среди этих занятий надо ныне засыпать, с этими занятиями пробуждаться от сна.
Впрочем, и не в этом сила поста, а вот в чем, слушатели благочестивые. Надобно в нынешние дни обращать все свое внимание на грехи – грехи припоминать и сознавать, о грехах сокрушаться и плакать. Для этого-то, собственно, и установлен пост, для этого мы должны воздерживаться и от пищи и пития, для этого мы должны и молиться Богу и слушать слово Божие. Ибо от этих занятий, от поста и молитвы и от слушания слова Божия, всего легче приходят нам на память наши грехи, всего скорее рождается в нас сокрушение о них.
А так как всего труднее нам, грешникам, сознать себя грешниками, а еще того труднее сокрушаться о грехах, то надобно, припоминая свои грехи, просить Бога, чтобы Он пробудил в нас скорбь и сокрушение о грехах. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения, – надо непрестанно взывать к Богу и в церкви, и дома. Да, мы так слабы, окаянны, что и грешниками не можем себя сознавать, если Бог не пробудит в нас этого сознания.
Итак, слушатели, преимущественно в дни поста будем припоминать и сознавать все содеянные нами грехи; будем сокрушаться и плакать пред Богом, что мы окаянные грешники, чтобы таким образом очистить душу от скверн греховных покаянием и освятиться Святых Таин приобщением. В этом вся сила поста, этим преимущественно мы должны заниматься ныне. Да, святой пост тогда только будет у нас свят, когда мы сознаем себя грешниками; бесполезно будет наше пощение, бесполезно будет и наше моление, если мы не будем сознавать себя грешниками.
Господи! Услыши моление недостойного раба Твоего и всех сих рабов Твоих; дай рабам Твоим сердечное сокрушение и болезнь о грехах, ими же Тебе Творца своего прогневаша; даждь им благодать Твою, да тою возбуждаемы и подкрепляемы, в память злая своя дела приведут, и сия вся во страхе Твоем духовному своему отцу исповедят. Аминь.
137. Во вторник первой седмицы Великого поста
Как мы слабы, слушатели: один день постились и уже ослабели. Вот что значит наша непривычка поститься, вот что значит привычка наша к неумеренному потреблению пищи и пития. Если б в продолжение года мы пили и ели поумереннее, то нам легко было бы теперь поститься и мы так не ослабели бы, как теперь ослабели. Впрочем, не смущайтесь от вашего теперешнего ослабления; это ничего, что вы ослабели немного, это ослабление – телесное, но не нравственное. В этом ослаблении есть сила, и сила для нас спасительная. Вы этим ослаблением доказываете повиновение Святой Церкви. Да, Святая Церковь с любовью смотрит на постящихся, ибо она в этом видит повиновение себе. Если почитающим отца и матерь Бог обещает долголетнюю и счастливую жизнь, то повинующимся матери – Святой Церкви Он даст жизнь вечную, блаженную жизнь.
Говорят некоторые: что же пользы от великого пощения, когда это пощение до того ослабляет человека, что он не может со вниманием даже молиться, особенно стоять в церкви и слушать чтение и пение? Не слушайте, христиане, людей, которые так говорят. Если их слушать, то надобно оставить все посты – и великие, и малые. Пост ослабляет тело человека, но это-то ослабление и спасительно для человека, ибо при этом ослаблении слабеют в нас страсти – главные враги нашего спасения, при этом ослаблении вселяется в нас сила Божия, которой одной мы спасаемся.
Да, сила Божия в немощи совершается. Тогда в нас совершается дело спасения, когда мы начинаем сознавать, что мы ничего не можем сделать для нашего спасения. Пост ослабляет силы человека, но чего бояться постящемуся? Демоны не смеют приступить к постящемуся, Ангелы хранители нашей жизни неотступно бывают при тех, кто постом изнуряет свое тело.
Итак, не смущайтесь, когда пощение вас несколько ослабляет и доводит до изнеможения; если вы будете поститься из повиновения Святой Церкви, для благоугождения Богу и спасения своей души, то как бы вы ни ослабели от поста, ваше пощение непременно будет приятно Богу и спасительно для вас. И Ангелы, которые при всякой церкви записывают постящихся, внесут и вас в свой список.
Что смущаться вам, постящимся? С вами Бог, при вас Ангелы хранители, за вас молитвы Святой Церкви. Аминь.
138. В среду первой седмицы Великого поста
Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат; се бо входит Царь славы.
Какие это Силы Небесные невидимо служат с нами, слушатели? Архангелы и Ангелы, Херувимы и Серафимы и прочие Бесплотные Силы, которых главное жилище – Небо, потому они и называются Небесные. Итак, вот какие Силы Небесные с нами служат. Кроме того, у всякого из нас есть, как известно, свой Ангел хранитель. Эти Ангелы хранители наши тоже принадлежат к Силам Небесным, вот и они тоже невидимо с нами служат. Ныне служат с нами. Когда это ныне? За Литургией Преждеосвященных Даров. Впрочем, и за всякой Литургией Небесные Силы невидимо с нами служат, и не только за Литургией, но и за всякой службой церковной они с нами служат. Только за Литургией преимущественно служат с нами невидимо Силы Небесные. Почему? Потому что преимущественно за Литургией бывает с нами Царь славы, Господь сил, Иисус Христос.
Слушатели-христиане! Когда мы собираемся в церковь, когда мы здесь служим, поем, читаем, священнодействуем так, тогда с нами невидимо служат наши Хранители Ангелы и прочие святые Силы Небесные, Херувимы, Серафимы, Архангелы, Ангелы. Оттого-то в церкви легко приходят нам мысли и желания святые, небесные, если только мы сами не прогоним их от себя своей здесь рассеянностью, невниманием, небрежностью.
А какие силы бывают с вами в ваших собраниях светских, мирских, где тоже поете, читаете, действуете? Бывают ли там с вами Силы Небесные? Едва ли, потому что в мирских, светских собраниях едва ли бывает Иисус Христос, там имя Его едва ли хоть раз когда бывает слышно. А где не бывает Иисуса Христа, там нет с нами и Небесных Сил, потому что Силы Небесные бывают с нами только ради Иисуса Христа, по Нем и с Ним.
Какие же силы невидимо служат в светских, мирских собраниях, когда там не бывает Иисуса Христа? Какие-нибудь служат, только не небесные, не святые силы. Там даже Ангела-хранителя нашего с нами не бывает, по крайней мере это очень может быть, что мы там без него бываем. Как пчелы улетают из тех мест, где идет, распространяется дым, так и Святые Ангелы не могут быть в тех собраниях, где дымится, ходит, клубится смрад мирской. Оттого-то людям, бывающим в собраниях светских, легко приходят и надолго остаются мысли и желания нечистые, греховные, приходят и надолго остаются, так что очень трудно с ними после бывает расставаться им и дома.
Итак, слушатели, ходите в церковь Божию: тут с нами невидимо служат Силы Небесные, тут с нами Господь сил, Царь славы, Иисус Христос, тут легко придет на мысль небесное, святое, чистое. В собраниях мирских, светских невидимо служат силы не небесные, силы не святые – там невольно придет на ум нечистое, греховное. Аминь.
139. В пятницу первой седмицы Великого поста
Некоторые из христиан, как известно, и в Великий пост не причащаются Святых Таин Тела и Крови Христовой. Ужели, слушатели, и между вами, стоящими теперь в сем храме, есть такие, которые в настоящий пост не будут причащаться? Если и один есть между вами такой, я обращу беседу мою к нему. Послушай, что я скажу тебе: Сам Бог послал ныне тебя в церковь, чтобы ты услышал, как пагубно для души удаляться Святого Причастия.
Скажи, почему ты не думаешь причащаться Тела и Крови Христовой? Или ты сам не знаешь почему? Так, без всякой причины не думаешь причащаться или, может быть, даже не думаешь об этом, что не станешь причащаться? Для тебя все равно, причащаться или не причащаться? О, если ты таков, то опомнись, подумай о себе. Ты нисходишь во глубину греховную, оттого и не радеешь о себе; ты забыл о спасении своей души, оттого и не помнишь, что тебе надобно причаститься. Ты болен душой и не чувствуешь своей болезни, оттого и не понимаешь, что тебе необходимо причаститься во исцеление души. Ты не заботишься о жизни будущей и вовсе не думаешь, есть ли она, оттого не думаешь и о причащении в жизнь вечную, оттого и все равно для тебя, причащаться ли, не причащаться ли. Опомнись, подумай о себе: ты спишь, умираешь, погибаешь.
Но, может быть, ты имеешь какие-нибудь причины на то, почему не думаешь в нынешний пост причащаться? Некоторые из христиан не причащаются, как они говорят, потому, что считают себя недостойными Святого Причастия. Ты не из числа ли таких христиан? Не потому ли и ты не думаешь причащаться, что считаешь себя недостойным Святого Причастия? Как по видимости ни благовидна сия причина, она не спасет тебя от погибели. Ты считаешь себя недостойным Святого Причастия. Ужели же когда-нибудь придет для тебя это время, что ты будешь считать себя достойным? Ужели когда-нибудь ты будешь в состоянии сказать или подумать о себе: теперь я достоин Святого Причастия, и потому причащусь? Да сохранит тебя Господь от такого достоинства. Только фарисей мог подобным образом судить и говорить о себе, тот фарисей, который осужден Богом.
Истинно смиренные, истинно достойные Святого Причастия не так о себе судят и говорят. Они вот как о себе судят и говорят: «Вем, Господи, яко недостойне причащаюся Пречистаго Твоего Тела и честныя Твоея Крове, и повинен есмь, и суд себе ям и пию»… Так молился святой Василий Великий. «Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моея, занеже весь пуст и пался есть»… Так молился святой Иоанн Златоуст. Как же ты можешь и когда можешь сказать иди подумать о себе: я достоин Святого Причастия? Не только здесь, на земле, мы, грешные, никогда не можем считать себя достойными, но и на Небе не посмеем о себе думать, что мы достойны того, чтобы в дом души нашей вошел Иисус Христос, на Которого Ангелы взирать не смеют, ибо считают себя недостойными.
«Что же мне делать? – скажешь ты. – Я не смею, я боюсь причащаться, боюсь, как бы мне не причаститься в осуждение». Что тебе делать? Спроси своего духовного отца, что тебе делать. Исповедуйся пред ним во всех твоих грехах, расскажи ему все, что знаешь за собой худого, тогда он скажет, что тебе делать; и что он скажет, то и делай. Если он разрешит тебе причаститься, то причастись: ты имеешь полное право тогда приступить ко Святому Причастию. Духовнику от Бога дана эта власть – прощать кающихся и удостаивать их Святого Причастия.
Впрочем, и после того как духовный отец признает тебя достойным, не забывай своего недостоинства и когда пойдешь причащаться, помни, что ты недостоин Святого Причастия; и когда пойдешь от Святого Причастия, не забывай, что недостойно причастился. «Господи! Я недостоин причаститься Святых Таин, соделай меня достойным», – так молись пред Святым Причастием. «Благодарю Тебя, Господи, что Ты меня, недостойного, сподобил причаститься», – так взывай к Богу после Святого Причастия.
Если же духовник твой не разрешит тебе причащаться, то и не причащайся; ибо если он не удостаивает тебя,то это значит, что ты действительно недостоин и Причастие послужило бы тебе только в грех, в осуждение. Да, бывают случаи, когда человеку, точно, грешно причащаться; бывают грешники, которых именно не следует допускать ко Святому Причастию, хотя они и желают причаститься. Может быть, и ты такой же грешник, может быть, и твои грехи таковы, что и тебе грех причаститься, но пусть это решит и скажет тебе духовный твой отец. Его Бог поставил над тобой духовным судией, пусть он и судит тебя, пусть он и решает. Решение духовника есть исполнение воли Божьей, а собственное твое решение есть самоволие.
Итак, сознавай себя недостойным Святых Таин, но сам не отлучай себя от Святого Причастия, а предоставь это духовному твоему отцу, пусть он отлучит тебя, если это нужно. Сознавать свое недостоинство – твоя обязанность, а удостаивать или не удостаивать тебя Святого Причастия – это обязанность духовного отца. Открыть душевную болезнь духовному врачу ты должен, это твое дело, а нужно ли и можно ли тебе принимать лекарство или нет, – это знает духовный врач, это его дело.
Что ты еще скажешь, ты, который все еще не думаешь причащаться? Скажи, почему ты в прошедший пост не причащался? Некоторые из христиан не причащались, как они говорят, за недосугами, за хлопотами, за делами; им некогда было, у них времени не было. И ты не по тем ли же причинам не причащался? И тебе некогда было, времени не было, недосужно было причаститься?
Господи, Господи! Вот мы до чего можем доходить! Нам недосужно принять Тебя, сладчайшего Иисуса, в дом души нашей? У нас нет времени приготовиться, чтобы причаститься в оставление грехов и в жизнь вечную? У нас есть дела, которых мы не можем оставить ради Пречистого Тела Твоего и Животворящей Крови Твоей! Господи, Господи! Вот до чего мы можем доходить!
Но нет, мой слушатель, нет, ты еще не дошел до этого, ты этого не говоришь, ты не по этим причинам в прошедший пост не причастился. Ты не причащался так, по слабости, по неведению, а не по презрению, не по небрежению к Святому Причастию. Ты скорбел и скорбишь, что не причастился. Нет, нет, ты еще не дошел до такого ожесточения, чтобы так думать и говорить, нет, ты еще не совсем погибший человек, ибо ты молишься Богу, ибо ты пришел в церковь Божию.
Не губи же души своей навеки, причастись Тела и Крови Христовой. По крайней мере приготовься к Святому Причастию: избери какую-нибудь неделю в посте, походи в церковь Божию, помолись, попостись, исповедуйся в своих грехах пред духовником; духовник скажет, можно ли тебе причаститься или нет. Если он разрешит причаститься, причастись без сомнения, а если не разрешит, прими с покорностью запрещение до времени, и оно послужит тебе во спасение.
О, видно, глубоко и далеко отпали мы от Тебя, Господи! Вместо того чтобы нам спешить к Тебе, Источнику нашей жизни и нашего блаженства, нас надобно еще усовещивать, убеждать, чтобы мы шли к Тебе, чтобы мы причащались Тела и Крови Твоей. Нет, грешник не хранит себя от греха, а сугубо грешит, когда самовольно удаляется Святого Причастия. Аминь.
140. Перед исповедью
В нынешний день христиане обыкновенно исповедуются. Когда вы, слушатели, пойдете на исповедь к вашему духовнику, то имейте твердое, решительное намерение рассказать ему все, что знаете за собой худого, и рассказать чистосердечно, без всякого извинения и оправдания. Вы хотите, чтобы духовник от лица Божия простил вам грехи, но как же он вам простит грехи, когда вы не вполне их ему откроете? Вы хотите излечиться от греховной болезни, но как же духовный врач вылечит вас, когда вы не скажете ему ясно и прямо, чем вы больны?
Стыдно как-то бывает открывать все духовнику? Стыдись грешить, а сознаваться во грехе уж нечего стыдиться. Тяжело это для тебя? Что же делать! Грех тогда только и прощается, когда грешник восчувствует и, так сказать, изведает всю его тяжесть. Чем тебе тягостнее и стыднее на исповеди, тем легче будет после исповеди. Лучше какой-нибудь час помучиться, чем мучиться всю жизнь, а может быть, и всю вечность. Грех, как змея, не перестанет шипеть и язвить тебя, доколе не выбросишь его вон из души, доколе не исповедуешься в нем. Когда я молчал, поет святой пророк Давид, обветшали кости мои от вседневного стенания моего… Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего (Пс. 31:3,5).
Ты боишься, как бы духовник не переменил о тебе хорошего мнения, как бы не стал о тебе думать худо, когда ты признаешься ему во всех своих слабостях и пороках? Не бойся, этого никогда не будет; духовник сам человек и, может быть, грешен не менее тебя, он и по себе знает, на что способны люди. Чем более ты откроешь ему грехов, тем усерднее он будет о тебе молиться Богу; чем откровеннее ты ему признаешься в слабостях, тем лучшее он будет иметь о тебе мнение за твое сознание и откровенность.
Но положим, от духовника ты скроешь грех, а ведь от Бога не скроешь. Бог давно все твои грехи знает, знает самые потаеннейшие твои греховные намерения. Что же? Пред духовником ты покажешься чист, прав, но пред Богом будешь мерзок, осужден, сугубо осужден; ты будешь осужден и отвержен Богом и сонмом Ангелов за то, что постыдился одного человека, своего духовника.
Да, тяжело грешит тот, кто на исповеди утаивает грехи. Он обманывает духовника; и пред обыкновенным человеком лгать грешно, но он обманывает Бога, а пред Богом лгать вовсе безумно, он прикрывает свои грехи новым грехом. Ибо почему ты не все сказываешь духовнику? По гордости. Не иное что, как гордость, запрещает тебе признаться, что ты обременен тяжкими, гнусными, низкими пороками. Тебе не хочется, стыдно кажется во всем открыться, сознаться пред духовником. А что как грехи твои будут открыты, объявлены на Страшном Суде пред миллионами людей и Ангелов?.. Вот тогда уж подлинно стыдно будет, так стыдно, что станешь просить горы и холмы, чтобы они скрыли тебя от стыда за неисповеданные грехи.
Итак, слушатели, исповедуйтесь со всей откровенностью, открывайте все, что знаете за собой худого, показывайте себя такими, каковы вы на самом деле, ничем себя сами не извиняйте и никак ни оправдывайте. На исповеди чем сознательнее и откровеннее, тем лучше. Аминь.
141. В Великий пост
Отчего это, слушатели, происходит, что мы сколько ни каемся во грехах, а грешить не перестаем, сколько ни даем обещаний воздерживаться от грехов, а не воздерживаемся? Это происходит, конечно, оттого, что мы имеем слабую волю. Люди с твердой волей в обещаниях тверды, их желание – свято, их слово – закон.
Как же нам помочь в своей слабости? Вот как можно несколько помочь. Надобно после покаяния приносить приличные плоды, а это значит, за каждый грех понести какое-нибудь наказание, за каждое худое дело сделать какое-нибудь добро. Итак, если ты имеешь привычку осуждать, обижать, гневаться, то раскайся, дай обещание не делать сего, и впредь положи за каждый гнев, за каждую обиду, за каждый пересуд класть хотя бы по нескольку земных поклонов. Если ты имеешь привычку льстить или обманывать, то раскайся, дай обещание не делать сего и впредь положи за каждую лесть или обман потерпеть что-нибудь вдвое. Если ты имеешь привычку лишнее или непозволенное есть и пить, то раскайся, дай обещание не делать сего и впредь положи за каждый таковой случай поститься день или два.
Вообще, какой бы порок тобой ни обладал, противополагай ему какое-нибудь доброе дело. Если в тебе мало отвращения ко греху, то тебя заставит удержаться от греха наказание, уже тебе известное. А чтобы твое обещание было для тебя тверже, проси духовного твоего отца, чтобы он наложил на тебя это наказание, чтобы он дал тебе епитимию. Важно свое наказание, но еще важнее то, которое на нас налагает духовный отец наш.
Говорят некоторые: много раз я брал епитимию, но все нет пользы, а потому не хочу и брать, знаю, что не выдержу. А почему же ты знаешь? Ты прошлый год не воздерживался от порока, так в настоящий год, может быть, воздержишься. Возьми наказание какое-нибудь потяжелее, дай обещание позначительнее, сражайся с самим собой, сражайся, сколько сил в тебе есть, – без труда ни от чего не отстанешь; Царство Божие усилием приобретается, и только усиленные искатели входят в него (см.: Мф.11:12). Если же при всех усилиях и при всех наказаниях, какие будешь налагать на себя, ты не отстанешь от худой привычки, то и это одно уже хорошо, что ты усиливался отстать от нее. И не переставай бороться с нею; если не ныне, то завтра, рано или поздно, Господь поможет тебе победить ее, только молись Ему усердно и не ослабевай в подвиге.
Посему как худо делают те христиане, которые не ходят на исповедь потому будто, что они после исповеди не могут воздержаться от пороков! Что нам, говорят они, повторять духовнику одни и те же пороки? Жалкие, они не знают, что грех совершенно овладел ими, ибо и малейшего усилия к освобождению от него не хотят сделать; не знают, что готовят себя прямо в ад, ибо всегда отлагающие покаяние, без сомнения, и умрут без покаяния. Нет, христиане, не слушайтесь таких внушений: что мне повторять одни и те же грехи пред духовником? Это внушает диавол, он радуется, когда люди под каким-либо предлогом оставляют покаяние.
Итак, будем каяться в грехах пред духовником и всегда приносить плоды, достойные покаяния.
Христе Иисусе! Тьмами обещах Тебе, о Иисусе мой, покаяние, но солгах окаянный; тем же, Иисусе мой, вопию Ти: нечувственне пребывающую мою душу просвети, Христе, светом Твоим! Аминь.
142. Перед причастием
Прежде нежели приступите, слушатели, к Святому Причастию, побеседуем о том, какую мы получаем пользу, когда причастимся Тела и Крови Христовых, и с какими чувствами должны мы приступать к сему Страшному Таинству.
Итак, какую пользу мы получаем, когда причащаемся Тела и Крови Христовых? Мы теснейшим образом соединяемся с Иисусом Христом, так что Иисус Христос начинает тогда пребывать в нас, а мы в Нем: Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем (Ин. 6:56), говорит Иисус Христос. Что же именно такое происходит в нас тогда? Этого объяснить и осознать нельзя, невозможно, можно только несколько чувствовать, и то не всегда.
Что бывает с вами, когда вы, томимые голодом и жаждой, принимаете обыкновенную пищу и пьете обыкновенное вино? Вы тогда как будто начинаете жить новой жизнью, вы становитесь веселее, здоровее и к трудам готовее. Этим подобием можно себе несколько объяснить, что бывает и с душой того человека, который причащается Тела и Крови Христовых. Душа его тогда начинает жить новой, божественной жизнью; какую-то неземную радость она чувствует, каким-то небесным светом озаряется и какою-то необыкновенной готовностью к добру оживляется.
Соединяясь с Иисусом Христом, причащающийся делается, таким образом, причастником жизни вечной, так что душа его прямо воспарила бы к Иисусу Христу в рай, если бы ему в то время пришлось умереть: Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную (Ин. 6:54), говорит Господь. Оттого-то, слушатели, так спокойно, так весело умирают те люди, которые пред смертью успеют причаститься Тела и Крови Христовых. Чего им бояться, когда они теснейшим образом соединяются с Иисусом Христом, источником жизни вечной? Итак, причащаясь Тела и Крови Христовых, мы теснейшим образом соединяемся с Иисусом Христом и делаемся причастниками жизни вечной.
Впрочем, Тело и Кровь Христовы производят сии благодатные действия только в душе достойно причащающегося, а кто ест и пьет недостойно, не получает отпущения прежних грехов своих, напротив же того, делается еще хуже, еще грешнее, еще дальше от Иисуса Христа, ест и пьет осуждение себе (1Кор. 11:29). Так, самая полезная пища и самое полезное питие часто бывают гибельны для больных.
Итак, слушатели, достойны ли вы причаститься Тела и Крови Христовых? Шесть дней вы постились, шесть дней ходили в церковь Божию, шесть дней сокрушались о грехах своих, были на исповеди у духовника, но и после всего этого так ли чисты души ваши, чтобы в них мог войти и пребывать Иисус Христос, Святейший из святых? Ах, нет, нам и вечности, кажется, мало, чтобы достойно приготовить себя к Святому Причащению, многих из нас и теперь, в сии священные минуты, не оставляют порочные мысли и желания. Что же нам, грешным, после сего делать? Как же приступать к Святому Причастию? С сознанием, с сердечным сознанием своего недостоинства. Чем кто больше сознает себя недостойным Святого Причастия, тем больше его достоин.
Да, слушатели, не подражайте тем ложным христианам, которые, будто бы сознавая себя недостойными Святого Причастия и будто не желая приступать с одними и теми же грехами, никогда не приступают, не причащаются. Поверьте, что они так только говорят, что недостойны, а на самом деле так не чувствуют, и говорят потому только, что им не хочется подготовиться к Святому Причастию. Им не хочется и шести дней поговеть, не хочется и на шесть дней расстаться со своими порочными привычками; таким образом они говорят для прикрытия своей лености, беспечности. Больной, который сильно чувствует боль, усомнится ли принять лекарство потому только, что оно, может быть, не надолго подаст ему облегчение? Конечно, нет. Лучше хоть одну минуту чувствовать облегчение, чем страдать непрестанно. Так и христианин, который сознает себя грешником, недостойным Святого Причастия, который действительно боится, чтобы после Причастия не впасть в прежние грехи, никогда не будет оставлять Причастия. Для него и день дорог, дорога и минута, в которую он пробудет без грехов со Христом.
Итак, слушатели, приступите к Святому Причастию, только приступите со страхом и верой. Да не смущают вас никакие сомнения; со Иисусом Христом побыть и один день дорого; иметь в душе Спасителя и одну минуту важно. О, когда бы Он пребывал с нами и во все дни жизни нашей и во веки веков! Аминь.
143. В Неделю Торжества Православия
Возблагодарим же Бога, что мы хотя и ослушники, но по Его благости еще не такие, каких Церковь ныне поражает анафемой. Усугубим же наше послушание к нашей Церкви! Не будем соблазняться различными против нее наговорами, о которых так часто нам приходится слышать! Это не новость: подобные наговоры и прежде были, и всегда будут и нашей Церкви ничего не сделали и не сделают. Чистоту ее учения никакая тьма не омрачит, твердость ее заповедей и силы ада не поколеблют. Она краеугольным своим камнем имеет Иисуса Христа – Божию силу и Божию премудрость, она основана богодухновенными апостолами, утверждена Вселенскими Соборами, доказана святыми отцами, испытана тысячелетиями.
Но тем не менее различные наговоры против нее опасны для нас, все они большей частью приятны нашим страстям, лестны для нашего самолюбия, а в таком случае как легко ими соблазниться! В первый раз мы послушаем их с холодностью, может быть, даже с отвращением, во второй раз – с равнодушием, в третий – они нам покажутся не противными, в четвертый – мы станем защищать их. И потому всего безопаснее удаляться от подобных разговоров, не читать подобных книг, не смотреть на подобных людей или смотреть на них как на чуждых, как на язычников и мытарей, отверженных от наследия Царства Божия.
Остерегаясь других, будем и сами осторожны, ибо и мы можем быть соблазном для других. Сказать что-нибудь противное учению Церкви или неприличное ее заповедям мы часто не считаем для себя грехом, а как это гибельно для других! Вы, старшие по летам и высокие по сану, вы, может быть, не воображаете, что и низшие и младшие не считают за грех делать то, о чем не считаете вы за грех говорить. Но еще гибельнее для других, когда мы неосторожно себя ведем. Нельзя прожить без того, чтобы не нарушить каких-либо заповедей, – но почему бы, нарушая, не делать так, чтобы этого другие не видали и не слыхали? Таить свои пороки никогда, слушатели, не грешно, грешно только на исповеди перед духовником. Грешить же явно или говорить открыто о своих грехах – это верх нечестия; это значит – к своим грехам прибавлять новые, может быть, бесчисленные грехи. Лицемер, под личиной добродетели скрывающий свои пороки для того, чтобы его другие считали добродетельным, достоин презрения, но явный нарушитель заповедей или без стыда рассказывающий о своих пороках достоин проклятия. Не менее того мы грешим, когда рассказываем о грехах ближнего. Открывать грехи ближнего почти то же, что и самому делать их. В чем ближний наш согрешил, то было как бы началом греха; мы своим языком доканчиваем его. Мало того, если мы не делаем тех грехов, какие делают другие, – и говорить не надобно о том, что другие делают.
Что происходит тогда, когда мы явно грешим или открыто говорим о своих грехах или о чужих? Мы не себя только губим, но и других, – тех, которые на нас смотрят, которые нас слушают и которые некогда будут слушать.
Вспомним, каковы мы были в детстве, даже в юности, и посмотрим на себя, каковы мы теперь! Как мало мы тогда знали те грехи, в которые теперь так часто впадаем, с каким ужасом представляли тогда те пороки, которым теперь так часто предаемся! Мы и вообразить тогда не могли, что можно нарушать заповеди, которые теперь с таким хладнокровием нарушаем. Но отчего такое изменение? Оттого, что прежде мы еще не видали и не слыхали, как живут другие, а после всему от других научились, всего от других насмотрелись, всего от других наслушались и, увы, теперь и сами других учим тому же.
Да, слушатели, может быть, тысячи не согрешили бы, если бы мы не грешили явно, если бы скрывали свои грехи, если бы мы молчали о грехах нашего ближнего. Открыто грешить и открывать грехи – то же, что распространять заразную болезнь между людьми.
Итак, будем осторожны в словах и поступках при других, будем и сами остерегаться других, а всего более будем послушны матери нашей Церкви, будем особенно ей послушны в настоящие дни. Ныне возсия нам постная весна, воспевает Церковь. Земля, не засеянная весной, на весь год остается бесплодной. И от нас во весь год едва ли можно ждать добрых дел, если в настоящие дни, при молитве, посте и слезах мы не посеем в себе семян добра. Аминь.
144. Во вторую Неделю Великого поста
И Он говорил им слово (Мк. 2:2).
В одно время пришел Иисус Христос в Капернаум. Когда в городе слышно стало, что Он в доме, тотчас собрались многие, так что и за дверьми места не было. И Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности дойти до Него за множеством народа, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, проломав, спустили одр, на котором лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи твои. Тут некоторые из книжников сидели и помышляли в сердцах своих: что Он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас уразумев духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего вы так помышляете в сердцах ваших? Что легче? Сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи. Или сказать: встань, возьми одр твой и ходи? И чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи на земле (говорит расслабленному), тебе говорю: встань, возьми одр твой и пойди в дом твой. Он тотчас встал, взял одр и вышел при всех, так что изумились все и славили Бога, говоря: никогда не видали мы подобного (см.: Мк.2:1–12).
Слушатели-христиане! В последние три года Своей жизни на земле чем всего больше занимался Иисус Христос? Чудеса творил? Нет, учил. Он и чудеса творил больше для того, чтобы при этом чему-нибудь научить, что-нибудь доказать, объяснить. Да, куда ни приходил, где ни появлялся Иисус Христос, прежде всего Он учил, говорил слово, поучение. Учить других было первым и главным Его делом. Он так о Себе и говорил: Я для того и сошел на землю, чтобы учить (см.: Ин.18:20). Отец Мой послал Меня с тем, чтобы Я учил (см.: Лк.4:43). И народ как называл Иисуса Христа? Всего чаще Учителем. И ученикам Своим, Своим апостолам что главное заповедовал? Ступайте, учите всех, учите. И устрояя Церковь Свою, что главное в ней сделал? Учителей поставил, пастырей определил.
Почему же Иисус Христос первым и главным делом считал учение? Потому что всем прежде всего нужно учение. Человеку нужен хлеб, но еще нужнее учение. Учение нам и свет, и жизнь, а неучение – тьма, тьма смертная. Да, жить без учения – все равно что душой умирать, погибать, истлевать. Отчего у нас и пороки разные? Больше от неучения, от необразования. Скажете: и ученые грешат не меньше, живут не лучше. Но то какие ученые? Те, которые учились и учатся не тому, чему учил Иисус Христос. А как учиться у Иисуса Христа? В Церкви, в Церкви, где все его учение сохраняется и где учат Им Самим поставленные учители. Один только свет Христов всех просвещает, спасает. Так, слушатели, первое и главное дело для всех нас есть учение, христианское учение; учение всему начало, всему основание. Необходимо молиться Богу – без учения, без разума что и молитва? Нужны добрые дела – без учения, без разума и добрые дела не имеют доброты настоящей. Хорошо поститься – без учения, без разума и пост не будет приятным и угодным Богу. Хорошо милостыню раздавать – и милостыня без разума, без учения малоценна.
Итак, учитесь, рассуждайте, внимайте, стремитесь понять, всю жизнь, весь век учитесь. Грех не учиться, потому что неучение ведет людей к большим грехам. Иисус Христос приходил на землю прежде всего для того, чтобы мы учились, рассуждали, внимали. Иисус Христос есть свет, свет для всего мира и для всех, жаждущих Его божественного учения. Аминь.
145. В Неделю Крестопоклонную
Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим.
В одно время Иисус Христос, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и последуй Мне. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот и потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот спасет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо, если кто постыдится Меня и Моих словес в роде сем прелюбодейном и грешном, то и Сын Человеческий постыдится его, когда придет во славе Отца Своего с Ангелами святыми. И сказал им: истинно говорю вам, некоторые из стоящих здесь не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, который придет в силе в Царствии Своем (Мф.16:24–28).
В день преподобного Алексия человека Божия беседуя, мы говорили, что в Иисусе Христе мы найдем покой душам нашим и что учение Его для нас самое радостное, успокоительное. Ныне же мы слышим от Иисуса Христа, что мы должны отвергнуться самих себя и взять крест свой, переносить страдания в жизни, даже должны быть готовы потерять душу свою, то есть умереть ради Иисуса Христа и Евангелия, и никогда ни при ком не стыдиться Иисуса Христа и Его слов, то есть не стыдиться, что мы веруем в Него, живем, поступаем и действуем по Его учению.
Как же, так уча, Иисус Христос может дать покой душам нашим? Какой же это покой душ будет, когда мы должны и отрекаться, отказываться от того, что нам по душе, что нравится, должны и делать то, что нам неприятно, ради Иисуса Христа, ради Его учения? Однако тогда-то мы и будем истинно спокойны, когда будем так жить и действовать, и не только по смерти, в будущей жизни, но и здесь истинным покоем будем наслаждаться.
Почему Иисус Христос учит, чтобы мы отверглись самих себя, чтобы не слушались себя, не исполняли своих пожеланий? Потому что мы большей частью сами желаем только греховного. А греховное всегда оставляет в душе нашей беспокойство, мучительное раскаяние. При грехах покоя в душе быть не может. Грехи губят его, заставляют страдать, бедствовать. Да, все беды, все несчастья, всякие болезни и воздыхания – от нас самих, от наших грехов, от исполнения наших пожеланий. И что было бы на земле, если бы мы ни в чем себе не отказывали? Чем была бы эта жизнь, если бы всякий человек ни в чем себе не отказывал, как хотел, как вздумается, так бы действовал, говорил, распоряжался? Тогда люди жить бы не смогли, все жили бы, как в аду, весь мир погиб бы от себя, от грехов своих.
Вот потому-то Иисус Христос и учит, что мы должны отвергнуться себя, не слушаться, не исполнять своих пожеланий, как бы ни были приятны эти пожелания, как бы ни было прискорбно себе отказывать в чем, как бы ни было мучительно. В этом только и покой, и спасение нашей души, чтобы мы отказали себе во всем греховном.
Как же это сделать, чтобы легко было отречься себя, легко было не слушать, не исполнять своих желаний? Не надобно забывать, что мы отказываем себе во всем ради Иисуса Христа. Ради Иисуса Христа… как это? То есть отказывай себе во всем с мыслью о Иисусе Христе. Делай что-нибудь святое, доброе, отказывайся от чего-нибудь худого, греховного, а в мыслях имей Иисуса Христа. Христа ради милостыню подаем, то есть, подаем с мыслью о Иисусе Христе, подаем нищему, а думаем о Иисусе Христе, в мыслях имеем, что Иисусу Христу подаем. Так и всякое дело будем делать ради Иисуса Христа, то есть с мыслью о Иисусе Христе, – и тогда легко нам будет все делать и все нас будет успокаивать.
Какая особенно должна быть у нас мысль о Иисусе Христе, когда мы должны будем отвергнуться себя и взять крест свой? Иисус Христос умер на кресте за грехи наши. Да, на кресте распят Иисус Христос. А за что? Для чего Он распят? За мои грехи и грехи всего мира, для того чтобы Господь простил меня. Да, я надеюсь на милость ко мне Божию, на помилование, потому что Иисус Христос Своею Кровью, Своими страданиями вымолил мне прощение у Отца Небесного. Если бы Иисус Христос не умер, не пролил Своей Крови, грехи твои оставались бы на тебе во веки веков, ты не мог бы просить прощения.
Так вот какое зло – грехи. Иисусу Христу, Сыну Божию, надобно было для спасения от грехов сойти с Неба, пострадать, умереть. Имей же это в мыслях своих, когда ты должен отречься от себя, отказать себе в греховном, как бы это не было для тебя мучительно. Такие ли мучения Иисус Христос претерпел за грехи твои?
Но, вспоминая страдания Господа нашего Иисуса Христа, не будем, слушатели, забывать и Его Воскресения. Иисус Христос, претерпевший мучения, страдания, воскрес во славе. Если и мы, отказываясь от греховного, помучаемся, пострадаем, то ведь и воскреснем, оживем духом.
Так, Господи, и Кресту Твоему мы покланяемся, и Воскресение Твое мы славим. Аминь.
146. В Неделю Крестопоклонную
Начиная мое слово к вам, я сделал на себе крестное знамение. Так и вы, слушатели-христиане, при различных случаях делаете. Мы так привыкли с детства к этому обычаю, что редко когда обращаем на него должное внимание. И потому рассмотрим теперь, что это значит, что мы делаем на себе крестное знамение, и для чего мы его делаем.
Крест с того времени, когда Иисус Христос был распят за нас на кресте, сделался неотъемлемой принадлежностью Иисуса Христа. Посему, когда мы делаем на себе знамение крестное, то этим показываем и как бы говорим о себе: я христианин, я Христов, я во Христа верую, я на Христа надеюсь и уповаю, я Христу служу, последую, я Христом себя украшаю, я во Христа облекаюсь. Таким образом, по знамению крестному, которое мы на себе делаем, всякий может узнать, что мы христиане. Знамение крестное есть внешний отличительный знак христианина.
Для чего мы делаем на себе крестное знамение? Мы делаем знамение крестное на себе, или крестимся, во-первых, для того, чтобы знамение это на нас видел Бог. Да, слушатели, Бог видит, когда мы крестимся, когда делаем на себе знамение крестное. А из вас некоторые крестятся кое-как, поспешно, небрежно, без всякого внимания? Грешно так креститься; надобно креститься со вниманием, с мыслью, с благоговением; клади крест, как святыню, как Христа Самого. Скажешь, сила не в кресте? Нет, в кресте сила, и сила большая, когда ты крестишься надлежащим образом, с верой, с мыслью, с благоговением.
Крестное знамение есть тот знак, по которому Бог обращает Свое милостивое внимание к нам, за который Он изливает спасительную благодать Свою на нас. Крестное знамение есть та печать, с которой Бог принимает прошение от нас. По крестному знамению Бог узнает, чью молитву слушать и исполнить. Молиться с крестным знамением – значит молиться, просить от имени, от лица Иисуса Христа. Я не сам пришел, меня Иисус Христос послал к Тебе, Господи, и что действительно так, вот на мне печать Его – крестное знамение.
Если же, по твоему понятию, сила не в кресте, то для чего же ты крестишься? Или уж вовсе ты не делай на себе крестного знамения – и тогда все будут знать, что ты не христианин; или делай, как должно, без поспешности, с благоговением, с вниманием, с мыслью.
Итак, мы крестное знамение делаем для того, чтобы привлечь к себе внимание Божие, благодать Божию. Мы делаем крестное знамение еще и для того, чтобы видел это лукавый, враг наш диавол. Да, слушатели, и лукавый пусть видит, когда мы делаем на себе крестное знамение, потому что он не любит этого знамения. Как боится лукавый Иисуса Христа, так он боится и знамения Христова – креста. Крест – самое верное орудие против врага, самая крепкая защита от него, самый острый меч для него. Оградить себя крестным знамением – значит охранить себя силой Христовой от всех нападений лукавого. И не лукавый только бегает от крестного знамения; крестное знамение от всего нам враждебного, неприязненного охраняет, защищает нас. Где знамение крестное полагается, там Ангел Христов защитником остается, хранителем. Бес бежит от крестного знамения, а Ангел притекает на крестное знамение. Да, знамение крестное есть знак, по которому Ангелы видят, кого им защищать, охранять; а злые духи видят, от кого им надобно бежать, отступать. И потому твори крестное знамение с мыслью, со вниманием, как некий щит, охраняющий тебя, как некий меч, поражающий врага твоего.
Наконец, мы делаем на себе знамение крестное и для того, чтобы перед другими исповедовать Иисуса Христа, распятого на кресте. Да, пусть и люди видят, кого мы исповедуем, в кого мы веруем, на кого мы надеемся, кого любим, кого почитаем. А ты иногда стыдишься сделать крестное знамение! Знаешь ли, какой ты через это грех делаешь? Стыдясь креститься, ты стыдишься, что ты христианин; стыдишься, что ты Христу принадлежишь, во Христа веруешь, на Христа надеешься, Христа почитаешь, любишь! Нет, бойся стыдиться при людях делать крестное знамение; не стыдись признаваться, что ты Христов, иначе Иисус Христос постыдится признать тебя Своим на Страшном Суде и откажется принять в Царство Небесное.
Итак, вот для чего мы крестимся: чтобы показать, что мы христиане, и чтобы его видел Бог, видел бы Ангел хранитель, видел бы и лукавый, и чтобы люди видели, что мы христиане.
Заключу слово мое о кресте словами св. Кирилла Иерусалимского. Да не стыдимся исповедовать Распятого, с дерзновением да изображаем рукой знамение креста на челе и на всем: на хлебе, который вкушаем, на чаше, из которой пием. Да изображаем его при входах, при выходах, когда ложимся спать и встаем, когда находимся в пути и отдыхаем. Он – великое предохранение, данное бедным в дар и слабым без труда. Ибо это благодать Божия: знамение для верных и страх для злых духов. Аминь.
147. В Неделю четвертую Великого поста
Верую, Господи! помоги моему неверию (Мк. 9:24).
Один отец привел к Иисусу Христу больного сына своего, одержимого духом немым. Долгие и тяжкие страдания бесноватого и особенно то обстоятельство, что и ученики Христовы, которых он просил о нем, не могли изгнать из него беса, смутили и встревожили бедного отца, а потому он с робостью и с каким-то сомнением стал просить о нем и Иисуса Христа, как бы боясь, что и Тот не поможет. Если что можешь сделать, говорил он Иисусу Христу, сжалься над нами, помоги нам. Когда же Иисус Христос сказал ему на это: если можешь сколько-нибудь веровать, – все возможно верующему, – то он со слезами возопил: верую, Господи! помоги моему неверию. Этого было достаточно, и Господь помог больному тут же.
Слова эти или, лучше сказать, эту молитву: верую, Господи! помоги моему неверию, очень нужно и часто бывает нужно повторять нынешним верующим, нам всем, слушатели! Ослабевает у нас нередко вера наша, часто и во многом мы сомневаемся. В самом деле, во что мы веруем твердо? В каких истинах веры всегда бываем уверены? Веруем, что Бог есть, веруем, что Иисус Христос есть Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, веруем, что есть будущая жизнь. Но даже в этих истинах мы иногда как будто сомневаемся, готовы бываем усомниться. Особенно, как послушаешь иногда, что иные говорят и пишут о вере, или как посмотришь, как некоторые из верующих живут и поступают, невольно задумаешься и с недоумением скажешь: да как же это так?.. Ведь есть Бог, Который все видит и всякому воздаст по делам его. Есть Иисус Христос, Сын Божий, Который приходил на землю для нашего спасения. Есть другая жизнь, где мы по смерти будем жить и жить вечно…
Что же это так живут и поступают, так говорят и пишут? Ах, да! Так иногда иные говорят и пишут, живут и поступают, что как будто нет ничего вечного и святого, как будто и Бога нет, и Иисус Христос на землю не приходил, и будущей жизни не будет, как будто и ничего нет, и ничего не было, и ничего не будет!.. При таком смущении и недоумении о самых важнейших истинах веры как же не воззовешь к Богу: верую, Господи! помоги моему неверию! Невольно воззовешь, со слезами иногда воззовешь: да, я верую, Господи, что бы ни говорил и ни писал кто против веры, как бы ни жили и ни поступали иные из верующих, верую, Господи, помоги моему неверию.
И без искушений и соблазнов со стороны как часто сами собой находим мы разные сомнения, когда думаем о вере! Особенно если мы редко молимся Богу и молимся без внимания, если мало читаем или долго ничего не читаем божественного, если проводим жизнь в рассеянности, в суете, не вникая в себя и в свои обязанности, слушаясь только страстей своих и пристрастий, то при размышлении о предметах веры, при мысли о Боге и будущей жизни столько иногда представляется уму нашему вопросов неудоборешимых и мыслей, с верованием нашим не согласных, что нам ничего не остается более делать, как взывать к Богу: верую, Господи! помоги моему неверию. Без молитвенных обращений к Богу или весь измучаешься думами и сомнениями, или дойдешь до того, что ни во что не станешь веровать и ничего не будешь делать для спасения своей души. Да, и в вере моей в Тебя, Господи, необходима мне Твоя помощь, Всеблагий Боже мой!
Так, слушатель благочестивый, не унывай, если найдут на тебя когда минуты или часы неверия, недоумения, сомнения об истинах веры. Это может быть и действительно бывает со всяким верующим. Подобные минуты ослабления в вере бывали и у апостолов Христовых, когда еще Дух Святой не сходил на них. Может ли же в нас не ослабевать наша вера, можем ли мы быть всегда тверды в нашем веровании?.. Не унывай, а обращайся в таком случае скорее к Богу и взывай к Нему: верую, Господи! Помоги моему неверию. Верую, что ни внушал бы мне мой собственный ум против веры. Тебе, Господи, я верю, а не уму моему, когда он умствует против Тебя или не по-Твоему. Аминь.
148. В Неделю четвертую Великого поста
Сей же род изгоняется только молитвою и постом (Мф. 17:21).
Ныне прочитанное Евангелие повествует о том, как Иисус Христос исцелил одного беснующегося, которого не могли исцелить ученики. Когда Иисус Христос со Своими учениками сошел с горы, после Своего Преображения на ней, и пришел к народу, тогда подошел к Нему человек и, став пред Ним на колени, сказал: Господи! Помилуй сына моего; он в новомесячье беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается то в огонь, то в воду. Я приводил его к ученикам Твоим, но они не могли исцелить его.
Иисус Христос велел привести к себе беснующегося и, когда привели, Иисус Христос воспретил ему и бес вышел, и отрок стал здоров – исцелился в тот же час. Ученики после, наедине, спросили Иисуса Христа: почему мы не могли выгнать беса? Иисус Христос отвечал им: сей же род изгоняется только молитвою и постом (см.: Мф.17:14–21).
Есть болезни телесные, от которых без поста и молитвы ничем не избавишься, потому что они соединены бывают с болезнями души. Тело страдает у таковых больных оттого, что душа страдает; немощствует у них тело оттого, что душа немощствует. И при каких болезнях телесных душа не страдает? И какие из них не от нее зависят много? И потому в телесных болезнях пост и молитва хороши, полезны, нужны, а в некоторых необходимы. Облегчая душу, пост и молитва подают облегчение и телу. Сердцу веселящуся лице цветет.
Если же в телесных болезнях пост и молитвы хороши, полезны, нужны, иногда необходимы, то еще полезнее, нужнее, необходимее они в немощах и болезнях души. Без поста и молитвы ни от одной душевной, сердечной болезни не избавишься. Пост и молитва – единственное и самое верное лекарство от всяких таких болезней. Пост здесь разумеется не какой-нибудь чрезвычайный, а обыкновенный, простой: умеренное употребление пищи и питья, воздержание от наслаждений чувственных, от развлечений мирских, от разговоров пустых, словом, такой пост, который бы помогал нам молиться. Да, пост молитве помогает, при посте легче, удобнее возноситься душой к Богу, беседовать с Богом.
Пост молитве помогает, а молитва помогает вере. Легко веруешь в Бога и веришь всему божественному, когда молишься Богу, когда душой возносишься к Нему и умом беседуешь с Ним, когда колена преклоняешь пред Ним и руки простираешь к Нему. При сердечной молитве к Богу невозможно не веровать всем сердцем в Него. А для верующего все возможно. Какая же болезнь не пройдет, не утихнет, когда, молясь Богу, прибегнем к Нему с верою?
Если бы боль сердечная или болезнь телесная, как гора, давили душу и тело твое, то и те пройдут при сердечной и пламенной твоей молитве к Богу.
Итак, пользуйся этими лекарствами от своих болезней: на душе ли когда у тебя тяжело, тело ли твое чем страдает, – наложи на себя пост и примись за молитву.
Став пред Спасителем, говори Ему: «Господи! Душа у меня болит, скорблю я, мучаюсь, страдаю часто от грехов моих; болит у меня и тело, часто ослабеваю я, изнемогаю, страдаю; старался я избавиться от моих недугов, многим пользовался и ничто не помогло. К Тебе я прибегаю, Ты мне помоги!» Так молись о себе. Так же молись и о других, кто бы они ни были: сын или дочь, брат или сестра или другие какие, свои или чужие, за которых ты страдаешь духом, – молись, когда они больны душой, когда они худо, греховно ведут себя, когда в неверии, в разврате, в рассеянии и беспечности живут или когда страдают от каких болезней и недугов телесных. Молись. Нет боли, нет и болезни в нас и в других, в которых бы пост и молитва не помогли нам и тем, за кого мы молимся и постимся. Аминь.
149. В Великий Понедельник
Говорит Иисус смоковнице: да не будет же впредь от тебя плода вовек (см.: Мф.21:19).
Некогда, в нынешний день поутру, Иисус Христос со Своими учениками возвращался из Вифании в Иерусалим. Продолжая Свой путь, Он взалкал и потому, увидев смоковницу, стоящую недалеко от дороги, подошел к ней и, не найдя на ней ничего, кроме листьев, сказал: да не будет никогда на тебе плодов! Смоковница та тотчас засохла (см.: Мф.21:18–19).
Слушатели-христиане! И мы, как смоковница, должны приносить плоды добрых дел. Господь всегда ждет от нас этих плодов, но особенно Он ждет их от нас в нынешние дни.
И когда же особенно нам приносить плоды добрых дел, как не в нынешние дни? Се, ныне время благоприятно, се, ныне дни спасения! Ужели мы, грешники, будем веселиться и тогда, когда плакал о наших грехах Господь Иисус Христос? Ужели мы не будем молиться и бодрствовать и тогда, когда Господь бдел и молился о нас? Ужели мы не будем проливать слез сокрушения и тогда, когда Господь проливал Кровь Свою за нас? Ужели будем щадить наше здоровье и тогда, когда Господь не щадил жизни для нас? Ужели будем пить и есть вкусно в те дни, когда Господь за нас был напояем оцтом, с желчью смешанным?
Ах, слушатели! Если даже в нынешние дни мы не принесем плодов покаяния, то каких плодов ожидать от нас в другое время года? Если мы не станем молиться, поститься и каяться в нынешние дни, когда солнце затмевалось, земля трепетала, камни распадались при виде страдавшего за наши грехи Господа, то какой молитвы, какого поста, какого раскаяния во грехах ожидать от нас в другие дни, когда и солнце светит, и земля цветет, и все радуется?
Так, слушатели, кто в нынешние дни не приносит плодов покаяния, от того и во весь год едва ли можно ожидать их. Чего ожидать от дерева, которое и весной не зеленеет? Нечего доброго ожидать и от того христианина, который и в неделю страстей Господних не молится, не постится, не кается, не хочет вспоминать о грехах, когда все ему напоминает о них. Аминь.
150. В Великий Вторник
Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие (Мф. 26:2).
Чем ближе подходили дни страдания Господа нашего Иисуса Христа, тем яснее говорил Он ученикам, что Ему надобно пострадать, дабы таким образом постепенно приготовить их к Своим страданиям. Приготовим, слушатели, и мы себя к страданиям Господа нашего Иисуса Христа размышлением о них.
При размышлении о страданиях Господа нашего Иисуса Христа часто приходит такая мысль: почему бы Господу не отказаться от страданий? Он волен был идти или не идти на страдания, за Него готовы были вступиться целые легионы Ангелов Божиих. Так, все это правда, слушатели. Но что было бы с нами, если бы Иисус Христос не пошел на страдания? Если бы Он не пострадал, то мы вечно должны были бы страдать. Как бы мы ни жили на земле, нам не миновать бы ада, если бы Иисус Христос не нисходил в ад. А теперь, когда Иисус Христос пострадал, мы свободны от вечных страданий, теперь совершенно от нашей воли зависит – идти по смерти в ад или в рай.
Временные страдания Иисуса Христа заменили наши вечные страдания; то, что мы должны бы вечно терпеть в аду за свои грехи, все Он вытерпел за нас на земле. Представим, что какой-нибудь преступник за свои преступления должен идти в ссылку, на вечную работу. Определение уже подписано; казни, которая могла бы заменить эту ссылку, преступник вынести не в силах, и потому он непременно должен идти, и вот он уже идет. Но вдруг является ходатай, который берется вытерпеть казнь, определенную преступнику, с тем, чтобы преступник был освобожден за то от вечной ссылки; и вот ходатай терпит, и преступнику возвращается свобода. Так или почти так поступил и Иисус Христос. Все люди, как преступники Закона Божия, должны терпеть вечные мучения, но Иисус Христос пострадал за них, и они теперь стали свободны от этих мучений.
Представьте же, слушатели, каковы были страдания Господа нашего Иисуса Христа! Соберите грехи всех людей – тех, которые жили, и тех, которые живут, и тех, которые некогда будут жить, возложите вину и тяжесть всех этих грехов на Иисуса Христа и судите, каковы должны быть Его страдания! Каково было Ему мучиться за грехи всех людей, и мучиться так, что это мучение равнялось вечному мучению? Каково было вытерпеть Иисусу Христу в несколько дней то, что род человеческий должен был терпеть целую вечность?
Но вы спросите: ужели нельзя было без этого обойтись? Ужели Бог не мог сделать так, чтобы и нам не страдать, и Иисусу Христу не страдать? Что нам об этом, слушатели, рассуждать? Бог так сделал, видно, иначе невозможно было сделать. Лучше рассудим о том, как Бог милостив к нам, грешникам, и как строг к нашим грехам. Бог восхотел, чтобы возлюбленный Сын Его пострадал, так можем ли мы не страдать? Правосудие Божие потребовало, чтобы пострадал Святейший из святых, какой же милости могут ожидать грешники? За чужие грехи Иисус Христос столько пострадал, чего же мы должны ожидать, мы сами, которые грешим? Бог в Сыне Своем Единородном не мог пощадить грехов, которые Он принял на Себя, может ли Он пощадить нас за наши собственные грехи?
Итак, вот к чему должны вести нас размышления о страданиях Господа нашего Иисуса Христа, вот какие мысли должны занимать нас особенно в нынешние дни! Христос пострадал за чужие грехи, можем ли мы избегнуть страданий, когда не очистим своих грехов покаянием и не загладим их верой в Иисуса Христа, пострадавшего за нас? Аминь.
151. В Великий Вторник
Вы, слушатели-христиане, вчера слышали чтение Евангелия на Литургии. Помните, как там между прочим Иисус Христос ученикам Своим говорил: Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за Имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга (Мф.24:9–10).
Когда это тогда? Пред разрушением Иерусалима и храма, а потом и пред кончиной мира и преставлением света. Кто будет ненавидим всеми народами? Апостолы Христовы, их преемники, пастыри и учители Церкви и вообще православные христиане. За чье это имя будут ненавидимы? За имя Его, Господа нашего Иисуса Христа. А кто эти, которые будут друг друга предавать, друг друга ненавидеть? Те самые люди, которые возненавидят апостолов и их преемников, сначала их, а потом, после, друг друга.
Так действительно и было пред разрушением Иерусалима и храма. Апостолов и их преемников везде ненавидели, гнали, преследовали, убивали, а потом, после, сами гонители возненавидели друг друга. Так было пред разрушением Иерусалима и храма; так, без сомнения, будет пред кончиной мира и преставлением света. Так, слушатели, и всегда бывает пред большими общественными бедствиями, пред падением царств и народов. Сначала люди возненавидят духовных служителей Божиих, пастырей Церкви, потом, когда от ненависти к духовным распространится в людях безверие, разврат, люди эти возненавидят друг друга, друг друга будут предавать, друг на друга восставать, и вслед за тем наступают общественные бедствия, и общество людей развратных, безбожных падает, царства их разрушаются. Почитайте историю этих бедствий и падений, и вы увидите, что безверие и разврат, эти предвестники общественных бедствий и падения царств, с того именно всегда начинались, то есть с ненависти к духовным, и потому-то враги обществ всегда сначала стараются возбуждать в людях ненависть к пастырям Церкви, служителям Божиим. Без света Божия, во тьме неверия и разврата люди скорее друг друга возненавидят, друг на друга нападут, и затем, само собой, все тотчас расстроится, разрушится, падет… не падет, устоит разве только ради каких избранных, святых или святыни какой.
Итак, слушатели, бойтесь ненавидеть духовных. От ненависти к духовным безверие и разврат в обществе, от неверия и разврата – бедствия общественные. И частные дома падают, беднеют от того же. Растет, цветет дом, богатеет, изобилует всем, но вот члены его начинают хладеть к Церкви, вот они тайно и явно начинают ненавидеть пастырей ее, делом и словом оскорбляют, притесняют их, и вот потом они начинают хладеть и к своим занятиям, и друг к другу. Тогда дому беда неминуемая; и если он не падет тотчас, то не падет тоже разве только ради какой святыни в доме, ради какого-нибудь благочестивого члена дома, ради одного избранного в доме остановится на время падение его неминуемое.
И всякого царства и всякого дома стояние зависит от святого в них семени. Семя свято стояние мира. Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут, утверждает Сам Бог (Мф. 24:35). Аминь.
152. В Великий Четверток
Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу (Ин. 13:14).
Не только Бог, но и мы любим смиренных людей; таково свойство смирения – оно невольно располагает к себе всякого. Смиренных людей любим, слушатели благочестивые, а сами смиряться пред другими не любим; мы думаем, боимся, чтобы смирением не унизить себя, боимся, чтобы не почли нас людьми слабыми, малодушными, когда будем смиряться пред другими.
Так большей частью думаем о смирении мы, так, видно, сначала думали о смирении и апостолы, ибо как же иначе объяснить спор их о первенстве? Иисус Христос знал мысли Своих учеников о смирении, часто и словом, и делом поучал их смирению, наконец, Он благоволил торжественно показать им высоту смирения. Это было на той вечери, на которой установлено Таинство Святой Евхаристии. Иисус Христос со Своими учениками возлежал, вечеря только что началась, ноги у учеников еще не были умыты, как этого требовало обыкновение. И вот Иисус Христос встает со своего места, снимает с Себя верхнюю одежду, берет полотенце и препоясывается им, потом вливает воду в умывальницу и таким образом всем по порядку умывает ноги, отирая полотенцем. Когда же умыл им ноги и надел на Себя одежду Свою, то возлег опять и сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом и правильно говорите, ибо Я точно, Господь и Учитель. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Вот видите: для Меня не унизительно, что Я смирил Себя пред вами; и вы не унизите себя, когда будете смиряться друг пред другом (см.: Ин.13:4–5, 12–15).
И никого смирение не унизит, слушатели благочестивые; оно, напротив, возвышает всякого человека. Да, смирение только представляется нам унижением и слабостью, а в самом деле оно есть обнаружение силы духа и высоты чувствований. Как высокая степень знания есть сознание своего незнания, так и высокая степень нравственного совершенства есть сознание своего несовершенства. Тот много, очень много знал, кто умел сказать: я ничего не знаю. Тот много, очень много имеет совершенств, кто говорит о себе: я ничего не имею. И посмотрим на этих смиренных людей, которые пред всеми себя унижали, посмотрим, кто они были на самом деле.
Смирен был патриарх Авраам, он говорил о себе: я земля и пепел. Но кто этот Авраам? Это – отец верующих, которому между патриархами не было равного. Смирен был царь Давид, он говорил о себе: я червь, а не человек. Но кто этот Давид? Это – Порфироносный пророк, которому между царями не было равного. Смирен был апостол Павел, он писал о себе: я наименьший из апостолов, я недостоин и называться апостолом. Но кто этот Павел? Это – один из первоверховных апостолов, который более всех трудился в деле проповедания. Смиренна была Дева Мария. Она, выслушав от Ангела благовестие о зачатии Сына Божия, говорила: «Величит душа моя Господа и возрадовася дух мой о Бозе, Спасе моем, яко призре на смирение рабы Своея». Но кто эта смиренная Дева Мария? Это – Пресвятая Дева, Матерь Божия, высшая Херувимов и славнейшая Серафимов.
Впрочем, что нам приводить слишком много примеров? Перечислять смиренных – значит перечислять мужей, высоких по духу и святых по жизни. Кончим все одним. Кто этот Христос Иисус, Который всю жизнь до самой смерти непрестанно смирял и уничижал Себя, Который не восхотел трости сокрушенной переломить и льна дымящегося угасить; Кто этот кроткий и смиренный сердцем, умывший ноги Своим ученикам? Высочайшая премудрость, совершеннейшая святость, сияние славы Отчей и образ Ипостаси Его, словом – Бог во плоти.
После сего что же мы должны сказать о тех людях, которые не хотят смириться пред другими, которые любят гордиться собою? Что сказать о них? Это – низкие и ничтожные люди, в них нет истинных достоинств, в них нет ни величия, ни святости. Да, слушатели благочестивые, гордятся только низкие и ничтожные люди. Все тяжелое естественно падает вниз, лежит на земле, а легкое поднимается вверх, летает по воздуху. Так люди великие и святые всегда смиряются пред другими, а низкие и ничтожные ставят себя выше всех. И в самом деле, почему некоторые люди ведут себя гордо? Не имея ничего, они хотят гордостью восполнить недостаток совершенств, надменностью думают заменить слабость своих сил. Почему иной человек, заняв важное место в обществе, делается вдруг неприступным? Он боится, чтобы вблизи не рассмотрели его, кто он таков, он неприступностью хочет скрыть свои недостатки, спесью думает восполнить скудость своих заслуг.
Так-то гордость ослепляет человека; гордые и не видят, как они себя унижают, тем именно унижают, чем думают возвысить. Когда они показывают себя другим, то показывают, как они ничтожны, когда скрывают себя от других, то дают знать, что они слабы. Итак, слушатели благочестивые, если вы увидите человека гордого и неприступного, то не старайтесь много разгадывать, кто он таков; это просто человек без истинных достоинств, в нем нет ни хорошего ума, ни доброго сердца. Правда, и люди с великими достоинствами иногда предаются гордости. Но зато надолго ли они остаются великими при своей гордости?
Начать гордиться – значит начинать падать, мечтание о себе – приготовление к унижению. Рассказывал авва Антоний о себе: «Я видел некогда все сети врага, распростертые по земле, и сказал с глубоким вздохом: увы, кто избежит их? Но услышал голос, ко мне пришедший: «Смирение!» Да, смиренные легко избегают и вражьих сетей, тогда как гордые опутывают себя своими собственными сетями. Бог оставляет гордых самим себе, а смиренных поддерживает Своею благодатию. И потому-то, слушатели благочестивые, когда вы возмечтаете о себе, то бойтесь, чтобы вам в скором времени не посрамиться.
Только при смирении высок и силен человек, а без смирения он слаб и низок. Правда, низкие и слабые люди тоже иногда смиряются, но как они смиряются? Их смирение не лучше гордости. Пред кем смиряются низкие люди? Только пред высшими. Для чего смиряются? Чтобы удобнее возвыситься. В каких слабостях признаются слабые люди? В самых ничтожных, маловажных. Для чего признаются? Чтобы дать знать другим, как маловажны слабости, которым они подвержены. Таким образом, у низких и смирение всегда низко – истинное смирение для них слишком высоко, оно не по их духу. Истинно смиренный потому и смиряется, что он смирен душой, потому и не возносятся его очи, что не надмевается его сердце; у него сердце, как невинное, покорное, простосердечное дитя. Оттого-то истинно смиренными всегда бывают только люди с совершенствами, люди великие и святые, только у таких людей достанет духу говорить о себе: я земля и пепел, я червь, а не человек.
Итак, слушатели благочестивые, смирение вовсе не есть признак слабого и малодушного человека. Вот гордые люди всегда слабы и малодушны, а смиренные всегда велики и святы, смиренная выя есть признак величия духа, а гордое чело – отпечаток малой души. И потому не будем смущаться, хотя бы нам довелось отправлять самую низкую должность раба: низкая служба никогда не унизит высокого человека. Впрочем, смиряя себя пред другими, не будем раболепствовать им, как это делают люди низкие и слабые пред высшими: истинное смирение и в унижении не унижается, и во мраке сияет святостью.
Господи Боже наш, показавый меру смирения в Твоем крайнем снисхождении, облагодати нас в услужении друг другу и вознеси божественным смирением. Аминь.
153. В Великий Пяток
Приидите, последнее целование дадим, братие, умершему…
Последнее ли ныне целование Господу нашему Иисусу Христу? Для Него, без сомнения, не последнее, потому что всегда, до скончания века, пока будет существовать Церковь Его на земле, христиане будут воздавать Ему сие целование, а для нас с тобой, слушатель, может быть и последнее, потому что в настоящем году мы можем умереть и, следовательно, можем не дожить до будущего Великого Пятка.
Слушатель-христианин! При сем, может быть, последнем для нас с тобой целовании нашем Спасителю подумаем о себе, о своем спасении… Иисус Христос вот все сделал для нашего спасения, все, даже и то сделал из любви к нам, больше чего и сделать в жизни нельзя, ничего, – умер ради спасения нашего. Что же мы, со своей стороны, делали для своего спасения? Воспользовались ли тем, что Иисус Христос для нас сделал? Все, сделанное Им для нашего спасения, Он передал Святой Церкви, в которой Сам, как Глава ее, всегда невидимо пребывает и действует. Слушались ли вы этой Церкви? Исполняли ли то, что она признает для спасения нашего необходимым и чего от всякого, желающего спастись, требует непременно?
Или ты думаешь спастись так, как-нибудь? Даже не считаешь нужным много думать о спасении своем? Думаешь, что для спасения не нужно ничего особенного, не нужно сделать никаких пожертвований и уступок другим, никаких ограничений и стеснений себе, не нужно ни пощений, ни молений, ни поклонений, ни очищений, ни освящений, словом, не нужно следовать учению, правилам, уставу Церкви Христовой, а довольно жить и действовать по своему разумению и по своему хотению; жить так, как нравится или как придется, делать то, что сам находишь хорошим, нужным, спасительным для себя?
Но подумай. Если бы мы могли спастись так, сами собой, живя и действуя, как кому вздумается или как кому захочется, ничего особенного для своего спасения не делая и ничем особенным не пользуясь, то почему же Бог так много всего сделал единственно для того, чтобы мы не погибли? Для чего так многократно и так многообразно Он древле чрез пророков говорил людям, наставляя их на путь спасения? Почему, наконец, послал Сына Своего Единородного в мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную? И почему Сын Божий так много должен был сделать для нашего спасения? С Небес сошел, воплотился, три года проповедовал Сам всюду, учеников избирал особенных и посылал их на проповедь, потом страдания разные претерпел, умер на кресте, погребен был, воскрес из гроба, вознесся на Небо, послал Духа Святого от Отца на учеников Своих, создал особенную Церковь, установил особенные Таинства, учредил особенных пастырей Церкви – и все это единственно ради нашего спасения.
Для чего же было бы Богу нашему все это делать для нас, если бы мы могли спастись так, как ты думаешь и как ты живешь, то есть не думая много о своем спасении, ничего особенного для того не делая и ничем особенным не пользуясь?.. Обрати внимание на эту Плащаницу, где Иисус Христос изображен лежащим вскоре после того, как Его умершего сняли со креста, посмотри: из ребра у Него кровь, из ног и рук – кровь, голова – в крови. Очевидно, умер Он смертью мученической, мучительной, хотя и волею пострадал за нас. Для чего же Ему, Иисусу Христу, Сыну Божию, ради нашего спасения умирать такой смертью, если нам можно спастись самим, без всяких посторонних пособий и без особенных наших усилий?
Ах, подумай! Дело идет не о том только, что есть и было, но и о том, что будет с тобою!.. Или ты, чтобы избавить себя от страха за будущую свою участь, готов во всем сомневаться, готов ничему не верить – ни тому, что было, ни тому, что будет? Но подумай! В чем ты сомневаешься, чему ты не веришь? Тому ведь, от чего зависит участь твоя вечная. Мы умрем… а ведь этого уже отвергать нельзя, хотя и в этом мы иногда готовы, рады бы усомниться. Чего так не хочется, тому неохотно верится. Мы умрем… И что если по смерти будем жалеть и скорбеть о том, что здесь ничему не верили и потому ничего не сделали для своего спасения и ничем не воспользовались из того, что сделал для нас Спаситель?..
Здесь иногда день, час тяжело бывает жалеть, скорбеть, когда не сделаешь чего-нибудь должного, нужного или сделаешь что-нибудь худое, нехорошее или даже скажешь что-нибудь обидное кому-нибудь, особенно лицу важному, нужному. Но что если по смерти будем жалеть и скорбеть всю вечность о том, что не подумали, не позаботились о своем спасении, ничего не сделали, ничем не воспользовались для своего спасения?..
Подумай об этом и о том, что сделал для нашего спасения Иисус Христос. Подумай, порассуди, попомни, чтобы тебе не согрешить вовеки, чтобы не раскаиваться вечно. А теперь приложимся нашими грешными устами к пречистым Его язвам. Язвами Его грешники исцеляются. Авось, и мы с тобой исцелимся… Да, мы с тобой больны, больны неверием, сомнением и другими недугами душевными, больны от рождения и испорчены – худым воспитанием, примерами худых людей, чтением худых книг и главное – злыми своими страстями испорчены.
О, не дай, Господи, чтобы нынешнее наше целование Тебе было последним для нас в этой жизни. А если последнее… тогда поспеши на помощь к нам Своей благодатью и милостью. Аминь.
154. В Великий Пяток, пред Плащаницей
Уста мои молчат, язык не глаголет, но сердце вещает.
Молчат уста Спасителя нашего, не глаголет язык, но вещает сердце. Что же оно вещает? Послушай, грешник! К тебе оно вещает. Послушай, что вещает тебе из гроба твой Спаситель.
«Видишь ли, как Я люблю тебя? Я мертв лежу; для тебя, для твоего спасения Я умер. Ты боишься слишком, думаешь, что тебе уж невозможно спастись, ты иногда совсем отчаиваешься в своем спасении. Я наперед знал это, знал, еще когда не родился ты; знал, что ты много будешь бояться за свое спасение, будешь иногда отчаиваться в своем спасении. Все грешники таковы. Когда грешат, ничего не боятся, ни о чем не думают, а когда согрешат, тотчас начинают всего бояться – думают, что они уже погибли, что им нет спасения, не будет им прощения.
Знал Я это наперед о тебе, грешник, а потому заранее умер, когда ты не только не согрешил, но еще не родился. Умер, чтобы Своей смертью уверить, успокоить тебя, чтобы ты не боялся за свое спасение, чтобы ты не отчаивался в своем спасении. Да, за тех, которые думают, что им спастись невозможно, умер Я. Я бы не стал умирать за тебя, если бы знал, что ты не станешь отчаиваться в своем спасении. Твое отчаяние в спасении заставило Меня умереть за тебя. Видишь ли, как Я люблю тебя! Тяжело мне было идти на страдание. Ты слышал, как Я тужил, скорбел, почти до уныния доходил в саду Гефсиманском. Что же меня заставило идти?
Мысль о тебе, грешник, желание спасти тебя. Когда среди душевных моих скорбей Я вспомнил о тебе, вспомнил, что Мои страдания необходимы для вечного твоего спасения, что без Моей смерти тебе невозможно успокоиться от грехов, что если Я не пойду страдать, то ты вечно должен будешь мучиться, терпеть страдания за твои грехи, – лишь только это Я вспомнил, тотчас пошел, охотно пошел пострадать за тебя, исполнить волю Отца Моего. Видишь, как Я люблю тебя.
Тяжело мне было после, когда стали судить Меня. Во всем Меня винили, хотя Я ни в чем не виноват, за все Меня били: молчал Я – Меня били, говорил Я – били; и били, и плевали, и заушали, и издевались, и смеялись; наконец, со злодеями Меня наравне поставили, с разбойниками распяли. Тяжело Мне было висеть на кресте; голова Моя была в колючем терновом венце, руки и ноги прибиты гвоздями, Я страшно страдал – и ни в ком не встречал сострадания; знаемые Мои стояли издали и не смели подойти ко Мне. Мне так было тяжело тогда, что Я не мог удержаться, чтобы не вздохнуть, чтобы не воззвать громко к Отцу Моему: Боже мой, Боже мой! для чего Ты Меня оставил? (Мф. 27:46).
Что же Меня заставило переносить такие страдания? Что же Меня заставило терпеть эти муки, эти оплевания, и заушения, и биения, и крест, и смерть? Все эта же мысль, это же желание – мысль о тебе, грешник, желание спасти тебя от грехов. Пострадаю, потерплю, помучусь – Я так думал среди страданий, – зато грешники, люди Мои, не будут страдать, терпеть, мучиться. Да, желание Мое спасти тебя, грешник, так воодушевляло Меня, когда Я страдал, что Я жаждал еще больших страданий, лишь бы только избавить тебя от страданий.
Видишь, как Я люблю тебя, грешник? Больше Моего никто тебя не любит, Я душу Мою положил за тебя. Я так любил тебя, так страдал за твое спасение, когда еще не родился ты, когда еще не согрешил ты, когда еще не просил о своем спасении и помиловании. Ужели же Я не спасу тебя теперь, когда вижу, что ты погибаешь? Ужели не спасу, когда слышу, что ты молишься о своем спасении, ужели не помилую, когда ты просишь себе помилования? Ужели не спасу, не помилую тебя, когда Я Сам, без твоего призвания вызвался спасти и помиловать Тебя? Ради Меня, ради Моей любви к тебе, ради Моих страданий за твое спокойствие и спасение не отчаивайся в своем спасении. Не бойся просить прощения, никогда не бойся, как бы ни были велики грехи твои. Я спасу тебя и помилую».
Вот, слушатели-христиане, с какой целью ныне Святая Церковь торжественно, со всеми подробностями воспоминает страдания Господа нашего Иисуса Христа: чтобы успокоить, уверить нас, грешников, что Иисус Христос спасет и помилует нас, несмотря ни на какие наши грехи. Аминь.
155. В Великую Субботу
Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе… востану бо.
И в нас, слушатели, в душе нашей Иисус Христос иногда как будто умирает, то есть мы иногда как будто мало веруем в Иисуса Христа, мало надеемся на Него, мало любим Его. Даже иногда думается нам, что в нас как будто и вовсе нет веры в Него, нет надежды на Него, нет любви к Нему; а ведь это все равно, что Иисус Христос как будто мертв в нас. И как больно нам тогда бывает, как тяжело, мучительно!.. От всей души хотелось бы веровать, надеяться, любить и – нет… Сокрушаешься, скорбишь, и все – нет.
Что делать в таком случае? То и делать, что делаем: скорбеть, сокрушаться, мысленно обращаться к Иисусу Христу. То же ведь делали и ученики Его, когда Он мертв лежал во гробе: скорбели, сокрушались, беседуя о Нем между собой и припоминая, может быть, слова Его, которые Он говорил им незадолго до Своей смерти: вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет… Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше (Ин.16:20–22).
То же делала тогда и Пречистая Матерь Его и, без сомнения, больше всех скорбела, сокрушалась и плакала, взывая к Нему: увы Мне, Чадо Мое! Увы Мне, Свете Мой… Потому-то Господь, как воспевает Церковь, и утешал Ее, говоря: Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе… востану бо. Так, слушатель благочестивый, сокрушайся, скорби, когда чувствуешь, что у тебя мало веры в Иисуса Христа, мало надежды на Него, мало любви к Нему, когда ты как будто весь холоден к Нему.
Нельзя тебе без этого быть, пока не придешь в мужа совершенна. Только, сокрушаясь о своей холодности к Иисусу Христу, не отчаивайся, не унывай, не переставай мысленно обращаться к Нему, и Он, рано ли, поздно ли, хотя и не гласно, но слышно для души твоей, скажет тебе: не рыдай Мене… востану бо. И тогда ты, может быть, еще больше заплачешь, зарыдаешь, может быть, но уже не от скорби, а от радости. От радости, что Иисус Христос воистину в тебе воскрес, восстал, ожил, что ты веруешь в Него, надеешься на Него, любишь Его.
Печаль наша о Господе – всегда пред радостью о Нем, как печальная Великая Суббота – всегда пред радостным днем Воскресения Христова. Аминь.
156. В Великую Субботу
Все приготовляются к празднику наступающему, все одним заняты – как бы получше отпраздновать Светлое Христово Воскресение. Чтобы помочь несколько вашему приготовлению, я скажу в кратких словах главное, как надобно нам, христианам, праздновать Светлое Христово Воскресение.
Как же праздновать? Празднуйте, слушатели, как можно веселее, радуйтесь, слушатели, как можно больше. Это главное: как можно больше радуйтесь, как можно веселее празднуйте. Воскресение Христово принесло нам такую радость, что мы никогда не исчерпаем всей, сколько бы ни радовались, в Иисусе Христе столько для нас утешения, что мы вовек не можем досыта нарадоваться на Него. Посмотрите на матерь нашу – Святую Православную Церковь, завтра посмотрите, как она веселится и радуется. Она, можно сказать, вся радость, вся – веселье, она как будто вся с нами на Небе, а не на земле, вся торжествует, а не воинствует.
Послушайте, что сказал Иисус Христос Марии Магдалине и другой Марии, приходившим к Его гробу. Сказал: радуйтесь. Конечно, Он знал, кому говорил, знал, что эти жены поймут, как радоваться, знал, что не забудут Его среди своей радости.
Но и я знаю, кому говорю: говорю христианам, которые понимают, что грешно среди радости забывать своего Христа – Источник радости.
Итак, еще скажу вам, слушатели: будьте в светлый Христов праздник как можно веселее, радуйтесь как можно больше Светлому Христову Воскресению. С мрачным лицом, со злобой в сердце, с лукавством на языке неприлично, грешно праздновать Пасху нам, православным христианам, ибо Пасха наша – за нас закланный Иисус Христос – есть веселие вечное.
Господь Иисус Христос да благословит вас весело и радостно праздновать праздник и Сам да сохранит вас среди веселия и радостей от всякого порока и лукавства. Аминь.
Часть девятая. Поучения на разные случаи
157. По освящении храма
Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени Моему там вовеки; и будут очи Мои и сердце Мое там во все дни (3Цар. 9:3).
Слушатели-христиане! Вся сила освящения храма зависит от благодати Божией, и все достоинство освященного храма состоит в благодати Божией: храм освящается благодатью и для благодати.
Итак, в новоосвященном храме, пред лицом святителя, освятившего благодатью Божией храм сей, не неприлично будет побеседовать о том, каким образом мы можем всегда пользоваться благодатию, в храмах Божиих обитающей.
Благодать Божия имеет некоторое сходство с воздухом. Что в мире видимом воздух, то в мире невидимом благодать Божия. И Иисус Христос, беседуя с Никодимом о благодатном возрождении, для объяснения сей тайны благодати указал ему на воздух. Итак, благодать Божия имеет некоторое сходство с воздухом. А воздухом как мы пользуемся? Какие для сего употребляем усилия, какие делаем напряжения? Никаких; просто мы не удерживаем дыхания, и он входит в нас; мы не препятствуем ему, и он оживляет нас; мы пользуемся им – дышим, и он пользует нас. Подобным образом мы можем пользоваться и благодатью Божией, в храме Божием обитающей.
Надобно стоять в простоте веры, без пытливых усилий и напряжений смотреть, что в храме Божием совершается; слушать, что поется и читается; надобно участвовать в молитвах и священнодействиях – и мы будем участниками благодати Божией, и она будет действовать на нас, и она будет оживлять нас. Кто дышит, тот непременно вдыхает в себя воздух; кто стоит в храме Божием, тот непременно получает благодать Божию. Храм Божий преисполнен благодати Божией, здесь все дышит благодатию, здесь и от воды льется благодать, здесь и свет светит благодатию, здесь и елей подает благодать, здесь и фимиам благоухает благодатию, сам воздух дышит здесь благодатию. О, здесь рай благодатный, здесь Небо, сошедшее на землю.
Да, храм Божий весь преисполнен благодати Божией; он не был бы Божиим храмом, если бы не был исполнен Божией благодати; благодать – неотъемлемая его внутренняя принадлежность, благодатью собственно он и отличается от храмов иноверных. С виду и поддельные цветы могут походить на натуральные, но от поддельных нет благоухания, благоухают только цветы натуральные. Так, по внешности и иноверные храмы могут иметь много похожего на истинные храмы, но в них нет Божией благодати – благодать Божия действует только в истинных храмах.
Так, благодать Божия есть неотъемлемая принадлежность храма Божия; в мире видимом есть непременно воздух, в храме Божием есть непременно благодать Божия. И потому так веруй в благодать Божию и с такой уверенностью в благодатное действие стой в храме Божием, как ты уверен в действии на тебя воздуха, когда дышишь воздухом. Таким образом, можно сказать, в храме Божием невозможно не исполняться благодати Божией, разве только сами будем удалять ее от себя, сами будем препятствовать ее действию на нас.
Да, слушатели благочестивые, мы можем удалять от себя благодать Божию, мы можем препятствовать ее действию на нас. И именно мы удаляем благодать Божию от себя, когда удаляемся мыслями нашими, нашей душой от того, что здесь совершается, поется, читается; мы препятствуем действию ее на нас, когда здесь ничего не слушаем, ни на что не смотрим, а думаем о суетном, греховном или, как ветром, волнуемся пытливыми недоумениями и недоверчивыми взглядами. Мы не исполняемся благодати Божией, когда не для благодати Божией приходим в храм Божий, не для благодати Божией стоим, не о благодати Божией думаем.
Если хочешь, чтобы благодать Божия, в храме Божием обитающая, действовала на тебя, то не препятствуй ее действию на тебя, удаляй от себя все стороннее, греховное, оставляй все мирское, житейское, самые благочестивые мысли лучше оставляй, если они отвлекают тебя от священнодействия, самые молитвенные воздыхания лучше удерживай в себе, если они не сообразны с молитвами церковными. В церкви именно так надобно молиться, как молится Церковь, о том именно думать, что она делает. Чрез сие-то священнодействие и действует на нас благодать Божия, в сих-то молитвах и заключается спасительная сила.
Дети во всем подражают своей матери – у нее перенимают и слова, и выражение лица, и поступь. Так и ты веди себя в храме Божием: будь послушным сыном матери – Церкви своей, во всем подражай ей, во всем смотри на нее, принимай участие во всех ее молитвах и действиях, дели с ней все мысли и чувствования – и ты будешь участником в благодати Божией, и тогда в тебе будет действовать спасительная сила Божия.
Итак, вот как близка к нам благодать Божия, в храме Божием обитающая; только смотреть надобно на все с благоговейной простотой, только вникать надобно во все со спокойным вниманием – и она, подобно солнечному свету среди дня, будет освещать нашу душу и, подобно благоуханию в прекрасном саду, будет услаждать наше сердце.
Благословен Бог, приближающийся к нам Своею благодатию, благословен Бог, дивный во святилище Своем; буди имя Твое, Господи, благословенно от ныне и до века. Аминь.
158. По освящении храма в Рыбинске
Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа.
Что мы чтим, любим Бога, на это много у нас доказательств, слушатели. Сколько у нас храмов Божиих построено! Вот еще храм новый ныне освящен. И как храмы Божии у нас украшены! Вот и настоящий тоже не без украшения. А сколько молящихся у нас в храмах Божиих бывает! Вот и сей ныне храм полон.
Так, любви нашей к Богу доказательств у нас много. А что мы друг друга любим, на это у нас доказательств очень мало. Ах, слушатели, где только соберутся двое или трое из нас, мы тотчас и покажем, что между нами нет любви. Да, мало любви между нами; друг ко другу мы и не снисходительны, друг другу мы и завидуем, друг перед другом мы и превозносимся, гордимся, друг на друга мы и гневаемся, сердимся, и зло мы помним, и неправде радуемся, а истине не радуемся, и себя только одних знаем, о своих только выгодах заботимся, и друг друга укоряем, друг другу не верим, друг от друга обид не переносим, друг другу не уступаем.
И не исчислишь всех случаев, в которых мы показываем, что между нами любви взаимной нет или очень мало.
Как же это так? Отчего же у нас мало доказательств любви нашей друг ко другу, тогда как есть много у нас доказательств любви нашей к Богу? Оттого, слушатели, что любовь наша к Богу большей частью любовь не истинная, а наружная только она у нас, не искренняя, не от чистого сердца. Какая же это, например, любовь, когда мы приносим Богу жертвы и делаем ради Него пожертвования, а не задумаемся у ближнего отнять последний кусок хлеба? Какая это любовь, когда мы строим и украшаем Божии храмы, а ближнего и, пожалуй, родного готовы бываем по миру пустить?
Какая это любовь, когда мы чтим Бога и служим Ему постом и молитвой, бдением и стоянием, а так себя ведем, так поступаем в отношении к другим, что те нас как рабы боятся, трепещут? И вообще мы делаем дела Божии и благоугодные, а в душе таим злость и явное оказываем презрение к ближним. Нет, это не любовь, а разве себялюбие, славолюбие, лицемерие или… что бы то ни было, только не любовь. От любви, как от солнца, всем тепло, светло и никому не страшно, не холодно.
Так, слушатели, возлюбим друг друга, то есть надо показать на деле, что мы друг друга любим, и тогда докажем, что истинно Бога любим. Примириться друг с другом надобно – и тогда Богу приятный дар принесем. Наша любовь взаимная лучше пред Богом всяких наших пощений и молений, бдений и стояний, жертв и пожертвований. Без любви же взаимной, верьте, никакими построениями и украшениями, никакими жертвами и пожертвованиями, никакими бдениями и стояниями, никакими пощениями и молениями не угодим Богу. И не только жизнью богоугодной, но и подвижнической смертью за Иисуса Христа Богу не угодим, если при этом не будет у нас любви к ближним. И если я раздам все имение мое и если я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы (1Кор. 13:3).
Так постараемся друг друга любить, постараемся всегда показывать и доказывать, что друг друга любим; будем всегда друг ко другу снисходительнее, милостивее, ласковее, внимательнее, доверчивее, друг о друге заботливее, сострадательнее, словом – постараемся, чтобы у нас всех и между нами всеми все было по любви и из любви, чтобы, таким образом, Христос был всегда посреди нас, да при Нем единомыслием исповемы Его со Отцем и Святым Духом. Аминь.
159. По случаю освящения нового иконостаса
Если бы в Бозе почившие создатели и благотворители храма сего могли видеть, что у нас здесь делается, то как бы порадовались на вновь устроенный здесь благолепный иконостас! Но видят ли они? Да, слушатели, видят ли, могут ли умершие видеть, что у нас, слушатели, делается, что с нами бывает?
Что теперь такое умершие? Они стали теперь существа невидимые, как Ангелы; они существуют душой, с ними их ум, сердце, воля, все духовное их с ними, но телесного, видимого для наших очей телесных, не имеют ничего. И потому нам невозможно телесными очами видеть их, видеть, что они теперь такое и что с ними там. Нам видеть их невозможно, и их состояние таково, что невозможно им видеть нас, видеть, что у нас делается, что с нами бывает, потому что нет у них тех органов, которыми могли бы видеть видимое, телесное. Являлись иногда души умерших видимо, в виде, похожем на тот, в каком они жили; например, души святых видимо являлись. Бывало даже, что многие в своем действительном теле являлись; например, при Воскресении Иисуса Христа многие из святых умерших воскресли и являлись многим, но то было и бывает ненадолго, на время и по особенному Божию изволению.
Впрочем, умершим там и не до того, чтобы смотреть, что у нас происходит, делается, потому что они непрестанно заняты. Чем заняты? Кто к чему привык в этой жизни, кто здесь что возлюбил, тот тем и там занят. Привычка души со смертью человека не умирает.
Итак, кто привык Богу служить, молиться, о Боге радоваться, Бога славить, во славу Божию все делать, тот и там тем же занимается, Бога славит, о Боге радуется. А кто здесь о Боге не помнил, Бога не славил, во славу Божию ничего не делал и ничего святого не любил, тот, без сомнения, и там этим не занимается – Бога не славит, о Боге не радуется. Что же подобные умершие делают? Ах, худо им там. Что делает тот, кому есть хочется, а есть нечего? Мучится. Что делает тот, кому пить хочется, а пить нечего? Мучится. Но мы и представить себе не можем тех мучений, какие терпят души тех умерших, которые здесь не находили радости в прославлении Бога, а искали ее в занятиях греховных. О, привыкай к Богу, к божественному и бойся привыкать к греховному. Привычка души со смертью человека не умирает.
Вот потому-то, слушатели, счастливы, блаженны и умершие в младенчестве, в детстве, вообще в невинном возрасте. Они ни к чему худому здесь не приучились, не приучились они и к святому, доброму, но, как птичка, вырвавшись из клетки, тотчас начинает петь свою любимую песнь, так души детей и всех детски невинных, освободившись от тел, тотчас начинают петь и радоваться о Боге.
Где теперь души умерших? Как существа невидимые, они в мире невидимом, только не в одном месте все. По слову Божию, в невидимом беспредельном мире два места. Одно, где Бога славят, о Боге радуются, место светлое, спокойное, Небо, рай, жилище Ангелов добрых. Другое, где нет славословий Богу, нет радостей Божиих, место темное, страшное, ад, жилище духов злых. Теперь понятно, кто из умерших где. Те умершие, которые Бога славят, Богу служат и которые посему все веселятся, радуются, те, значит, на Небе, в раю, с Ангелами, где, впрочем, много всяких светлых мест, и светлых, и светлейших, и пресветлейших. А потому и в раю радуются не все одинаково, хотя во всех там местах ни у кого не видно и малейшей печали, ни от кого не слышно и минутного воздыхания и во веки веков ничего там не будет, кроме радости непрестанной и веселия неумолкающего.
А те умершие, которые Бога не славят и славить Его не хотят, которые о Боге не радуются и радоваться о Нем не любят и которые посему все мучатся, страдают, те, значит, в аду, в преисподней, со злыми духами, где, впрочем, тоже много всяких мрачных мест, и мрачных, и страшно мрачных, и ужасно мрачных, а потому и в аду не все одинаковые терпят мучения, хотя во всех местах его только и слышны непрестанно печаль и воздыхание, плач и скрежет зубов, и во веки веков все и будут там слышаться печаль и воздыхание, плач и скрежет зубов, и во веки веков…
О, премилосердный Господи, будь милостив и к этим умершим, которые в местах мрачных, страшных, ужасных, имиже веси судьбами, будь и к ним милостив.*
Итак, ужели души умерших ничего о нас и нашего не знают? Вот эту нашу молитву, которую мы сейчас произнесли, они могут знать по-своему, то есть чувствовать. Да, сердечной нашей молитвой о умерших, сочувствием нашим к ним мы подаем их сердцу весть, даем им знать, чувствовать. Так, души умерших знают, то есть чувствуют, что мы их поминаем, о них молимся. Чувствуют это души усопших святых, благочестивых, Богом помилованных, а потому и сами о нас молятся, просят у Бога нам благодати и милости; чувствуют и не святые умершие, когда, любя их, мы молимся о них или милостыню за них подаем, или другое какое добро делаем.
Умершие чувствуют это, что их поминают здесь. Как же это? А так, что когда, например, мы от души говорим: упокой, Господи, души усопших раб Твоих, в это время они там покой в себе чувствуют, спокойнее становятся. И потому-то счастливы, блаженны души умерших, Святой Церковью поминаемых. Святая Церковь Православная ежеминутно о упокоении умерших молится и до конца века молиться будет; таким образом, поминаемые ею умершие минута от минуты будут все спокойнее и спокойнее.
Итак, рабы Божии, устроившие и украсившие храм сей, и не видя нас и что у нас, знают, чувствуют, что их здесь поминают. Да, счастливы благотворители и создатели Божия храма, блаженны; Святая Церковь до скончания века будет молиться о их вечном покое. Аминь.
160. В присутствии Его Императорского Высочества Всероссийского Престола Наследника Цесаревича Великого Князя Николая Александровича в Рыбинском соборе 23 июля 1863 года
И се весь град изыде в сретение…
Давно не бывало в нашем городе такой радости, многие из нас за всю жизнь свою подобной не видали: и се весь град изыде в сретение, именно весь, весь и вчера, весь и ныне на ногах, чтобы увидеть, посмотреть, насмотреться на первородного сына возлюбленного нашего монарха. Да, Россия любит своего царя.
Что, впрочем, эта встреча наша? Это только искорка, искорка от той пламенной любви, которая всегда горит в сердцах русских к своему царю.
Не считаю нужным много и распространяться об этом. Кто же этого не знает? Весь свет знает, слышит, как любят русские своего царя. Обратим внимание на другое, вот на что, слушатели обрадованные, обратим мы наше внимание: кто учит нас, русских, так любить своего царя? Кто внушает нам такую любовь к нему, кто? Кто же, как не Церковь Православная, верная наша наставница всему, святая наша руководительница во всем? Да, она, никто другой. Ведь у нас, православных, нет почти моления, при котором бы не молились о царе. Дня, ночи, часа церковного не проходит у нас без того, чтобы мы не молились о царе. У нас младенец, только что родившийся, и тот слышит уже молитву Церкви о царе. Таким образом, русские, можно сказать, родятся с любовью к царю, любовь эта у нас – чувство, как бы врожденное нам. И не переродятся в России Минины и Пожарские, доколе сыны ее пребудут сынами Церкви Православной. Так, она, не другой кто, она, Божественная, благодатная, она учит так любить царя, как мы его любим.
Теперь дерзну со словом моим обратиться к Тебе, благоверный Государь! О, люби Церковь Православную. Мы и видим, что ты ее любишь, видим и не нарадуемся. В другое время Тебе кричим мы от радости, а видя Тебя, молящегося в церкви, мы от радости плачем. Да, Церковь Православная достойна любви. Любя ее, будешь в любви у Бога и человеков. Если в ком из нас есть что доброго и святого, всему этому Церковь его научила, доброму и святому она только и учит нас всех.
Христе Иисусе, Сыне Божий! Возглаголи благая о Церкви Твоей в сердце первородного сына возлюбленного нашего монарха. Аминь.
161. К новым прихожанам
Благое начало! Я пришел к вам с радостью, вы встречаете меня с любовью. Да, я душевно рад, что у вас, вижу, и вы мне не не рады. Благое начало! Как хорошо, если бы и вперед мы были так друг к другу расположены, как теперь, вначале; как хорошо, если бы я всегда о вас радовался и вы всегда меня встречали с радостью! О, тогда и Бог с высоты Престола Своего взирал бы на нас радостно.
Но я боюсь, боюсь за вас и за себя, боюсь, как бы теперешнее наше взаимное расположение со временем между нами не охладело, не изменилось. Ведь нередко бывает, что иные сначала друг друга любят, а после, как познакомятся поближе, хладеют друг к другу. И потому я боюсь, что не произошло бы того же и с нами. Я боюсь при этом случае исконного врага нашего спасения, диавола. Этот дух злобы, как скоро увидит где людей, расположенных друг к другу, тотчас начинает всячески стараться поселить между ними вражду. Он всегда любит возмущать людей несогласиями, чтобы тем удобнее ему было уловлять их в свои сети; особенно же этот лукавый дух всячески старается поселить вражду между пастырем и пасомыми. Для его злого сердца торжество, когда словесные овцы не любят своего пастыря, ибо тогда они – верная его добыча, тогда ему всего удобнее расхищать их.
Представляя это теперь, я боюсь за себя и за вас и потому заблаговременно хочу сказать вам, что мы должны делать, чтобы теперешнее наше взаимное расположение с течением времени нимало не изменилось, не ослабевало, а более и более возрастало, утверждалось, укреплялось. Вот что мы должны для сего делать: мы должны друг о друге молиться Богу. Если мы будем друг о друге молиться, то наше взаимное расположение навсегда останется неизменно; тогда чем ближе мы будем знакомиться, тем больше будем расположены друг к другу. Тогда и дух злобы не сможет поселить между нами вражды: молитвами, как стрелами, мы отразим всякое его нападение. Да, ничто так не укрепляет взаимного расположения между людьми, как взаимная молитва: того непременно полюбишь, чье имя часто поминаешь в своих молитвах. Самые злейшие враги сделались бы друзьями, если бы они стали молиться друг о друге. Без взаимной же молитвы нельзя надеяться на взаимное расположение, ибо тогда лукавому легко будет возмущать нас несогласиями. Лукавый силен бывает над нами, когда в нас слабеет дух взаимной молитвы; он и между братьями поселяет несогласия, он и детей отделяет от родителей, он и мужа ссорит с женой, когда они перестают друг о друге молиться. Итак, если взаимное наше расположение со временем станет ослабевать, то это будет явным признаком, что мы не молимся друг о друге.
И как же нам теперь не молиться друг о друге, вам обо мне, мне о вас! Бог сроднил меня с вами; во всем мире теперь нет людей, которые бы по духу были так близки мне, как близки вы. Вы теперь для моего духа все – и предмет забот, и источник утешений; вашим спасением и я спасаюсь, ваша погибель и мне грозит гибелью. Так вы близки мне, так я неразделен с вами! О, я не забуду, никогда не забуду моей священной обязанности – молиться о вас; молитесь же и вы обо мне, не забывайте и вы сего вашего необходимого долга.
Итак, вот вам первое мое слово. Будем жить между собой мирно, а для сего будем друг о друге молиться Богу; взаимно молящиеся бывают соединены и взаимной любовью.
Да будет же Бог мира и любви между нами всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
162. По случаю благодарственного Господу молебствия о прекращении в Рыбинске холеры в 1848 году
Тебе по всей вселенней исповедует Святая Церковь.
Страшное было у нас нынешнее лето! В продолжение почти четырех месяцев всякий из нас должен был непрестанно бояться, чтобы не умереть от эпидемической болезни, потому что от нее всякие заболевали: и старые и молодые, и слабые и сильные, и из заболевавших редкие не умирали. Ужасное было у нас нынешнее лето! Город наш был больницей, и пристань рыбинская была пристанищем больных из разных мест России.
А помните ли, слушатели, куда мы тогда убегали от страха и боязни? Конечно, помните – в церковь Божию. И как мы были здесь спокойны! Здесь мы и умирать не боялись, здесь мы и думать забывали, что у нас болезнь в городе, здесь мы и на мертвых смотрели спокойно, потому что смотрели на них, как на живых. В храме Бога Живаго все живо – и умершие живы, и отсутствующие присущи здесь; здесь все те во Христе с нами, о ком мы молимся, кого мы поминаем. И потому здесь мы ни за себя, ни за других не боялись. Здесь ведь мы все под особенной защитой и покровительством Бога Всемогущего, потому что в Его доме.
Помните ли, кто тогда везде являлся с утешением к больным, с напутствием к умирающим? Конечно, и это помните: Святая Церковь Православная в лице своих служителей. И сколько отрады всем доставляли ее божественные утешения! Больные забывали свои нестерпимые боли, умирающие спокойно смотрели при этих утешениях на смерть свою неизбежную. «Как я рад, что ты пришел, что ты поспешил ко мне! Сам Господь послал тебя ко мне! О, я никогда не забуду тебя! Я вечно буду молиться о тебе!» Так нередко радовались больные, к которым приходили с напутствием служители Церкви; так нередко мы имели радость слышать и видеть, как напутствуемые нами отходили в вечность с молитвой и о нас, недостойных служителях Церкви!
Помните ли, кто со всей готовностью прибегал тогда к больным, от которых и близкие с боязнью убегали? Помните ли, кто с материнской любовью лицом к лицу беседовал со страждущими, на которых другие без страха и издали взглянуть не смели? Не подумайте, что, напоминая вам об этом, я хочу похвалиться пред вами деятельностью и неустрашимостью нашей. Ведь это не мы сами делали, а наша Святая Церковь действовала в нас и через нас; она нас к больным посылала, она нас и воодушевляла, подкрепляла, хранила, спасала. Если бы не она, мы, кажется, первые от страха убежали бы куда-нибудь или умерли бы от трудов непрестанных. Ведь мы, в собственном смысле, ни днем ни ночью не знали покоя от треб непрерывных, особенно в первые два месяца. Да, мы теперь сами дивимся, как у нас доставало тогда сил и духу являться ко всем больным, во всякое время и во всяком месте, – дивимся и благословляем Святую Церковь, благословлявшую и укреплявшую, посылавшую и хранившую нас. По чувству любви к жизни мы тоже боялись, как бы не умереть от болезни, но по духу нашей Церкви мы еще больше боялись, как бы кто из больных не умер без святого напутствия; и страх собственной смерти проходил у нас сам собой от боязни нашей за спасение других.
Теперь болезнь прошла, мы остались живы. Кто же с нами радуется, кто благодарит Бога с нами за сохранение нас от смерти, кто на всю вселенную исповедует Его, Благодетеля нашего? Все она же, матерь наша Святая Церковь, непрестанно молившаяся о прекращении болезни.
Такова истинная Церковь: в нужде всякому помогает, за всякого молится; в радости со всеми радуется, всех благодарит. Она всегда любвеобильна, как любвеобилен ее Бог. Она не была бы преисполнена благодати, если бы не преизобиловала любовью. Да, в той церкви нет благодати Божией, которая не имеет любви ко всем. Где нет огня любви христианской, там нет и теплоты Духа Святого.
Не забывайте же, слушатели, чем была для всех в нынешнее лето наша Святая Церковь, и помните, что она, как Церковь благодатная, всегда о том только и заботится, как бы всякого утешить, успокоить, спасти, обрадовать. И действительно утешает и успокаивает, спасает и радует всякого приходящего и обращающегося к ней, ибо таково свойство и такова сила благодати Христовой, всегда в ней пребывающей.
163. При выборах в общественные должности
Господа, Бога твоего, убойся и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись (Втор. 6:13).
Почтенные граждане города Рыбинска!
К вам слово мое. Вы теперь, вероятно, в недоумении, не знаете определенно, кого выбрать в общественные должности. По крайней мере, в недоумении те из вас, которые искренно заботятся об общем благе, которые сердечно желают городу Рыбинску добрых людей для исправления общественных должностей.
Что надобно делать при таком недоумении, что надо делать, когда определенно не знаешь, на что надо решиться? Вы то именно и сделали, что надобно всегда делать в подобных случаях: вы пришли в храм Божий испросить у Господа Бога благословения на предлежащий выбор, пришли помолиться, чтобы Господь Бог вразумил вас, кого вам выбрать. И при всяких других недоумениях, сомнениях и опасениях всего лучше, вернее и безопаснее обращаться к Богу с молитвой, Бога спрашивать, Бога просить: «Господи! Вразуми меня, как я должен поступить, на что я должен решиться». Кто Бога спрашивает на молитве, что делать, тому Он всегда отвечает, вразумляет. На молитве к Богу, как при свете Божием, мы всегда узрим свет.
Итак, почтенные граждане, помолившись Богу, решитесь действовать на предстоящих выборах по чистой совести, то есть решитесь так действовать, как внушит вам Бог. Что говорит нам наша совесть после усердной нашей молитвы, то внушает Сам Бог. Внушение чистой совести есть внушение Божие. Тот никогда не боится, кто действует по чистой совести. Тот Самого Бога не слушается, кто не слушается чистой своей совести.
Но вы и решились действовать по чистой совести, вы решились дать клятвенное обещание действовать по чистой совести. Не забудьте же клятвенное обещание: под клятвой, под присягой вы решаетесь дать обещание действовать по чистой совести.
Что это значит, когда, давая клятвенное обещание, мы поднимаем руку к небу? Этим мы указываем на Того, Кого делаем свидетелем нашего обещания. Обещаю и клянусь действовать по чистой совести, и что я так непременно буду действовать, вот кого привожу в свидетели – Бога, живущего там, на Небесах. Помните же это, когда будете держать руки ваши поднятыми вверх.
Для чего мы в заключение клятвы целуем слова и крест Спасителя? Этим мы указываем на то, что даем под залог верности нашего обещания. Крест и Евангелие суть знаки нашего вечного спасения: на кресте совершил Спаситель наше вечное спасение, чрез Евангелие возвещает Он нам наше вечное спасение. Таким образом, целуя, как бы указывая на крест и Евангелие, мы указываем чрез это на вечное наше спасение. Для меня нет ничего дороже моего вечного спасения, и вот я даю в залог верности моего обещания это вечное спасение. Не забудьте же, целующие в заключение клятвы крест и слова Спасителя, не забудьте, что отданное под залог не возвращается нам, когда мы не устоим в слове, не сдержим обещания; и вечное спасение не будет достоянием того, кто поступает против присяги, кто действует не по чистой совести. Кто выбирает кого в досаду своему врагу, тот делает погибель своей душе; кто выбором думает угодить другу, тот угождает диаволу – врагу вечного спасения.
Вы скажете: как страшно давать клятву, принимать присягу! Нет, не давать клятву и принимать присягу страшно, а страшно нарушать данную клятву и поступать против принятой присяги. Давая клятву, мы призываем Бога во свидетели истины и таким образом исповедуем Его, доказываем наше благоговение к Нему; целуя в заключение клятвы крест и Евангелие, мы этим показываем, что для нас нет ничего дороже нашего спасения, и таким образом подтверждаем, что мы дорожим нашим спасением. Да, православные, присяга есть дело богоугодное и душеспасительное, только нарушение присяги богопротивно и для души пагубно. И потому, принимая присягу, просите Господа Бога, чтобы Он Своей благодатью помог вам не поступить против присяги. Когда к Богу будете обращаться, Его будете просить, тогда Он не попустит вам поступить против присяги.
Да благословит вас Господь Бог на предлежащие выборы, да вразумит Он вас избрать из среды вашей достойнейших и способнейших, таких, которые были бы ревностны к службе, попечительны о пользе общественной и доступны всем и каждому. Аминь.
164. Во время Крымской войны
И волос с головы вашей не пропадет (Лк. 21:18).
Когда Иисус Христос говорил ученикам Своим, что они за имя Его будут страдать и что некоторые из них будут даже умерщвлены, то тут же сказал им, что и волос с головы их не пропадет: и влас главы вашея не погибнет. Итак, как же надобно понимать эти слова, когда ученики Христовы всего лишаемы были и умирали почти все мученической смертью? Очевидно, не буквально, а иносказательно.
И влас главы вашея не погибнет, то есть и малейшее, незначительное, что доведется вам понести, потерпеть за имя Мое, и то не пропадет даром. Пусть ваши лишения, огорчения, страдания, которые доведется вам терпеть при проповедании Моего учения, будут так маловажны, как потеря волоса с головы, но и те не останутся без награды, принесут пользу и вам, и всем.
Относятся ли эти слова, это обетование Иисуса Христа, к нам, слушатели? И к нам относятся. И мы ученики Его, и нам приходится иногда терпеть, терять и за имя Его, за то, что почитаем Его, следуем Его учению, поступаем по Его заповедям. Так и наши за это лишения, потери, огорчения, как бы они ни были маловажны, принесут нам пользу, послужат нам во спасение. Что же у Иисуса Христа наше погибнет, пропадет, когда и капля слез, ради Него проливаемая, недаром проливается, когда и стакан воды, подаваемый во имя Его, без награды не останется?
Сила не в том только, что мы делаем, но в том больше, во чье имя делаем, во чью славу – с какой мыслью делаем, с каким намерением.
Оттого-то и тысячи, жертвуемые иногда иными богатыми, ничего не значат, никакой цены не имеют пред Богом, потому что не ради Его славы жертвуются. А и две лепты какой-нибудь бедной вдовицы, принесенные сею в жертву Богу, Самим Богом на весь свет прославляются, потому что от всей души во славу Его принесены.
Так, слушатели, ничто наше, даже самое маловажное, не пропадет даром, если мы теряем, терпим что-либо во имя и за имя Иисуса Христа.
К кому из нас в настоящее военное время преимущественно относить можно и должно эти слова, это обещание Господа нашего Иисуса Христа? К кому преимущественно? К воинам христолюбивым. Они воюют или готовятся воевать во имя Иисуса Христа, во имя Его учения, за Его Церковь Православную, за Его помазанника, Благочестивейшего Государя нашего Императора Александра Николаевича, за его жительство – Русь Святую.
Великая заслуга перед Богом, перед царем и отечеством тех, которые живот свой на брани полагают; нет больше этой заслуги, потому что нет больше любви, полагающей душу свою за други своя. Но и те из воинов, у которых по случаю войны хоть что-нибудь незначительное сделается, хоть волос с головы пропадет, – и те много заслуживают. И каждый шаг у православного воина за правое дело – заслуга у Бога, у царя и отечества.
Да, воины христолюбивые и дружины православные! Будьте спокойны: шаги ваши на счету. И волос с головы вашей не пропадет даром, и малейший труд ваш, и неважные огорчения, неприятности, потери, лишения ваши не будут забыты Богом, принесут пользу отечеству, порадуют царя.
Господи! Спаси и сохрани на многия лета нам Благочестивейшего Государя Императора Александра Николаевича. Аминь.
165. При погребении
Если в каких несчастьях нужно человеку утешение, то особенно в несчастьях, подобных вашему, сетующие о невозвратимой потере! Да, потеря ваша невозвратима: с того света уже не возвращаются, туда идут все, а оттуда никто. Правда, мы увидимся с ними, когда сами явимся туда. Но, увы, этого свидания все еще надобно дожидаться, а ведь человек в горе так нетерпелив; до этого времени все еще надобно жить, и жить без них, а без них нам и минуты не хотелось бы жить. Жизнь настоящая, конечно, и вся недолга; время все идет, не останавливаясь, смерть все ближе и ближе к нам. Но, ах, и эта недолгая жизнь как длинна для печальных – в печали и день кажется годом. И это быстротекущее время как медленно идет в горе – горе и один час растягивает на десять. И сама смерть, идущая всем навстречу, кажется, бежит от тех, которые готовы ее встретить без боязни.
Так, сетующие о невозвратной потере, вам нужно утешение, и утешение большое. Но потому-то самому, что вам утешение нужно, вы и не должны излишне сетовать, ибо чем кому нужнее утешение, тем оно ближе к нему. Утешение всегда соразмерно с горем. Замечают, что сильный зной всегда бывает пред дождем, и дождь тем скорее идет, чем сильнее палит зной. Примите и вы на замечание себе, что сильное горе всегда бывает пред утешением, и утешение тем скорее приходит, чем горе сильнее наступает. Будьте же спокойны: утешение вам готово, умейте только пользоваться им. Оно в Боге и от Бога; молитесь же Ему, ожидайте от Него.
«Господи! Ты видишь, как мне тяжело; Ты слышишь, как я горько сокрушаюсь; у меня нет теперь никаких утешений, и я не хочу никаких, кроме Твоих и от Тебя; Ты мой Бог, Ты мое радование! Не оставь меня в моем горе!» И Он не оставит, и Он утешит вас. Скорее мать оставит без пищи любимое свое дитя, когда оно плачет, чем Бог оставит без утешения несчастного человека, когда он молится. Вы теперь и представить не можете, чем и как вас Бог утешит, не старайтесь представлять себе этого. Утешений божественных не только наперед нельзя знать, но и когда будете утешены, вы не дадите отчета себе, как и чем Бог утешил вас: «Я спокоен, мое горе прошло, но как оно прошло, отчего мне спокойно, я не знаю». Божественные утешения бывают для нас непостижимы, неизреченны.
Но, может быть, вас и не беспокоит неизвестность собственного утешения, может быть, вас другое беспокоит. О, я знаю, кем все ваши мысли заняты, – тем, кто составлял сокровище вашего сердца. Я знаю, ведь скорбящее сердце любит предмет своей горести, оно все о нем бы думало, все о нем бы помнило, все им бы занималось. Что же? Дайте свободу влечению вашего сердца; думайте, сколько хотите, о любимом вашем предмете; занимайтесь, сколько можете, сокровищем вашего сердца. Но да будет ваше воспоминание о нем христианским поминанием, да будет ваше занятие им спасительным для него, да сопровождается ваша мысль о нем молитвой за него, обратите всю скорбь о нем в скорбь по Бозе, и тогда ваше горе обратится в источник радости для вас и для него. Вы здесь возрадуетесь о спасении его, а он там возрадуется о том, что вы умеете пользоваться своим горем. Да, на том свете радуются за нас, когда мы не унываем в горе.
Но скорбящее сердце беспокойно; оно само отыскивает случаи для беспокойств, выдумывает их, если не находит. Так, потеря наша нечаянна, смерть неожиданна – и вот вы ищете в этом случая к новым беспокойствам.
Смерть неожиданна?.. О, нет! Тот, о ком беспокоитесь вы, давно ее ждал; целые годы болезни он приготовлялся к ней. Смерть поспешила? Нет, это Бог со Своею беспредельной милостью поспешил, поспешил сохранить то, что было приготовлено для жизни вечной. Да, Бог всегда спешит нас спасать. Он и жизни нашей временной не щадит, лишь бы спасти нас от погибели вечной.
Впрочем, что бы вас ни беспокоило – а вас в горе все может беспокоить, – вы легко можете себя успокоить молитвой, молитвой вы испросите у Бога все себе и ему. Молитва наша сильна, когда мы молимся от всего сердца; и можно ли молиться не от всего сердца о том, кто за все время жизни своей был сокровищем сердца? Итак, молитесь, молитесь сами, просите молиться других, особенно прибегайте к Святой Церкви. Это и существенный долг ваш, в этом и единственное утешение ваше. Аминь.
166. При погребении
Будьте же и вы готовы (Лк. 12:40).
Господь наш Иисус Христос велит нам, слушатели, непрестанно готовиться. Куда же готовиться? На тот свет. Вот, ближние наши умирают, следовательно, и нам придется умереть когда-нибудь. А когда? Это неизвестно. Разве долго умереть? Тогда будем готовиться всякий час.
Но что будет за жизнь, если мы непрестанно все будем готовиться на тот свет? Это-то и будет настоящая жизнь: мы для того и живем здесь, чтобы приготовить себя к будущей жизни. Грустно всегда думать о смерти? Не будет грустно, если только мы будем приготовлять себя, как должно.
Отчего нам теперь бывает грустно думать о смерти? Оттого, что редко думаем о ней, а еще более оттого, что нам жалко расстаться с благами мира сего. Хотя и говорят, что мир есть не что иное, как юдоль плача, а все иногда бывает весело и здесь, а особенно весело тому, у кого денег довольно, кто в чести у всех, у кого изобилие во всем. Что же? Если блага мира сего препятствуют нам спокойно умирать, то заранее, поскорее расстанемся с ними, не будем слишком привязываться к ним. И что пользы привязываться к тем благам, с которыми, волей или неволей, а непременно надобно расстаться? Что пользы предаваться тому веселью, которое рано ли, поздно ли, а непременно должно окончиться слезами? Ведь чем дальше, тем хуже. Посмотрите, как больно бывает умирать старым людям, которые не любили думать о смерти, которые всей душой предавались мирскому!..
Да, правда, и при горестях все как-то не хочется готовиться на тот свет, все как-то грустно думать о смерти. А это отчего? Оттого, что мы не знаем, что будет нам на том свете, а еще более оттого, что там слишком худо грешникам. И рад бы иногда умереть, но как подумаешь: что еще будет там? Может быть, там ждут меня мучения? Хорошо думать о смерти праведнику: ему на том свете еще веселее будет. А что будет нам, грешникам? Что же? Если грешникам худо на том свете, то постарайся явиться туда праведником; если грехи препятствуют спокойно умирать, то заранее оставь их. Ведь надобно же когда-нибудь расстаться с этими грехами. Ужели, в самом деле, нам являться с ними и на тот свет? О, не дай Бог: горе вечное там будет с ними.
Но легко ли, скажете, презреть блага мира сего, которые так приманчивы? Легко ли оставить пороки, к которым мы так склонны? Легко ли, трудно ли, слушатели, только непременно надобно, иначе худо будет умирать, еще хуже будет по смерти. Что бы вы сказали о том хозяине, который, зная, что в следующую ночь воры всего его обокрадут, стал бы еще всеми возможными средствами увеличивать свое имение? Конечно, сказали бы, что он глуп. А еще неразумнее сделаем мы, если будем привязываться к благам мира, зная верно, что с ними надобно расстаться, и будем предаваться порокам, веря несомненно, что за них мы подвергнемся вечному мучению.
Итак, будем непрестанно готовиться на тот свет, а для сего будем отставать от пороков и заблаговременно расставаться с благами мира сего. Аминь.
167. О соединении с ближними в загробной жизни
Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас (Ин. 16:22).
Когда мы разлучаемся с близкими нашему сердцу, то нам отраднее, утешительнее бывает в это время, если мы знаем, если уверены, что мы скоро или по крайней мере рано ли, поздно ли опять увидимся, опять будем вместе с ними. Надежда несомненного свидания облегчает тягость тяжкой и долгой разлуки.
Можем ли, слушатели, мы утешаться подобной надеждой при прощании с умершими нашими? Можем ли надеяться, что когда-нибудь увидимся по смерти со всеми нашими родными и близкими нашему сердцу?
Бог это не открыл нам, в Священном Писании нигде не говорится, что увидимся. Но Бог, может быть, потому не открыл этого, что и без Его особого Откровения мы сами это можем знать, сами можем догадываться, что увидимся.
Бог открывает только то, чего мы сами собой, без Его Откровения, узнать не можем. В самом деле, если мы бессмертны, то после смерти будем жить; а если будем жить, то будем жить с кем-нибудь; а если будем жить с кем-нибудь, то с кем же? Ужели с чужими и с чуждыми нам? Ужели с дальними и неизвестными нам? Этого быть не может, это ни для чего не нужно.
Да, если мы, как существа бессмертные, по смерти будем жить, то, всего естественнее, будем жить вместе со своими, с родными, с близкими нам по душе, по мыслям, по чувствованиям. А ты ведь, слушатель, веруешь, что по смерти будешь жить? Не сомневайся же верить и тому, что увидишься там с твоими родными и со всеми близкими тебе.
Слово Божие ничему нас так не учит, как взаимной любви, и любви самой тесной, искренней, сердечной, можно сказать, вечной любви учит нас. Оно непрестанно говорит нам: друг друга любите, друг для друга живите, друг другу помогайте, друг друга утешайте, друг для друга будьте всем. Ужели же, уча нас здесь любить друг друга, Бог будет по смерти отучать нас от этой любви? Ужели же, соединяя нас здесь узами родства или дружбы, сближая нас мыслями, желаниями, Бог будет по смерти разлучать, отделять друг от друга, разрывать всякие наши узы? Да, это неестественно, это вовсе не свойственно нашему Богу, Который есть любовь беспредельная.
Да, кого мы здесь, на земле, любим, с кем мы здесь делим радости, с теми и там будем радоваться. Родные тогда еще роднее будут нам, близкие сердцу будут еще ближе, любовь наша взаимная будет еще крепче.
А зная эту истину, с каким усердием, с какой готовностью мы должны поминать наших умерших! Мы по смерти увидимся с ними, нас они по смерти встретят там, и потому – с какой благодарностью напомнят нам о наших молитвах, которые мы за них воссылаем, о наших пожертвованиях, которые мы для них делаем, о наших милостынях, которые мы ради них подаем, о наших слезах, которые мы о их спасении проливаем!
Да, слушатель-христианин, если ты поминаешь умерших, то они не только воспользуются твоим поминовением, но в свое время лично возблагодарят тебя и вечно будут благодарны за твое временное здесь поминовение, потому что – кто знает? – может быть, твое временное поминовение избавит их от вечных мучений.
Итак, будем утешаться при воспоминании о умерших наших, что опять увидимся с ними со всеми; увидимся по смерти и возрадуемся, и вечно вместе с ними неразлучно радоваться там будем. Аминь.
168. Молитву пролию ко Господу и Тому возвещу печали моя
При печалях по умершим, близким нашему сердцу, мы обыкновенно Богу молимся и просим, чтобы Господь упокоил их со святыми, чтобы простил им всякое прегрешение. Ничего лучше нельзя делать в таких случаях; не для умерших только, но и для нас, печальных, это всего полезнее.
Легче на душе делается, когда о своей печали с кем поговоришь, кому скажешь или поплачешь пред человеком, в доброте которого уверен; но еще легче бывает на душе, когда Всеблагому Богу печаль свою открываешь, когда перед Ним о своем горе плачешь. Сладость необъяснимую тогда чувствуешь, как будто рад тому, что вот есть у меня о чем перед Богом поплакать, есть о чем со слезами Ему помолиться. Да, сладко и плакать, сладко и лить слезы от печали, когда стоишь на молитве перед Богом; тогда Господь своей благодатию, как вином, веселит печальную нашу душу.
Всегда счастливые люди не знают той сладости, которую мы, несчастные, на молитве вкушаем. Так, молясь о упокоении умерших, мы и сами успокаиваемся. И не на время только успокаиваемся, слушатели, но, можно сказать, к вечному покою себя приготовляем этими молитвами. Да, помогая молитвами умершим достигать вечного покоя, вечного спасения, мы этим и сами спасаемся; прося их грехам отпущения, мы и сами через то от грехов очищаемся. Помогающий другому идти, подниматься на высоту, на гору и сам с ним вместе идет, поднимается.
И всегда это так. Что нами делается для спасения другого, то для нас спасительно. О помиловании ближнего умоляешь Господа, а Господь милует за это и тебя. Послужит ли моя милостыня нищему в пользу, не послужит ли, а меня и за эту милостыню Господь помилует.
И потому-то, чем больше мы молимся и заботимся о спасении других, тем больше и у нас за нас молитвенников пред Богом бывает, – кого мы поминаем в своих молитвах, тому спасаться помогаем.
Так, слушатели, если вы никак не можете не печалиться об умершем, то печаль свою на молитве возвещайте, если не можете не плакать о друзьях, перед Богом о них плачьте. Пусть Бог ваши слезы видит, тогда Господь и вас утешит, и тех помилует. Аминь.
169. О том, почему иногда добрые и честные люди умирают худой смертью, а злые и порочные – смертью хорошей
Был пустынник, старец жизни святой. Послушник его в одно время отлучился в город, который был недалеко от их пустыни. В городе погребали тогда градоначальника, человека злого, порочного. Погребение, однако, было пышное: гроб был великолепный, провожало покойного все городское духовенство, народу было тьма, всякого звания и состояния. Послушник пустынника, посмотрев на погребение и справив свои нужды, возвратился в свою пустынь. Что же он увидел? Святого его старца растерзал лютый зверь. «Увы, Господи, где же правда? – возопил ученик. – Злой градоначальник умер так славно, погребен так пышно, а мой святой старец…» Когда он плакал так, взывая к Богу, пред ним предстал Ангел и сказал: «Что ты плачешь о лютой кончине своего учителя и завидуешь славной смерти градоначальника? Тот градоначальник, живя в грехах, однажды сделал одно доброе дело и в награду за то славно погребен на земле. Но за злые свои дела он понесет наказание: муки вечные ожидают его в будущей жизни. Твой же учитель, святой старец, всю жизнь делал угодное Богу. Но, как человек, однажды учинил некоторый малый грех и за этот-то грех умер такой лютой кончиной. Зато теперь он будет чист от своего греха и потому, несомненно, будет в раю».
Так вот почему иногда добрые и честные люди умирают злой и мучительной смертью, а злые и порочные умирают славной и по видимости спокойной кончиной. Вот как разрешает это недоумение святитель Афанасий Александрийский. Он говорит в одном месте, что благочестивые, умирающие горькой смертью, имели какой-нибудь малый грех, от которого такой бедственной смертью разрешились, чтобы удостоиться больших почестей. И потому, слушатели, когда видите или слышите о лютой смерти праведного и славной кончине порочного, то не смущайтесь, а научайтесь из этого тому, как всегда правдивы неисповедимые суды Божии. У Бога никакое доброе дело не остается без награды и никакое худое дело не остается без наказания. В Боге нет лицеприятия: доброе и в порочном Бог награждает, а зло и в праведнике наказывает.
Итак, не слишком радуйся, когда тебе в жизни все удается, когда во всем ты успеваешь: быть может, Бог воздает тебе за твои труды в сей жизни, а для будущей ничего не оставит; все здесь получишь, а там не будет тебе ничего. И особенно бойся своему во всем счастью, когда ты за свое счастье Бога не благодаришь и ближних не делаешь счастливыми. С увеличением твоего счастья непременно надобно тебе умножать благодарение Богу и прибавлять заботы о счастье других. Бедственно для того счастье, кто не делает счастливыми других. А как нелегко, как трудно при счастье своем помнить о несчастье других! И потому-то еще скажу: не слишком радуйся своему счастью. Но не предавайся излишней скорби и при несчастье. Всякое несчастье, и малое и великое, посылается нам от Бога в наказание за наши грехи, и малые и великие. А если Бог наказывает нас чем-нибудь здесь, то это явный знак, что Он хочет нас там помиловать. Тут потерпим временно за грехи, зато будем там спокойны, вечно спокойны. Аминь.
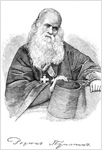
Комментировать