Наброски и заметки религиозного, богословского и философского содержания (отчасти – и культурно исторического)
Правда ли, что религия – всеобщее, неистребимое свойство человеческой нрироды (как учит богословие)? Правда ли, что она – один ив низших Фазисов миропонимания, долженствующий уступить свое место науке и действительно уступающий его ей но мере ее развития и распространения (как учит позитивизм)?
Ответ па сей вопрос зависит от того, как определять религию или религиозную веру. Если «вера есть уповаемых извещение; (утверждение –


«Невидимый» – invisibilis – это не тот, которого не видят, а тот, которого видеть нельзя (

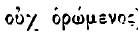
Представим себе, что зрячих рождалось бы столько, сколько теперь рождается слепых. В таком случае в ходячей человеческой науке не было бы места свету и цвету, как таковым: речь шла бы лишь о химических, термических, звуковых, электрических лучах и волнах. При высоком развитии науки, слепые подметили бы и изучили бы и световые лучи, определили бы все их свойства и действия, кроме только одного – светового; и слыша беседы немногих зрячих между собою и их попытки растолковать им, слепым, свои ощущения, слепые решили бы, что или их мистифицируют зрячие, или что они одержимы какой-то иллюзией, и составляли бы разные теории о том, откуда могла бы взяться такая иллюзия и в чем она состоит. Зрячие говорили бы им, что их здания и одежды некрасивы; восхищались бы красотой синего неба, звезд, цветов, бабочек, птиц, моря, влюблялись бы в красивых женщин; слепые пожимали бы плечами, не понимая, почему дом, обмазанный для прочности веществом, отражающим слабые термические лучи (красные), нравится этим чудакам, а обмазанный обыкновенным лаком [дегтем?] (черный) возбуждает в них тоску. Они не понимали бы, зачем так называемым зрячим понадобилось слово «синий», вместо того, чтобы просто сказать: тепло, сухо, приятный воздух, высокое давление. Они не понимали бы, какое наслаждение могут доставлять космические шары, удаленные от земли на столько, что в их существовании мы можем убедиться лишь математически из движений земли. Далее, слепые подметили бы, что зрячие спорят между собою: одному нравится «белое», другому «синее», третьему «красное»; явились бы среди зрячих дальнозоркие, близорукие, дальтонисты и т. д.; и тут уже слепые решительно бы убедились, что зрячие просто или лгут, или с ума сходят, или не развиты, и своими странными словами или понятиями описывают те же, им, слепым, прекрасно и в строгом научном порядке известные явления и ощущения. А другие слепые, слушая восторженные описания зрячими тех наслаждений, которые доставляют им цвета и формы, заразились бы – не ощущениями зрячих, а их восторгом и убеждением, и стали бы уверять себя и других, и слепых и зрячих, что и они видят, и они восхищаются или негодуют; переняли бы их язык и рассуждения, сами стали бы говорить и писать в их роде; может быть, многие зрячие поверили бы им на время, и только по временам эти мнимо-зрячие выдавали бы себя, и тем еще более укрепляли бы слепых в убеждении, что зрячести, как таковой, вовсе не существует, что она только иллюзия или ненаучный способ выражения (Ср. Феодорит «Врачевание эллинов» нед. МG. 83, 825).
Трезвые слепые – это позитивисты; зрячие – это верующие; самообольщенные слепые – мнимо верующие люди. Число самообольщенных слепых должно падать с ростом «слепой» науки; но истинно-зрячих она никогда не убедит, что они не видят синего цвета, так как его нет, а есть только колебания с длиной волны во столько-то микронов, и число этих зрячих останется независимо от успехов «слепой» науки.
Когда у самого человека в сердце есть источник религиозной веры, он не станет его искать на Сандвичевых островах.
Православный мистицизм есть «богоуподобление», а языческий – еретическое «богоотождествление» (евхиты – и монофизиты) (Стефан). Христовщина.
Заметки по поводу доклада в заседании Философского общества 2 ноября 1904 г. И. И. Лапшина под заглавием: «Мистическое познание и «вселенское» чувство»
Мистическое восприятие есть у всех – помимо всякого экстаза, сказываясь уже в самом отличении истинного от неистинного, подлинного и независимого от нас от иллюзорного и субъективного, в самой проблеме истинности чего-либо. Если бы не было восприятия, что есть что-то, что мы ощущаем, то люди свои состояния сознания так и знали бы, как состояния сознания, и не задавали себе вопроса: какие из них истинны, какие нет; ибо – как состояния сознания, они все истинны, т. е. существуют, н слово истина становится мыслью, в которой не мыслится ничего (Соловьев в «Критике отвлеченных начал», гл. 41 –45, стр. 276 – 308 – 309).
Ощущение есть отношение к предмету; если предмета нет, то и относиться не (или – нет) к чему. Ощущение есть относительное знание, но если бы относиться к чему не было, то и относительного знания не могло бы быть.
Нечто может быть и не будучи ощущаемо. Ощущение есть значит, взаимодействие ощущающего и ощущаемого; так как первый есть постоянный фактор, то различие ощущений зависит от второго.
Бытие дается и не в понятии; ибо мышление чистое, без мыслимого предмета, есть ничто, не есть и мышление. Итак, мыслимый предмет предполагается самым мышлением как существующий не потому только, что мы его мыслим. Мышление есть отношение мысли к мыслимому, и опять-таки: даже и отношения не могло бы быть, если бы не к чему было относиться. Мерилом истины понятия, – даже самые необходимые, – быть не могут, ибо если они состояния субъекта и – только, то, как и постоянные ощущения, они суть и – только; никакого отличия от ложных понятий в них нет, ибо и «ложные» понятия – (тоже) суть, и помимо отношения к сущему никакого преимущества первые перед вторыми не имеют. Познание есть относительное бытие субъекта и предмета: отношение предполагает относящихся, и истина определяется не как отношение или бытие, а как то, что есть в отношении, или определяется как сущее. Все это сходно с «Я без не-Я пусто» у Фихте; но Соловьев доканчивает так: оно и было бы пусто, т. е. мы бы не сознавали и не познавали ничего, если бы мистически не воспринимали «сущего», к чему мы можем относиться; итак – не логически, а реальномистическое восприятие лежит в основе не только познания, но п самого сознания; лежит не логически, т. е. не в том дело, что без мистического восприятия нельзя объяснить сознания (ибо и мистическое восприятие предполагает способность воспринимать и – бытие воспринимаемое), а – реально, т. е. для того чтобы субъект, как субъект, мог существовать, он должен иметь способность воспринимать помимо и ощущений и понятий, т. е. чисто мистически (292).
Итак,мистика есть удел (достояние?) не немногих экстатиков, и вовсе не в одном экстазе она сказывается; она удел (достояние) всякого сознательного существа (различающего «Я» и «не-Я»); разница же только количественная. Ощущение «красного, понятие «равенства» без ощущающего и без мыслящего не существуют, ибо тогда они не былп бы ощущением и понятием ; это и есть бытие. А «я есмь», «это существо есть» – бытие приписывается самому по себе субъекту речи. Соловьев о бытии и о сущем и онтологический аргумент к критике Канта (Кант знает бытие и не знает сущего). Соловьевское бытие есть бытие для другого, сущее (есть) бытие an sich... Явление есть бытие, вещь в себе есть сущность. Кант знает бытие an sich, но думает, что в онтологическом аргументе (как и вообще для человека) есть (идет?) речь лишь о бытии для кого-нибудь, и говорит собственно, что от «бытия для меня» нельзя заключать к «бытию помимо меня».
«Универсальный аффект»: да, пожалуй! от afficio, аффект – воздействие; универсальный аффект воздействие универса или сущего в Соловьевском смысле слова; и мистицизм есть универсальная аффективность, т. е. способность помимо ощущений и понятий непосредственно воспринимать сущее.
Откровений мистики сообщит не могут. Восточные (мистики) н не собираются и не обещают (Симеон Новый Богослов), их наука – наука о воспитании в себе мистика.
Тождество субъекта и объекта: для Востока это – еретическая мистика. Православная мистика до тождества с объектом (Богом) никогда не доходит и не мечтает дойти. Богоуподобление (в учении православных отцов) не есть богоотождествление; последнее есть монофизитство (Стефан-бар-Судаили из Едессы), первое – у Дионисия Ареопагита5. Знакомясь с сочинениями Пушкина, мы знакомимся с Пушкиным; но Пушкин и его сочинения – не одно и то же. Любовь – у Соловьева и у мистиков-экстатиков. Мистики друг друга понимают: теория Лапшина для них – теория слепого о зрячих и зрячести. «Теория познания» мистиков сводится к культу молчания; скорее – «метафизика», а теория познания их есть наука воспитания в себе мистика. (Световые видения) могут (быть) – Симеон Новый Богослов: «Чем ярче свет, тем я смиреннее» (но это) безразличие (-но?) – (бывают и) видения сатаны в виде ангела светла.
Отрывок из письма к II. II. Аникиеву по тому же предмету.
Очень радуюсь за вас, что вам удалось найти тему равно близкую вашим научным и сердечным стремлениям, тем более, что и с точки зрения интересов самой науки восточная мистика есть, несомненно, очередной вопрос, и именно восточно-православным ученым надлежит подать в нем свой голос; ибо и здесь, как и в вопросах о философском смысле догматического развития, западные умы, при самой старательной работе, оказались как бы несоизмеримыми со своею темой. Очевидно, мост надо строить или с нашего восточного конца или с обоих, а с одного западного нельзя... Позволяю себе посоветовать вам: 1) в кандидатской работе остановиться преимущественно на самом Симеоне (Новом Богослове), – впрочем вы так и хотите сделать, – на его психологии, личности и трудах; обозреть и сличить с ними новейшие мистические теории – дело и полезное, и завлекательное, но весьма, как мне думается, не легкое... 2) Вам, конечно, известно, что Хомяков и Киреевский обещали и начали строить именно на восточных мистиках и аскетах особую философию «цельного знания»; новая православно-богословская школа, мпе кажется, продолжает их дело; поэтому в вашем введении, мне кажется, об этих деятелях сказать едва ли не самое важное. Я ограничился бы (в кандидатской работе) ими и Соловьевым. 3) Что касается иностранной литературы, то... вы в ней едва ли много для себя найдете: горе ее в том, что она знает лишь мистический экстаз, и на нем все строит, тогда как главная ценность п особенность восточного «восприятия» (NВ. мистического) состоит в том, что его очень мудрено выставить патологическим явлением, на что западные ученые неизбежно все сворачивают...
Вы вполне справедливо замечаете, что надо вжиться в мистику, чтобы понять ее, а я, на свое несчастье, по крайней мере пока, не мистик, а скорее «рационалист» в хомяковском смысле.
О страшном суде, рае и аде
Л. Толстой кончает свою критику догматического богословия тем, что догмат о вечных муках пе учение, – не утверждение, а [просто напросто] угроза. Увлекшись своим, по его мнению, успехом в доказательствах, что св. писание исключает (будто-бы) догмат Троицы, догмат божественности Христа и др., которые церковь выводит из того же св. писания, он этот последний догмат критикует уже с точки зрения его нравственной возмутительности. Действительно, нет кажется, догмата более «преткновенного» для нравственного чувства, чем этот; но... зато ни один догмат не засвидетельствован Новым Заветом и христианской древностью так твердо, как именно этот! «И идут сии в муку вечную, праведницы же в живот вечный». Как ни представлять себе эту муку, мука – все мука; и мука вечная. И в сознании древних христиан вечный огонь занимал такое видное, даже доминирующее место, что создал им кличку ненавистников человеческого рода: но представлениям их, мир накануне гибели, спасенных будет, значит, сравнительно даже очень немного. Цельс объясняет успех христианской проповеди главным образом поражающим впечатлением картины вечных мук на неразвитые умы и сердца. Мир, не только настоящий, но и будущий, рисуется христианам как во зле лежащий; спасенных всего 144.000 (см. апокалипсис 7:4); рай – островок среди бесконечного огненного моря; тесный и трудный путь ведет в него: «просвети нас верою тебе служащих и вечного огня исхити»... Цель всей жизни недаром зовется спасением, спасением от гибели – отовсюду грозящей!.. Как же быть? Тут мало отвергнуть церковь и догматическое богословие; тут не богословие, а самое бесспорное христианство, и значит неизбежно: или смиренно принять догмат, или отвергнуть самое Христово евангелие, которое есть благая весть – о чем же?, о том, что не все погибнут!?, что есть дорожка к спасению, хотя узенькая, но есть! Для древних христиан дело представлялось во многом иначе, чем нам; огромное их большинство пе веровало так, как видит зрячий (как веровал апостол Павел и др.), а верило так, как верит неученый ученому или ученик учителю. Тут возмущайся, не возмущайся – все равно. Нравится ли вам проповеданный апостолами Бог, иди не нравится, это ничего пе изменит: иного (Бога) пет, Он владыка – мира, и как Он решил, так и будет. Достоверность догмата для них не зависела от голоса их нравственного чувства, и критиковать его с этой точки зрения представлялось им бесплодным и опасным делом. Для многих простецов-христиан вопрос и теперь представляется в том же положении.
Но христианин сознательно верующий, как апостол Павел (пли Хомяков), он что скажет? Хорошо, если для него довольно общей фразы, что пути Господни неисповедимы, что мы глупы и грешны и на Страшном Суде примиримся со Страшным Судом, поймем его справедливость и благость. «Уповаемых извещение»?., но – возможно ли, чтобы вечные муки для половины человеческого рода (а может быть и более?) были для кого- нибудь предметом упования, а не ужаса и недоумения? Известно, что были крупные церковные мыслители, Ориген, св. Григорий Нисский, веровавшие и учившие о конечном спасении всех, даже – диавола; церковь осудила их (NВ. т. е. такое их учение). Но если Бог сказал: «хощением не хощу смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему», если Он тот Бог, который «всем человеком хощет спастися и в разум истинный прийти», то неужели – непозволительно, неужели – нечестиво надеяться, что это – если не решение, то хотение Божие – не останется втуне?
Нам сказано, что если на праведном суде Божием найдутся души, до того закосневшие в свободно ими избранном зле, что ни любовь Христова, ни любовь праведных не возмогут примирить с ними абсолютную правду и бесконечное милосердие Божие, тогда – их удел будет вечная мука. Если найдутся; но кто здесь на земле возьмется решать, найдется ли хоть одна такая душа? Кто возьмется решить, много ли зла, содеянного самым лютым грешником, приходится на долю его личной свободной воли, за вычетом – социальных условий, физической наследственности, ложного воспитания, недостатка любви в окружающих его людях, и – больше всего – ложных понятий о долге, чести, о патриотизме, о религии? понятий – не им опять-таки созданных, а воспринятых им за истину от людей, которые сами, создавая их, свято верили в их истину, и, значит, тоже лично не виноваты? Как знать, не сведется ли Страшный Суд Господень к исполнению чаяния Маркелла, брата старца Зосимы (из «Братьев Карамазовых): все поймут, что все за всех виноваты, обнимутся и заплачут, и – настанет рай; как на Халкидонском соборе раздастся общий смиренных глас: «мы все согрешили, всем да простится». Все «придут в истинный разум», и Бог простит всех, кто просит у Него искренно прощения; ведь Он не может принять только тех, кто сам не хочет идти к Нему.
Но если так, то как же быть с церковным осуждением apokatastasis’а (NB. учения о «восстановлении всего и всяческих», о всеобщем покаяния и прощении, за которым последует неизбежно это «восстановление»)? Оно (это осуждение) вполне разумно и основательно. Во-первых, св. Писание дает нам только право надеяться на спасение всех; а Ориген и другие учили о нем, как о неизбежном и несомненном. Скажут: если Бог знает, что спасутся все, то почему Он не сказал этого ясно и просто? почему церковь не учит этому? церковь – верующая, что она имеет «ум Христов»? И это возражают люди, укоряющие церковь за (ее) догматы об искуплении и таинствах, как за догматы нравственно растлевающие, поучаемых ими христиан!! Церковь, по их суждению, не должна учить, что Бог помогает нам спасаться (благодатью промыслительною (всеобщею), евангельскою (особенною), искупительной жертвой и таинствами) и что, поэтому, спасение возможно; этому, видите ли, нельзя учить; это нравственно опасно, а церковь должна учить – что спасутся, неизбежно (или: авось-либо) все! Это (нравственно) неопасно! Не права ли, напротив, церковь, устраняющая вопрос о «числе» спасенных, а настаивающая на том, что от нас самих зависит, спасутся ли многие, или немногие, или все?
Итак, я понимаю церковное осуждение apokatastasis’а так: церковь осудила нравственно опасное намерение провозгласить – как догмат, – как факт пезасимый от человеческой воли, – то, что составляет надежду, исполнение или неисполнение которой Бог препоручил человечеству.
Примечание 1. Учение о временных наказаниях едва ли много лучше учения о безнаказанности всех: понаслаждаться здесь (на земле), отбыть временное наказание и перейти в вечное блаженство – прямой расчет. Кроме того, раз церковь учит, что после светопреставления времени больше не будет, то она, очевидно, не может говорить о временных наказаниях.
Примечание 2. Я понимаю, я – лично, вечную муку (закосневших во зле) еретически. По моему в Новом мире не будет двух разделенных царств – рая и ада, и грешники и диаволы (диавол и ангелы его) не будут отвержены от лицезрения Божия (а, впрочем, Нил Синайский понимает точно также, см. письмо 47: «Да будет Бог всяческая во всех – свет для достойных света, а огнь наказующий для достойных вечной мѵки»). Но самое это лицезрение вечной торжествующей Правды, будучи источником вечного блаженства для праведных, и будет источником вечных мук для духов, по свободному выбору рабствующих обличенной вечной лжи. Правда глаза колет, вот, по моему, весь секрет адских мучений. И кто сильнее ненавидит правду – тот пуще боится света (чтобы не обличились дела его), тому правда больнее колет глаза; вот вам и «степени» адских мучений. Но эта моя ересь не связана органически с изложением [?] в тексте и, кто примет последнее, может представлять себе по-церковному адские муки. – Ср. Дионисия Ареопагита послание 10-ое; Нила Синайского послание 36: милосердие для кающихся, правосудие для закоснелых. Против (как будто) спасения всех – Рим 11:14: «не возбужу ли ревность в сродниках (соплеменниках, иудеях) моих по плоти, и не спасу ли некоторыхи из них6.
Предведение и предопределение
Должно веровать, что вечная участь каждого человека будет наилучшая из всех для него возможных при его свободной воле. Бог всякому дает высшую степень благодати и милости, позволяющую ему оказаться на высшей ступени святости и блаженства; но люди оказываются на разных ступенях выше и ниже 0 (нуля), сообразно своей деятельности.
Хочется знать, к чему я предопределен, п хотелось бы быть предопределенным к блаженству; а ничего не делать или грешить значит наперед решить, что я предопределен к гибели.
Диалог 1-й.
– Ну, а что вы скажете об самом искуплении?
– Eine verfängliche Fragе... Говорят, мы спасены от греха проклятия и смерти, между тем «несть человек, иже жив будет и не согрешит»; люди попрежнему едят хлеб свой в поте лица, а женщины в болезнях рождают чада; роды у женщин христианской Европы даже еще много труднее, чем были у библейских евреек и суть у многих дикарок нашего времени; умирают же люди все без исключения. Нет, если искупление состоит именно в этом, то может быть нас по маленьку искупят Мечниковы, Либихи и Ницше, но Христос тут был и будет не причем.
– Вот те раз! Вас ли я слышу?
– Что делать! Amicus Plato и т. д.
– Но позвольте, если нет искупления, то нет н христианства; нет по крайней мере того исторического христианства, о котором вы только и соглашались говорить. Не вы ли защищали Троицу, таинства, даже вечные мучения, стараясь доказать, что сами но себе эти догматы приемлемы, а центральный догмат искупления – их требует. Ну, а коли по вашему никакого искупления нет, ради чего же мы с вами ломали копья?
– Мне кажется, во всяком случае недаром. Пусть наши беседы кончатся тем, что мы оба отвергнем христианство совсем, сначала до конца; но разве все равно, за что мы его отвергнем? Мой девиз suum cuique; где я вижу, что критика (христианства) несправедлива, придирается (не понимает того, что критикует) – я так и говорю; а наоборот, где она по моему слепа и пропускает нелепости сквозь пальцы – я за неё скажу, что надо. Если христианство есть ложь, то надо вырвать ее с корнем; а для этого критика должна быть справедлива: такая критика – самая страшная, самая долговечная. От несправедливой критики ложные учения не гибнут, а укрепляются; пример – дарвинизм...
– Ох, вот чего я в вас не люблю, так это манеры подкреплять свои спорные положения другими, еще более спорными. Похоже, что вы просто дразните противника и хотите сбить разговор с прямой дороги. Зачем ссылаться на дарвинизм, как пример заведомо ложного учения? Ведь вы прекрасно знаете, что он для большинства – и между прочим для меня – заведомая истина, и ваш пример нисколько не убедит меня, а только разволнует.
– За дарвинизм – виноват; и чтобы не сбивать разговора, отрекаюсь от своею примера, но неужели и мысль, которую я (быть может) неудачно иллюстрировал, по вашему – спорная мысль?
– Да; мне кажется, что есть примеры учений, даже истинных, погибших, – по крайней мере судя по внешности, – именно от несправедливой критики; но примеров не стану приводить, чтобы вы не вернули мне упрека с дарвинизмом.
– Вы сказали «судя по внешности»; это дает мне надежду, что мы не так здесь несогласны, как кажется. Знаете что? запишемте эту тему для следующих бесед, и о дарвинизме кстати. Право, вопросы того стоят.
– Отлично, а теперь вернемся к богословию. Из вашего отзыва опять не видно, куда вы гнете; как будто отвергать христианство собрались, но я уже не верю; наверно, сейчас будет диалектическое salto mortale, и опрокинутый Ванька-встанька опять окажется головой вверх.
– Ей-Богу, я сам не знаю, куда я гну. Мне кажется – никуда. Я просто иду вверх, по узкому горному гребню, и каждый мой шаг вверх расширяет оба горизонта, и правый и левый, и я стараюсь добросовестно отмечать все, что вижу. Куда в конце концов приведет меня моя тропа – я и сам не знаю.
– Ну – ладно. Итак, на сей раз вы видите влево, если не ошибаюсь, вот что: как эмпирический факт, искупление не существует, а церковь выставляет его именно как эмпирический факт. Вывод понятен. Ну, а на правом глазу у меня, должно быть, шоры.
– Справа? Справа вот что: ведь церковь учит об искуплении не эмпирически только, а и метафизически. Значит, тут надо устранить ее всегдашнюю ошибку – вторжения с догматом веры в область знания, – распутать, что она запутала, и посмотреть что останется.
– Однако, как вы стали поговаривать. Это непогрешимая-то церковь напутала? Смотрите!
– Ну, мы люди маленькие, анафемствовать нас не стоит. Да и не ересь сие, а некое дерзновение ума, свойственное светскому званию. Нет, серьезно; я, помнится, говорил уже и теперь повторяю, что я признаю церковь непогрешимой лишь в чисто метафизической стороне ее учения. В гносеологии и в вопросах эмпирической науки она зависит от своего времени, или лучше – от того времени, на котором для нее остановилось научное движение. Если Бог дал человеку разум, то Он и предоставил разуму решение всех вопросов, доступных разуму, и Дух Святой, если приходит на помощь человеку, то лишь там, где разумом ничего не поделаешь, а знать истину – необходимо.
– Если, если... нет – вы на опасной горной тропе...
– А вы думаете, что я этого не знаю?..
– Ну-с, люди грешат; значит от грехов личных искупление нас не застраховало. Без труда хлеб не растет и без болезней чада не родятся; значит, либо проклятие заключалось в чем-то другом, либо те же факты, которые в Ветхом Завете были проклятием, получили в Новом Завете иной смысл, иное значение. Люди умирают; значит искупление касалось не телесной смерти, а чего то другого. Так что ли?
– Пожалуй, что и так, и, знаете, церковь ведь так и учит; но я не могу удовлетвориться этим. Ведь пока что, мы остались при одних отрицаниях. Церковь говорит, что избавлены от греха первородного, или от наследственной порчи природы; но что же толку в этом избавлении, если и после крещения «несть человек, иже поживет и не согрешит», и почему этот личный его грех менее дурен и менее страшен по своим последствиям, чем «грех» Адама, который ведь тоже был его личным грехом? Крещение вернуло человеку первобытную чистоту, миропомазание дало ему особые духовные силы к деланию добра; понятно, что если он все-таки грешит, так с него надо взыскать построже, чем с Адама. Выходит, что до Христа и без Христа людям живется все же безопаснее, чем в церковном единоспасающем ковчеге.
– А таинства, бескровная жертва, молитвы святых, выкуп, Христом за нас принесенный?
– Я думал об этом, думал долго и упорно, и вот к чему пришел. Если взять за норму вульгарное христианство всех исповеданий и учить, что благодать спасает при единственном условии веры – веры хотя бы в степени самой слабой, в степени только-только что не допускающей насмешки над обрядом, (почем мол знать, может быть и вправду поможет, черт возьми), то получится то возмутительное потворствующее греху учение, которое все язычники, от Порфирия до Толстого, принимали за церковное. А если взять подлинное церковное учение, которое говорит,что «ядый и пияй чашу Господню недостойне, суд себе яст и пиет», что «вера без дел мертва», что только та вера и есть вера, которая «любовию споспешествуется», т. е. каждый шаг человека ставит под контроль христианского идеала – ну, тогда, конечно, таинства могут быть могучим нравственным стимулом, но могут и, наоборот, верующего человека привести к полному отчаянию. Когда я достоин чаши? Сам по себе никогда. Если очистил себя искренним покаянием? Но ведь покаяние только тогда искренно, когда ведет к душевному перевороту, к постоянному подъему вверх и вверх; а на деле большинство, даже при серьезных нравственных усилиях только-только что ие увеличивают ежегодного груза грехов. Отказаться от причастия? Но это значит выйти из церкви, а веры не потерять, т. е. лишиться всякой надежды на спасение; я крещен, миропомазан, и если выйду из церкви, буду виноватее язычника. Раб, неведевый воли господина своего, сотворив же достойная ранам, биен будет мало; а для меня и этого утешения нет. Как вам кажется? Ведь может статься при нашем понимании, чем более чуток нравственно человек, чем он строже к своим обязанностям христианина, тем легче ему дойти до такого состояния, что он проклянет свою веру, проклянет крестивших его родителей за то, что они его крестили, возненавидит Бога, в Которого верует, и в мрачном ужасе будет ждать смертного часа...
– Читайте Макария Великого.
– Как? Вы читали Макария Великого?., ну, надули же вы меня!!
Диалог 2-й.
– Скажите, пожалуйста, ведь, если не ошибаюсь, церковь советует каждому христианину изучать житие того святого, чье имя он носит, с тем, чтобы в жизни руководиться его примером?
– Да, и знаете, я, кажется, уже понимаю, какую мину вы подводите.
– И уж ведете, конечно, свою контр-мину.
– Не знаю, как вам покажется. Ведь я уже не раз говорил вам, что сам толком не знаю, противник я ваш или союзник.
– Мне кажется, наша сегодняшняя беседа должна это решить.
– Виноват! тут логическая неточность: если мы сегодня не сойдемся, то я вам противник – согласен; но если сойдемся, то... не знаю еще что сказать. Вопрос, который вы взяли, почва очень узкая. Может быть, это точка пересечения взаимно перпендикулярных линий?
– Возможно. Но любопытно, нащупали ли вы точно мою мину?
– Я думаю, вы хотите сказать, что для научно образованного христианина это наставление церкви неисполнимо.
– Ну,это-то. конечно,я хочу так или иначе сказать; но суть в том, почему неисполнимо?
– Потому, я думаю, что иных святых никогда на свете не было, а другие хоть и были, да ничего научно достоверного о них неизвестно?
– Нет, на сей раз не угадали. Я понимаю, что подражать надо не букве, а духу: что Кузьмы, Демьяны и Пантелеи не осуждены идти непременно в Военно-Медицинскую академию; но в таком случае история и легенда одно и то же: церковное житие (святого) дает мне знать, каков в общем духе должен был быть святой; этого довольно.
– Вот как! Знаете, я начинаю трусить. Если вы оставили незанятой такую по моему сильную позицию, должно быть ваша собственная уж очень страшна.
– Каюсь, я просто не видел этой позиции; но раз вы ее указываете, я буду ее защищать. Во-первых, если отождествлять церковное учение с церковной легендой, то мало ли найдется «бездельных повестей» и «бабьих сказок», которым подражать по букве нельзя, а по духу не следует? Вот, семь отроков в Ефесе только и известны, что своим богатырским сном; неужели это пример для подражания?
– Да... хорошо, что их имена неизвестны, а то они наверное были бы у нас на Руси популярнее знаменитого «Ивана».
– Ну, вот видите; так как же быть?
– Очевидно, строго различать историю и легенду.
– И следовать...
– Истории.
– Прекрасно. Значит, напг почтенный Константин Сергеевич должен креститься у какого-нибудь странника, или анабаптиста-антитринитария тогда, когда – дай Бог ему здоровья – заболеет к смерти?
– Это почему.
– А какже? Ведь Константин равноапостольный по истории, крестился от арианина Евсевия и умер в крестильной одежде, формально – арианином?
– Но позвольте: церковь ведь постоянно повторяет, что «несть человек, иже жив будет и не согрешит», и что подражать надо не вообще своему святому, а «его добродетелям». В данном случае легенда о крещении Константина у папы Сильвестра дает понять, что церковь не одобрила, а только простила ему арианское крещение, и начертала нам образ Константина, каким христианский народ хотел бы его видеть.
– Вот и беда – тут слушай легенды, там истории, а иной раз ни того ни другого не слушай. Вот по легенде св. Николай ударил Ария по щеке, а Василий Великий молился об убиении Юлиана...
– Вы забываете... впрочем не вы, – это все всегда забывают, – что по той же легенде никейские отцы сняли за это омофор с Николая, и только Божия Матерь в видении велела простить его.
– Вот спасибо, что вы сказали, а то эту историю рассказывают все больше в таком тоне, что мнимый поступок св. Николая – образец ревности по вере... А Василий? Это хуже эфесских отроков: те спали себе, и Бог с ними.
– Что ж тут скажешь? Одно – и святые грешили, и легенда грешит. Ведь вселенским собором она не утверждалась; а только церковь ex cathedra в точном смысле слова непогрешима. Легенда, да и история святых – отражение понимания добра и духовной высоты церковного общества в разные времена, и – только.
– Ага! передовую позицию сдали.
– Я ведь не спорил, что сегодня сдам, вероятно, и главную.
– Для вернейшего успеха, продолжаю одним натиском. Подражать надо добродетелям своего святого?
– Да.
– А к тем добродетелям, которых у него, по несовершенству человеческому, не было, к тем и стремиться не надо?
– Ну, как не надо! полноте придираться.
– Словом, стремиться надо просто вообще к христианской добродетели, безусловным образцом который является один Христос, а относительным – святые.
– И в святых надо подражать не тому, что в них личного и частного, а вообще их подражанию Христу. Подражайте мне, как я Христу, сказал апостол Павел.
– Зачем же эта «копия с перекопии», когда есть безусловный образец? Почему не подражать прямо Христу? Вот и выходит, святые ни к чему, – т. е. как образцы для подражания. Молитвы к святым и святых за нас, общение церквей земной н пебесной и т. д. – это особая статья.
– А ну, как Христос-то образец не безусловный?
– Как!?...
– А вот как. Скажите-ка, вы не испытывали никогда жуткого чувства, даже какого-то огорчения за идеал, читая в евангелиях, напр., об ни за что ни про что проклятой смоковнице (Мф. 12:46 – 50), об отношениях Христа к своей матери, к язычникам (Мф. 10:5), или о том властном самоуверенном тоне (Мф. 8:21 – 22), которым Христос говорит о себе (Мф. 12:41 – 42) и учит служить себе и своему делу апостолов (Мф. 10:24 – 25)? Как он, завтракая у фарисея, читал ему строгую нотацию (Лк 11:39), а другому жалуется, что ему оказано при встрече мало почета (Мк 7:44)? Не казалось ли вам, что слова: «Кто из вас обличит меня в грехе» сами по себе по меньшей мере лишние? Правда? иной раз точно жалеешь, зачем Христос сказал эти слова? Зачем эти пятна па солнце? Есть ведь такое чувство?
– Признаюсь, вы меня сбиваете с толку. Да, я испытывал это чувство, но я никак не ожидал, что вы об нем заговорите. Я считал, что это мое оружие, последнее и самое сильное.
– А не замечали ли вы, что люди, христианству посторонние, – не ушедшие из христианства. – эти ренегаты не в счет – а именно посторонние – вовсе не всегда согласны, что Христос такое уж безупречное существо, и иные даже пожимают плечами на наше поклонение Христу как идеалу?
– Замечал и это.
– Вот то-то и оно-то. А знаете ли, в чем тут секрет?
– Я думаю, что и вы – или не знаете, или не скажете.
– Секрет по моему в том, что в Христе не видят идеала те, которые видят в нем только человека; и сами мы, что греха таить, читая иной раз о Нем, забываем, что читаем о Богочеловеке. Как только человек, Христос погрешал бы; но как Богочеловек-Мессия, он вел себя совершенно как должно. Тут нет самоуверенности и превозвышения; Христос просто зовет и ведет Себя тем, что Он есть на деле; и Он должен так Себя звать, потому что для спасения людей надо, чтобы они знали, Кто перед ними. Значит поведение Богочеловека не безусловный образец для просто человека; и святые затем и нужны, чтобы видеть на их примерах, чему в Богочеловеке человек не должен и не может подражать: изучайте их, и замечайте – какие черты образа Христова они воспроизводят или стараются воспроизвести, хотя бы враздробь, по-одиночке, а каких ни один из них и не старается воспроизвести.
– Но Павел подражал же прямо Христу; а Златоуст говорит: «Хотя и Павел он был, но все же человек». Почему же мы не можем?
– Потому что «хотя и человек он был, но Павел». Ведь у Златоуста-то в сущности это сказано. Да оно и не запрещается, ведь вы знаете, конечно, книжку «О подражении Христу»?
– Я понимаю вас и принужден сознаться, что на первый раз я отбит.
– А я должен сознаться, что не разберу, за кем осталось поле; Несколько раз я чувствовал себя в тисках: «Ihr habt mich weidlich schwitsen machen».
– Кажется, слова Мефистофеля?..
Из акафиста Пресвятой Богородице. (Опыты перевода па русский язык)
Кондак 7.
Когда Симеон готовился преставиться от нынешнего обманчивого века, Ты был подан ему, как дитя; но он узнал в тебе – Бога совершенного, и – пораженный несказанной мудростью Твоей, Симеон воскликнул: Аллилуия!
Икос 7
Господь, явясь нам, своим созданиям, показал новый образ творения, (именно): прозябши от бессеменного чрева и соблюдши его как оно было (таким же, каким оно было): – нетленным, да поем мы, воспоем мы тебя, Богородица, видя чудо, так восклицая:
Радуйся цветок нетления; радуйся венец воздержания; радуйся засиявшая образом воскресения; радуйся явившая пример ангельского жития.
Радуйся древо, блистающее плодами, от которых питаются верующие; радуйся древо, дающее листвою своей сладкую тень, под которым укрываются – многие...
Радуйся носящая во чреве путеводителя заблудших на правый путь (к правому пути?); радуйся рождающая искупителя плененных (грехом); радуйся умилостивление праведного судии; радуйся снисхождение ко многим грешникам.
Радуйся одеяние тех, кто лишен одежды дерзновения.
Радуйся любовь, превыше (превысшая?) всякого вожделения (сверхчувственная?).
Радуйся – невеста неневестная!
Кондак 8
Чудное рождение видя, отчудимся от мира, переселясь духом (умом) в небеса; ведь потому-то вышний Бог и явился на земле приниженным человеком, что он хотел возвлечь (вознести) на высоту взывающих к нему – Аллилуиа!
Икос 9
Витий многоречивых мы видим пред тобою, Богородица, безгласными рыбами: ибо они не могут (себе) объяснить, как (это) ты и осталась девою и родить возмогла; мы же дивимся тайне, но уверенно восклицаем:
Радуйся – обиталище Божественной премудрости; радуйся хранилище его (божественного) промышления.
Радуйся – ты любомудрых явила невеждами; радуйся – ты уличила, что искусники слова безсловесны.
Радуйся, ибо посрамились могучие совопросники; радуйся, ибо поблекли сочинители мифов.
Радуйся – распутавшая хитросплетения Афинские.
Радуйся – наполнившая сети рыбаков.
Радуйся – извлекающая из пропасти неведения; радуйся – многих осветившая познанием.
Радуйся корабль для хотящих спастися; радуйся гавань для пловцов по житейскому морю.
Радуйся – невеста неневестная!
Кондак 12
Избавитель всех людей, возжелав дать помилование дав лишних долгов, сам вселился среди удаленных от благодати Его и, разорвав рукописание, приветствуется всеми кликом: Аллилуиа.
Икос 12.
Воспевая рождество твое, прославляем все тебя, Богородица, как одушевленный храм; ибо, вселясь во утробе твоей, Господь, содержащий все в руке своей, освятил (тебя), прославил (тебя) и научил взывать к тебе всех:
Радуйся скиния Бога и Слова; радуйся большая Святого Святых; радуйся кивот, озолоченный Духом; радуйся неисчерпаемая сокровищница жизни; радуйся почетная диадима благочестивых царей; радуйся хвала честная благоговейных священников.
Радуйся церкви неколебимая башня, радуйся царства неразрушимая стена; радуйся – тобою воздвигаются трофеи, радуйся – тобою враги низвергаются.
Радуйся целительница моего тела, радуйся спасительница моей души.
Радуйся невеста неневестная!
Кондак 13
О всепетая матерь, родившая Слово святейшее всего, что свято; приняв нынешнее приношение, избавь всех от всякого злополучия и искупи от вечной муки взывающих к тебе – Аллилуиа!
Икос 1
***
Сил небесных предстатель
С небеси был ниспослан
Возвестить Богородице радость;
Прозвучал бестелесного глас –
И, узрев воплощенье твое,
Господи,
Он стал в изумленьи...
И так повел он к деве слово;
***
Славься!., тобою всем радость явилась,
Славься!., проклятье тобой истребилось;
Славься!., ты Адамово в рай возвращение,
Славься!., ты Евиных слез искупление.
***
Славься – высь, невосходимая
Бренным разумом людей;
Славься – глубь, неисследимая
И для ангельских очей!
***
Славься! Царь тебя выбрал
Оживленным престолом;
Славься! ты в объятьях –
Вседержителя держишь;
Славься, звезда –
Предвестница солнышка;
Славься, когда –
Станет Бог в тебе плотию;
Славься! тобой обновились созданья;
Славься! тобой стал младенцем – Создатель!
Славься, Дева безбрачная!
*****
Осуждено ли папство вселенским собором? – Да; в Халкидоне осуждено и низложено александрийское папство как светское государство. Socr. VIII, 7, 11, 13, Mansi 6 § 65; Dogmeng. А Harnack 2, 348. Гельцер Hist, Ztschr. 86, 197.
*****
«Доказано, что писания псевдо-Дионисия Ареопагита проистекают из монофизитских кругов, а эти, как доказано VIвселенским собором, всегда исповедывали единоволие. Итак, если православное истолкование возможно, то, значит, монофизит учит православно, или что монофизиты и синодиты учат по существу одному и тому же, и вся борьба есть спор о словах» (Гельцер Н. Ztschr 86, 219), Ср. у Hefele 3, 116: «На деле Дионисий выражается часто резко антимонофизически». Правильное заключение было бы для Гельцера: значит, возможен монофизитизм, отличный только на словах от православия, и, значит, что к нему принадлежал и псевдо-Дионисий.
*****
Болотов не исключал возможности, что «О небесной иерархии» написано (действительно?) Ареопагитом во II веке.
*****
Феодотианский епископ Наталий (210 г.) побужден вернуться в церковь и оставить сан ударами «ангелов» ночью (Harn. I, 668). Гм...
*****
Схема разделения церквей: в единой римской империи римлянам принадлежало политическое, а грекам – духовное господство. Но это разделение невозможно было удержать, когда явилась церковь – начало по существу духовно-политическое, и особенно – когда с уничтожением Западной Империи только в сфере церкви Риму оставалось поддерживать свои традиции, а с другой стороны – духовные интересы всего населения бывшей Империи совместились в церковно-учительских. Отсюда: папы, стремясь сохранить (не присвоить, как твердят греки) свое формальное юридическое главенство, поневоле начали узурпировать духовно-философское главенство у Греции; греки же почуяли это и насторожились.
*****
«Quod semper, ubique, ab omnibus». Чтобы исторически оправдать это определение, в виду наличности всегдашних и по всем вопросам так называемых «еретиков», это определение должно быть переделано так: догматом может быть признано лишь то, что всегда, кем-либо и где-либо исповедывалось (quod semper, vel a quibusdam, vel quodam locorum profitebatur). Т. е. догмат о вечности церкви требует лишь вечности церкви во времени, т. е. того, чтобы всегда, где-либо и кто-либо (а не все и всюду) составлял эту непрерывно преемственную церковь.
– А как же быть тогда с преемством и еретических мнений? Не вышло бы нескольких церквей?
– Пожалуй выйдет, если этот признак считать исчерпывающим дело. Он обязателен, но не он один.
*****
Боговдохновенность Писания дана св. отцам уже его историчностью. Феодорит резонно находит, что никакая египетская мудрость не могла открыть Моисею подвигов Авеля, Еноха, Ноя, Авраама. Итак, одно из трех: или 1) Моисей все это выдумал, или 2) не он все это и писал, или 3) он писал по вдохновению свыше. Для Феодорита, понятно, существует лишь третье предположение, которое потому для него и обращается в достоверность. Hist. relig. 1 (82 – 1293).
*****
Значение пастырских посланий: гностики своими «генеалогиями» хотели превратить христианство в религию на контовский манер, т. е. в космогонию, вообще – в суррогат философии и науки; автор (посланий) отстраняет эти задачи принципиально: все эти споры и изыскания «бесполезны и суетны» (с религиозной точки зрения (Тит 3:9). Забота должна быть лишь о том, чтобы верующие Богу предстояли делам благим, да оправдавшись Его (Христа) благодатью стать нам (им? – верующим) наследниками жизни вечной. Религия, хотящая быть знанием есть «pseudonymos gnosis», а знание, хотящее заменить и вытеснить религию, есть gnosis pseudomynos». Ср. 1Кор 4:19.
*****
Недоразумения славянского перевода: Странствия владычня –

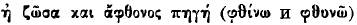
*****
В православном чине исповеди прекрасные положения об епитимиях, – прямо разрушающие понятие о причащении, как о механически очищающем средстве: недопущение до причастия впредь до надежного освобождения (себя) от (определенного) греха (аще удержишися от причастия, разрешатся греси твои), – испорчены сокращением сроков епитимии за дела законной праведности (т. е. внешней обрядовой праведности – пожертвования, посещение служб и т. п.?): не все (ведь) из таких дел способны помочь освободиться от самого греха, навлекающего епитимию, и получается наклон к католическому воззрению о «заслугах» и «выкупах», вместо чистого православного морализма. Требник ч. I лв – мв.
*****
В современном «чине православия» (изд. 1901 г.) анафема провозглашается между прочим: «помышляющим, что православные государи не волею особою Бога возводятся и особые дарования на них не изливаются», и – «дерзающим противу их на бунт и измену!» Это осталось от прежних личных политических анафем.
*****
Чтобы понять живучесть, жгучесть вражды и глубину разногласия «кириллиан» с «несторианами», полезно прочесть обличение иеромонаха Арсения на «Жизнь I. X.» Фаррара.
*****
Хомяков о чудесах: не будь грехопадения, чудес бы не было, и они были бы не нужны. Они для исправления дисгармонии, внесенной грехом частной свободной воли в мировую жизнь. (Завитневич Тр. К. Д. Ак. 1901, 1 – 876).
У славянофилов славяне предрасположены к подлинному христианству. Гарнак считается с той же идеей, но – о предрасположении германцев, и отвергает ее как шовинизм. Любопытно – кто в чем видит предрасположение, потому что отсюда видно, кто как понимает самое христианство.
Хомяков хотел видеть заграницей (1847 г.) Шеллинга и Неандера, интересуясь, «понимают ли они христианство и могут ли понять его» (Завитневич 1899, 3, 159 – 160). Ровно ничего он них не добился и решил, что они «шмерцы», но Неандера полюбил. Гримм «немец, но хорош». В общем «что за глупая страна теперешняя Германия».
Влад. Соловьев находит, что Хомяков противопоставил наличным католичеству и протестантству идеальное православие, между тем идеалы-де те же: синтез единства и свободы – в любви (это – мимо). Хомяков именно доказывает, что в католичестве н протестантстве затерян идеал, – что наличные (кат. и прот.) они (представляют) не извращение, а последовательное развитие своего начала. Проявления православия он старается тоже указать в жизни (Филипп – Иван IV, Никон – Алексей), но нисколько не скрывает от себя, что жизнь православных (или православная?) ни на Руси, ни в Византии никогда не осуществляла идеала; выбор между: действительностью – несоотвествующею идеалу и идеалом, но приниженным – ради соглашения с действительностью, или хотя осуществимостью.
*****
У Хомякова:
Иран и Куш
Израиль и Рим
Православие, Католичество
Славянофильство, Вещество (материализм?)
и рационализм.
Возражатели: «Иранское – есть просто незрелое, уравнение разума разсудку неизбежно при зрелости.
Я (думаю): «Иранское» и «Кушитское» в древности нераздельны. Хомяковское иранство» плод зрелой мысли, а не молодой; в древнем иранстве «иранства» не было, а явилось оно: и у поздних буддистов (Щербатской), и в финале догматики вселенских соборов, и в финале схоластики мистики, и философии в Канте [NВ. Это приблизительно: формы выражения (этих мыслей) я еще не отыскал].
*****
Японцы «кушиты», принявшие западно-европейское «кушитство» легко и органически; мы иранцы и потому (между прочим) до сих нор не усвоили его. Привить яблоню на яблоню дикую легче, чем на кедр.
С точки зрения Хомякова на Руси «тори» и «виги» не только земство и дружина (указываемыя им самим), но, в некотором особом смысле, государство и церковь; или вернее: каждый христианин, как член государства – тори, как член церкви – виг (в хорошем смысле – прогресса, усовершенствования). Завит. Тр. К. Д. Ак. 1901 г., 1, 628 – 632 стр.
*****
Люди, свободные от суеверий, часто удачливы в жизни, сильны, спокойны и веселы. Но для тех, для кого эти суеверия – религия, тут нет никакого урока, в силу идеи, что именно земное счастье есть признак полного осуждения, полной оставленности Богом, Который не хочет дать данному лицу хотя бы отчасти искупить свои грехи на земле земными страданиями. (Петр I и раскольники).
*****
Во сне и спросонок часто сочиняешь рассуждения и стихи, которые наяву оказываются до нельзя слабыми и даже нескладными, а когда сочинялись, то приводили нас в восхищение. Если смерть пробуждение, то мысли величайших гениев и прозрения величайших мистиков суть сны и просонки и, может быть, покажутся такими же жалкими и бледными самому заурядному проснувшемуся человеку. Вот оно... «зерцалом в гадании!»
*****
Суть схоластики и ее зло не в том, что она пытается доказать признанную наперед метафизику, а в том – что она хочет из откровения же извлечь и положительную науку (как теперь, наоборот, из науки надеются и пытаются извлечь религию – Гексли и т. д.).
Что такое «двойная истина схоластиков», или тезис: «что верно в философии, может быть неверно в богословии?» Не то же ли, что иногда предметы неизбежно рисуются нашей мысли не такими, каковы они по себе (помимо нас, наших чувств и сознания)? Если так, то она совсем близка к величайшим богословам IV – VII века, да и от Канта недалеко.
*****
Декарт усумнился во всех, между прочим – также и в математических истинах (alias – логических истинах); тем самым он оставил для себя возможность признания лишь таких истин, где никакого перехода от бытия или понятия к другому бытию или понятию не требуется, т. е. где понятие и бытие, или субъект с объектом, непосредственно совпадают. Такая истина лишь одна: бытие самого мыслящего субъекта, и выхода из солипсизма для Декарта никакого не может быть.
Допуская Бога, он ссылается на аксиому: что в действии (понятие Бога) не может быть больше, чем в причине (эта причина – не-Я); усумнясь, что дважды два четыре, он не имеет права на это ссылаться. Отсюда видно, 1) что «ясно и отчетливо» для него совпадает с невозможностью сомнения (или с невозможностью отвлечения), 2) что в математических истинах и логических законах он фактически не сомневался и 3) что он исходил не от одной аксиомы cogito – sum, а из нескольких и 4) что Бог ему собственно вовсе не нужен (? а может быть – все+таки нужен?). Кружок В. Ж. Курсов. 5, XI.
*****
«Ясно и отчетливо» у Декарта. Определяя дух и вещество, Декарт берет в основу принцип: что именно из того, что я дума, что я знаю о своем духе и о веществе, я могу отвлечь от них, не упраздняя их? и наоборот – с отвлечением чего исчезнет самый дух и самое вещество? Таким признаком и оказывается – для духа sogitatio, для вещества – протяженность. Итак. «ясно и отчетливо» в моем знании то: 1) в чем я не могу [сомневаться; 2) отказываясь от чего (от которого) я упраздняю для разума самый предмет знания. Оно совпадает с существом вещи.
*****
1904.20 XI. По Декарту ошибки в суждении суть собственно ошибки воли, побуждающей составить суждение, когда нет к тому достаточных оснований. Заблуждение есть недохват (de'faut); чтобы ошибиться не нужно иметь никакой способности, специально для этого созданной. По Гоббсу незнание действительно есть лишь недохват; что касается заблуждения, тут дело не так ясно: камни не ошибаются, но только потому, что вообще не рассуждают и не представляют. Итак, чтобы ошибаться, надо иметь понимание, или хотя представление; и то и другое суть положительные качества, приданные тем, кто ошибается, и им одним. Заблуждение есть составление ложных суждений и доверие к ним. Но что же такое ложное суждение, что такое истина? Согласие наших представлений о вещи с вещью, или различных предикатов, относимых нами к вещи, между собою? Декарт должен бы оправдаться так со второй точки зрения. Вполне ложных суждений нет: раз в моем представлении субъект связался так или иначе с предикатом, значит они могут быть связаны; вопрос лишь в том – как. Ложные суждения бывают двух родов: или они ложны потому, что предикат несовместим с другими предикатами, которые я же придаю субъекту, или он несовместим с другими предикатами, мне неизвестными. В первом случае недохват воли состоит в том, что я не забочусь о согласовании моего суждения с другими моими суждениями о том же предмете; во втором в том, что я без основания считаю мое мнение за полную истину (т.е. думаю, что мое суждение согласимо не только с известными мне, но со всеми существующими или могущими быть дознанными данными о предмете суждения). «Земля стоит на трех рыбах» – это не абсолютно ложное суждение, оно только выражено с пренебрежением к могущим быть к нему поправкам; правильно оно звучит: «Земля есть предмет, о котором старики утверждали (или утверждают), что он стоит на трех рыбах». Ошибки первого рода зависят от воли, и Декарт выходит прав; ошибки второго рода на всякой высоте науки возможны, так как всегда возможпы факты новые, заставляющие изменять суждение, но потому-то они и не ошибки вовсе со второй точки зрения, т.е. тут нет внутреннего между-усобного несогласия моих представлений о вещи.
*****
Что такое Я? Это – основа субъективного мира, так же как субстанция или бытие – основа мира объективного. Иначе оба неопределимы; оба недоказуемы; но непризнанием их упраздняется вообще мысль. Без «Я» некому воспринимать, без «субстанции» нечему восприниматься.
*****
Безусловное есть то, что предполагается существующим без всяких условий, встарину – реальных (условий), и поэтому оно определялось как беспричинная причина всего. Теперь субъективизм, т.е. чтобы ему (безусловному) быть, совсем ненужно, чтобы кто либо его ощущал или мыслил, и потому оно определяется как сущее (по себе). Ср. Соловьева «Критика отвлеченных начал. 289 – 9).
*****
22 – XI – 1904. Якоби о доказательствах бытия Божия.
Доказательство есть выведение низшего из высшего; но под Богом мы мыслим то, выше чего нет ничего – существо абсолютное; поэтому нельзя указать ничего, что было бы основанием его бытия. Итак доказать бытие Божие невозможно. Это же рассуждение у Ф. А. Голубинского.
Здесь из понятия Бога («под Богом мы разумеем») выводится невозможность доказать Его бытие, тогда как в онтологическом аргументе из того же понятия о Боге выводится необходимость его бытия. Онтологический аргумент излюблен (рационалистами) и неизбежен в рационализме. Но и Якоби-Голубинский рассуждают чисто рационалистически. Так как Бог выше всего, то нельзя указать ничего, что служило бы основанием его бытия – здесь явно смешение причины и основания. Бог есть абсолют, т. е. реально от Него все зависит, а Он реально ни от чего не зависит; иначе – под Богом мы разумеем первопричину всего. Отсюда ясно, что нельзя указать ничего, что было бы причиной Его бытия, ибо первопричина и есть то, что не имеет причины, а существует самобытно; ища доказательств бытия Божия, мы хотим указать не причину первопричины, а – основание, в силу которого наш разум необходимо должен предполагать первопричину, (это) не значит указать причину бытия первопричины: она – не потому существует, что мы необходимо предполагаем ее. Если Бог есть, то Он существовал бы и тогда, если бы никто в это существование не верил и логически не обязан был верить. И наоборот: пусть будет доказано, что без понятия первопричины наш разум не может обойтись; это не значит еще, что первопричина существует: ибо это значило бы из необходимости для нас предполагать Бога делать причину бытия Бога, тогда как мы условились понимать под Богом бытие ничем не причиненное. Итак, из доводов Якоби-Голубинского следует не то, что невозможно логически доказать бытие Божие, а то – что это бытие мы не в праве признавать реально зависящим от наших доказательств. Доказательства же эти (если удадутся), то будут иметь лишь тот смысл, что ими будет выяснено, что человеческий ум необходимо предполагает первопричину, и значит отрицать Бога можно, лишь допуская предположение, что неизбежное для нашего ума может быть нереально. – NB. Эти мысли мною далеко не проработаны; цель этой заметки – только подчеркнуть, что Декарт н пр. из понятия Бог выводят доказательство Его бытия, а Якоби из того же понятия Бога выводит невозможность какого либо доказательства Его бытия; и оба в данном случае идут рационалистическим путем. Заметил ли Кант и разобрал ли эту антиномию?
*****
Что значит Гегелево отождествление понятия и бытия? По Хомякову – и кажется это верно – собственно не понятие, а понимаемость у Гегеля есть бытие. Т.е.: бытие есть то, что – или мыслится (cogitatus), или себя мыслит, или – может быть мыслимо, или мыслилось бы – если бы было кому его мыслить. Под мыслью же разумеется декартовское cigitatio, т.е. и восприятие тут же.
*****
Декартово :"чувства иногда нас обманывают» с его точки зрения неточно. Он должен бы сказать: показания чувств иногда противоречать друг другу и сами себе, и мы не знаем, которое из показаний верно, верно ли хоть одно, или, наоборот, – не верны ли оба (шарик под двумя пальцами не раздваивается ли)? Итак, возможно, что чувства нас обманывают.
*****
Ссылка Локка на идиотов неудачна («у них нет идеи Бога, значит она людям не прирождена»). Также можно бы сказать: способность зрения не прирождена человеку, так как есть слепорожденные.
*****
Под гору – что дальше, то ходче. Все дивятся быстрым успехам прогресса и почти никто не задумается над этим; а между тем дивиться нечему, а призадуматься есть таки причина. Слишком две тысячи лет везли свой воз люди в гору, тихо, трудно, останавливаясь, озираясь. Надоело наконец, сели они сами на воз и катай, валяй – скоро, да – не в гору, а вперед по откосу, вниз. Мы-де нашли настоящий легкий путь. Quo, мол, plus scimus eo velocior progredimur! Да разве он может быть? Ведь это – против закона тяготения. Идет движение быстро – значит это скат назад к варварству.
*****
Есть два разряда великих людей. Одни велики тем, что качественно безмерно выше рядового человечества; самые задачи их бытия, самые предметы их духовной жажды не те, что у большинства; любя и болея за большинство, желая служить ему, они служат ему именно тем, что пытаются открыть ему глаза на то, что все его беды и нужды можно избыть лишь повернув, вслед за самим пророком, к этим новым задачам бытия. «Возьми крест свой и иди за Мною», «Ищите прежде царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам», сказал Величайший из этих великих. Другие, по тем или иным причинам «живут одни», «дорогою свободной идут, куда влечет свободный ум»; счастливые сами на своих высотах, они не жалеют, а скорее презирают человечество, несчастное по собственной вине; таковы: Гете, Шопенгауер. Эти великие люди иногда находят понимание долго спустя (после смерти); иногда вовсе не находят; человечество рядовое относится к ним различно: невольно, хотя смутно, чувствуя их величие, оно силится перекричать или убить того, кого не может переспорить, или – перекроить его учение по своему пониманию и затем всуе принимается превозносить его имя; истинных учеников у них и при жизни и потом очень мало, хотя ложных – пруд пруди.
Другой разряд великих людей выше толпы не качественно, а лишь количественно; исповедуя в сущности те же догматы, что и толпа – в теории, ища в жизни того же, что и толпа – на практике, они выдвигаются потому, что делают то и другое безмерно лучше большинства; это большинство героев истории, которых толпа назвала великими, потому что видит в них (в том или ином отношении) апофеоз себя самой. Таковы Наполеон, Бисмарк; в науке Гегель и Дарвин. Эти великие люди делают историю, ибо за ними во все времена – число и сила. Гении же первого разряда – лица в истории эпизодические, и становятся деятелями лишь по видимости – когда толпа подставит, как уже сказано, под их имя свое понимание, выработанное нередко одним или многими людьми второго разряда (Христианство в истории).
*****
7Догмат веры – есть метафизическое положение, дающее человеку нравственную возможность жить и определяющее, как и для чего ему жить. С этой точки зрения бессмертие человека и загробное воздаяние – в христианстве, и учение о прогрессе – в религии человечества суть догматы строго аналогичные.
Преимущество последнего учения – в том, что его метафизический характер до сих пор плохо сознается. Большинство апостолов позитивизма (Литтре, Спенсер и др., впрочем – не Конт) проповедуют прогресс, выдавая его за эмпирическую истину, и последователи принимают его за таковую. Слабость его – в том, что в нем нет силы нравственно переродить человека; кто сам по себе нравствен, для того учение о прогрессе бесспорно освещает его жизненную деятельность чудными, радужными надеждами; но кто сам по себе безнравствен, для того в этих надеждах нет ничего радужного и ничего обязывающего осуществить их. Он всегда может сказать себе: пусть есть прогресс – мне до будущего и до других нет дела; и если ему не нравится настоящее, он имеет логическое право уйти в квиетизм, упразднить вместе с самим собою свою роль как деятеля прогресса, или жить в свое удовольствие. Даже кто нравствен сам по себе, может, – если к тому поведут его жизненные впечатления, – задуматься над вопросом: что лучше – купить ли тысячами несчастных поколений счастье потомков далекого будущего, или упразднить самую историю, благо люди могут сами уничтожить себя. Плюс в далеком будущем покроет ли с избытком минусы прошедшего, настоящего и более близкого будущего? И если нет, то не предпочесть ли нуль – минусу, остающемуся в результате? Что делать, как предотвратить этот вывод? Учение о прогрессе должно объявить, что счастливых поколений будет бесчисленное множество, что и в будущем никакой катаклизм в роде ледяного периода, или средневекового католичества, не постигнет человечества и не положит начала новым несчастным поколениям. А объявить этого оно не может; это значило бы «бросить маску эмпирической истины, т.е. отказаться от главного своего преимущества; средство первых позитивистов уверять, что мы теперь как раз накануне золотого века (см. напр. последнюю страницу Бокля) – не годится, потому что скоро изнашивается; уже теперь оно износилось. Так первые христиане, горячо веруя и пылко желая пришествия своего Господа и его суда над миром, ожидали его – завтра, послезавтра, после смерти Нерона, разрушения Иерусалима... И тут и там повторяется та же история: предсказание не сбывается, исполнение отсрочивается все далее и далее в безобразно растущей прогрессии, а между тем в той же прогрессии мелеет лихорадочно возбужденная энергия.
Вторая слабая сторона учения о прогрессе – его противоречие видимости, и потому несвойственность уму человеческому. Несмотря на большое распространение этого учения в наше время, я смело утверждаю, что оно несвойственно человеку в гораздо большей мере, чем, напр., догмат безсмертия души. Если оно теперь подчинило и подчиняет себе столько голов, то исключительно благодаря указанному уже обстоятельству: оно проповедуется не как догмат веры (как хотел Кант и как тому и следует быть8, а как эмпирическая позитивно-научным путем дознанная истина, с которою оно имеет огромное, но совершенно внешнее обманчивое сходство. Это доказывается лучше всего тем, что его господство начинается как раз с XIX века – с тех пор, как оно облечено в позитивно-научные формы и было, по излюбленному, но совершенно неточному в данном случае выражению, «доказано». До тех пор оно, хотя и не раз формулировалось и излагалось – решительно не могло снискать себе популярности. Так учения о шарообразности и движении земли, о изменении и перерождении организмов, также противоречащие видимости и потому несвойственные непосредственному уму, по праву носят имена Коперника и Дарвина, которые заставили умы принять их в качестве научно доказанной эмпирической истины, хотя высказывались эти учения как догматы еще Пифагором и Эмпедоклом.
*****
История относится к социологии, как палеонтология к зоологии. Палеонтология – наука, ибо зоология – наблюдательная наука; а социология – пока не наблюдательная наука, ибо строится в значительной мере на самой истории, которая сама, без социологии, наукою быть не может. Исторические известия и памятники – осколки костей допотопных животных; как их дополнить и связать должна бы говорить социология, а на деле это говорит – воображение, руководимое аналогией и психологией (парейозавры до открытия Амалицкого, т. е. реставрация парейозавров до открытия их полных скелетов).
*****
Хомяков о славянской расе, и теория – что национальный характер есть произведение истории, так ли уж несовместимы? Хомяков только начинает эту историю гораздо раньше Милюкова еtс, а далее – именно история должна у него делать славян и в частности русских тем, что он в них видел.
У С. Трубецкого есть хорошая фраза: «история есть не простая совокупность событий, случившихся с каким либо народом, но то, что действительно пережито им» (В. Ф. и Пс., 7, 31). Действительно – не только лица, но и народы не одинаково много выносят из своей истории, и мера, в какой они способны обрабатываться историей, есть абсолютная ценность народности (Русь!..)
*****
По Канту прогресс мысли в смене религии метафизикой, метафизики – наукой. По моему, если он в чем может состоять, то в разграничении их сфер и в самостоятельном развитии каждой. Но вот вопрос: если еще позитивизм стоит на смене, то, очевидно, недалеко еще ушло разграничение; а если так, то где же ты, прогресс?
*****
«Петр россам дал тела, Екатерина душу». Эта фраза XVIII века в переводе на язык XIX значит, что Петр только одел бояр и дворян в камзолы и парики, а Екатерина привила им европейские идеи, стремления и интересы. «Оторванность» русской интеллигенции от народа, в которой постоянно обвиняют Петра, есть дело не его, а Екатерины, точнее – екатерининского времени. С нее начинается «воздушная», по выражению Страхова, история русского общества. Волтерианство, космополитизм сверстников Александра I, декабристы, западники и славянофилы 40-х годов, нигилизм, современное декадентство – это все ее подарки; – история не той души, которую дал русским Бог, а той, которую россам (т.е. русским дворянам) даровала Екатерина. Но главная беда еще не в уродствах нигилизма и декадентства. Уже со времени Александра I, и даже еще ранее, вместе с обезьянами европеизма явились искренние, серьезные русские европейцы; вместе с фонвизинским Иванушкой явился живой Новиков. А европейская духовная и социальная жизнь с конца XVIII века и доселе идет путем, на который русская никоим образом встать не хочет и не может. Поэтому русским людям, которые лично по развитию европейской интеллигенции вполне в версту и вполне искренно проникнуты ее идеалами п потребностями, жизнь в России уже с Александра I и доселе стала, и будет еще некоторое время становиться, все душнее и душнее. Для нашего народа конституция теперь ужас и гибель н потребностью может быть никогда не будет, а русской интеллигенции задыхаются под самодержавием сами и, судя о народе по себе, думают, что и он задыхается, и что нельзя лучше служить ему, как «Колоколом» или Тверскими адресами, или конституциями графа Лорис-Меликова и пр. Нельзя требовать, даже не следует желать, чтобы оно шло навстречу этой интеллигенции: оно должно нрежде всего думать о нуждах масс, которые (бедные!) до сих пор не снабжены «душой» никакой Екатериной. Многие из так назыв. реакционных мер Александров II и III и Николая II, надо сознаться, вовсе не реакция, а снисшествие с теоретических, но для России негодных, высот 50-х и 60-х годов до уровня народной нужды. Но пожалеть эту интеллигенцию можно от всей души. Ее удел – или ошибки или самоотвержение. Последнее становится все чаще и чаще. Начало отрезвления русского дворянства, его возвращения к реальной жизни русского народа началось с 19 февраля, когда кончились нелепые каникулы «дворянской вольности». С 40-х годов упорно обвиняют Петровскую реформу в недостатке духовности, идейности, в материальном внешнем характере. Мне кажется, что именно в этом-то и ее сила. Сознательно или нет, но Петр переносил к нам только то, что было безусловно всем нужно, и всеми могло быть воспринято – не порождая розни между классами; после него неизбежимый исторически процесс мог идти приблизительно ровно и правильно. Петр распахал и осушил тундру и посеял горох и ячмень. Екатерина поставила на тундре парничок, в котором до сих пор томятся и кое-как, желтые и тощие, прозябают и тянутся к далекому солнцу, в тундре никому ненужные, заморские цветы. Такими парниковыми цветками были, хотя в разной мере, и сами цари Александры I и II (как относительно первого это указал Ключевский). Они были гораздо образованнее и развитее Николая I и Александра III, но именно поэтому гораздо менее народны. Русскому монарху труднее, чем всякому другому в его положепии, многостороннее идейное образование соединить со способностью верно понимать своих подданных, а в настоящее время последнее едва ли не важнее первого; хотя – желателен, конечно, идеальный синтетический тип.
Зачем же и как сделала это Екатерина? Во-первых она была немка и оставалась ею всегда. Она не знала и не любила русского народа и вряд ли хотела его знать; достойно удивления, что ее комедии, ее заученные наизусть пословицы, словечки и прочие приемы тонкого (по своему) популярничанья еще продолжают обманывать иных, когда они не обманули ни Радищева, ни Новикова, ни Фонвизина. Чтобы угодить дворянам, она «отменила все сделанное Петром III», но подтвердила указ о вольности, пожаловала их в действительные бездельники и выписала для их забавы заморские игрушки последнего образца. Что это были игрушки, но крайне опасные игрушки, чтобы это видеть, особой проницательности не было нужно. Но она наверное знала, что если и будет что неладное, то не сейчас, и на ее век еще хватит. Заботясь не о благе русского народа, а о своей прочности на престоле и популярности среди дворян, державших ее незаконный престол на своих плечах (а также – у западных лнбералов, звонивших по всему свету славу северной Семирамиды), она была дворянской царицей и могла слыть народной в те времена, когда все, что не приняло души от нее, считалось мертвой массой, а что не приняло тела от Петра, – совсем не признавалось существующим. Да! Петр россам дал тела, Екатерина – душу! Чтобы эту душу . . . нечистый побрал! (Помечено: 17 марта 1896 г.).
*****
«Очень оценили бы подробный ответ в сто и более слов, объясняющий значение цель и вероятные последствия земской агитации. Американцы глубоко заинтересованы» (телеграфирует Сев.-Амер. газета Толстому; см. «Наша Жизнь», «Слово», «Новое Время» 29 декабря 1904 г.).
«Цель агитации земства ограничение деспотизма и установление представительного правительства. Достигнут ли вожаки своих целей или будут только продолжать мутить общество – в обоих случаях верный результат этого дела будет отсрочка (а) истинного социального улучшения.
«Истинное социальное улучшение может быть достигнуто только религиозным и нравственным совершенствованием всех отдельных личностей. Политическая же агитация, ставя перед отдельными личностями губительную иллюзию специального улучшения посредством изменения внешних форм, обыкновенно останавливает истинный прогресс, что можно заметить во всех конституционных государствах: (во) Франции, Англии, Америки. Л. Толстой».
Ad quod Commentarii:
1) Совсем не удивительно, что Толстой не ждет добра от конституции, а удивительно то, как это его заявление в 1904 г. могло произвести сенсацию. Читают, читают люди Толстого, кричат, кричат о нем – а между тем его неизменное мнение о коренном вопросе общественной жизни оказывается для полсвета имеет всю прелесть новизны! Спрашивать Толстого о конституции – не то же ли, что спрашивать Дарвина в конце 70-х годов, постоянны ли, по его мнению, виды? Головы – точно какие-то сита: задерживают только то, что им сочувственно в чужих мыслях, а все остальное, сколько ни лей, все уходит насквозь! Если с Толстым так, то что же делать не столь знаменитым смертным, чтобы натвердить господину Omnes хоть самое существенное из своих мыслей – не с тем, чтобы убедились, а хоть бы запомнили, хоть бы запомнили-то! – что вот такой-то думает так-то! Есть отчего в отчаяние прийти...
2) Опять прав еп. Антоний, что все морально-социальное воззрение Толстого требует церковно-христианских посылок и (без них) висит в воздухе, так как ум его не хочет их принять. «Истинное социальное улучшение может быть достигнуто только религиозным и нравственным совершенствованием отдельных личностей» – ведь это исконная программа православия, но при «дыромоляйной» [Влад. Соловьев] религии Толстого эта программа равна утверждению, что истинное социальное улучшение невозможно.
3) (а), «Отсрочка...», «останавливает истинный прогресс...»! Завидую я Толстому! В 77 лет и такая вера... Ну не ясно ли, что с его точки зрения люди во всю всемирную историю почти только и делали, что отсрочивали истинный прогресс, а если так, то его нельзя было и «останавливать», ибо он никогда не начинался...
*****
Подбор – это печать бессмысленности
и абсурда на челе мироздания,
ибо это замена разума случайностью.
Н .Я .Данилевский. Дарвинизм,ч .II стр .529.
9В этих словах покойный писатель, со своею всегдашней точностью мысли и языка, высказал главное и самое общее испование, по которому дарвинизм слывет за антирелигиозное учение. А. С. Фаминцын возразил, что «случайность, характеризующая теорию Дарвина, не абсолютная, а относительная», что доказывается уже тем, что Дарвин признавал личного Бога. Н. Н. Страхов, в свою очередь, признал такое соглашение дарвинизма с религиею «возможным», но, говорит он (Борьба с Западом, ч. II, стр. 526), «чем беднее наше понятие о Боге, тем легче материалистам против него упираться»; всякое указание на важность роли случайности в мире ведь согласно с материализмом, подтверждает его. Под абсолютной случайностью Данилевский разумел то же, что обыкновенно разумеется под «полной», «слепой», «чистой» случайностью; следовательно она, хотя и не делает религии абсолютно невозможною, несомненно усиливает средства материализма для борьбы с религиею.
Так ли это? Мне кажется, А. С. Фаминцын оказался как бы побежденным в споре потому, что не развил своей мысли до конца; и он и Н. Н. Страхов нс выяснили с точностью понятия случайности: не определили, в каком смысле и в какой мере они допускают 1) ее существование в мире, 2) законность часто делаемого ее противопоставления необходимости т. е. закономерным явлениям природы. Страхов (и Фаминцын тоже) несомненно признает, что существуют «случайные» уклонения, что они могут «случайно» наследоваться, и т. д., хотя и доказывает, по руководству Данилевского, что не ими движется преобразование органического мира; он безоговорочно приводит мнение материалистов, что в мире мы ничего не усматриваем, кроме случайности и необходимости. Не могу особенно не пожалеть, что он не разъяснил точнее, какую разницу он видит в выражениях: «абсолютная случайность» и «полная, слепая, чистая случайность». Когда требуется установить философски точное понятие, нельзя ссылаться на обыденное словоупотребление, часто совершенно неудовлетворительное с философской точки зрения.
Итак, что такое случайность? Понимать под случайностью безпричинное событие в мире явлений нельзя: такое понимание внутренно противоречиво, так как мир явлений есть внешний мир, отлитый в формы сознания, из которых главная – причинность. Остаются два логически возможных понимания.
1) Можно придать этому слову метафизический смысл, понимая под случайностью безпричинное событие в мире вещей в себе, которому только мы, в силу внутреннего требования нашего сознания, несправедливо, хоть и неизбежно, предполагаем, приписываем, какую либо причину. Это понимание равно признанию причинности формой только сознания, а не бытия: если не все имеет причину, то нет оснований видеть причинную связь где бы то ни было, раз допущен хотя один факт без причины, нет оснований считать не мнимой связь и всех остальных; как ни будь постоянна их последовательность – это постоянство мы можем объявить опять-таки «случайностью», в смысле раз уже допущенном – в смысле безпричинности.
2) Другая возможность велит признать за этим словом относительный, и только относительный, смысл: случайность есть факт в мире явлений, причин которого, несомненно существующих, мы не знаем и, может быть, и не можем знать.
Почему? Предположите что угодно: редкость явления, мелкость и многосложность его причин, отсутствие у нас органа восприятия этих причин и т. д. Эпитеты «полная», «совершенная», «чистая», «абсолютная» случайность при этом понимании не вносят в самое понятие случайности ничего нового, а только подчеркивают, что мы о причинах названного случайным факта ровно ничего не знаем, ровно ничего правдоподобного не можем предположить, чем ничуть не задевается наше убеждение, что эти, неизвестные нам, причины существуют. Дарвинизм, очевидно, не может понимать случайность в первом из указанных, логически возможных, смыслов. Он говорит о мире явлений; метафизический вопрос – существует ли причинность в мире вещей в себе? его не касается, и решение его ничего для него не дает. Если же он (как это нередко делается по недомыслию), вздумал бы смешивать области феноменального и трансцендентного бытия п перенес бы понятие случайности-безпричинности в мир явлений, – то этим он упразднил бы вообще всякую индуктивную аргументацию, целиком основанную на причинности, т. е. упразднил бы разом всю естественную наужу и с нею самого себя. Поэтому несомненно, что он понимает случайность во втором смысле, т. е. как причинность, которая еще не вскрыта, или и не может быть вскрыта.
Где есть причинность (как бы ни были мелки, сложны и скрыты причины), там и законы природы (хотя бы в виде их мельчайших, так сказать, разветвлений и сочетаний), а где законы природы, там верующая мысль видела и видит план, порядок, акт всемогущей, разумной Воли. Следовательно широко признаваемая дарвинизмом относительная случайность (или, как предложил называть проф. Кареев, «феноменологическая» необходимость) отнюдь не вытесняет для верующей мысли разума из мира. Совершенно неуловимая причинность (так называемая – абсолютная или чистая случайность) для верующей мысли – знак непосредственного вмешательства верховной воли; поэтому дарвинизм, отказывающійся объяснить, почему появляются индивидуальные изменения, почему они наследуются, что так тщательной в долгие сроки их сортирует, бережет и накопляет, – даже благоприятнее для православной догматики, чем до дарвиновское воззрение, более благоприятствовавшее деистическому понятию о Промысле: он так сказать заставляет Промысл входить в мелочи, устанавливает (опять оговариваюсь – все это для верующего ума) постоянную направляющую деятельность Его к усовершенствованию мира.
Но, говорят, если так, если дарвинизм не элиминирует Творца из мира, и даже теснее соединяет их – то за то он тем самым заставляет верующего понизить свое понятие о Верховном Разуме. Бог, постоянно вмешивающийся в процесс усовершенствования мира, выводящий в нем породы, как голубятник или конно-заводчик в своем заведении – не так высок, как Бог, все премудро на век устроивший в момент творения, так что никаких переделок и усовершенствований в мире не нужпо. Многим может казаться так. Но я говорю только, что первое понятие более православно, а не то, что оно более высоко. Вся цель моих рассуждений показать, до чего нелеп всеобщий поход нашего богословия против дарвинизма, и не более того. Если наши церковные писатели отвергают мысль, что частные вмешательства Бога унизительны для разума Бога по вопросу о чудесах – не понятно, почему они с жаром защищают ее, полемизируя с дарвинизмом. Говорят: чудеса суть вмешательства Бога, по особым случаям, в нравственных целях, для человека. Но ведь но православному воззрению и весь мир создан Богом для человека, проклят был в делах человека, будет обновлен и преобразован в последний день для блаженства воскресшего человека. Почему богословию не отозваться на науку так: если дарвинизм прав, то значит Бог совершенствует мир по мере возрастания в людях дела спасения? Не говорю уже о том, что если осуждать, то осуждению подлежит не один дарвинизм, а вообще все теории, кстати и некстати называемые эволюционными; за что же терпит один дарвинизм? Наконец, если кому не нравится предполагать частные вмешательства Промысла, пусть вместо того предположит безграничное предведение и предустроение Божественным разумом всех комплексов мелких причин и следствий, от которых зависят результаты жизненной борьбы и отбора (так делает А. С. Фаминцын).
Но это еще вовсе не главное; главное то, что все рассуждения, в роде приведенных на последней странице (сейчас?), страдают, так сказать, заносчивостью, человек тут непомерно много берет на себя. Что труднее: создать план вселенной и устроить её в 7 дней, дав ей немногие законы, которые бы обеcпечивали навсегда ее существование в красоте и стройности первого дня творения; или – создав тот же план, на хаотически-безобразной земле поставить протоплазму в такие условия и снабдить ее такими свойствами, чтобы она превратилась, через много-много лет, с одной стороны, положим, в павлиний хвост, с другой – в мозг Ньютона? Ведь несомненно, что сам Ньютон стал бы в совершенный тупик и перед той и перед другой задачей; уже одна общая обеим им часть – создать в уме картину современной вселенной без всякого данного извне материала – совершенно непосильна человеку, фантазия которого лишена способности чистого творчества и работает только над полученными извне представлениями. А если обе задачи совершенно неразрешимы для нас, то как же мы возьмемся решать, которая труднее. Ясно, что и то н другое понятие о деятельности в мире Высшего Разума предполагает этот разум бесконечно высшим, чем наш; и не смешон ли муравей, рассуждающий о том, чей гений выше – Платона или Канта?
Таким образом я прихожу к выводу, согласному с выводом А. С. Фаминцына: для религии дарвинизм безразличен, и я недоумеваю, как г. Страхов мог счесть этот вывод «невероятным самим по себе». Напротив, это единственный вывод, отвечающий общему правилу, что всякая истинно позитивная научная теория, именно вследствие своей позитивности, одинаково хорошо примирима с какой угодно метафизикой; только метафизические системы между собою и научные между собою могут быть в противоречии. (Я не показал, как связать (или связан?) дарвинизм с материалистической метафизикой только потому, что это вопрос, во-первых, хорошо разработанный, во-вторых, выходящий из рамок моей темы). «Вопль религиозных людей» против дарвинизма – плод такого же недоразумения, как вопль их в XVI веке против Коперника и Галилея. Суждено ли дарвинизму, как системе Коперника, стать конститутивной гипотезой, или его значение исчерпывается регулятивным, методологическим – религия и богословие от этого не выиграют и не проиграют. – Аминь.
Примечание. Нет, можно нам возразить теперь: если бы вопли религиозных людей против дарвинизма и ликования материалистов и атеистов по поводу его раздались только по недоразумению, то они не были бы так всеобщи и упорны. Это совершенно справедливо. Но дело не в том, что предшествующее рассуждение в основе ошибочно, а в том, что наша духовная литература и оффициальная церковь, а также и громадное большинство в простоте сердца верующих христиан, чувствуют себя задетыми дарвинизмом гораздо глубже и совсем не с той стороны, как немногие светские христиане-философы, в роде Данилевского или Страхова.
В действительности, как и должно быть тому, эти христиане-философы далеко не все находят дарвинизм анти-христианским, и в их среде вопль против дарвинизма был далеко не общим. Сам Дарвин был и остался (по крайней мере, как он думал) христианином; наши проф. Бекетов и Фаминцын, Влад. Соловьев др., если и не принимают дарвинизма за безусловную истину – то во всяком случае медлят и раздумывают, отнюдь не на основании христианско-нравственных требований своего духа. Итак, он удовлетворительно примирим с этими требованиями не для меня одного, а для многих, притом, несомненно, умных и честно-мыслящих христиан. Если граф Толстой объявляет все эти примирения мнимыми, то ведь он делает это, не забудем, с совершенно особой точки зрения своей soi disant христианской системы, – с такой точки зрения, с которой Филарет московский представляется едва ли не более злым и опасным врагом Христа, чем все Геккели и Молешотты. Дело гораздо проще и состоит оно, думается мне, в том, что учение Дарвина, повидимому (NB. точнее – данные и гипотезы эволюционной теории настоящего времени), совершенно непримиримы с догматом творения мира и человека, иначе говоря – с библейской космогонией.
Примечание ред. Далее автор бегло говорит о некоторых известных ему (NB. статья написана 1885 – 1892 гг.) попытках примирения и соглашения библейской космогонии с современной ему эволюционной, – о впечатлении, которое производят эти попытки (по личному опыту автора) на простецов-христиан и об отношении к ним столпов-иерархов оффициальной церковности. Попытки эти автор признает неудачными. Эта часть статьи для настоящего времени очень устарела и не представляет поэтому интереса; в ней, понятно, не могли быть приняты во внимание данные и гипотезы положительной науки, появившиеся за последния 25 – 30 лет (напр., гипотеза Фая о порядке появления членов нашей планетной системы (образование солнца после земли); об отношении библейской космогонии к вавилонской и др.). Эту часть статьи мы, поэтому, здесь опускаем.
*****
По поводу спора о спиритизме между Влад. Соловьевым и Н. Н. Страховым (Борьба с Западом, кн. 2, стр. 275 – 277)10.
Соловьев: «Маятник качается по строго определенным законам механики; но признавать далее, что и остановлен и приведен в движение маятник может быть только механическою причиною – значит из области научной механики переступать на почву той умозрительной системы»... и т. д. словом – материализма.
Страхов: «И качания и остановка и приведение в движение – ведь все эти три случая суть равно механические явления, явления движения... Если спиритические духи могут остановить маятник или привести его в движение, то могут и изменять его качание, и наоборот».
Это, мне кажется, опять пример того, как Страхов осиливает противника не столько своей внутренней правотой, сколько благодаря несомненному перевесу своего точного языка и ясной мысли над скверным положением мысли у его противника. Так, как она изложена, защита спиритизма Соловьевым у Страхова бесспорно разбита в прах.
Но, если не ошибаюсь, Соловьев (и спириты) хотел сказать совсем не то, что у него вышло. Вот как я понимаю его мысль и вот как бы я изложил ее. И спириты и их противники согласны, что, напр., маятник качается по строго определенным законам механики. Это значит, что – оставляя пока в стороне вопрос, одни ли механические причины управляют механическими явлениями – пока в его движении (остановке качания, приведении в движение – все равно) замешаны одни механические причины – эти причины действуют, так, как предписывают эти законы; кто не допускает в качестве причины движения иных воздействий, кроме механических – для того «пока» в предыдущей фразе покрывает все случаи, равняется слову всегда; и он, если увидит эти законы нарушенными, скорее признает, что нарушение это – кажущееся, что в сущности оно – правильное следствие какой-либо механической же причины, ускользнувшей от его внимания, или – даже обман его чувств, чем вмешательство немеханической причины. Кто, напротив, допускает, что механические явления могут быть вызваны и не механическими причинами, не подчиняющимися законам физики, для того – могут быть случаи, где он предположит именно действие этих немеханических причин, и в этой позиции окажется неопровержимым.
Итак, говоря коротко и ясно: суть спора в том – возможно ли, чтобы у механических явлений были немеханические причины? Как и сказал Н. Н. Страхов, если спиритические духи могут остановить маятник, или привести его в движение, то они могут и изменять его качание; если не могут одного, то не могут и другого. Совершепно верно. Такова дилемма, в которой спириты принимают первую половину, а их противники – вторую половину.
Кто же из них прав? По моему (хотя я лично отвергаю спиритизм), это – вопрос метафизический, т. е. неразрешимый. Страхов думал его разрешить, установив точно понятия материи и духа, «очистив самое понятие духа от примеси всяких материалистических представлений» (стр. 278). Тщетная надежда! Предположим, он выполнил бы задачу без сучка и задоринки, доказал бы с очевидностью, что логически немыслимо иное понятие о духе, как исключающее возможность воздействий его на материю в духе (или в смысле) спиритизма. Верующий спирит ответил бы ему: а кто мне поручится, что дух на деле таков, как человеческий разум вынужден о нем мыслить? Может быть, его сущность логически противоречива, и правильное понятие об нем для разума (нашего) невозможно, а за то – возможны заявления им себя нам в чувственно воспринимаемых образах и явлениях.
Опять ряд явлений, допускающих любое истолкование – материалистическое, рационалистическое или мистическое; все три недоказуемы, все три неопровержимы. Возможно ли человеку остановиться на этом неведении? Уже по страшному упорству и напряженности его попыток решать вопрос о сущности материи и сущности духа видно, что человеку надо эти вопросы решить
Может быть, подумают, что тут другие причины; что мистическое воззрение спиритов вредно для успехов положительной науки. Не думаю. Всякий разумный спирит (как Бутлеров) не сложит рук при виде нарушения физического закона, а прежде всего будет со всею тщательностию искать, нет ли ему естественных причин; он не задумается согласиться, если другие укажут ему механическую причину явления, которого он механически объяснить не умел; (но) все эти отказы его будут – частными и ничуть не затронут его принципа. А от спиритов, неспособных понять это, право, наука немного бы выиграла, если бы они и не были спиритами. Значит, причина не тут.
*****
Метафизика11, как наука, не имеет никаких прав на существование. Раз решившись сомневаться во всем, что не может быть доказано, и начав сначала, т. е. – обследовав научно свои познавательные способности и средства – человек не может быть уверен ни про какую вещь, ни про какие их (вещей) отношения и свойства, что они на деле таковы, какими ему представляются, на какой бы то ни было стадии развития его научной мысли.
Вот общая причина этому факту. Доказать значит – сделать для чистого ума неизбежным признание известного положения, раз признано некоторое другое положение. Другого смысла это слово пе имеет. Но ум, познавший себя, не может не сознаться, что может быть неизбежное для него – вовсе не неизбежно вне его. В мире явлений, мире – созданном им по своим принципам, неизбежное для него (ума), конечно, всегда будет осуществляться; а мир, принимаемый им за подкладку и причину мира явлений, об этих принципах, может быть, ничуть не заботится. Пытаться же «сделать неизбежною для ума» мысль, что неизбежное для ума неизбежно для вещей – очевидный circulus vitiosus. Пусть мысль о соответствии мира явлений миру вещей неизбежна для ума; ее для ума неизбежность опять-таки не ручается за ее осуществленность помимо ума. Это в сущности онтологический аргумент в самой общей его форме, на который ум отвечает: да, спорить у меня нет сил, но это ничего не значит.
Не надо думать, будто, напр., астроном, доказав, что не солнце движется вокруг земли, а земля вокруг солнца; или физик, доказав, что качественные отличия явлений тепла, света, электричества мнимы, – что все эти явления суть разновидности движения, – проникли в сущность вещей хоть на пядень глубже, чем первоначальное наивное воззрение. Астроном, путем зрительных наблюдений и математических выкладок, в сущности доказал (только), что человеку, подчиняющему и проверяющему свои впечатления требованиями своего разума, последние громче говорят в нем (в человеке) и дают ему возможность шире взглянуть, больше за один раз обнять и запомнить (и тогда, такому человеку) мир должен представиться в схеме планетария. Но и раньше этот человек не имел и, достигнув такого представления о мире, он не получил от своей науки никаких гарантий, что его зрительные (впечатления и) восприятия хоть сколько-нибудь соответствуют действительным вещам, или – что математические и логические аксиомы, которым не может не подчиняться его ум, хоть в какой-либо мере, – не говорю осуществлены, – приложимы к действительности (бытию в себе). Следовательно, впечатления его ничего не давали для познания вещей, за ними лежащих (их производящих?) и, будучи пропущены сквозь эти аксиомы, может быть, не приобрели от этой операции хоть сколько-нибудь (хоть чуть чуть) большого соответствия с действительностью. Ум, работая над получаемыми от мира впечатлениями (восприятиями) известного класса, отливает их в такие-то и такие-то схемы (напр. в схему планетного движения), и пока он (ум) останется таким же, каков он теперь, будет аналогичные восприятия отливать в аналогичные схемы – вот все, что может утверждать астроном. Им получено, следовательно, детальное знание известной стороны своего ума, но – не мира, предполагаемой причины восприятий, над которыми ум работал. Такое же
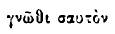
* * *
Монофпзиты учили о совершенном слиянии и поглощении (ассимиляции) человеческой природы в Богочеловеке И. Христе божественною; они учили, что человеческая природа Христа, заимствованная Им от Марии-Девы, перестала быть после воплощения Его единосущна с нашею (человеческою) природою, стала ей иносущна. В крайнем своем развитии монофизитство (Стефан-бар-Судаили, из Едессы) провозглашало: полное тождество человеческого естества (природы) в Христе божественному его естеству (природе) по сущности. Этот монофизит шел даже дальше: он учил, что как Отец, Сын, Дух Снятой едино по существу, а тело Господа (И. Христа) единосущно с Ним (триипостасным Богом), так точно п вся тварь соделается некогда единосущною божеству, и приходил, значит, к своеобразному пантеизму. «Люди достойные вероятия, – говорит Фнлоксеп (тоже монофизит), – уверяли, что видели па его келье надпись: «вся природа единосущна с Богом» (См. проф. И. Е. Троицкий – «Изложение веры церкви Армянские», стр. 150. Примечание). Примечание редактора.
Еще так ли? в следующих стихах (а отчасти и в предыдущих) 16:26, а особенно 30:33, речь идет о помиловании всех «заключенных в непослушании Богом», как евреев так и язычников, «чтобы всех помиловать», ст. 32); Нил С. – 261. См. о геенне любви и раскаянии у Исаака Сирина, слово 8; его же о соотношении милосердия и правосудия, 89 и 90; Тернонский – 2 ; формула осуждения Оригена см. Деяния всел. соб. V. 505.
Один из ранних этюдов – конца 80-х годов прошедшего XIX столетия.
Говоря это, я отнюдь не предрешаю вопроса об истинности учения о прогрессе: это – вопрос вечно открытый: учение о прогрессе неопровержимо, как всякое метафизическое учепие, и веровать в него можно было и можно будет всегда.
Этот этюд один из очень ранних: конца 80-х, или начала 90-х, годов прошлого XIX столетия.
Тоже – один из ранних этюдов.
Тоже один из ранних этюдов 80-х годов.
