Семь Херсонских Архиепископов
Биографии с приложением портретов, выполненных фототипом
Содержание
Архиепископ Гавриил (Розанов) Архиепископ Иннокентий (Борисов) Архиепископ Димитрий (Муретов) Архиепископ Леонтий (Лебединский) Архиепископ Иоанникий (Горский) Архиепископ Платон (Городецкий) Архиепископ Никанор (Бровкович)
Архиепископ Гавриил (Розанов)
9-го мая 1837 г. – 1-го марта 1848 г.

Первый Архиепископ Херсонский и Таврический – Преосвященный Гавриил, в миру Василий Федорович Розанов, родился 26-го января 1781 года. Отец его был священником одного из глухих сел Костромской губернии. Известий о его раннем детстве, о первых впечатлениях, вынесенных из семейной обстановки, о влиянии отца и ближайших родственников, о начальном обучении, никаких не сохранилось. В своей автобиографии он вспоминает только молодые юношеские годы и первые служебные шаги. «Первоначальное образование получил я – пишет он – в Костромской семинарии, питал всегда пламенное рвение к учению, и страх к наставникам, от своих сверстников поэтому никогда не отставал. За то и наставники меня отменно любили. Ученье семинарское кончил при преосвященном митрополите Платоне в Свято-Троицкой Сергиевой лавре 1803 года. Выбыл оттуда с аттестатом, в коем назван примерным, в Костромскую семинарию, из которой и в лавру поступил, и определен учителем, с преподаванием первой части риторики, собственно поэзии, и других предметов, приватными именовавшихся. Жалованья получал на первый раз не более 90 рублей. Был потом учителем-же риторики, наконец и философии и физики, с прохождением между тем должности префекта, соответствующего, по теперешнему разряду, инспектору, с таким прибавлением, что на префекте лежала тогда главная по экономии семинарской ответственность. До 1811 года шел я сим поприщем; в 1811 отправился в вакациальное время в Санкт-Петербург, почти без особой цели. Но особое участие во мне возымели преосвященные покойные, Санкт-Петербургский митрополит Амвросий и епископ Вологодский Евгений, бывший потом митрополитом Киевским. Лишь только появился я в С.-Петербурге, представился преосвященному митрополиту Амвросию, с письмом от преосвященного Евгения, бывшего после митрополитом Киевским, и с поднесением слабых своих опытов труда на поприще наук, предложено мне было поступить в монашество. По согласии моем, к которому я убежден был другими благодетелями моими, каковы, на пример, о. архимандрит Сергий, бывший тогда ректором академии С.-Петербургской, а потом и епископом Костромским, и Филарет, митрополит Московский, бывший тогда бакалавром академии и архимандритом, покойный главный благотворитель мой Амвросий митрополит сам на себя принял труд снестись с Костромским преосвященным Евгением об отпуске меня из Костромской семинарии в Невскую лавру. Cиe беспрекословно и сделано было. Я из Костромы уволен с самым благодетельным от преосвященного Костромского засвидетельствованием, в коем сказано было: поведения благородного и т. д.
Сам митрополит Амвросий ходатайствовал у св. Синода, чтобы дело о пострижении моем решено было скорее; и действительно, в 25 день сентября 1811 года он, мой милостивец, привезши с собой из св. Синода указ, призвал меня и сказал: вот ты у преподобного Сергия учился. Сергий преподобный и разрешает твою судьбу – быть в монашестве! Дело по сему предмету кончилось.
Но надобно было придумать для меня, имеющего постричься, и должность ученую. Что-ж тут? Меня назначают бакалавром С.-Петерб. дух. академии по предмету философскому к профессору Горну; и хотя я не возведен еще был на сию должность: однако-ж самим министром духовных дел, князем Голицыным, лично и ясно был поздравлен. Внезапно последовало возражение со стороны другого архиерея, преосвященного Рязанского Феофилакта, совсем не по недоброжелательству ко мне, но по другим случаям, касающимся до личных отношений митрополита с архиепископом. И дабы, при такой встрече, не почитал я себя напрасно обиженным, – вдруг в св. Синоде поставляют определение быть мне архимандритом и состоять настоятелем третьеклассного Спасокаменского в Вологде монастыря, с возведением притом меня в звание префекта Вологодской семинарии, который в обязанности еще состоял и преподавать там философию. Итак в 15-й день октября 1811 года в Невской лавре, за утренею постригли меня в монашество, а за литургией в тот же день посвятили во иеродиакона. В 17 день того же октября в Исаакиевском соборе преосвященный Иосаф, викарий С.-Петербургский, рукоположил меня во иеромонаха, и в 24 число того же октября, в церкви всех скорбящих Богоматери, сам митрополит Амвросий поставил во архимандрита. Сколько слез я пролил при самом рукоположении в первый чин, – сего не объяснить, равно как и не постигаю, что подобное делалось со мной при хиротонии во епископа! По произведении меня во архимандрита Спасокаменского монастыря, прибыл я из С.-Петербурга в Вологду в 1-й день декабря 1811 года, и во 2-й день, по обряду настоятеля, вступил в упомянутую обитель. В то же время от благодетеля моего, преосвященного Евгения Вологодского, удостоен и других почестей: я сделан был присутствующим в Вологодской духовной консистории, а по семинарии возведен в звание префекта, с должностью учителя философии. Здесь-то предстоял мне особый подвиг и случай заслужить упомянутые почести, доставшиеся мне, судя по моим сверстникам столь поспешно и будто рано, по крайней мере, по моему сознанию. Монастырь Спасокаменский достался мне в самом расстроенном по хозяйству состоянии; неотложно мне следовало приняться за поправку церквей и келий, где жил сам я и из которых, по ветхости их, мороз нередко выгонял меня вон. 12-й год прошел однако, по причине несчастной всеобщей годины, без ocoбой деятельности, тем паче, что монастыри Вологодские заняты были приезжим из Москвы духовенством с их церковными и частными принадлежностями. 1813-го года выбыл из Вологды и благодетельствовавший мне архипастырь Евгений на Калужскую кафедру; а в след за ним потребован в С.-Петербург, для разных поручений, и ректор семинарии Вологодской Спасоприлуцкого в Вологде-же второклассного монастыря архимандрит Феофилакт. Должность ректора по семинарии, без отмены префектской, поручена мне, равно как и Спасоприлуцкий монастырь вверен во управление мне, без перемещения из Спасокаменского. Таким образом и по консистории, и по семинарии, и по монастырям сделался я первенствующим в одном лице.
Должность ректора, с званием префекта, носил я по 1814 год. В этот год кончился первый академический курс в С.-Петербурге, и комиссия духовных училищ, возведши меня на степень действительного ректора семинарии, с званием профессора богословских наук, поручила мне образовать семинарию со всеми подведомственными ей училищами по новому уставу. Для сей цели из С.-Петербурга в Вологду присланы были тогда и профессоры различных классов. Поручение мне достодолжно и исполнено мною. Семинария с училищами преобразована; учащие и учащиеся, после многих вещественных переделок в семинарском здании, водворены; открыто общежитие; началось учение, какому быть следовало, и корабль, оснащенный в полной исправности, пустился в пространное море.
В тоже время, как удостоен я звания ректора и профессора, перемещен я был из третьеклассного Спасокаменского монастыря во второклассный Спасоприлуцкий, которого и был я настоятелем до востребования меня на чреду проповедания слова Божия в С.-Петербург. Это последовало в 1819 году. Тогда отправился я в столицу и там, кроме проповеди слова Божия, возложена была на меня должность законоучителя в первом кадетском корпусе. Там мое было и пребывание, пока я оставался в С.-Петербурге. 1821 года из Спасоприлуцкого монастыря переведен я св. Синодом в первоклассный Ярославский Толгский монастырь, куда из кадетского корпуса, дав относительно воспитанников моих в корпусе торжественный и счастливый притом отчет, и отправился в феврале упомянутого 1821 года, с поручением мне управления не только монастыря Толгского, но и Ярославской семинарии, за отбытием из оной ректора ее архимандрита Неофита в С.-Петербург.
В том же 1821 году Божий промысл указал мне новый путь в Орел; по повелению Государя Императора и по благословению св. Синода я назначен епископом Орловской паствы. Для принятия сего сана отправляюсь в Москву и там, с чувством сердечного неописанного умиления посвящаюсь в 18 день сентября 1821 года архипастырями уже упомянутыми».
9-го октября, епископ Гавриил вступил в управление Орловской Паствой. Автобиография, касаясь этого периода в служебной деятельности Преосвященного Гавриила, сообщает два случая встречи им Императора Александра Благословенного. В первый раз Государь посетил Орел для произведения смотра войскам, собравшимся здесь в числе 80.000. Он изволил прибыть 3 сентября 1823 г. в 12 часов ночи. На другой день 4-го сентября, имели счастье представиться Государю Императору все сословия города, – между прочими лицами и Епископ, с почетнейшим духовенством. Но архипастырь Высочайше был отличен сравнительно с другими тем, что Государь изволил пригласить его одного в кабинет свой. «Не знаю, говорит сам преосвященный, описывать-ли мне, каким Его я тогда видел, о чем был наш разговор, что он спрашивал и что я отвечал? Скажу только, что Государь осыпал меня своим благоволением, коего удостоил и всех прочих, мной ему представленных». 5-го сентября в день тезоименитства Государыни Императрицы Елисаветы Алексиевны, торжественное богослужение архиерейское происходило в Архангельской церкви, а Государь, спеша на предположенные маневры, слушал литургию в другой небольшой церкви. После обедни преосвященный осчастливлен был приглашением к столу Государя. «Когда я явился, – продолжает владыка описание сих отраднейших минуть своей жизни, – Император опять потребовал меня в кабинет свой и начал разговор о воинстве, которое он хвалил и сказал между прочим: что многочисленное войско нужно теперь для России по ее пространству и что впрочем теперь нам приобретать не для чего, а надлежит только сохранить приобретенное. Подробности сей интересной беседы потребовали бы многих строк: но довольно»... Второй раз преосвященный Гавриил имел свидание с «благословенным Александром» в городе Севске, 1825 г., на пути его Величества в Таганрог, где определено было ему кончить земное поприще. «Мне последнему из архиереев суждено было, – говорит преосвященный, – узреть угасавшую жизнь великого Государя. Через пять месяцев, именно в январе 1826 г., я имел прискорбную честь всретить того же Государя, но уже не живого, а окончившего свой век, Которого провожал от границы до границы своей паствы (Орловской Епархии)».
В том же 1826 году, преосвященный имел счастье «всретить в своей пастве и блаженные памяти Благочестивейшую Императрицу Елисавету Алексиевну» на возвратном пути Ее из Таганрога в С.-Петербург. Это событие архипастырь описывает так: «в понедельник, в 3-й день мая 1826 года, по предварительном совещании с князем Волконским, я представился Ее Величеству в 9 часов утра. Государыня была очень слаба, едва держалась на ногах; но приняла меня совершенно матерински. Мне очень жаль, сказала Императрица, что, по слабости своей, не могу быть в церквах и выходить к народу. Я старался утешить скорбящую"…
Около 7 лет преосвященный Гавриил управлял Орловской Епархией; в 1828 году, мая в 22 день, он был Высочайше назначен на Екатеринославскую архиепископскую кафедру, на место скончавшегося архиепископа Онисифора, при котором (он) состоял в Вологде ректором семинарии.
В Екатеринослав преосвященный Гавриил прибыль 1-го августа. Нет нужды подробно останавливаться на его Екатеринославской деятельности. Устройство нового кафедрального собора и двух городских церквей – Успенской и Свято-Троицкой, устройство семинарии и духовного училища, заботы о подъеме уровня семинарского образования, об улучшении быта духовенства, о благолепии богослужения, о подготовке целого класса опытных чтецов и певцов достаточно показывают, как широка и разнообразна была деятельность преосвященного Гавриила за 9 лет управления им обширным Новороссийским краем.
За отличное усердие и примерные труды в исполнении всех пастырских обязанностей в Екатеринославе, преосвященный Гавриил Всемилостивейше сопричислен был 5 января 1829 г. к ордену Св. Анны 1-й степени, а 31 декабря 1832 г. Высочайше пожалован в архиепископа.
В 1837 г. состоялось определение Св. Синода о разделении громадной по пространству его епархии на две кафедры: Екатеринославскую и Херсонскую. В состав первой вошли церкви одной Екатеринославской губернии, в состав второй – губернии: Херсонская и Таврическая; местопребывание архиепископа Херсонского назначено в Одессе. 9-го мая доклад Св. Синода Высочайше был утвержден с назначением на новую кафедру архиепископа Гавриила, как пастыря опытного, по выражение указа Св. Синода. Трогательно было прощанье архипастыря с паствой, которую он любил, как заботливый друг. Со слезами на глазах, в простых, но искренних выражениях, он высказал всю душу пред духовными детьми, на последнем своем священнослужении. «Исповедуюсь не лицемерно, говорил он, что с душевным прискорбием оставляю вас; потому что я привержен к вам, привык к Екатеринославу, который да сохранится неврежденным, неподвижным, доколе светит луна и сияет солнце... Град ваш не пространен, но тих, украшен смирением; не пышен, не великолепен; зато отличен любовно к образованию христианскому; потому-то я привержен к вам, достопочтенные, потому-то и сами берега быстротекущего Днепра столь веселят меня, что желал-бы здесь и умереть» и проч.
Слезы слушателей были ответом на последнюю беседу архипастыря, который девять лет «пленял их отеческой нежностью, восхищал пламенной ревностью к благолепию св. храмов, привлекал сердца всех радушным обхождением».
24-го июля 1837 года архипастырь наш в Одесском кафедральном соборе, по принесении первых молитв, преподал мир и благословение; затем торжественно, в присутствии графа Воронцова, открыта была Духовная Консистория; преосвященный вступил в управление. Несмотря на то, что в состав новой кафедры вошли только три уезда Херсонской губернии: Одесский, Тираспольский и Ананьевский, круг пастырской деятельности его здесь оказался так же обширен, как и в Екатеринославе. Кроме организации кафедры, образования приличной свиты, приобретения ризницы, усовершенствования хора и т. п., предстояло возвысить, оживить церковный быт Одессы, вовсе не отвечавший, внешнему ее процветанию. Неутомимо стремясь к этой цели, в течение 11-тилетнего пребывания в Одессе, преосвященный Гавриил, наконец, имел утешение видеть результат своих трудов. Один из просвещенных одесситов, внимательно наблюдавший за успехами пастырских забот Гавриила, писал: «принадлежа к числу Одесских старожилов, я могу судить вслух о переменах к лучшему: о благотворном влиянии, какое мы ощущаем со времени учреждения у нас епархии Херсоно-Таврической».
Прежде чем перейти к описанию епархиально-административной деятельности преосвященного, утвердившей за ним память в Одессе, припомним два обстоятельства, совпавшие с его перемещением из Екатеринослава на Херсонскую кафедру. Первое, – это прибытие в Одессу блаженной памяти Государя Императора Николая Павловича с Государыней Александрой Федоровной, ровно через два месяца, по приезде сюда преосвященного Гавриила. 5-го октября, Их Величества изволили посетить кафедральный собор, где архипастырь имел счастье встретить Августейших Гостей с крестом и св. водою. На другой день, в 11 часов, Монарх изъявил желание видеть архиепископа в своей квартире. Преосвященный явился вместе с находившемся тогда в Одессе греческим митрополитом Герасимом. Его Величество спросил преосвященного Гавриила: «вы здесь недавно, преосвященный?» – «Точно так, Ваше Величество», отвечал архипастырь. «Помню, помню,» сказал Государь, потом продолжал: «наблюдайте строго за религией и нравами здешних жителей». Этим и кончилось свидание архиепископа с Государем.
Второе обстоятельство, которое мы имеем в виду, – Одесская чума 1837 г. В свое время было отмечено, что Архипастырь не отнесся пассивно к этому народному бедствию, напротив принял все зависевшие от него меры, чтобы возбудить в населении упавший дух, веру в Бога и надежды на лучшее будущее. Получив от Одесского гражданского начальства извещение о необходимости закрыть храмы, чтобы скопление народа не усилило заразы, преосвященный Гавриил обратился к пастве своей прежде всего с воззванием: «1) Убеждаю всех верных чад св. православной церкви повиноваться от Бога установленным властям свято, ненарушимо и от всего сердца, как самому Богу; ибо нет власти и начальства, которые не были-бы учреждены самим Богом; и тот, кто противится, противится Богу и ропщет на Него». «2) Приглашаю всех чад паствы моей смириться пред Господом и очистить души постом и покаянием, ибо беды, от Бога посылаемые, суть посещения Божии за грехи наши». «3) Православное духовенство здешнего города готово на всякую духовную помощь и утешение по первому требованию». «4) К сподоблению Св. Таин в домах, поскольку нужен предварительный пост: то особенно внушая оный на все продолжение заразы, мы, по долгу архипастырской любви и праву, сокращаем время пощения для приобщения Св. Тайнам, ограничивая оное для здоровых, благоговейно ищущих в том и предохранения и утешения, тремя днями; кроме сего, предаем сей предмет и рассуждению духовных отцов». «5) Предложив cиe возлюбленным моим о Христе чадам, я твердо уповаю, что Господь Бог не попустит нам искушаться свыше меры, даст нам зрети благая еще в настоящем животе, по множеству щедрот своих; паче же по ходатайству к Нему Единородного Сына Господа и Бога нашего Иисуса Христа и ради неусыпных молитв о нас Пресвятой Девы Богородицы, покровом коей и да пресечется всегубительное зло».
Затем архиепископ предложил Одесскому населению беседу о необходимости усиленной молитвы и о способе совершать ее. Беседа эта заканчивалась таким ободряющим призывом: «Станем прилежно, усердно, недреманно, неусыпно и с верой молиться Господу Богу; присовокупим к тому исправление нравов своих, злых обычаев и привычек...; помолимся об избавлении от напасти; а, когда исчезнет поражающий нас меч, тогда не поленимся прибегнуть в храм Божий, отверзтись имеющий, и возблагодарить Господа Вседержителя, что наказав, смерти нас не предал, но милостиво грехи наши простил и от беды избавил. О, какой тогда, представляю, у нас о Господе будет праздник!»
Во все время чумы (с половины октября по февраль), город был на карантинном положении; храмы стояли закрытыми; однако, по распоряжению преосвященного, религиозное утешение преподавалось всякому, без замедления, особо назначенными священниками. Даже умиравшим преподавал Животворящие Тайны священник, по особенному убеждению Архипастыря, согласившийся запереться в карантин на все время бедствия. С нового (1838) года признаки чумы стали мало-по-малу исчезать; меры властей, молитвы святителя, не раз выступавшего с проповедью пред обществом, не раз посещавшего карантин, сделали свое дело. Зараза прекратилась и Государь Император повелел снять оцепление города. 24-го февраля архиепископ служил первую после чумы литургию, совершил крестный ход из Покровской церкви в Кафедральный собор, в котором участвовало все духовенство; впереди процессии несена была икона святителя и чудотворца Митрофана Воронежского, присланная преосвященному Гавриилу архиепископом Воронежским Антонием «в память избавления града Одессы». На другой день князь Михаил Семенович Воронцов благодарил Архипастыря за его пастырскую деятельность в продолжение печального времени. «Принесши вчерашний день благодарственное молебствие Богу за избавление нас от чумы и отдав окончательный отчет Государю обо всем случившемся», – писал он, – «я спешу удовлетворить одному из живейших желаний моего сердца: принесением Вашему Высокопреосвященству моей искренней признательности за благодетельные ваши содействия во время минувшего бедствия. Местные власти, подкрепленные усилием почетнейших здешних граждан, могли противопоставить злу одни только слабые, от сил человеческих зависящие, преграды, но молитвы благочестивого Пастыря призывают благословение Господне, и поучения веры поддерживают дух человека в затруднительных обстоятельствах жизни. Внезапное появление заразы среди многолюдного города и закрытие храмов Божиих, сопровождавшее карантинные предосторожности, произвело по необходимости общее уныние, но Ваше Высокопреосвященство, явясь пред народом с достойным Вас чувством благочестия, ободряли и утешали его Пастырскими Вашими поучениями и в минуты величайшей опасности приискали средства к безостановочному отправление необходимейших обрядов Православия. Сами жертвы губительной заразы, заключенные во внутренности карантина, лично Вами посещенного, чувствовали благодеяния веры, через получение от Вас особого пастыря, который, следуя примеру Вашего самоотвержения, предался видимым опасностям. Наилучшую земную награду попечений Ваших обретете Вы без сомнения в Высочайшем одобрении Монарха, до сведения которого довел я труды Ваши, но если к этому можно присоединить еще что-либо, то я приятнейшим долгом поставляю уверить Вас, Милостивый Государь и Архипастырь, что все сословия здешнего города умеют вполне чувствовать попечения Ваши о вверенной Вам пастве, и что примеры высокого Вашего благочестия запечатлены навсегда в их памяти». 2-го апреля 1838 года Государь причислил преосвященного к ордену святого Равноапостольного князя Владимира 2-й степени большого креста. В грамоте Монарха сказано: «с особенным благоволением усмотрели Мы назидательный образ Вашего действования в трудные дни города Одессы. Посему и признали за благо, сопричислить Вас к ордену...» и т. д.
Прошли грозные месяцы; население Одессы успокоилось; все вошло в обычную колею; архипастырь приступил к устройству вверенной ему епархии. Первым из важнейших его предприятий, в хронологическом порядке, было устройство архиерейского дома и при нем Крестовой церкви.
По прибытии в Одессу, преосвященный Гавриил поместился сперва в Успенском монастыре. Настала зима, сообщение между монастырем и городом стало затруднительно; владыка переселился в Одессу. Временная квартира была однако тесна и неудобна и неприлична. Явилась мысль приобрести дом внутри города. По просьбе преосвященного и по ходатайству князя Воронцова, Государь повелел, впредь до построения архиерейского дома «поместить архиерея в доме графа Потоцкого», а впоследствии соизволил уступить этот дом епархиальному начальству навсегда, для избежания расходов, необходимых на постройку нового здания. Заботы о доме этим впрочем не окончились; надо было приспособить пожалованное здание к новому назначению, построить в нем Крестовую церковь, помещение для консистории и проч. К счастью, Святейший Синод ассигновал требуемую сумму на все эти дополнительные постройки, и они произведены были без замедления. 4-го апреля 1842 года происходило освящение Крестовой архиерейского дома церкви во имя Святителя и Чудотворца Николая. Архипастырь, по окончании первой литургии в новой церкви, произнес назидательное слово на текст: «возвеселихся о рекших мне: в дом Господень пойдем». Действительно, был серьезный повод душевно порадоваться: с архиерейским домом являлся прочный, устойчивый центр епархиальной жизни; функции церковной администрации сделались сосредоточенными; новый (Крестовый) храм, увеличив число Одесских церквей, мог на случай нужды заменять для архиереев даже Кафедральный собор.
Среди забот об устройстве своего дома и Крестовой церкви в нем, преосвященный употреблял все меры, чтобы расширить и украсить Одесский Преображенский собор, который в 1837 – 1842 годах был не только крайне тесен, особенно во время архиерейских служб, но и не докончен. Архипастырь предположил совершенно возобновить его, придать ему большую величину и размер посредством правильной пристройки, устроить в нем теплые приделы, обновить стенную живопись... Работы эти были начаты в 1842 году. Пристройка состояла в соединении колокольни с храмом так, что все обширное пространство между первым и последним зданием обращено в средний храм, поражающий своей величественностью. В 1848 году отделка новоустроенной части кончилась, и архипастырь имел радость 3-го февраля освятить правый придел собора во имя праведных Симеона и Анны. Оставалось обновить старый собор, но это дело взял на себя знаменитый преемник Гавриила Иннокентий. Все указанные переправки, равно как и устройство приличной архиерейской ризницы для новой святительской кафедры, архипастырь произвел без всякого денежного пособия от казны.
Но один-ли Собор был предметом внимания и забот преосвященного? Все церкви Одессы приняли при нем новый видь, а значительное число их построено вновь: так, в 1839 году докончена, по настоянию Архипастыря, Петро-Павловская церковь; в 1846 году сооружена церковь на Пересыпи во имя Казанской Божией Матери; в 1842 году начата, а в 1847 году освящена Сретенская; в 1844 году – церковь при женском монастыре во имя праведных Захария и Елисаветы; в 1846 году – Кладбищенская во имя Воскресения Христова; перестроены и поновлены совершенно Греческая и Михайловская на Молдованке. Нельзя не привести здесь правдивого отзыва об этой отрасли деятельности преосвященного Гавриила, сделанного по случаю освящения Сретенской церкви: «ныне, – говорит реферат, – все северное поморье Черного моря, недавно еще столь негостеприимное под властью мусульманской, представляет ряд Православных храмов, – символ незыблемого здесь владычества христианского и русского. Число этих храмов увеличивается ежегодно и они повсюду становятся благолепнее; утешительное это явление стало особенно учащаться в нашем краю и в нашем городе со времени учреждения здесь архиерейской кафедры; первый восседающий на ней достойный архипастырь, преосвященный Гавриил, неутомимо и ревностно печется о умножении числа и лепоты церквей Божиих во вверенной ему разноплеменной и разноязычной пастве, – и усилия его видимо благословляются Богом»...
Но где храмы, там и проповедь, там и проповедники, наставники Православного населения. Для образования таких проповедников и вообще для подготовки ученых священнослужителей преосвященный Гавриил сделал если не более, то во всяком случай так же много, как и его знаменитые предшественники: Евгений Булгарис, Никифор Феотоки, Афанасий. Ученый Евгений, при первоначальном образовании епархии (в 1775 году) положил основание Семинарии, в которой могли обучаться дети лиц духовного и светского звания. Преемник его Никифор открыл в рассаднике Евгения классы риторики, философии и богословия; архиепископ Афанасий, с перемещением Новороссийской епархии в 1803 году из Новомиргорода в Екатеринослав, перевел туда и семинарию, утвердил ее на прочных основаниях, и около 35 лет это заведение служило единственным средоточием духовного просвещения не только для Новороссийского края, но и для Черноморской области. Преосвященному Гавриилу выпал жребий основать вторую новую – Одесскую духовную семинарию. 1-го октября 1838 года, в день Покрова Пресвятой Богородицы – она была открыта. В дар начинавшему жить учреждению преосвященный принес несколько богословских сочинений и приветствовал начальников и наставников ее речью-программой, которая осталась навсегда неизгладимой в их умах и сердцах.
Насадитель, естественно, любит свое насаждение: таким образом нет ничего удивительного, что архипастырь – основатель Одесской семинарии и неутомимо следил за развитием ее, входил во все мелочи ее устройства и благосостояния, давал стройное гармоническое направление всем частям воспитания – учебной, нравственной и физической. Поэтому, на первых-же порах существования Одесская семинария обратила на себя внимание высшей духовной власти. Два года спустя по ее открытии (в 1840 году), ревизор – ректор Киевской духовной академии, архимандрит Иеремия доносил в отчете, что Одесский рассадник по постановке учебного и воспитательного дела стоит на желательной высоте, а «Его Преосвященство, Архиепископ Гавриил, истинный отец и благодетель заведения входит во все подробности питомцев, особенно сирот».
В 1839 г., по ходатайству архиепископа, Святейший Синод, в виду дороговизны содержания в Одессе, возвысил оклады семинарии, поставив ее в 1-й разряд учебных заведений в отношении к штатам. Историческая записка о состоянии заведения, читанная после открытого испытания воспитанников, в 1841 г., замечает относительно этого факта: «Содержание учеников за минувшие 3 года было весьма хорошее и вообще экономическая часть семинарии, при непосредственном и неусыпном отеческом надзоре Высокопреосвященнейшего нашего, приведена в отлично-благоустроенное положение». В 1841 году из Херсонской семинарии были вызваны в С.-Петербургскую духовную академию два воспитанника, как обладающее удовлетворительными практическими сведениями в современном греческом языке. Этой честью семинария обязана была также своему основателю – преосвященному Гавриилу, который учредил при ней практический класс греческого языка, имея в виду местные потребности своей разноплеменной епархии. Класс открыт был при семинарии сперва в виде опыта, и «с 1-го января до сентября 1839 года учитель получал жалованье не из семинарских сумм, но непосредственно от Его Высокопреосвященства, а с 1-го сентября того-же года определен был особый наставник новогреческого языка, с производством ему от казны жалованья». По распоряжению преосвященного, преподавание языков немецкого и французского также имело характер практический; наставники этих предметов назначены были из природных иностранцев.
Благодаря таким мерам и усилиям, благодаря постоянному надзору и сообразной с местными нуждами постановке воспитания духовного юношества, число образованных священников в епархии год от года стало увеличиваться. Не менее усердно заботился преосвященный и об умножении в своей епархии духовенства с высшим академическим образованием. В 1837 году он застал в Одессе только одного священника со степенью магистра и трех кандидатов богословия; десять лет спустя здесь было четыре магистра и до одиннадцати кандидатов по разным местам епархии.
Другое учебное заведение, обязанное своим основанием архиепископу Гавриилу – Одесское училище девиц духовного звания, преимущественно сирот, учрежденное при женском Архангело-Михайловском монастыре, им же устроенном. Монастырь заложен 31-го мая 1842 года, а открыт 9-го мая 1844 года. Менее чем за два года построены прекрасный дом со всеми удобствами для помещения монахинь, послушниц и воспитанниц; разведен вокруг зданий сад, устроена ограда. Государыня Императрица Александра Федоровна пожертвовала на эту обитель 3000 руб., Наследник Цесаревич, – покойный Государь Александр Николаевич, – 2.200 руб., сбор по соседним с Таврической епархиям дал 22.000 руб.; всего употреблено было на устройство монастыря и духовного училища 83.680 руб. Цель монастыря на первых-же порах определилась как исключительно педагогически-просветительная: он должен был содержать учениц, доставлять средства на их обучение, складом жизни, нравами, обычаями воспитывать образцовых матерей христианок, будущих жен приходских священников. По типу Одесское училище девиц духовного звания походило на современные епархиальные женские училища, но в свое время, в 1844 году оно было оригинальное, единственное не только в Новороссии, а и во всей России – учреждение.
Отеческие заботы владыки Гавриила, его редкое внимание к детям-ученицам, его педагогические приемы и уроки в этом «Рассаднике» так описывает один очевидец. «Архипастырь уделял на обозрение Рассадника, обыкновенно, субботу всякой недели; чтобы успеть вникнуть подробно в состояние его, приезжал в монастырь рано, в 9 часов и прежде всего требовал от наставников отчета в успехах питомиц по наукам. Для этого с отеческой снисходительностью и приветливостью каждую из них испытывал; особенно восхищался ясными и удовлетворительными ответами детей по Св. Истории; тут часто сам становился преподавателем, толкуя им простым, общедоступным языком трогательные события ветхого и нового завета и извлекая из них нравоучения, применительно к возрасту и состоянию их. Любил также беседовать с малолетними слушательницами своими о поучительных событиях русской истории. Затем рассматривал опыты писания их, рисования и рукоделия. На последний предмет Владыка, имея в виду существенные потребности воспитанниц, обращал преимущественное внимание; обозрение успехов в предметах учения заключалось испытанием девиц в церковном пении, которое они должны были изучать со всяким вниманием, дабы славословия Господу благодеющему совершались ими с возможной чинностью и умилением. После этого архипастырь-отец входил подробно в состояние экономии приюта и обители; рассматривал внимательно итоги недельных расходов, решал доклады настоятельницы, относительно хозяйственных распоряжений по монастырю, посещал общую трапезу, отведывал пищу и питие детей; нередко входил в самую кухню, наказывая служительницам соблюдать всевозможную чистоту и опрятность в приготовлении пищи, приказывал приучать к хозяйству и детей (старших), которые поочередно должны были прислуживать при трапезе».
9-го мая, каждый год, при Преосвященном Гаврииле, в женском духовном училище происходил публичный экзамен. Сироты, поступавшие в заведение нередко в диком, в высшей степени грубом виде, выступали на общий суд существами цивилизованными, облагороженными, как с нравственно-умственной, так и с физической сторон. «Не могу», пишет участник одного подобного экзамена (в 1847 году), «не могу умолчать о том чувстве умиления, которое невольно испытывала душа, при виде достойного архипастыря, предлагавшего воспитанницам вопросы с отеческой нежностью, просветлявшей его чело: то был не судия, требующий отчета, а отец, радующийся успехам своих детей. Если кому-либо из лиц духовного звания в его пастве суждено преждевременно оставлять детей в сиротстве, то мысль о попечительном пастыре должна успокаивать его в минуту кончины: отцы и матери не оставляют детей своих круглыми сиротами, при существовании подобного заведения, которое охраняется неутомимой бдительностью архипастыря и его достойных сподвижников. В училище находится теперь до 70 воспитанниц; они живут в поместительном доме, пользуются прекрасным содержанием и находятся под совершенно родительским надзором».
Как представитель исконного православия и церковной власти на отдаленной Русской окраине, переполненной в 1840 гг. раскольниками, сектантами, иноверцами, архиепископ Гавриил знаменит своей широкой миссионерской деятельностью. Один сухой перечень того, что им достигнуто на этом поприще, может убедить, какая в лице его крупная несокрушимая сила заправляла церковными делами юга.
Еще в 1836 году, вследствие увещаний преосвященного Гавриила, обратились в единоверие часовенные раскольники города Николаева, приняв назначенного к ним священника. В 1838 г. примеру их последовали Херсонские безпоповцы, которых убедили простые, но кроткие и искренние наставления святителя. В 1841 году раскольники Бобринецкого уезда, селения Ровного, в числе 3537 душ обоих полов, обратились к епархиальному начальству с просьбой присоединить их к православию и дать им право иметь при своем храм священно- и церковно-служителей из среды их общества; просьба их была уважена. В 1845 году обратились раскольники города Новогеоргиевска и селения Клинцов. В отчете Обер-Прокурора Святейшего Синода за этот год сказано: «преосвященный сам отправлялся к ним и наставления его не оставались бесплодными; по просьбе раскольников, церкви их преобразованы в единоверческие церкви и получили священников». Вскоре потом, обращены были и раскольники селения Калиновки. В 1846 году приняли единоверие раскольники Елисаветградские; затем жители селения Красного-Яра. Часовня их обращена в церковь, прислан к ним священник из Москвы и антиминс древнего освящения. Из духоборцев при преосвященном Гаврииле обращены жители села Терпение в 1844 году и к церкви их определен священник с двумя причетниками; около этого времени приняли православие до 200 душ молокан. Из греко-униатов Херсонской епархии, ранее общего присоединения униатов империи, в 1838 году присоединились жители селения Снигуровки и Явкино, в числе 945 душ; преосвященный сам ездил к ним, убеждал их, почти учил православию и наконец увидел результат своих трудов.
Интересна характеристика личных миссионерских приемов преосвященного Гавриила, которую находим в его биографии Серафимова и в сочинениях А. С. Стурдзы. «Усердный делатель винограда Божия, говорит первый, Святитель с ревностью удобрял нивы сердец христианских посредством сеяния на них животворящего семени слова Божия; проповедовал в меру сил и способностей своих, проповедовал с убеждением, что не превосходство словеси назидает души христианские, но явление Духа и силы; (1Кор. 11, 1 – 5) и горе пастырю, если он не благовествует под тем предлогом, что не обладает блистательным даром витийства. С раскольниками говорил совершенно просто, понятно и вместе с тем доказательно. Когда все доводы и убеждения были бессильны, преосвященный, по заповеди Апостола, прибегал к умолению: «Христа ради, братцы, образумьтесь, оставьте вашу гордость... Если вы не желаете чужого, изберите из своего общества, кого находите достойным священства, я посвящу его... Подумайте, возлюбленные, не упрямьтесь»... Такие слова, высказанным с теплотой пастырской любви, производили желанное действие на умы и сердца заблуждающихся». «Преосвященный Гавриил, по отзыву Стурдзы, неусыпное имел попечение о своей епархии, готовя и строя будущее ее благоденствие, – епархии, где германец селится возле ногайца, а греки и болгары перемешаны с татарами, караимами и швейцарцами, и он является всяческим для всех, объемля всех и каждого из жителей любовно истинно-пастырскою, обращаясь ко всем с радушием, чуждым всякого предрассудка».
Наконец, как частность, но частность редкую, характерную нельзя не отметить в широкой и разнообразной деятельности преосвященного Гавриила – его заботы о преступниках, изгоях общества.
«Утешаемся, – писал в 1828 году один из членов Орловского Тюремного комитета по поводу перевода епископа Гавриила в Екатеринослав, – утешаемся мыслью, что наш добродетельный архипастырь грядет в ту землю, где почивает прах благодетельного Говарда, что его преосвященство по примерному своему человеколюбию и там в новой пастве своей будет столько же попечителен о несчастных». В Одессе преосвященный Гавриил занимал место вице-президента тюремного комитета с 1839 по 1848 год. В 1846 году по слабости здоровья и в виду множества занятий он пожелал сложить с себя это звание. Однако желание его не осуществилось; комитет убедительно просил владыку отменить намерение и на отношение его ответил следующим образом: «Дела комитета доказывают, и мы нижеподписавшиеся, вполне убеждены, что если Одесский тюремный замок находится теперь в отличнейшем порядке; если арестанты имели и имеют улучшенную пищу и не имели недостатка в одежде, обуви и постелях; если больным оказываемо было усерднейшее пособие и лечение, если церковь замка обновлена и имеет красоту и благолепие, если за поведением арестантов не прекращался строгий надзор и улучшалась их нравственность и наконец, если комитет при ограниченности сумм от казны, поступивших на содержание заключенных, составил довольно значительный экономический капитал и действительно достиг цели своего учреждения: то всем этим добром обязаны мы неусыпным, усердным попечениям и благоразумной распорядительности вице-президента своего – высокопреосвященнейшего Гавриила. Не взирая на преклонные лета свои и слабое здоровье, он еженедельно по нескольку раз посещал тюремный замок входил с особенным вниманием в нужды оного, обозревал камеры арестантов, выслушивал благосклонно просьбы их, ходатайствовал о скорейшем разрешении участи узников, и в то же время не переставал усерднейше заботится о приискании для них благотворителей; одним словом, христианские неутомимые подвиги преосвященного Гавриила, в продолжение 7-милетняго постоянного управления делами тюремного комитета неисчислимы и приобрели ему справедливое право на звание благодетеля страждущего человечества и совершенную благодарность и уважение сотрудников его…. Комитет, с прискорбием принявши отзыв преосвященного об увольнение его от должности вице-президента, не видит средств к удовлетворению оного… И чтобы не привести в расстройство истинно образцового учреждения, здешний тюремный комитет находит необходимостью: убедительнейше и покорнейше просить его высокопреосвященство отменить свое намерение оставить звание вице-президента тюремного комитета и продолжать в оном дальнейшее, столь достохвальное и полезное служение"…
Высочайшим указом 1-го марта 1848 года архиепископ Гавриил переведен из Одессы в Тверь на одну из старейших кафедр Руссой церкви, украшенную нетленными мощами Святителей Арсения и Варсонофия, благоверного князя-мученика Михаила и преподобного Нила, на кафедру, видевшую у себя таких знаменитых столпов православия, как Феофилакт, Платон, Филарет и Григорий.
Судить о том, на сколько это новое, высокое назначение было преосвященному по душе, конечно трудно; но, несомненно, расстаться с Одессой, где так много пришлось положить душевных сил, где за одиннадцать лет жизни все стало дорого и мило, где образовался круг верных, преданных друзей, расстаться с Одессой ему было тяжело.
«Горько мне разлучаться с вами, говорил он в прощальной своей проповеди, – тяжко оставить здешний благодатный край,… люблю Одесу и всех здесь обитающих, люблю в нем святые алтари, люблю святилища наук, общества и совещания просвещенных мужей; люблю знатных и худородных, сильных и немощных богатых и убогих…. Не предайте меня забвению, о чем прося вас со слезами, падаю на выю каждого и лобызаю лобзанием святым, которое и да будет неизгладимой печатью вечной моей к вам любви и преданности».
2-го мая 1848 г. архиепископ Гавриил оставил Одессу.
Перед нашими глазами ряд писем преосвященного из Твери к горячо любившей его Одесской семье Ля-вых. Попытаемся восстановить, на основании этих документальных данных его привлекательный нравственный образ, его теплое отзывчивое сердце, которое усиленно начинало биться всякий раз, когда приходили на ум минувшие годы жизни в Одессе.
* * *
19 июля 1848 г.
Милостивый благодетель Филипп Илларионович!
«Статью Вашу в газетах напечатанную, читал я и не мог не прослезиться снова, плакал по Одессе почти во всю свою дорогу. Написанное Вами можно было-бы счесть за политику: но как политика хвалит обыкновенно тех, от коих себе ожидает чего-либо; а вы, мой друг, от меня ожидать ничего не могли и не можете, то излитые вами чувствования ваши чту за самые искренние. Чем-же и как возблагодарю? Возопию ко Господу, да долголетен будеши со всей доброй своей семьей».
«Не сбылось мое сердечное желание, видеться с известным мне и тебе Владыкой. Цель сию предполагал себе единственным утешением и отрадою: но по дороге моей поскольку везде нашел я рассыпанные слухи, что ждут меня, ждут в Твери, сюда и поворотил прямо, успев только побывать в Москве и Сергиевой Лавре».
«В Лавре видел множество стариннейших рукописей, о коих сообщил уже некоторое понятие Николаю Никифоровичу1. По Твери для археолога быть может много также занятия, к которому однако я еще и пальца не придвинул, крайне утеснен будучи епархиальными делами с присовокуплением к тому непрестанного почти священнослужения. Уже если не более тысячи, то не менее того перечитал бумаг консисторских. Судите, есть семинаристы, кои шатаются, конча курс еще в 1838 году и когда место откроется, по пять и по шесть человек вдруг просятся. Тем-же утруждают и вдовы с сиротами».
«Дабы видеть Владыку, я думал тотчас отправиться на границу к нему: но страшная, везде свирепствующая холера и в этом чинит мне препону. В Твери не малое число погибло и особ духовных, не исключая кафедрального Собора. Мой дом бережет еще Господь. Вместо чаемого изобилия нашел я здесь скудость. Не мудрено быть ей в доме Херсонском, ибо существование его простирается не далее десяти лет; а здешний дом существует целые столетия. Слышно однако-же, что преемник мой большое имеет предубеждение относительно меня; и если правда, вы как беспристрастный свидетель, защитите меня, где можете».
«Прося Вас одолжить меня рукописанием своим, есмь и прибуду Вашего высокородия
Препокорный слуга, почитатель и богомолец
Гавриил А. Тверской и Кашинский».
__________
17 августа 1848 г.
Филипп Илларионович!
«Говорят: старый друг лучше нового. В тебе не сходится сия пословица с правдой. С тобой познакомился я не так давно: но ты превзошел уже старых друзей любовью ко мне. И да благо ти будет!...
По сию минуту я здоров; и холера миновала, не только меня грешного, но и дома моего не коснулась. Успокоилось волнение и в городе.
Мурзакевич что-то ко мне не пишет и не отвечает. Если точно печатаются мои замечания о церквах Херснских, то подобную ведомость я потщусь составить и о церквях теперешней моей паствы, в коей много суть древнего.
Прося памятования вашего, кое одно утешительно, есмь и буду покорнейший Ваш слуга
Г.А. Тверской».
__________
20 февраля 1850 г.
Дражайший Филипп Илларионович!
«Не получив от меня до сей минуты ответа на письмо свое, при котором прислана и книжка трудов почтенной вашей дочери, чего не могли вы думать о мне? Но успокойся, мой друг. Прилпе душа моя по тебе; и не отстану, пока дышу. Ибо и ты, как вижу, любишь меня постоянно, чего ради par pari et gaudent».
«Сколь приятна, сколь полезна упомянутая книжица. Суд мой был-бы мал для нее. Свет оной да просветится пред целым миром. К переводчице и издательнице да будет милостив Бог..., да ознаменует, украсив главу ее венцем от камней драгих».
………………………………………………
Преданнейший вам Гавриил А. Тверской.
__________
Января 6, 1855 г.
Любезный друг Филипп Илларионович!
«Уже бьет 8 часов утра, а мрак ночной не сходит с нашего горизонта. Глаза тупы, свеча им не помогает и десная дрожит. Вот почему пишу к вашему высокородию не своей рукой. В этом простите меня и да соизволено будет».
«Рука чужая, но чувство мое собственное. Оно не иное, как искренняя признательность, непринужденная, непритворная, и нелицемерная благодарность Вам за любовь ко мне, столь постоянную, что ни место, ни время не охлаждают оной. Дыбы доказать Вам мою признательность через личное Вас целование, я пошел-бы пешком в Одессу: но судьба не стелет для меня никакой дороги туда. Да и Одесса не в веселии, будучи окружена неприятелями, от которых чтобы Господь избавил нас, да будет общая молитва утро и вечер. Не даром, не даром с плачем взывал я: прощай Одесса, прощай Таврида, когда с Херсонской паствой расставался. Ум мой, видно, не проразумевал тогда, но сердце предвещало.»
«Отрадно, по крайней мере, мне, что Николай Никифорович собирается в С.-Петербург и уверен я до подлинности, что он меня посетит: тогда вся о всех».
Между тем есмь совершенно преданный Вам
Г. А. Т.
__________
26 июля 1856 г.
Дражайшая о Христе Н. Ф.!
«Вы замечаете, что я редко к вам пишу и на письма не отвечаю. Достойно, достойно! но что мне делать? Старость и дряхлость постигли меня внезапно, так что и руки худо меня слушают, чтобы писать. Одно главное помышление: Господи! приими дух. Впрочем, да здравствует надежда. Ею я питаюсь и оживляюсь. Если-бы я остался в Одессе, может-быть свежее было-бы от влияния тамошнего климата и воды евксинской; а здесь климат суров. Зима была холодна, весна такая-же. Ныне, летом проглянули дни жаркие и скрылись. Зима опять уже грозит всем вообще, коль паче мне.
«Жалуете-ли Вы, ходите-ли в Михайловско-архангельский монастырь? Не помрачился-ли он, не отцвел-ли, скажите на просторе времени».
«В заключении всего сказанного, прошу Вас как доныне. Так и впредь не забывать меня; а я есмь и пребуду Ваш преусердный почитатель и Богомолец»,
Гавриил А. Тверской.
Это письмо в имеющейся у нас коллекции (всех писем 9) предпоследнее. 17-го апреля 1858 года преосвященный Гавриил еще раз известил о себе Л-вых. «Радуюсь я», писал он, «что Вы, как вижу из письма, здоровы; а я грешный болен, все болен. От того на многие из писем Ваших не отвечал, да и теперь пишу не иначе как самым кратким образом. Но простя друг другу опущения, воскликнем: Христос воскресе! Се посылая Вам, остаюсь навсегда преусерден».
А. Гавриил.
8-го сентября 1858 года его не стало. Преосвященный Гавриил скончался на 78 году жизни в Тверском Желтикове монастыре, где жил на покое. В тамошнем соборном храме он и погребен. По выражению очевидца – настоятеля монастыря архимандрита Платона, кончина его была тихая, как засыпанье младенца. Пред смертью больной старец-владыка два раза приобщился св. Христовых Таин и соборовался. Угасавший взгляд его был обращен на св. иконы, а последние слова – слова любви и заботливой дружбы касались другого, давно уже тоже закатившегося, светила русской церкви, Московского митрополита Филарета. Узнав пред болезнью, что митрополит болен, умирающий архиепископ спросил, как его здоровье. Когда ответили, что чувствует себя лучше, скончался, произнося: «слава Богу»!
* * *
Литературные труды архиепископа Гавриила
Историческая записка о Самарском пустынно-Николаевском монастыре. Изд. дважды: в Одессе 1838 г. и в Москве в 1854 г., в полном собрании сочинений.
Устное повествование Никиты Леонтьевича Коржа. Изд. в 1842 г. в Одессе. Отрывки печатались в Журнале министерства народного просвещения 1838 – 1839 г.г.
Переселение греков из Крыма в 1779 году в Азовскую губернию. Записки Од. Общ. Истории и Древностей т. I, 1844 г.
Историческая записка о заложении в Екатеринославе соборного храма и начале самого города. Одесса 1846 г.
Хронологическое и историческое описание церквей Херсонской епархии. Записки Од. Общ. Истории и Древностей т. II 1848 г.
Очерк повествования Новороссийском крае из оригинальных источников почерпнутый. Записки Од. Общ. Истории и Древностей т. III 1853 г. и т. V 1863 г.
Историческая записка Одесском женском Михаило-Архангельском монастыре с училищем для девиц духовного звания. Херсонск. Епарх. Ведом. 1877 г. № 16 и 17. стр. 444 – 465; 489 – 515.
Письмо о древностях, найденных в гор. Мценске (Орловской губернии). Полное собрание сочинений, ч. II, Москва 1854 г.
О достопамятностях Свенского монастыря. Записки Одес. Общ. Истории и Древностей, т. I, 1844 г.
Остатки христианских древностей в Крыму, именно в Феодосийском уезде. Полное собрание сочинений, ч. II, Москва 1854 г.
Сочинения Гавриила, Архиепископа Тверского и Кашинского, т. 1 – 2. Москва 1854 г.
Слово о таинстве покаяния. Москва 1833 г.
Слова: в день Рождества Христова, Обрезания Господня, в день памяти Преп. Дмитрия Вологодского. Одесса 1841 – 1842 г.
Поучительные слова, в разное время преподанные. Москва 1848 г.
Некоторые отрывки моей биографии. Херс. Епарх. Ведом. Прил. ч. I, 1860 г. стр. 473 и 1877 г. стр. 443.
Литература о преосвященном архиепископе Гаврииле. Некролог. Протоиерея Серафимова. Зап. Од. Общ. Истории и Древностей т. V 1863 г., стр. 919 – 953. – Его-же: Воспоминания о Преосвященном Гаврииле. Одесса 1859 г. – Его-же: Воспоминание о пастырских путешествиях Пресвящ. Гавриила, Архиепископа Екатеринославского, Херсонского и Таврического. Херс. Епарх. Ведом. 1861 г. Прил. ч. IV, стр. 336 – 346. – Мурзакевич: Епархиальные Архиереи Новороссийского края. Зап. Одес. Общ. Истории и Древн., т. IХ, 1875 г., стр. 297 – 302. – Его-же: материалы для истории Новороссийской иерархии. Гавриил Розанов. Херс. Епарх. Ведом. 1879 г. Прилож. стр. 547 – 558. – Труды Киевской духовной Академии 1863 г., 3 кн., стр. 316 – 328. – Тверские иерархи, стр. 184 – 211. – Троицкая семинария, стр. 523 – 524.
Архиепископ Иннокентий (Борисов)
22-го февраля 1848 г. – 26-го мая 1857 г.

Высочайшим повелением 22-го февраля 1848 года на Херсонскую епархию был переведен Харьковский архиепископ Иннокентий Борисов. Синодальный указ о том-же последовал 10-го марта. Официальные известия о новом владыке, полученные в Одессе, сообщали, что архиепископ Иннокентий – сын священника г. Ельца Орловской губернии, Алексея Борисовича, родился 15 декабря 1800 г., обучался в Воронежской, потом Орловской семинарии и в Киевской академии, где в 1823 г. окончил курс первым магистром, и 23-го сентября того-же года принял должность инспектора Петербургской семинарии и (с 15-го ноября) ректора Александро-Невского духовного училища; 10 декабря 1823 г. пострижен в монашество и рукоположен в иеродиакона, а 29-го декабря в иеромонаха; с 16 октября 1824 г. он – соборный иеромонах, с 13-го декабря того-же года бакалавр Петербургской академии, с 2-го сентября 1825 года инспектор той-же академии и с 24-го сентября действительный член академической конференции; с 7 января 1826 г. он экстраординарный профессор и 16 марта того-же года возведен в сан архимандрита; с 9-го мая 1827 года член комитета духовной цензуры, с 3-го сентября 1829 года доктор богословия за богословские уроки и напечатанные в «Христианском Чтении» сочинения: 1) жизнь св. священномученика Киприана, епископа карфагенского, 2) жизнь св. апостола Павла и 3) последние дни земной жизни Иисуса Христа. С 27-го августа 1830 г. ректор Киевской академии. В 1836 г., 21 ноября, хиротонисан в С.-Петербургском Казанском соборе в епископа Чигиринского, викария Киевской Митрополии, с сохранением ректорской должности, которую сложил с себя 10-го октября 1839 года; в 1840 году перемещен в Вологду и вскоре затем в Харьков, где в 1845 г. возведен в сан архиепископа; имел драгоценный наперсный крест с 1827 г., ордена: св. Анны 2 степ. (1829 г.), Владимира 2 ст. (1835 г.), св. Анны 1 степ. (1839 г.) и 1841 года был ординарным академиком академии наук.
В 1848 году архиепископу Иннокентию было 48 лет. Перевод в Одессу застал его в Петербурге, где он присутствовал, как член Святейшего Синода. Новое назначение, по словам Боде, было принято Иннокентием «не без радости», но «не без горечи душевной он простился и с Харьковской паствой, к которой», по собственным его словам «был привязан многими неразрывными узами веры и любви о Христе».
Одесса ждала нового архиепископа с нетерпением. Особенно волновался духовный мир. Среди священников и протоиереев было не мало, знавших его по Киевской духовной академии. Вспоминались знаменитые проповеди Иннокентия в Киевском братском монастыре, слушать которые сходился, – съезжался весь город. Рассказывали о его великой учености, феноменальной памяти, простоте, обходительности, невзыскательности. Следившие за судьбой Иннокентия передавали, что его лекции в Петербурге отличались смелостью мысли и своеобразным отношением к богословским вопросам, так что находились лица, подозревавшие Иннокентия в неологизме. Очевидцы с увлечением сообщали, как он профессором читал свои лекции всегда наизусть. С жаром, чистым звучным голосом, общепонятно и в тоже время изящно и увлекательно; какая огромная библиотека у него была; как он, уже архипастырем, везде и в Вологде и в Харькове, старался высоко держать знамя православной веры и русской народности, восстановлял святыни, исправлял, улучшал, был добр, не терпел дрязг и кляуз… В семинарском и лицейском кружках Одессы, в кружке А.С. Стурдзы, который с Иннокентием переписывался, Иннокентия называли «светом, светящим и согревающим, зиждительным духом, который куда ни появлялся, во все вносил жизнь: приниженное поднимал, разрушенное восстановлял, унывавшее ободрял и воодушевлял». В обществе ходили слухи, как Иннокентий всегда и везде импонировал своим необыкновенно глубоким умом, пламенной душой, сердечной общительностью. Слышавшие его находили, что никто не обладал такой замечательной способностью самые отвлеченные истины упростить, придать им осязательный образ или форму, заставить слушателя сказать себе: как это просто и как я сам не додумался до таких простых вещей! – какой обладал Иннокентий. Военные утверждали, что он замечательный тактик; медики с удивлением отзывались о его сведениях по физиологии и патологии, естествоиспытатели и физики о его колоссальных познаниях в математике, астрономии, географии, статистике, химии и др. науках.
«И вот, в 1848 г. этот бесспорно замечательнейший из архипастырей российских», говорит один очевидец прибытия Иннокентия в Одессу, – «сделался нашим. Светило, которого так долго и нетерпеливо ждали, взошло. Приезд Иннокентия последовал перед самым праздником Троицы, в полночь, с пятницы на субботу. В субботу часов в одиннадцать представлялось новому своему владыке городское духовенство. Знавшие его по Киеву не нашли в нем той свежести и крепости, которыми прежде светлело лицо его. Лета, пастырские и кабинетные труды и еще недавнее пребывание в Петербурге, который, по собственным словам его, всегда разрушительно действовал на его здоровье, – много изменили его... Всенощное бдение того дня было первым служением его в Одессе и первым вхождением в кафедральный собор. Бывши в то время седмичным, я предначинал всенощную и, по каждении церкви, стал, как было в обычае при прежнем владыке, по левую сторону престола. Движением руки преосвященный указал мне место пред престолом. Далее: на входе вечернем, который обыкновенно совершается одним священником, он велел облачиться еще двум священникам, – и вход совершен был соборне. По его-же слову шестопсалмие читал ключарь собора; канон, кажется, архимандрит. Припоминаю эти особенности первого присутствия преосвященного Иннокентия в Одесском кафедральном соборе потому, что их не могли не заметить и предстоявшие в храме, внимательно следившие за действиями нового владыки. В самый день Троицы, к встрече преосвященного, по его приказанию, были приготовлены букеты цветов. При встрече у входа в храм, подходя ко кресту, служащие принимали из рук владыки цветы, и с ними, равно как и сам владыка, шли к царским дверям для совершения входной молитвы. На малый вход священно-служители также выходили с цветами в руках. Подобное сему наблюдалось потом и в других случаях, например, в неделю Ваий. Во всем этом виден был Иннокентий, который не бывал без особенностей. Всегда в действиях он являл нечто новое и особенное».
Совершив в Одесском кафедральном соборе в день св. Пятидесятницы первое священнослужение, преосвященный Иннокентий тогда же произнес в нем и первое свое слово к новой пастве. Жители Одессы толпами, говорят, стекались внимать и священнослужению, и проповеданию своего знаменитого архипастыря.
Первые недели правления Херсонской епархией архиепископ употребил на ознакомление с Одессой: осматривал собор и положил его обновить, произвел экзамен в семинарии, памятный тем, что местом испытания назначена была крестовая архиерейская церковь, познакомился с семинарской корпорацией, при чем, обнаружилось, какой он радушный хозяин даже для подчиненных, посетил церкви и монастыри, не раз был в женском духовном училище, и все это, – не прекращая своих разнообразных ученых занятий, не опуская из вида массы консисторских дел, которые к тому-же за несколько лет оказались запущенными. В июле он отправился по епархии. Как ознакомился Иннокентий со своей епархией при обозрении ее, мы узнаем из воспоминаний о нем одного благочинного, которые первоначально были напечатаны в Херсонских епархиальных ведомостях 1862 года. «Изучая и исправляя, при обозрении епархии, духовенство, – рассказывается в этих воспоминаниях, – он изучал вместе и пользовал паству свою и мирскую. Каким именно образом? Если, например, предполагалось иметь служение в каком-либо городе, накануне владыка, как бы из любопытства, задавал благочинному (а он должен был все знать) вопросы: каков этот город? Из каких он состоит сословий? Что вы знаете, например, об этом из них? а о том и том? какими здесь занимаются ремеслами и промыслами? есть-ли у вас и общественные увеселения – как они ведутся? и проч. и проч. Таким образом доходил до всего, как говорится, до подноготной. Завтра является он пред паствой с пастырским жезлом и словом и, к удивлению вашему и самой паствы, беседует с нею, как с давно и близко ему знакомой. Вот, между прочим, почему собрания поучений его, например, к пастве Вологодской и пастве Харьковской, так ясно выражают в себе физиономии самих этих паств». На что более обращал внимание преосвященный Иннокентий при обозрении епархии? – На все, от мала до велика. От внешнего тотчас заключал и о внутреннем. Входит, например, в церковь, окинул ее взором, и говорит: «Церковь прекрасна, да хозяина в ней не видно». Прежде всего требовал он в храме чистоты и вкуса в размещении предметов. Если это было, то и бедность церкви не совсем огорчала его. Обыкновенно подробный осмотр церкви он производил в такое время, когда народ своим присутствием не мог его стеснять в этом. Тут ничего не оставлял он без внимания – ни стола, за которым продаются свечи, ни тарелок, ни кружек, с которыми ходят по церкви, ни окошек, на которых не терпел стекол запыленных, тем более – разбитых или склеенных. Делал замечания, если хоругви были избитые или и новые, но стояли покосившись, если налои и столики были не у места, если книги находил слишком подержанные и разбитые, если иконы не имели должного благолепия от дурно наложенных венчиков и проч. и проч. Всего не исчислишь. Был он и против неблаголепных сребренных риз на иконах, или таких, за которыми лики святых можно видеть только в одни отверстия, сделанные для лиц и рук; не жаловал он и парчи, которая, будучи несравненно дороже шелковых и бархатных материй, по грубости рисунков ее, не составляя никакой красы, бывает для священно-служителя лишь тягостью неудобоносимой, особенно в летнее время. Особенно строго ревизовал он алтарь и те вещи церковные, которые употребляются на домах при исправлении так называемых треб, как-то: дароносицы, мирницы, купели и проч. Если случалось, что после этой ревизии, заслуживал кто выговора или штрафа, преосвященный знал этому место и время, именно: кому, где, что и как. Не знаю, чтобы он делал где благочинному выговор при его подчиненных. Всячески он щадил его, равно как и священника в присутствии его причта. После подобной ревизии моей церкви в 1850 году, причем все обошлось благополучно, преосвященный велел мне положить у престола три поклона, и затем возложил на меня пожалованную скуфью. Царские врата были открыты; успели явиться тут и лица сторонние, заметив у церкви экипаж преосвященного. Когда в следующий день представился я преосвященному в Бахчисарае, то первое, о чем он спросил меня, было следующее: «скажите, пожалуйста, не делал-ли кто вчера каких вам вопросов»? – О чем, ваше преосвященство? – «Меня обеспокоила мысль, не подумал-ли кто, что я штрафовал вас поклонами.» Отличая благочинного особым вниманием в глазах его подведомых, преосвященный Иннокентий давал ему значение и в глазах властей светских. Так, если, во время обозрения епархии делал он где честь своим посещением военачальникам и градоначальникам: то делал это в сопровождении местного благочинного, имея его с собой в одном экипаже. Во время разговоров вводил непременно и его в беседу, как лицо ему близкое и доверенное. В одном месте губернатор, желая, может-быть, заявить преосвященному свое личное уважение к сопровождавшему его протоиерею, сказал: «это духовник мой». Владыка в ответ: «да, он – и мой духовник». Понимай генерал, как хочешь, смысл слов и без толкования понятных.
В Богослужении преосвященный Иннокентий строго требовал чтения не спешного, разумного и притом громкого. Тут он держался правила: non multa, sed multum. Шестопсалмие и канон требовал, чтоб читал священник, если два их при церкви. Не одобрял такого соборного служения, в котором литургия совершалась двумя священниками. По его – или три, или лучше один. Устройству хорошего пения сам содействовал, где это было возможно, со всей охотой. Как-то в письме я высказал владыке жалобу, что у меня причт безголосый, и в трех сряду письмах он не забывает моей нужды в этом. «О пении твоем надобно посудить основательно. Нельзя-ли тебе побывать у нас? Иначе жди, пока мы будем к тебе.» В другом: «для певческой вашей пришлем скоро людей. Держитесь трехголосного пения, – это и просто, и хорошо». И еще в третьем: «живописца тенора возьми себе; кажется, для сего нужна бумага, – пришли ее, и я утвержу».
Считал Иннокентий своей обязанностью иногда осведомляться и о тех, «иже не суть от двора его». Быв в Севастополе в 1853 г., преосвященный приказал мне известить кого следует, что он намерен быть в адмиралтейском соборе, костеле католическом и кирке лютеранской. Извещение было сделано накануне, а в воскресенье, после литургии в Петро-Павловской церкви, он посетил со мной и собор военный, и костел. В кирке не были за отсутствием из города пастора. От католического священника мы узнали, что в приходе его считалось до 7 тысяч душ. Сведение это объяснилось тем, что тут числились все нижние чины – католики Черноморского флота, армейских двух полков и других военных команд, имевших постоянное пребывание в Севастополе.»
Из поездки по епархии преосвященный Иннокентий вернулся в половине сентября 1848 г.
Едва-ли хорошее, отрадное впечатление он вынес от своего путешествия. 27-го сентября Херсонская консистория получила от владыки такое предложение: «Вследствие обозрения мной значительной части здешней епархии и замечаний при сем сделанных, нахожу необходимым, чтобы консистория циркулярно предписала всем духовным правлениям и благочинным следующее:
1) Сделать немедля везде по церквям, вокруг иконостаса и амвона, решетки по силе Высочайшего указа из святейшего Синода 1841 г. и никого из народа к стоянию за решетками отнюдь не допускать, по силе того-же указа.
2) Купели для крещения и водосвятные чаши лудить чаще и содержать в совершенной опрятности.
3) Лампадки вверху иконостаса с железными горбылями и веревками упразднить, по силе указа 1835 года, как опасные для внизу стоящих под ними.
4) Разбитые стекла заменять новыми, цельными, а составленных из кусков стекол в церквях не иметь, и по временам запыленные промывать.
5) Завести ковчеги для хранения св. мира благоприличные, чистить их, а ножницы освобождать от пыли и ржавчины.
6) Паутины в церквях ни под каким видом не терпеть.
7) Кадушки с медом (из канунов) по церквям строжайше воспретить.
8) Утварь церковную по временам чистить, а бархат на Евангелиях устарелый переменять.
9) Святые иконы, жертвуемые в церковь, благоприлично расставлять, а не нагромождать их одну на другую, к безобразию храмов.
10) Штофов и бутылок на жертвеннике для вина церковного отнюдь не иметь, а завести для сего другого рода сосуды, не напоминающие собой о шинках.
11) Хоругви иметь благоприличные, а ветхие в лоскутах и ненужные прибрать.
12) Тарелки для сбора денег по церкви обтянуть сукном, дабы не происходило неуместного трезвона, и ходить с ними не в самые важные минуты совершения таинства.
13) Вокруг церквей стараться разводить приличные деревья, не гоняясь за плодами, коих нельзя сберечь, а за тенью и благолепием.
14) Причетникам ходить в полукафтанах с поясом и в шляпах, а не в картузах набекрень, и не в кургузых казакинах.
15) Священникам иметь, особенно молодых, неопытных причетников под особенным отеческим надзором, в надежде благодарности от начальства за усовершение их, равным образом взыскания за противное.
16) Неопустительно совершать по церквам чтение кратких поучений при литургии, изданных святейшим Синодом, четьи-минеи и пролога.
17) Исповедь в посты производить с надлежащим усердием, благоговением и рассудительностью духовною, памятуя, что это одно из самых сильных средств к благотворному действию на нравственность народа и в то же время к снисканию духовного уважения и любви от прихожан священнику.»
Гораздо определеннее писал Иннокентий о первом своем впечатлении в Петербург Сербиновичу: «Что сказать Вам о здешнем месте.? Если есть где и расстроенное, и неустроенное управление, то здесь. Училища – все три – в таком положении, что жалко смотреть. По сей-же почте я пишу о них и молю о помощи. Надобно учреждать почти все снова. Тоже – с тремя монастырями. Корсунский очень изряден способами к содержанию и даже постройками, но в людях совершенное оскудение. Бизюков, с 26000 десятин земли и прочими угодьями, едва имеет до семи человек и те – то слепы, то хромы. Стыд и жалость! Близь самой Одессы – Успенский в таком положении что в прошедшую зиму вырубили шелковичный сад свой на отопление келий. В добавок – тоже безлюдье. Посему первым долгом моим было отправить своего иеромонаха в Харьков, Курск, Чернигов и Киев для приглашения и набора братии. Присовокупите к этому женский монастырь, до половины еще необделанный, а между тем переполненный людом всякого рода; кафедральный собор, требующий для окончания построек больших сумм; дела консистории, запущенные за несколько лет, особенно метрики; несносную пыль с улиц, несносный запах с моря, – и вы будете иметь понятие о нашем положении». О семинарии Иннокентий также писал своему другу, что она «требует многих попечений. Самое внешнее ее состояние таково, что нельзя видеть ее без сожаления. Живут и теснятся в половине дома, а другая занята пшеницею, или праздна. Где учатся, там и спят. Можете судить о порядке». Самый дом архиерейский хотя занимал и прекрасное местоположение, – он находился не более, как в полуверсте от моря и задним фасадом своим был обращен к самому морю, – для жильца своего не представлял никаких удобств, да и не мог представлять их по своей ветхости. По крайней мере, жалуясь на простуду в письме к Макарию, Иннокентий писал: «эта простуда, господствующая во всей Одессе, тем неожиданнее, что у нас доселе нет зимы, а уже пробиваются признаки весны. Главная вина – плохой дом, который до того изветшал, что начал падать и разваливаться. При необходимой починке его, опять выйдет препятствие года на два к домашнему удобству и занятиям. Видно, такая доля наша!» – Неудобным казался Иннокентию и самый ход епархиального управления, стесненный формальностями, сложностью канцелярского делопроизводства. Вот что писал по этому поводу сам Иннокентий своему петербургскому другу: «Какая разность здешней епархии от Харькова, Вологды, даже Киева! Последние три, даже в сложности, едва равняются первой, так что, при всей привычке к делам, трудно успевать вести их, как должно. Главной причиной такой разности – множество отдельных светских управлений, с коими с каждым нужно ведаться, как с особой державой». Добавить к этим словам для полной характеристики впечатления приходится немногое. Объезжая свою обширную епархию и, конечно, изучая жизнь населения с его интересами, современное положение православия и будущие для него здесь задачи, Иннокентий ясно видел, что Одесса – царство евреев, иностранцев и всякого иноплеменного люда, что на это иноплеменное царство работает, не разгибаясь, спина русского человека, полуодичалого в степях, только по имени христианина. Видел он цветущие колонии немцев, с церквами, школами, и рядом – землянки русских людей, ведущих полуживотную жизнь, годами не бывающих в церкви; видел, что юг далеко не весь населен коренным русским народом, и гораздо больше разными пришельцами и инородцами, которые, хотя в некоторых местностях и не превосходят русских численностью, но господствуют над ними своими капиталами. В Крыму и в значительной части Таврической губернии Иннокентий нашел полутатарское царство; православных церквей, можно сказать, было ничтожное число и притом самых скудных и по внешности, и по внутреннему устройству, и не только по селам, но и по городам; русский народ даже мало говорил по-русски; школ народных или церковно-приходских едва-ли было две – три. А с другой стороны не могло не вызвать в нем самых глубоких и самых сердечных дум отдаленнейшее прошедшее Крыма. Он знал, что Крым есть самая древняя святыня России, которую она непременно должна восстановить для русского народа. Здесь были стопы первозванного апостола Андрея; здесь пролилась за Христа и освятила будущую христианскую Россию первая для нее мученическая кровь Климента, ученика апостола Петра и кровь других мучеников из первых веков христианства; здесь проповедовали слово евангелия наши апостолы Кирилл и Мефодий; здесь купель равноапостольного князя Владимира. Таким образом ничего удивительного, ничего странного если при подобном положении дел у пламенного Иннокентия, наделенного широким и светлым умом, душой, отзывавшейся, по выражению Погодина, «на все вопиющие вопросы отечества, сердцем, болевшим всеми ранами родины», у Иннокентия уже после первого обозрения епархии стали назревать разные «затеи», т. е. мысли о коренных преобразованиях, изменениях, возобновлениях, учреждениях, восстановлениях в Херсоно-Таврической епархии. Эти «затеи» коснулись прежде всего духовно-учебных заведений и монастырей. «Если-бы можно было как-нибудь ускорить постройку нашей семинарии, – писал он Сербиновичу, – то это было-бы большое благо не только для нас, но и для Востока православного, ибо непрестанно является там охота ехать учиться у нас, – а как нам соответствовать этому, когда самим жить негде?» С целью помочь епархии в надлежащей постановке духовно-учебного дела, преосвященный Иннокентий в первое время был весьма недалек даже и от того, чтобы изменить назначение некоторых монастырей. «До меня дошла весть», пишет он тому-же Сербиновичу, «что начальники, нашего Бизюкова монастыря, о. ректор. Екатеринославской семинарии, сделался жертвой холеры. Примите, пожалуйста, труд доложить его сиятельству (т. е. обер-прокурору Святейшего Синода), чтобы повременили назначать нового настоятеля к нам в сей монастырь, ибо самый монастырь этот, можно сказать, при последнем издыхании; так он обезлюдел, оскудел благочинием, расстроен по всем частям. Совершенная необходимость поставить его впредь на другом основании, иначе он будет служить, как уже и служил, в поношение духовной чести для всей окрестности. Между тем у нас есть способы восстать из развалин и вещественных, и нравственных, ибо он владеет, между прочим, 26-ю тысячами десятин земли. Первое условие к тому – особенный, наличный настоятель, чего он не имел почти с самого основания своего. В Бизюкове-же мне хочется основать или церковную школу для исключенных учеников на приготовление их в причетники, – в чем здесь крайний недостаток, – или даже перевести туда Елисаветградское училище, коему на своем теперешнем месте недостает дома для помещения.» В начале 1849 года Иннокентий сообщает А. С. Стурдзе: «Трудное житье наше было в продолжение прошедших трех месяцев. Надлежало отписываться и за Одессу, и за Петербург, так что летняя льгота, нам дарованная, возмещена на нас десятерицею. С семинарией и училищами положено: быть им вне Одессы в Успенском монастыре! Но точно-ли это удобное и лучшее помещение? Желалось-бы слышать ваше окончательное мнение! Меня что-то, признаюсь, тревожит помысл об обрывах морского берега. Для Одессы предположен викарий, но где лучше поместить его – в самой Одессе, в Херсоне, или Крыму? Если в Одессе, то где именно? Не в доме-ли семинарском? но он не скоро будет празден, пока не возведут здания для семинарии в монастыре».
Таким образом, первый год управления Херсоно-Таврической епархией был для преосвященного Иннокентия годом усиленных хлопот по части благоустройства монастырей и основанных его предшественником учебных заведений. Если припомнить, что с этого-же времени начались настойчивые старания об устройстве Одесского Кафедрального собора, об увеличении числа церковных торжеств, крестных ходов, об открытии новых храмов, об учреждении викариатства и т. д., то станет ясно, как постепенно расширялась деятельность архиепископа Иннокентия от центра его епархии к ее периферии и почему именно его внимание в 50-х годах сосредоточилось на этой периферии – Крыме.
Осенью 1848 года преосвященный Иннокентий принужден был оставить свою епархию, снова отправиться в Петербург для присутствования в Святейшем Синоде. К сожалению, этот второй год пребывания в С.-Петербурге был для него крайне неблагоприятен: в это время Иннокентий в первый раз занемог тяжким недугом, который довел до положительного истощения все силы его организма. Вследствие этого, преосвященный Иннокентий, как только почувствовал некоторое облегчение тот-час начал хлопотать о Высочайшем разрешении возвратиться в свою епархию для поправления здоровья. Весной 1849 года, получив отпуск, Иннокентий снова прибыл в Одессу, где его ожидали с нетерпением. Теплый климат, путешествие по прекрасными местам обширной епархии, морские волны, душевное спокойствие и тихие ученые занятия несколько его успокоили и исправили здоровье; тем не менее вполне оно уже никогда не восстановлялось: с этих пор преосвященный Иннокентий стал часто подвергаться болезням, особенно – простуде, и очень часто вообще жаловался и на словах и в письмах к знакомым на свои недуги. Но, слабый физически, он не переставал действовать с прежней энергией. Осенью 1849 г. Иннокентий в третий раз должен был отправиться в Петербург для присутствования в Святейшем Синоде. То-же самое случилось и в следующем 1850 году. Впрочем, митрополит Московский Филарет, видевший его в этом году, писал преосвященному Евсевию, ректору С.-Петербургской духовной академии, 19-го июня 1850 года: «преосвященного Иннокентия видел я не как больного, но носящего следы болезни. Мне показалось, что его здоровье восстановилось до прежней силы.» В 1852 году преосвященный Иннокентий был вызван в Петербург для присутствования в Святейшем Синоде в последний раз.
Однако эти годы, большая часть которых посвящена деятельности в Синоде, не прошли бесследно и для Херсонской епархии. Палимпсестов в «Воспоминаниях об Иннокентии» сообщает, как он по осени 1851 года обозревал Таврическую часть своей епархии, и, – что более ценно, – восстановляет процесс развития Иннокентием мысли об основании в Крыму «Русского Афона». От 1850 г. сохранилась «записка преосвященного о возобновлении древних святых мест по горам Крымским». 15-го августа того-же года был торжественно открыт Успенский скит, находящийся в Бахчисарайском ущелье, – самое древнее христианское святилище, в котором до времени Иннокентия хранилась чудотворная икона Божией Матери. Когда в 1849 г. правительство учредило в Новороссийском крае римско-католическую епархию и в Херсоне стал действовать к соблазну православных католический епископ Головинский, преосвященный решил хлопотать о назначении в Херсон викария. В 1851 году, благодаря его настоятельным представлениям, Головинскому был дан для пребывания другой город; в 1852 году «викариатство», по собственному выражению преосвященного, «идет, и, кажется, к новому году будет в Херсоне владыка»; наконец в январе следующего года «дело это было кончено»..., «штат викариатства утвержден и об избрании кандидата последовало Высочайшее повеление». «Прозвание викария Одесский», – писал 3-го марта архиепископ Херсонскому протоиерею Перепелицыну. «По штату ему жалованья 2000 руб. сер. Певчим 475 руб. До отведения угодий ежегодно 1500 руб. На обзаведение дома 7000 рублей единовременно. Видите, как все лучше нашего в Одессе! Оттого-то и тянулось долго: надобно было усиливать и спорить».
Мы заметили выше, что деятельность преосвященного Иннокентия постепенно, но очень определенно распространялась от Одессы к периферии его епархии – Крыму и наконец в 50 годах сосредоточилась главным образом на последнем.
Чтобы верно судить об исходном пункте такой перестановки центров деятельности, необходимо выйти из впечатления, которое неизгладимо оставалось в Иннокентии со времени первой его поездки по епархии. Контраст между славным прошлым и настоящей заброшенностью святынь Крыма, контраст между положением православных и татар, которым (т. е. татарам) главная администрация юга оказывала всяческие поддержки, невольно приводили к мысли, насколько великое дело взяться неотложно за восстановление Крымских святынь и за постановку этого края, на строго православный путь для дальнейшего, чисто русского его развития. В распространении и укреплении православия, а с ним и русской народности Иннокентий руководился, конечно, только одной любовью к родине, к родному народу и царству. Как часто этот мотив высказывался им, можно судить по письмам к Романовскому, Сербиновичу и по речи, произнесенной 5-го сентября в Алупке в присутствии князя Воронцова. Везде здесь усиленно проводится мысль, что «к делу основания среди гор Таврических русского Афона влечет непреодолимое, внутреннее побуждение.» По Палимпсестову уже в 1851 году Иннокентий не раз замечал, насколько важно было-бы открыть самостоятельную митрополию на крайнем юге России. «Этого прямо требуют», – говорил он – «древнейшие святыни края; требует край, чтобы скорее походить на чисто русскую землю; требует соседство юга с славянскими племенами и даже с Кавказом». «Мало одной митрополии, – я открыл-бы здесь духовную академию», прибавлял Иннокентий, «для которой и место есть хорошее – Георгиевский монастырь; но какую академию? Академию миссионеров. Подобное учреждение есть в Риме и католичество раскинуло свои сети по всему лицу земли; а наша православная Россия ничего подобного не имеет, а между тем поле для проповеди Христа Распята – целая и притом обширнейшая часть света – Азия да и своих заблудших овец много».
Надо знать, что мысли преосвященного Иннокентия, особенно мысль о восстановлении крымских церковно-исторических памятников, в 1850 году не были новостью для русского общества. Они высказывались и ранее Иннокентия, только никому кроме него не суждено было явиться осуществителем этих мыслей. Особенно много говорили до Иннокентия о необходимости обновления Херсонеса и о восстановлении его церковно-исторических памятников. Между прочим, в Херсонесе долгое время можно было видеть громадный каменный холм, складенный перед развалинами древнего соборного храма и увенчанный высоким крестом. У подошвы храма, в самых развалинах, ясно заметны были стены святилища и место алтаря, ознаменованное крестом. Здесь некогда совершено было крещение великого князя Владимира Святого. Посреди храма указывали на одно углубление, как на место, где спала чешуя с очей новопросвещенного. На этих самых развалинах еще до Иннокентия предполагали соорудить церковь в византийском стиле такого-же размера, каков был древний храм. План этого храма был утвержден; мало того, назначен быль даже крестный ход чтобы торжественно заложить первый камень; несколько десятилетий производили по всей России усиленный сбор на сооружение в Херсонесе храма; вдруг, совершенно неожиданно в 1847 году все эти собранные деньги получили иное назначение и место древнего Херсонеса, где положено начало нашего духовного просвещения, было предназначено для чумного госпиталя.
Иначе поведено было дело восстановления церковно-исторических памятников Крымского полуострова, когда кафедру Херсонского архиепископа занял преосвященный Иннокентий. Вместо слов и проектов приступлено непосредственно к самому делу. Заботясь везде о сохранении и обновлении Крымских, церковно-исторических, древних памятников, преосвященный не мог оставить без внимания и развалины Херсонеса. С целью их возобновления, или по крайней мере охранения, он поспешил испросить себе у наместника Кавказского эти развалины и устроить там, посреди пустыни, вблизи остатков бывшего соборного храма, в котором был крещен князь Владимир, небольшую церковь с небольшим помещением для иноков. В числе этих иноков, между прочим, был помещен преосвященным Иннокентием один достойный и ревностный подвижник, благородного происхождения, из Донских казаков, который, отслужив с честью службу царю и отечеству в звании есаула, – под конец своей жизни решился посвятить себя на служение Богу. На пути в Иерусалим, где он хотел было остаться навсегда, чтобы дожить свой век у подножия священной Голгофы, он был удержан преосвященным Иннокентием и, по его убеждению, решил остаться в Крыму и заняться надлежащим устройством возобновленного святилища в Херсонесе.
Преосвященный Иннокентий не мог также не обратить внимания и на развалины Инкермана с греческой башней и остатками укрепления на верху горы. В отдаленные времена это было самостоятельное греческое владение, принадлежащее роду Комниных. Здесь-же находилась и кафедра Готского митрополита. Дни славы Херсонеса были днями процветания и Инкермана. Внутри скалы была иссечена небольшая церковь; но до Иннокентия церковь эта находилась в совершенном запустении. В ней жили, говорят, только цыгане, загонявшие сюда во время жары свой скот. Благодаря ревности и усердию преосвященного Иннокентия и она обновлена. Архиепископ испросил для нее небольшой участок земли под огород на берегу Черной реки и устроил в этой скале небольшой скит для одного отшельника. Обновив древний храм в Инкерманской скале, преосвященный Иннокентий освятил его в память двух римских священномучеников, свв. пап Климента и Мартина, пострадавших в Херсонесе, куда они были заточены в I и VIII веке по Р. X.
Разузнав, что на реке Каче, недалеко от Бахчисарая, в таком же ущелье, в каком находился и скит Успенский, на источниках реки Альмы у подошвы Чатырдага, существовали некогда при целебных источниках церкви св. Анастасии и св. Бессребреников, преосвященный Иннокентий счел необходимым посетить эту живописную местность, а впоследствии обновил и там разрушенную святыню.
Не мало стараний и забот посвятил Иннокентий сооружению и украшению храма в честь св. Владимира и в г. Севастополе. Ему хотелось украсить этот храм таким образом, чтобы в самом украшении его можно было видеть то церковно-историческое значение, которое принадлежит самой местности и совершившимся на ней событиям. На устроение этого храма, между прочим, была употреблена половина той суммы, которая была собираема по всей России на возобновление его еще до поступления преосвященного Иннокентия на Херсонскую кафедру. По поводу устроения и украшения этого храма Иннокентий писал Макарию 12 января 1850 года: «В церковь Владимирскую, что устрояется в Севастополе в память св. Владимира от лица всей России, нужен иконостас с образами святых тамошнего края и тогдашних давних времен; мы набрали их по возможности, но просим посмотреть, не придет-ли вам еще чего на мысль? Равным образом, – не покажется ли нужным другая расстановка? Особенно, какого-бы лучше апостола поместить в параллель с Андреем Первозванным? Не посещал-ли – по преданию – кто другой из апостолов, кроме него, нашего Крыма или хоть Тамани? Нам хотелось выразить во всем иконостасе одну мысль совокуплением в один собор тех лиц, кои потрудились над основанием у нас христианства и были провозвестниками его в Крыму, где будет новая церковь!... Вместо другого апостола, в параллель с апостолом Андреем, мы думали было поставить царя Константина, но он чужой – не наш, да и не апостол».
Далее, преосвященный Иннокентий обратил свое внимание и на замечательную по своей древности церковь св. Иоанна Предтечи в генуэзской крепости на скалах Судакской долины. В одной из часовен этой крепости в целости хранились даже на стенах фрески, изображавшие Спасителя и двенадцать апостолов. До поступления Иннокентия на Херсонскую кафедру эта часовня служила однако-же только хлевом для скота немецких колонистов, которых низенькие белые домики тут-же были как-бы прилеплены к развалинам Солдайских башен.
У подошвы Чатырдага есть источник, называемый Козмодемьянским. В этом источнике купались как, христиане, так и татары, в особенности здесь татарки имели обыкновение купать своих детей и получали пользу. Иннокентий не оставил без внимания и этого крымского уголка: благодаря именно его стараниям там стало совершаться православное богослужение.
Трудно гадать, успел-ли бы преосвященный Иннокентий в ближайшем будущем, осуществить свою заветную мысль об устройстве самостоятельной митрополии в Крыму и академии с миссионерскими целями. Официальные данные 1852 года подтверждают, что подобные проекты у него все еще были, но наряду с идеалами выступают и мучительные сомнения. В письме великому князю Константину Николаевичу от 20-го июня 1852 года, Иннокентий откровенно указывает на то прискорбное, угнетенное и невыгодное положение, в каком тогда находилось крымское православие сравнительно с магометанством и еврейством, не говоря об инославных исповеданиях. «Пером моим и сердцем, – пишет он, – водит одна искренняя любовь к престолу и отчеству, для коих вера православная была и есть краеугольным камнем силы и величия, которого не могут затмить никакие искусственные контрафорсы самой оборотливой политики». Но лично для него эта «оборотливая политика» местной администрации с ее контрафорсами очевидно была тормозом и неустранимым при осуществлении широких предначертаний. С другой стороны, многое приостановила Крымская война, – приостановила, но не уничтожила, как и не охладила его архипастырской ревности. «Кто не знает, – говорит автор «биографической записки о преосвященном Иннокентии», – «как, достойно умел проявить себя незабвенный архипастырь в эту грозную, кровавую эпоху? Его геройское, истинно-христианское мужество и присутствие духа во время обложения и бомбардирования Одессы неприятельским флотом, его торжественные службы и вдохновенные речи к жителям Одессы в эти страшные дни; его речи и напутственные молебствия воинам, отправлявшимся в Севастополь, сестрам Крестовоздвиженской общины, речи при освящении в Одессе батарей и во многих других подобных случаях; его путешествия в Крым, где старался он словом веры и упования успокаивать и подкреплять злосчастных обитателей страны; его священно-служения и речи в самом Севастополе посреди громов войны, – все это озарило имя Иннокентия новой блистательной славой, – славой высокого патриота и великого пастыря Церкви, исполненного самоотвержения и любви, готового положить за свою паству или вместе с ней собственную душу».
В 1853 году был объявлен манифест о войне с Турцией. В самом начале военных действий Иннокентий объехал весь Крым и представил обер-прокурору Святейшего Синода графу Протасову «дневник» этой «любопытной и опасной», как выражается Протасов в своем письме к нему, поездки.
8-го апреля 1854 года. Одессу обложил неприятельский флот. Это было на страстной неделе, в Великий четверг. Преосвященный Иннокентий совершал литургию в Одесском кафедральном соборе. Молившийся народ находился в невольном смущении в виду угрожающей опасности. Преосвященный Иннокентий вышел к слушателям с словом евангельского утешения: «да не смущается сердце ваше: веруйте в Бога и в Мя веруйте. Дерзайте, яко Аз победих мир!» На другой день (9-го апреля 1854 г.), в Великий пяток, англо-французский флот теснее обложил берег и усилил себя новыми орудиями. Преосвященный Иннокентий не перестает утешать одесских граждан своим теплым словом. В слове пред плащаницею, указав слушателем, что «враги наши ратуют на нас не за что другое, как за то, что мы просили свободы веры и совести для собратий наших по вере, живших под игом магометанским», – он говорит: «А враги наши что могут сказать перед сей плащаницей в оправдание своего нечестивого союза против нас с поклонниками Магомета? – Что для спокойствия и благоденствия нашей части света необходимо существование среди нее во всей силе прелести Магометовой?... Что взаимное отношение стран и народов христианских поколеблется и превратится, если во граде Константина Великого не будет ежедневно провозглашаемо на всех стогнах: нет Бога, кроме Бога Магометова?... Подобное сему действительно не стыдятся утверждать враги наши: но что значит это? Увы, сладчайший Иисусе! Для благоденствия обществ человеческих мало Твоего креста и Евангелия: для сего, в помощь Тебе, потребен еще Магомет с его алкораном!...»
10-го апреля, в Великую субботу, флот начал правильную бомбардировку Одессы. «В 6 часов утра, – рассказывает свидетель-очевидец, – раздался со стороны неприятельского флота первый пушечный выстрел, за ним – второй, третий, четвертый... и, в несколько минут, воздух огласился страшным громом кровавой брани: дрогнула земля, поколебались стены домов и солнце скрылось в тучах порохового дыма... Три часа дня... Частые удары соборного колокола как-бы вторили неумолкаемому треску и гулу разрушительных, смертоносных выстрелов... Среди величественного Одесского кафедрального собора возвышается изящной работы балдахин, драпированный черным бархатом, а под ним, на мраморном ложе, лежит святая плащаница. Видны группы коленопреклоненного народа, усердно молящегося и благоговейно лобызающего язвы лежащего во гробе Жизнодавца. Архипастырь с обычной церковной торжественностью совершает Божественную литургию; горячая молитва предстоящих, тихие вздохи и слезы обнаруживают крепкое желание всех найти утешение в надежде на помощь Божию. Богослужение близилось к концу; пели причастный стих.... Вдруг моментально раздался страшный оглушительный взрыв (порохового ящика на Щеголевской батарее)..., крепкие стены соборного храма поколебались; стекла задребезжали.... молитвенные песнопения умолкли и народ, пораженный паническим страхом, опустился на церковный пол... Всем представилось, что массивный купол собора от сотрясения рушится. Послышались рыдания и вопли, – словом, была картина, способная потрясти душу каждого, и кто видел ее раз, тому не забыть ее во всю жизнь!... И в эти-то минуты едва-ли не один архипастырь сохранил полное присутствие духа!... Царские врата немедленно растворились... Терпеливо выждав, пока испуганный народ ободрился и пришел в себя, владыка вышел из алтаря, взял пастырский жезл и, со свойственным ему красноречием, начал беседу: «Вы устрашились сего бранного звука, произведенного вражеской рукой, и, стоя на молитве в этом святилище, не устыдились пасть на землю по маловерию... Но какой страх и ужас обымет грешную душу, когда возгремит архангельский глас трубы, чтобы призвать нас на всеобщий суд!» и проч. Беседа длилась не менее получаса. О событиях этого дня сам Иннокентий писал Гавриилу, архиепископу Рязанскому, 27-го августа следующее: «Сражение было прямо против моего дома, находящегося на береговой морской возвышенности, так что ниоткуда так хорошо нельзя было наблюдать весь ход сражения от начала до конца, как из моих окон. До 4 часов вечера можно было быть спокойными зрителями этого страшно-величественного зрелища. С сего времени уже до 7 часов весь ад франко-английский был обращен на нас; но мой дом, находясь первый под выстрелами, по тому самому менее других подлежал опасности, ибо ядра и бомбы перелетали его, пускаемые под навес. Впрочем, мы набрали этих гостинцев порядочный угол в комнате. Одно только ядро изрядно попугало всю мою челядь, сидевшую в погребе. Ударив в угол церкви и оцарапав его, оно отскочило в этот погреб, растворило собой дверь и скатилось по лестнице в среду сидевших там со свечей. Можете представить их положение! Все ожидали их взрыва и смерти; но ядро спокойно лежало посреди и скоро увидели, что оно уже безвредно. Но минута страха была ужасна; меня так заняла необыкновенность этой сцены морской, что я весь день, исключая времени, проведенного в церкви на служении, не отходил от окон и смотрел на действие флота. Страха не было вовсе: как-то так Бог дал».
11-го апреля неприятель прекратил огонь, а 14-го в среду на Святой и совсем оставил Одессу, направив все свои силы к Севастополю. Тем не менее преосвященный Иннокентий не переставал ободрять жителей Одессы своими проповедями. Так он произнес слово 11-го апреля в день Пасхи на литургии в Одесском кафедральном соборе по поводу прекращения бомбардировки Одессы; на вечерне в тот-же день он снова коснулся этого-же самого события. 14-го апреля было совершено благодарственное молебствие в Одесском соборе и также произнесено слово, приличное радостному событию; 18-го апреля такое-же молебствие было отправлено на площади. 2-го мая в Одесском кафедральном соборе преосвященный Иннокентий снова совершал служение по случаю взятия в плен и сожжения ставшего на мель английского парохода-фрегата «Тигр» и снова произнес одушевленное слово. 9-го мая в том-же самом Одесском храме Иннокентий опять совершает благодарственное молебствие по случаю пожалования Всемилостивейшей грамоты г. Одессе за сохранение спокойствия, порядка и благочиния во время бомбардирования с флотом неприятельским и снова присовокупляет к молебствию свое пастырское слово. 31-го мая он освящает вновь устроенные в защиту Одессы прибрежные батареи и на Щеголевской батарее еще раз произносит прекрасную речь.
Предвидя появление неприятельского флота для бомбардирования Одессы, Иннокентий заблаговременно начал готовиться к встрече непрошенных гостей, как он называл врагов. Так 4-го апреля он призвал к себе благочинного Одесских церквей и сделал распоряжение: «сегодня-же распорядитесь, чтобы завтра, 5-го апреля, в семь часов вечера, собралось ко мне градское духовенство. В виду тревожных грядущих дней, мне необходимо побеседовать и дать некоторые наставления». – А в своем слове в Великую субботу, обращаясь к священнослужителям, он говорил им: «А вы, возлюбленные сослужители наши, столь бодрственно доселе стоявшие с нами на духовной страже у креста Христова, удвойте и утройте усердие и попечения ваши, дабы к наступающей священно-таинственной ночи все было уготовано по чину церковному, да не речет враг града нашего: укрепихся на него» (Пс. 12, 5). Не без пользы могли-бы быть приняты во внимание советы Иннокентия, относившиеся даже к самому военному делу. Вот, что, между прочим, рассказывал Иннокентий одному полковому священнику 4-го апреля. «На днях был у меня командующий Одесскими войсками, генерал-адъютант барон Остен-Сакен. Трактовали о мерах и средствах защиты города на случай блокады или высадки неприятеля.... Между прочим, я ему указывал на необходимость сооружения нескольких батарей около одного из предместий города, известного под именем «Пересыпь», как прилегающего к взморью очень близко. Барон находил это излишним, мотивируя свое соображение тем, что у названного предместья уровень моря на целых пять верст не превышает четырех футов, следовательно тот район от действий неприятельских выстрелов совершенно гарантирован. Но я ему заметил, что при эскадре могут существовать плоскодонные пароходы, для которых указанный уровень воды не послужит препятствием подойти к берегу моря на самое близкое расстояние. Тем не менее, кажется, меня не послушали.... По крайней мере, слышу, об устройстве батарей и не думают!» По словам свидетеля – очевидца, последствия показали, что предположение преосвященного Иннокентия было вполне основательно. Плоскодонные пароходы беспрепятственно заняли у «Пересыпи» настолько близкую позицию, что она в буквальном смысле была засыпана огнестрельными снарядами....
Деятельность преосвященного Иннокентия в Крымскую войну не ограничивалась одной Одессой. Обстоятельства времени заставили его, вскоре после неудачного бомбардирования Одессы англо-французским флотом, обратить особенное внимание на Крымский полуостров. Когда врагу был открыт путь к Симферополю; когда даже Перекоп не мог считаться безопасным убежищем для охваченного паническим страхом русского населения; когда измена крымских татар стала действительностью и большинство жителей Севастополя и Симферополя бежало, а среди оставшегося ходили самые ужасные слухи о положении дел, преосвященный Иннокентий совершенно неожиданно, один, без свиты, без зова, явился 13-го сентября в Симферополь, на другой день совершил в Симферопольском Александро-Невском соборе покаянное молебствие и произнес слово, начинавшееся текстом: «мир вам!» (Лк. 24, 36). В этом слове он коснулся изменнического поведения крымских татар, обличал легковерие и малодушие русских и утешал последних указанием на более благоприятный для них поворот обстоятельств и всемогущее заступничество Божие. Речь архипастыря была так сильна, что все присутствовавшие в храме от стыда краснели и плакали. На другой день в том-же соборе преосвященный произнес новое слово ободрения, успокоения. «Не опечалил-ли я вас вчера чем-либо, возлюбленные?» – начал он свою проповедь. «По той-же любви к вам о Христе и по той-же ревности по вас можно было, пожалуй, сказать что-либо и слишком горькое... Но вы поймете, надеюсь, и уразумеете, как должно, причину и цель всего сказанного и не будете огорчаться нашим словом, памятуя слово Священного Писания, что достовернее язвы друга, нежели льстивыя лобзания врага». (Притч. 27, 6). Из Симферополя Иннокентий намеревался направиться в Севастополь. Но князь Меньшиков успел отговорить его. Тем не менее Иннокентий не отказался совсем от своего намерения и прибыл в Севастополь в более тяжкую для него пору. «Посещение им окровавленного и опаленного Севастополя, – говорит один очевидец – останется памятным для меня навсегда. Я встретил его в Курининой балке; я шел к раненым в 4 №. Мне указали, что в карете, которая стоить, приехал архиерей; я подошел и увидал в ней Иннокентия. Не видевши его почти пять лет, я нашел его очень постарелым. Я подошел к нему вовремя: лиц, которые должны были его встретить и принять, по крайней мере позаботиться о ночлеге, тут не случилось, и, конечно, он был доволен моими услугами, хотя я для него был совершенно посторонним лицом. Я попросил людей из стоявшего тут отряда при офицере и, высвободившись с каретой из этой трущобы, мы направились в северное укрепление, где он должен был остановиться. Когда поднялись на гору, то он приказал остановиться карете и начал подробно расспрашивать о всяком бастионе. В это время малаховцы с Камчатского редута вели живую перестрелку. Осматривая всю линию, опоясывавшую южный Севастополь и глядя на неприятельскую позицию, он начал делать свои стратегические замечания... В северном укреплении он остановился в пустой солдатской палатке и сейчас же нашлись знакомые ему: тут встретился с ним генерал Тетеревников; завязался разговор самый близкий к положению тогдашних дел. Иннокентий говорил, что приехал посмотреть Севастополь и пройти по траншеям; но генерал ему не советовал, и спасибо ему. То же самое мнение имели и удерживали неуместное самоотвержение главнокомандующий князь Горчаков и граф Сакен... Каждый из знавших Иннокентия знает, что он не боялся смерти и готов был, всегда жертвовать собой. Но его могли ранить или – и более того». Впрочем, Иннокентий все-таки успел доказать на деле, что он не боялся смерти. «Спустя несколько часов (после прибытия Иннокентия в северное укрепление), говорит тот-же очевидец, я перевозил Иннокентия с северной стороны на южную, на катере с парохода «Эльборус». Он ездил к графу Сакену. Ему уже сказано было, что по рейду палят из мортирной батареи, поставленной в развалинах Херсонеса; сказали уже, что несколько часов раньше упала бомба на корабль «Париж», прошла до киля и накуролесила порядком. С благоговением, но без страха, взошел он на катер, благословил гребцов. Я спросил: «благословите отваливать»? – «С Богом»! – Ребята ударили в весла. Я сказал: «навались!» (морское техническое слово – значит – сильней). Мы отвалили; он сел, окинул взором рейд и город и спросил: «а где Париж?..» Я ему сказал имена судов, около которых мы шли; то были фрегат «Коварна», пароход «Эльборус», транспорт «Березань» и корабли: «Императрица Мария», «Храбрый», «Чесма», «Париж» и «В. К. Константин». Мы были уже на середине бухты, как летит бомба из Херсонеса. Я пристально гляжу на архиерея: мне хочется видеть, как на него подействует, – и грешен, – признаюсь, хотел, чтоб бомба упала поближе, – она упала у нас за кормой, и он так был тверд, что трудно было угадать перемену в его лице. Я сказал: – «навались!» – ребята навалились, и вот идет другая и упала впереди нас, – действие то же... Упавшие две бомбы, одна впереди, а другая за кормою, рассеяли волнение, но нисколько не помешали нашему катеру, и мы благополучно пристали к Графской пристани (она же и Екатерининская).» Во время самых военных действий на Крымском полуострове Иннокентий не преставал совершать литургии, молебствия, водосвятия, при чем по обычаю, всегда сопровождал все священнодействия своим архипастырским словом. Так, он совершал литургию в походной церкви в северном укреплении, когда Херсонес и часть Севастополя были уже в руках неприятеля; здесь-же он произнес одушевленное слово, благословлял солдат, раздавал им просфоры, убеждал твердо стоять против врагов Царя и отечества. На другой день он совершал литургию в Михайловском соборе в 6 часов утра, а в 8 часов уже отправлял молебствие с водосвятием, окроплял святой водой войска и орудия, и благословлял иконами защитников Севастополя. Как во все время совершения литургии, так и во время молебна и вручения святых икон пальба не прекращалась. Несколько бомб упало недалеко от самого собора. Страшный взрыв закончил церковную церемонию. Главным предметом особой пастырской заботливости преосвященного Иннокентия, во время Крымской войны, были преимущественно госпитали, госпитальное духовенство и сестры милосердия, ухаживавшие за ранеными и больными воинами; через них раненые снабжались нередко предметами продовольствия, собранными Иннокентием, – духовными книгами и иконами. Из писем к Иннокентию всех этих лиц, говорит Н. И. Барсов (Хр. чт. 1884 г. III – IV, стр. 514), может составиться самая подробная хроника войны, неофициальная, но тем более ценная, что освещает ее с новых точек зрения и дополняет характеристиками действовавших лиц.
В собрании слов преосвященного Иннокентия, произнесенных по случаю общественных бедствий, находится два «слова после победы» и «слово в первое служение после сражения». Эти слова также были произнесены им на Крымском полуострове в войну 1853 – 1856 год. Само собой понятно, что этими «словами» далеко нельзя ограничивать ораторской деятельности Иннокентия за это время. Многие из его слов и речей, произнесенных экспромтом, остались незаписанными.
В феврале 1855 года был объявлен Высочайший манифест о государственном вооружении. Глубокое смущение охватило Россию; прибрежье Черного моря было близко к отчаянию. Но Иннокентий не переставал ободрять и утешать паству. По прочтении Высочайшего манифеста, он произносит слово в кафедральном Одесском соборе (13 февраля 1855 года, в неделю православия), которое состоит в решении вопроса: «России-ли уступить малодушно победу над собой и правым делом своим этой беззаконной зависти и вражде, и, подобно неверному некогда ученику, отречься от своего великого и святого предназначения?...» Не прошло месяца после объявления манифеста о государственном вооружении, как Россию постигло новое горе. Скончался Государь Император Николай Павлович. Этому событию преосвященным Иннокентием было посвящено два слова. Начиная первое из них, проповедник отмечает странное совпадение обстоятельств. В четыредесятницу этого года он решил предложить своим слушателям целый ряд бесед о смерти. И вот, «думали-ль мы, что, среди сих собеседований, ужасный образ смерти предстанет, нам в лице самого возлюбленного Монарха нашего?» – Только в милосердии Божием, и достоинствах нового Императора Иннокентий почерпал утешение для своих слушателей.
В мае 1855 года, оставив Одессу, Иннокентий снова отправился в Крым. «На днях думаю проведать свой Крым», писал он Макарию 29 апреля, 1855 года. «Двух скитов наших – Херсонского и Инкерманского как не бывало. Первый, строенный едва не одними слезами, пошел на топливо для французов, а второй чуть не развалился весь от английских бомб и ядер. Севастополь сделался истинною купиною, горит непрестанно и не сгорает. Это теперь Европейское кладбище. И здесь то особенно теперь во всей силе дышит и веет русский дух. Войско готово все умереть, но не уступить святого места псам, как называют врагов наши воины». В первых числах сентября 1855 года в Одессе получено было новое прискорбное известие: южная часть Севастополя была оставлена нашими войсками и занята неприятелем. Иннокентий снова не замедлил выступить перед своей паствой со словом ободрения и утешения. 4-го сентября в Одесском кафедральном соборе он произнес речь «по случаю уныния и смущения народных мыслей об оставлении нами южной части Севастополя». «Не смущают-ли братия, кого-либо из вас недавние вести с нашего полуострова?» начал он свое слово. «Кто ведает истинное положение дел и знаком с местностью Севастополя, тот нисколько не будет смущаться тем, что мы его оставили, а еще обрадуется, узнав, что мужественные защитники Севастополя нашли способ выйти с таким достоинством из своего чрезвычайно трудного и, можно сказать, смертоносного положения, продав врагу за великую цену то, что для нас уже давно потеряло свое прежнее значение, а между тем продолжало требовать непрестанно новых великих жертв». По мнению Иннокентия, переход Севастополя в руки неприятеля не был делом неожиданным и придавать ему следует гораздо меньшее значение, чем обыкновенно думают.
Прошло 17 месяцев после первой осады Одессы. В городе держались упорные слухи о вторичной бомбардировке. В виду этого некоторые прибрежные укрепления были усилены и исправлены, другие возведены вновь. К этому-то времени относится знаменитая речь преосвященного Иннокентия, произнесенная 14-го мая 1855 г. на Щеголевской батарее при освящении новых одесских батарей. «Долго-ли, – спрашивал оратор, – освящать нам страшные орудия смерти и истребления? – Мечу Божий, доколе будеши сещи и не внидеши почити в ножны твоя?... Увы, бедный род человеческий, как немного уразумел ты, в продолжение целых семи тысяч лет, тайну и цель бытия твоего на земли, и как мало приблизился ты к своему высокому предназначению! – Увы, святая вера христианская, такой-ли черной неблагодарности надлежало ожидать тебе от собственных сынов твоих за те благодеяния, какими ты ущедряла их доселе и видимо превознесла над всеми прочими народами!» Предположения о новой осаде Одессы не замедлили оправдаться. 26-го сентября 1855 года неприятельский флот, в составе 120 громадных морских пароходов-фрегатов, явился снова перед Одессой, грозя жителям города всеми ужасами разорения и опустошения. Со следующего-же дня и до 3-го октября, т. е. во все время блокады, преосвященный Иннокентий не переставал совершать покаянные молебствия и произносить свои одушевленные пастырские речи то на соборной площади, то в кафедральном соборе. 2-го октября неприятель снова покинул Одессу, не причинив городу никакого вреда. «Вчера, по утру» – писал Иннокентий 3-го октября графу Протасову, – «неприятельский флот отошел от нас к Очакову и Кинбурну. Что он там делает – не знаем: но военных дел нету; иначе мы слышали-бы выстрелы; ибо до Очакова по морю не более 60 верст и он в хорошую погоду почти виден от нас, равно как и Кинбурн. Народ наш немножко успокоился, бывши целую неделю в большом страхе, при виде ужасной морской армады. Город почти опустел и все в расстройстве. Возврат флота неприятельского также будет мимо нас; след., запас смущений и страхов еще далеко не истощен. Из Крыма ничего, – там тоже ожидают действий и движутся. Если бы нам Бог дал генералов получше! От них вся беда: это видит и чувствует каждый. На днях отправлено к Вам несколько бумаг. Не дивитесь нашей докучливости. Мы в пещи едва не халдейской; можно ли говорить холодно из огня? Кому-же и внимать, как не нам страждущим? не неделю, не месяц, а целые два года?»
Вообще, если военные действия того времени составляли злобу дня для всякого русского человека, то для Иннокентия их направление, ход и исход были самыми животрепещущими вопросами. Он не только был поглощен событиями, не только все свои силы готов был направить к тому, чтобы облегчить трудность военного времени, принести какую-нибудь пользу своему отечеству; он внимательно следил за всеми движениями, постоянно был обложен военными картами и планами, интересовался и собирал самые подробные и всевозможные сведения о близком к его сердцу деле России, изучал это дело всесторонне, указывал ошибки, подавал советы. «Если-бы архиерея Иннокентия назначили начальником, – говорили в Севастополе, – то дело было-бы хорошо». Своими письмами к Сакену и Горчакову он подкреплял, ободрял, поддерживал мужество в главных руководителях войны, указывал им истинные причины неудач, ясно при этом обнаруживая понимание дела даже с военной точки зрения.
«После Бурлюкского (несчастного) сражения, – пишет Иннокентий графу Протасову 14-го сентября 1854 г., – наши отступили в большом беспорядке – к самому Севастополю, оставив без боя и никому не гонящу две сильных позиции на Каче и Бельбеке, кои все вскоре и заняты неприятелями. Главнокомандующий придумал после сего фланговое движение и с значительным отрядом вышел из Севастополя, стал на Бельбеке к Бахчисараю, угрожая и флангу и тылу неприятельскому. Это, очевидно, было-бы прекрасно, если-бы у него было побольше силы, но, к сожалению, мало.... Сказать-ли что о Бурлюкском деле?... Позиция наша была прекрасная, солдаты шли на бой с энтузиазмом и мы, как сами неприятели говорят – могли его выиграть. Почему-же не выиграли? Много вредил нам с моря флот своими огромными орудиями, много вредили штуцера неприятельские, коих у нас крайне мало; не мало повредил метод действий колоннами..., не мало повредило то, что мы не могли употребить штыков.... конец слова: не надобно было шутить неприятельской высадкой, которая оказывается превосходно сгармонированной во всех отношениях; не надобно было, полагаясь на храбрость свою, пренебрегать призывом вовремя достаточного числа войск, кои праздно и без нужды стоят в Николаеве и других местах; не надобно было полагаться на уверения татар в их преданности; не надобно было оставлять без внимания положение края и своих сообщений с Россией, – без всякого прикрытия; не надобно было забывать вовсе души и морали солдата, который к счастью России еще твердо верует в Бога... Проклятая гордость все губит».
«Чего желают здесь (в Крыму) в настоящее время от Вас?» – пишет Иннокентий, четыре дня спустя после этого письма, тому-же г. Протасову. «1) Поскорее и побольше войск. 2) Искуснейших генералов. 3) Смышленнейшего и деятельнейшего губернского начальства, облеченного большей властью. 4) Ободрительных воззваний к здешнему краю, чего вовсе нет теперь. 5) Организации экономической, госпитальной, свитских офицеров и пр. подобного. б) Не мешало-бы, если бы явилось какое лицо повыше»... «Ох, насмотрелся я на военное управление в этом путешествии» (с 13 по 28 сентября 1854 г.), говорит письмо преосвященного тому-же графу Протасову, помеченное 29 сентября 1854 г. «Многое надо изменить и улучшить в нем, иначе успех всегда будет если не сомнителен, то слишком дорого стоящ. Под Вознесенском на дороге огромный обоз с сухарями из Бессарабии. Куда вас Господь несет? – Не знаем. – Где-же узнаете? – Мабуть скажуть в Вознесенске. – Зачем было направлять этот обоз на Вознесенск, и делать почти сто верст лишних, когда по прямой дороге необходимы сухари? Вообще подвозной частью распоряжаются не хорошо. Требуют тысячи подвод, кои потому следовало-бы употреблять скорее, а они шатаются дней по пяти и более, – не зная что делать и чем кормиться... В Одессе если бы не учреждали секретного комитета (секрет на другой день узнала вся губерния) для принятия мер в случае нападения от врагов, было-бы совсем спокойно... В Крыму стараются окружать себя облаком, тогда как надлежало-бы непременно поставлять окрестные начальства в известность. Главнокомандующий непременно должен издавать бюллетени, прокламации и проч... Иначе его молчание убийственно для всех.... Молчат всегда только мертвые2.
8-го апреля 1856 г. Иннокентий торжественно отслужил благодарственный молебен и произнес блестящую речь по поводу манифеста о мире с Турцией и западными державами.
Страшное время войны кончилось, наступила пора тяжелых трудов по восстановлению и исправлению разрушенного. «В трудные времена досталось нам действовать», писал Иннокентий Романовскому. «Эта трудность нигде так не видна, как у нас. Разумею все наше побережье и с Крымом. Я помню 12-й год и могу сравнивать. Как тогда, так и теперь шли не один, а друг за другом, все апокалипсические кони с всадниками. Теперь, когда война замолкла, идет язва и болезнь. Страшно сказать, что они производят. Но довольно будет сказать, что производят зло, не меньшее, самой войны». Опустошенные войной святыни края, разоренные монастыри и церкви, неустроенные кладбища и другие епархиальные дела Крыма всецело завладели вниманием и заботами преосвященного Иннокентия. Почти все свое время он посвящал хлопотам о приведении в исправность и порядок того, что было опустошено войной; сам лично разъезжал по Крымскому полуострову, указывал, что, где и как следует устроить. Работа кипела: церкви поправляли, на местах битв строили часовни, кладбища обносились рвами и оградами. К сожалению, все это Иннокентием было только начато, но не доведено до конца.... 26-го августа 1856 г. назначена была коронация Государя Императора Александра Николаевича. Для участия в коронации был назначен и преосвященный Иннокентий. И на пути в Москву, и за все время пребывания в Москве во дни коронационных празднеств Иннокентий чувствовал себя весьма дурно, часто высказывал мысль, что больше ему не придется быть в русской столице. На обратном пути из Москвы он пожелал заехать в Харьков, где и пробыл три дня. Из Харькова он проехал в Святогорский монастырь. После, два года спустя, архимандрит Арсений (в 1858 году) рассказывал А. Н. Муравьеву, что уже тогда – в это посещение обители, преосвященный Иннокентий предчувствовал свою близкую кончину и, прощаясь во св. вратах, поклонился до земли настоятелю и всему братству, прося себе прощения, если чем их оскорбил во время управления Харьковской епархией, «так-как», – присовокупил он, – «мы уже не свидимся более в земной жизни». В сентябре преосвященный был в Одессе. Болезнь, однако, не ослабевала. «Со мной было не хорошо всю прошедшую осень и зиму, – писал он 31 марта 1857 г. своему другу преосвященному Рязанскому Гавриилу, – были недели, в которые не надеялся и жить. Но милосердие Господа пощадило нас; теперь с весною, которая у нас кончилась еще до марта, чувствуется не малое оживление». Это оживление подточенных совершенно сил и любовь к Крыму побудили Иннокентия в апреле 1857 г. предпринять путешествие на юг епархии, которое и было последним.
17-го числа он совершил служение в Одесском кафедральном соборе, зашел в Крестовую церковь, приложился к иконе Касперовской Богоматери, сотворил три земных поклона, благословил домашних и в 6 часов вечера в невеселом расположении духа отправился в Крым, сопровождаемый протоиереем Логиновским.
Со слов этого протоиерея, который впоследствии писал «о последней поездке в Крым и последних днях жизни преосвященного Иннокентия» то, что сам видел, сам слышал и чему сам был свидетелем, мы и знаем, как кончилась блестящая, кипучая жизнь знаменитого Херсонского Владыки.
«Быстро проехав города Николаев, Херсон, Алешки и Перекоп и делая местами распоряжения по проезжаемым благочиниям, преосвященный, – сообщает Логиновский – 20-го числа прибыл в местечко Акмечеть, Перекопскаго уезда. «Надобно освятить это место, говорил Владыка, оно много вытерпело в минувшую войну». Дорога покрыта развалинами татарских аулов, и на сто верст кругом совершенная пустота. «Как больно, замечал преосвященный не раз, что такие места, как в нашем Крыму, – где следовало-бы жить своим и людям трудолюбивым, – населены были племенем тунеядным и неблагодарным к России!... Сколько хлопот было нам усмирить их»... В Акмечетской церкви, – опозоренной бунтовщиками татарами и поврежденной от выстрелов с неприятельских кораблей, – архипастырь совершил молебствие с водоосвящением и собравшимся поселянам ласково преподал мир и благословение. На дороге из Акмечети к Евпатории сказал местному благочинному: «отсюда не далеко имение генеральши Поповой. Ее крестьянам далеко обращаться в Акмечетскую церковь; приготовьте от меня отношение к г-же Поповой об устройстве там молитвенного дома. Жаль весьма, что на таких пространствах едешь, едешь, и не на что перекреститься»... 21-го числа – служение в разоренной Евпатории. Из собора прямо отправились на место, где, во время двукратных покушений вырвать Евпаторию из рук неприятелей, легло несколько тысяч наших. Дорогой, на слова сопровождавшего его евпаторийского городничего Гусакова, офицера об одной ноге: – «преосвященнейший владыка, поберегитесь, погода очень ветреная,» – отвечал: «нас-то беречь? – Вас беречь, таких героев, вот кого беречь». На солдатских могилах отслужена панихида. Преосвященный долго молился, плакал и указал соорудить памятник героям с часовней внутри, если можно, из бомб и ядер, и совершать о них поминовение ежегодно 23-го апреля, в день великомученика Георгия. На память об евпаторийских делах, по желанию преосвященного, доставлено ему несколько ядер, там собранных. 22-го числа – Симферополь. Архипастырь прибыл сюда, по обычаю, без малейшей церемонии и остановился в загородном дворце князя Воронцова. Здесь, после утрени (23-го числа), он вышел из молельни, благословил присутствовавших, а мне, служившему, сказал: «хорошо, спасибо!»... Литургию тихо и умиленно служил в соборе, и проповедовал из текста: «Яко исчезает дым, да исчезнут», о загробной жизни вообще, и в частности о блаженстве праведных и мучениях грешников. он говорил долго, громко и с особенным одушевлением. Все слушали с умилением, многие вздыхали, на глазах, иных виднелись слезы, как это обыкновенно бывало при его поучениях. Никто из предстоящих не думал тогда, конечно, что это уже последнее слово нашего златоуста. В Симферополе владыка имел постоянные совещания с начальниками края – о благоустройстве вообще всей Тавриды и в особенности церквей и монастырей, о средствах к уничтожению расколов, о возвышении христианской Церкви учреждением в Крыму кафедры православного епископа и о мерах к исполнению сего предположения. Предложил устройство церкви в военном симферопольском госпитале, с указанием на средства к содержанию в ней священника и обещал ходатайствовать о сем у военного министра. 24-го числа долго гулял по саду, и между прочим спросил меня: «что, каков Симферополь?» – Довольно хорош, но тесно построился. – «Да; жаль особенно того, что мало церквей»... Потом говорил о делопроизводстве в консистории: «Как оно не исправно! Скоро, Бог даст, все это переделаю: сокращу канцелярских, изменю и упрощу форму, и дам скорейший ход делам». «А затем надобно решительнее взяться и за дело об издании при консистории епархиального журнала. В нем будем помещать главные епархиальные распоряжения и проповеди лучших священнослужителей и проч.: это принесет не малую пользу епархии и покажет другим, что мы не безгласны и кое-что делаем». 25-го числа – Бурлюк, место английской битвы. Алма, как Кача, Бельбек и Салгирь, маленькая, но быстрая и во время дождей многоводная река. Преосвященного встретили здесь хлебом и солью. С правого низменного берега реки – позиции неприятеля, от трактира, через мост, до самой высоты левого берега – нашей позиции, его преосвященство шел тихо, по местам останавливаясь; внимательно осматривал поле битвы, с подробностью расспрашивал очевидцев о деле, слушал чтение реляции о сем князя Меньшикова. У моста, где была самая сильная схватка сражавшихся, долго и задумчиво стоял он и потом спросил: «где-бы лучше поставить здесь часовню?» Я указал на площадку, в полугоре левого берега, против самого моста. «Да, отвечал владыка, место хорошее, и прямо против моста, пункта сильнейшего кровопролития... Только поставить-бы на подобие Казанского памятника, – видел ты? – в форме пирамиды, с малой внутри церковью или по крайней мере часовнею, для ежегодного поминовения убитых, в день сражения». Дорогой, по приказанию преосвященного, собрано несколько камешков и цветов, на память об Алмийском поле. Подошли к большим земляным насыпям, кой-где покрытым камнями. В конце их крест с английской надписью. Это наши солдатские могилы. Здесь я служил панихиду; а он, несколько отдалившись от нас, молился долго, долго на коленях. Поднявшись на один из курганов, где стоял Меньшиков, он сказал: «вообразите состояние отчаянно-заброшенного сюда союзного войска! – в какой, думаю, опасности и страхе было оно? – Наполеон, верно, охал тогда и не спал ночи; он хорошо понимал этот риск – особенно с его стороны. Если-бы у нас побольше войска, тогда неприятели просто остались-бы в наших руках, и не было бы последовавшего за тем такого страшного кровопролития... Мне очевидец и знаток дела рассказывал, что дело при Алме, с нашей стороны, было не очень умно. Но зато в отступлении мы показали не мало тактики и стратегии»... Еще раз с высоты осмотрели все поле битвы. Когда здесь указали на место отступления наших, владыка сказал: «вот тут Меньшиков ободрился: лично командовал прикрытием отступления умно и стойко, сам не быв вне опасности». Ниже места палатки главнокомандующего, напротив могил, он сел и, помолчав, сказал: «какая тема для поэта!... Откуда, думаю, с каких концов России не пришли сюда спящие под этими насыпями?... Из Перми, может быть, с Астрахани, с Дона, Волги, от Днепра»... Вечер 25-го числа – Бахчисарай и Успенский скит. Приветливо благословил архипастырь пустынных тружеников. Обитель – в совершенном уединении, между громадных вековых скал. «Вот мы и поустроились, слава Богу, говорил владыка, проходя к монастырю. – А какова местность? Не правда-ли это совсем другой, особый мир. Здесь-то работать для единого на потребу; никто и ничто не мешает. И такие места были оставлены без внимания и о святыне Крыма, где пролили кровь свою за Христа первые просветители этой страны, где крестился наш Владимир равноапостольный, – о такой святыне было забыто в православной России! Благодарю всегда Бога, что удостоил меня потрудиться для священной древности и с тем вместе поставить крест на пустынных пространствах Новороссии, как помог Он мне поднять из развалин вековые обители Харьковские»... Он был здоров и весел. 26-го числа утром архипастырь занимался делами соседних церквей и скитов, принимал духовенство. Долго говорил. В 11 часов был в бане, где проговаривал, что у него болит левый бок. По выходе из бани, посидел у архимандрита, которому говорил: «дай нам, пожалуйста, в Одессу кого-нибудь поблагонадежнее из братии. Жаль? Эгоисты вы – все. А вот я своих отправил на Дунай, когда потребовала нужда, и остался почти ни с кем; жди пока пришлют». Весь этот день он занимался делами церквей и скитов. Мне с о. архимандритом поручил поверить записку Бейна о Чуфут-Кале и сказать о ней свое мнение; а местного благочинного отправил с певчими в Севастополь, где 28-го числа предполагал служить литургию, молиться на военных кладбищах и сделать крестный ход на главные бастионы. Вечером, с настоятелем скита и подрядчиком, распланировывал место для св. ворот, часовни и гостиницы, и вообще сделал окончательные распоряжения об устройстве скита. Было уже поздно, когда возвратились в кельи. Преосвященный еще поговорил о постройках; был рад, что окончил скитские дела, ласково предложил нам закуску, благословил всех и, почти не пивши чаю, ушел в свою комнату: при этом высказывал не раз, мимоходом, что у него болит бок. В 3 часа пополуночи (на 27-е число) он разбудил келейников, жаловался на простуду и принимал ванну. После говорил о своей болезни так: «я почувствовал в груди боль, как-бы кто меч всадил в нее. В 6 часов утра прибыл бахчисарайский медик и прописал растирание груди и микстуру внутрь. «Как бы я хотел заснуть теперь», говорил владыка. «А вы, – обращаясь ко мне и о. архимандриту, – сходите, пожалуйста, в церковь и отслужите молебен о моем выздоровлении». Тогда-же отправлен нарочный в Севастополь об отсрочке богослужения. Весь этот день провел больной беспокойно, без сна и пищи, и был очень слаб; при всем том, как и во все время болезни, занимался делами. При прорытии новой дороги, в полугоре, нашли истлевшую гробницу и старинную греческую панагию. Владыка принял ее, перекрестился и, поцеловав, оставил у себя. Ночь на 28 число он провел беспокойно и без сна. К рассвету 28 числа, приехал в скит настоятель Херсонской обители, иеромонах Евгений, с бумагами из Одессы. Владыка разбирал бумаги, расспрашивал о делах, и, жалуясь на свою болезнь, говорил: «худо нам. Иди, друг мой, возьми с собой двух певцов и отслужи молебен». После молебна выехал в Балаклавский монастырь, куда прибыл вечером, в самую дождливую и ветреную погоду. 30-го апреля и 1-го мая, больной был в самом расслабленном состоянии, даже в забытьи, и тогда, как сам после рассказывал, – ему представлялась какая-то удивительная перестановка вещей и изменение обыкновенного мирового порядка. Видно было по всему, что высокая душа святителя как бы двинулась из своих тесных земных пределов, и прозревала уже, сквозь таинственную завесу, в тот неведомый мир, куда было суждено ей скоро переселиться. 2-го числа утром его преосвященство позвал к себе монастырского духовника, иеромонаха Герасима, и сказал ему: «отче, я желал-бы исповедаться. Тихонько, не говоря никому, приди ко мне сегодня вечером, возьми с собою, что нужно, епитрахиль, крест, требник». Духовник исполнил желание архипастыря. Вечером он исповедался и провели с о. Герасимом довольно долгое время. Всю эту ночь был он уединен, в особенном молитвенном бдении. А 3-го числа утром, после ранней обедни, от того-же иеромонаха принял причастие св. Таин, при настоятеле и братии монастыря. 4-го числа чувствовал себя лучше; почему на 5 назначил служение в ближайшей монастырской церкви; отправлял Бахчисарайского архимандрита в Инкерманский скит, для назначения места новому строению, а меня посылал в Севастополь, для осмотра военных кладбищ разрушенных градских церквей и церковных домов.
«Жаль, говорил при этом владыка, что не могу еще раз быть на солдатских могилах. Мне поручены они. Посмотри, что там делается; есть-ли ограда и где лучше поставить церковь. Да помолись и от меня. Сообразите с благочинным, что из разрушенного при церквах можно исправить и какими легче средствами. Взгляни-же и на церковь, и на площадь, где мы молились под громами войны и потом скажешь – что эта церковь? – исправлена-ли после разрушения, и если нет, то почему?» По возвращении из Севастополя, я доложил преосвященному, что ограда очень приличная обводится кругом военного кладбища и что церковь хорошо-бы поставить выше оного, над срединою, в полугоре. На это он сказал только: «Пожалуй»! А от благочинного потребовал рапорт и написал на нем пространную резолюцию о возобновлении церковного дома при Петро-Павловской церкви. Рассматривал планы скитов, особенно заботился об участи бывшего в плену Балаклавского монастыря. 5-го числа, по слабости, не служил, но присутствовал при богослужении в церкви, где произвел в протоиерея настоятеля Севастопольской Петро-Павловской церкви, бывшего неотлучно на своем месте, во все время осады города. 6-го числа еще раз взглянул на Севастополь, его развалины и укрепления: «Бедный город!» болезненно произнес владыка. Был в Херсонесском скиту. Вид бедной обители, изрытой неприятельскими траншеями, едва возникающей из развалин, болезненно подействовал на архипастыря. Здесь настоятель встретил его с крестом и святой водой и приветствовал следующими словами: «Вниди, преосвященнейший владыко, и вход твой да будет залогом радости сей страждущей земле; благовествуй нам мир». В скитской церкви, обходя храм и указывая на малые, узкие окна алтаря, заметил: «прекрасно сделали, придержавшись старины; это очень кстати на древних развалинах!» В братских кельях пробыл около часу. Кушал немного чаю, и, увидев свой портрет, сказал настоятелю: «зачем ты мертвеца этого повесил на стену; убери его». Потом: «живи-же, не скучай, пиши каждую почту хоть два слова, что ты жив; а соскучишь, прибеги в Одессу; да займись изучением Крыма; мы у тебя устроим центр; заведешь училище, библиотеку; ты жил при мне, теперь я тебя оставляю одного, думай и живи своим умом, учись, привыкай к деятельности, а Крым-то пожалуйста изучи, и когда я буду у тебя в другой раз, потребую строгого отчета». При этом, вынув сто пятьдесят рублей серебром, сказал: «на, вот тебе на новоселье, на хлеб; а еще пришлю из Одессы, по приезде, четыреста рублей». А братии, благословляя ее, примолвил, – указывая на настоятеля: «слушайтесь его; бедовый старец! Мы от него довольно терпели, теперь и вы потерпите, да трудитесь и живите только, а мы для вас все сделаем, Бог даст». 7-го числа его преосвященство выехал обратно – в Одессу, – куда спешил с первых дней болезни, повторяя: «ах, как-бы скорей домой: пожалуй – и умрем здесь». Вообще, все время пребывания своего в Крыму, он был слаб, без сна проводил все ночи и не имел аппетита. Часто поручал молиться о нем в церкви, а келейников заставлял, по ночам читать вслух молитвы, особенно псалом: «Помилуй мя, Боже»; непрерывно почти занимался делами; посылал письма к разным лицам, прося всех молиться о нем; слушал чтение книг; назначал денежные пособия скитам, принимал посетителей; окончательно исправил акафист ко причащению св. Таин и проч. От Балаклавы до Инкерманской долины не раз вставал из экипажа и подолгу шел пешком; в это время указывал на места неприятельских лагерей и говорил о военных делах. С 7-го на 8-с число ночевали в Симферополе. Услышав о болезни архипастыря, духовенство из разных мест поспешило к нему навстречу. Но он никого почти не принимал, исключая г. Кашкадамова, ревнителя крымской святыни. Велел мне узнавать о нуждах всякого являвшегося и после доложить ему. Когда боль в груди усилилась, он принял на нее пластырь. Из Симферополя послал, за собственноручной подписью предписание настоятелю Бахчисарайского собора, об устройстве оград и часовен на военных кладбищах (на Каче и Бельбеке), кои на пути молитвенно благословил. Пересматривал присланные бумаги и письма; заботился, как и во все время, отпиской по делам болгарским. 8-го числа, в 6 часов вечера, прибыл в Перескоп, где, чувствуя особенное изнеможение от дороги, советовался с местным врачом, который, прописав капли, уговаривал его отдохнуть на месте дня два. Принимал управляющего таврической палатой. Был особенно тих и добр ко всем. Здесь однажды сказал мне: «посиди здесь. Что с тобой не бывало обмороков? – Странное какое-то, особенное состояние.... Переменяются предметы... Являются новые образы.... Как-будто другой мир.... Ведь, со смертью, взор у человека мгновенно расширится как, например, пред поднявшимся на высоту вдруг открывается большое пространство»... Ночь провел без сна, беспокойно, и утром (9 числа) в 8-м часу выехал. Дорогой останавливался у двух священников: одному советовал заняться хозяйством и сделать деревянный пол в комнатах, у другого похвалил хату, которая была вместе и кухня. Здесь, обращаясь ко мне, сказал: «когда дорогой увидишь такую теплую и сухую хату, тут и останавливайся».
11-го числа во 2 часу по полудни прибыл в Одессу. Через два часа позвали доктора Далласа, с которым больной провел более часа. Вечером был в бане и ванне. 12-го числа составлен консилиум из докторов: Далласа, Энно и Сезеневского. Приложили мушку к левому боку, отчего на другой день (13 числа) больному было легче: он ходил, немного кушал, принимал посетителей и членов консистории, коим раздал наперсные кресты за минувшую войну. В этот день потребовал к себе г-на Палаузова, приказал ему распорядиться о немедленной высылке в Болгарию нужных богослужебных книг; при чем жаловался ему на бессонницу и на мучительную поездку из Крыма в Одессу; более слушал, чем говорил. 14-го числа здоровье было в одинаковом положении. К 15-му стало хуже; не было аппетита и сна до самой смерти. Первые дни, по приезде, он принимал некоторых посетителей, а с 18-го числа никого, кроме графа Строганова. 18-го числа, по настоянию Палаузова, приглашен был на консилиум г. Пирогов, вместе с прежними врачами и, странно, болезнь найдена не совсем опасной. 20-го – во второй раз приезжал г. Пирогов и был консилиум, вследствие чего приложена больному другая мушка; но он не чувствовал себя лучше и говорил присылавшим узнать о его здоровье, что оно не хуже прежнего. С этого дня, по совету докторов, он проезжался по городу и два раза на свою дачу. Болезнь держалась в одинаковом положении, по временам только бывали скоропроходящие обмороки. Вообще, в это время он был в самой свежей памяти и совершенно светлом уме, но в постоянном самоуглублении и молитвенном расположении духа; весьма мало говорил, речь его была кратка и отрывиста, взор вопрошающий и умиленный; нередко видали его молящимся, коленопреклоненным: тогда он от полноты сердца взывал: «Боже, буди милостив мне грешному! Помилуй меня, Господи, помилуй меня, по великой Твоей милости»... Не раз, за несколько дней до смерти, проговаривал окружающим: «такой болезни у меня не бывало, может быть – я умру». Или: «все что-то плохо; кажется, и умру». Или: «я умру»... Весьма редко прилегал, а всегда почти, дни и ночи, или ходил тихо по комнатам, или сидел, склонив несколько голову на грудь, – часто с закрытыми глазами, бледный, изнеможенный. Занятий не оставлял: слушал чтение книг, и преимущественно проповедей преосвященного митрополита Московского Филарета; читал очерк жизни митрополита Платона; пересматривал и исправлял, приготовленную еще до болезни, службу священномученикам Херсонесским. Иногда, сидя за письменным столом, на лоскутках бумаги слабой рукой писал молитвы и стихи из псалмов Давидовых. Тогда, и вообще во все время болезни, продолжавшейся ровно месяц, со всеми был ласков, добр, и со всеми, внимателен – необыкновенно. За несколько дней до смерти, покойный архипастырь сделал распоряжение своим деньгам, – в Михайловский монастырь – на сирот, в крымские скиты, родственникам и служащим при нем; а находящееся в печати сочинение свое: «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа» собственноручным предложением завещал попечительству о бедных духовного звания и канцелярским чиновникам консистории, об обеспечении коих постоянно заботился 24-го числа вечером, призвал певчих, обласкал их, обещая наградить всех деньгами и заставлял петь: «Господи, кто обитает в жилищи Твоем», «Пойте Богу нашему, пойте Цареви», «Благообразный Иосиф», «Величит душа моя Господа», «Взбранной воеводе победительная» и «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим». 25 числа с утра до 3 часов пополудни пробыл на своей даче, приказал отслужит вселенскую панихиду, что особенно подействовало на благорасположение его духа, осматривал сад и хозяйство. Здесь каждый кустик, каждое дерево, взлелеянное его попечением, обращало на себя его внимание. Приблизившись к работавшим штатным служителям, сказал ласково: «Боже вам поможи, хлопци». Читал корректуру печатаемого сочинения: «Последние дни земной жизни Спасителя». Беседовал с о. Герасимом, своим балаклавским духовником. Пред самым отъездом, зашел еще раз в молельню, развернул на налое лежавшую книгу, положил три земных поклона пред стоящим распятием и тихо вышел, задумчивый. По возврате в город, останавливался против собора, и, крестясь, долго и задумчиво смотрел на него; дома принимал графа Строганова, беседовал с ним около часу, и, между прочим о великости праздника Святой Троицы – любимейший предмет его. «Это венец христианских торжеств, – говаривал он не раз, – то же, что светлый купол в величественнейшем здании. Полна душа моя сим высочайшим торжеством христианства; говоришь, бывало, о нем, сколько угодно, нимало не готовясь; говоришь, и поток неудержимой речи сам собой льется; говоришь, и не наговоришься». Об этом-же беседовал и с княгиней Воронцовой, посещавшей его в болезни. В этот день он приказывал одному из келейников читать канон и всю службу Святой Троице. После всенощной разговаривал на балконе с преосвященным викарием. К вечеру ему стало хуже. Между прочим, он велел тогда выпустить из клеток всех птичек на волю. В 11 часов ночи был с ним сильный и тяжкий обморок, продолжавшийся около часа. К этому времени поспешили медики. Пришедши в себя, он тихо благодарил их за участие, но говорил, что у него ничего не болит. Медики удалились, прописав ванну и какую-то микстуру, после которой он не раз просил пить. Последние два с половиной часа провел в беспокойстве, но, как и прежде, в совершенно полном уме и молитвенном расположении духа; прилегал, постоянно тревожно переменяя место, и заботясь о том, чтобы ухаживавшие за ним келейники отдыхали тут-же, при нем; приказал приготовить себе постель из свежего сена на полу, в гостиной. Под праздник Троицы он имел прежде обычай спать на зеленой траве, – так-же как в 12 часов ночи, пред Богоявлением, при пении тропаря: во Иордане крещающуся Тебе, Господи», почерпать воду из чистого и отдаленного источника, которую потом хранил и раздавал знакомым своим. Уже светало – час был пятый в начале, – праздник св. Троицы (26 мая)... Владыка привстал, набожно перекрестился не раз, прошелся тихо по всем комнатам, поддерживаемый келейниками, взглянув на свет начиняющегося дня и бросая внимательный, тревожный взор на окружающие предметы. «Господи, какой день»!... сказал он при этом. Потом, в гостиной приказал положить себя на сено; переменял несколько раз положение и, наконец, склонившись на грудь, сказал два раза: «А вот этак хорошо». Потом, сказав поспешно: «скорее поднимите меня» – на руках двух келейников, коленопреклоненный, незаметно скончался».
В Одессе между тем ждали выздоровления владыки – а не кончины. «В Троицын день – пишет один очевидец – мы шли спокойно в собор к обедне. Даже надеялись увидеть и его там: накануне еще говорили, что преосвященный Иннокентий располагал (чувствуя себя лучше) слушать в соборе литургию, которую надлежало совершить прибывшему из Херсона епископу Поликарпу. Такие были надежды. Печальная действительность оказалась несомненною: все были поражены нечаянностью великой потери, все плакали».
Память Иннокентия и по днесь жива не только в Херсонской губернии, но и по всей России. Его словами народ и по ныне возносит свои молитвы к Богу. Его поучениями он восторгается и увлекается по ныне. «Первая седмица великого поста», «Великий пост», «Слова о весне», «Последние дни земной жизни Иисуса Христа» все еще во многих семьях остаются настольными книгами, как и тридцать лет назад.
Горячее чувство любви и уважения почтило его память стихотворениями, которые ясно показывают, как русские люди высоко ценили и ценят дарования и способности Иннокентия, его труды, значение и заслуги для Православной церкви и отечества.
На юге Руси православной,
(говорит одно из таких произведений на кончину преосвященного Иннокентия)
Светило разума горит,
Глаголы истины желанной
Во имя Бога говорит.
И мы глаголам тем внимали
С открытым сердцем и душой:
Себя короче узнавали,
Под час с трепещущей слезой.
* * *
Отрадой южной дышит день,
Алтарь увит цветами,
Войдем в таинственную сень
Под животворными лучами.
Стоит у входа чин духовный,
Сияет храм в огнях.
Святитель явится желанный:
Привет и радость на устах.
* * *
Его уж более не ждите
Вы, други веры и закона,
В молитвах Вышнего просите
Ему блаженнейшего лона.
Угасло южное светило,
Почил великий иерарх!
Но будет слово его живо
В печали преданных душах!
И долго память будет жить
О том светиле именитом,
О даре – сердцу говорить
Всегда доступном и открытом.
* * *
Литературные труды архиепископа Иннокентия
Собрание сочинений Иннокентия Архиепископа Херсонского и Таврического, том. I – XI, изд. Вольфа СПБ. 1873 – 1877.
Слова к пастве Вологодской, говоренные Преосвящен. Иннокентием, Епископом Харьковским во время управления Вологод. паствой. Изд. II, Харьк. 1860. Реценз. Мих. Архангельского. Стран. 1861, № 3. Отд. III, стр. 65 – 66.
Из неизданных рукописей Архиепископа Иннокентия Борисова, Л. Ст. Мацеевич. Труды К. Дух. Акад. 1883, I, № 4, 652 – 685 (между прочим слово в день Благовещения).
Три политические записки Иннокентия Таврического. Рус. Арх. 1867 г.; Записки Иннокентия Таврического о Римско-катол. епархии в Херсоне, с примеч. Савваитова Рус. Архив 1868 г.; Мнение Иннокентия Арх. Херсон. о катехизисах Митрополита Филарета. Н. И. Барсов. Хр. Чтение 1885, № 5 – 6, 732 – 740. Из заметок Иннокентия Херсонского. Херс. Еп. Вед. 1861 г. №№ 15, 19, 22, 23. Прпч. Дом. Бес. 1864, с № 18 и до конца. Бумаги Иннокентия Херсонского. Прав. Обозр. 1886, № 5 –6; 126 – 187; 7, 417 – 475.
Переписка архиепископа Иннокентия
а) Письма и некоторые сочинения Иннокентия. X. Е. В. 1860, стр. 5, 10, 450, 553, 531, 681, 759. Письма Иннокентия арх. Херсонского к Великому князю. Рус. Стар. 49 т. стр. 593 – 596; к Епископу Гавриилу. Зап. Од. Общ. истории и древн. т. XIV, стр. 719 – 773; к Бодянскому ibid. т. XIII, стр. 269 – 271; к редактору Домашней Беседы, – Дом. Бес. 1870, № 45, 1224 – 1225; 1871, № 3, 93; к настоятелю Херсон. собора протоиерею Перепелицыну. X. Е. Ведом. 1878, № 21, 651 – 656; к Макарию Булгакову, митроп. Москов. Церков. В. 1883, №№ 17 – 18, 24, 26; три письма, сообщ. Н. И. Барсовым, П. С. 1885, № 2, 201 – 214; к протоиер. Нордову (1843 – 1846 год.) Волог. 1885. № 19. Письма Иннокентия и ответы на них разных лиц. Рус. Стар. 21 т. 194. Материалы для истории Киевск. дух. Академии. Письма Иннокентия. Киевск. Стар. 1882,3 (см. Иконников. Опыт р. историографии т. I, кн. I, стр. 771 – 802; 1891 года). Материалы для биографии Иннокентия Арх. Херсонского. Н. Т-в,. Истор. Вест. т. 31, Март. 726 стр. Переписка и бумаги Иннокентия Борисова. Чт. М. О. И. и Христ. Чтение. Вольфа. – Собрание автографов Арх. Иннокентия. Речи и заметки о Риме и Польше. Труды по комитету о раскольниках. (Иконников. Опыт. р. ист. ibid. стр. 803).
б) Материалы для биографии Иннокентия Херсонского. X. Е. Вед. 1861, № 11; к биографии Иннокентия арх. Херс. и Таврич. Н. Барсов. Хр. Чт. 1883, II, 629 – 656; Письма Митрополита Филарета. Хр. Чт. 1884 г, № 1 – 2, стр. 188 – 234; № 7 – 8, стр. 99 – 111. Отношения Иннокентия к Филарету Черниговскому. Письма Митроп. Макария к Иннокентию; ibid. 1884 г. № 5 – 6. Несколько слов об Архиепископе Иннокентии Борисове по поводу новых материалов для его биографии. Н. И. Барсов. Христ. Чт. 1884 г., № 3 – 4. 489 – 531, (по поводу собрания писем к нему – Палаузова). Письма к Иннокентию арх. Херсонскому: Филарета Киевск. и Антония ректора Киевской академии (впоследствии архиеп. Казанского); сообщ. Н. И. Барсов. Труды Киев. дух. академии 1884, I, № 4, 621 – 631; II, № 5, 69 – 102; Арсения митрополита Киевского ibid. № 8, 583 – 592; Димитрия Херсонского ibid. 593 – 600; М. К. Максимовича ibid. III, № 9, 132 – 145; Евгения Архиепископа Ярославского. Яросл. Еп. Вед. 1885, № 9; Протоиерея И. М. Скворцова. Труды Киев. Д. Акад. 1885, II, № 7, 472 – 482; № 8, 671 – 675; III, № 9, 165 – 167; № 10, 311 – 318; Иринея Нестеровича от 1842 – 1853 г. Вологод. Еп. Вед. 1886 г.; Погодина М. П. Записки Од. Общ. Ист. и древн. т. XV, стр. 808 – 822. Письма о Киеве к М. П. Погодину М. К. Максимовича Киевл. 1869. № 16, 544 – 553; № 19, 629 – 642 (имеют отнош. к биогр. Иннокентия).
Литература о Преосвященном Архиепископе Иннокентии
Иннокентий Борисов, Архиепископ Херсонский. Киев. 1868, № 14, 533 – 556; № 15, 577 – 585 (биогр.). Иннокентий Архиепископ Херсонский и Таврический. Биограф. очерк. Востоков. (Рус. Стар. 1878 – 1879 г. т. 21, 23, 24, 25, 26, 33, 39). Реценз. Н. Б. Церк. В. 1879, № 30. – Архиепископ Иннокентий Борисов. Буткевич. Харьк. 1888 г. (Печат. выпусками в «Вера и Разум» 1884 г. №№, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 16, 19; 1885, 6, 9, 12, 15, 16, 18, и дал.) Реценз. Н. Б. Библиогр. 1890, II, 141. – Воспоминания о Преосвящ. Иннокент. Архиепископе Херсонском. Баронесса М. Боде. Стран. 1861, № 7, отд. I, 1 – 7. – Воспоминания об Иннокентии Херсон. Херс. Еп. Вед., № 6, 30 – 62. – Воспоминание... (два случая во время бомбард. Одессы) Д. В. 1862, № 4, 569 – 578; – Воспоминание... Протоиер. Флоринский. Душ. Чт. 1872, II, № 6, 200 – 205. – Воспоминание об иерархе, привлекавшем простым и живым словом.... (1848 – 1857 г.). Л. Моск. 1873, № 16, 152 – 154. – Из воспоминаний о Преосв. Иннокентии, Арх. Херсонском. – Ал-др Завадовский. Тавр. Нп. В. 1880, № 2, 168 – 225 (прпч. Прав. Обозр. 1880. I, № 1, 148 – 199, также в Харьк. Еп. В. 1883, № 15, 241 – 243.). – Воспоминание о пребывании в Устюге Иннокентия Херсонского в 1841 г. Волог. Еп. Вед. 1884, № 13. – Воспоминание архиерейского певчего об Иннокентии, бывшем Еп. Вологодском. Волог. Еп. Вед. 1885, № 16, 346 – 350. – Воспоминание о преосвященном Иннокентии Еп. Вологодском. М. Попов. Истор. Вест. 1894, 5 – 6. – Дорожная заметка от Вологды до Устюга; поездка по епархии с Иннокентием – Савваитов. Москвит. 1842 г. кн. XI, 310 – 336; 1842, кн. VIII. – Мои воспоминания об Иннокентии Архиепископе Херсонском и Таврическом. – Палимпсестов. СПБ. 1888 г. Палимпсестов – К моим воспоминаниям об Иннокентии Архиепископе Херсонском и Таврическом. СПБ. 1888 г. Еп. Гермоген. – Таврическая епархия. стр. 158 – 159. Мурзакевич. – Воспоминания об Иннокентии. Рус. Стар. 1889 г. – Опровержение клеветы. Ответ на статью Мурзакевича об Иннокентии в Рус. Старине. Странн. 1889 г. Муравьев. – Филарет и Иннокентий. Рус. Стар. 49 т. стр. 593 – 596. – О музее при Иннокентии в Вологде. Прав. Обозр. 1872 г. № 2, 262. – Преосвящ. Иеремия Еп. Нижегородский и его воспоминания о преосв. Иннокентии Херсонском. Свящ. Виноградов. Н.-Новгород 1886 г. Стрельбицкий. – О библиотеке Иннокентия, перешедшей в Одесскую Духовную Семинарию. Труды К. Д. Акад. 1889 г. № 8. Логиновский. – О последней поездке в Крым и последних днях жизни Иннокентия, Архиепископа Херсонского. Херс. Еп. Вед. 1862 г. № 2, 81 – 108. О кончине Иннокентия, Арх. Херсонского. Хр. Чт. 1857 г. II, 89 – 98. Преосвященный Иннокентий Арх. Херсонский как проповедник. Добротворский. Д. В. И, 1862 года. № 3, 328 – 356. Уствольский Степан. – Иннокентий Херсонский как проповедник. Реценз. Н. И. Барсова П. С. А. 1879 – 1880 г. № 234. Терниловский, – Иннокентий Архиеп. Херсонский и его проповедничество. Рец. р. с. В. Ф. Певницкого. Т. Киев. Ак. 1881 – 82, 9 – 12. Ив. Вытатин. – Проповеди Иннокентия Арх. Херс. и Таврич. (историко-критич. очерк) Реценз. р. с. В. Ф. Певницкого. Т. Д. К. Акад. 1882 – 83, 308 – 311. Библиографическая заметка для полного издания сочинений Иннокентия Херсонского. Киев, 1869 г. № 21, 689 – 698 (указаны статьи об его жизни и сочинениях). К изданию сочинений Преосвященного Иннокентия, Архиеп. Херсонского С. П. Киев. 1870 г., № 8, 244 – 264. (тоже и перечень его сочинений). Венок на могилу высокопреосвященного Иннокентия Архиеп. Таврического, изд. М. П. Погодиным 1864 и 1887 г. Пятидесятилетний юбилей Киевской Духовной Академии 1869 г. Малышевский. – Историческая записка о состоянии Киевской Дух. Академии. И. А. Чистович. – История СПБ. Дух. Акад. 1857 г. Аскоченский. – История Киевск. Дух. Академии 1863 г. Свящ. С. В. Протопопов. – Протоиерей Герасим Петрович Павский. 1876 г. Аскоченский. – Амфитеатров Яков Козьмич. 1857 г. Всеподданнейшие отчеты обер-прокурора Св. Синода за 1838 – 1858 гг. – Отчет Импер. Акад. Наук по отделению русского языка за 1857 г. – Воскресное Чтение 1857 г. № 12 и 14. – Памятная книжка Киевской губернии за 1858 г., – Филарет Черниговский, – Обзор русской духовной литературы 1863 г, – Максимович, – Письма о Киеве и воспоминание о Тавриде. 1871 г. – Впечатления Украины и Севастополя. – СПБ. 1859 г. – Ю. Толстой. Списки архиереев и архиерейских кафедр. 1872 г. – Строев. – Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви II. 1877, изд. археограф. ком. под ред. М. И. Семевского. Ученые записки II Отд. Имп. Акад. Наук 1857 г. кн. V. Портретная галерея русских деятелей, изд. Мюнстера 1865 г. т. I. Киев. Еп. Вед. 1868 г. № 14 и 15. Духовный Вестник 1862, 4. Харьк. Еп. Вед. 1883, № 15, Русский Архив 1867 – 1868 г. Вестник Зап. России 1870, 2. Русская Правда 1860. Военный сборник 1861 г., 7. Одесский Вестник 1857, 1859 и 1869 г. № 230, 239. Молва 1857 г. 20. Пчела Северная 1857 г. № 125 и 170 и 1858 г. – 177, 184.
Архиепископ Димитрий (Муретов)
11 июня 1857 г. – 2 октября 1874 г.;
20 февраля 1882 г. – 14 ноября 1883 г.

На кануне праздника св. Пятидесятницы, 25 мая 1857 г., преосвященный Тульский Димитрий видел сон, что будто он находится в Одесском кафедральном соборе.
На архиерейском амвоне стоит архиепископ Одесский Иннокентий со свитком бумаг в руках. Вручая свиток епископу Димитрию, он сказал: «отец Димитрий, докончите!» Оказалось потом, что ранним утром 26-го мая преосвященный Иннокентий скончался, а Тульский епископ Димитрий был назначен ему преемником».
Такую легенду встречаем в Херсонских Епархиальных Ведомостях за 1887 г., № 24. Судить о достоверности факта не наше дело. Смысл-же сказания прост и очевиден без особенных разъяснений всякому: такое великое светило русской церкви, как Иннокентий, не нашло себе другого более достойного преемника по управлению Херсонской епархией кроме преосвященного Димитрия, высокие нравственные качества которого, редкие духовные дарования, твердость, основательность и глубина православных убеждений были известны Иннокентию еще в пору управления Киевской духовной академией. Счастлива Одесса, счастлива и Херсонская епархия! Иннокентий и Димитрий были и будут ее украшением до самых отдаленных времен.
Архиепископ Димитрий родился в селении Лучинске, Пронского уезда, Рязанской губернии. Отец его был диаконом. Святитель в мире назывался Климент Иванович Муретов. Учился он сперва в Рязанской духовной семинарии, потом в Киевской духовной академии с 1831 по 1835 год. Проходя учебный курс из академии, принял монашество 1-го сентября 1834 г., и рукоположен в иеромонаха 24-го июля 1835 года. По окончании академического курса со степенью магистра богословия, назначен бакалавром в Киевскую академию на класс изъяснения Священного Писания. 27-го октября того-же года определен помощником академического библиотекаря; 7-го февраля 1836 г. перемещен на класс богословских наук той-же академии; с августа по 5-е октября 1836 года исправлял должность инспектора академии; 14 февраля 1838 г. в звании профессора, комиссией духовных училищ определен инспектором академии, с увольнением от должности библиотекаря, за усердное прохождение которой изъявлена ему академическим правлением благодарность. 25 марта 1838 года, по указу Святейшего Синода возведен в сан архимандрита с определением настоятелем Киево-Выдубицкого монастыря и с оставлением при прежних должностях; 28-го мая 1840 года Всемилостивейше награжден наперсным крестом; в июле и августе того-же года исправлял должность ректора академии; 24 апреля 1841 года определен ректором Киевской академии с поручением ему управления Киево-Братским монастырем; 23 мая 1842 года Всемилостивейше сопричислен к ордену св. Анны 2-й степени; 16 апреля 1845 года сопричислен к ордену св. Владимира 3-й степени; по указу Святейшего Синода по делам службы был командирован в С.-Петербург, где и находился с 20-го июля по 28-е сентября 1845 года; в июле 1846 года, по назначению Синода, обозревал Херсонскую семинарию и в июне 1847 г. Киевскую семинарию.
Эти сухие сведения формулярного списка, не дающие никакого понятия о личности преосвященного Димитрия, прекрасно иллюстрируются воспоминаниями его учеников и лиц, близко к нему стоявших.
«Преосвященного Димитрия, – пишет одно из таких лиц, – я помню еще студентом Киевской духовной академии, в которую он поступил из Рязанской семинарии. Мое воспоминание относится к тому времени, когда Климент Иванович Муретов был уже в старшем классе академии. Это был юноша видный, высокий и стройный, смуглый брюнет. Длиннополый синий сюртук, бланжевого цвета жилет и панталоны – тогдашняя форма студентов академии, – ничего не отнимали у представительности этого студента, а, казалось, сама эта скромная форма на нем была выше ее действительного достоинства. Когда, бывало, студенты с книжками, или тетрадями в руках, снуют по аллеям Братского монастыря, в котором находится академия, Муретов своей осанистой фигурой выделялся в группе товарищей, чем и во мне, – тогдашнем ученике Киевской семинарии, – возбудил желание узнать его фамилию. Таким-то родом я узнал и в первый раз увидел моего будущего профессора и инспектора академии, потом ректора и наконец архипастыря. Воскресает в памяти моей студент Муретов и как бывший солист академического хора, особенно хорошо исполнявший басовое соло в концерте: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче». Почти за год пред окончанием курса он принял монашество с именем Димитрий. Как теперь вижу двух иноков-студентов, одинаково рослых и стройных, всегда в паре мерно и благоговейно исполнявших диаконское служение при торжественных священнодействиях тогдашнего ректора академии Иннокентия. Эти иноки-студенты были: о. Димитрий и товарищ его о. Евгений (Ильинский, бывший экзарх Грузии). У одного волосы были черные, как смоль, у другого – золотисто-каштановые».
Слава о. Димитрия началась со школьной скамьи. Его магистерская диссертация «Пути Промысла Божия в спасении грешников» обнаружила в авторе сильный природный талант, глубокое благочестие, наблюдательность, начитанность, ту теплоту и нежность сердца, которая составляла существенную и неизменную черту его характера во всю жизнь. Как профессор академии он весь ушел в науку. Должность библиотекаря для его любознательности оказалась самой удобной. В библиотеке, говорят, он проводил целые ночи за чтением; там-же нередко и засыпал, забывая, что есть на свете удобство. Здесь приобрел он громадный запас знаний богословских и исторических, благодаря которым совершенно изменил преподавание богословских наук, внеся в него новый – исторический метод. Солидность дарований и образования сразу выдвинули его из ряда прочих профессоров и приобрели всеобщее уважение.
«Я хорошо помню о. Димитрия профессором», вспоминает один из его слушателей. «Ровно в 10 часов мерным, как размахи маятника, шагом проходил он из своей квартиры в аудиторию. Подойдя спокойной и ровной поступью к кафедре, он не поднимался на нее, не садился за стол, но, сделав в обе стороны легкий поклон, раз или два проходил молча по классу, а затем раздавалось его классическое: «ну-с, мы теперь подходим»... и лилась живым все более и более усиливающимся и расширяющимся потоком полная ума и знания речь. Привычным мерным шагом движется колоссальная фигура лектора взад и вперед между двух рядов, превратившихся в слух, студентов; сильный густой бас его, с заметной сдержанностью раздается в виде непрерывного, то слабеющего, то усиливающегося рокота или гула, которого, однако, каждый звук ясно слышится на всей линии движения и на неизменных, поворотах. Ни на минуту не остановится лектор, ни на одном слове не запнется и не поправится и никакой у него неточности, ни обмолвки, но самым тщательным образом обработанная речь. Порой поднимается его голос и вы слышите отборные, блестящие фразы и снова затем льется ровная, гладкая, как ширь тихого залива, речь. В руках у него ни книжки, ни тетради, ни клочка бумаги, а лекция переполнена под час ссылками, цитатами, свидетельствами и все это от слова до цифр страниц приводится с поразительной точностью, на память. А лекции тогда были двухчасовые; и так от звонка до звонка три, или четыре раза в неделю, а в иные курсы и каждый день». Надо знать также, что эти лекции, как и все, что выходило из-под пера преосвященного Димитрия, никогда не возбуждали толков, недоразумений и недоумений серьезного характера. Точные, ясные, передуманные десятки раз, сложившиеся, как плод убеждения, они имели в свое время высокое историческое значение, положили начало самостоятельной, чисто русской разработке богословской науки. Студенты благоговели пред этими лекциями. Этим чувством благоговения только и можно объяснить ту молву 70-х 80-х годов, что, будто, преосвященный Макарий воспользовался лекциями преосвященного Димитрия, записывая за ним и издал их, обработав немного. Конечно, Макарий обязан Димитрию, как ученик учителю. От учителя получил он твердость православных убеждений, верный метод, знание лучших, источников и литературы предмета. Но нет сомнения, в руках преосвященного Макария русская богословская и церковно-историческая наука ушла далеко вперед сравнительно с тем уровнем, на каком она стояла, когда Макарий был студентом академии.
К этому-же периоду деятельности преосвященного Димитрия относится следующий случай в высшей степени редкий и ценный при характеристике его скромности, величавой благости и девственной застенчивости. Случай имел место в 1840 годах; на него намекает и формуляр, упоминая о командировке о. Димитрия в Петербург.
В 1845 году получается в Киеве бумага, что такого-то числа Государь Император изволит прибыть в Киев, что останавливаться в нем не будет и встреч каких-нибудь особенных быть не должно. Но так как Государь никогда не проезжал матери русских городов, чтобы не поклониться ее святыням, хотя бы проезд случился и в полночь, – то митрополит Филарет, взяв с собой наместника Лавры и ректора академии о. архимандрита Димитрия, приготовился встретить Императора. Встретил. Государь посетил даже один из пещерных храмов, усердно молясь и прикладываясь к св. мощам и, видимо спеша, направился к ожидавшей его дорожной коляске. Он отправлялся, как после узнали, на юг, на смотр войск.
– «Ну, благослови меня, отец, сказал Государь, обращаясь к митрополиту. Молись за меня, за всех христиан, за мою семью». Митрополит благословил. Желая, вероятно, сказать и наместнику с архимандритом – «прощайте»!, Государь взглянул на них, но, ничего не сказавши, вдруг спрашивает митрополита, указывая на о. Димитрия: «это кто у тебя»?
– Это ректор здешней духовной академии, о. архимандрит Димитрий.
– «А!» – сделавши этот короткий звук, Государь окинул архимандрита своим орлиным взором и пристально посмотрел на его высокую статную фигуру. «И сам я, – рассказывал преосвященный Димитрий, – детина дюжий; но чувствовал от этого взора, от этого вида русского царя, что какая-то дрожь пробежала по всему телу, не выдержал орлиного взгляда и невольно опустил свои очи долу.»
Государь еще раз слегка поклонился нам и еще раз повторил: «молитесь за нас святые отцы» и сел в коляску. Она тронулась; но Государь снова обернулся к нам с легким наклонением своей царственной главы.
Через месяц, или около того, нежданно-негаданно митрополит Филарет получает бумагу от обер-прокурора Св. Синода, в коей пишется, что по повелению Государя Императора, ректор Киевской Академии архимандрит Димитрий вызывается в Петербург. Коротко, но не ясно.
Призывает меня владыка, показывает бумагу, и я чувствую, как на меня нападает какая-то робость.
– «Зачем и почему»? спрашиваю митрополита.
– «Не знаю, о. Димитрий, но думаю, говорит, улыбаясь владыка, что тебя хотят сделать российским патриархом: ты так похож на Никона, которого крепко любил Алексей Михайлович. Не даром Государь Император так пристально посмотрел на тебя. Но шутки в сторону; робеть и беспокоиться нечего; ни за тобой, ни за твоей академией грехов нет; вероятнее всего, что тебе дадут какую-нибудь работу. Когда ты намерен отправиться?»
– «Да ныне-же».
– «Чем скорее, тем лучше,» – сказал митрополит и простился со мной, благословив на дорогу.
Действительно, ночью того-же числа, взяв с собой келейника, я пустился в дорогу и нигде не останавливаясь даже для малых отдыхов, прибыл в столицу.
Прямо с дороги, голодный, отправляюсь к графу Протасову. К великому своему горю, я не застал графа дома, воротился в лавру, кое-что перекусил из братской трапезы, взял книжку и лег на диван, чтобы сколько-нибудь с дороги отдохнуть. Дремота одолела меня и я заснул, как говорится, богатырским сном. Но не прошло и двух часов, слышу сильный стук в двери; встал хотел отпереть дверь, но она оказалась запертой на замок. «Кто там?» – спрашиваю. – «Я, граф Протасов» – «Простите великодушно, ваше сиятельство; очевидно, что келейник запер меня и ключ взял с собою».
– «Постарайтесь поскорее быть у меня», – сказал граф и немедленно удалился крупными шагами: ясный признак, что был недоволен.
К вечеру мой келейник, вволю нагулявшись по городу, возвратился, и вывел меня из заключения. Я немедленно отправился к графу и на этот раз застал его дома. Принял он меня добродушно, но помня свое графское достоинство и свою силу в Синоде. Краткую свою речь он заключил такими словами: «завтра к 12 часам дня приезжайте ко мне; я отвезу вас во дворец. Государь Император повелел доставить вас, его Величеству». – «Смею спросить ваше с-во: для какой цели»? – «Совершенно не знаю; то воля Государя».
Мы простились и я возвратился в лавру. К бессонным ночам, проведенным в дороге, прибавилась новая, не совсем сонливая; вопрос: зачем? не отставал от меня.
К 12 часам я был у графа и отправился с ним во дворец. Здесь граф сдал меня дежурному генералу, а сам удалился. Генерал необыкновенно ласково меня принял и сказал, что сейчас-же доложит о мне Его Величеству. Оставив меня одного и возвратившись сказал: через пять минут Государь Император изволит выйти к нам; пойдемте со мной. Мы пошли; он ввел меня в одну залу и откланялся.
Действительно, прошло не более пяти минут, как отворяется одна из дверей и я увидел Государя.
– «Здравствуй, отец Димитрий, благослови меня. Садись». – Видя мою нерешимость, Государь снова повторил: «садись рядом со мной». Едва успел он спросить о здоровье митрополита, о моем путешествии, как является Государыня Императрица. – «Это моя жена», – сказал Государь; «благослови и ее». Я благословил. – «Садись с нами. Я сел; с одной стороны меня Государь, с другой Государыня. Признаюсь, мне припоминалась поговорка: сидеть как на иглах. И сидеть было как-то страшно, и встать боялся. Благо Государыня Императрица, видя, что я как будто сам не свой, ободряла меня своим ласковым взором. Немного прошло времени в расспросах – как и что в Киеве, который, видимо, Государь и Государыня любили, – как начали входить то из одной, то из другой двери члены царственной семьи; каждый из них подходил ко мне и Государь обыкновенно говорил: «благослови, отец Димитрий»! Одного принесли на руках. Государь велел и его благословить и обступила меня эта Богом благословенная царственная семья и каждый из членов ее пристально всматривался в мои крупные, конечно, не дышавшие нежностью, черты лица. Но здесь случилась одна забавная история. Один из малюток царственной семьи подошел ко мне, как говорится, вплотную и, вероятно, его особенно занимала моя борода, в которую он и вцепился своими ручками, да так, что и выпутаться не мог. Государь, увидев это, улыбнулся и сказал: «видишь, о. Димитрий, как мы привязались к тебе и развязаться не можем» и собственными руками освободил узника из сетей, расставленных моей бородой.
Давши насмотреться мне на свою семью, Государь сказал: «теперь прощайте, времени нет, благословите нас всех, молитесь за нас, я верю в молитвы служителей Божией церкви». Окончательно прощаясь со мною, Государь Император спросил: долго-ли я пробуду в столице? Я ответил, что никаких дел не имею и прибыл, чтобы исполнить волю Его Величества. – «И хорошо вы сделали; погостите у нас; посмотрите город, редкости его, императорскую библиотеку, эрмитаж; повидайтесь со своими знакомыми, которые верно, найдутся здесь; а там и с Богом! Не забудьте от меня поклон нашему молитвеннику – митрополиту».
23-го декабря 1850 г. Именным Высочайшим указом, данным св. Синоду, повелено быть архимандриту Димитрию Епископом Тульским; 4-го марта 1851 г. он был хиротонисан во епископа в С.-Петербургском Казанском соборе; по указу св. Синода от 5-го октября того-же 1851 г., за смертью епископа Калужского, управлял Калужской епархией; 13 апреля 1853, за ревностное служение и заботливость о пастве Всемилостивейше сопричислен к ордену св. Анны I степени; 7-го апреля 1857 г., за отлично-усердное пастырское служение пожалован знаками ордена св. Анны I степени, украшенными короной; 11-го июня того-же года именным Высочайшим указом переведен на Херсонскую архиерейскую кафедру.
Жизнь святителя в Туле впервые обнаружила те христиански высокие качества его духа, какие видела потом Одесса. Бесчисленные толпы народа провожали его несколько верст за город, при перемещении его на Херсонскую кафедру. Говорят, что для выезда из Тулы несколько раз собирали ему деньги на дорогу; соберут и принесут, а он все раздаст просящим, и снова не с чем отправиться в путь. А когда он, проездом из Одессы, посетил раз Тулу, народ толпами окружал его, чтобы принять дорогое благословение и получить хоть клочок листка с его поучениями, которые он, раздавал па память. Случайно разорвавшиеся и выпавшие из рук святителя четки были расхвачены по зернышку народом, как священная драгоценность. Объяснили народу, что поступок его неблаговиден, хотя и произошел из усердия к архиепископу и народ собрал все зерна четок, связал их и в надлежащем виде препроводил преосвященному в другой город, где он тогда находился.
В Одессе архиепископ Димитрий провел лета полного мужества и болезненной старости. В первую половину управления Херсонской епархией, с 11-го июня 1857 г. по 2 окт. 1874 г., он, как видно из формуляра, Высочайше вызывался в Петербург, для присутствования в святейшем Синоде, где и находился с 1859 г. по 11 мая 1862 г., председательствуя по определению Синода в комитетах 1) сокращения переписки по духовному ведомству, 2) преобразования духовных семинарий, 3) улучшения содержания сельского духовенства. 3-го апр. 1860 г., во внимание к отлично-усердному служению и ревностным пастырским трудам всемилостивейше пожалован саном архиепископа; 8-го апр. 1862 г. в ознаменование постоянного служения церкви, сопричислен к ордену св. равноапостольного князя Владимира, – 2-й степ. большого креста; 16 апр. 1867 г. сопричислен к ордену св. Благоверного князя Александра Невского при замечательном Высочайшем рескрипте. Текст этого рескрипта гласит следующее: «В многолетнем вашем святительском служении Мы, к душевному утешению нашему, видим обильные плоды управления весьма попечительного, просвещенного и благотворного для церкви. Вашим вниманием и личными заботами изысканы способы к возвышению средств содержания и внутреннего благоустройства духовных училищ в епархии; заведения для воспитания и призрения сиротствующих семейств – и детей духовенства получают постепенно бо́льшее и обширнейшее развитие; паства путеводится ко спасению ревностно, в духе веры и истинной любви Христовой, постоянно назидаемая и вашим словом и высокими образцами украшающего вас благочестия, при отеческом участии к нуждам каждого из духовных чад ваших. В изъявление особого благоволения Нашего к столь отличному служению вашему всемилостивейше сопричисляем» и проч... 11 июля 1870 г., по всеподданнейшему докладу г. обер-прокурора св. Синода, Государь соизволил разрешить принять и носить архиепископу Димитрию, пожалованный ему Его Величеством королем Эллинов, большой крест ордена Спасителя I степ. и, наконец 28 марта 1871 г. за доблестное служение отечеству и церкви пожаловал алмазные знаки ордена св. благоверного князя Александра Невского.
Жизнь архипастыря в Одессе памятная и теперь еще очень многим, полна глубокого значения, а в будущем составит одну из блестящих страниц в истории Русской иерархии. Не обладая таким выдающимся административным творчеством, каким отличался Иннокентий, преосвященный Димитрий оставил по себе имя великого народного пастыря, благостного бессребреника, кроткого из самых кротких, богомудрого среди мудрых.
Прежде всего это был святитель с величайшим благоговением совершавший службы Божии. Одаренный величественным видом, сильным и приятным голосом, ясной дикцией, он совершал богослужение так, что невольно располагал к молитве всех. В его движениях, в его взгляде, в его поступи, в его поклонах, хождении было столько высокой простоты, естественности и благоговения, сколько можно встретить лишь у самого даровитого с богатым эстетическим развитием художника. Качества эти составляли прямой плод его глубочайшей искренности, правдивости и благочестия. Тут не было ничего деланного, никакой рисовки, желания показать себя, импонировать; было одно желание – быть ясным и внятным при выражении молитв церкви. Около престола, в алтаре не замечалось ни суеты, ни беготни низшего клира, боящегося сделать какое-нибудь упущение. Сделано незначительное упущение, – на него, по-видимому, не обращают внимания, чтобы не нарушить благоговейного настроения служащих. Сделано более значительное упущение, – архиепископ вздохнет только и молитвенно поднимет глаза к небу. А с каким благоговением он сам молился, повергался пред престолом по освящении св. Даров, при пении «Отче наш», во время, так называемой, выклички, когда протодиакон произносит, что св. Дары приносятся «о спасении Благочестивейшего Государя нашего и всего царствующего дома»!... И молитвы архипастыря имели силу пред Богом. Не можем не припомнить такой замечательный случай. В один из 60-х годов в Одессе была страшная засуха; на небе ни облачка; растения и посевы погибали; барометр не обещал дождя целые недели. Святитель приглашен был служить литургию в кладбищенской церкви. После обычного облачения, он распорядился служить молебен о даровании дождя. К удивлению и радости присутствовавших в половине литургии над самым куполом кладбищенской церкви вдруг образовалось густое облако, разросшееся в тучу, которая покрыла горизонт и разрешилась обильным дождем. Кроме благодарного умиления пред Богом, на лице архиепископа нельзя было заметить и тени самодовольства, торжества.
Считая проповедь одной из главных обязанностей пастыря, преосвященный Димитрий проповедовал очень часто. После его кончины нашли целые ящики в столах, наполненные его проповедями. Печатал их он крайне неохотно, не придавая им по своей скромности почти никакой цены. Тем не менее эти проповеди в истории русского проповедничества займут весьма почтенное место. Содержательные, изложенные языком оригинальным, но в высшей степени обработанным, они дышат такой сердечностью и святостью, какие можно найти только разве у святителя Димитрия Ростовского.
На обязанности своей службы архипастырь смотрел совершенно по-евангельски. Для службы он не щадил себя, доводя труды до самоотвержения. Его приглашают служить, – он отправляется, хотя силы и слабы. Продолжительный обморок, случившийся с ним однажды в 70-х годах за службой в Одесской Успенской церкви, ясно показывает, до какой степени мало преосвященный Димитрий щадил себя. Вообще, что он считал своим долгом, то выполнял искренно, аккуратно, с неподражаемым самоотречением. Сильная летняя жара для него ничего не значила. Он каждый день выезжал на экзамены в учебные заведения и просиживал на них далеко за полдень. С вниманием выслушивая ответы, он сам много говорил в дополнение и разъяснение того, о чем шла речь отвечавших. И тут специалисты, годами изучавшие свой предмет, часто выслушивали такие сведения мысли и взгляды, которые представляли им давно известный предмет в совершенно новом и гораздо белее правильном освещении.
Не щадя себя для службы, преосвященный Димитрий крайне щадил других. Личным оскорблениям и нарушению своего личного права он не придавал никакого значения. Его неисчерпаемой добротой иногда злоупотребляли, его величавую душу не все достойно ценили, – он все прощал, все терпел, он понимал силу раздражения... Не было, кажется, такого деяния, которое он не забыл-бы, если видел раскаяние. Имевшие несчастье совершить непохвальные поступки в других епархиях иногда обращались к его отзывчивому сердцу, – он не отказывал. И зло не увеличивалось, и число несчастных делалось меньше.
Великая сила самоотречения и любви сказалась особенно в его делах милосердия. Границ последнему он никогда не ставил и не знал. Такие границы являлись или когда у него и вовсе не оставалось средств, или когда к нему не допускали просителей. Раз, выезжая из Киева, он обратился к митрополиту с просьбой дать ему на дорогу 400 рублей; митрополит дал 200, сказав, что остальные «пришлет в вагоне», – и прислал. Приезжал он однажды из Киева в Орел по одному поручению, оттуда заехал на свою родину, в Рязанскую губернию и отдал там все, что было, забыв, – как доедет до Киева. Во время финляндского голода приходят к владыке Димитрию с книгой по сбору на голодающих и просят благословить доброе дело. «Да что, брат, отвечает владыка, – благословения одного мало, надо дать что-нибудь, но поверите-ли: гроша нет за душой; приходите первого числа и я что-нибудь дам». Взяв книгу, он написал в ней 25 руб., которые и были получены первого числа. – «И то, что захватил, – заметил преосвященный, передавая деньги, – пошло-бы на уплату моих долгов, из которых я как-то не выпутаюсь».
«Идя раз по Софийской улице (в Одессе), – вспоминает Палимпсестов, – встречаю кафедрального протоиерея И. М. Знаменского, который во всю свою жизнь пользовался общим глубоким уважением. Он только что вышел от преосвященного Димитрия и, встретив меня, вероятно, под свежим впечатлением только что виденного и слышанного, не мог не удержаться, чтобы не сказать: «что за детски-простая душа у нашего Владыки»!
– А что?
– «Покончив со мной дела по консистории, обращается он ко мне с просьбой: о. Иоанн дайте мне до первого числа рублей пятьдесят взаймы; приходят, просят, а в кармане и гроша медного нет».
– Я с удовольствием дам Вам, Владыка, но у Вас должны быть деньги; возвратившись из Петербурга Вы еще хвалились, что привезли с собой много золотых, даже показывали их нам.
– «Были о. Иоанн, и золотые и серебряные, да все сплыли.»
– Да куда-же они уплыли от Вас в такое короткое время?
– «Право не знаю; я положил их в этот ящик, (при чем владыка выдвинул один из ящиков своего письменного стола), замечал, что их становится меньше; а ныне хватился – ни одного нет; верно певчурки мои все растащили; ребятки молодые: то орешков, то пряничков захочется.»
– Но Вы бы, Владыко, запирали ящик с деньгами.
– «Да разве, о. Иоанн, такие нужные для всех вещи запираются?» – сказал владыка и засмеялся своим добрейшим смехом.
– Конечно, продолжал о. Иоанн, – я отнесу ему 50 рублей; но на долго-ли?
Однажды к преосвященному явилась бедная женщина, прося вспомоществования. Владыка без лишних слов вручил ей конверт с деньгами, только что полученный за погребение купца Посохова. Поблагодарила просительница, вышла из архиерейского дома, вскрыла пакет, видит: тысяча рублей. В испуге бежит обратно. «Святой Отец, ты должно быть ошибся, здесь целая тысяча»?! – «Нет, отвечает преосвященный Димитрий с своей добродушной улыбкой, – иди, дочь моя! Это не я дал тебе, это тебе Бог послал».
Широта и всеобъемлемость духа мира, о котором все пастыри и архипастыри громко заявляют, в Святителе Димитрии сказалась особенно выпукло в 1871 году. Напечатанное им тогда и распространенное среди народа тысячами экземпляров «Пастырское воззвание к православным жителям Одессы», по поводу нападения на евреев, произвело сильное впечатление на взбунтовавшиеся массы. Преосвященный горько плакал, составляя это «Послание». «С тяжкой скорбью, – писал он, – слышали мы в дни святой Пасхи, как целые толпы людей, именующих себя православными сынами церкви, не взирая на святость настоящих дней, якобы во имя св. веры и церкви, а на самом деле к поруганию их, буйствовали на площадях и городских улицах, заводя драки и побоища с согражданами своими – евреями, разбивая окна еврейских домов, разрушая их торговые лавки и проч.... Мы по священной обязанности нашей должны объяснить ослепленным, какой сделали они тяжкий грех пред православной верой и церковью, пред Господом Иисусом Христом и пред благочестивейшим Царем нашим... Истинная честь веры Христовой состоит в том, когда исповедующие ее сияют яко светила в мире, возвещая своей жизнью и делами, добродетели Призвавшего их от тьмы в чудный свой свет... Святейшее имя Божие прославляется не поруганием над неверующими, а делами добрыми и святой богоугодной жизнью... Сознайте же, что ваше буйство и неистовство есть посрамление веры Христовой, бесчестие православной Церкви, тяжкое оскорбление имени Христова, осквернение святых дней светлого торжества церковного. Теперь все неверные и иноземцы будут, действительно, насмехаться над нами и говорить: вот какова их вера; на словах они – христиане; а по делам хуже язычников! Вот какова эта Русь православная, что и между дикими не встретишь такого самоуправства, своеволия, непослушания властям, как у них! Чего-же смотрят их духовные пастыри! Верно и они такие же слепые вожди слепцов, которые, не разумея ни силы слова Божия, ни духа веры Христовой и сами идут и их ведут в пропасть погибели.... И восплачется о нас Святая Церковь... И опечалится о нас тяжкой скорбью чадолюбивое сердце Отца нашего Благочестивейшего Государя... Умоляем Вас, братия, именем воскресшего Господа: изгоните из сердец ваших всякую злобу, гнев и огорчение; престаньте от злых начинаний ваших и от беззаконных дел неразумной ревности».
Неудивительно, что пастыря с такими высокими качествами, с такой редкой душой оплакивала Одесса, когда он был переведен на дальний север – в Ярославль. Неудивительно, что, когда преосвященный Димитрий проездом из Одессы в Ярославль был в Москве и имел там в Чудовом монастыре служение, то на это служение поспешили все торгующие в Москве ярославцы, а некоторые купцы приехали на встречу своему новому архиерею из Ярославля. И вот, когда потом об его служении между ярославцами и москвичами был разговор, последние свое мнение о преосвященном Димитрии высказали такое: «мы бы за этого архиерея отдали всех трех своих», т. е. своего митрополита с его викариями.
26-го апреля 1876 года Высочайше утвержденным докладом Синода владыка перемещен был на Волынскую архиерейскую кафедру. Надеялись, что мягкий климат юга будет для него более благоприятен, чем суровый северный. Надежды, однако, не оправдались. Давняя болезнь его – ревматизм ног здесь сверх ожидания осложнилась: к ревматическим болям присоединились страдания сердца. Представилась преосвященному возможность возвратиться на службу в Одессу (20 февраля 1882 года). Он с радостью принял это перемещение; но с грустью и с смирением указал на свои угасающие силы в первом-же, вступительном по возвращении в Одессу, слове. «Вам известны, – говорил он, – и наши немощи и наша скудость духовная, к которым прибавились еще новые недуги от долгого странствования по другим местам и от естественной дряхлости, порождаемой преклонностью лет... Чем, думал я могу утешить дорогую для меня паству Херсонскую?... Увы! Земная храмина моя приходит в разрушение, и я приношу с собой одни ее развалины. Мои силы и душевные и телесные постоянно ослабевают и угасают и слабое их мерцание не может заменить того света, который по заповеди Христовой, в лице пастыря должен светить всем. Эта горькая для меня мысль невольно приводила меня в смущение и недоумение. Я с горестью спрашивал себя: какую пользу может принести пастве Херсонской мое возвращение к ней? И не лучше-ли и для себя и для нее оставить совсем свое служебное поприще иному, могущему паче меня и позаботиться о спасении своей души в уединении и неизвестности»? Честь возвращения на кафедру, ранее занимаемую, была, действительно, беспримерна; видно, что архипастыря все без исключения любили и заботились поддержать его угасавшие силы; но и сердце сжалось от боли у одесситов, издавна архипастыря знавших, когда они увидели пред собой сгорбленного, с трудом передвигавшего ноги, старца, болезненного, лишившегося сил и здоровья. Радовало одно: дух преосвященного по-прежнему оставался бодрым, могучим. Ни в управлении, ни в проповеднической деятельности его не замечалось упадка. Правда, архипастырь не мог служить литургию два дня сряду; но служил часто и до последних дней проповедовал. И проповеди эти были не краткие, не сжатые, не непродуманные, но обширные трактаты о существенных предметах веры и жизни, составляющие плод долгих размышлений, глубокого убеждения. И писал их он по-прежнему собственноручно, накануне произнесения; и легко выливались они из глубины его духа, так легко, что в оригинале почти не встречается поправок.
Светлое настроение, ясность мысли, твердость памяти теперь даже как будто стали сильнее, отчетливее. Воспроизводим два характерных в этом отношении случая. По поводу речи, читанной на одном акте на тему «порабощение женщины на Руси», заведен был разговор с преосвященным Димитрием о современных браках по любви и свободному выбору. Архиепископ, вздохнувши, заметил: «тем не менее теперь, кажется, больше несчастных браков и супружеств, чем было прежде. Ныне все дело предоставляют собственному благоразумию, или собственному сердцу; много на себя полагаются и выходит худо. Скоро надоедают друг другу, разочаровываются и разрывают священный союз. Прежде смотрели на дело иначе. Вступали в брак также, как давали обеты монашества; смотрели на супружеский союз, как на подвиг самоотречения, – и выходило лучше. Бывали неудовольствия иногда, но считая брачный союз святыней, скоро мирились, – и были счастливее». – Другой раз разговор перешел на оценку направления 60-х годов. Рисуя картину положения современной интеллигенции и видя, что слова его вызывают морщины на лицах слушателей, владыка вдруг меняет речь и обращается к одному из них с вопросом: «вы помните стихи графа Толстого, которого по некоторым произведениям нельзя не поставить выше Пушкина?»
– «Какие, владыка?» спрашивает тот.
– «Это те, где мы – как в зеркале, – Русь от начала до сего дня».
– «Я читал их. Помню содержание, но не могу прочитать наизусть ни одного стиха».
– «А я помню».
Сказав «помню», преосвященный Димитрий читает почти всю вторую половину стихотворения «Поток – богатырь» и во время чтения самым добродушным образом смеется.
– «Как это, владыка, нашлось у вас время выучить эти стихи?!» удивляется один из собеседников.
– «Выучить? да разве такие стихи надо учить? достаточно и прочитать раз, много два».
– «Но ведь с тех пор, как они напечатаны, времени прошло достаточно; можно и забыть».
– «Хорошие вещи не забываются».
Последнюю литургию преосвященный Димитрий совершил 8-го ноября в Одесском Михайловском женском монастыре; последний акафист пред чудотворной Касперовской иконой читал он в кафедральном соборе 11-го ноября, читал, как говорили очевидцы, с особенной выразительностью. 14-го ноября он готовился совершить литургию по случаю дня рождения Ее Величества Государыни Императрицы; с вечера совершил правило, прилег отдохнуть, но всю ночь не уснул. Встав утром, он не чувствовал никакого особенного утомления, читал молитвы к св. причащению и собирался в церковь. Раздался благовест к литургии. Архиепископ совершенно оделся и выходил уже из внутренних покоев, чтобы отправиться в собор. Вдруг он почувствовал слабость и, сомневаясь, в состоянии-ли будет совершить литургию, послал сказать, чтобы служили без него; сам возвратился в спальню и прилег. Через несколько минут, без всякой агонии, в 9 часов 35 минут утра он скончался.
* * *
Сочинения преосвященного Димитрия, архиепископа Херсонского и Одесского
1) «Пути Промысла Божия в спасении грешников». Собрание сочинений студентов Киевской духовной академии, т. I.
2) «Слова, беседы и речи» – печатались в Воскресном Чтении, Православном Обозрении, в Волынских и Херсонских Епархиальных Ведомостях. Особые издания «Слов, бесед и речей»: Киевское в двух томах (типография Киево-Печерской лавры); вышел I т., II т. сгорел в типографии; Тульское и Ярославское.
«Слова, беседы и речи». СП. 1885 г., т. I. Реценз. В. Ф. Певницкого. Б. Б. Л. 1885, № 4, 97 – 114.
Полное собрание проповедей Димитрия, архиепископа Херсонского, т. I – V. Москва 1889 – 1890 г. Изд. Карцева.
Литература о преосвященном Дмитрии. Некролог его в Записках Одесского Общества Истории и Древностей, т. ХIV, стр. 781–786. Лебединцева. – Памяти святителя Димитрия. Издание редакции Херсонск. Епарх. Ведом. Од. 1883 г. – Палимпсестов: Мои воспоминания. СП. 1888, стр. 204 – 214. – Последнее слово преосвященного архиепископа Димитрия к Одесской пастве и прощание с ним Херсонской паствы и Одессы. Брош. Одесса, 1875 г. Памяти архиепископа Димитрия Одесского К. Б. Истор. Вест. 1884, 2, стр. 341.
Архиепископ Леонтий (Лебединский)
25 октября 1874 г. – 19 ноября 1875 г.

В ноябре 1891 года на Московскую митрополичью кафедру возведен, а в августе следующего года скончался преосвященнейший Леонтий, архиепископ Холмско-Варшавский (с 1875 г. по 1891 г.).
Если воспроизведем предыдущее служение преосвященного Леонтия православной церкви и государству, то перед умственным взором пройдет целый ряд важных заслуг его на поприщах учебном, пастырском и административном, оказанных в разных пределах отечества в том числе и в Херсонской епархии.
Преосвященный Леонтий, в мире Иван Алексеевич Лебединский, уроженец Воронежской епархии; окончил курс наук в Воронежской семинарии, высшее образование получил в С.-Петербургской духовной академии. Предание сохранило от его учебных юношеских лет не незнаменательный рассказа о факте, бывшем в 1843 г. и лично его касающемся. Факт следующий: в 1843 году на публичный экзамен в Воронежской семинарии прибыл местный архиепископ Антоний, личность высокой христианской жизни, известная среди иерархии своим живым участием в открытии мощей Святителя Митрофана Воронежского. Певчие пропели: «Днесь благодать Св. Духа нас собра»; владыка занял свое место. И вот перед ним выступает молодой, стройный, высокий семинарист и звучным голосом, с необыкновенным воодушевлением говорит приветственную речь. Растроганный владыка с особым чувством благословил, наклонившего пред ним голову, оратора и, возложив на нее свои руки, заметно для всех прочитал какую-то молитву. Эта минута, эта святительская молитва, совершенная публично, произвела на всех присутствующих необычайно сильное впечатление. Все от губернатора до последнего семинариста невольно переглянулись между собой, как-бы задавая друг другу вопрос: сей-же что? У многих тут-же запала в сердце дума, что оратор непременно будет со временем светильником русской церкви. Этот Воронежский оратор 1843 года и был Иван Алексеевич Лебединский, впоследствии (48 лет спустя) Московский митрополит.
По окончании академического курса в 1847 году, со степенью магистра и по пострижении в том-же году в монашество с именем Леонтия, И. А. Лебединский выступил на общественное служение. Первые 12 лет службы его были посвящены воспитанию и образованию духовного юношества в средних и высших учебных заведениях. Иеромонах Леонтий, первоначально профессор С.-Петербургской духовной семинарии и помощник ректора, был переведен потом в Киев, где последовательно занимал должности инспектора семинарии и академии. 15-го февраля 1853 г. он возведен в сан архимандрита. В 1856 г. назначен на должность ректора, сначала Владимирской, затем Новгородской и С.-Петербургской семинарий. В 1860 г., по Высочайше утвержденному 5-го марта определению Св. Синода, ему повелено быть викарием С.-Петербургской епархии, с рукоположением в сан епископа Ревельского. Таким образом, преосвященный Леонтий профессором и руководителем разных учебных заведений пробыл 12 лет; о себе он оставил, повсюду где служил, след серьезного ученого, опытного педагога, спокойного, твердого правителя.
В 1861 году, будучи викарием С.-Петербургской митрополии, епископ Леонтий совершил путешествие в Париж, для освящения, созданного в столице Франции протоиереем И. В. Васильевым, православного храма. Он был первый русский архиерей, побывавший в иноверной Европе и, по свидетельству очевидцев, произвел там как на русскую колонию, так и на французов, имевших случай быть с ним в одном обществе, самое выгодное впечатление своим умом, обаятельным обхождением и другими качествами.
Епархиальная деятельность преосвященного Леонтия, начатая в Петербурге под руководством митрополита Исидора, проявилась в полном своем блеске сперва в Подольской епархии, затем Херсонской и Холмско-Варшавской.
В Каменец-Подольск епископ Леонтий прибыл 13 февраля 1864 г. Существенная черта его деятельности здесь – самобытность. Органически соединившись с паствой, он заботился как о духовенстве, так и о народе. Заботы о духовенстве начинались там, где оно подготовлялось к своей жизни и деятельности, т. е. с семинарии, училищ; продолжались в сфере церковно-приходской практики; заканчивались, где требовалась помощь вышедшему за штат духовенству, беспомощным вдовам, бесприютным сиротам. Заботы о народе выразились в широком устройстве братств, попечительств, церковно-приходских школ, приютов, в фактах духовно-просветительного влияния (на народ).
Чтобы улучшить материальную сторону духовно-учебных заведений, прекратить частые выходы наставников из семинарии, дать возможность учащимся беспрепятственно заниматься своим делом и не тратить напрасно сил на борьбу с нуждой, преосвященный Леонтий расположил Подольское духовенство к епархиальным взносам, которые при нем достигли крупной суммы – 57850 р. На взносы духовенства постепенно увеличено было содержание наставников, улучшены школьный быт и обстановка казенно-коштных воспитанников, построен новый семинарский корпус. В этом корпусе скоро появилась обширная домовая церковь. Через пять лет после постройки нового семинарского здания сооружен был еще корпус для интерната и все воспитанники семинарии поставлены в наилучшие условия, самые благоприятные и для их жизни и для воспитания и для образования. Средством к улучшению учебной части в семинарии главным образом послужило то, что старая система экзаменов не по всем предметам была оставлена. Обращено особенное внимание на сочинения, из которых лучшие, особенно проповеди, представлялись на рассмотрение самого владыки. Для развития вкуса в церковной живописи открыт был класс иконописи.
В 1864 году Преосвященный Леонтий открыл в Каменце училище для девиц духовного звании и также лично наблюдал за его благосостоянием.
Своим нравственным влиянием и энергичным воздействием Преосвященный, можно сказать, пересоздал нравственное состояние Подольского духовенства. Последнее до его управления, живя сельской жизнью, занимаясь главным образом хозяйством в широких размерах, а пастырской деятельностью лишь отчасти, не знало никаких идеалов, не имело никаких других интересов, кроме интересов наживы. Об архиерее слыхали, когда наступала ревизия. Благочинные или злоупотребляли властью, или ничего не делали. В консистории царило взяточничество. До́ма священники не стеснились разговаривать по-польски; по внешнему виду с трудом отличались от мещан, крестьян: большинство вместо шляп носило картузы, вместо ряс – бурки. Между тем 60-ые годы были временем, всеобщего возбуждения. В государстве шли реформы одна за другой. Крестьяне получили свободу, почувствовали нужду в просвещении, потребовали от пастырей живого слова, назидания. Преосвященному Леонтию пришлось будить духовенство, звать его к новой жизни, указывать, разъяснять новые задачи. Со своей энергией он в этом деле успел. Переработав прежде всего вопрос о благочинных, он провел в жизнь мысль, что лица носящие эту должность, должны быть посредствующим звеном между епархиальной властью и духовенством; должны наблюдать, чтобы архиерейские распоряжения духовенством исполнялись и следить за тем, чтобы в жизни и действиях последнего не было ничего такого, что может ронять высокое пастырское звание. В видах беспристрастного решения благочинными дел на месте и представления духовенству значительной доли самоуправления, преосвященный учредил (1870 г.) благочиннические советы, допустил выборы благочинных духовенством и вводил эту меру постепенно, давая всякий раз, когда открывалась новая вакансия, особое разрешение на избрание благочинного посредством закрытой баллотировки.
По мысли и воле преосвящ. Леонтия подольское духовенство узнало, что такое церковные и окружные библиотеки, как надо вести летописи, что в них записывать.
Сильны были и свежи в Подолии предания униатской старины. Владыка, заботясь о чистоте православного обряда, издал ряд распоряжений касательно этих остатков унии, напр.: чтобы хоругви в храмах были православные, а не латинские знамена; чтобы богослужебные книги были все православной печати; чтобы крещение совершалось через погружение, а не через обливание; чтобы в церквах были крестики как для возложения на крещаемых, так и для продажи желающим; чтобы свечи стеариновые в церквах отнюдь не употреблялись вместо восковых и т. д.
Для заштатного духовенства епархии, для вдов и сирот духовного звания, по мысли владыки возникли окружные попечительства, с ежегодным сбором от 9 до 10 тысяч рублей, получило начало и благоустройство эмеритура, которая уже в 1881 г. располагала капиталом в 218.000 р.
Наконец за 10 лет управления преосвященным Леонтием, Подольская епархия покрылась храмами, старые церкви были повсюду обновлены; раскинулись густой сетью церковно-приходские школы, в которых число учащихся детей обоих полов к 1874 году достигло до 19800 человек.
25 октября 1874 г. преосвященный Леонтий, возведенный годом ранее в сан архиепископа, перемещен был на кафедру Херсонской епархии. Коротко было его служение здесь, – всего только год, но тем не менее весьма плодотворно. Как-бы предчувствуя скорую разлуку, он поспешил сообщить свои архипастырские воззрения в послании от 25 декабря 1874 года. Этот памятник, излагающий руководительные начала жизни и деятельности православных пастырей, может считаться показателем громадной практической опытности, прямых взглядов архиепископа на вещи и благородного доверия к духовенству.
Первые полгода преосвященный знакомился с Одессой, то совершая богослужение и проповедуя (в неделю 29 и 30 по пятидесятнице, при освящении теплой церкви в Успенском Одесском храме, при освящении придела в честь св. великомученика Димитрия в греческой церкви, в мясопустную неделю, в 4 неделю св. Пасхи и 25 марта), то выступая при посещении учебных заведений и благотворительных учреждений, то беседуя в общественных собраниях и частных домах. 23 апреля 1875 г. им предпринято было обозрение епархии, продолжавшееся 37 дней. Владыка посетил до 116 храмов, Бизюков монастырь, имел случаи видеть жизнь сельского духовенства, (ему представлялось до 280 причтов) и самые отдаленные пункты своей епархии (в 37 дней сделано около 2000 вер.).
Результатом изучения церковной жизни края и его религиозных нужд были меры, коснувшиеся духовноучебной области и епархиального управления. Консистория получила ряд предписаний 1) о составлении нового распределения благочиннических округов; 2) об учреждении церковн. и окружных благочиннических библиотек; 3) об учреждении окружных депутатов и избрании кандидатов на эти должности; 4) о приобретении и продаже при церквах крестиков; 5) о ведении церковно-приходских летописей; б) об открытии в Одессе иконно-книжной лавки с целью изыскания средств для содержания предположенного к открытию при семинарии класса иконописи. Самыми важными были среди этих распоряжений, конечно, мероприятия, направленные на ослабление, распространившейся по Херсонской епархии, штунды. Из них учреждение внебогослужебных собеседований привилось с замечательным успехом, применяется 20 лет и приносит плод не только Херсонской православной пастве, а и далеко за ее пределами.
Личные отношения архипастыря к духовенству отличались здесь, как и повсюду, где он служил, доступностью, обходительностью, прямотой и ласковостью в обращении. Одна из прощальных речей говорит, что он обладал редким даром «располагать сердца». В другой проводится мысль, что каждый имел полную возможность высказывать перед ним свои мысли откровенно, без всякого стеснения. «Не раз приходилось видеть» – говорил оратор, – как трепещущий проситель выходил от Вас радующимся, восторгающимся как дитя от того ласкового обращения, какое он встречал в своем высоком начальнике; не раз приходилось слышать восторженные надежды сельских священников, что мы имеем в лице вашем начальника, друга и отца, видящего в каждом священнике важного себе сотрудника, в котором Вы с такой нежной любовью ценили проявление честной деятельности и ревность к своему долгу».
Свою память в Одессе преосвященный Леонтий увековечил постройкой двух училищ (женского епархиального и мужского – духовного) и консисторского архива.
Он оставил Одессу 12-го декабря 1875 года, оставил не без сожаления, чтобы еще раз приложить свои силы, знания и опыт в Холмско-Варшавской епархии также капитально, как прилагал их в Подолии, чтобы затем, совершив все доброе, что мог он совершить на пользу русской окраины, воссиять на свещнице средоточной в России церкви Московской.
* * *
Сочинения архиепископа Леонтия
1) Слова, поучения и речи. С.-П. 1876 г. т. I – II Рецензия: а) Н. К. Херс. Еп. Вед. 1877. № 8, 180 –184; б) Арх. Иосифа. Странник 1876; IV, отд. III, 1 – 8; в) П.-З-на Р. С. П. 1877. I, № 9. стр. 251 – 265.
2) Слова и речи Холмско-Варшавской пастве. Варшава. 1881. Рец.: а) Арх. Иосифа Ц. В. 1881, № 33, 5 – 6; б) к. Думитрашкова. Р. С. П. 1881. II, № 36, 17 – 23.
3) 7 слов на разные дни и случаи X. Е. В. 1875 г. ч. III и IV.
Литература. Некрологи: в Богословском Вестнике 1873 года № 8, 9; Церк. Вед. № 31, Ц. Вестн. № 31. 1893 г. Москов. еп. вед. № 31, Москов. Ведом. и проч. Прибытие в Одессу Архиеп. Леонтия X. Е. В. 1874 г. № 23, 465 – 471; 1875; № 24. Ф. Ч-н. – Высокопреосвященнейший Леонтий митрополит Московский и Коломенский. С.-П. 1892 г.
Архиепископ Иоанникий (Горский)
16 ноября 1875 г. – 28 февраля 1877 г.
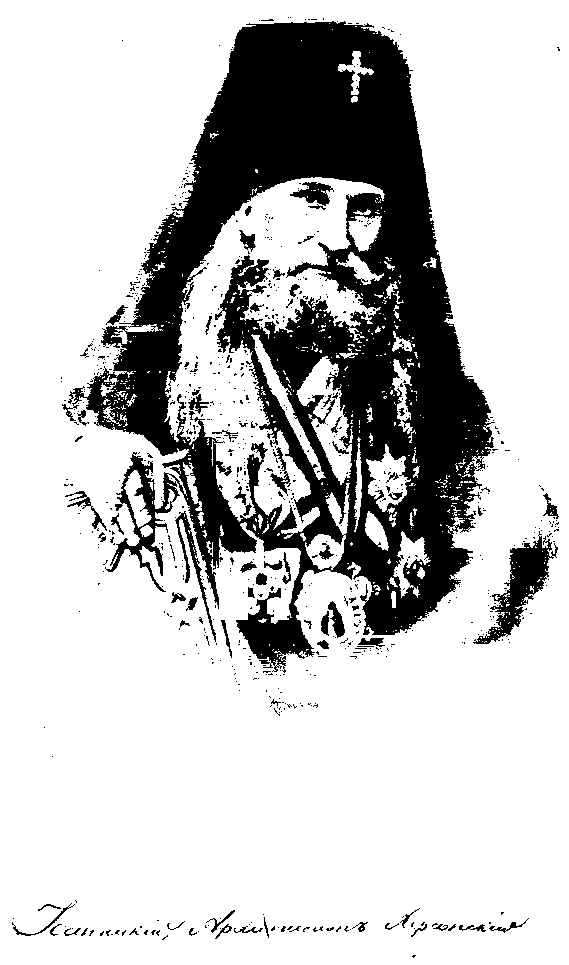
Преосвященный Иоанникий (в мире Иоанн Симеонович Горский) родился в 1811 году в селе Богородском, Даниловского уезда Ярославской губернии. По окончании курса в Ярославской семинарии и Петербургской академии со степенью магистра, он постригся в монашество 3-го июля 1837 года. На службу определен сперва в Нижегородскую семинарию наставником, потом в Киев инспектором. 19-го июля 1841 года его перевели инспектором в Киевскую академию, сделали бакалавром богословских наук и возвели в сан архимандрита. С 10-го октября 1846 года по 3 апреля 1850 года, он – ректор Ярославской духовной семинарии; с 1850 года, ректор Петербургской семинарии, цензор при С.-Петербургском цензурном комитете и член конференции духовной академии. 30-го декабря 1854 года именным Высочайшим указом повелено быть ему викарием Новгородской епархии с саном епископа Старорусского; а 16-го апреля 1856 г. он назначен на самостоятельную епископскую кафедру в Саратов.
«Бесспорно, – пишет архиепископ Херсонский Никанор в своих «воспоминаниях»3, – Иоанникий был из весьма благонадежных, из благонадежнейших между благонадежными, каковыми естественно считать всех архиереев». Сами обстоятельства его назначения в Саратов ручаются за это. «Когда, по заключенному с Римом соглашению, открыта была в Саратове римско-католическая, так называемая Тираспольская кафедра епископа, которому подчинена была громаднейшая территория, начиная от Крыма и Кавказа и оканчивая Камчаткой через всю Сибирь, открыта была в Саратове по давнему домогательству еще отцов-иезуитов, водворивших было свое гнездо еще в Астрахани, потому, что в Саратовской губернии предполагалось довольно густое население католиков, тысяч до 50; то в ту пору, – помнится в 1856 году, – Государь Император Александр II вопросил правившего тогда должность обер-прокурора св. Синода Карасевского: «А хорош-ли в Саратове православный архиерей»? на что г. Карасевский, во время оно преклонявшийся пред звездой Саратовского Афанасия, ничто же сумняся, ответил: «Нет, Ваше Величество, не совсем благонадежен». – «Ну, конечно, послать более благонадежного». – Вот и послали Иоанникия, удалив его предшественника по Саратову – Афанасия в Астрахань. Был Иоанникий человек самый мнительный, самый осторожный, самый осмотрительный в каждом шаге, в каждом деле, слове и, конечно, даже помысле, какого только я знал между русскими архиереями, а все они призваны и обстоятельствами вынуждаются быть крайне осмотрительными, чтобы не полагать претыкания не только другим, но и самим себе, так как каждый из них посреди сетей минует, посреди капканов ступает на каждом шагу. Сотни и тысячи очей глядят на них, готовые соблазняться; сотни языков высунуты, готовые глумиться; тысячи зубов оголены, чтобы скалозубить. Никто другой не гнулся так под этим бременем архиерейства, как Иоанникий. Характер его деятельности в Саратове определился обстоятельствами, какие сделали его предшественника неудобным.... Это – нарекания на некоторые шероховатости в образе жизни Афанасия, зазираемые староверческим ригоризмом. Это – некоторая размашистость в поведении духовенства; это – щекотливое отношение к расколу при новых правительственных веяниях, где архиерей поставляется между двух огней: между ревностью в исполнении долга... и нуждой прилаживаться к наклону светской власти... Известно, что в эту пору изданы так-называемые правила 1858 г., отменявшие прежнюю вековую практику воздействия власти на всякие отпадения от господствующего вероисповедания. Наконец, новая, конечно, – на первых порах, – вздутая ложными страхами, – однако-же весьма пугавшая задача, – оградить Саратовское общество от воздействия нового опасного фактора – римско-католической иерархии и вообще латинского духовенства. В личном поведении Иоанникий не только внимал себе вообще, но внимал каждому своему поступку, каждому слову, каждому взгляду, и пугливо относился ко всякой возникавшей около него о нем самом молве.... Его самобережение в отношении к внешности, чтобы не подать претыкания и соблазна другим, простиралось до того, что однажды, когда водворился в Саратове римско-католический епископ с капитулом и когда по внушению свыше светским Саратовским властям – ласкать их по возможности, городское общество давало обед, на который во главе пригласило обоих епископов, православного и латинского, а дело происходило в один из постов, – Иоанникий, прочитав предобеденную молитву и призвав благословение Божие на тот стол, где стояли постные закуски, вдруг совершенно сдержанно обращается к католическому епископу и, указывая на стол с скоромными яствами, серьезно приглашает его: «А это благословите, ваше преосвященство, вы для них, – ваш устав, разрешает». Светские власти и общественники отсюда поняли, что не следует православного епископа звать на публичные обеды в пост, когда подаются скоромные яства, которые церковь запрещает, значит, и архиерей благословить не может, – что наше православно-русское общество, так-называемое интеллигентное, по образу жизни, отшатнувшись от свято-отеческих уставов народа и церкви, приблудилось к обычаям латинского костела и что на общественных обедах, на глазах всех соблазняющихся, особенно-же староверов, вредно и не безопасно сажать рядом, во главе русского общества, архиереев православного и латинского. Вообще, это был один из самых тяжеловесных, из самых буквально импозантных характеров. Он отяготевал над обществом, направляя его в сторону собственного тяготения, не шумя и гремя, не ораторствуя, не говоря чаще ни слова, молча, в молчании только шевеля своим усом, да вскидывая туда-сюда своим взглядом. И наружность его была превнушительная: высокий, тонкий, частью согбенный стан, часто преклоненный долу взор, прямой нос, темно-карий отлив глаз, темный длинный волос на голове, тонкий дребезжащий голос, чуть-чуть пришепеливающий голос, выцеживание речи по слову из-за полусжатых зубов. Явно, что обдумывает человек каждое слово, заикаясь и нервно-покашливая, поводя нервным холодком и дрожью по спине собеседника. Дамы высшего полета и тогда не выветрившегося пока еще французского говора называли его «кардинал Мазарэн» (Мазарини), «монсиньер Жанис» (Иоанникий). Да, похож, очень похож на портреты кардинала Ришелье, за исключением того, что Ришелье держался гордо и прямо, а наш Иоанникий согбенно, смиренно, угрюмо, тем не менее для слабонервных грозно. Рассказывали, что когда из Саратова прибыл он в Варшаву Варшавским и Новогеоргиевским архиепископом, на встречу его высокопреосвященству, новоприбывшему архиепископу, на первую перед Варшавой станцию, выехали два монаха Варшавского архиерейского дома, со шляпами на головах, вместо клобуков, а при первом представлении его высокопреосвященству со шляпами в руках и обнаженными головами; вдруг его высокопреосвященство тихо, однако-же пристально поглядывая, вопрошает: «вы кто-же такие?» – «Монахи вашего дома», – те отвечают развязно. – «Монахи... монахи... монахи»..., изволит тихо повторять его высокопреосвященство, шевеля усом и пристально глядя. Тех не только мороз подрал по коже, но чуть паралич не ударил тут-же на месте. Конечно другу – не другу с тех пор заказали выставляться пред новоприбывшим его высокопреосвященством, в качестве полупольских ксендзов, русских монахов, забывающих даже наружное уставное благоприличие.
Отношения к расколу в Саратове его тяготили и огорчали... Привлечь к себе саратовских общественников, тяготевших к старинке, ему не удавалось. По селам и деревням полу-раскольники, полу-православные начали отпадать массами, сотнями и даже тысячами... Появились представители австрийской лжеиерархии. Не освободившись ни от старых воззрений, ни от стародавних приемов воздействия на раскол, он был подавлен заботой, как-бы похватать их, всех этих лжеархиереев, запереть и тревогою, что все эти неудачи будут поставлены ему высшей властью в вину. Вообще, он был мученик собственной мнительности и внутренних тревог. Над консисторским делопроизводством он сидел денно-ночно, никому не доверяя, держа всех своих ближайших сотрудников вдали, на почтительном расстоянии, ни с кем из них не советуясь, очень редко удостаивая поделиться с кем-нибудь из них своими думами, заботами, тревогами. Зато он преусердно искал опоры своему мятущемуся духу в высших сферах, постоянно сносясь с носителями высшей духовной власти, постоянно обращаясь к руководственным советам святителя Московского Филарета, зная, что в эту пору Филарет и из Москвы, через совершенно преданного ему обер-прокурора графа А. П. Толстого, давал высшее направление делам православного духовного ведомства. Саратовское духовенство при нем крепко сжалось, в своей разудало-широкой русской размашистости. Охало в его время сильно, хотя он и не принимал суровых мер. Страшила всех, даже ближайших, эта его замкнутость, эта таинственная недоступность, непроницаемость. «Бог его ведает, что он думает; не разгадаешь, чего он хочет», шептали сжатые сердца тихими устами самых близких к нему, самых благонадежных и степенных людей из саратовского духовенства.
Такой-же, нет, еще больший страх нагнал он и на местное католическое духовенство. Нужно заметить, однако же, что он умел привлечь к себе симпатию светского общества, как никто из его предместников и преемников. Правда он и искал этих симпатий, впрочем, с безупречной сановитостью... Каждый день к нему ехали, бывало, с визитами десятки бар и барынь. Все это у него сидело по нескольку часов и выкладывало в разговорах все саратовские новости до последней тонкости. А он, в особых видах, претерпеливо выносил это высиживанье, исполняя этот труд, как бы долг службы. Из этих то ежедневных разнообразных бесед он вызнавал каждый шаг католического епископа и его свиты...
Но, наигрывая умелой заботливой рукой на струнах искусно отвращенной будто-бы страшной опасности со стороны латинской пропаганды в Саратове, преосвященный Иоанникий выдвигал себя из общего уровня епархиальных архиереев в ранг политических деятелей, сколько ревностных, столько-же и искушенных опытом и благоуспешных. И вот, когда по возведении на Киевскую митрополию тонкого и благодушного политика Варшавского, архиепископа Арсения, понадобилось найти ему благонадежного достойного преемника, то избрание и пало прямо на Саратовского епископа Иоанникия, причем он возведен был в сан архиепископа Варшавского. Он был рад и многие около него, если только не все, были рады такому великому его повышению. Помню 21-го или 22-го июля, он подзывает меня к себе после причащения св. Таин в алтаре и говорит: «поздравляю, в Варшаву назначается высокопреосвященный Платон (тогда архиепископ Рижский). Это пост высокий. Оттуда все митрополиты выходят». А 31-го июля, вечером, мы все узнали, по частному, но верному известию, что архиепископом Варшавским назначен он сам... К сожалению для нас, в Варшаву он уехал таким-же неразгаданным, как и жил. На прощанье он давал духовенству несколько обедов, не менее трех. Но когда предложили ему обед от духовенства, категорически отказался. Отслужив прощальную литургию в кафедральном соборе, он, можно сказать, до последнего часа скрывал день и час своего отъезда. По нашим собственным, крайне заботливым наказам, нас буквально разбудили кличем: се жених не грядет, но отходит... Проводили его однако же не ранее 7 – 8 часов утра, отслужив ему в крестовой напутственный молебен.
А слышали впоследствии, что огорчился якобы на нашу холодность, однако-же всячески не по нашей вине: мы не смели... Усердия, котораго он не видел, которое отклонял и охлаждал, было довольно.
В Варшаве он поставил себя с великим достоинством и сперва делал блистательные успехи по службе. Звезды на него так и ниспадали сверху: сперва Владимира 2 ст.; скоро и Александра. Очень скоро алмазные знаки Александра. Скоро и крест на клобук. Правда и положение его в Варшаве было исключительное, критическое, трагическое. Выехал он в Варшаву в конце 1860 года. 1863 г. был не за горами, а за плечами. Смятения в царстве Польском начались уже с 1861 г. Там, в Варшаве архиепископ видел вокруг себя целый ряд трагедий. Пережил злостное покушение на жизнь великого князя Константина Николаевича. Пережил выстрел в наместника Людерса. Пережил покушение на Ламберта и загадочное самоубийство генерал-губернатора Герштенцвейна. Пережил выстрелы в графа Берга, резню 1863 года, и все ужасы, которые ей предшествовали, сопутствовали и последовали. Там он, – естественная мишень вражеских попыток, держал себя в эту пору с величайшим самодостоинством, тактом и видимой отвагой. Образ своей замкнутой жизни он не изменил ни на иоту. От исполнения своих обязанностей он не уклонялся ни на иоту. Говорили, будто в его карету кидали чем-то. Но это не подтверждается записанными воспоминаниями очевидцев. То несомненно, что он один раз и поразил и умилил своих поляков. Когда скончался римско-католический Варшавский митрополит Дмоховский, с которым архиепископ Иоанникий состоял в почтительно приязненных отношениях, – это было в самый разгар бунта, – архиепископ сел в карету и внезапно появился в палаце католического митрополита; молча, прошел во внутренние покои до самого покойника; по-русски три раза перекрестился большим крестом, низко кланяясь пред святыней, затем поклонился сановному духовному покойнику и, не говоря ни слова, направился к выходу. Присутствующие расступились с глубоким уважением и умилением. Между тем в эту пору напускное раздражение поляков против русских было так велико, что преемник Дмоховского, молодой архиепископ Фелинский не посмел сделать визит старому, давно в Варшаве оседлому и благорасположенному русскому архиепископу. Высокопреосвященный Иоанникий в послании, которого пишущий имел честь удостоиться от него впоследствии, сам выразился об этом предмете так: «архиепископ Фелинский не имел чести познакомиться со мной».
В отношении к подчиненным русским, архиепископ Иоанникий поставил и все время держал имя свое грозно и честно, по старине, хотя и бесшумно. Так как в Варшаву поступали на духовную службу лица исключительно только с академическим образованием; так как по делам, на месте службы они постоянно попадались на глаза светским часто и высоким сановникам, до наместника включительно; так как в не русском городе они естественно напитывались не русским же духом не русской вольности и некоторой независимости от местного архиерея, – то белое духовенство сначала отнеслось к новому архиепископу с развязностью, к какой он в России не привык. Так как при его сдержанности и замкнутости от этого вырастал дух взаимных недоразумений и напряженности, то бес и смутил некоего мужа из Варшавских духовных, – так рассказывалось, – выкинуть нечто непозволительное, что я и назвать не умею. Съездив зачем-то за границу, он приобрел там между другими заграничными, запретными и вредными, одно издание, направленное специально против чести архиереев и, по возврате домой, при первом-же представлении, вручил эту мерзость его высокопреосвященству. Изумленный архиепископ попросил себе аудиенции у великого князя наместника и представил полученную от своего подчиненного дерзкую книгу его высочеству. Последовало распоряжение, достойное великого князя: выслать из Варшавы в 24 часа. Рассказывали еще случай такого-же характера. Умер в Варшаве какой-то генерал инославного исповедания. Конечно, современной нам интеллигенции, при жизни, Бог и христианство и церковь не особенно нужны. Но чуть умри кто-либо, сейчас поднимается вопрос о параде, о парадных поминках, нарядных панихидах и похоронах, конечно, с «попами», – как быть иначе? Случилось тоже и тут при смерти генерала инославного. Кинулись туда-сюда по духовному ведомству. Им отвечают, что по закону дозволяется духовенству только проводить в облачениях с пением: «Святый Боже», но без панихиды, без внесения в церковь, без литургии, без отпевания по церковному уставу. Военные, конечно, церковного устава не знают и знать не хотят и настаивают на своем – на внесении в церковь, на полном погребении. Епархиальное духовенство не смеет. А военный священник возьми, да и вызовись: я-де все исполню. Вызвался, да и сробел, как-бы беды не случилось. Идет к архиепископу, которому не подчинен: «Так-то и так-то, просят, мол, требуют, трудно отказать. Я вызвался». Согбенный архиепископ посмотрел на струсившего смельчака, поднял палец до высоты своего и его носа, тихо пошевелил пальцем и усом, изрек одно слово «попробуй», повернул спину и вышел. Это рассказывал, с восторгом, светский русский генерал на Дону, только что воротившийся из Варшавы. «Представьте, – рассказывал он, не стесняясь, двум архиереям вместе, – постановка богослужения примерная. Входит в собор, сам высокий, согбенный, – вид сосредоточенный, строгий; крестится большим размашистым русским крестом, таково истово, по-русски; кланяется низко, пренизко; ни на кого, ни на что не глядит. Сослужащее духовенство вышколено престрого. Певчие настроены прекрасно. Ну, я скажу тоже, выслушав эту обедню, что послы Владимировы, отстояв службу в св. Софии: не знаю, где был я, на небе, или на земле». Рассказывали о нем еще одно характерное обстоятельство. Строилась в Варшаве рус. православная церковь на казенные деньги. Постройкой заведовали, конечно, светские. Но и архиепископ был в строительном комитете или председателем, или членом. По-видимому, председателем был сам наместник, Берг. Чтобы не всякий раз являться в заседания строительного комитета, архиепископ назначил своим заместителем в комитет местного соборного ключаря. Светские члены творили, конечно, что хотели. Но вот немцы выдумали заморскую новость – осветить новостроющуюся церковь посредством газа. Заказали и люстру такую и уже повесили. Ключарь доносит об этой выдумке архиепископу. Тот отвечает: «пускай-де их, посмотрим, увидим». Постройка шла своим чередом и пришла к концу. Просят архиепископа освятить. По нашим уставам новопостроенную церковь следует освидетельствовать духовным чинам, годна-ль она к освящению. Свидетельствовать ее поехал сам архиепископ. При осмотре останавливается своим вниманием на люстре. – «Это что-же такое?» – «Люстра» – отвечает ключарь, как ни в чем не бывало. – «Отчего-же она имеет необычный вид?» – «Это для освещения газом так она устроена». – «Газом, да?» – «Газом, а не свечами. Так угодно его сиятельству, наместнику». – «Ну, так я святить церковь не стану», – решил архиепископ и отбыл. Конечно, дело на том остановиться не могло. Архиепископ донес об этом Св. Синоду; а наместник от себя писал даже будто-бы Государю. Св. Синод разъяснил, что вопрос об освещении церкви в Варшаве газом, а не восковой свечкой, имеет значение не только экономическое, но и каноническое и что исполнение желания наместника могло-бы иметь весьма важные последствия для всего строя православной церкви в России. Так этот вопрос и похоронен, хотя многие и силятся воскресить и оживить его, стараясь ввести в церковь освещение уже не отсталым газом, а прогрессирующим электричеством. И первый отпор этим немецким тенденциям дал Варшавский архиепископ Иоанникий.
Но видно эта-же самая непреклонность его стала преградой на пути мерного и мирного восшествия его если не от славы в славу, то от отличия к отличию. В начале 70-х годов говорилось в Петербурге, что он теперь вернейший кандидат на митрополию. Но человек предполагает, а Бог располагает. Возникло историческое дело воссоединения холмских униатов к православию. Вероятно, тихо-сдержанный, но непреклонный святитель требовал, чтобы новоприсоединившиеся к православию принадлежали ему на деле, а не на бумаге только. Возникли затруднения, которые отразились было и в газетах. Без сомнения, сколько от лет при крепком телосложении, столько и от скопившихся огорчений, Холмско-Варшавский архиепископ Иоанникий занемог; сокрушило его новое титло Холмско-Варшавского, тогда как прежде он назывался Варшавским и Новогеоргиевским. Последовал неожиданный внешний удар – перемещение его в Одессу. Около полугода от телесной немощи он не мог и двинуться из Варшавы на новую, хоть и именитую-же кафедру. А в Одессу он прибыл только умереть и сложить свои кости бок-о-бок с костями великого Херсонского святителя – витии Иннокентия».
«Мало мы знали его, еще менее он узнал нас», говорил один из Одесских проповедников над гробом архиепископа Иоанникия 4-го марта 1877 года. Да, узнать было некогда. 7-го февраля 1876 года прибыл из Варшавы; 28 февраля 1877 года скончался; прибыл изнуренным болезнью, едва дышащим; постоянно жаловался на слабость сил, головокружение, недостаток сна. Тем не менее и тут в промежутки, когда силы вспыхивали, на краю гроба занимался по привычке делами с такой-же точностью, аккуратностью, как и всегда. Постановления консистории прочитывал все сам, докладные части журналов и протоколов во всех подробностях рассматривал, цифры проверял. Служил довольно часто, проповедовал весьма редко. Скорбел душой, между прочим о том, что немногие из учеников семинарии посвящают себя изучению богословских наук и служению церкви. 30-го января 1877 года нашел в себе силы освятить семинарскую церковь и отслужить четырех-часовую литургию. В начале поста у него оказался сильный катар легких и открылась водянка ног. Понимая безнадежность положения, приобщался, собирался сделать духовное завещание, но не успел, – скончался в ночь пред тем самым днем, когда завещание решено было составить.
Преосвященный архиепископ Иоанникий избегал печатать свои проповеди и вообще в литературе мало известен. Произнесенные им в Одессе – приветственная речь к пастве по прибытии, слово в неделю крестопоклонную, поучение к воспитанницам института и речь при освящении семинарской церкви, – также нигде не напечатаны.
Сведения о нем встречаются в Херсонских Епархиальных Ведомостях 1877 г., стр. 98 – 134, и в «Воспоминаниях» А. Б-а. СП. 1884 г.
Архиепископ Платон (Городецкий)
15 апреля 1877 г. – 6 февраля 1882 г.

Преосвященный архиепископ Херсонский и Одесский, впоследствии митрополит Киевский и Галицкий, Платон родился в посаде Погорелом Городище Тверской губернии и в мире назывался Николаем Ивановичем Городецким. Отец его, священник, был добрый и образованный пастырь, которого любили и уважали не только все погорельские прихожане, но даже и окрестные жители за его простоту, ласковость, приветливость отеческую внимательность к каждому и сердечное расположение. Николай Иванович наследовал от отца кроме всех этих качеств церковность, такт, любовь к простому народу и редкую ласковость в обращении с кем-бы-то ни было. До 8-ми лет он жил дома; научился читать, петь. Так как способности у ребенка были бойкие, то отец, не стесняясь годами, отдал его в Ржевское духовное училище. Тяжела была в 1811 – 1814 годах школьная жизнь. «Ректор был совсем не ученый, – вспоминает преосвященный Платон, – классы обогревались собственным дыханием учеников. Жили по нескольку человек вместе на своих сельских скудных харчах, а занимались не со свечками и лампами, а с ночником четверо около одного стола. И ночничок-то был дешевый, свой импровизированный: старая банка из-под помады, до половины насыпанная песочком, а сверх наливали масла конопляного, с каким ели и кашу, а светильничек-то делали не из ваты, а из простого льна. За квартиру платили 8 руб. ассигнациями в год, да привозили солоду по мерке на квас, и за эту благостыню хозяйка должна была не только давать квартиру, но и варить пищу из доставляемых самими школярами домашних продуктов, давать своей капусты, соли, мыть белье и топить баню». В первые годы своего ученья Николай Иванович получал от своего родителя 25 коп. серебр., на целую треть (3½ месяца) и на все ученические потребности: на чернила, бумагу, масло и на лакомства. Да еще из этой суммы надо было сделать сбережение копеек на 15, чтобы добраться домой на праздник Рождества Христова, или Пасхи. Домой-же хаживал Городецкий нередко пешком, а идти надо было верст 40, да еще весной по грязи, а зимой в большие метели. Кончился курс учения в Ржевском училище и Н. Городецкого, одного из лучших учеников, перевели в Тверскую семинарию. В 1823 г. он, как самый способный и трудолюбивый из выпускных студентов, был послан в С.-Петербургскую академию, четыре года провел здесь под руководством таких отечественных знаменитостей как (впоследствии митрополиты) Григорий, Арсений и Исидор, (архиепископ) Иннокентий Борисов и протоиерей Павский. Из академии Городецкий вышел магистром в 1827 г.
С этого времени началась его учебная, пастырская и церковно-административная деятельность.
7-го сентября 1827 года Николай Иванович был назначен преподавателем в Орловскую семинарию. Талантливый, предприимчивый, энергичный, он с первых же шагов своей преподавательской деятельности был призван ближайшим начальством к исполнению чуть не десятка административных и других поручений, был и профессором физико-математических наук и библиотекарем и лектором французского языка и и. д. инспектора и секретарем семинарского правления. Везде он обнаружил разнообразие знаний, серьезность, такт, сообразительность и дальнозоркость. С 24 октября 1829 года Городецкого видим профессором С.-Петербургской академии. Интересно, что он первый из русских духовных ученых решил изменить вековым научным традициям, сбросив цепи схоластики в изложении наук на мертвом латинском языке; первый стал излагать студентам уроки нравственного богословия на русском языке и внес в лекции жизненность содержания, увлекательность изложения. Ему также одному из первых принадлежит честь разработки науки о русском расколе и что более важно – честь указания того принципа гуманных мер и средств духовно-миссионерского воздействия на загрубелую совесть раскольников и сектантов, который отстаивается всеми высокими умами настоящего столетия.
В 1830 году Николай Иванович принял монашество. Накануне пострижения, инспектор С.-П. академии, архимандрит Иннокентий спрашивает его, какое имя желает он носить в монашестве. Николай Иванович говорит, что решил назвать себя Никандром, так как это имя имеет почти тоже значение, что и мирское его имя – Николай. «У монаха своих желаний не должно быть, – отвечает Иннокентий, – а вот мы сейчас узнаем, какое тебе имя назначает Промысл Божий». Нарезал несколько бумажек, свернул их, положил в клобук. На вынутой Николаем Ивановичем бумажке было написано «Платон». «Вот и имя тебе», дружески сказал Иннокентий. Есть намеки, что новопостриженному иноку, а потом иеромонаху Платону на первых порах, жилось не легко. Начальство возымело мысль отправить его подальше, напр. в Архангельск, и этого лестного назначения (конечно ректором семинарии) Платон избежал только благодаря случаю. 11-го июля 1831 года он говорил в одном из столичных соборов проповедь по поводу холеры. Оригинальность мыслей в связи с сановитостью оратора, с его звучным голосом произвели глубокое впечатление. О проповеди заговорил весь Петербург. Через митрополита Серафима ее потребовали к Государю. Император прочитал и приказал: «обратить внимание на молодого проповедника». Внимание обратили: ославили при академии, произвели в архимандрита, но шесть лет спустя назначили на должность ректора Костромской семинарии.
Двенадцатилетний период службы Платона по духовно-учебному ведомству (с 1827 по 1839 г.) послужил подготовительной ступенью к обширной церковно-административной его деятельности, которая началась с Волынского Свято-Духова монастыря. Сюда на место настоятеля был перемещен он из Костромы 28-го апреля 1839 г. Чтобы оценить значение новой его службы сперва как архимандрита в Вильно, а потом (с 1844 по 1848 г.) как Литовского викария в Ковно, надо иметь в виду исторические обстоятельства этой эпохи и положение церковных дел в Литовском крае. 40-вые года были для западного края временем исторической важности: церковные реформы шли непрерывно одна за другой, период сближения Литовской униатской церкви и народности с православием и русской народностью достиг зенита; только что совершился переход в лоно православия знаменитого Иосифа Семашко с его двухмиллионной паствой. Вот волей-неволей прибыл в край новый образованный деятель, молодой, энергичный, богато одаренный духовными силами. Семашко, вопреки ожиданиям тех, что сделали из Платона архимандрита – ректора, только архимандрита, быстро оценил его непризнанные способности и приблизил к себе. А Платон из благодарности, из личной симпатии, из жажды применить свои силы к делу стал самым деятельным, самым преданным сотрудником Литовского митрополита. И услуг церкви, русскому делу, русскому духовенству он оказал не мало. Виленский Свято-Духов монастырь обязан ему своим внешним и внутренним устройством, воссоединенное духовенство – преданностью православной церкви, общество – любовью к России и престолу.
6-го ноября 1848 г. епископу Платону Высочайше поручено было новое, более сложное, ответственное и в высшей степени трудное дело защиты православия в Остзейско-немецкой окраине. Какой-бы момент из периода, употребленного преосвященным Платоном на осуществление этой задачи, мы ни взяли, – время-ли его служения в качестве викария Псковской епархии, или пору его церковно-административной деятельности, как Рижского архиепископа, – везде за 18 лет пастырской службы западному краю поражают его система и такт в управлении, зрелая опытность, целесообразность мероприятий, прогрессивно возрастающая предприимчивость и инициатива. Надо знать, что преосвященный Платон вступил в управление Псковской епархией после архиепископа Нафанаила, при обстоятельствах крайне невыгодных. Беспорядков и злоупотреблений в епархии было без счета. Надзор за духовенством упал; явились искательства, протекторат, пошли в ход ложь, обман, взяточничество, растраты казенных сумм. При Нафанаиле из Петербурга слали ревизора за ревизором, меняли членов консистории, секретарей, чиновников; самого архиерея и по смерти не пощадили: не было у него ни денег, ни имущества для пополнения растраченных консисторских сумм, – продали с аукциона в губернском правлении его клобуки, трости, четки... В семь лет управления Псковской епархией преосвященный Платон успел смыть это лежавшее на ней темное пятно. Начал он свои реформы с подчиненных учреждений и властей, через которые приходилось действовать на епархию – с консистории, духовных правлений и благочинных. От консистории он потребовал, чтобы дела вселись правильно, точно, без замедления, с осторожностью, беспристрастием и рассудительностью, чтобы она ничего не допускала несправедливого по недосмотру, а тем более с умыслом, обращала внимание на законы и т. п. Когда требования его исполнялись консисторией худо, он делал новые указания, с редким терпением замечал и исправлял в представляемых бумагах каждую мысль, каждое выражение, часто на протоколах писал весь ход ведения дела и требовал, чтобы к новому протоколу, составленному вследствие его замечаний, был приложен и протокол прежний, на котором были написаны архипастырские замечания. Особенно строго следил преосвященный за производством следствий по делам судебным и за беспристрастным решением этих дел. Заметим, что он едва-ли не первый пришел к той мысли, что духовные правления совсем следует закрыть, так как, составляя лишнюю инстанцию в епархиальном управлении, они более замедляют, чем ускоряют делопроизводство; он и закрыл их в Пскове, а лежавшие на них обязанности передал благочинным. Сам институт благочинных был им освежен благонадежными по уму, поведению и усердию к службе людьми; делателей верных владыка видимо отличал своим вниманием, а нерадивых лишал доверия и заменял лицами более благонадежными. Но кто раз был выбран таким образом на должность, того никогда не стесняли в правах службы, законом ему предоставленных.
Самая важная забота для преосвященного Платона предстояла в материальном и нравственном устройстве причтов. Прежде всего он позаботился, при определении на священно- и церковно-служительские места, иметь в виду не выгоду частных лиц, а пользу церкви. Таким образом, на места стали поступать люди, имевшие законное право, достойные и по образованию, и по жизни, причем старшим по службе оказывалось предпочтение. Не зависимо от свидетельств и аттестатов, производились особые экзамены, через особых экзаменаторов. Заботы преосвященного Платона об улучшении материального быта духовенства выразились в целой серии распоряжений и указов. Владыка сократил напр. лишнее число духовенства в епархии, пропитывавшегося за счет наличного причта, учил духовенство правильно-выгодно пользоваться теми средствами содержания, какие ему предоставляла власть, смотрел, как отдают землю в аренду, неудобные угодья старался заменить удобными, требовал, чтобы каждое лицо в причте получало от церкви свою законную часть, чтобы благочинные не вызывали к себе причетников для разноса указов, потерпевшим от каких-нибудь несчастий спешил оказать помощь и т. д. Многих трудов стоило ему улучшить нравственную сторону псковского духовенства. Памятник этих трудов – резолюции. «Умоляю – писал преосвященный Платон в своем послании – умоляю духовных вести себя, как можно лучше, особенно удалиться проклятого пьянства, не увлекаться корыстолюбием и всемерно избегать ссор и тяжб, помня пословицу: худой мир лучше доброй ссоры». Доносов он терпеть не мог; за духовенство, когда на него несправедливо нападали люди с весом, вступался. Доселе местное (Псковское) предание хранит трогательный рассказ об его заступничестве за бедного дьячка, которого уголовная палата приговорила к строгой каре, не смотря на его невинность.
Мы намеренно остановились на некоторых подробностях церковно-административной деятельности Платона в Пскове. Его жизнь здесь составляет превосходную подготовительную школу к знаменитому рижскому периоду, который по исключительности, оригинальности, разнообразию и широте, многотрудности и благоплодности деяний преосвященного бесспорно должен быть назван миссионерским подвигом. Владыка Платон на русской западной окраине – в Пскове и архиепископ Платон в остзейско-лютеранском крае одно и тоже по характеру, по убеждениям, по направлению деятельности лицо, но в Пскове он, как администратор только окончательно формируется, в Риге – закалятся; в Пскове он восстановитель попранного законного строя церковной жизни, в Риге – мудрый и мужественный защитник народных, религиозных и государственных интересов: архипастырь и государственный деятель. Как эти 18 лет архиепископствования Платона в Риге были славны и вместе с тем тяжелы, показывает сопоставление их с месяцами Севастопольской осады, сделанное на 50-летнсм юбилее Платона одним из непосредственных свидетелей его рижской деятельности. «Не год за год службы Богу и царю, – говорил рижский депутат, – следовало-бы считать Вам, а месяц за год».
Главная задача архипастырской деятельности Платона в Риге сосредоточивалась в укреплении и углублении православия среди эстов и латышей, на усилении и развитии миссионерского дела, на расширении пределов паствы, не говоря, конечно, о том, что постоянно приходилось думать как-бы козни, интриги и распри иноверцев не подорвали кредит православия и не уронили-бы знамя русской народности. Пересчитывать и описывать труды преосвященного Платона во всех этих отношениях, значило-бы писать обширную монографию, пришлось-бы затронуть слишком много вопросов несвоевременно, коснуться мероприятий по времени свежих, борьбы полонизма с великорусскими интересами, далеко не кончившееся... Ограничимся сопоставлением того, что в 1850 г. преосвященный Платон в Рижской епархии нашел, с тем, что в 1867 году он здесь оставил. Перемена общей картины слишком характерна и по ней можно судить о сложности и исторической ценности административной деятельности архиепископа Платона.
К 1850 году Рижская православная паства состояла частью из русских, которые были у немцев в загоне и пренебрежении, как ненавистные незваные пришельцы, без всякого права голоса в общественных делах, частью из эстов и латышей, умственно и религиозно неразвитых, забитых, стесненных материальной и земельной зависимостью от баронов. С учреждением самостоятельной епархии нападки немцев на православие и православных сделались еще ожесточеннее и направлялись к тому, чтобы воспрепятствовать настойчивым планам и стремлению церковной власти об обращении эстов, а, если удастся, то и оторвать от православия уже обратившихся. Сильная сама по себе и по условиям быта, поддерживаемая притом сильным покровительством русской администрации, противодействующая Православию партия не стеснялась ничем: пускались в ход и клевета, и ложь, и подкуп, и лесть... Оскорблялось и поносилось и имя церкви и храмы, и священники православные и сам архиепископ Платон. В виду такого порядка дел ценно уже и то одно, что преосвященный бессменно занимал свою кафедру 17 лет: всякий другой деятель – не он – на подобном посту, одинокий как одинок был Платон, с помощниками бессильными, неискусными не выдержал-бы и – самое счастливое – ушел-бы в заштат. Но Платон, не только вынес на своих могучих плечах все, но и вышел из борьбы победителем.
Обрусение края он начал устройством храмов. В 50-х годах сельские православные церкви здесь имели большей частью только временное помещение: то в домах военных постов, то в частных строениях, даже в кузницах, сараях, хлевах. Убожество облачений было страшное: многих необходимых церковных вещей вовсе не имелось; иконостасы часто встречались тесовые, с развешанными беспорядочно, попорченными иконами разной величины и разного письма. Преосвященный повел дело так, что каждый сельский приход устроил у себя постоянную церковь, снабженную всем необходимым; при участии генерал-губернатора стал производиться отвод земли под храмы. В последний год его служения, постоянных храмов в Рижской епархии насчитывалось вдвое более, чем сколько их было в начале временных.
От храмов сделан был переход к реорганизации духовенства. До преосвященного Платона православные священники Рижской епархии не шли дальше элементарного образования. 1-го октября 1851 года Платон открыл в Риге семинарию, с специальным курсом наречий латышского и эстского. В 1855 г. эта семинария дала уже епархии выпуск хорошо образованных и развитых кандидатов на священнические должности. Для наиболее удобного и усиленного выполнения миссионерских задач в крае, привлечены были к обучению природные латыши и эсты. В среде духовенства владыка усиленно распространял книги, устраивал библиотеки, следил за служебной и нравственной сторонами жизни духовенства, внушал ему избегать неприятной переписки с лютеранами, советовал обращаться с иноверцами как можно скромнее и вежливее, не вмешиваться в сторонние дела, даже не допускать ни в проповедях, ни в сочинениях обидных для лютеран выражений. Результат его забот – тот, что за 17 лет управления не было ни одного следственного дела по делам собственно духовенства.
В 1850 году материальное благосостояние Рижского духовенства исчерпывалось 300 руб. годового казенного жалованья на каждый причт. Платон выхлопотал новый более приличный оклад – русским священникам 500 руб. в год, эсте-латышским – 650; кроме того основал в Риге попечительство о бедных духовного звания, эмеритуру, капитал которой в 1887 г. доходил до 85.000, устроил богадельню для вдов и сирот духовного звания и т. д.
Народный школьный вопрос до 1850 года был немцам-лютеранам также ненавистен, как и церковный; русская администрация проектировала открыть приходские и областные школы, по одной на 500 душ мужского населения, но медлила. Архиепископ в первый же год управления учредил 28 школ на казенный счет при приходских церквах, образовал особый школьный капитал, открыл при семинарии причетнический класс, который должен был подготовить образцовых народных учителей. В 1867 году всех школ в епархии насчитывалось 359, учащихся 9500 человек.
Бедственный житейский и общественный быт эстов и латышей, когда преосвященный Платон занял Рижскую кафедру, был более чем ужасен. Бесправие, беззащитность, невежество, произвол и гнет со стороны немцев царили повсюду. Стойкость архиепископа, который в течение 15 лет отстаивал свою мысль об исходатайствовании Высочайшего повеления об отводе земли православным крестьянам в Остзейском крае, который имел даже аудиенцию у Государя по этому поводу, спасла коренное население, а с ним и православие, а с православием 60-х годов и всю будущность, теперешнюю современность Рижского края. С другой стороны, та же стойкость архиепископа положила прочные основы православному просвещению вообще среди западного населения, латышей в – частности. Никаких правильно организованных начинаний до 1850 года по этой части не замечается. Преосвященный Платон открыл в 1850 году особый комитет, который печатал книги Св. Писания в противовес Библейскому лютеранскому Обществу, переводил богослужебные книги на эстский и латышский языки, печатал катехизисы на том и другом языках, распространял журнал «Училище благочестия», сочинения о православной вере, о постах, о молитвах, о почитании св. икон и проч.
Многозначителен, наконец, и рост православного населения в Рижской епархии за период деятельности здесь преосвященного Платона. В 1848 году паства состояла из 138.416 душ, в 1866 году – доходила до 180.846 душ; разница на 40.000. Цифра, конечно, не колоссальная и результат по-видимому не особенно блестящий за такой долгий промежуток, но чтобы оценить верно результат, надо знать, как он получен. А обращение в православие лютеран давалось православному Рижскому духовенству при всем его старании не легко. Приходилось считаться с чудовищными мерами. Под опасением быть обвиненным в агитаторстве не допускалось предлагать эстам и латышам беседы о вере, хотя-бы те и выражали желание православную веру узнать; священники могли принимать к себе только лиц, получивших на обучение письменное дозволение от сельского начальства. По правилам-же такое заявление делалось при полицейском чиновнике, с составлением акта, после чего выдавалось свидетельство на право перехода в православие по истечении 6 месяцев.
9-го марта 1867 г. преосвященный Платон был перемещен в Новочеркасск на Донскую епархию. Как Рижские православные прощались со своим владыкой, как, оказалось, – они его ценили и любили, хорошо известно.
Донская епархиальная деятельность преосвященного представляет фотографическое воспроизведение Рижской, – если можно так выразиться, – в уменьшенных размерах. По цветистому выражению анонимного автора книги «Шестидесятилетие деятельности высокопреосвященного митрополита Платона» (Киев 1887 г. стр. 78 – 79) «маститый архипастырь Донскую епархию нашел полем девственным, едва тронутым до него духовными оратаями, мало еще засеянным сеятелями слова Божия, – в котором находятся целые заброшенные, забытые пространства с дикими бесплодными смоковницами». Короче и проще: преосвященный Платон в Донской епархии нашел казаков полуграмотных, по-казацки веровавших, до 80000 раскольников и громадное количество калмыков-язычников. Церквей было мало; духовенство не имело авторитета и не обнаруживало никакой деятельности; о семинарии не помышляли, об улучшении материального быта духовенства не заботились. Отсюда все, что преосвященный Платон для Донской епархии сделал, оказывается только ответом на вопиющие нужды. Как частность, подробность, интересную для характеристики его особы не лишне отметить простоту, задушевность, общедоступность, которые развернулись на Дону во всем своем блеске. Чтобы административные распоряжения были целесообразны, соответствовали местным условиям, надо было основательно и близко познакомиться со всеми подробностями быта, жизни и состояния своеобразной Донской паствы. Архиепископ и шел к конечной цели прямыми шагами. Всякий час дня, даже позднего вечера отдавался каждому посетителю, имевшему возможность познакомить с какой-нибудь интересной стороной местной жизни. Принимали безразлично и заслуженного протоиерея и бедного священника из дальней глухой станицы и простого казака. Случалось и так, что владыка и час и два беседует с какой-нибудь невзрачной старухой или странником, а чиновные особы ждут и переглядываются.... Беседы, рассказы, свидетельства очевидцев, карта, клировые ведомости, ежегодные, продолжительные тысячеверстные путешествия были обычными способами войти во все нужды края. Раскольников архиепископ принимал у себя на Дону за чашкой чая, бывал и у них нередко. Не удивительно, что при таком редком внимании самые закоренелые из них спешили посмотреть и послушать архиерея – никонианина; а в 1877 году, когда в Одессе праздновался его 50-летний юбилей, бывшие старообрядцы поручили депутатам от Донской епархии выразить преосвященному Платону «их вечную благодарность, как избавителю от пагубы духовной». Неудивительны также и восторженные приемы, которые в 1875 году были устроены в разных местах Донскому архиепископу калмыками. (В одном напр. месте бакша выслал за 10 верст от хорула почетную депутацию, а перед своим жилищем встретил владыку со всей своей свитой; в другом архиепископу предложен был стул в передней части хорула, около бурханов; или в одном напр. месте калмыки и калмычки становились на колена пред каретой преосвященного, выходили и выезжали встречать его за 40 верст, просили его молитв и т. д.). Владыка Платон имел редкий дар очаровывать собой всякого, открывать в человеке самые лучшие чувства, ценить человека. Он не гнушался сближаться и с калмыками, и с их бакшей (главный духовный представитель), принимал их, вел беседы, по временам угощал. Таких сановных простых, доступных обычным смертным, лиц и всегда было немного, в XIX веке и того меньше. Вполне понятно поэтому, что с переводом преосвященного Платона в Одессу Дон потерял крупную живую, могучую силу, которая все согревала, всему давала ход. «Один Бог знает, чем-бы мы отплатили Вам за ласки и то счастье духовное, какими Вы дарили нас, если бы Вы долее здесь прожили», писал архиепископу Платону в 1877 г. калмыцкий бакша.
Назначение преосвященного на Херсонскую кафедру последовало 25 апреля 1877 года. Жребий занять ее выпадал ему и раньше, – в 1857 году, по смерти знаменитого Иннокентия Борисова, но воля Государя Императора удержала Платона в. Риге, а Одессе дала Димитрия Тульского. 1877 год: восточная война; гром победоносного русского оружия... Приморская Одесса – средоточный пункт, куда стекались и особы царствующего дома, и знаменитые герои, и полки победоносные, и транспорты раненых... Столетний юбилей Херсона... Потом, после войны, целый ряд злодейских покушений... Кончина Государыни царицы... Ужаснейшее неслыханное злодеяние: смерть Государя Императора Александра II... Восшествие на престол Александра III... Осмыслить все эти явления великой исторической важности, осветить их светом веры, одухотворить интересами патриотизма, направить на верный путь душу, мысли, чувства и мнения разнохарактерного, застывшего в узкой эгоистической сфере деятельности одесского общества – составляло слишком ответственную, сложную задачу, справиться с которой мог только муж испытанный, крепкий, закаленный исполинской борьбой в предшествующей жизнедеятельности. Таким мужем и был, таким и явил себя в Одессе архиепископ Платон. Пять лет он руководил общественным мнением Одессы и юга; ни одно событие не прошло мимо его, не найдя отклика в его душе, не осталось невыясненным, не давшим толчка общественной мысли, совести. Ему грозили, находя его влияние на народ разрушительным для нигилистических затей; – он продолжал говорить и влиять. Его укоряли, критиковали, – однако толпой собирались, когда он служил, слушали и, выслушав, начинали глубоко чтить. Учреждалось-ли какое благотворительное общество, он первый нес свою жертву; нуждался-ли кто в материальной поддержке, нравственном ободрении, – он никому не отказывал. Просили защитить от неправды, помочь в беде, – преосвященный обращался по начальству, настаивал, ходатайствовал. Не лишенный внутреннего смысла случай: при первом вступлении в Одесский собор архиепископ, прикладываясь к чудотворному Касперовскому образу Богоматери, нечаянно тронул клобуком лампаду и облил себя маслом. Присутствующие сильно смутились, но владыка нашел в беде утешительное знамение: «это дает мне знать, что мое служение здесь будет полно Божией милости ко мне». Действительно, оно таким и было. Одесса придала блеск и сияние его прежним заслугам и открыла путь к высшему сану, к высшему служению. В Одессе владыка имел случай сблизиться с многими выдающимися деятелями. Здесь он отпраздновал свой 50-летний юбилей службы церкви и отечеству. В Одессе, наконец, Платон, не смотря на кратковременность пребывания, оставил ряд капитальных памятников, благодаря которым память о нем и поныне жива, поныне полна интереса. Вот главнейшее из всего того, что он сделал за одесский период.
В интересах поднятия религиозно-нравственного уровня, оживления церковно-общественной жизни населения и для руководства миссионерской деятельностью духовенства по обращению в православие старообрядцев, штундистов, шалопутов и других сектантов епархии преосвященный Платон исходатайствовал разрешение на учреждение в Одессе второго викариатства.
Для успешной борьбы со штундой архипастырь учредил, в память 25-летия царствования Государя Императора Александра II, братство св. апостола Андрея Первозванного и в основание капитала братства внес крупное пожертвование – тысячу рублей.
Открыл и докончил устройство учебной и экономической сторон Одесского епархиального женского училища. Эта деятельность преосвященного была особенно благотворна в годы либеральных веяний, коснувшихся и молодого женского поколения в духовенстве, которое, часто получив воспитание в светских учебных заведениях, потом или не хотело возвращаться к своим, – выходить замуж за лиц духовного звания, или же если и мирилось с долей, «то с скрежетом зубовным», на всю жизнь отравляя существование ни в чем неповинной другой половины человеческого рода. И в училище владыка сделал крупный вклад – 1500 рублей, с тем, чтобы проценты шли в награду и на первоначальное обзаведение при выходе лучшим воспитанницам.
Мужское духовное училище обязано заботе, содействию и жертве преосвященного Платона устройством прекрасной домовой церкви, во имя славянских первоучителей, и постройкой казенных квартир для учащего персонала.
Семинарию архиепископ особенно любил. Для приучения воспитанников к церковной службе при нем вышло распоряжение по очереди присутствовать семинаристам на богослужении в Крестовой архиерейской церкви и исполнять на глазах преосвященного все причетнические обязанности. В капитал семинарии владыка внес также 1000 рублей, с тем, чтобы проценты шли на пособия бедным ученикам по окончании курса.
Для пользы религиозно-нравственного просвещения народа в Елисаветграде были открыты религиозно-нравственные чтения.
В системе управления главное внимание было обращено на те служебные силы, которые по самой своей цели призваны помогать архиерею административным образом. О протекторате тут, конечно, не могло быть и речи. «Места даются священникам, – писал однажды владыка, – по просьбам и заслугам, а не по ходатайству женщин».
Относительно улучшения материального быта духовенства сделано также не мало. Тон и здесь всегда давал сам преосвященный. Являясь в полном смысле заботливым отцом духовенства, готовым во всякое время разделить и горе и радость, Платон стоял в самой тесной, органической связи с духовенством епархии, никогда не отстранял его, не обходил, тем более, конечно, не оставлял без поддержки и защиты.
К 1877 году на архиерейском доме был долг до 15.000, в 1882 году он дошел до 3 – 2 тысяч. Одновременно с уплатой произведены довольно капитальные работы, напр. обновлено все здание архиерейского дома; домовая крестовая церковь расширена и поновлена, прибавлен к старому новый Владимирский придел; во дворе выстроен флигель, улучшены архиерейское помещение и иконостас домовой церкви в Бизюковом монастыре и т. д.
6-го февраля 1882 года состоялось новое назначение Владыки Платона на Киевскую митрополию. Представители всех сословий Одессы торжественно засвидетельствовали свою любовь к отбывающему иерарху. 15-го марта он оставил Одессу, провожаемый массами населения, которое за пять лет успело крепко к нему привязаться.
В Киеве 8-го сентября 1887 года Владыка митрополит праздновал свой 60-летниии юбилей. Скончался 1-го октября 1891 года.
* * *
Литературные труды
«Поучения и беседы» печатал. в повременных изданиях, напр. в Донских Еп. и Херсон. Еп. Ведомостях за 1875, 1876, – 1882 гг. Отдельное издание: «Слова и речи» Платона архиепископа Херсонского (с 1877 – 1880) Одесса. (196 стр.) Реценз. архим. Иосифа. Ц. В. 1880. № 30, 7.
Литература о преосвященном Платоне
Князев: – Псковская и Рижская епархия под управлением преосвящ. Платона (Христ. чтение 1878 г. кн. I). Князев. – Управление преосвящен. Платоном Херсонской епархией с 1877 – 1882 г. (Христ. чтение 1884 г. кн. 9 – 10). Снесарев. – Донская епархия и десятилетнее управление ею архиепископа Платона; вып. I. Новочерк. 1877 г. вып. II. Одесса 1880 г. изд. второе вып. I. Одесса 1881 г. – Пятидесятилетний юбилей служения св. церкви и отечеству высокопреосвящ. Платона. (Из Херсон. епарх. ведом. за 1877 г.) Одесса 1877 г. (198 стр.). Новый архипастырь Киевский и Галицкий высокопреосвящ. митрополит Платон. Киев 1882 года. – Пребывание митрополита Платона в Новочеркасске. Новочеркасск, 1886 г. – Шестидесятилетие должностной деятельности Платона митрополита Киевского и Галицкого. Киев 1887 г. – Памяти Платона митрополита Киевского и Галицкого. Изд. Од. Андр. братствы 1891 г. Мелкие статьи, напр. Прибытие архиепископа Платона в Одессу X. Е. В. 1877 г. 13, 328; 340; 15, 379; Сведения о жизни и деятельности арх. Платона ibid. 15; 393; Благословение Херсонской пастве Донской иконой Божией Матери ibid. 17, 481; Посещение преосв. Платоном Николаева и Херсона ibid. 23, 801; X. Е. В 1879, № 8, 9, 17, 20, 23 и проч. Дон. област. вед. 1877 г. май – июнь. Крылов. – Воспоминания о высокопреосвящ. Платоне, бывшем Донском и Новочеркас. архиепископе. Пастырский собеседник, 1893 года, июнь; – Крылов. – Отношения викария Донской епархии еписк. Никанора к архиепископу Платону.
Архиепископ Никанор (Бровкович)
12 декабря 1883 г. – 27 декабря 1890 г.

Высокопреосвященный Никанор, в мире Александр Иванович Бровкович, был родом из Могилевской губернии и родился 20 ноября 1826 года. Отец его, сельский священник (жил и священствовал в селе Высоком, потом в с. Белой церкви), принадлежал к дворянской фамилии, но дворянские документы рода сгорели в Шилове в доме генерала Зорича, род обеднел и отец Александра Ивановича, о. Иоанн Петрович жил обычной в 20 – 30-х годах простой сельской или деревенской жизнью. «Дорогое детство, – пишет в одном из своих сочинений преосвященный, – сколько оно навевает чисто поэтических, высоко-идиллических воспоминаний. И эти воспоминания, как светлый туман под лучами утреннего солнца, поднимаются особенно с обрабатываемых полей, лугов, лесов, среди которых родились, жили, трудились и померли наши отцы. Мы сами в детстве работали собственными руками, возили и складывали снопы, раскидывали навоз, ездили в лес за дровами, на пастьбу коней и т. д. Мой отец делал по дому все собственными руками, чинил телеги, сбрую, ходил за ульями, возил навоз, драл лядо (расчищал чищобу из леса под пашню), сеял жито, только не молотил по слабости сил и не ходил с сохой – не было обычая. Помню, в свободный час отец со мной, уже гостем баричем, воспитанником образцовой семинарии, выезжал на большое озеро в лодочке-душегубке, с сетями – ловить рыбу, сам чуть-чуть не в натуре. Домой возвращались мы измоченные до нитки, с котомками рыбы, которая прямо из воды, живая, попадала на сковороду. А в воскресный день, в праздничек тот же отец, первый работник на семью, надевал чистый подрясник, приличную рясу и шел в церковь служить свою обедню, свою утреню, а мы (дети) шли петь и читать на клиросе. Вместе с дедом он учил нас грамоте; нежить не любил; употреблял иногда розгу, заставлял писать; сам был очень умен и деятелен; кончил курс воспитания в Могилевской семинарии во втором разряде, хотя шел во всех предыдущих классах в первом и даже в числе первых; молился Господу Богу иногда пламенно; так при совершении для меня напутственного молебна и о просвещении, когда отправлялся я в Петербург в первый раз, он истекал в слезах; никогда этого не забуду; не забуду как он благословлял меня молитвенником. Мать моя учила меня молиться Богу, женщина нрава была самого кроткого, степенная, рассудительная, терпеливая, в высшей степени милостивая, попечительная; в жизни испытала горя много; вообще во многих отношениях, особенно в нравственном женщина образцовая. Помню и бабку мою, – мать моего отца, старушку слабую, воспитанную несколько в католическом духе; рассказывала она мне некоторые священные истории, приучала к молитвам и богослужению, любила петь псалмы; она много содействовала развитию в душе моей чувства религиозного; помню и теперь, как мы молились с ней в саду, обратясь лицом к церкви; она читала тогда молитвы пред св. причастием; помнится, тогда исповедовался я чуть-ли не в первый раз. Семья была большая, но пять человек детей умерло, а в 1847 г. скончался и отец, оставя по себе жену – мать нашу и нас четверо сынов. Ясно помню, как моего старшего брата – Павла взяли в певческую; но отец, вследствие слез матери, выкланялся, вымолил свободу своему сыну – первенцу. Когда пришла моя очередь, я крепко-же плакал, не хотелось мне поступать в певческую. У нас в семье существовали печальные о ней предания. Двое моих родных дядей певчими-же, один исключен из семинарии, другой умер в детстве. У меня и дед был певец и отец был певец, не помню был-ли также певчим; но я и еще двое меньших братьев были. Нас тогда вербовали в певчие, как в старину в рекруты. Меня лишь только привезли в училище, сейчас-же вербовщики, старые певчие, послушав мой голос, объявили, чтоб я шел в певческую. Я по детской неопытности пустился было бежать, чтобы скрыться, но за мной пустились в погоню: «а, мальчонка, нет! нет»! Я стал плакать. Отец ходил было к регенту отпрашивать меня, как отпросил и старшего брата. Но воротившись от регента, говорит, что кланялся, просил; о. регент сначала отговаривал, потом перестал и говорить. «Я кланяюсь, прошу, а он молчит». Отец уехал домой; я со слезами поступил в хор. Помню, уже живя в хоре, я сперва часто плакал, тосковал постоянно. Некто Иовлев, инженерный офицер, так себе дилетант, любитель и знаток пения, часто посещавший певческую во время моих спевок, видя мои слезы, тогда 9-летняго мальчика, говорит; «перестань, Сашка, плакать. Попомни ты мое слово, никогда никакое знание не висит у нас тяжелой ношей на спине. Бог Святый знает, чем придется тебе в жизни хлеб есть». И я тысячи раз вспоминал потом, действительно, это слово молодого светского, но умного офицера. Тем не менее глубокую детскую тоску вырвешь из сердца не вдруг; тем более, что она, бывало, растравлялась приближением всякого вакационного праздника, Рождества, Пасхи, летних каникул. Все радости детского сердца у всех нас группировались около этих веселых дней. Боже! Радости светлых рождественских дней! Боже! Восторги Светлого Христова Воскресенья! красные яйца, весна.... Летняя вакация с 15 июля по 1 сентября, сенокос, жнитво, все летние игры и резвления. Все эти радости существуют для всех других детей, но не для нас, жалких, оторванных от родного гнезда, детей. Бывало, летом выйдешь за огород, увидишь колосящуюся гонимую волнами ветра рожь, идешь один 10-летний мальчик, и тихо слезы льешь... Или забьешься куда-либо в скирды дров, вспомнишь дома братьев, сестер, – детей меньше меня, – которых не видишь вот целые годы, кроме старшего брата, который уехал домой в отпуск из училища, и рыдаешь горькими слезами. Или засядешь где-нибудь в тех-же дровах, или на чердаке, в каком-либо глухом углу и пожираешь Библию от доски до доски, или Четь-Минеи от доски до доски и т. п. Меланхолия, фантазия развивались до крайности. Уже в те годы с певчим товарищем А. Г-м мы сговаривались бежать в пустынный Чонский монастырь, спасаться. Этот монастырь поразил наше воображение, когда мы посетили его при объезде епархии с преосвященным Смарагдом, так как монастырь был расположен в дремучем, сосновом лесу, на совершенно пустынном берегу р. Сожи и там мы в первый раз увидели ветхого старца, схимника, в его черном облачении, обшитом белыми крестами, с адамовой головой, с костями, с священными надписями. С каких-либо 11 лет, вследствие того-же одиночества, я стал пожирать и светскую всю выходившую тогда журнальную литературу – повести, письма Карамзина, романы Загоскина, Лажечникова, Брамбеуса, Марлинского, Булгарина, стихи и прозу Жуковского, Пушкина, Кукольника, Полевого и наконец первые выпуски Гоголя, Лермонтова и т. д. по мере выхода.... На Рождество, на Пасху нас не отпускали потому, что тут-то и петь надо. Бывало подходят праздники, Боже! Сколько радости у этих сотен мальчиков, сотоварищей – учеников, которые с шумом и гамом разъезжаются по домам. А у нас слезы, у нас усиленные труды, ученье особенно напряженное, у нас хмурая бесприютность, казенная служба... Праздники Рождества, Пасхи, принося много труда, приносили сами в себе и свою духовную, отчасти даже и телесную праздничную радость, поздравления, лакомства, свои праздничные игры. Но вакация – это было время самого усиленного певческого ученья. Бывало, мы еще в постелях, еще спим крепким утренним сном, а в комнате, где спевались, обыкновенно, уже раздаются резкие звуки скрипки регента. За это время мы, певчуры, выучивали всю массу концертов, трехголосных, четырехголосных и семиголосных, какие пелись во весь год и множество других пьес – херувимских, задостойников, ирмосов и т. п. А мы на каждый воскресный и праздничный день готовили и пели свой особый концерт. Было множество концертов, которые приурочивались только к одному дню в году, напр. рождественские концерты, на день Православия, на Благовещенье, на неделю Ваий и т. д. Все это мы заучивали, а кто знал, те повторяли все это с недоучками за летнюю вакацию. Выучивали мы это так, что ничего в жизни я так твердо не знал, не изучал и не помню так твердо, как нотные пьесы!
Жилось нам певчим не дурно. Помещение было хотя и не просторно, но удобно. Каждый имел свою особую кровать. Каждый имел тюфяк, простыню, одеяло и подушку и все это содержалось в опрятности... Вид комнат певческой был даже наряден, потому что на карманные деньги, которые хор же и доставлял нам, мы любили покупать картины религиозного и патриотического содержания и ими обвешивали все стены. Покупал положительно каждый из певчих. Кроме того, каждый-же имел собственную лампадку, одну или две, которыми также увешивали стены, поближе к образам. И когда, бывало, в праздник засветим свои лампады, то вид в наших комнатах был и прекрасный, и трогательный. С восторгом, долго вспоминались ночи страстной недели, особенно ночь Страстей Господних, когда мы около полуночи, бывало, возвращались из собора, или ночь на св. Пасху, когда мы зажигали все свои лампадки от звона к деяниям и до 11часов, до ухода всех в собор на светло-пасхальную заутреню. Нет, наше детство прошло поэтически прекрасно, и педагогически назидательно.... Кто заболевал из нас, к тем ездил врач, один или даже два, и это бывало. Над больным регент сидел почти неотступно, сам наблюдая за питанием, за диетой, за подаванием микстур, за уходом. Надо было пережить и почувствовать детским сердцем общий переполох, какой пережил и перечувствовал я, когда меня раз чуть не убило в день Крещения. Когда мы воротились с водосвятия, с Днепра, и в торопливости становились на клирос, а дело происходило в теплой довольно тесной церкви, – то певчие, тискаясь на клирос, сильно толкнули одну из резных колонн иконостаса. Колонна пошатнулась и полетела, но была поддержана руками взрослых певчих. Корона-же с нее сверху полетела вниз; счастье, что также была задержана в падении руками-же других, но упала мне прямо на голову и ударила своим углом в выдающийся угол лба. Сгоряча, с нечаянности я и не почувствовал ровно ничего, кроме того, что мгновенно мне залепило глаза кровью. В ту-же минуту меня схватили, закутали, обвязали платками всю голову и унесли домой. Я даже не понимал ясно, что такое со мной и случилось. Но бегут из церкви все ко мне, не говорю – своя братия певчие, не говорю регент. Еще прежде их прискакал доктор. Входит ректор семинарии, архимандрит. Раз только в этот случай он и посетил архиерейскую певческую. А всему этому главный виновник, владыка Смарагд. Говорили, что когда произошло смятение в церкви, – мальчика-де убило, – то владыка, говоря отпуст, хотя пред тем и раскраснелся было от ходьбы и холода, попав в тепло, но тут побледнел как мертвец. От него приходили посол за послом: «что, как?», пока не успокоили его, что никакой серьезной опасности нет. С тех пор у меня на самом углу лба и остался шрам на полвершка, довольно толстый... Когда, выздоровев совсем, явился я вместе с другими к владыке, он, грубовато лаская меня, т. е. гладя концами пальцев от лба по носу, но с трогательной отческой улыбкой, стоя в пол-оборота, говорит: «Ну, ну, мальчонок, а уж я думал, что ты тово... отправишься ad patres. Уж подумал было – да, да...», повторял он жалостливо несколько раз... Так, – за нами и призирали лучше, чем за родными детьми, почти как за барчатами, и одевали чуть не роскошно и кормили сытно. И тем не менее положение наше, как детей, в архиерейской певческой было подневольное – крепостное, трудовое, неестественно оторванное от семьи в нежном детстве и потому глубоко-грустное, отражавшееся на всю жизнь даже на наших характерах, да и на судьбе. По крайней мере эта оторванность от семьи в детстве, для службы в архиерейской певческой, имела глубокое влияние и на развитие моего смысла и на склад характера и на весь уклад всей дальнейшей моей судьбы».
Александр Бровкович был воспитанником Могилевского духовного училища и семинарии и в тоже время альтом-солистом Могилевского архиерейского хора 7 лет, до 1842 года.
«Томившийся безотчетным томлением по Петербургу, я самым неожиданным ни для кого образом был вызван в Петербург». В 1842 году, когда в Петербург для так называемой образцовой семинарии потребовались лучшие воспитанники из провинциальных семинарий, Могилевское семинарское правление в качестве таких отправило А. Бровковича и И. Заркевича (впоследствии Николай, епископ Новомиргородский).
В Петербургской семинарии Ал. Бровкович сразу же оказался одним из первых, так что ему в 1843 году было поручено приготовить и произнести праздничную приветственную речь митрополиту Серафиму на латинском языке. «В Петербургской семинарии сначала певчий, потом пономарь, перечитавший между множеством всякого рода вещей все богослужебные книги и с первого года в, философии решительно заявивший, что буду монахом, я мечтал вместе с сыном митрополита Иннокентия, Гавриилом Ивановичем Вениаминовым ехать монахом миссионером к его отцу в Камчатку. Он поехал по окончании курса, женившись. А другой субъект? Случилось обстоятельство, – от обер-прокурора графа Протасова через К. Ст. Сербиновича, через профессора, священника Вас. Петр. Полисадова было объявлено, не желает-ли из нас кто-либо ехать в миссию послушником в Иерусалим, или иеродиаконом в Рим. Служить в миссии у гроба Господня, или у гробов первоверховных апостолов, – и подумалось, что вот оно звание Божие. Субъект изъявил свое согласие. Но ректор архимандрит Феогност выразился: «Жаль. Кончил-бы он курс в академии. Был-бы бакалавром». После многих свиданий с решителем судеб, К. С. Сербиновичем, оный решитель судеб решивший и мою судьбу быть по моему желанию мне иеродиаконом в Риме, представил меня еще высшему решителю судеб графу Протасову, обер-прокурору, вельможе, грозе всяких и даже цветных ряс. С особенностями великого барина, в стареньком грязном сюртучишке, выскочив из внутреннейшего кабинета в кабинет внешний, он подставил нос к моему носу, потом к правой щеке, потом к левой; повторив этот маневр несколько раз, он заболтал: «молод, молод, молод, – сколько лет?» – 19. – «Молод, молод, молод!» Покрасневший Константин Степанович: «ус пробивается». – «Молод, молод, молод». С тем граф убежал в кабинет. А Константин Степанович при следующем свидании: «кончите курс магистром. Миссионерство никогда не уйдет; только тогда положение будет другое». Таким образом, вопреки своему желанию я поступил в Петербургскую академию, по слову о. архимандрита Феогноста. В академии скоро стал пономарем (с меня и начался ряд студентов пономарей), к концу года первым по всем предметам, исключая двух; кончил курс первым по всем предметам, исключая одного – церковного красноречия. За год до окончания курса посвящен во иеродиакона, тотчас по окончании во иеромонаха и объявлен бакалавром обличительного богословия». «Пять лет в академии занимался я Делом с усидчивостью, над которой товарищи подшучивали так: «пишем, пишем, а похвал не слышим». А преосвященный Макарий под конец пятого года, когда я принес ему преувесистую тетрадь никому до тех пор неведомой раскольнической библиографии, до тех пор гневный ко мне, выразился: «ну отец Никанор, тут если взять во внимание один механический труд..., то и тут следует подивиться». «Пять лет я читал обличительное богословие и составил небывалые до тех пор записки по несторианству, монофизитству, армянской церкви, католичеству и части протестантства, записки, повторявшиеся в академии и в семинариях (в отрывках) еще в 60-х годах. Написал и издал в свет сочинение: «Разбор Римского учения,» сочинение, заслужившее отличные отзывы митрополита Иосифа, ректора католической семинарии в Саратове каноника Жельвовича и других компетентных людей. Оно и продолжено ненапечатанным разбором творений св. Афанасия Александрийского. По приказанию графа Протасова и К. С. Сербиновича приготовлено было довольно много материалов для сравнительного катехизиса. С третьего года службы в продолжении почти трех лет читал, в так называемом, тогда только что образованном, миссионерском отделении опровержение заблуждений раскола и раскольническую библиографию. По опровержению составил обширные записки. Написал для печати в Христианском Чтении довольно большое сочинение об Антихристе (не было напечатано потому, что было велико, а не будет потому, что предварено в печати сочинением И. Ф. Нильского), довольно большое сочинение о перстосложении, которое одобрено цензурой и Св. Синодом, членом оного преосвященным архиепископом Евгением Астраханским-Псковским, но задержано К. С. Сербиновичем. По раскольнической библиографии, предмету до тех пор неслыханному, написано сочинение (которое продолжал частью и в Риге, и в Саратове) «Описание раскольнических рукописей Александра Б.», которое наделало шуму довольно, а мне наделало немало бед. В то же время, почти полтора года, я читал «Введение в православное богословие». Поручил словесно этот предмет мне преосвященный Макарий, пригласивши меня с положительной стороны следовать «Введению», написанному им самим, обратить главное внимание на отрицательную сторону дела, для чего материалы я мог найти у Перроне, Либермана, Клея, Доб-Майера и др. Я и обратил внимание более на отрицательную сторону, вследствие чего мои лекции возбудили между студентами и в городе говор. Когда же я в начале другого курса решился было критически, с точки зрения Канта, отнестись к ходячим доказательствам бытия Божия, то (то было время суровой положительности) меня при весьма тяжелых для меня обстоятельствах, с немалым шумом низвели с этой кафедры.
Работая в академии много, я полюбил академию и все мои помыслы привязывались к академии. Вот что писал мне в Казань, по назначении меня туда ректором академии, один остроумный человек (А. Я. М.): «незабвенный о. ректор! Долгом сердца считаю поздравить Вас с исполнением Вашего заветного желания – служить в академии хотя бы в последних рядах просвещенных ее деятелей. Судьба медлила исполнением Вашего желания, быть может, потому, чтобы вы, опираясь в своей деятельности на более зрелые лета жизни и на обильно, хотя и больно собранный жизненный опыт, сделались достойным принять как награду и способным поднять, как великий подвиг науку руководства самых руководителей науки, не только ее питомцев, избранных впрочем из известных Вам сотен и готовящихся в избранный десяток на целую епархию. Не мало времени с живым и деятельным участием смотрели Вы на каботажный семинарский промысел науки: теперь Вы в открытом море знания и зорко, с ненасытимым наслаждением, с забвением времени, сил и трудов будете следить и руководить огромными работами великих деятелей, извлекающих из глубины наук светоносные сокровища истины.... Бог – помощь Вам».
Когда мне объявили (25 апреля 1856 г.), что я назначен ректором в первоклассную тогда Рижскую семинарию, на место, которого желателями и искателями были тогда ныне преосвященный Макарий епископ Орловский, преосвященный Гурий епископ Таврический, и – конечно – другие, я почувствовал, что заветнейшие привязанности моего сердца к академии оборвались. Часа два или три я дрожал после первой вести от нервного раздражения. А посылали меня в лестных дли меня видах. И. д. обер-прокурора А. И. Карасевский, любивший повторять: «я знаю его вот с каких пор»..., говорил митрополиту Никанору: «немцы могут уважать только ученого, – в Ригу нужно ученого, – нет-ли у Вас такого?» «Вот о. Никанор.» – «На что же лучше батюшка? – Я знаю его вот с каких пор». В Риге (по 1 декабря 1857 г.) я занимался более живой деятельностью, писаньем на сердцах человеческих; впрочем и писал – вещь, которая тогда всюду носилась в воздухе – правила для воспитанников семинарии, по приказанию преосвященного архиепископа Платона. Листов 100 написал, остались.... Имели следствием разве только то, что частью были препровождены в комитет преобразования семинарского устава; сначала при графе Толстом I кинули на меня тень – все дышало тогда аскетизмом; а после при графе Толстом II, содержанием своим, идеями своими о музыке, гимнастике, вентиляции и живости, приличии и проч. и проч. вошли в состав нового семинарского устава. Невпопад умствовал я только о классических языках. Что в Риге я был беспримерный ректор, об этом можно судить отчасти по образу деятельности моей в Казани. Но ректор академии я был слабым отражением себя, как ректора семинарии. В Риге ежедневно и неопустительно бывал я на утренней и вечерней молитве с учениками, на ужине в столовой с учениками ежедневно, на обеде чуть не ежедневно; в больнице бывал ежедневно; в случае тяжкой чьей-либо болезни несколько раз днем и ночью (до 16 раз, сочтено); тяжким, даже заразным больным сам служил (до целодневного собственноручного оттирания холерных). Всякий ученик помер на моих глазах; всякий мною, при мне обмыт, положен на стол, во гроб, чуть не всякий при мне-же исповедан, всякий мною отпет, провожен и опущен в могилу. В Риге в 1857 г., вследствие тесноты помещения, холерой и холериной поражена была вся семинария; больных зараз имели по нескольку десятков.... Умер один, первый заболевший, который сам запустил понос, не сказывал; прочих мы отстояли. Я чуть не жил в больнице. В Витебске один (Цитович) прибыл с вакации, пораженный холериною; в два часа дня открылась злейшая холера. Я провозился с ним до 4 – 5 час. утра. Совсем умирал; врачи сказали: последнее средство – обернуть несколько раз в простыни, намоченные во льду. Как проделали эту штуку несколько раз, уже по утру на другой день и уложили в сухую постель, – смотрим у него и дыхание прекратилось и глаза вывернулись. Горячий самовар! Греть! Хоть жечь, все равно умирает. Как пустили мы еще горячую струю пара в трубы в желудок, – чу! проговорил: ноги! Греть ноги. И отогрели. Поутру, – а утро такое прелестное – ученики говорят: «у Вас лицо темнеет! Отдохните!» Я и пошел, с час времени соснул, и ничего не случилось. У нашего холерного долго была горячка.... По моим указаниям, под моим непосредственным надзором переставлена была Рижская семинария; перестроенной она и оставалась после меня лет 20, пока не построили новое здание; впрочем и теперь твердо не знаю, построено-ли новое здание. Знаю, что я сам составлял его план. В Саратове я также переставил всю семинарию и духовное училище, всюду гонясь за простором, чистотой и порядком; просил я крепко, не давали; а выпросил 10000 р. уже когда выбыл из Саратова на череду в Петербург. В Витебске я наиотличнейшим образом обновил, украсил и обогатил церковь; составлял проекты перестройки семинарии, устроил гимнастику, какой подобной не видал нигде. Развел целый сад. Хлопотал о насаждении дерев в Саратове, но бесплодно. В Казани проектировал устройство библиотеки, канцелярии, залы, ректорской квартиры, церкви, на что исходатайствовал до 70000 руб. Сам-же и заложил эти здания. Построить не пришлось. В Саратовском монастыре переделал все три церкви, устроил и открыл большое кладбище (что дало хороший источник доходов), построил две часовни, одну каменную затейливую над кладезями. Всего не перечтешь. В Уфе мужское духовное училище построил, женское перестроил; тут-же переделал и освятил церковь; отлично благоустроил красивую церковь в архиерейском доме; беспримерно благоукрасил росписью большой уфимский собор, причем сам чуть не ежедневно лазил по подмосткам под самые своды, а в духовном училище на верх большого здания. Я первый ввел общее пение всей семинарией, – пели не часть службы, а всю службу как обедню, так и всенощную; так и великопостную службу. Я делал самолично общие спевки, и на неделе и перед каждой всенощной, и обедней. Сам и учил петь и читать; сам-же объяснял нередко и дневные чтения из апостола и евангелия. В Саратове-ли, везде-ли (т. е. в Риге и Витебске) за утренней молитвой прочитывалась глава из библии, которую я же и объяснял. В Витебске после вечерней молитвы тут-же в столовой открыты были общие чтения, которыми я-же и руководил, против чего возражала инспекция, как в Казани возражала против ежедневного хождения моего на утренние и вечерние молитвы. («Вы-де налагаете на инспекцию необязательный труд» – это говорилось в Витебске; «Вы унижаете инспекцию» – говорено в Казани и прямо требовано, чтобы я перестал ходить на молитву, но я не послушался.) Я – horribile dictu, -в Риге и Витебске сам учил всю семинарию гимнастике; сам-же и ломался с учениками; это ежедневно.... Да, в Риге, Витебске и Саратове я становился в церквах, с воспитанниками, когда не служил и управлял общим пением. В монастыре в Саратове и в Казани становился на клиросе и дирижировал певчими, как регент. Я ходил в классы за больных наставников в семинариях везде и всегда; а в Саратове преподавал за другого математику чуть не год и держал с учениками экзамен по математике при Иоанникие I (Варшавско-Херсонском). В Саратове я ездил и по квартирам. Везде в семинариях и всегда ученики входили в церковь и выходили на моих глазах. В Саратове, на моих-же глазах пред богослужением происходила всякий раз перекличка учеников; а там учеников бывало больше 400 человек. В Риге летом я-же самолично выводил учеников за город на прогулку, тоже ежедневно. В Витебске мы с учениками самолично спасли квартиру одного протоиерея от пожара, очистив ее до нитки в какую-либо четверть часа; а пожар был во дворе на расстоянии полутора сажени. Раз также выступили было на спасение архиерейского дома и собора от соседнего пожара (ночью), но услуга наша не понадобилась. Собора потому и не выбирали, что стояла масса учеников, которая в случае прямой опасности могла вычистить его в полчаса. И в Саратове летом я-же самолично выводил учеников в горы на прогулку. Я же неотлучно был с учениками во время тогдашних маёвок, или рекреаций, заботясь крепко, чтобы ученики были сыты и имея даже некоторое излишнее угощение. Сам-же и возвращался с учениками пешком по ночам чуть-чуть не к утру. Оттого я и любил учеников семинарий, что делал для них беспримерно много. Студентов я уже конечно не любил оттого, что они бывали грубы и дерзки, не выносили присутствия начальства, не раз меня бессловно, но грубо обижали. Я увидел, что они чуждаются меня, как ректора и я стал держаться от них подальше. Сами-де возраст имеют и очень горды.
В Риге из сторонних кроме лучших из духовенства, я ни с кем не знался. В Риге я пробыл с 16 мая 1856 г. по февраль 1858 г. К 16-му февраля, по железной дороге только от Петербурга до Москвы, я прискакал (едучи днем и ночью) в Саратов, где и прожил по 4-е сентября 1864 года. На Саратов пала самая кипучая пора моей жизнедеятельности. Туда я прибыл 30-летним архимандритом. Я поразил очи и воображение и сердца сколько своим – увы! – даже видом, столько-же – да – и разнообразием способностей. Первую проповедь на вечерни в первый день Пасхи я произнес так, что... не скажу, нужно хвалить себя. На меня накинулось светское внимание.... Я многих отталкивал, как и в Казани оттолкнул светские знакомства, написав письмо Г-ву, как предводителю тогда дворянства, что мне недосужно возиться с светскими, из коих некоторые домогались моего знакомства. В Саратове я однако-же сблизился... с Николаем Ивановичем Костомаровым, многосведущее его я не встречал людей, и Николаем Александровичем М-м.... Костомаров не говорю, что он знал историю и литературу беспримерно широко; он отлично, чуть не наизусть, знал библию, и перечитал многое если не все отрицательное по части библейской критики. Веры был разрушенной, но глубокосердечной. Ходил в церковь чуть не ежедневно, далеко не во все веруя. М-в был величайший, какого я знал, музыкант, крепкий мыслитель гегельянец, образец изящества и светского лоску, необычайно много сведущий, учился в университете и в медицинской академии, привлекательнейший барич; в личного Бога и бессмертие не верил... Я вращался между Сциллой и Харибдой. Время было необычайно, небывало возбужденное, время Герцена, Чернышевского, Добролюбова и tutti quanti..., время Бюхнера, Ренана, Дарвина, Бокля, – время пропаганды Штрауса, всяческих естественнонаучных изданий и чего-чего там еще.... Все это я перечитал. О всем этом перетолковано с друзьями. Дарвина я проглядел в первом выпуске, – на английском языке. Бокля имею в первом издании. Первые труды Костомарова имею от него самого. Особенно много я перечитал геологий, – должно быть все, какие были на русском языке. Бюхнера, Ренана читал в литографиях. Герцена – всего. Ренан – роман; но Штраус, – читал на французском и Гфререр, – проглядывал на немецком, – капитальнее. Немецкий язык в семинарии и сперва я знал по школьному хорошо, в аттестате имею – отлично; в Риге изучал через домашнего лектора; а впоследствии кинул и почти забыл. Французский мне дался легче и помнится крепче, ближе к латинскому, наиболее знакомому. Писал-ли я что-либо в Саратове? Писал постоянно. Написал странную вещь под заглавием «Патерик Саратовского Спасо-Преображенского монастыря», это были мои личные записки, в которых я собрал, было, много, конечно, и трагедий, но еще больше черноты, подмеченной мною в разных концах России, где Бог привел мне проживать. Читавшие говорили, что это сочинение замечательное. И я по моему чувству говорю тоже: оно произвело-бы огромную сенсацию... Из этих записок составилось, было, четыре больших отлично переписанных и переплетенных тома. Материя не была еще исчерпана. Материалов в голове и даже в бумагах была масса. Но я сжег этот пропитанный страданиями, кровью и желчью труд 17 апреля 1866 г., после тяжких колебаний. Так Богу угодно..: Под конец моего пребывания в Саратове я стал изучать местный раскол по особым обстоятельствам, т. е. налег крепко на это изучение, хотя так любительски я изучал его постоянно. Кроме того, по поручению Св. Синода через правление Казанской академии, я писал «Троякое развитие в нашей церкви и в школе катехизических бесед», проект который схоронен в Казанском академическом архиве... По предписанию г. обер-прокурора графа А. П. Толстого писал «Проект преобразования наших семинарий», писал тогда с риском, вопреки известному мне аскетическому направлению, – но так, как впоследствии семинарии наши преобразованы. Не совпал я с совершившимися преобразованиями только в трех пунктах: 1) относительно постановки классических языков; 2) усиления естествоведения и 3) организации в наших заведениях эстетического образования, которое у нас вовсе пренебрежено. По поручению преосвященного Саратовского Евфимия от его имени писал «Проект преобразования духовенства», который за смертью преосвященного Евфимия остался у меня в бумагах. А написана сотня листов, – не менее. Более резкая часть этого проекта под именем «Записки в Бозе почившего преосвященного епископа Евфимия, бывшего Саратовского», представлена в 1864 – 1865 г. духовнику Их Величеств, а от него Государем передана военному секретарю князю Урусову, от которых последовал отзыв: «это писал святой человек», не угадали совсем, писал грешный человек. Тогда-же в Саратове по поручению обер-прокурора А. П. Ахматова я писал «о современном состоянии Саратовского раскола», на основании дел Саратовской консистории, написал не одну сотню листов. Две части этих записок представлены Ахматову, но он низвергся и труд мой похоронен. Но если-бы он был напечатан в ту пору, то произвел бы огромную сенсацию. А теперь может быть и останется только сборником материалов, которые со временем могли бы пригодиться. Этим трудом я занимался и в Петербурге, когда был на череде в 1864 – 1865 годах.
Пребывание в С.-Петербурге на череде показало мне, что мне нечего смотреть
«выспрь быстро,
«как птиц царь,
«порх вверх
«на Геликон», –
что нечего заглядываться на геликоны, а нужно беречь сытный кусок хлеба и теплый угол.... Но и тут под конец моего почти трехлетнего пребывания в Витебске я побужден был заняться: 1) «Записками по основному Богословию», которые читал и в Казанской академии; 2) «Разбором и переводом Филона», 3) разбирал и решал самые многосложные дела Полоцкой духовной консистории. Тут-же кроме посильного труда по отправлению моих обязанностей я напечатал свое довольно пространно сочинение (9 печатных листов): «Разбор Римского учения о главенстве на основании творений Св. Афанасия» и докончил обширное сочинение «О перстосложении».
29 Июля 1868 г. архимандрит Никанор быль переведен на должность ректора Казанской духовной академии. В Казань он приехал 25 августа. «Для Казанской академии, – пишет профессор П. Знаменский в своей истории Казанской духовной академии вып. I стр. 252 – 266, – было большим счастьем, что она получила такого ректора, как архимандрит Никанор». В Казанскую академию он поступил в полном мужестве своих сил, и в лучшую пору жизни для приложения этих сил к научной и административной деятельности и сразу твердой ногой стал на полной высоте своего положения. Академия не имела еще ни одного ректора, так универсально образованного, в полном смысле человека науки, высокого богослова и философа и вместе с тем знатока нескольких специальностей из области светских наук, сильного мыслителя и вместе эстетика, с замечательно развитым вкусом, особенно в музыке и в общей литературе. На первых порах, знакомясь с состоянием учебной части в академии и входя в близкие учебные сношения с преподавателями во время бесед с ними и посещения их аудиторий, он ясно показал, что будет не начальственно только заведующим учебной частью академической жизни, но вместе личным и живым участником в ее течении, даже главным работником в достижении ее целей, стоящим во главе прочих ее работников. Непосредственно по приезде он занял кафедру основного богословия и с первых же месяцев своей службы стал усиленно работать для академического журнала. Рядом ученых статей, помещенных им в этом журнале в 1868 и 1869 г.г., он значительно восполнил прежнее издание своего известного богословского труда против католичества «О видимом главенстве в церкви» и в 1869 году получил за него степень доктора богословия. Это был первый и единственный доктор богословия, получивший эту степень в Казанской академии при действии прежнего академического устава.
Состояние учебной части в академии он знал во всех подробностях. Не было науки, за преподаванием которой он не следил-бы изо дня в день, то по журнальным записям, то по отчетам студентов, то по частым личным посещениям аудиторий. Ежедневно по одному из студентов младшего и старшего курсов должны были утром являться к нему с отчетами и передавать содержание прослушанных накануне лекций по всем предметам. Это было нужно ему, как он сам высказал одному из студентов, для того, чтобы ориентироваться в своем положении и видеть в каком состоянии находится академическая наука; в тоже время такая передача лекций давала ему возможность знакомиться с самими студентами. Не раз он вступал, с наставниками в личные беседы об их преподавании, откровенно высказывал при этом свои собственные взгляды на научные вопросы, и свои желания относительно постановки той или другой науки в академическом курсе, делать откровенные замечания касательно того, что в лекциях их ему не нравилось, никого впрочем не обижая и отдавая трудам каждого должную честь по достоинству... Многосторонне развитый, много испытавший и много потерпевший на своем веку, хороший психолог, и вместе человек вполне сердечный и искренний, умевший и понимать других и сочувствовать им, он невольно вызывал на откровенность и искренность и сам до экспансивности был открыт душой для всех. По самому своему характеру он не любил делать что-нибудь в одиночку, единолично своей властью, а всегда в каждом деле стремился заинтересовать и других, поставить это дело непременно в значение дела общего и вершить его общими единодушными усилиями. Эта почтенная и крайне еще редкая в тогдашнее время черта его административной деятельности, как нельзя лучше сходилась с новыми потребностями его времени, накануне академической реформы и установления советского самоуправления и особенно дорогой оказалась во время самой реформы, которую потом в 1870 г. пришлось ему-же и осуществлять.
Своим живым участием в общем деле служения академии, своим симпатичным обращением со всеми наставниками и почти товарищеской к Ним близостью, он в самое непродолжительное время успел сделаться живым центром всей академической корпорации и соединить ее около себя в одну дружную и одушевленную семью. Во время разных академических торжеств она вся собиралась в его гостеприимной келье на общие обеды, или полусемейные, полуученые вечера, на которых господствовала полная искренность добрых отношений между хозяином и гостями и в живой беседе еще более скреплялась общая их связь; это был приятный и вместе полезный отдых после обычной будничной работы, с которого, кроме освежения сил всегда выносилось еще что-нибудь плодотворное и для последующего будничного делания, а главное – выносилось сознание единства общих интересов и общего служения. В этих академических торжествах охотно принимал участие и владыка Антоний, любивший академическую компанию. Он часто откровенно высказывал среди нее все свои огорчения от не нравившихся ему новых порядков в церковных и учебных делах и видимо отводил здесь свою душу.» «Ректор был великий хлебосол», рассказывает один из учившихся при нем (А. Л. Крылов), хорошо его знавший и впоследствии. «Он любил соединять у себя людей даже враждебно настроенных друг к другу. Так делал он в Саратове, в Полоцке, и впоследствии в Новочеркасске. Сам он не охотник был ни есть, ни пить, но любил, чтобы собравшимся у него гостям было весело. Нужно сказать, что у него никогда не было запасных денег, это был в собственном смысле бессребреник, он жил от жалованья до жалованья; ежемесячно он рассылал множество денег различным лицам, нуждавшимся в пособии».
Подчиненные сослуживцы видели в нем не только умного начальника, но и действительно лучшего человека, который входил в их интересы, умел их понимать и сочувствовать им.... «В декабре 1868 г., в первый-же год по приезде, все заметили, с каким добрым участием он отнесся к кончине несчастного бакалавра Рудольфова, как сам лично распорядился при себе омыть и убрать одинокого покойника, о котором некому было позаботиться родственным образом. В 1870 г. он принял горячее участие в кончине жены профессора Ивановского, молодой женщины, отличавшейся редким, образованием и прекрасными душевными качествами и в утешение упадавшего духом вдовца, почтил усопшую надгробным словом и сам написал ее некролог и описал погребение. Осенью того-же года, добрая человечная душа ректора Никанора трогательно проявилась при погребении одного из меньших академических братий – старого служителя академии Осипа Самохвалова, прослужившего при ней свыше 25 лет с необыкновенной честностью; знаменитый вития сам почтил погребением этого маленького, но заслуженного человека и сказал над его гробом глубоко симпатичное слово».
Избранный высокопреосвященным архиепископом Донским Платоном в викария, архимандрит Никанор, 30-го июня 1871 г. был наречен, а 4-го июля хиротонисан во епископа Аксайского, викария Новочеркасской епархии. Судя по имеющимся памятникам пятилетнего пребывания преосвященного Никанора в Новочеркасске, большую часть времени он уделял здесь научным работам. В 1872 – 1873 г. писал первые два тома своего капитального сочинения «Позитивная философия». 1874, 1875 и 1876 год были специально посвящены изучению естественно-научных взглядов на происхождение мира и человека. Преосвященный подготовлял для печати сочинение «о Дарвинизме», намереваясь напечатать его в качестве III тома своей «Позитивной философии». Насколько широко вопрос был им поставлен и разработан, можно судить по перечню систем, подвергнутых критике (правда не конченной). Ляйэлль, Гексли, Циммерман, Катрфаж, Мор, Котт, Герм. Креднер, Траудшольд, Фохт, Дю-Прелль и др. группируются вокруг Дарвина, существенные положения их выделяются и ставятся в качестве тезисов, которые подлежат критике. Проповедей преосвященный, в сане епископа – викария, почти совсем не говорил. К 1871 и 1873 году относится самое большое число – 14 бесед и речей. В 1872 и 1874 г. не произнесено ни одной проповеди. В 1875 г. – пять поучений». К этому периоду принадлежат также и статьи литературного характера, напр. «Иоанн и Смарагд архиепископы».
25 декабря 1876 г. последовало назначение преосвященного Никанора на кафедру епископа Уфимского и Мензелинского, а 12 декабря 1883 г. он за свою блестящую проповедническую и административно-миссионерскую деятельность переведен в Одессу и здесь во внимание к отличному служению и особым пастырским трудам 20 марта 1886 г. возведен в сан архиепископа.
Служение преосвященного Никанора на кафедрах Уфимской и Одесской – факт самого недавнего прошлого. Впечатления свежи, воспоминания отчетливы. Но пока множество документов официального характера, относящихся к сфере его административной деятельности остаются в архивах, пока многие из работ его от этого 14 летнего периода не обнародованы, все характеристики, все очерки жизни преосвященного в Уфе и Одессе будут носить печать отрывочности, неполноты, недоконченности. Образец таких биографических работ – «Воспоминания о Никаноре, архиепископе Херсонском» – Зефирова, напечатанные в Страннике за август – декабрь 1893 г. Автор описывает здесь большей частью личные впечатления, вынесенные от первого священнослужения, обозрения городских церквей, совершенного преосвященным Никанором, говорит о посещении им причтов в Уфе, об отношениях его к консистории, семинарии, духовным училищам – мужскому и женскому, о проповеднической деятельности, насколько она связывалась с Уфимской семинарией и отчасти с кафедральным собором, вспоминает об обозрении епархии преосвященным Никанором и т. д. Правда, и по этим воспоминаниям видно, что, как епархиальный архиерей – преосвященный Никанор был сила великая, личность одаренная богатым творчеством, неутомимой энергией, восстановитель святынь, поборник древнего православия в о всем, особенно церковно-богослужебной практики, прозорливый администратор и т. д. и т. д.; но автор умалчивает о более главном, а именно, как и насколько служение преосвященного Никанора в сане епископа Уфимского перевоспитало и двинуло вперед по пути религиозно-нравственного и просветительного развития Уфимскую паству; какие меры им были приняты по миссионерской части и каких результатов он достиг, какое участие словом и делом он принимал в общей жизни края, хотя-бы напр. в годы восточной войны; сколько забот положил, чтобы создать возможно более храмов, – опорных пунктов православия; насколько широко раскрылся его проповеднический талант сравнительно с прошлым периодом (до 1877 г.).
Эти пробелы по возможности и пополним.
Нагляднее всего обстоит проповедническая деятельность епископа Никанора в Уфе. В 1877 г. им произнесено на разные случаи церковной общественной жизни 40 поучений и речей; в 1878 г. – 14; в 1879 г. – 21; в 1880 г. – 19 поучений и слов; в 1881 г. – 1882 – 1883 г. – 55. Все эти проповеди представляют не только обширные трактаты, излагающие и разъясняющие разнообразные вопросы веры и знания, но вместе и собеседования церковно-публицистического характера, где главной темой являются назревшие существенные задачи и запросы современной жизни. Вместе с проповедническими трудами шла вперед и научная деятельность преосвященного. В 1881 – 1883 г. он работал напр. над третьим томом «Позитивной философии». В 1880 г. составил памятную записку о жизни ученого монашества 60-х год под несколько странным заглавием «Прежде смерти умерший иеромонах Валериан». В 1879 г. – статью «Памяти преосвященного Смарагда»; в 1883 г. – написал апологию «Архиерейский певческий хор при преосвященном Смарагде».
О степени и напряжении просветительного влияния и миссионерских забот сам преосвященный, подводя итоги деятельности в Уфе, говорит в своей ответной речи на приветствие Уфимского городского головы Волкова следующее. «Скажу смело, здесь я был зрителем великой перемены. Я объехал здесь не только города и села, не только множество деревень, но много и таких пунктов, иногда даже без названий, куда пока не проникал еще никакой культурный экипаж. Хмуро и узковато многое показалось мне сначала. Даже в подгородних селах, в первый год моего путешествия, меня встречало в церквах точным счетом от 5 до 11 человек, включая в это число и священника со всем причтом; а русское население при моем въезде в села, случайно постаивало у своих изб, да поглядывало на меня в пол-оборота, с полнейшим равнодушием и рассеянностью почесывая обращенные ко мне свои спины... Но смею сказать, что в том-же году, во вторую мою поездку, эту рассеянность, это равнодушие унесло ветром не знаю куда, должно быть за Уральский хребет, в туркестанские степи. Сряду же я стал видеть всенародные встречи многотысячные, где выходили все от стара до мала, со святыми иконами, с русским хлебом-солью, с пением и ликами, с длинными крестными хождениями. По ночам видывал иллюминации, которые освещали ночную темень на несколько верст кругом. Проезжал с экипажем по путям, где до меня люди перемещались то пешком, то на лыжах, или только верхом и целые десятки верст этих дорог нарочно прокладывались к моему проезду вольным трудом православного и даже инородческого населения, при доброхотном, но далеко не принудительном участии полицейских чинов... В некоторых пунктах не один десяток верст, по прежним едва-едва намеченным путям, прекрасно уложен по инициативе единственно местного священника, истинного миссионера – цивилизатора, проложен в таких лесах, где я видел невиданное, почти немыслимое в наши дни зрелище леса почти девственного, в котором громадные деревья умирают на корню и обгнивают, так что все ветви уже отвалились, а стоит пока один облезлый ствол, заостренной верхушкой подпирая небо... Я не богатырский клич кликнул по этим пустыням, а просто с тяжкой болью сердца тихо вздохнул: «Господи, да эти же люди живут без церкви и религии! Да здесь-же церкви нужны», – и церкви выросли везде, где я указал, ни в одном пункте я не был обманут. В некоторых-же сами указания мои были предварены исполнением, по инициативе самого народа... Я говорил народу и повторял: «не обременяйте себя, в 10 лет можете построить церковь». А глядишь церкви строились меньше, чем в 10 месяцев – церкви обширные, совершенно благоустроенные, всем нужным вполне обзаведенные. От крестьянина до купца и боярина все спешили нести на Божие дело свои лепты от грошей до сотен и тысяч рублей. Недавно построенные церкви сгорают зимой, – к лету вполне готовы новые и уже освящены... Во многих приходах не только в селах, но и по деревням, не только в церквах, но и на площадях и полянах, нас встречали всенародным и уже вполне благоустроенным пением мужчин, женщин и детей, пением не только некоторых церковных песней, но и всего чина литургии, как и многих песней утрени и особенно праздничных. Училища и заводятся и работают повсюду, даже по деревням. Радовали особенно инородческие миссионерские училища, питомцы которых всюду образовали хорошие хоры, поют по-славянски и на инородческих языках как по церквам, так и по домам и во время крестных хождений.
Кладбища, которые по городам и селам я посетил почти все, а по деревням многие, которые прежде поражали меня по местам – скажу просто безобразием, теперь принимают повсюду приличный, если и не везде пока еще благолепный вид... От местного старообрядческого населения и не видел ни одного случая резкости. Наоборот, видел такие проявления мягкости и доброхотства, которые меня изумляли и трогали. Видел старообрядческих детей, которые в церквах замешивались в толпу православных детей и охотно отвечали на мои вопросы по Закону Божию. Во всех центрах старообрядчества, в училищах я находил детей, которые усердно учатся Закону Божию у православных священников. В единоверческих-же поселениях, как и в монастыре, в церквах, кельях и домах принимали нас священнолепно, с пением и ликами, кланялись нам доземно, принимали наше архиерейское благословение; радовались, что мы отстаивали в церквах длинные единоверческие службы; в двух местах держали к нам долгие обдуманные благодарственные речи, а просто благодарственные речи говорились нам везде... Магометанское население всюду встречало нас с радушием, услужливостью, доброхотством, которым не могу дать иного названия как величайших. Это – запрячь лошадей в пять минут десятками и сотнями рук, почти снести экипаж с горы на руках, на руках-же поднять на крутую гору, хоть подержаться за экипаж, почти перенести через реку, – мусульмане это первые. С великим радушием во время моих путешествий встречали меня все магометанские общества, выходили муллы с приветствиями; а в некоторых обществах встречали всенародно с русским хлебом-солью и обдуманными приветственными речами. Встречали приветствиями, провожали молитвенными благожеланиями.»
В области управления преосвященный Никанор проявил в Уфе изумительную деятельность, беспристрастие, правдивость и благородство в высокой степени. Много истинно отеческих забот приложил он к благоустройству духовно-учебных заведений епархии. Епархиальное женское училище при нем преобразовано из трехклассного в шестиклассное, почти вдвое увеличено и в объеме зданий, с присоблениями их к новому строю и в составе воспитанниц, которых в 1883 г. было 194, а в 1876 – 112. Постройка новых и просторных зданий для Уфимского (мужского) училища при нем начатая, к 1883 г. была почти кончена. В Уфимской духовной семинарии с корнем устранены нестроения мешавшие правильному ходу учебно-воспитательного дела. В 1879 г. по инициативе преосвященного Никанора и под его руководством стали издаваться Уфимские Епарх. Ведомости. Во всем духовенстве епархии поднято и развито сознание своего достоинства и долга; ни один из достойных священнослужителей, – а таких при Никаноре обнаружилось громадное количество, – не оставлен без той или другой награды...
12-го декабря 1883 преосвященный Никанор перемещен в Одессу епископом Херсонским и Одесскими. Это было последнее место его служения, где его талант и энергия проявились наиболее ярко и блестяще. Здесь он получил сан архиепископа (20-го марта 1886 года) и многие знаки отличия (греческий Спасителя – 5 августа 1887 г., черногорский Даниила I ст. – 23 октября 1889 г., Александра Невского – 1 апреля 1890 г.; в 1889 г., одновременно с митрополитом Киевским и Галицким Платоном, избран членом Императорской академии наук); отсюда – из Одессы он был вызываем, в Петербург для присутствования в заседаниях Св. Синода; здесь с особенной силой и блеском проявился его проповеднический талант, причем он смело и горячо выступал с обсуждением целого ряда общественных вопросов, стараясь внести в разрешение их свою мысль, свое слово, свое чувство. Всем памятны его беседы и речи о графе Л. Толстом и его воззрениях, о различии цивилизации немецкой и русской, об еврейском вопросе, о католицизме против В. Соловьева, о штунде, о дворянстве и семинарском образовании, о назначении женщины и женском образовании, о патриотизме и космополитизме, о собственности и о множестве других предметов, которые волнуют умы, возбуждают полемику, отражаются в жизни. Всем хорошо известно также, что в проповеднических трудах архиепископа Никанора, от времени пребывания его в Одессе, особенно ярко сказался его высокий дух. По отзыву одной из русских газет, «отличительными чертами их были смелость мысли, самостоятельность взгляда, чрезвычайная простота в соединении с образностью языка и, наконец, необычайность тем, трактуемых с церковной кафедры. Все эти особенности проповедей высокопреосвященного Никанора создали ему популярность, если не совершенно небывалую, то во всяком случае редкую в России» и сделали имя его известным на Западе.
Управляя Херсонской епархией, высокопреосвященный Никанор обратил особенное внимание на борьбу с распространившимся на юге штундизмом и в этом деле успел достичь весьма благотворных результатов. Церковное пение не осталось также без его внимания: по инициативе владыки во всех церквах Одессы, а затем и в храмах других городов, местечек и сел епархии было введено церковное пение великознаменного древне-русского распева, переложенное на ноты лично самим преосвященным. Не мало трудов и энергии было затрачено им и на уничтожение укоренившихся в церковном пении отступлений от истинно-русского общеславянского духа церковных песнопений. Не мало трудился он в Одессе и в области научных богословских, исторических и философских изысканий. Здесь же в Одессе он и заболел и скончался от рака желудка преждевременно, в ночь с 26 на 27 декабря 1890 года, найдя в себе еще 25 декабря достаточно душевных и телесных сил, чтобы написать краткое, но сильное и глубоко трогающее душу «Слово в день Рождества Христа Спаса нашего».
* * *
Литературные труды архиепископа Никанора
1) Беседы и поучения Никанора епископа Уфимского. Уфа 1883. (Изд. I.) стр. 1 – 475. Реценз. Цв. Общ. Вестн. 1884, № 10, 5 – 6; Стран. 1884, I, 370 – 385; 767 – 780. Беседы и поучения Никанора епископа Херс. и Одес. (изд. II) т. I – 1884; II – 1885; III – 1886; IV – 1887 г. Поучения, беседы, речи, воззвания и послания Никанора архиепископа Херсонского и Одесского. (изд. III) 1890 – 1891 г. в 5-ти том.; V т. посмертный с портретом и краткой биографией преосвященного.
Светская и духовная печать о духовенстве. Воспоминания бывшего альта-солиста. С.-П. 1884 Правда против хулы (по поводу посмертной клеветы на митрополита Антония) С.-П 1885. О классицизме в духовно-учебных заведениях. (Стран. 1886, № 6 – 7.). О классицизме. Мысли Филарета Московского и Иннокентия Харьковского (Стран. 1890. № 4). Кончина преосвященного Евфимия епископа Саратовского (Стр. 1864. 12).
2) Позитивная философия и сверхчувственное бытие С.-П. т. I, 1875 г.
ХIII – 401 стр.; т. II, 1876 г. ХIV – IV – 459 стр.; т. III 1888 г. VI – 498. – Можно-ли позитивным философским методом доказать бытие чего-либо сверхчувственного – Бога, духовности и бессмертия души? (Прав. Соб. 1871, II 41. III.). Сравнительное значение христианской дуалистической и современной монистичекой системы мировоззрения. (Прав. Обозр. 1885 г. № 2). – Философия нигилизма (Прав. Об. 1882, № 5 – 6). Философия эволюционизма (Стр. 1884, № 1). О том, что вера есть знание (Прав. Обозр. 1886 г. № 2). Направление и значение философии Грота (Пр. Об. 1886, № 10).
3) «Об антихристе». «О крестном знамении» (ненап.). «О святительском жезле» (Хр. Ч. 1853 г.) «Об изображении св. евангелистов в обличение неправды мнимых старообрядцев» (Хр. Ч. 1854 г.). – «Описание некоторых сочинений, написанных русскими раскольниками в пользу раскола». Записки Александра Б. Ч. I и II. С.-П. 1861, изд. Кожанчикова. О перстосложении для крестного знамения и благословения. Беседа Никанора архиепископа Херсонского. С.-П. 1890, 378 стр. О перстосложении для крестного знамения и благословения в обличение неправды мнимых старообрядцев (Прав. Соб. 1869, II. 1, 95, 191, 310, III, 3.). Описание иконописных перстосложений для крестного знамения и благословения, изображенных в Псалтири – рукописи XVI в., принадлежащей библиотеке Казанской духовной академии (Пр. Соб. 1869, III, 103, 185, 288.). Вопрос о перстосложении для крестного знамения и благословения по некоторым новоисследованным источникам (Прав. Соб. 1870. I, 49, 130, 220. II, 212,330. III, 29, 83). Цареградская церковь Св. Софии – свидетельница древне православного перстосложения (Прав. Соб. 1870 г. I, 291. II. 46, 144. III, 185, 286.).
4) Разбор римского учения о видимом (папском) главенстве в церкви, сделанный на основании св. Писания и предания первых веков христианства до I вселенского собора включительно. Казань. 1871 г. Беседа о том, есть-ли что еретическое в латинской церкви? С.-П. 1889. 93 стр.
Литература о преосвященном архиепископе Никаноре
а) Некролог и краткая биография X. Е. Вед. 1891 г. № 1 – 2. Памяти в Бозе почившего Никанора архиепископа Херсонского и Одесского. М. 1891 г. Памяти высокопреосвящ. Никанора архиеписк. Херсон. и Одесского. Составлено и издано под редакцией профессора Беляева. Казань. 1891г. Никанор архиепископ Херсонский и Одесский и его учено-литературная деятельность. Красносельцев. Одесса 1893. Памяти в Бозе почившего архиепископа Никанора. Крылов – Новочерк. 1893. Его-же. архиепископ Никанор как педагог. Новоч. 1893. Его-же. Воспоминание о митрополите Платоне и викарии его епископе Аксайском Никаноре. Паст. соб. 1893 г. май – июль. Зефиров. Мои воспоминания о преосвященном Никаноре за время его пребывания на Уфимской кафедре (1877 – 1884 г.). Стран. 1893, 7 – 12. Последние дни пребывания в г. Уфе преосвященного Никанора. Изд. ред. Уфимск. Епарх. Вед. Уфа 1884. Русский Пал. 1887. № 6. Биография преосвященного Никанора.
б) Отзывы и статьи по поводу его ученых трудов. Нильский. Отзыв о сочинении «Описание некоторых рукописей, написанных раскольниками в пользу раскола» Хр. Чт. 1861. Июнь, стр. 467. Милославский. – Позднее слово о преждевременном деле (страница из истории русской философской мысли). Прав. Об. 1879. 2, стр. 265 – 292. II, стр. 500 – 522. (о первых двух томах позитивной философии). О II т. В. С. Соловьев. Опыт систематической философии. Прав. Об. 1877, 5, стр. 109 – 119. Ибервег. История новой философии. С.-П. 1890 и в ней, философия русских. Колубовского. стр. 584, 585. Беседы и поучения Никанора арх. Херсонского и Одесского. Отзыв о IV томе Новочерк. 1888.
* * *
Мурзакевичу
За пользование рукописным сборником этих писем графу Протасову под заглавием «Письма Преосвященного Иннокентия архиепископа Херсонского и Таврического» – (всех писем 8, ведены в форме дневника) считаем приятным долгом выразить свою глубочайшую благодарности. о. протоиерею А. Г. Лебединцеву
Наша светская и духовная печать о духовенстве. Воспоминания бывшего альта солиста А. Б-а. С-П. 1884 г. стр. 47 –67.
