Часть пятая. Идеализм
Интерес о. Павла Флоренского к античной философии имел в своей основе и научные, и биографические основания. В МДА о. Павел в течение многих лет читал систематический курс по античной философии (о содержании этого до сих пор не изданного курса см. Т. 2 С. 738–741) и опубликовал ряд глубокомысленных статей в «Богословском вестнике». Особое место в античной, равно, как и в общей истории философии отводилось Платону. Можно даже утверждать, что Платон не только оставался любимым философом о. Павла на протяжении всей его жизни, но и был для него единственным философом в полном и лучшем смысле этого слова. Флоренский рассматривал платонизм, как явление исключительное и не имевшее аналогов в истории мысли. Платон выступал в роли масштаба, и о. Павел противопоставлял Платона Канту, Гегелю, всей западной, по его мнению, субъективистской и иллюзионистской традиции. Не всегда эти противопоставления были обоснованы, а оценки справедливы, но не подлежит сомнению, что Флоренский был глубочайшим толкователем платонизма. Выдающийся знаток античности и Платона А. Ф. Лосев о работах о. Павла «Смысл идеализма» и «Общечеловеческие корни идеализма» писал: «Есть, наконец, еще один автор, на этот раз уже русский, который дал концепцию платонизма, по глубине и тонкости превосходящую все, что когда-нибудь я читал о Платоне. Это – П.А. Флоренский.
Его имя должно быть названо наряду с теми пятью-шестью именами, которые знаменуют собой основные этапы понимания платонизма во всемирной истории философии вообще... Новое, что вносит Флоренский в понимание платонизма, это – учение о лике и магическом имени. Платоновская Идея – выразительна, она имеет определенный живой лик... Такое понимание платоновской Идеи дало возможность Флоренскому близко связать ее с интуициями статуи и, в частности, с изображениями богов и употреблением их в мистериях. Понимание Флоренского воистину можно назвать мифологическим, и в полном смысле, магическим пониманием, потому что ни Гегель, ни Наторп, давшие до Флоренского наиболее яркие и ценные концепции платонизма, не дошли до Идеи, как самостоятельного мифа, как лика личности, а только дали – самое большее – логическую структуру мифа. Это, конечно, тоже необходимо. Но все же, диалектика мифа не есть еще мифология, и смысл мифа не есть сам миф. Узрение смысла мифа не есть еще творческое узрение самого мифа. Символически-магическая природа мифа – вот то подлинно новое, почти небывалое, что Флоренский вносит в мировую сокровищницу различных историко-философских учений, старающихся проникнуть в тайны платонизма» (Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. С. 680). Признавая достоинства «нового понимания», сложившегося в 1915 г. у Флоренского (Там же. С. 685), Лосев со всей определенностью и категоричностью пишет о своих расхождениях с Флоренским. «Кратко свое расхождение с Флоренским в понимании античного платонизма я формулировал бы так. У Флоренского – топографическое понимание платоновской Идеи, у меня же – скульптурное понимание. Его Идея слишком духовно-выразительна для античности. Моя платоновская Идея – холоднее, безличнее и безразличнее; в ней больше красоты, чем интимности, больше окаменелости, чем объективности, больше голого тела, чем лица и лика, больше холодного любования, чем умиления, больше риторики и искусства, чем молитвы. В связи с этим, и магизм становится у меня более телесным и тяжелым, менее насыщенным и напряженным и даже совсем отходит на второй план» (Там же. С. 692).
Нам представляется не менее важным еще одно расхождение между двумя выдающимися трактовками платонизма в русской литературе, на которое указывает А. Ф. Лосев, говоря о том, что у Флоренского остается в стороне трансцендентально-феноменологическая и диалектическая природа мифа («...никакой Флоренский не может убедить в ненужности для философа этой чисто логической точки зрения». Там же. С. 517). Это «расхождение» обусловлено двумя исключительно глубокими, но, вместе с тем, различными толкованиями диалектики в русской философии начала XX в., авторами которой были Флоренский и Лосев. «В чем смысл диалектики? – спрашивал Флоренский. – В целостности. Тут нет отдельных определений, как нет и отдельных доказательств. Что же есть? – Есть все нарастающий клубок нити созерцания, сгусток проникновений, все уплотняющийся, все глубже внедряющийся в сущность исследуемого предмета...». Работу о. Павла «Смысл идеализма» можно рассматривать в качестве замечательной иллюстрации вышеприведенного высказывания о диалектике. Для мысли Флоренского характерно кружение, хождение окольными путями, движение вперед и назад – именно этот метод определил необычайное богатство тем и попутно, как бы, случайно, сделанных открытий. Только таким образом можно объяснить необходимость привлечения портретной живописи, психологии восприятия, оккультизма, магии, математики и поэзии для обсуждения учения Платона об идеях. Что же касается логических определений, то необходимо согласиться с мнением А. Ф. Лосева. Для Флоренского логика важна, но не имеет самостоятельного значения; вне этого «клубка созерцаний» нет пути от одного определения к другому. И дело не только в том, что Флоренский сторонник «опытного» знания. Его неповторимый метод в своей основе предполагает чисто интуитивное прозрение в сущность вещей – буквально, видение и опрашивание вещей, что в полной мере и проявилось в замечательном толковании идей у Платона.
Из других упоминаний работы Флоренского «Смысл идеализма» отметим следующие: С. Н. Булгаков ссылается на результаты работы о. Павла и пишет, что «учение Платона об идеях, как основе познания, может быть понято, как учение о мифической структуре мысли...» (Булгаков С. Н. Свет Невечерний. М., 1917. С. 79. Еще одна ссылка: с. 217); Г. Г. Шпет отмечает у Флоренского «изящно проведенную схематику возможных типов учений, построенных на комбинировании идеи, вещи, понятия, термина» (Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова. М., 1927. С. 131); В. В. Зеньковский многократно цитирует работу Флоренского и полемизирует с ним относительно манеры «не у одного, впрочем, Флоренского, – несколько свысока относиться к западной философии...» (Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Париж, 1950. С. 417); Н. О. Лосский пишет, что «учение Флоренского об идеях Платона как живых конкретных личностях, а не абстрактных понятиях также имеет высокую цену» (Лосский Н. О. История русской философии. М., 1994. С. 204).
Об оценке работы о. Павла за рубежом всерьез говорить не приходится, по причине отсутствия переводов. Тем не менее, отметим, что выдающийся немецкий философ М. Хайдеггер, в своей работе «Учение Платона об истине» (Курс лекций 1930/31 г. Публ. 1942 г.), по ряду вопросов высказывает положения, весьма близкие Флоренскому. Так, он пишет, что «сущность идеи заключается в свечении и зримости» (Heidegger М. Wegmarken. Frankfurt am Main, 1978. S. 223), отмечает сложную судьбу термина «идея» и свершившуюся в истории западной метафизики, в связи с его неправильным пониманием, «подмену истины».
Впервые опубликовано в кн.: В память столетия (1814–1914) Имп. Московской Духовной Академии: Сборник статей, принадлежащих бывшим и настоящим членам академической корпорации. Ч. 2. Сергиев Посад, 1915. С. 41–134. Текст печатается по первой публикации, с исправлением ошибок.
А. Т. Казарян. Примечания А. Р. Фокина.
Смысл идеализма (метафизика рода и лика)74
I
Термин платонизм известен всякому. Не менее известно и то, что явление, обозначаемое этим именем, не только было силой, но и непрестанно есть типическое выражение внутренней жизни. Однако, и в порядке историческом, и в отношении духовном, платонизм – явление чрезвычайно сложное, – настолько сложное, что до сих пор историки мысли не привели его в ясность. Это – венок разнообразный: тут – милые пахучие травы родных полей, но тут же – таинственные орхидеи Востока; у корней аттических яворов здесь почиют на водах священные лотосы Нила. Дать точную характеристику платонизма – кто взял бы на себя столько притязательной смелости? И даже когда Вы спросите: «Что такое платонизм?», мне придется сказать: «Увы, не знаю». Но не я один. Свое вынужденное поп liquet – не ясно – я разделил бы со знатоками истории, мысли и культуры. «И в настоящее время, – свидетельствует один из них75, – остается во всей силе замечание «платонического философа» Оригена, что «Платона никто не знает вполне».
Мы знаем, что платонизм – могущественное духовное движение. Мы знаем, что, по крайней мере, половина философии, и притом, половина прекраснейшая, связывается с именем Платона: «Корни всего того, что разумеется под именем идеализма и что в логике носит название реализма, в теории познания априоризма, нативизма или рационализма, в онтологии спиритуализма и телеологии, восходят к одному и тому же первоисточнику, а именно, к тому мыслителю, который, хотя и не первый придал научное значение термину идея, но который сообщил ему всемирно-исторический интерес – к Платону». Таково выразительное признание врага платонизма76.
Мы знаем, что львиная доля того, что только было великого в поэзии, так или иначе отразила лучи Платона77. Мы знаем, что языки всех народов оказались пронизанными платоновскими терминами и платоновскими понятиями. Мы знаем, далее, что в платонизме явились осознанными целые полосы, целые миры народной религии и общечеловеческого жизнепонимания78. Мы знаем и то, что из платонизма проистекли едва ли не все могучие течения в философии79. Мы знаем еще, что он влился возбуждающей струей в религиозную мысль человечества, – не только языческого, но и христианского; не только христианского, но и магометанского, и иудейского. Платонизм оказался мировоззрением, наиболее подходящим к религии, как таковой, и терминология платонизма – языком, более всего приспособленным для выражения религиозной жизни. Но, будучи естественной философией всякой религии, платонизм имеет особое сродство с той религией, перед которой все прочие еле-еле удерживают название религии. Одним словом, мы знаем, что в платонизме – перед нами один из самых могучих, – скажу более, – самый могучий из ферментов культурной жизни. Но, что такое платонизм – мы не беремся отвечать, ибо это превышает силы современного знания. И нельзя определить платонизм даже формально, что он – учение Платона: нет, платонизм и шире учения Платона, и глубже его, хотя в Платоне нашел себе лучшего из выразителей.
Мы сказали: «современного знания». Так ли это? Не происходит ли трудность дать ответ о платонизме не только от сложности этого явления, но и от существа его? Будучи исходным пунктом стольких направлений мысли, из которых каждое представляет высокую степень широты, не должен ли платонизм быть таким глубоким движением духа, которому уже нет иного наименования, кроме как символическое, уясняемое per se80, а не per aliud81? И, в таком случае, не правильнее ли разуметь платонизм не как определенную, всегда себе равную систему понятий и суждений, но как некоторое духовное устремление, как указующий перст от земли к небу, от долу – горе82? А, в таком случае, делается понятной и неисчерпаемость этого неистребимого порыва нашей души к небесам, этого взлета в миры иные – никакими законченными в себе построениями мысли, никакими раз навсегда закрепленными терминами: ибо все тает и течет от соприкосновения с Истиной, как воск – перед лицом огня. Даже у самого Платона каждый диалог представляет несколько иное построение мысли и дает своеобразную окраску основным терминам, нежели другой. Тем более, это относится к прочим выразителям платонизма. Но, если на наше вопрошание ответ, действительно, может быть только утвердительный, то понятно тогда, что многообразность попыток выразить основное устремление платонизма свидетельствует не против, а за него – свидетельствует о богатстве жизни и богообразности человека. И тогда термины платонических систем мысли перестают быть, в строгом смысле, терминами, а становятся живыми символами внутренних движений. Среди этих символов мы не можем навести внешнего порядка; но единая жизнь, единый сверхрассудочный центр, ощущается в них созвучным сердцем. Не зная, или, точнее, не зная ответчиво, т. е. не будучи в состоянии дать раздельный словесный ответ на вопрос о платонизме, мы можем, однако, указать некоторые стороны этого обширного исторического движения, этой извечной стихии человеческой души, и одну из таких сторон, один из символов платонизма сделать предметом более пристального вглядывания.
Какую же? какой же символ? – Полагаю, что при произнесении слова платонизм у всякого на первом месте возникает ассоциация: «ιδέαι», «εΐδη»83, «учение об идеях», «идеализм»84.
II
Вы помните, конечно, с полной определенностью, что дело идет о родах и видах, как выражались философы древние, об ουσία, φύσις и ύπόστασις85, как стали говорить философы периода патриотического, – об universalia, как нашли удобным именовать тот же предмет мысли схоластики западные, – об общих понятиях и суждениях – по терминологии нового времени; это – одна проблема, но в различной местной и временной окраске. Но, быть может, далеко не с такой же определенностью сознаете Вы коренной, глубоко содержательный смысл этих споров об universalia. Мне хотелось бы настоящим чтением дать Вам понять, что тут дело шло не о школьных (– каков буквальный перевод термина «схоластические») и не ученических (– так передадим слово «педантические»86) словопрениях, но о глубочайших задачах метафизики и гносеологии, а, если угодно, также, и аксиологии. Поэтому-то, от того или от другого, – платоновского или антиплатоновского, – решения проблемы универсалий зависил общий уклад всего мировоззрения, характерный закал целостного жизнепонимания. И потому-то, добавим еще, по-видимому, сухое, отвлеченное обсуждение универсалий служило, служит и, вероятно, будет служить до конца веков ареной стольких оживленных и ожесточенных стычек и взаимных обвинений в тяжком неправомыслии и еретичестве.
Острота споров об универсалиях доходила до того, что «публичные диспуты часто вырождались в страстные перебранки. Приличие и достоинство нарушались до такой степени, что папы и епископы издавали строгие указы, в которых спорящие партии призывались к спокойствию и порядку»87.
Но «было бы большой ошибкой думать, что вопрос о логико-метафизическом значении универсалий имел в Средние века лишь дидактическое значение объекта для упражнения в мыслительной деятельности... – утверждает один историк мысли88. – Энергия, с которой средневековая наука в бесконечных спорах стремилась разрешить эту проблему – характерным образом наука Запада и наука Востока принялись за нее с одинаковым усердием, совершенно независимо друг от друга – является сама по себе доказательством того, что в этом вопросе кроется реальная и очень трудная проблема». Поэтому, он же, ссылаясь в другом месте в подтверждение своих слов на таких видных союзников, как Г. Лотце и О. Либманн89, заявляет весьма твердо: «Тем современным исследователям, которые сдают вопрос об общих понятиях в архив, или смотрят на спор о них, как на детскую болезнь науки, пока они не будут в состоянии с полной точностью и ясностью ответить, в чем состоит метафизическая действительность и деятельность того, что они называют законом природы, все еще нельзя не сказать: mutato nomine de te fabula narratur»90.
Не иначе думают и многие другие мыслители.
Вопрос о природе родов и видов, – говорит В. Кузен, – этот вопрос «во все времена волновал и оплодотворял человеческий дух, и был виновником всех школ. Принимая на себя все цвета времени, он всегда остается, однако, основанием, из которого исходят, и к которому возвращаются философские исследования. По внешности – это вопрос, касающийся лишь психологии и логики, по существу же он господствует над всей философией, ибо нет задачи, которая бы не заключала в себе и следующего вопроса: все видимое нами есть ли комбинация нашего ума, или имеет свое основание в природе вещей91. Это значит, что всякая онтологическая или психологическая доктрина необходимо должна считаться с вопросом об универсалиях»92. – «В рациональной философии проблема универсалий есть не иное что, как проблема истинности наших интеллектуальных познаний», – свидетельствует М. де Вульф93.
Это совершенно верно, но этого слишком мало; вопросы, подымаемые идеализмом, имеют и гораздо более общее значение.
III
Что действительно? Что познаваемо? Что ценно? Данный ли, здесь и теперь переживаемый, момент, или нечто, хотя и соотносящееся с ним, но вечное и вселенское? – На чем строится жизнь? На что опирается познание? Чем руководиться в своей деятельности? – Метафизическим ли «Carpe diem – лови момент», или иным, высшим бытием? Воистину, есть одно ли только дольнее, или и горнее, более сего дольнего действительное? и т. д. и т. д. Таковы вопросы, лежащие на дне споров об universalia. И всякое признание мира горнего неизбежно влечет мысль к платонизму, в том или ином видоизменении, а всякое прилепление к миру дольнему – к отрицанию платонизма. Но, не входя в гущу этих проблем сейчас, пока займемся лишь проблемой теории познания и логики. Познание, как известно Вам, удовлетворяет нас, если мы убеждены во всеобщности и необходимости его результатов. Познание есть познание тогда только, когда оно может притязать на значение, выходящее за пределы данного момента и данного места, т. е., когда этот единичный момент обращен к иному бытию, выходит за пределы себя, знаменует больше, чем есть он сам. Если же все дело ограничивается лишь этой комбинацией психических элементов, не выходящей за границы самой себя, то мы считаем ее за простую игру психических процессов, – и не придаем ей никакого познавательного значения. Если я говорю, что мне сейчас, в этой комнате холодно, то это высказывание не имеет решительно никакого значения для науки, не имеет никакой познавательной ценности. Чтобы возникла таковая, я должен выйти за границы «себя» – или «теперь», или «здесь» – и хотя бы в одном направлении расшириться за пределы особливого бытия. Знание – только там, где ἒν94 расширяется на πολλά95, образуя «εν και πολλά»96, как определяет Платон идею; знание – только там, где «μίαν... διά πολλών»97, по другому определению идеи Платоном, или, – воспользуемся Аристотелевским определением идеи, – знание возможно там, где единое направлено на многое, распростирается на иное, – где «τό εν έπι πολλών»98. Этой-то формулой и воспользовалась средневековая мысль. Unum обращается к иному, к alia, – толкуют схоластики; – unum versus alia и есть, по их этимологии, universale, – единичное и общее зараз.
Но эти идеи, эти universalia, эти общие понятия и суждения (современная логика признает, что это – одно и то же), все они, как бы мы их ни называли, обладают загадочными свойствами. В самом деле: единое относится к бесконечному множеству; но «это бесконечное множество явлений не может быть наличным, как множество в акте суждения, потому что общее суждение есть единый акт мысли, а вовсе не скопление многих суждений. Следовательно, вопрос становится, по-видимому, безвыходно противоречивым и принимает парадоксальную форму: каким образом бесконечное множество явлений может быть наличным в едином акте мысли?»99.
Когда я говорю: «Лошадь есть позвоночное животное» или: «В прямоугольном треугольнике площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, построенных на катетах того же прямоугольного треугольника», то я, здесь и теперь, произвожу акт познания, всячески, во всех отношениях единичный. Я произвожу этот акт познания сейчас, здесь. Но, будучи этим, т. е. моментом и местом ограниченным, он, как бы, переливается за границы своей отъединенности и простирается в бесконечную даль времени и пространства. Будучи единичным, как акт, он, содержанием своим, как акт познания, имеет бесконечность, ибо утверждает, что все лошади, где бы и когда бы они ни существовали, суть таковы, каковыми он утверждает их, т. е. позвоночные животные. Точно так же, все прямоугольные треугольники, где бы и когда бы они ни мыслились, всегда таковы, что и для них, для всех, справедлива теорема Пифагора100. – Акт познания, т. е., значит, понятие и суждение, хотя и единичный, – бесконечен, и в этом соединении конечности с бесконечностью, в этом противоречии конечности и бесконечности, в этой неслиянной и нераздельной двойственности познавательного акта, в этой антиномичности его – великая загадка универсалий. Загадка эта может быть расчленена на три загадки, на три проблемы, сообразно трем дисциплинам, в которых может быть рассматриваема основная проблема двойственности. А именно, основной вопрос: «Как возможна такая двойственность?» – распадается на три вопроса101:
1° Как это возможно психологически, т. е., другими словами, каковы должны быть психологические состояния и переживания познающего субъекта, чтобы, будучи единичными, иметь всеобщее значение?
2° Как это возможно метафизически или, точнее, онтологически, т. е., другими словами, каковы должны быть реальные процессы и вещи, познаваемые объекты, чтобы возможны были о них общие суждения и понятия?
3° Как это возможно гносеологически, т. е., другими словами, как общие суждения нашего разума могут иметь объективное знание для вещей и процессов, т. е. выражать какие-то свойства того, что не есть сам разум?
Чтобы понять то решение этих вопросов, которое дает платонизм, полезно сопоставить его с решениями иных умственных течений. А, так как эти проблемы, хотя они были предметом живейшего интереса в истории мысли древней, средневековой и новой, и хотя доселе не прекратили своего брожения, однако, в Средние века подвергались прениям наиболее пламенным, то мы будем пользоваться, по преимуществу, именно средневековой терминологией.
IV
Если брать дело по существу, то спор об универсалиях был душою всей античной философии. Антиномия среды и индивида, – ἒν καί πᾶν102, – возбуждает греческую мысль до Платона103. С установкой идеализма у Платона, споры об универсалиях сами принимают более отчетливый характер, – как в Академии, уже при жизни ее основателя, так же и вне ограды Академии. В диалогах Платона, особенно позднейших, попадаются встречные соображения, направленные против тех или иных аргументаций теории идей, и, притом, соображения, не всегда опровергаемые104. Нужно думать, что эти соображения отражают брожение, происходившее в школе Платона. Теоретические несогласия побуждают Аристотеля даже совсем уйти из состава преподавателей Академии и основать собственную школу. Правда, сообщения древних о, якобы, враждебных с тех пор отношениях двух великих философов не только не доказаны, но и, наоборот, признаны простой сплетней. Однако, факт разногласия, и, именно, по вопросу о природе идей, – налицо105. Это разногласие не настолько велико, чтобы из-за него нельзя было называть Аристотеля идеалистом; но оно достаточно для признания перипатетического учения о формах за особый тип идеализма. Затем, разногласия различных школ, и, именно, около вопроса об идеях, заостряются. Объединитель философии древности Плотин106 сделал величественную попытку синтеза различных учений об идеях. Но Плотин – великий представитель не только преходящей философии древности, но и зачинающейся философии Средневековья107. К Плотину шла вся античная культура; Средние же века – не случайность без роду и племени, а законный плод античной культуры108, так что включение Плотина в число средневековых мыслителей достаточно мотивировалось бы и этим соображением. Но такое положение Плотин получает и с большей прочностью: ведь он вобрал в себя Откровение гораздо глубже, чем сознавался в том: Ветхозаветное – через Филона и многих других (если не прямо из перевода LII); кое-что из Новозаветного – через учителя своего Аммония Сакка, сына христианских родителей, и через гностиков, с которыми полемизировал. Мало того, Фр. Пикавэ доказывает109 путем тщательного анализа, что Плотин дает «полное и систематическое истолкование»110 речи св. апостола Павла в Афинском Ареопаге (Деян. 17:16–34). Если так, то тем делается понятной большая сила воздействия Плотина на мысль патриотическую и на мысль схоластическую. И таким-то образом, по преимуществу, через Плотина, античные теории идей заносятся в Средневековье111. Для этого последнего, «идеи» оказались практически потребными и приспособленными гораздо более, чем для самой Древности.
Но, если говорить не вообще о действии неоплатонизма на средневековую философию, а, в частности, о толчке, вызвавшем движение средневековой мысли, то на первом месте тут должно быть упомянуто имя ученика Плотина – Порфирия (233–304 гг.). А именно, исходным пунктом для схоластических исследований и споров об universalia послужило то место во «Введении» Порфирия к Категориям Аристотеля, в котором, по счастливой исторической случайности, сжато формулируется вся острота споров о том же предмете в философии античной. Каким-то инстинктивным чутьем, схоластика сосредоточила свое внимание именно на центральном вопросе древней философии, и в нескольких строках нашла себе выкристаллизованным самый сок многовековых препирательств между Платоном и Аристотелем, Платоном и киниками, между Академией, Ликеем и Стоей112. Вот это многосодержательное место:
«Αύτίκα περί των γενών τε και ειδών τό μεν είτε ύφέστηκεν είτε καί εν μόναις ψιλαις έπινοίαις κείται είτε ύφεστηκότα σώματά έστιν ή άσώματα καί πότερον χωριστά ή εν τοΐς αίσθητοΐς καί περί ταϋτα ύφεστώτα, παραιτήσομαι λέγειν βαθύτατης ουσης τής τοιαύτης πραγματείας καί άλλης μείζονος δεομένης έξετάσεως113.
– Я отклоняю от себя разговор о родах и видах, а именно, существуют ли они самостоятельно, или же находятся в одном только голом мышлении, и, если существуют самостоятельно, то тела ли они, или бестелесны, а, с другой стороны, стоят ли обособленно, или же имеют бытие в чувственных явлениях и с ними114; ведь подобное занятие весьма глубоко и требует иного, более обширного, исследования»115.
Таковы слова Порфирия. Впрочем, до мыслителей Средневековья они дошли не в подлиннике, а в латинском переводе Боэция (около 475–520 гг.). У Боэция все это место передается так: «Мох de generibus ас speciebus illud quidem sive subsistunt sive in solis nudisque intellectibus posita sunt, sive subsistentia corporalia sunt an incorporalia, et utrum separata a sensibus an in sensibilibus posita et circa ea constantia, dicere recusabo, altissimum enim est huius modi negotium et maioris egens inquisitionis»116;–эти слова Порфирия содержатся у Боэция также в «Комментарии на Введение Порфирия». Вот какой именно перифраз дается здесь:
«Ait se omnino praetermittere genera ipsa et species, utrum uere sibsistant an intellectu solo et mente teneantur, an corporalia ista sint an incorporalia, et utrum separata an ipsis sensibilibus iuncta»117.
Представим для наглядности альтернативы Порфирия в виде таблички (чертеж 1-й).
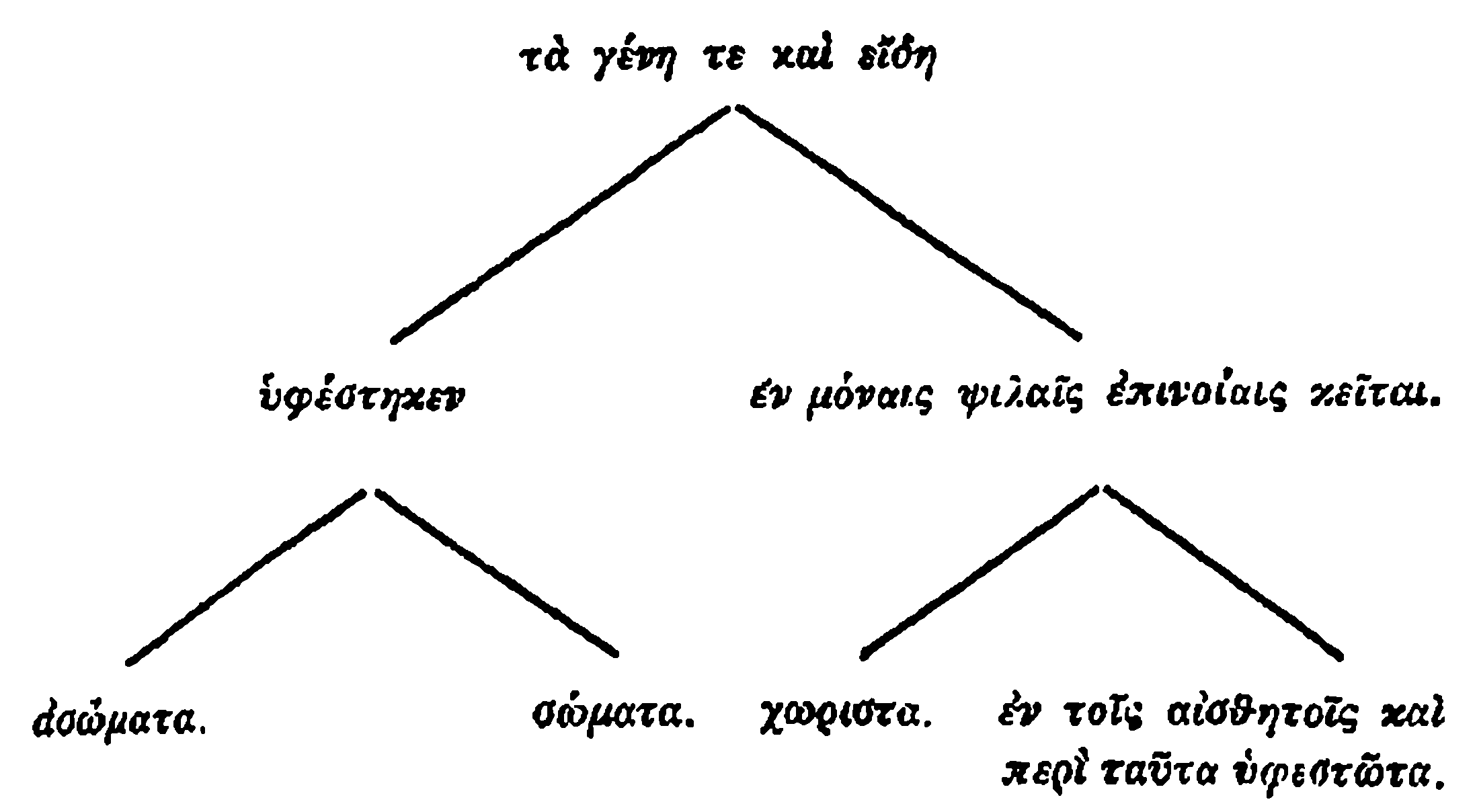
Чертеж 1118
Переводя эту табличку на язык средневековой философии, а отчасти – современной, мы получаем нижеследующую схему, в которой содержатся основные течения мысли, – как средневековой, так и более поздней (чертеж 2-й).
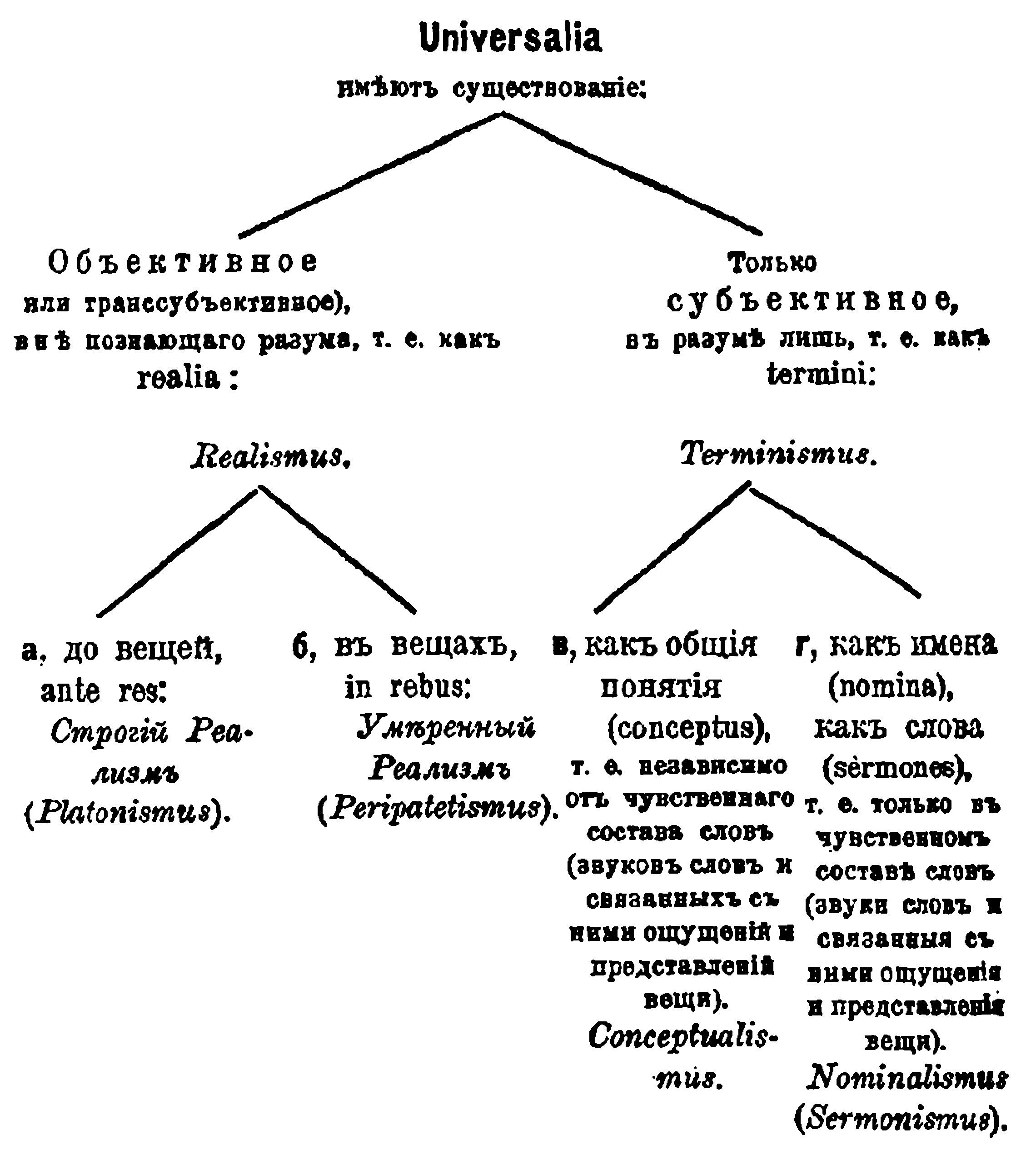
Чертеж 2
Сопоставляя обе таблицы, мы видим, что схемой Порфирия исчерпываются различные типы учений об универсалиях, появлявшихся в истории, за исключением одного, где существование универсалий всячески отрицалось119. Но, так как познание, в самой сущности своей, связано с существованием универсалий, хотя бы в какой-нибудь одной сфере бытия, то понятно, что этим, не упомянутым у Порфирия учением, должен быть решительный познавательный нигилизм, для которого отрицание всеобщности знания простирается так далеко, что даже скепсис не имеет смысла. Итак, объединяя все сказанное, можно представить сравнительный состав различных учений об универсалиях на чертеже 3-м.
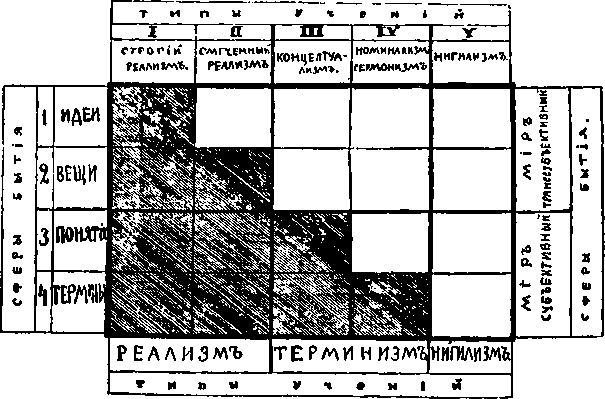
Чертеж 3-й
Однако, представленной здесь таблицей не исчерпывается, – отвлеченно говоря, – возможность и иных ответов на вопрос об универсалиях. Можно представить себе, что отрицание распространяется не сверху вниз, а наоборот, снизу вверх (см. чертеж 4 – й), так что возникают учения, в которых признается бытие универсалий в слоях высших и отрицается – в низших.
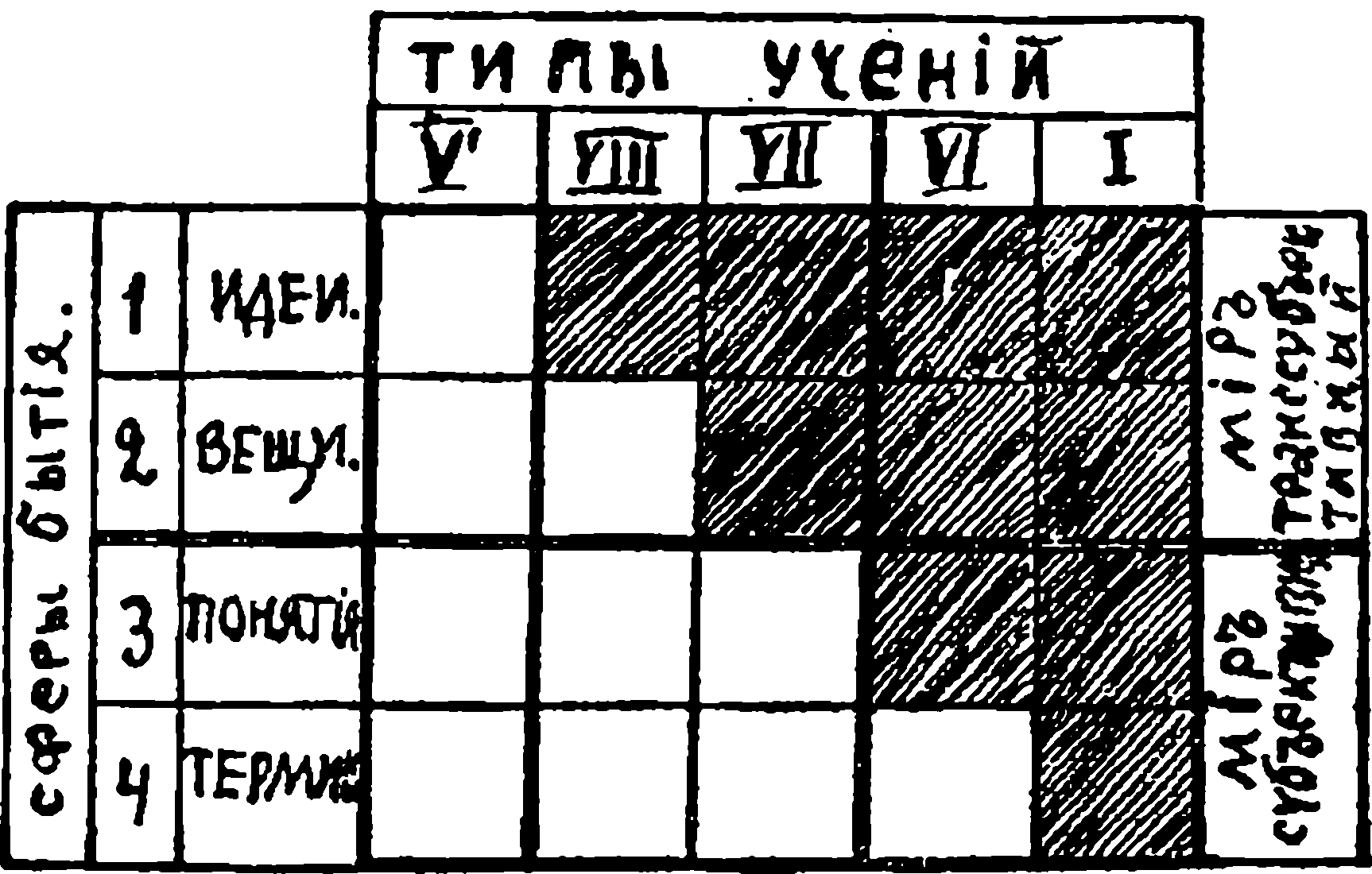
Чертеж 4
Учения такой структуры обосновать было бы затруднительно, но они представляются не более странными, чем учения номиналистического устремления. Так, например, в системе мысли под номером VI признается существование и постижимость платоновских идей, но отрицается адекватная выразимость этого постижения – в слове. В системе мысли VII признается существование идей, но отрицается и их постижимость и их выразимость. Наконец, в системе VIII признается существование трансцендентных идей, но отрицается являемость их в мире, их познаваемость и их выразимость. Система мысли I’ – это уже знакомый нам платоновский реализм. Что же до системы V', то формально она тождественна нигилизму, но, как предел устремления в сторону трансцендентного, т. е. будучи мистическим агностицизмом, может быть совсем иного характера, нежели софистический нигилизм V (– например, как признание абсолютно внетварной, внутрибожественной мысли).
Отвлеченно говоря, мыслимы и еще некоторые учения, а именно, как не перечисленные здесь комбинации из отрицаний и утверждений универсалий в различных слоях бытия. Так как, по известной теореме комбинаторики, таких сочетаний всего-навсего должно быть 24, т. е. 16, а 53, т. е. 8, из них мы уже имели, то остается, кроме указанных, еще 8 отвлеченно возможных типов. Схема их представлена на таблице (чертеж 5-й).
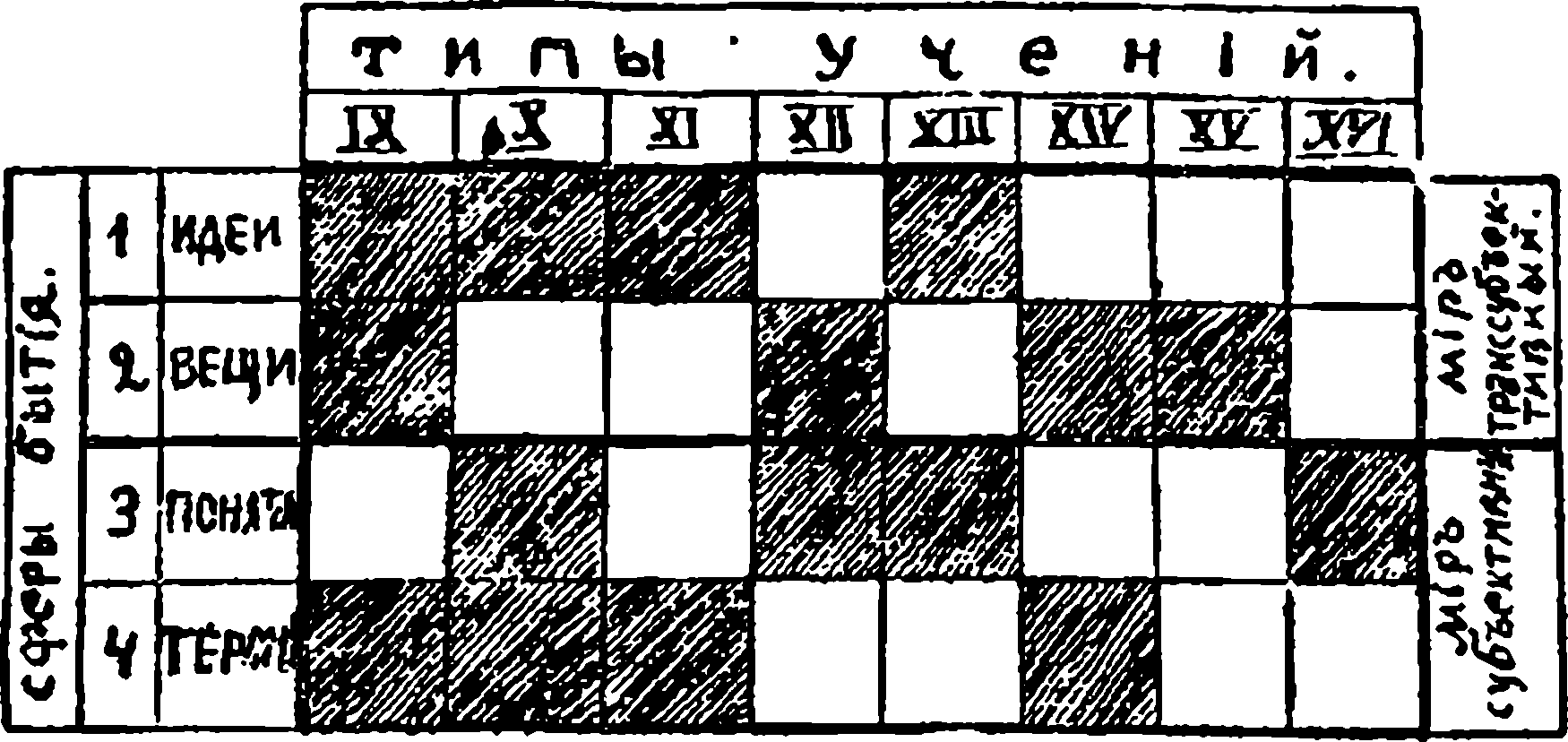
Чертеж 5
Смысл же каждого из них не трудно уяснить себе. Так, учение IX признает реальность универсалий и в мире, и вне мира, но говорит, что они непостижимы, хотя и выражаются в слове символически. Учение X признает реальность трансцендентных идей, а также познаваемость и выразимость их, но отрицает наличность аристотелевских форм в мире. Учение XI признает существование платоновских идей, и утверждает, что они могут выражаться в слове, например, в поэзии, но, что ни в вещах нет форм, ни разум не обладает понятиями. Учение XIII – типа, так сказать, чисто метафизического: есть универсалии, как предмет чистой мысли; но ни в мире, ни в слове эти универсалии себя выявить не могут. И т. д.
VI
Едва ли не основная απορία (затруднение) философии – проблема ἒν καί πολλά. По крайней мере, в греческой философии она была основною. Проблемы: индивида и среды, атома и пустоты, дискретности и сплошности, прерывности и непрерывности, ύπόστασις и ούσία и т. д., и т. д., все это – видоизменения основной проблемы ἒν καί πολλά. Отрицание в ἒν – πολλά и πᾶν ведет к отрицанию познания, к отрицанию смысла деятельности, к отрицанию вечного во временном. Признание же πᾶν и πολλά в ἒν требует разъяснения: как это возможно. Проблема универсалий есть вершина основной проблемы философии, и надо ничего не понимать в философии, чтобы не видеть этой проблемы.
Мы не станем заниматься ни опровержением разных видов терминизма, стремящегося уничтожить самую проблему, ни защитой разных видов реализма, стремящегося, так или иначе, разрешить ее. Это – не дело истории философии. Но мы постараемся уяснить себе смысл различных учений об универсалиях. Поставим вопрос ребром. В чем пафос устремления к реализму и в чем пафос устремления к терминизму? – Для последнего, этот пафос есть метафизический и гносеологический эгоизм. Реальность безусловно уединенна, безусловно вне всего того, что – не она. Реальность есть она – и только она. У реальности нет, так сказать, пуповины; которая бы связывала ее с плодоносным лоном бытия целокупного. У нее нет корня, коим приникает она в миры иные. Она, наконец, во времени не связана и сама с собою, в своем бывании не являет некоторого целостного и связного бытия. Одним словом, ни в порядке онтологическом, ни в пространстве, ни во времени мгновение данного состояния не связано с другими, не углубляется, не имеет около себя венца кафоличности. Мгновение – только мгновение, без благоухания, без атмосферы вечности. Точка – только точка, без помазания вселенскости. ‘Έν есть ἒν – и только ἒν, и ничуть, ни в какой мере, ни с какой стороны, не есть πολλά, и, тем более, не есть πᾶν. Но, если углубиться в это мироощущение и спросить себя, о каком, собственно и первично, ἒν говорит оно, то нетрудно ответить, что речь идет о Я. Истинный смысл этого направления мысли – в том, Я есмь Я и только Я, и ни в какой мере не есмь не – Я, Ты. Я ни с кем не связан, и не связан даже с самим собою: solus ipse sum120, и ни до чего нет мне дела, да и быть не может. Пафос обособления, затем эгоизма, затем ненависти и, наконец, абсолютного нигилизма лежит на дне терминистических течений. Терминизм – это и есть ересь121, в первоначальном и точном смысле слова.
Напротив, движения реалистические порождаются ощущением сродственности бытия, ощущением не абсолютной изолированности вещей, моментов и состояний, однако, не в силу их механической смешанности и не в силу расплывчатости и смутности их определения, а в силу, изнутри пронизывающего их, сродства и единства. ‘Έν не есть только и безысключительно ἒν, но оно, вместе с тем, и πολλά, и даже πᾶν. От ἒν, зримого нами здесь и теперь, тянутся бесчисленные нити к иному, к πᾶν, к бытию вселенскому, к полноте бытия. И нити эти – нити живые. Это артерии и нервы, делающие из обособленного и уединенного ἒν – живой орган живого существа. ‘Έν кажется чем-то самозамкнутым и плоским. Но это так только кажется. Присмотритесь к нему – и вы увидите, что оно и не замкнуто в себя, и не плоско. Оно благоуханно. Оно окружено венчиком, лучи которого сливаются с лучами иных бытий. Оно имеет глубину, переходящую в длинные корни, впивающиеся в миры иные и оттуда получающие жизнь. Тон его – не сухой, уединенный тон камертона, но живая гармония, осуществляемая рядом гармонических, верхних, суммовых, разностных и т. п. тонов. Оно бесконечно больше и содержательнее, чем оно есть рассудочно.
Милый друг, иль ты не видишь, что все, видимое нами, только отблеск, только тени, от не зримого очами?
Милый друг, иль ты не чуешь, что весь этот гул трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий?122
Истинная реальность, идея – не бытие отъединенное, но «μίαν....διά πολλών», как определяет ее Платон, или, еще «ἒν και πολλά», как говорит он, явно намекая на основной вопрос всей греческой философии. Идея есть «τό ἒν επί πολλών», по Аристотелю. Чувство этой «μίαν διά πολλών», чувство этой «ἒν καί πολλά» – вот мирочувствие, лежащее в основе идеализма.
В этой противоположности устремлений, в этой противоборственности: уединить, уплощить, оглупить, лишить разумного смысла, а затем и вовсе уничтожить, полновесное зерно бытия, с одной стороны, а с другой – прорастить его и вырастить из него злак, приносящий плод сторицей, т. е. осознать внутреннюю красоту твари; в этой, если хотите, борьбе между верою в смерть и верою в жизнь содержится, в сущности, вся непримиримая вражда учений терминистических и учений реалистических, или, выражаясь по-современному, позитивизма и идеализма. Все остальное – философская техника. В основе того и другого движения – та или иная вера или, точнее, вера и отрицание ее. Но и вера, и неверие стремятся выразить себя расчлененно и создать себе средства защиты, укрываясь в крепость из сложных систем вспомогательных понятий. Тут, и в области позитивизма, и в области реализма, возможны разные тактические приемы и построения, возможны разногласия и ссоры, возможна даже междоусобная война. Но, в существе дела, рассмотрение всех этих контроверз есть труд, важности уже второстепенной.
Оглядим некоторые позиции идеализма.
Первая позиция, важнейшая, возникает при обсуждении проблемы корней бытия и связей мира дольнего с миром горним в собственном и точном смысле, т. е. мира божественного. Проблема благодати, таинства и обряды, озарения и прозрения, Церковь, ангелы-хранители, Промысл и т. д., и т. д. – вот некоторые, почти наудачу перечисленные, пункты этой линии защиты. Вы видите, что изучение их принадлежит, собственно, догматике и религиозной философии. Я сказал: «догматике и религиозной философии». Не думайте, что я позабыл добавить: «православной». Нет, я сознательно опустил ограничивающее определение, ибо во всякой догматике и во всякой религиозной философии с необходимостью возбуждаются те же вопросы и получают то или иное разрешение.
Но, собственно, философии ближе, отчасти иные, отчасти более формальные, вопросы, возникающие при обсуждении соотношения индивида ἒν с другими индивидами. Вера реализма, его производящая, – выражается в основном утверждении его, что индивиды не вполне разобщены, не так разобщены, как то кажется. Но что значит это утверждение о неполной обособленности индивидов? Ответ может быть, вообще говоря, двоякий, и этот двоякий ответ порождает двоякое понимание термина universale, двоякое понимание слова идея, т. е. того, в чем именно индивиды не разобщены.
Пусть имеются два индивида А и В, например, два коня. Что значит, под углом зрения обсуждаемой проблемы, что А и В, эти два коня, между собою не разобщены? Это значит, что в коне А дан, содержится как-то и конь В, а в коне В – и конь А. Говорю «как-то», и это значит, что В содержится в А не так, не абсолютно так, как оно дано и содержится в самом себе. В своеобразном же толковании этого «как-то», т. е. в своеобразной замене неопределенного «как-то» определенным «так именно», заключается и своеобразное решение проблемы универсалий.
Как же можно понимать неразобщенность коней А и В?
Конь А характеризуется в нашем сознании признаками:
a′, a′′, a′′′, a(IV), a(n)
конь В – признаками:
b′, b′′, b′′′, b(IV), b(n)
И вот, часть признаков того и другого комплекса, а именно, положим, три первые признака тождественны между собою. Речь идет не о сходстве, ибо сходны кони А и В, а именно, о тождестве признаков, каковым тождеством, или в силу какового тождества, кони А и В сходны. И еще раз должно повторить, что не сходство признаков, а тождество их имеется в виду; если же мы стали бы говорить о сходстве их, то тогда с необходимостью возник бы вопрос, в чем же, чем же сходны между собою самые признаки, и тогда это что, этот признак признака оказался бы уже тождественным в обоих признаках. «Но, – скажете, – а если и тут мы будем иметь в виду лишь сходство?» – «Тогда, – отвечаю, – тогда придется говорить о признаке признака, который будет тождественным. Вообще, или надо устремлять этот ряд ad indefinitum и, следовательно, отказаться от понимания, чем сходны кони А и В, или же где-нибудь прервать его, – на члене, который будет признан тождественным в А и В. Но тогда естественнее всего сделать это сразу же, отыскав его непосредственно в А и в В».
Эта мысль уже высказывалась. «Возможно ли существование одинаковости содержания без тождества содержания в каком-либо отношении?» – спрашивает Н. О. Лосский123. «На этот вопрос приходится ответить, что понятие одинаковости и даже, вообще, понятие сходства неизбежно ведет к ссылке на понятие тождества или, в случае нежелания прибегнуть к этому понятию, заключает в себе бесконечно повторяющуюся проблему», – отвечает Н. О. Лосский себе. Эти же рассуждения ведет и Э. Гуссерль. «Везде, – говорит он, – где есть одинаковость, есть, также, тождество в строгом и истинном смысле этого слова. Мы не можем называть две вещи одинаковыми, не указывая той их стороны, с которой они одинаковы. Той стороны, – сказал я, – и здесь-то и заключается тождество. Всякая одинаковость имеет отношение к роду (Species), которому подчинены сравниваемые вещи, и этот род (Species) не есть только нечто, опять-таки, лишь одинаковое с обеих сторон, так как в противном случае неизбежно возникал бы поставленный вверх ногами regressus in infinitum. Обозначая сравниваемую сторону, мы указываем с помощью более общего родового термина тот круг специфических различий, в котором находится тождественная сторона сравниваемых вещей. Если две вещи одинаковы со стороны формы, то соответствующий род формы есть тождественный элемент в них; если они одинаковы со стороны цвета, то в них тождествен род цвета и т. д. – Если бы кто-либо, хотя бы только в отношении к чувственной стороне восприятий, стал определять нам тождество, как предельный случай одинаковости, то это было бы извращением истинного положения дела. Не одинаковость, а тождество, есть нечто абсолютно неопределимое. Одинаковость есть отношение предметов, подчиненных одному и тому же роду. Если бы не могло быть речи о тождестве рода, о той стороне, с которой существует одинаковость, то и речь об одинаковости потеряла бы свою почву»124.
Итак, возвращаясь, после сделанного отступления, к нашим мыслям, мы можем утверждать, что признаки а′, а′′, а′′′, по бытию, нумерически, «численно», суть то же самое, что b′, b′′, b′′′ в В. Как можем мы сказать, что не сходные звезды светят в Посаде и в Москве, а тождественные по бытию, и как: не сходный с собою студент появляется в Посаде и в Москве, а тождественный себе, так же и признаки сходства для А и для В тождественны. Совокупность этих признаков, или, как говорят, их логическое произведение, образует новую сущность – ω. Эта сущность ω есть то, что делает и А и В нераздельными, неразъединенными. Она – нить, связующая их воедино. Логически же она есть то, что в логике называется суммой А и В, ибо под суммой разумеется альтернатива: «или А, или В». Поясним, что берем здесь, собственно, так называемые, единичные понятия125 индивидов А и В, обозначаемые в логике знаками iA biВ, и лишь ради графической простоты пишем А и В. Выражаясь же в терминах средневековых, мы берем тут haecceitates126, «этости» или «Diesheiten», объектов А и В. Но, т. к., будет ли у нас А, или будет В, и в том, и в другом есть а′, а», а"′, то, следовательно, альтернатива «А или В» определяет собою ω:
ω=Α︶ Β.
Но, спрашивается, только ли так можно мыслить неразобщенность А и В или еще как-нибудь иначе? – Можно, очевидно, взять логическое произведение «А и В», и тогда получится некоторая новая сущность – Ω
Ω=Α︵Β.
Это значит: «и А и В». Следовательно, тут а′, а′′, а′′′ берутся усиленно, но кроме них попадают в Ω еще a(IV) ..., a(n) b(IV), …, b(n). Следовательно, ω оказывается лишь моментом в бытии Ω. Тогда можно сказать, что ω есть общий наибольший делитель А и В, а Ω – общее наименьшее кратное, и в смысле полноты бытия мы имеем градацию:
ω<А<Ω
ω<В<Ω.
Реализм утверждает, что ω (а при других толкованиях – Ω) – это не только прием мышления, но и некоторая реальность, подобно тому, как общий наибольший делитель (или общее наименьшее кратное) сам есть число, а не только знак действия вроде «» или «–», <х> или «:», т. е. чистая отвлеченность. Но, где и как существует эта реальность ω (или Ω)? По одному пониманию, это – только стержень вещей, вне их не существующий, но, однако, такой, что без него вещи не могут быть (Аристотель). По другому пониманию, – это реальность вне вещей, сама для себя сущая, но, однако, такая, что она, как-то, и в вещах, или вещи в ней, а помимо нее быть не могут (Платон). На первый взгляд, между формами Аристотеля и идеями Платона залегает непроходимая пропасть. Но более внимательное вглядывание делает явным, что разногласие идет не о существе дела. Можно пояснить это примером металлических опилок, расположившихся правильными рядами и тем обнаруживающих, что они имеют некоторую связь между собою, осуществляемую деформацией магнитной среды – эфира. И Платон, и Аристотель признают равно эту связь; но, далее, возникает вопрос о производителе магнитного поля, и тогда Аристотель отвечает, что таким возбудителем служат сами опилки, ибо, будучи стальными, они имеют собственный магнетизм. Платон же полагает, что магнитное поле создается соленоидом, окружающим опилки, и они, будучи железными, временно намагничиваются.
Платоновская концепция гораздо шире Аристотелевской, тогда как последняя – частный случай первой. Поэтому, в одних своих истолкованиях Платоновская концепция может быть весьма сближаема с Аристотелевской, в других же – весьма отдаляема127.
Что же касается до выбора между ω и Ω, то и Платон и Аристотель, когда конструируют свои понятия идеи или формы, то как будто говорят об ω, а когда принимают его готовым, то имеют дело с Ω. В этой сбивчивости между ω и Ω есть нечто психологически необходимое, ибо, если Ω представлять себе как нечто вроде Гальтоновской суммирующей фотографии, то совокупность общих черт ω, в ней выступит с особой яркостью. Ω отличается от ω психологически (– речь идет не о логическом и не об онтологическом отличии) лишь тем, что ω дается резко очерченным, а Ω – в виде той же ω, но в сопровождении обертонов, ауры, или атмосферы (см. чертежи 6-й и 7-й).

Чертеж 6
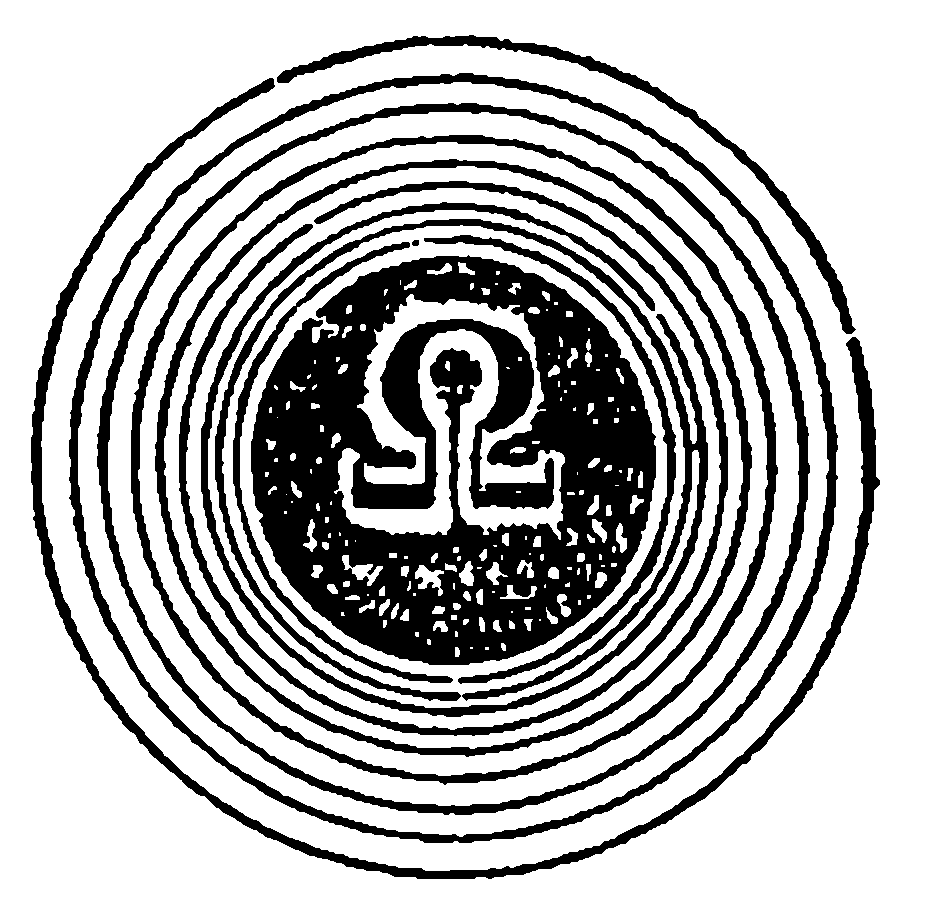
Чертеж 7
Но, логически, ω и Ω, конечно, разное. – То же надо сказать, если мы берем не два, а некоторую конечную множественность и, наконец, некоторую бесчисленную множественность индивидов: А, В, С, D, Е, ..., Х, Υ. Тогда:
ω = A︶B︶C︶D︶E︶ ...︶X︶Y
Ω=A︵B︵C︵D︵E︵ ...︵X︵Y
Чем более взято индивидов, тем ярче и определеннее психологически выступает центральное ядро в Ω и тем более меркнет психологически – окружающая его аура, так что и разница между Ω и ω делается психологически все менее ощутительной. Можно сказать, наконец, что психологически пределы их уравниваются:
lim ω = lim Ω, (при i=∞)
хотя логически и онтологически различие между ω и Ω все усиливается.–
Но, будем ли мы понимать universale, как ω или как Ω (в сущности, это вопрос терминологии), мы видим, что «реализм есть даже и не объяснение, а прямое выражение тех фактов, которые непосредственно переживаются в акте высказывания общего суждения»128.
Набросанные выше контуры идеализма были бы слишком бедны и сухи, если мы не попытаемся оттенить их и сделать более близкими к нашему жизненному опыту. А платоновские идеи оставались бы слишком формальным требованием гносеологии, если мы не постараемся показать... – ну, не их самих, а, хотя бы, нечто, подобное им. Правда, всякий акт жизни синтетичен, как, в частности, синтетичен и всякий акт познания, и, следовательно, пронизан началом идеальным. Но для разъяснения идеализма необходимо выбрать такие проявления синтезирующего начала жизни, в которых идеальное проявлялось бы с особым блеском. В небольших чтениях не пытаясь решать большой вопрос, а именно, как возможны идеи психологически, метафизически и гносеологически, мы можем, однако, на конкретных переживаниях пояснить, что в опыте жизни антиномия идей вовсе не представляется чем-то неожиданным.
Не отвлеченной защитой идеализма, как доктрины, задались мы, а разъяснением его смысла для жизневоззрения и в жизнечувствии. Теперь нам должно снова обратиться к точке нашего исхода, к жизни.
VII
Идеализм есть «да» жизни, ибо жизнь – то и есть непрерывное осуществление ἒν και πολλά. И, если спрашивать себя, из чего могло образоваться учение об идеях, то едва ли можно найти что-нибудь более пригодное сюда, нежели живое существо. Живое существо – это наиболее наглядное проявление идеи. Однако, не всякое восприятие «животного», разумея это слово как церковно-славянское животно129, как греческое ζώον, или как латинское animal, а только то, которым воспринимается жизнь его130, есть восприятие синтетическое, выводящее за пределы «здесь» и «теперь». Моментальная фотография искусственно закрепляет момент и точку, создавая иллюзию смерти и неподвижности. Напротив, художник,
перелетев на крыльях лебединых
двойную грань пространства и времен131
в мертвом и недвижном материале воплощает он движение, и, таким образом, существо, воспринятое художником, просвечивает сквозь краски, мрамор или бронзу также и тем, кто в меньшей степени способен к синтетическим восприятиям. Художник творит образы жизни. Да, если сказать (– с точностью, сейчас достаточной), что жизнь – движение, то законно говорить и о художественных произведениях, как об образах движения. Будем ли мы понимать слово движение в широком метафизическом смысле, или в узком, как движение механическое, одинаково право можно сказать, что антиномии движения, столь беспокойные для отвлеченного рассудка, преодолеваются искусством. Чтобы не нагромождать примеров, рассмотрим подробнее произведения и мысли об искусстве одного творца – О. Родэна.
Все произведения его, – говорит П. Гзелль, – «трепещут жизненной правдой, все они созданы из плоти и крови, все они дышат, но эти две» статуи, – говорит он о «Бронзовом Веке» и об «Иоанне Крестителе», – «движутся»132. «Точно какая-то таинственная сила оживляет бронзу»133. Спрашивается, «какой силой бронзовые или каменные массы оживают, и неподвижные фигуры приходят в действие, напрягаются и даже как будто делают громадные усилия»134. – «Движение, – отвечает на это сам Родэн, – ничто иное, как переход от одного положения к другому»135. Художник «изображает переход от одного положения к другому: он указывает, как одна поза незаметно превращается в другую. В его произведении различаешь еще часть того, что было, и уже угадываешь то, что будет». Такова, например, статуя Рюда «Маршал Ней». «Герой выхватил саблю и зычным голосом кричит своим полкам: «Вперед!»» Присматриваясь к ней внимательно, замечаем следующее: «Ноги маршала и рука, держащая ножны, еще в том же положении, в котором были, когда он выхватывал саблю: левая нога отодвинута, чтобы правой руке удобнее было обнажать оружие, левая же рука осталась на воздухе, как бы, еще подавая ножны».
«Теперь вглядитесь в торс, – приглашает Родэн. – Для исполнения только что описанного движения он должен был податься снова влево, но вот, уж он выпрямляется, смотрите: грудная клетка выступает, голова поворачивается к солдатам, и герой громовым голосом подает сигнал к атаке; наконец, правая рука поднимается и машет саблей. – Движение статуи – только превращение первой позы маршала, когда он выхватывал саблю из ножен, в следующую, когда он уже бросается на неприятеля с поднятым оружием.
В этом вся тайна жестов, передаваемых искусством. Скульптор, так сказать, заставляет зрителя следовать за развитием жеста на изображенной фигуре.
Наши глаза в данном примере, силою вещей, смотрят снизу вверх, от ног до занесенной руки, а, так как по пути они встречают другие части статуи, представленные в следующие друг за другом моменты, то получается иллюзия совершающегося движения»136.
Подобно этому, в «Бронзовом веке» Родэна «движение тоже как будто идет снизу вверх, как и в памятнике Нею. Ноги юноши, только что проснувшегося, еще скованы дремотой и, как бы, шатаются; но, по мере того, как взгляд поднимается выше, весь облик крепнет: ребра выступают из-под кожи, грудная клетка расширяется, лицо обращается к небу, и руки вытягиваются, чтобы стряхнуть оцепенение сна».
«Сюжет этой статуи – переход от дремоты к жизненной силе, готовой претвориться в движение»137.
В другой статуе Родэна, в «Иоанне Крестителе», «ритм сводится к, своего рода, изменению равновесия. Фигура, которая сначала всей силой упирается на левую ногу, начинает как будто качаться по мере того, как наш взгляд обращается вправо. Видно, как все тело наклоняется по этому направлению, потом правая нога выступает и мощно овладевает землей. В то же время, левое плечо поднимается, как будто стремясь привлечь тяжесть корпуса на свою сторону, чтобы позволить оставшейся позади ноге двинуться вперед. – Искусство художника сказалось в умении заставить зрителя прочувствовать все эти моменты в последовательном порядке, чтобы из их совокупности получилось впечатление движения»138. Напротив, моментальная фотография с идущих людей совсем не дает впечатления движения. «Они стоят неподвижно на одной ноге, или скачут вприпрыжку. – Обе ноги «Иоанна Крестителя» стоят на земле, но заставьте натурщика сделать движение статуи и снимите с него моментальную фотографию. Нога, которая позади, окажется поднятой на воздух, а другая не успеет еще коснуться земли. Получится совершенно дикий образ человека, пораженного параличом и окаменевшего в своей позе.– Фигуры, схваченные моментальной фотографией в момент движения, кажутся застывшими вдруг на воздухе оттого, что все части их тела зафиксированы в ту же самую двадцатую, сороковую секунды: тут нет прогрессивного развития жеста, как в искусстве»139.
Не будем входить далее в обсуждение того, как именно художник изображает более сложные движения, целые процессы и развивающиеся события140. Но спросим себя, что же воспринимает более реальности, объектив камер-обскуры, или глаз художника? Кто более прав, светочувствительная ли пластинка, или художник? «Художник прав, а фотография лжет, – отвечает Родэн, – потому что в действительности время не останавливается, и, если художнику удастся передать впечатление жеста, длящегося несколько мгновений, его произведение, конечно, будет гораздо менее условно, чем научный образ, в котором время внезапно прерывает свое течение»141. Изображенное на фотографии бесконечно беднее реальностью изображенного на картине или в статуе, ибо оно – фикция. Если же мы скажем, что именно оно есть реальность, то тогда с необходимостью должны признать и формулу Вяч. И. Иванова, по которой художник и поэт восходят «a realibus ad realiora»142, ибо художественные произведения – entia realiora143, в сравнении с миром чувственных восприятий. Другими словами, в них просвечивает мир идей или универсалий.
Так, в изображении тела, схватывается искусством жизнь со стороны ее движения, сравнительно внешнего. В изображении же лица запечатлевается движение и более внутреннее, и более тонкое. Следующей ступенью в разъяснении природы идей могут послужить приведенные ниже строки Христиансена144 об эстетической проблеме портрета.
VIII
«Первый вопрос: как портретист оживляет свой предмет? – От нарисованной головы мы требуем, прежде всего, чтобы она «жила»... Лицо должно быть выразительно живым, и чем интенсивнее его жизнь, тем лучше. Мы презираем фотографический портрет не только потому, что он эстетически малоценен, но и потому, что у него не хватает жизни; или же, когда он улавливает ее, это происходит лишь случайно. Он выхватывает отдельный момент времени, ставит его одиноко, дает ему длительность и порождает впечатление чего-то окаменелого и безжизненного: непрерывное существование одного застывшего момента есть отрицание жизни...
Что значит жизнь? Ее противоположность – оцепенение, неподвижная длительность тождественного. Итак, для жизни необходимо движение и последовательная смена неодинаковых состояний. И портретист должен был бы дать эту последовательность на картине, которая, однако, неизменно пребывает в том виде, как она создана.
Здесь заключается проблема: как может процесс во времени, смена и движение, как может жизнь быть представлена в образе – так, чтобы зритель ощущал ее, как смену неодинаковых состояний?..
Портрет требует... жизни, в которой господствует покой, которая может длиться, заставить тебя остановиться перед нею, которая удержит тебя в тихом созерцании. Торопливое мелькание и гримаса импрессионистского движения допускает только беглый взгляд; вообще, импрессионистский прием плохо согласуется с субстанциальным в живописи, а особенно, импрессионистское противоречит спокойному потоку душевной жизни, которого требует портрет...
Итак, импрессионистские средства145 здесь непригодны. Необходимо прибегнуть к другим, и это доказывают произведения великих мастеров портрета в Голландии, Германии, Италии. Когда мы стоим перед таким портретом и стараемся уловить, каким образом сообщается его жизнь, то нам кажется, что выражение лица меняется, что за одним настроением следует другое, а за ним, может быть, снова первое, и еще новое, и так далее, – спокойное чередование, при котором, однако же, все снова звучит один основной тон.
Быть может, мы найдем также, сравнивая один портрет с другими, что их одушевленность стоит в известной связи с их пространственными размерами; с величиной портрета возрастает не только полнота его жизни, но и решительность ее проявлений, прежде всего, спокойствие его походки. Портретисты знают по опыту, что более крупная голова легче «говорит». И когда мы продолжаем наблюдения, то замечаем, что наш взор блуждает по портрету взад и вперед: от глаза ко рту, от одного глаза к другому и ко всем моментам, заключающим в себе выражение лица; он нащупывает формы очертаний, взвешивает отношение поверхностей и постоянно возвращается к глазу, отдыхая здесь после всех своих блужданий. И мы думаем, что, может быть, существует некоторая связь между этим блужданием нашего взора и необходимым размером: большее поле зрения облегчает полную отрешенность взгляда от одной точки и свободное движение его по всем направлениям, даже требует его для собирания элементов целого; интенсивность жизни портрета будет находиться, следовательно, в зависимости от спокойствия и амплитуды созерцающего и собирающего движения взгляда.
Идя далее, мы находим, что наш взгляд из различных точек картин, на которых он остановился, одна за другой, вбирает в себя различные моменты: различные выражения лица, различные настроения, но все они, несмотря на свою несхожесть, снова согласуются между собою, как дополнительные цвета или гармонически размеренные звуки; вместе с блужданием взгляда, кажется, что изменяется и выражение, и настроение портретов, возникает гармоническая последовательность.
Теперь мы узнаем средство, к которому прибегают великие художники, чтобы оживить портрет: это физиономическое несовпадение разных факторов выражения лица. Возможно, конечно, и кажется – рассуждая отвлеченно – даже гораздо естественнее заставить отражаться в углах рта, в глазах и в остальных частях лица одно и то же душевное настроение, чтобы оно же возвращалось и в собственной мелодии контуров, красок и всех других форм, так как во всем ведь сквозит одна и та же душевная жизнь. Тогда весь портрет звучал бы в одном-единственном тоне, усиленном всеми резонансами; но он был бы, как вещь звучащая, лишенная жизни146. Потому-то художник дифференцирует душевное выражение и дает одному глазу несколько иное выражение, чем другому, и, в свою очередь, иное – складкам рта, и так повсюду. Но простых различий недостаточно: они должны гармонически относиться друг к другу. Между ними должно происходить то, что при анализе стиля назвали разделением функций147. Между ними должно существовать телеологическое напряжение, которое делало бы возможным движение от целеполагания к цели; ибо этот процесс есть существенное условие художественного произведения. Они должны быть поэтому так дифференцированы и так подчеркнуты, чтобы один из факторов выражения стал господствующим и финалом движения: для этого лучше всего, конечно, годится глаз. Ему должно быть придано такое выражение, чтобы оно сделалось основным тоном и дополнением к выражению всякого другого физиономического или формального момента.
Главный мелодический мотив лица дается отношением рта и глаза друг к другу. Рот говорит, глаз отвечает.
В складках рта сосредоточивается возбуждение и напряженность воли, в глазах господствует разрешающее спокойствие интеллекта... Дугу меньшего напряжения перебрасывают портретисты от одного глаза к другому. Они дают обоим глазам различное эмоциональное выражение; при этом одно еще подчеркивается акцентом и ставится финалом, чтобы телеологическое отношение было определенным и необратимым...
Равным образом, и другие факторы выражения лица могут стать противовесом эмоциональному содержанию господствующего глаза, и точно так же все то, что выражает собственный язык отдельных форм. Тогда наш глаз скользит, все снова и снова, отправляясь от своей точки покоя, и находит все новые возбуждения и вопросы, которые, при его возвращении, разрешаются в основном тоне глаза. И в своем спокойном, широком движении взад и вперед, он собирает ритм последовательности напряженностей и разрешений, обещаний и исполнений, которые мы ощущаем, как спокойное дыхание здоровой жизни».
Таким образом, обсуждение проблемы портрета, т. е., в сущности, проблемы лика, еще приближает нас к пониманию идеи, как некоторому «ἒν και πολλά», как некоторому бесконечному синтезу или «бесконечной единице», если употребить выражение о. Архимандрита Серапиона Машкина. Да и что же есть лик человека, как не сквозящая в лице его идея его? Запечатление лика человеческого в портрете – это есть доступная внешнему созерцанию идея данного лица.
В наглядных примерах мы видим, что «мышление об общем вовсе не всегда есть мышление о классе»148. Другими словами, художественным произведением дается, если не доказательство, то основание думать, что единица может быть единичностью не только частной (individuelle Einzelheit), но и единичностью общей (specifische Einzelheit), по терминологии реалиста наших дней – Гуссерля149. Вечное и вселенское стоит пред созерцающим художественные образы, хотя они более конкретны и индивидуальны, чем сама конкретность и сама индивидуальность чувственных представлений.
Этот листок, что иссох и свалился,
золотом вечным горит в песнопеньи150
говорит поэт, и слова его относятся ко всему искусству, ибо искусством возносится действительность горе, к ее вечным первообразам, ведя нас a realibus ad realiora151.
IX
Синтетичность и, отсюда, вящая реальность художественного образа осуществляется через сращение впечатлений от объекта, т. е. объединением в одну апперцепцию того, что дано в различные моменты и, следовательно, под различными углами зрения. Не надо думать, однако, что это преодоление времени есть свойство исключительно эстетического восприятия, хотя в эстетическом восприятии оно и выступает с особою отчетливостью. Ни одно восприятие невозможно без участия памяти, и существенное значение памяти в восприятии неоднократно выяснялось разными методами и в разных направлениях, начиная с Канта и до наших дней152. А раз так, то всякое восприятие, как акт жизни, есть преодоление времени и, следовательно, синтетично; всякое восприятие – не только ἒν, но и πολλά, а в каком-то смысле – и πᾶν. Последнее, т. е. вселенскость каждого восприятия, несомненна, ибо вся целокупносгь нашей душевной жизни есть условие каждого данного восприятия, и ни одно не дано изолированно, помимо фона опыта, – что опять-таки выяснялось неоднократно, начиная с Канта и кончая современными психологами153.
Но, если так, если всякое восприятие есть синтез воспринимаемого в разные моменты и под разными углами зрения, то естественно возникает вопрос: не может ли эта синтетичность быть проведена значительно дальше? Не может ли, – путем соответственного упражнения и происходящего отсюда развития апперципирующей способности, – не может ли возникнуть наглядный синтез воспринимаемого в весьма далекие друг от друга моменты и под весьма различными углами зрения?
Положим, мы видим некоторый куб, последовательно обходя его со всех шести его сторон или, наоборот, последовательно поворачивая его всеми шестью сторонами. Нельзя ли, спрашивается, превратить этот ряд последовательных впечатлений от куба, полученных под разными углами зрения, в одно целостное восприятие, т. е. иметь одно синтетическое восприятие куба со всех сторон его? Или, если пойти далее, нельзя ли получить синтетическое восприятие куба, как одного целого, зараз совне и изнутри?
Почему бы и нет, – ответим на эти вопросы, – тем более, что в сновидениях и видениях нередки случаи, когда один и тот же объект зрится сразу извне и изнутри, или с разных сторон. Кроме того, некоторые прямые опыты, по-видимому, уже дали первые проблески нового восприятия, – разумею здесь опыты американского исследователя Хинтона154 над развитием того, что он называет «высшим сознанием». Сущность его метода не сложна. Это – «длинный ряд упражнений... с сериями различно окрашенных кубов, которые нужно запоминать в одном положении, потом в другом, в третьем, и затем стараться представить себе в новых комбинациях»155. Так, «первое упражнение, приводимое Хинтоном, состоит в изучении куба, составленного из 27 меньших кубиков, окрашенных в различные цвета и имеющих определенные названия. Изучив твердо куб, составленный известным образом из меньших кубов, мы должны перевернуть его и изучать (т. е. стараться запоминать) в обратном порядке. Потом опять перевернуть кубики известным образом и запоминать в таком порядке. В результате, как говорит Хинтон, можно в изучаемом кубе совсем уничтожить понятия вверху и внизу, справа и слева, и проч., и знать его независимо от взаимного положения составленных его кубиков, т. е., вероятно, представлять одновременно в различных комбинациях... Дальше описывается длинная система упражнений с сериями различно окрашенных и имеющих различные названия кубов, из которых составляют разные фигуры»156.
Итак, в результате упражнений, должна, по утверждению Хинтона, развиться способность «безличного», т. е. не связанного с одной единственной точкою зрения и, следовательно, неперспективного представления пространственного мира. Эту способность нового синтеза можно назвать иначе, а именно, представлением в четырехмерном пространстве. В самом деле, свойства такого представления совпадают с формально-выводимыми в многомерной геометрии свойствами четырехмерного пространства. Перспективность, т. е., в сущности, искаженность мира представлений, зависит от трехмерности пространства, как формы созерцания. И потому естественна попытка перейти к созерцанию четырехмерному через внедрение навыка – мысленно исправлять всякое трехмерное созерцание. В сущности, это – тот самый прием, которым представляющая способность переходит от двухмерного, искаженного перспективой, созерцания к созерцанию пространственному, трехмерному, ибо самая перспективность мира представлений есть некоторое умственное добавление к созерцанию двухмерному. Подобно тому, как мы выучиваемся трехмерному созерцанию, нам предстоит, путем особой тренировки, перейти к созерцанию четырехмерному. «Идея Хинтона и заключается в том, что прежде, чем думать о развитии способности зрения в четвертом измерении, нужно выучиться представлять себе предметы так, как они были бы видны из четвертого измерения, т. е., прежде всего, не в перспективе, а сразу со всех сторон, как знает их наше сознание. Эта способность и должна быть развита упражнениями Хинтона. Развитие способности представлять себе предметы сразу со всех сторон будет уничтожением личного элемента в представлениях. Уничтожение личного элемента в представлениях должно, по мнению Хинтона, повести к уничтожению личного элемента в восприятиях. Таким образом, развитие способности представлять себе предметы со всех сторон будет первым шагом к развитию способности видеть предметы такими, какие они есть, т. е. к развитию того, что Хинтон называет высшим сознанием»157.
X
В опытах Хинтона, как и в других внешних методах «отверзения чувств», нельзя не чувствовать чего-то искусственного, преждевременного и потому насильственного в отношении духовного организма. Методы выгонки новых способностей, несомненно, дают какие-то результаты и потому, в высокой степени поучительны для философа; но едва ли можно отринуть и то, что они противоестественны, так что, извне вытягиваемая ими функция, не производится жизнедеятельно, лишена внутренней силы и, следовательно, стоит вне связи с целостной жизнью. И, значит, злоупотребление подобными опытами и попытка восхитить силой те способности, которые естественно раскрываются на соответственной ступени внутреннего развития, – она влечет за собою болезнь и разложение личности158.
Ярким примером этого насильственного перехода к иным формам созерцания может служить испанец Пабло Пикассо (Pablo Picasso)159. Среди различных стадий160 в художественном пути этого, все еще молодого (родился в 1881 г.), экспериментатора над собою и над миром, нас сейчас занимает последняя, где отравленной душе большого художника преподносятся образы четырехмерного восприятия и в которых, однако, не чувствуется подлинной жизни. Я разумею серию его музыкальных инструментов, прекрасно представленную в Московской Щукинской картинной галерее161.
Вот как характеризует эту стадию развития Пикассо один художник:
С 1910 г. он начинает вводить в свою живопись футуристские принципы дивизионизма, динамизма и комплементаризма. Отныне рассечение (division) предмета на части станет необходимым элементом в картине Пикассо. Разъединяя предмет на несколько кусков, он воссоздает его в новой и необычной форме. Поворачивая к зрителю задней или передней, внутренней или наружной стороной составные части предмета, Пикассо располагает их на холсте не произвольно, а на основании новых вышеуказанных принципов; дух построения господствует и здесь, только отныне мы будем видеть предметы, изображенными в картинах Пикассо сразу с нескольких точек зрения, мы будем охватывать их полнее (avеc complement), глубже и совсем по-новому.
В своем «Nature morte’e» Пикассо рассекает скрипку на части; как бы, заглядывая внутрь ее, он размещает их на холсте не бессознательно, а по известному закону, чтобы выявить глубже взаимодействие пластических масс предмета; он строит из отдельных кусков скрипки (дека, гриф, струны, головка) целое, которое бы раскрыло всестороннее, пластичнее внутреннюю жизнь скрипки, ее ритм и динамику (force dynamique).
До сих пор передавали движение, как статическое явление, как одно из мгновенно зафиксированных, непрерывного ряда, движений – теперь Пикассо ставит себе целью дать в картине само ощущение движения (Sensation dynamique). Пикассо – глубокий живописец; новый метод приобретает у него особенную убедительность и логику: вещи, сделанные им в этом роде («Le compotier» и «Скрипка»), оставляют впечатление чего-то глубокого и законченного...»162.
XI
Мысль о возможности четырехмерного созерцания подымалась неоднократно; весьма возможно, что она входит в самый состав жизнепонимания, и, стало быть, древностью не уступает тому целому, с которым она связана по существу. По крайней мере, религиозная символика древнейших религий оживает, когда на нее смотришь в сделанном выше предположении. У философов же мысль о четырехмерной действительности высказывается отчетливо. Напомню Платонов «миф о пещере»163. Как тени, плоские схемы и проекции вещей относятся к телам, так и трехмерный мир – к истинному, – выговаривает Платон тайну пещерных созерцаний. А она ведет свое преемство из Диктийского грота на Крите – пристанища новорожденного Зевса. Тайны пещер потом неоднократно подвергались философскому исследованию, включительно до Шеллинга и Гёте164. Но Идеи, Матери всего сущего, живут в глубине, т. е. по направлению, которого есть глубина нашего трехмерного мира165, и потому, речи о них, хотя бы и самые внятные, остаются для ушей трехмерных, как жужжащее
Парки бабье лепетанье166.
И, однако, о глубине мира, которая постигается при правом устроении души, говорить не только можно, но и должно. «Преклоняю колена мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа... да даст вам, – пишет св. Апостол ефесянам, – ...крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота – καταλαβέσθοα... τί τό πλάτος και μήκος καί ύψος καί βάθος» (Еф. 3:14–15, 18)167.
Столь же давно вопрос о глубине мира связывался с проблемой времени. Уже у Платона, в его определении времени, как «подвижного образа вечности»168, можно видеть намек на другую тайну пещер. Омирщенная, она стала называться «кинетической теорией времени»169 или, еще в электромагнитной картине мира, созданной новейшей физикой, – «принципом относительности»170. Но мир тщетно ловит душу в свои хищнические сети: в сетях остается лишь скорлупа; а тайна жизни, как подвижная волна, опять уходит в пещерный сумрак. Ни Пикассо, осквернитель могил, ни самодовольные «винты и рычаги» науки, хотя бы и с микрометрическим ходом, не выкрадут клада; ведь от посягательств любителей смерти он еще глубже уходит в родное лоно Земли... В конце концов, украсть можно только то, чем владеешь, похитить – свое.
А наша тема опять требует к себе. Еще раз, что значит: «видеть идею»? – Платон говорит: видеть, что ἒν τα πολλά είναι και τό έν πολλά»171 – что «многое есть единое, а единое – многое», или, еще, видеть соединение «του απείρου και πέρατος»172, т. е. беспредельности существа и очерченности конкретно данного. Как же это, зрение делается возможным при четырехмерном созерцании?
Психология утверждает, что мы, собственно, видим мир плоскостный, и рельеф он получает от постоянной поправки, привносимой в чувственный материал бессознательным рассуждением. Глубина мира, по третьему измерению, есть нечто качественно иное, в сравнении с первыми двумя. Но, если мы представим себе созерцание плоскостное, то в нем непосредственно зримы были бы лишь прямолинейные отрезки, а кривизна линий, т. е. глубина мира по второму измерению, привносилась бы через некоторую интеллектуальную поправку, тоже происходящую от бессознательного умозаключения. Скажете: «Но ведь это фикция?» – Не такая далекая от будничной действительности, как это кажется спервоначала. Мы все слегка страдаем этой «фикцией», ибо для нас для всех, первое и второе измерение даны не с равным весом. Имею в виду астигматизм нашего зрения173. Если же, теперь, Вы предположите глаз с цилиндрическим хрусталиком, т. е. предельно астигматичный, то изображение, им даваемое, будет состоять из ряда параллельных линий. Всякая линия, если только она перпендикулярна к направлению оси хрусталика, будет незрима, и, стало быть, у нас будет отсутствовать самое представление о возможности линий, перпендикулярных к тому пучку параллелей, который будет единственным предметом нашего опыта. А, если так, то должна отсутствовать и мысль о мере расстояния между параллелями, и, значит, – о самом расстоянии, ибо оно дается перпендикуляром; т. е., другими словами, интеллектуально, все параллели будут сливаться в одну. Это значит, что мы будем видеть лишь прямую линию; интеллектуальная же поправка придаст ей глубину по второму измерению и поселит нас, таким образом, в мире плоскостном.
Для большей отчетливости рассуждений предположим, далее, что радужная оболочка глаза представляет собою линейную щель, и притом, помещенную у самой ретины, – так, что глаз видит только одну изолированную линию, или, если угодно, так, что сознание пребывает в одной плоскости.
Что же увидим мы в этом плоскостном мире?
Чтобы отчетливее его представить себе, надо вообразить плоскость, пересекающую мир трехмерный и дающую сечение мира в виде систем – плоских образов, линий и точек. Вообразим, что такому рассечению подверглось дерево. Ветви его дадут сечения эллиптические и круглые, листья – почти линейные отрезки, плоды и цветы – более сложные плоские образования. Получится много независимых друг от друга, плоских «предметов». Это будет πολλά. Изучая морфологию этих предметов, наблюдатель расклассифицирует их на зеленые линейные отрезки с мелкими выпуклостями, на эллипсисы белого цвета (– вообразим, что речь идет о березе) и на эллипсисы зеленые. Он построит несколько «общих понятий», и это будет важная научная заслуга. Наблюдая у различных образований процессы жизни и современность их, а, может быть, и изучив химические свойства соков, какой-нибудь гениальный ботаник признает единство в типе организаций у проекций листьев и проекций сучьев и, быть может, даже, построит эволюционную теорию, согласно которой будет признано единство происхождения всех форм и, далее, даваться предположительно генеалогия листьев, возникающих из некоего пра-сука. Связность во времени – вот наибольший размах мысли, на которой был бы способен наш астигматический ботаник. И каким бы фантастическим и ненаучным бредом казалось предположение некоторых «мистиков» о том, что, может быть, все эти организмы – не преемственно одно, а реально одно, и, что есть высшее единство, некое ‘Έν, в коем они зрятся, а не только мыслятся, как органы. Может быть, художники плоского мира попытались бы творчески воссоздать синтетический образ, в который входили бы листья и сучья174. Но их смутные грезы остались бы, вероятно, совершенно непонятными «плоскому» обществу и «плоским» художественным критикам, хотя и будили бы в них какое-то недовольство своим двухмерным созерцанием. Но, представим себе теперь, что, вдруг, у одного из созерцателей хрусталик стал искривляться, и по направлению оси. Тогда стало бы осознаваться и новое измерение пространства, сначала смутно, потом, по мере уравнивания обоих радиусов кривизны главных сечений хрусталика, – и все более ясно. И вот, когда хрусталик принял бы нормальную для человека форму, – один из созерцателей вдруг увидал бы дерево, как целое. В том, что увидал бы он, не было бы ничего похожего на виденное им ранее: это было бы качественно новое созерцание. Но в этом качественно новом можно было бы увидать и старое, как один из бесчисленных моментов его полноты. Между новым и старым, таким образом, отношение оказалось бы необратимым: в то время, как есть естественный переход от высшего к низшему, переход от низшего к высшему возможен лишь чудесным образом. Дверь от высшего сознания к низшему открывается только в одну сторону, и всякая попытка силою пройти сквозь нее в направлении обратном – терпит неудачу.
Так и мы. Может быть, по четвертому измерению и поныне наш хрусталик прямолинеен, – и мы совершенно лишены способности видеть и сознавать четырехмерность мира. Множественность похожих друг на друга объектов, в таком случае, может объясняться их проективностью: это – трехмерная проекция четырехмерного единого объекта. Но, в тот момент, когда отверзутся очи наши и мир окажется глубоким, – мы увидим лес, как единое существо, и всех коней – как единого сверхконя, а человечество – как единое Grande Êtrе175 О. Конта, как Адама Кадмона Каббалы, или как Uebermensch’a176 Фр. Ницше177. Но сходства между этим Лесом, Конем и Человеком – и деревом, конем и человеком, разумеется, гораздо менее, нежели, чем между деревом, конем и человеком – и их микротомическими срезами. Знающему высшую сущность, низшая понятна более, нежели знающему только низшую; но последнему, высшая вовсе непостижима. Это можно сравнить с попыткой представить себе человека по отпечаткам концов его пяти пальцев на листе бумаги. Есть несомненная связь между индивидуальностью человека и формою кожных сосочков и кожных валиков, или, так называемых, папиллических линий, – papillae178. Индивидуальность столь решительно выражается в них, что дактилоскопический анализ признается за один из существенных приемов установления тождества личности в деле высокой ответственности – в судебном. Но можно ли было бы существу двухмерному, хотя бы и весьма разумному, по пяти завиткам, отпечатавшимся на его плоскости, можно ли было бы ему понять, что эти завитки оттиснуты единым человеком и составляют одно. А, тем менее, можно было бы ему представить себе несоизмеримый со всем, что знает он, образ этого трехмерного, потустороннего, для него, человека. При наибольшем размахе мысли, трехмерный человек им постулировался бы, но лишь как требование мысли, не имеющее себе никакого конкретного соответствия в его опыте.
Многомерный образ в мире, – или, точнее, в опыте, – меньшего числа измерений не может быть созерцаем, как целое, именно по своей более высокой степени реальности, – по реалиорности полноты своего содержания не вмещается в слишком узкие рамки бытия низшего. Но эта невозможность не исключает созерцания его последовательно, как ряда отдельных моментов его бытия, или наподобие серии микротомических срезов, которые, в своей чреде, хотя и не дают конкретного представления, но все же, дают абстрактное понятие о едином целом, коего они суть образы. Последовательность-то прохождения этого ряда моментов и связывает многомерное пространство со временем, которое оказывается, таким образом, некоторым эквивалентом четвертого измерения или, если угодно, четвертой координатой. – Тогда всякий процесс может быть рассматриваем не как внутреннее изменение того, что меняется, а как прохождение многомерного объекта через трехмерное пространство, и фазы развития – как друг другу современные грани в бытии этого объекта, а не как последовательные стадии. Если, например, на плоскости точка-зародыш развивается в кружочек, который начинает расти, а затем, достигнув некоторого наибольшего значения, убывает и, снова свившись в точку, вовсе исчезает из поля опыта, то этот процесс в плоском мире можно понимать, как прохождение не меняющегося в своих размерах трехмерного шара через плоскость опыта. Подобно сему, звездочка, появившаяся внезапно на небе и необыкновенно быстро возросшая в своем блеске и в своих размерах, а затем скрывшаяся неведомо куда, может быть звездою четырехмерною, огненным гипершаром или, как еще называют его, шаро – шаром179, пролетающим через наш трехмерный мир. Также новые звезды, внезапно вспыхивающие, чтобы вскоре же исчезнуть и, иногда, – навеки, и, обыкновенно, рассматриваемые, как мировые катастрофы, – на деле, быть может, суть только звездо-звезды, попавшие на небо трехмерного пространства.
Мысль, разбираемая здесь, в существе своем всем знакома, ибо она-то и лежит в основе генетического метода рассмотрения действительности. Понять явление как целое, можно, не выделив из него один момент и на таковом сосредоточив все внимание, а охватывая купно все стадии развития. Понять нечто, как процесс, собирая и суммируя моменты его возникновения, это, именно, и значит считать время за четвертую координату его, а самое явление – четырехмерным. Мы говорим, что личность, единая и себе тождественная, познается в своей биографии; но что иное может значит это самопротиворечивое утверждение, как не признание неисчерпаемости личности никаким частным моментом в бытии, т. е., другими словами, сверхэмпирической природою ее. Каждый момент биографии данной личности есть срез ее реальности пространством эмпирии, т. е. реальность низшего порядка. Самая же личность, в ее целостности, конкретно не созерцается, но отвлеченно мыслится, как искомый синтез всех моментов своей биографии. Это единство – уже не во времени, по крайней мере, не во времени нашего порядка, а в том, что, сравнительно с нашим временем, можно назвать вечностью, хотя это и не есть вечность в смысле безусловном180. Отсюда понятно, что всякая религия, – а она всегда ищет иной, высшей реальности, – по существу своему, постулирует и, того или другого порядка, вечность. То и другое стремление выражается в созидании символических синтезов, без которых едва ли можно указать хоть одну религию. Но мы остановимся, для примера, лишь на двух-трех образчиках этого символотворчества религии.
Ярким образчиком синтетических образов, созданных религиозной символикой, может служить мистическое древо, столь выразительное для вавилонского и, особенно, для ассирийского искусства181. Что ж такое это, как его называют исследователи, «священное древо», «der heilige Baum», «1’arbre sacre», или «древо жизни», «der Lebensbaum», или «l’arbre de vie»?
По M. Ястрову, это – «всегда пальма, но часто переданная схематическим образом»182. Однако, даже для поверхностного обозревателя памятников древней Ассиро-Вавилонии, ясно, что такое указание слишком бедно и потому чрезмерно обедняет самые памятники. С самого начала должно было предположить, что пристальный взгляд специалиста, искушенный в распознавании растительных форм, откроет в древе жизни растительные части более разнообразные, нежели, чем указывает Ястров.
«Один ботаник, тщательно изучивший флору месопотамских памятников, а именно Э. Бонэвьё (Е. Bonavia), настаивает на том, что священное дерево Ассирии есть просто синтез растений, некогда почитавшихся в стране, за оказываемую ими пользу: пальму за финики, виноградную лозу за ее сок, сосну или кедр за строевой и топочный лес, гранатовый куст за его значение в производстве таннина и в варке щербетов. Что же касается до рогов, привитых к стволу, то они представляли бы рога животных, – быков, каменных баранов, серн и т. д., – которые вешали, без сомнения, на ветви, чтобы отвратить дурной глаз»183.
Таково древо жизни, в коем граф А. Гоблэ д’Алвиелла184 усматривает древнейшее пластическое изображение Мирового Древа, «l’Arbre de Monde», или «Космологического», «l’Arbre Cosmogonique». Смысл этого синтетического образа едва ли затруднителен для понимания. Это – изображение жизни в ее целостности или, иначе, идея жизни.
Отсюда понятны сближения символического древа жизни Ассиро-Вавилонии, делаемые панвавилонистами, – с Древом Жизни Книги Бытия. Если первое выражает идею полноты жизни и, следовательно, того очага, в котором сосредоточена вся жизнь, то второе есть полноводный источник жизни; приобщаясь плодов его, царь всей твари, а с ним – и все его царство, имели бы жизнь неиссякаемую. Сначала такое сближение кажется злонамеренным; весьма вероятно, что оно, именно, и есть таково, по мысли его устанавливающих. Но, само в себе, оно не содержит чего-либо вредного. Ведь Животворящий Крест Христов, Святейшим Плодом Коего питаются верные, чтобы жить, – Он сближается в церковных песнопениях с Библейским Древом Жизни185; а, с другой стороны, церковное искусство давно уже сблизило тему креста с темою ассиро-вавилонского древа жизни186.
Другой синтетический символ религии подходит к идее жизни через суммирование животного царства. В простейшем виде, это – фериоморфные образы божеств, сочетающих в себе части животных с органами человеческими, причем, преобладает тот или другой тип организации. Таковы многие египетские изображения. При синтезах более глубоких, трудно, или даже невозможно, отметить организацию преобладающую. Сфинкс, Химера и т. п. могут быть представлены, как образчики таких символов. Синтез наиболее последовательный – это образ ассирийских кируби, окрыленных львов или быков, колоссальные изваяния которых ставились охранителями входов у дворцов ассирийских царей. Это – существа, у которых мудрость человека соединяется с парением и быстротою орла и силою тельца или льва187. Другие крылатые духи, иногда с орлими головами, охраняют священное древо или благословляют царя. Понятно, что все эти стражи порога трансцендентны в отношении к нашему миру и потому-то могут быть изображаемы не иначе, как символически.
Керубы, т. е. херувимы, или хайот, т. е. «живые существа», «τά ζώα», поддерживающие престол Славы Божией в видении пророка Иезекииля (Иез. 1:10, ср. Откр. 4:6–8) и изображаемые на ковчеге завета, на покрове мишкан и на завесе парохет ветхозаветного Храма, по-видимому, должны быть сопоставлены, по внешнему виду, с этими ассирийскими духами-хранителями. «Херувимы имели вид крылатых существ, в своей наружности выражающих разум человека, крепость вола, мужество льва и стремление вверх орла»188, – «крылатые животные, по своему виду не похожие ни на одно из животных, каких видели люди – τώ δ’ έπιΒέματι αύτής (кивота) ή σαν πρόστυποι δύο. Χερουβεΐς μἒν αυτούς Εβραίοι καλουσι, ζώα δ’ έστι πετεινά, μορφήν δ’ ούδἒνί των ύπ’ ούρανώ έωραμένων παραπλήσια»189. Тетраморф христианской иконографии, т. e. духовное существо, сочетающее в себе четыре лика: человеческий, львиный, тельчий и орлий190, а, равным образом, и символы четырех Евангелистов191: человек, лев, телец и орел, изображаемые иногда при Евангелистах, а иногда, и независимо от них, например, на парусах свода в храме, – представляют собою другие символические образы того же духовного существа, ибо и символы Евангелистов – эти основные физиогномические и онтологические типы бытия человеческого – должно рассматривать не врозь, а как одно целое. С другой стороны, хайот Ветхого Завета стал предметом внимательного и глубокого созерцания у каббалистов192.
Дальнейшее обсуждение синтетических символов было бы слишком специально для настоящих чтений. Поэтому, ограничим себя уже сказанным, и лишь зададим себе вопрос: «Нужно ли рассматривать все подобные символы только как требования религиозного умозрения, или же они подлинно созерцаются в воспарениях духа к миру горнему?»
Ответ на поставленный вопрос едва ли может быть каким иным, кроме положительного. Пророческие видения суть именно конкретные созерцания, но вовсе не отвлеченные построения и требования богословской науки. То, что видел св. пророк Иезекииль, непредставимо для нас не по трудности постижения, а по решительной чуждости пророческого опыта – нашему опыту. Мы не то что плохо, но никак не можем представить себе конкретно видение Пророка, ибо, – как говорит Псалмопевец, – «смирися в персть душа наша, и прильне земли утроба наша» (Пс. 43:26). И, однако, опыт синтетического зрения повторялся и повторяется всякий раз, когда духовный взор получает силу подыматься над «плотским» миром чувственного. Синтетически созерцается целостная жизнь личности; синтетически созерцается жизнь народов, государств. Целые обширные периоды мировой истории, или даже вся вселенная, порою собираются пред духовным взором в один фокус. Вот, например, свидетельство св. Венедикта Нурсийского, удостоившегося зреть всю вселенную в одном солнечном луче или (– сказателю, вероятно, надо было бы выразиться точнее), в одной солнечной пылинке. «Почив же преподобный Венедикт с вечера мало, воста на молитву, предваряя часть полунощный, и стог при оконце и моляся, внезапу узре свет небесный велий, и нощь паче дневнаго света просветися: а еже чудеснее, якоже сам отец послежде поведа, яко мнех, рече, всю вселенную аки бы под’едину солнечную лучу собравшуюся зрети. Прилежно же преподобный в светлости одной взирая, виде душу блаженнаго Германа, епископа капуанского, на огненном крузе ангелами возносиму»193. Это удивительное место из творений св. Димитрия Ростовского есть передача первоисточного повествования, написанного св. Григорием Двоесловом, папой Римским. Вот подлинник: «Cumque vir Dei Benedictus quiescentibus adhuc fratribus instans vigiliis, nocturnae orationis tempore peruenisset, ad fenestram stans, et omnipotentem Deum deprecans subito intempesta noctis hora respiciens, vidit fusam lucem desuper cunctas noctis tenebras effugasse, tantoque splendore clarescere, ut diem vinceret lux illa, quae in tenebris radiasset. Mira autem res valde in hoc speculatione secuta est: quia sicut post ipse narrauit, omnis etiam mundus velut sub uno solis radio collectus, ante oculos eius adductus est. Qui venerabilis Pater dum intentam oculorum acien in hoc splendore coruscae lucis iniingeret, vidit Germani Capuani espiscopi animam in sphaera ignaea ad angelis in coelum ferri...»194.
Так воспринимается жизнь мира в ее целостности. Высшая же жизнь, жизнь жизни, или духовность, конкретно созерцаемая, как свет, тем более является открытому взору в образах целостных. Ткковы явления Церкви св. Ерму, видевшему это Соборное Существо, как светоносную Башню, и как Жену, исполненную величия195. Указывается возможность и иного созерцания Церкви, – трудно предположить, чтобы без личного опыта, – авторитетным толкователем церковных тайнодействий, Архиепископом Солунским Николаем Кавасилою, жившим в XIV в. Известный не только как глубокий богослов, но и как жизненно изведавший истину догматов, он дает очень важное указание, как должно понимать реальное единство Церкви. «Церковь, – пишет он, – указуется тайнами, не как символами, но как сердцем указуются члены, как корнем дерева – отрасли и, как сказал Господь, как виноградною лозою – ветви: ибо здесь не одинаковость только имени и не сходство подобия, но тождество дела, так как тайны суть тело и кровь Христа... Если бы кто мог увидеть Церковь Христову в том самом виде, как она соединена со Христом и участвует в плоти Его, то увидел бы ее не чем иным, как только телом Господним. По этой-то причине Павел пишет: «Вы есте тело Христово и уди от части» (1Кор. 12:27) – Σημαίνεται δέ ή Εκκλησία έν τοις μύστηρίοις, ούχ ώς έν συμβόλοις, άλλ’ώς έν καρδίαμέλη, καί ώς έν ρίςῃτου φυτοΰ κλάδοι, καί καθάπερ έφη ό Κύριος, ως έν άμπέλω κλήματα. Ού γάρ ονόματος ώνταΰθα κοινωνία μόνον, ή αναλογία όμοιότητος, αλλά πράγματος ταύτότης... την Χρίστου Εκκλησίαν εΐ τις ίδεΐν δυνηθείη, κατ’ αυτό τούτο καθ’ οσον αύτώ ήνωται, καί των αύτου μετέχει σαρκών, ούδέν έτερον ή αυτό μόνον Κυριάκόν δψεται σώμα...»196.
XII
Если жизнь, даже извне воспринимаемая и кистью или резцом запечатлеваемая, есть «μία διά πολλών», или некоторое universale, то тем более должны быть сверхъединичными живые организмы, эти, изнутри формуемые, изваяния жизни. И действительно, древняя философия начала именно с живого и одушевленного вещества, с гилозоизма и гилопсихизма197. Удивление, которое, и по Платону, и по Аристотелю, есть начало и движущая сила философии, – это удивление возбуждалось именно противоречивым сочетанием в жизни единства и множества. Поэтому-то проблема ἒν καί πολλά красной нитью прошла от самого начала до самого конца истории античной мысли. Термин «род», – этот насущнейший термин при рассмотрении жизни, – он оказался исходным в развитии идеализма. И не случайно логика, чадо идеализма, воспользовалась термином биологическим и, отчасти, социальным.
Род, для современного человека, есть совокупность, ансамбль, агрегат, логический объем, т. е. единство внешнее и механическое, – не более. Но для древнего – он был единством существенным, единым объектом знания.
Наше зрение болезненно чувствительно к индивидуальному; еще более чувствительно к нему наше жизнеощущение и наше жизнепонимание. Индивидуализм, – он же и номинализм, – есть болезнь нашего времени. Но древний человек должен был усиливаться, дабы увидеть индивидуально-отъединенное, и должен был согрешить, чтобы себя ощутить таковым. Раздельность он видел актом нарочитого отщепления, и она представлялась ему виною, – «несправедливостью, άδικία», – как выражался Анаксимандр198.
Роковым «возмездием», пеней, δίκη за эту вину было, по воззрению того же мыслителя, уничтожение, растворение индивида в среде. Действительность виделась древнему человеку не как ряд раздельных точек и не как хаос, где смыты все расчленения, но как организм. Органы его, допускающие зреть себя отъединенными, отчлененными, – делаются для сознания таковыми лишь при особом усилии. Для всегдашнего же восприятия они суть одно. Таинственное единение связует род.
Это-то осуществленное ἒν και πολλά есть род, в древнем смысле слова. Раздельность рода – кажущаяся, да и то лишь помоментно; она – лишь расчлененность. Но, чтобы нам, людям XX века, почти утерявшим зрение единого, и за деревьями давно уже не видящим леса, – чтобы нам опять понять это единство рода, приходится мысленно возместить недостаток своего зрения. Этими возмещениями могут служить гипотезы: четырехмерного зрения, единства крови или единства семени, единства биологической формы и, наконец, единства чисто мистического. Но при этом, надо помнить, что все такие гипотезы – лишь костыли, которыми мы пытаемся скрыть прямое уродство своей организации. Греки созерцали ἒν καί πολλά, и в этом зрении их уже завита была вся их философия, а, следовательно – и жизненный, подлинный интерес в ней. Мы же должны сначала убедить себя, что есть не только πολλά, но и ἒν, – что есть ἒν καί πολλά, и тогда только, умственно создав себе основную проблему философии, начинаем философствовать, т. е. решать ее. Для нас философия гораздо более рассудочная и извне присоединенная к нам деятельность, нежели это было у греков. Ведь для них философия была не украшением жизни, а внутренней красотою ее, раскрытием их психофизической и общественной организации.
XIII
Постараемся же несколько пристальнее вглядеться в первоначальный смысл слов род и вид. Совлекши с них юридические и философские наслоения, войдем под своды первичного ядра, как в некую пещеру или зиждительное лоно бытия, и, войдя, сделаем усилие вжиться в первобытный сумрак, здесь разлитый.
Несколько человек похожи друг на друга; у них – «фамильное сходство», – «что-то общее». Но что такое их общее? – Их общий корень, их происхождение от одного ствола: по определению св. Исидора, епископа Испаленского или Севильского (ум. 636 г.), «gens est multitudo ab uno principio orta»199. Самое слово gens, равно, как и сокоренные ему: латинское genus и греческое γένος, указывает на мысль о рождении, лежащую в основе понятия о gens. Так высказывались уже писатели VII-го и IХ-го веков. «Gens appellata propter generationes, id est a gignendo, sicut natio a nascendo»200, утверждает тот же Святой201. Его объяснение применимо, mutatis mutandis, и к русскому языку: как род, так и народ, несомненно, – от рождать. То же разъяснение дает и, родившийся сто лет спустя после смерти еп. Исидора, Алкуин (735–803 гг.). В своем «Диспуте мальчиков» он заставляет их держать такой диалог:
«Вопрос. Quid est genus?
Ответ. Genus est a gignendo dictum, an derivativum nomen a terra, ex qua omnia gignuntur.
Вопрос. Quomodo?
Ответ. Ge enim graece terra dicitur»202.
Переход от латинского genus к греческому γή – этимологическая наивность, тем более прелестная, что за нею скрывается глубина большой мысли о всематеринстве Земли.
К этому же гнезду слов относятся203: санскритское jan, janati и jajanmi – порождать, производить; jάjѐ – рождаюсь; janas – существо, сущность; janus – пол; janitâ, janitar – genitor, производитель, родитель, janitri – genetrix, родительница, jâtis – рождение. Сюда же, далее, относятся: ведическое gnâ, или более народное jani – женщина; зендское zan – порождать, ghena – женщина; греческие: γίγνομαι γἒνετήр, γἒνέτειρα, γένεσις, γυνή и т. д.; латинские gigno, genui, genitor, genetrix, gnascor, genor, genius, natura и т. д.; готфское kuni; наши: жена, женщина – опять того же корня.
Итак, этимология подтверждает, что, действительно, рождение делает род – родом. Родичи носят одно имя, как ветви одного корня. Общее их – не отвлеченно общее, но конкретно общее; оно одно в них. Это – их род. Род их нумерически тождествен в них, численно – один и тот же. Не черты сходства родичей – причина их родства, но родство их – причина их сходства. А раз так, то родство мыслится конкретно; оно – все равно, что род. Черты сходства – это явление единого их рода; это единое начало высвечивает в них, сквозит в них, и, что самое замечательное, сквозит не в том или другом ограниченном сочетании признаков, но во всем их, везде в них, всегда у них; все их – в сущности, одно, при внимательном рассмотрении оказывается одним. Один в них – род их. А то одно, что сквозит во всем их, – это энергия рода, или – род своей энергией. Будучи порождениями одного корня, родичи и остаются одним, – именно, родом, γένος, gens – genus.
Всюду сквозит род; и, однако, нигде не дан чувственно. Нет ничего не запечатленного характером рода; а попробуй указать, где же род, – и станешь впросак. Не существующий для опыта чувственного, род, в опыте более внутреннем, не оставляет области для чувственного, и оно оказывается само меоничным. Это можно пояснить на более привычном восприятии, – личности. Где она? – Чувственно – нигде, – ни в руках, ни в ногах, ни в голове, ни в лице, ни в голосе, ни в походке, ни в манерах и т. д., одним словом, ни в чем из того, что мы видим, слышим, осязаем или обоняем. И, однако, всякий знает, что в лице, на руках, в походке, в интонациях и тембре голоса, в манере держать себя и т. д., и т. д., зрится личность, как, равно, она осязается, обоняется и слышится, когда за глазом, ухом, носом или рукою действует другой глаз, другое ухо, другой нос и другая рука... И личность человеческая, не данная нам чувственно, повсюду в чувственном сквозящая, всегда меж чувственного мелькающая, подобно притаившемуся за частоколом, она-то и есть ens reа1iоr204, в сравнении с чувственной оболочкой, в которой она воспринимается; личность – реальность высшей плотности, в сравнении с тощей реальностью чувственного. И, чем чище сознание от тумана чувственного, тем отчетливее выступают более существенные очертания внутреннего человека. Так, преп. Стефан Савваит умел «видеть духом». Он сам говорил: «Я удостоен от Бога дара прозорливости и понимаю по одному виду и зрению помыслы и тайные страсти души всех, кого мы зрим, или о ком нас спрашивают, или кто нам попадается, и всех узнаю душевные и духовные недостатки»205. А в другой раз, он говорит: «Ничто совершенно не скрывается от меня из вашего образа жизни: и я, если бы захотел перечислить все ваши тайны, то смог бы сделать это при помощи Божией»206.
Что о личности, то и о роде. Среди родичей нельзя указать такого звена, или у них самих – такой черты, к которым удалось бы приурочить род. Нет такого родича, о котором можно было бы сказать: «Вот род». Мало того, Род – порождение единого корня, «единого начала – «unius principii», по св. Исидору; но нельзя сказать, что это «единое начало», этот корень – род. Корень – корнем, а ветви – ветвями. И корень – в ветвях не более, чем они сами – друг в друге. Ни корень не в них, ни они не друг в друге и не в корне, но есть нечто, что едино в них, и им-то, этим «нечто», все они друг в друге и в корне, и корень – в них. Рождение связует родичей во единое целое или, точнее, подобно почкам распускает на безвидном и незримом роде незримые виды его или лики родичей, их «ипостаси», выражаясь в терминах отеческих. Но, опять, и рождение есть свойство не рода, а лишь членов его, т. е. и рождение есть некоторая поверхность рода, а не сам он. «Γέννησις – επί δέ των σωμάτων, ή έκ συναφείας αρρἒνός τε καί Οηλείας, όμοουσίου ύποστάσεως πρόοδος. ‘́Οθἒν γινώσκομἒν, ώς ούκ εση φύσεως τό γἒννάσθαι, άλλ’ ύποστάσεως. Εί γάρ φύσεως ήν, ούκ αν έν τῃ φύσει τό γἒννητόν έθεωρεΐτο καί τό άγέννητον»207. – Рождение... в отношении к телам означает происхождение единосущной ипостаси от соединения мужеского пола с женским. Отсюда мы познаем, что рождать есть свойство не естества, а ипостаси; ибо, если бы это, т. е. рождение, было свойством естества, то тогда в одном и том же естестве не созерцалось бы рожденное и нерожденное». Так свидетельствует об интересующем нас вопросе св. Иоанн Дамаскин208.
Итак, не только тот или другой индивид, но и самое рождение есть свойство не рода, а лишь ипостасей его; но, в то же время, бесспорно, что в рождении мы более и легче чувствуем присутствие рода, нежели, например, в несении служебных обязанностей. Есть какая-то разница в ощущении ноуменального зерна вещей, при обращении с разными деятельностями и разными свойствами ипостасей его. Подобно тому, как у отдельного человека, личность его, в разных его поступках, разных его состояниях, свойствах и органах, проступает с различною степенью выразительности, так и у «множества» (или рода) есть места большей или меньшей прозрачности. И, если мы признаем, что на лице легко читать духовное состояние человека, а на спине – весьма трудно, то нет ничего удивительного в признании, что и у «множества» ноуменальный пульс нащупывается в одних местах сразу, а в других – лишь при большом внимании, и при изощренной чуткости. Вот почему, не без основания можно этим тонкокожим и просвечивающим местам мира феноменального давать символически имя соответствующих ноуменов. Так, лицо мы весьма сближаем с ликом: так же точно род называем мы общей, у родичей, «кровью», или общим их «семенем». Да, символически, родовое семя или родовая кровь и есть род. Такому сближению, между прочим, содействует и латинское наименование семени словом germen, из gen-men209, происходящим от того же корня, что и gens-genus. Но опять, та, проливаемая кровь, или то, изливаемое семя, лишь имеет в себе, несет в себе род, но сами – не род, а лишь канал, по которому течет род. Кровь и семя зримы, род же – незрим. Кровь и семя – там или тут, род же – ни там и ни тут, но вместе – и там и тут. Кровь и семя – теперь суть, или были, или будут: род же – и есть, и был, и будет. Он – един, хотя может сквозить с большей или меньшей ясностью всюду. Являясь во многом, он, однако, лишь мерцает, лишь чувствуется, – но не ощупывается.
Род не имеет определенности зримой, осязаемой, обоняемой или слышимой. Бесструктурные, на взгляд, кровь или семя своей бесформенностью лишь символизируют чувственную бесформенность рода. Сам он безвиден и незрим, а, следовательно, и бестелесен. – Однако, в родичах, порождениях своих, он получает виды, и виды эти многообразны.
Члены рода, возрастая, меняются, – конечно, не в смысле только количественном, но и качественном. 7-мифунтовый младенец превращается в 7-мипудового мужа, меняясь в цвете лица, волос и даже глаз, в крепости мышц и костей, во вкусах, манерах, знаниях, привычках и даже в характере. Кажется, нет ни одного такого признака или совокупности их, о которых можно было бы с твердостью сказать: «Это – инвариант». И, однако, личность остается себе тождественной, – не единством самосознания только, а чем-то, воспринимаемым со стороны. Лик человека, при всех изменениях его, всегда остается неизменно сквозящим в лице его. Есть в зримом лице нечто, хотя и не зримое, но более определенное, нежели все зримое, – некоторый, математически выражаясь, инвариант210 лица.
Нефиксируемый перечислением признаков, подобно лучу света ускользающий от ножа анализа, лик лица, однако, пребывает; стремительный вихрь Времени сметает всякую эмпирическую неизменность, а лик, как путеводная звезда, стоит недвижимо. Не так ли, сотканная из чистейших лучей, радуга даже не шелохнется и не дрогнет от урагана, хотя в пролете ее он крушит вековые дерева, и над ее сводом мчит мятущиеся, обезумевшие облака? Каждое частное состояние человека, каждый момент его роста, каждое движение его, слабее или сильнее, но светится лучом его лика, его «вида». Эти-то виды родичей – в роде, в нем пребывают, в нем участвуют, его приобщаются, или род в них присутствует – как угодно; но, короче, виды рода – в роде. Род и его виды – это сущности, из коих род безвиден сам, но имеет в себе виды, и видами своими сквозит в членах рода.
Этим-то высвечиванием определяется значение родичей для вечности. Член определенного рода – родовит; он – определенной «породы», породист, γἒνναίος, т. е. одновременно – «породистый» и «благородный». Это значит, что род в нем явно сквозит. Да и что иное есть благородство, как ни прозрачность эмпирической оболочки для ноуменального содержания. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах» (Притч. 25:11) – разве это сказано, в сущности, не о благородстве? Ведь благороден тот, в ком вид определен, целен, невозмущен, т. е. зрим четко обрисованным. Благороден тот, в чьем виде зрим род его, т. е. в чьем лице видно вечное и вселенское.
Так, на основном значении слова γένος нарастают производные слои. Уже у Гомера211 слово γένος имеет значение: 1) корня, происхождения, genus или stirps212; 2) места, откуда кто-нибудь ведет свое происхождение213; 3) продолжения рода, geniis propago214; 4) людей одного и того же возраста, поколения215; 5) возраста, – выражение γένει равносильно aetate, natu216; 6) наконец, значение отвлеченное, в смысле разряда, класса (например, ημιθέων γένος άνδρων217), причем, это последнее значение встречается, по большой части, в Гомеровских гимнах, т. е. относится ко временам более поздним218. У писателей позднейших219, момент отвлеченного множества в слове γένος получает большое значение. Γένος начинает означать: народность – natio, или племя – gens, ἒθνος; литературный род;
пол; людей, вообще – человеческий род; и, наконец, у Элиана, Филострата и др. – коллектив, и тогда сочетается со множественным числом. Эта подмена в содержании слова γένος реального единства единством коллективным, была характерно запечатлена установлением в философии эквивалентом слову γένος не genus и даже не gens, a classis, т. е., словом, характерно обозначающим внешнее единство, единство силой приказа или юридического требования, и ничуть не относящимся к единству внутреннему, единству по естеству, по рождению220. В этом-то своем значении класса, или даже прямо этим своим эквивалентом, слово род, γένος, вошло в самое сердце западноевропейской философии и стало зародышем будущего номинализма.
Западноевропейское мышление загодя было обречено на номинализм, ибо к самому корню его было привито отрицание реального единства у «класса». Развитие этого номиналистического зародыша было лишь вопросом времени, и позднейшая история ясно показала, сколько прискорбных последствий связано с неудачным выбором основных терминов.
XIV
Как же понимать теперь то конкретное общее, или созерцаемое universale, или, еще, наглядное ἒν και πολλά, которое лежит в основе всего знания? – Пытаясь подойти к пониманию его, мы каждый раз наталкивались на проблему жизни, а эта проблема переходила в вопрос о человеческом теле.
Последний же, в свой черед, сгущался в вопрос о лице, и тайна лица обострялась в проблему лика. Но тут неизбежно спросить себя: «Что, это сведение идеализма к исследованию лика получилось у нас случайно, завися от искусственного подбора разъясняющих примеров, или самим существом дела идеализм коренится в обостренности внимания к лику?»
Припоминая, что античный идеализм исторически вырос именно на Сократовом открытии для философии человека и на исследовании человеческой природы; припоминая, затем, что для античности вообще, а для Сократа – в особенности, человек был А и Ω жизнепонимания; припоминая, далее, особливую антропроцентричность эллинского миросозерцания во втором периоде развития античной философии; и, наконец, останавливаясь вниманием на исконной чуткости эллинов к красоте человеческого тела, – учитывая все это, мы непременно догадываемся, что на лике, именно, (– ибо ликом своим человек бывает человеком) «ориентирован» идеализм и что, следовательно, идея связана с ликом гораздо более тесно, нежели, чем просто с одним из разъясняющих примеров, как это могло быть понято из предыдущего изложения. Да, идея есть лицо лица, или лик. Такая догадка весьма вероятна; но она переходит и в уверенность, если только мы потрудимся этимологически обсудить слово, ставшее в языке идеализма коренным – именно, технический термин είδος или ίδέα221.
Что значат слова είδος и ιδέα? – Живший в V в. по Р. X. александрийский лексикограф Исихий222, в качестве синонимов слову είδος приводит: «καύμα – жар, разгоряченность, χρώμα – цвет кожи или тела, σώμα – тело, οψις – взгляд – выражение лица, зрак, πρόσωπον – лицо, облик, лик, личность». Слова же «ιδέα» в его Словаре не содержится вовсе. – В 891 г. патриарх Фотий223 объясняет «ιδέας» через «μορφάς»224, со ссылкой на Платоновского «Алкивиада», в котором это слово производится «από του ίδέσθαι»225. Слово же είδος попало в утерянное место рукописей Фотия (утеряно от άδ... до έπ...), так что оно остается без объяснения. – В 977 г. лексикограф Свида226 объясняет ιδέας как «τάς θεωρίας»227. Далее, он указывает, что «ιδέαν о Πλάτων καί είδος ονομάζει καί γένος καί παράδειγμα καί αρχήν και αίτιον – ιδέα δέ λόγου ό χαρακτήρ»228. Но, наряду с конкретным значением, идея получает значение и абстрактного класса, разряда. Так, Свида перечисляет: «φαλλοφόροι, ιθύφαλλοι, αύτοκάβδαλοι ίδέαι μουσικών»229, т. е. как «genera musicorum»230. – Анфим Газис объясняет είδος через «μορφή, θεωρία, όψις του προσώπου, βλέψιμον, κίτταγμα»231, a ιδέα – через «είδος, μορφή, βλέμμα, σχήμα, ή φαινομένη μορφή του σώματος ή τού προσώπου, θεωρία. Τρόπος, συνήθεια, όμοιότης, ύπόθεσις, καιρός»232 (далее идет объяснение ιδέα, как философского термина).
Этимология занимающих нас слов вполне подтверждает эти позднейшие лексикографические разъяснения и еще углубляет понимание этих слов, ибо понятие созерцания или зрения срастается здесь с понятием знания или ведения. В самом деле, вот слова, сокоренные слову είδος233: санскритское vedah – познание, ведение; литовское vеidas – лицо; древне-церковнославянское ВНДЪ. В основе их лежит гипотетическая форма *ueides-, ср. ирландское fiand (ia
Итак, что ж такое идея? Это – вид, но не сам по себе, а, как дающий познание того, чей или чего он есть вид. Идея – это лицо реальности и, по преимуществу, лицо человеческое, но не в своей эмпирической случайности, а в своей познавательной ценности, т. е. зрак, или лик человека. «Είδος, ιδέα значит вид, образ. Платон усвоил этот термин, прежде всего, несомненно, потому, что до общего вещей, в котором он вместе с Сократом видел единственный объект истинного знания, мы доходим через сравнение вещей, а вещи, обыкновенно, сравниваем по их внешнему виду или образу»234. Так, Платон говорит, что «о μέν γάρ συνοπτικός διαλεκτικός, ό δέ μή ού»235 и еще: «εις μίαν τ’ίδέαν συνορώντα αγειν τά πολλακτί διεσπαρμένα»236.
Однако, в этой связи между познанием и зрением, конкретно объединенным в идее, есть нечто и более глубокое, нежели простое, «обыкновенное» соединение. «Ощущения, – говорит Э. Лаас, – различаются по своему достоинству, теоретически самым ценным из всех чувств является чувство зрения; Платон также высокого о нем мнения»237.
«Что же касается до красоты, – поет хвалу свету и зрению Платон, – то она блистала – έλαμπἒν, существуя еще там... пришедши же сюда, мы заметили живость ее блеска и здесь, и заметили это яснейшим из наших чувств – δεϋρό τ’ έλθόντες κατειλήφαμἒν αυτό (т. e. τό κάλλος) διά τής ἒναργέστατης ατσθήσεως των ήμετέρων στίλβον ἒναργέστατα. Ведь, между телесными чувствами зрение слывет у нас самым острым – όψις γάρ ήμτν όξυτάτη των διά του σώματος ερχεται αισθήσεων, которым, однако ж, разумность не постигается... Ныне этот жребий (– т. е. доступность чувственному восприятию) принадлежит одной красоте; ей только суждено быть нагляднейшей – ε’κφανέστατον – и любезнейшей. Посвященный, созерцавший много тамошнего – о των τότε πολυθεάμων, – при взгляде на богообразное лицо, хорошо отпечатлевшее на себе красоту, или на какую-нибудь форму тела – όταν θεοειδές πρόσωπον ιδῃ κάλλος ευ μεμιμημένον, ή τινα σώματος ιδέαν – сперва приходит в трепет и объемлется каким-то страхом тамошнего; потом, присматриваясь – προσορών – чтит его как бога и, если бы не боялся прослыть очень исступленным, то своему любимцу приносил бы жертвы, будто священному изваянию или богу – ώς άγάλματι και θεφ. Это видение красоты – ’ιδόντα αυτόν – как бы, через действие страха изменяет его, бросает в пот и разливает в нем необыкновенную теплоту. Принимая через орган зрения – διά των όμμάτων – источение прекрасного, он становится тепел»238.
«Понял ли ты, – восклицает Платон в другом месте239, – понял ли ты, какую драгоценную силу видеть и быть видимым создал Зиждитель чувств?» – и устанавливает это преимущество зрения перед другими восприятиями в том, что для звука и слуха не нужно посредства, а для видимого и зрения нужен свет и т. д.
Наконец, в третьем месте, снова возвращаясь к преимуществу зрения, он указывает на бесстрастность его: «Все действующее с легкостью воспринимается чувством особенно живо, но ни скорби, ни удовольствия не доставляет, – каковы, например, впечатления того зрения, о котором сказали мы раньше, что оно образует у нас днем связное тело. Ведь органу зрения не причиняет боли сечение, и жжение, и все другое, что он испытывает, как не доставляет и удовольствия – если он возвращается к прежнему состоянию...»240.
Таковы прямые свидетельства Платона. Но, если бы их и вовсе не было, то не трудно было бы догадаться о их содержании. Ведь греческая мысль всецело построена на основном восприятии света, и греческая психология насквозь пронизана категориями зрительных впечатлений. Явное дело, высшее начало познания и бытия – идея – не могло быть связано в конкретном опыте ни с чем, кроме зрения и зримого241.
Обратимся теперь к семасиологии интересующих нас слов.
У Гомера слово είδος встречается не менее 66 раз242, причем, случаи употребления распределяются таким образом: в «Илиаде» – 19 раз, в «Одиссее» – 30, и в шести (из тридцати трех) гимнах – 17 раз. А, т. к. в «Илиаде» приблизительно 15 700 стихов, в «Одиссее» – 17500, а во всех тридцати трех гимнах – 2416, то словоупотребление είδος на сто стихов выразится соответственно числами:
Илиада................................ 0,121% или 1
Одиссея.............................. 0,183% или 1,595
Гимны Гомеровские........ 0,708% или 5,851.
Другими словами, в «Одиссее» слово είδος употребляется более, чем в полтора раза чаще, чем в «Илиаде», а в гимнах – почти в 6 раз. Принимая же во внимание отсутствие интересующего нас слова в двадцати семи из гимнов, т. е. в объеме около 1000 стихов, мы должны это число 6 почти удвоить, так, что словоупотребление είδος в тех гимнах, в которых оно находит себе место, раз в 11 интенсивнее, чем в «Илиаде». Это не может не наводить на мысль о весьма позднем происхождении названных гимнов, особенно, если мы примем, далее, в расчет ничтожное употребление слова είδος даже у Эсхила и Софокла.
Если же теперь обратиться к самым случаям словоупотребления, то делается несомненным, что слово είδος относится либо к человеку, либо к антропоморфным богам и их виду, как species или forma человеческой фигуры. В одних случаях, это – общий облик тела, habitus corporis, как явление тела, независимо от красоты его; в других же – именно, прекрасный вид или даже сама красота – species venusta, pulcritudo243.
У Феогнида (540–500 гг.) встречается выражение: «πολλάκι γάρ γνώμαν έξηπατώσ’ ίδέαι». Речь идет о том, что без предварительного испытания нельзя узнать душу мужчины или женщины, «ибо часто лица обманывают»244.
У Эсхила (525–456 гг.; «Орестия» относит к 450 г.) слово είδος встречается дважды и означает, по Диндорфу245, species, figura, хотя контекст не только допускает, но и, скорее, благоприятствует сужению этого понятия на более частном – лицо, вид лица. В одном месте говорится:
«Обх’ είδος οβτε θυμόν ουθ’ οπλών σχέσιν μωμητός...»246
а в другом –
«Κάχοπχρον είδους χαλκός, έστ οίνος δέ νοΰ –247
Медь – зеркало лица, а вино – ума».
У Софокла (496–406 гг.) интересующее нас слово встречается тоже два раза и имеет опять значение forma, применительно к телу248. В одном месте стоит:
«Ή σόν τό κλεινόν είδος Ήλέκτρας τόδε; –249
неужели это твой славный вид. – Электры?» –
в таком словоупотреблении, – говорит Эллендт250, – в каком более обычно δέμας – осанка и т. п. А в другом: –
«κείνης ορών λωβητάν είδος έν δίκῃ κακούμἒνον»251
Добавим, кстати, что ни у Гомера, ни у Эсхила, равно, как и у Софокла, слово ιδέα не встречается вовсе252.
У Пиндара (522–448 гг.) читаем: «– у Олимпийского жертвенника, в то время прекрасного видом и обвитого юношами – ιδέα τε καλόν ώρατε κεκραμένον»253.
У Геродота (484–425 гг.): «άπό του φρέατος τό παρέχεται τριφασίας ιδέας – tria diversa rerum genera»254; «φύσιν παρέχονται (οι ποτάμιοι ιτιποι) ίδέης τοιήνδε»255; «φύλλα τοιήσδε ίδέης», причем, здесь идет речь не о внешнем виде, но о внутренней силе и природе256; «έφρόνεον διφασίας Ιδέας257 – два рода соображений».
У Еврипида (480–406 гг.): «τα δ’ οργι’ έστι τίν’ ιδέαν έ'χοντά σοι258 – какой вид имеют у тебя оргии?» – вопрошает Пенфей плененного Диониса.
У Фукидида (470–404гг.(?)); «История Пелепоннесской войны» относится из 431–411 гг.): «τη αυτή ίδέα»259; «πάσα ιδέα κακοτροπίας»260, «πάσα ίδέα ολέθρου» и «πάοα ιδέα ιδέα θανάτου»261 и «πάσα ιδέα φυγής»262, «πολλαι ίδέαι πολέμων»263, «πάσαν ιδέαν πείράσαντες ούκ έδύνατο έλεΐν – испытав всякий способ не могли взять»264 «πάσαν ιδέαν έπἒνόουν – всякий способ»265, «τή αυτή ίδέα»266.
У Аристофана (450–365гг.): «τις ιδέα βουλήματος»267 (414 г.); «άήρ έστί την ιδέαν κατά πνιγέα μάλιστα»268; «άποσεισάμἒναι νέφος ομβριον άθανάτας ιδέας»269; «έτέραν ύμνων ιδέαν»270.
У Феофраста (390–305 (или 284 гг.)(?): семь родов желчей он называет «επτά ιδέας των χωλών»; также: «τεχνών ιδέας πολύτροποι – различные виды искусств»271.
У Феокрита (расцвет творчества около 270 г.): «τό γάρ αμισυ τάς τοίας εχω ζά τάν σαν ιδέαν – ведь имею половину жизни через твой вид»272, т. е. «только видом твоим живу, а сердце свое ты мне не отдал, так что жизнь моя половинна».
Далее, слова είδος и ιδέα, помимо имевшегося уже с Платона технического смысла, получают и другие технические значения. Слово ιδέα делается особенно употребительным в риторике, где им именуют качества словесных произведений – Гермоген (173 г. по Ι.Χ.), Максим Плануда и др.273
Таковы некоторые моменты в истории слов είδος и ίδέα. Но тут чувствуется какая-то неудовлетворенность. В самом деле, вникавшего в Платона, едва ли может миновать то впечатление, что Платон говорит о каких-то религиозных ценностях и, что загадочное появление в философии слов ιδέα и είδος имеет за собою какую-то долгую, так сказать, подземную, историю, скрывающуюся в святилищах тайных культов. Исследования в этом направлении еще не приведены к полному решению.
Но весьма важное указание в этом смысле находим в Словаре Юлия Поллукса. Поллукс перечисляет синонимические названия богов и различных высших существ. Затем, он поименовывает названия храма и его частей. Наконец, переходит к тому, перед чем или чему совершается служение: «αυτά δέ α θεραπεύομἒν, αγάλματα, ξόανα, εδη θεών, είκάσματα θεών, εικόνες, μιμήματα, τυπώματα, εἲδη, ίδέαι βρέτας δέ ή δείκηλον ούκ εγωγε προσίεμαι»274.
Далее, идет речь о жертвенниках и т. п., на чем совершается жертвоприношение.
Итак, божественные образы, и, притом, вероятно, по преимуществу, связанные с мистериями (–ибо, приводимые Поллуксом термины – малоходячи), именовались εἲδη и ΐδέαι! Обратим, также, внимание, сколько других Платоновских терминов содержится в этом месте из Поллукса. Разумеется, Платон и берет термины εἲδη и ιδέαι, как общее наименование совершенства конкретного, созерцаемого. – Таково замечательное сообщение Поллукса. Это место я открыл для себя 26-го октября 1914 г., после многих тщетных поисков у разных авторов, хотя меня не оставляла уверенность, что должно быть такое указание где-нибудь. К счастью, предчувствие оправдалось.
Весьма вероятно, что именно этот смысл – богоявления – имеет слово ιδέα и в приведенном выше стихе из «Вакханок» Еврипида. Ибо, на вопрос Пенфея:
«Τά δ’ οργι’ έστί τίν’ ιδέαν έχοντά σοι»275,
Дионис отвечает ему, как непосвященному:
«Άρρητ’ άβακχεύτοισιν είδέναι βροτών276 – непосвященным из смертных говорить этого нельзя».
Но, что же, собственно, недостижимо непосвященному? Общая организация оргий, вид их, – не только были известны всякому, но и описываются в рассматриваемой трагедии самим же Дионисом. Следовательно, дело идет не о виде, но о видении, являвшемся вакхам, т. е. о самом Дионисе и о преображенном, с его появлением, зраке всей действительности, может быть, о каком-нибудь изображении Диониса.
Что же разуметь под теми «είδέαι» и «εἲδη», о которых говорит Поллукс? Со своей стороны, я полагаю, что это – не какие-либо изображения божеств, а самые лики или зраки божеств или демонов, являвшихся в мистериях посвященным. Тут мы приникли к святилищу Платоновой философии, – и термины είδος и ιδέα получают конкретность и сочность, а, вместе, делаются трансцендентными. Тайная целла платонизма – мистерии. Ведь задачей посвящения было именно то, что ставила себе задачей и философия, а именно, развить способность мистического созерцания и непосредственно, лицом к лицу, зреть μυστικά θεάματα»277. «Священные призраки – φαντάσματα ἃγια» несказанной красоты, лучезарные «зраки – είδωλα», которые проходили перед восторженным созерцателем иного мира, – вот горние лики, или сверхчувственные идеи Платона. Обратим внимание на то, что είδωλον есть уменьшительное от είδος и означает то же, что и είδος или ιδέα. Не без причины Плутарх утверждает, что мистерии «дают нам лучше объяснение природы демонов»278.
Таково, предположительно, происхождение философии Платона. Если так, то тогда делаются понятными слова Платона в «Федре» о том, что влюбленный готов приносить любимому жертвы, как «άγάλμαιι και θεφ»279. Ведь эрос показывает в лице любимого идею; а слово «ιδέα», по Ю. Поллуксу, синонимично слову «αγαλμα». Следовательно, влюбленный видит в лице любимого некий божественный зрак и хочет воздать ему должное. Такова мысль Платона.
Но действительно ли в мистериях что-то являлось посвященному? Не входя здесь в подробности этого сложного вопроса, приведем лишь один случай, подтверждающий это указание древних. Павсаний рассказывает об одном святилище Исиды близ Тифереи, местечка фокидского, находившегося возле Дельф. Это, по словам благочестивого паломника древности, «священнейший из всех храмов, построенных эллинами египетской богине». В этом храме совершались мистерии. «Рассказывают, что некогда один человек, не из числа имевших право входить в святилище, но непосвященный, из любопытства осмелился войти в святилище, когда там начал гореть огонь. Все явилось ему полным призраков – καί οί πάντα άνάπλεα ειδώλων φαίνεσθαι. Он вернулся в Тиферею, но, рассказав, что видел – άέθεάσατο, – отдал душу»280. – В связи с этим случаем, Павсаний припоминает и другой, в таком же роде, но бывший в Египте. Один римлянин подкупил кого-то, чтобы тот вошел в святилище Исиды в Копте. «Посланный вернулся из святилища, но, как только рассказал, что видел там, тоже скончался».
Итак, малые облики горних основ жизни – вот что такое идеи.
XV
Постепенно углубляясь в жизнь, мы иссекли себе ряд ступеней, подводящих к пониманию основных устремлений идеализма. «Но, – говорите вы, – мы ведь рассуждаем о подобиях идей имманентных, аристотелевских, но ничуть не подходим к уразумению идей платоновских, трансцендентных».
– Так ли? В самом ли деле то, о чем говорим мы, только имманентно и нисколько не трансцендентно?
«Но разве можно говорить о трансцендентном отчасти и имманентном отчасти?»
– А может ли быть что-нибудь только трансцендентным или только имманентным?
«Почему ж?»
– Потому, что и трансцендентное, и имманентное относительны. Имманентное есть имманентное в отношении к чему, и трансцендентное есть трансцендентное в отношении к чему. Трансцендентное к одному может быть имманентным к другому.
«Разве нельзя представить себе трансцендентное вне всякого отношения к чему-нибудь?»
– Не думаю. Ведь о трансцендентном, которое только трансцендентно, нельзя и говорить, ибо разговор уже делает его в некотором отношении имманентным.
«Ну, а только имманентное?»
– И об имманентном, которое только имманентно, тоже нельзя говорить, ибо говорить-то можно о том лишь, что как-то, в каком-то отношении выходит за границу говорящего, обособляется, противопоставляется ему, т. е. делается трансцендентным.
«Значит, о трансцендентном нельзя говорить потому, что оно не имманентно, а об имманентном – потому, что оно не трансцендентно!»
– Именно. Если мы говорим о чем, то оно должно быть и имманентным, и трансцендентным.
«Но это – в порядке познавательном. А ведь, мы начали разговор об онтологии. В чем же трансцендентный момент художественного произведения, например?»
– Хотя бы в том, что замысел художника, осуществленный в данном веществе, может быть осуществлен и в ином веществе. Следовательно, он не безусловно связан с своей материей. – Точно так же лик человека выражается в данном лице, хотя вещество тела его непрестанно течет. Тут – еще менее безусловной связи между ликом и веществом, его являющим.
Так, в ряде наших подхождений к пониманию идеализма, трансцендентный момент идеи возрастает.
Можно бы пойти и далее. Так, например, можно рассматривать действие художественного произведения на отдельных лиц, на общество. Художник или поэт, создавая тело для некоторого духовного начала, далее уже не властен прервать стремительный поток энергии, текущий из нового центра; и вот, этот новый центр образует по своему образу личности, вовлеченные в сферу его влияния. Эпидемия самоубийств, вызванная «Вертером»; мировая скорбь, текущая от «Фауста»; демонизм, распространившийся от поэм Байрона, и т. п. массовые действия имели источником своим уже не Гёте или Байрона, а Вертера, Фауста, Корсара или Каина, ворвавшихся в мир через дверь, приоткрытую им поэтом, и затем, как трансцендентные сущности, вселившихся в души. Но и до вселения своего, и после вселения, Вертер, Фауст, Онегин и прочие продолжают быть независимыми как от тех, в кого они вселились, так и от тех, кто дал им волю. «Idees-forces – идеи-силы», если воспользоваться термином Фуллье, представляют уже настолько высокую степень трансцендентности, что могут рассматриваться как почти самостоятельные существа. Те статуи и картины, которыми окружали в Элладе чревоносящих жен, дабы младенец сформировался под их воздействием281, – разве они, в отношении к младенцу, не должны рассматриваться как идеи, и притом, идеи трансцендентные? Далеко ли это подхождение к идеализму от строгого реализма?
Но можно пойти и далее, еще дальше отодвигая энергию идеи от нее самой.
XVI
Ничто внешнее, само по себе, не может быть отождествлено с universale; но, с другой стороны, все, так или иначе, просвечивает им. Отсюда, с необходимостью, рождается мысль о соответствиях между разными внешними областями, являющими в себе одно и то же внутреннее. Все, соответственно, все дышит согласно, πάντα σύμπνοια. Но там, где грубая кора осветляется и где вещество более податливо «легким, как сон», перстам, образующей его, Художницы, – в этих местах соответствия должно искать более насыщенного и взаимных откликов – более чистых. В огненном эфире небесных сфер, – там, где «хоры стройные светил», – там мысль искала особливых знамений о земном. Коренным началом древнего мировоззрения было сочувствие земного небесному. «Έπί προϋποκειμἒνψ τοίνυν τφ συμπαθείν τά επίγεια τοις ούρανίοις καί κατά τάς εκείνων άπορροίας έκάστοτε ταυτα νεοχμοϋσθαί
τοΐος γάρ νόος έστίν έπιχθονίων ανθρώπων
οίον έπ’ ήμαρ αγῃσι πατήρ άνδρών τε θεών τε»282.
– «Предпосылка астрологии – сочувствие земного небесному и изменение земного, сообразно с влиянием небесного:
Ибо таков у людей земноводных характер бывает,
Явит его каковым и богов и мужей Родитель».
Повторяясь в несметном числе видоизменений, эта основная тема принимает самые разнообразные оттенки и самые различные степени отчетливости. Но, может быть, крайним выражением ее было использование в астрологии терминов биологических, применительно к звездному своду. Имею в виду термины γένεσις и genitura.
Что такое γένεσις и genitura? Синонимичны им слова: σπέρμα и semen. Правда, Аристотель283, а за ним Гален и другие вносили в значение их некоторые различительные оттенки, но последние не столь существенны, чтобы уничтожить указанную синонимичность в корень; да к тому же, позднейшая биология, в лице Избранда де Димербрэка, и вовсе отвергла необходимость сделанного ранее различения284. Итак, термины γένεσις и genitura могут быть передаваемы через слово «семя». Но мысль, лишь дремлющая в слове «семя», примечательно раскрывается в термине genitura: будучи причастием будущего времени, слово genitura указывает на потенциальность того, чему предстоит родиться из него: genitura – настоящее некоторого будущего. Это – лицо некоторой жизни, но в свитой и эмпирически бесформенной почке. Однако, вся полнота его определений уже предначертана в этом зачатке жизни; тут, если угодно, древние различения между σπέρμα и γένεσις получают свой смысл и место. Конечно, семя есть genitura только тогда, когда оно способно оплодотворять, когда оно живо, а для этого требуется слияние с женским началом. Если же видеть в животном мире преимущественного выразителя жизни, то тогда понятно и то, что genitura относится, по преимуществу, к семени животному»285.
Но пока шли лишь предварительные замечания. Суть же дела в том, что термин γένεσις, или genitura, получил, наряду с первичным значением биологическим, значение и астрологическое. То самое предначертание личности, которое незримыми линиями записано в капле семянной жидкости, оно же, в письменах из звездных лучей, читается на «огненной стене мироздания». Из эфирных лучей, или, как их называли, άπόῤῥοιαι – излияния, или, еще influentiae – влияния или втечения, ткется в материнском чреве тельце «человека, грядущего в мир»; и не капля семянной жидкости, а незримая ноуменальная сила, в ней действующая, есть истинная genitura. Почему ж не перенести и наименование genitura с этой капли на огненно начертанные небесные письмена? Так и произошло. Вид или карта неба в момент рождения, или, по другим системам мысли, – в момент зачатия286, стала называться «темой генитуры, – θέμα или διάθεμα τής γἒνέσεως», а также «созвездием constellatio»; сокращенное же название для «темы генитуры» – просто «genitura» или «γένεσις». А т. к. в астрологии действенным признается не все небо, а только зодиакальная полоса его, то генитурой называется, естественно, зодиакальная полоса небосвода при указанных выше условиях, – так сказать, мгновенная фотография зодиакальной части неба в указанный выше момент времени287.
Заметим, кстати, что нередко слышится называние генитуры гороскопом. Но это есть неверное употребление термина «гороскоп», ибо τό ώοσκόπον, о ωροσκόπος, το ώροσκόπιον или horoscopus называется одна из четырех замечательных точек генитуры, называемых в астрологии центрами (κέντρα), а именно: τό ωροσκόπον, τό μεσουράνημα, τό δυνον, τό ύπόγαιον, или ό άντιμεσουράνημα, или еще μεσουράνημα288. Гороскоп, именно, есть восходящая точка или, общее, восходящая точка генитуры289. При таком только словоупотреблении не вызывают недоумения словосочетания, вроде: «халдеи ставят гороскоп генитуры – τον τής γἒνέσεως ωροσκόπον»290.
Итак, «живой свет звезд»291 – вот семя, вот вид или идея, отодвинутая с земли на небо. Идеи – это «семена стихий», «духовные звезды»292. Таков идеализм в преломлении натурфилософией. «Сначала, – говорит один из натурфилософов, – сначала должно знать, что наружное семя не есть истинное семя, как простолюдин думает, но только храмина истинного семени, которое невидимо, ибо, ежели сие выдохнется, то оное не приносит никаких плодов; так и внешнее семя зверей есть только храмина истинного семени. Сии духовные невидимые Семена называются от Философов разными именами, именуются или созвездиями, по причине движения; семенными разумами, или корнем, будущих ради плодов; или образами (формами), ради сигнатуры или знамений; или представлениями (идеями), ради личных свойств рода, долженствующих впечатлеться телу; или солнечными пылинками, ради нераздельной скорости и неисчетного множества. – Описание же есть таково; семена суть духовные звезды или созвездия, в первом творении, в стихии от Самого Бога Творца насажденные, жизненной и искусство смыслящей силой напоенные, которые потом, с помощью натуральных тел, произведены на свет или на театр сего мира»293. Этот «живой свет» течет, по мнению цитируемого автора, от высших существ в низшие. «Ибо в том, – говорит он, – содержится и вмещается Златая Цепь Небесной Премудрости Гомеровой, Лествица Иаковля, и круглое натуры обхождение, когда из Бога, яко первого источника, река благости течет в Ангелы, из Ангелов в звезды, или созвездия, из звезд в сердце и средоточие натуры, для порождения всеобщего семени в стихиях, из стихий в натуральные тела зверей, земных растений, руд, из сих тел отводится к малому миру человеку»294.
Мысли, здесь изложенные, не составляют достояния какого-нибудь одного мыслителя. В разных сочетаниях и, притом, во многих случаях, по-видимому, самостоятельно они всплывают на всем протяжении истории, – как древней, так и новой. В древности они собраны в один фокус эклектическим учением Плутарха Херонейского. Вместе с большинством своих современников, Плутарх видит богов в небесных телах295; это – нетленные «логосы, истечения и виды» Божества296, «подобия» богов. На небесах, в надлунной области, в звездах, – по его учению, – сияют нетленные воплощения «видов», «идей» или «логосов»; наоборот, те «виды», «идеи», «логосы», «истечения», «семена», «подобия» или «отпечатки», которые рассеяны в подверженных изменению существах, в земле, море, растениях и животных, – разлагаются, уничтожаются, погребаются, чтобы вновь воскреснуть к жизни, возродиться в новых рождениях297.
Итак, отброшенная на небо, идея не остается там безличной силой, только метафизическим принципом. Небесная генитура сама принимает в идеалистических построениях не только философской, но и народной мысли личность, иногда еле намеченную, а иногда – явную и отчетливую. Учение об ипостасных идеях можно встретить, вероятно, в любой религии.
Сюда относится, например, индусское учение о гандхарвах или гадхаббах298, живо напоминающее Лейбницевское учение о переживающей смерть центральной части организма.
Что же такое гандхарва? Гиллебрандт считал сначала гандхарву за «гения плодородия»299, позднее – «за участвующее в зачатии духовное существо, происходящее из прежнего бытия»300. Сходное определение дает Ольденберг, – «das Lebenswesen», «der Wesenkeim»301. Зачатие, по буддистским воззрениям, происходит от «сочетания трех факторов»302, от «соединения троих: отца, матери и гандхарвы», или еще, от «сочетания родителей и сочетания гандхарвы с матерью». Этот таинственный «зачаток жизни» индусов мыслится, как формующая сила, одаренная желанием и волей и, вместе с тем, независимая от того тела, которое она образует. Тут – довольно близкое подхождение к римскому учению о гениях и юнонах303; но только у римлян идеальная личная природа этих гениев выражена гораздо яснее.
Современное понимание гения сделало его имманентной способностью личности. Между тем, для римлян genius, или, в женском роде, juno304, был идеальным началом и, более того, горним существом, образующим дольнее и покровительствующим лицу, месту, явлению или вещи. Учитель грамматики и риторики в Риме Сервий, живший в IV веке после Р. X., определяет гения так: «Genium dicebant antiqui naturalem deum uniuscujusque loci, vel rei, aut hominis305 – гением древние называли божество, естественно принадлежащее всякому месту, или человеку, или вещи».
Коренное значение слова genius указывает все на то же понятие рождения, так существенно связанное с понятием о жизни. «Genium, – свидетельствует в VIII-м столетии Павел Диакон306, – genium appellant deum, qui vim obtineret rerum omnium generandarum»307. Первоначально, по Кюблеру308, genius – олицетворение производительной силы. Он – родитель, истинный родитель членов рода, ибо жизнь свою получают они не как, вообще, жизнь, а как жизнь рода, как полноту видов, хотя они осуществляют и не все виды, в роде содержащиеся, а лишь каждый – свой. Род, как реальность, как высшая реальность, хранящая членов своих, мыслится идеальной личностью данной родовой крови, данного родового семени, – как Genius. Гений – это и есть род, в его верховном аспекте. Но он же – и лик данной личности. В первом своем значении, т. е. с преобладанием стихийного момента, гений несколько соприкасается с иудейскими терафимами и индусскими питрами; во втором же значении, дающем перевес с формальной и нормативной стороне гения, он близко подходит к парсистским феруэрам, или фравашам309, китайским шин310 или, наконец, к именам-ипостасям, учение о каковых находим не только в Риме, но, положительно, и во всех религиях311. Сюда же надо отнести и скандинавские божества: фильгию, гамингию и спадизу312, присутствующих при рождении человека и покровительствующих ему; из них первая – сопровождает людей, вторая – иногда является им, а третья – предсказывает будущее. Наконец, идеи-ангелы Филона и гностиков, идеи-божества неоплатоников и другие, тому подобные, оккультные учения – ветви одного и того же корня.
В разных степенях отдаляемые от эмпирии и вводимые в эмпирию, universalia, по мере своего оплотнения, возбуждают новые вопросы – об идеях идей, ибо и они, друг в отношении друга, оказываются единичностями, требующими высшего над собою начала. Возникает учение об иерархии горних сущностей, и вся пирамида идей восходит к верховной точке своей – к идее идей – «ιδέα των ιδεών»313, по выражению Филона, – к Богу, как Сущности всех сущностей, ибо только в Нем они получают и свой разум, и свою реальность. Тут возникает свой вопрос – о самообосновании Божием, и концепция идеализма неизбежно переходит в проблему феодицеи. При исследовании же этой последней оказывается, что в собственном и окончательном смысле только Триединица есть «ἒν και πολλά», т. е. только в Ней получает решение основной запрос всей философии. А, вместе с тем, именно в догмате Троицы основные темы идеализма, – слышащиеся порознь и предварительно у разных мыслителей, – сплетены воедино и звучат в своей предельной отчетливости. Рождение, жизнь, красота, творчество, единство во множестве, любовь познающая, вечность и т. д., и т. д. – эти частные моменты Троичного догмата разве не суть, в слабом отблеске, предметы живейшего интереса для всего идеализма? Вот почему верховный догмат веры есть тот водораздел, с которого философские размышления текут в разные стороны. «Учение о Св. Троице не потому только привлекает мой ум, что является, как высшее средоточие святых истин, нам откровением сообщенных, – писал 2-го октября 1852 г. А. И. Кошелеву И. В. Киреевский, – но и потому еще, что, занимаясь сочинением о философии, я дошел до того убеждения, что направление философии зависит, в первом начале своем, от того понятия, которое мы имеем о Пресвятой Троице»314.
Посвящается дорогой матери и
памяти любимого отца
Общечеловеческие корни идеализма (философия народов)315
И сегодня, спустя 90 лет, лекция П. А. Флоренского о «корнях идеализма» не может не удивлять глубиной мысли и непредсказуемыми поворотами в разработке основной темы, ясностью философской конструкции и мистической темнотой, намеренным, почти что провоцирующим, подчеркиванием магической проблематики и постановкой вопроса о необходимости создания философии и богословия Имени. Хотя формально работа посвящена философской теме, учению Платона об идеях, ибо в этом учении, по мнению автора, выражена суть идеализма, при ближайшем рассмотрении оказывается, что Флоренский употребляет термин «идеализм» в значении, далеко выходящем за рамки философии, что корни идеализма надо искать за пределами самого идеализма и, соответственно, предметом исследования должно стать – Имя, как место пересечения мифа и магии, философии и религии, самопознания и богопознания. Этому расширению тематики мы обязаны тем, что лекция Флоренского имеет несколько ответвлений, от нее тянутся нити в разные стороны и с разных сторон она может и должна объясняться.
Условно, в работе могут быть выделены три основные и последовательно сформулированные проблемы: 1. Идея; 2. То, из чего идея объясняется, – древнее «мировоззрение» (Миф); 3. То, что определяет природу этого «мировоззрения» (Имя). Таким образом, взаимоотношения идеи, мифа и имени составляют основное содержание темы лекции.
1. Написанное вопреки строгим канонам историко-философской школы исследование идей Платона, кажется, ведется каким-то странным ненаучным и односторонним образом (магия, оккультизм и нечистая сила, в связи с учением об идеях), но «неожиданно» приводит к выдающемуся открытию, к такому толкованию идеи, которое окончательно сложится в работе «Смысл идеализма» (1915) и будет названо А. Ф. Лосевым «новым пониманием» платонизма. («Новое, что вносит Флоренский в понимание платонизма, это – учение о лике и магическом имени. Платоновская Идея – выразительна, она имеет определенный живой лик» – Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. С. 680; 2-е изд. М., 1999. С. 693).
2. Тема магии остается одной из болезненных при обсуждении сочинений Флоренского. Интерес Флоренского к оккультизму известен. Флоренский не только читал сочинения оккультных авторов, но иногда обильно их цитировал. Упреки в магизме и оккультизме раздавались при жизни о. Павла и продолжают звучать сегодня. При этом, совершенно игнорируется его суровая критика оккультно-магических и спиритических движений в России, как наносящих духовный вред, и антицерковных (см.: Иеромонах Андроник (Трубачев). Теодицея и антроподицея в творчестве священника Павла Флоренского. Томск, 1998. С. 126). Позитивистски настроенных критиков объединяют другие обстоятельства: во-первых, они пренебрегают принципиальными замечаниями и тонкими различиями (как, например, в тексте: «Но не думайте, что я хочу говорить вам о чертях или ведьмах. Меня, как историка, вопрос о их реальности нисколько не касается. Пусть нет леших и русалок – но есть восприятие их»; во-вторых, они всегда трактуют нечистую силу всего лишь в качестве литературной метафоры или персонажа сказки.
Чтобы понять мысль Флоренского, необходимо различать, в каком значении он употребляет тот или иной термин. Например, термины «усия», «ипостась» употребляются им иногда как богословско-догматические, а иногда им придается философское звучание. Так и термины «магическое», «магический» и т. д., у Флоренского не обязательно связаны с магией как религией язычества; эти слова выражают совершенно особые отношения между вещью и именем. Более того, при внимательном чтении лекции Флоренского оказывается, что такая ударная фраза, как «Магия» – вот то единственное слово, которое решает платоновский вопрос», означает не более, как магическую (живую) и символическую природу античной мифологии, из которой возникла философия и с которой она связана неразрывными узами. Хотя слово «миф» не высказано, Флоренский имеет в виду «миф», определяя его, как «непосредственное сознание», «единство самосознания», саму «жизнь», «энергию вещей» и одушевленность природы, наконец, как «имя», которое «есть сама мистическая личность человека, его трансцендентальный субъект».
3. Несомненно, набросок философии имени, предпринятый в этой лекции, равно, как и упоминание темы «всемогущего» Имени Божия, обозначил место этой работы как одного из звеньев единой цепи, в начале которой стоит исследование «Священное переименование», а в конце – трактат «Имена».
Лекция «Общечеловеческие корни идеализма» была прочитана 17 сентября 1908 г. в Московской Духовной Академии pro venia legendi (для пробного чтения). По результатам двух лекций (вторая – «Космологические антиномии Канта») 23 сентября 1908 г. П. А. Флоренский был утвержден исполняющим должность доцента по кафедре философии.
Впервые опубликована в «Богословском вестнике» (1909 г., Т. 1. № 2. С. 284–297; № 3. С. 409–423). Текст печатается по первому изданию, с исправлением ошибок.
А. Г. Казарян. Примечания А. Г. Казаряна
Ваше Преосвященство и Глубокочтимое Собрание!
Если Слово Божие есть живая душа и смысл существования нашей Школы, то слово человеческое – тело ее и условие жизни. Поэтому, надеюсь, Вы не посетуете на меня, если я, обратившись к стародавней старине, постараюсь начертать родословную линию нашей Школы, по ее человеческому содержанию. Ведь, как для наставников Академии, так и для воспитанников ее христианство не только не отменило, но и усилило, бесконечно углубило заповедь о почитании родителей. Вспомнить языческих своих предков – это значит исполнить христианский долг в отношении к ним. Начнем же с того, кто является истинным основателем Академии, вдохновителем ее и, если применить современное слово, – первым ректором ее. Это – тот, кого равно чтили и христиане, и язычники. Древние апологеты называли его «христианином до Христа», думали, что его коснулась благодать Бога-Слова, и видели в нем самом какого-то пророка in partibus infidelium316, а в творениях его – предведение и сень грядущего. В то же время, современные им неоплатоники именовали этого мужа не иначе, как «священнейшим», «божественным» или «боговдохновенным»; творения же его были для них, своего рода, священным, каноническим Писанием.
Вы поняли, конечно, что речь идет о Платоне. Он, – да! – он дал имя нашей Школе. Неужели она называется, именно, Академией, а не Лицеем, или Стоей, или Университетом без причины? – Конечно нет. Вы знаете о несомненной преемственности нашей духовной культуры от Платона. Своим именем мы признаем себя питомцами и той, Афинской Академии. Разумеется, в этом признании нет ничего унизительного для христианства. Разве христиане не бывали рождены языческими родителями? Так и мы – сыны древнего Пророка Аттики.
Вот он, с преклоненной задумчивой головою! Что – он: прислушивается ли к горним песням иного мира? Или, быть может, как раз в этот момент его приосеняет невидимое благословение Грядущего Слова? Кто знает. Но, как после бюста Платона и глаза не глядят на бюсты иных мыслителей, так после творений его кажутся серыми, грубыми и земными писания их. Какие маленькие они в сравнении с этим провидцем-философом, безупречным общественным деятелем, чутким воспитателем, вдохновенным поэтом! Какою непонятною силою заклял он слова своих писаний, что, по исходе тысячелетий, они все еще волнуют сердца странным волнением и жгут их сладкою болью, и томят, и влекут в еле зримую, брежжущую в холодных предутренних туманах даль? Чем-то мистериальным благоухают его священные речи, исполненные божественной мании. Так пахнет осевшим на стене фимиамом в давно не отворявшихся храмах. И какими глубокими очами смотрят на читателя его странные мифы. Кто знает, какой тайный смысл скрывается за ними? Ведь эзотеризм Платоновой Школы так вероятен. Творения философов значительно позднейших давно уж пожелтели и высохли. Спал их нарядный убор, и стоят пред сознанием оголенные их схемы, как мерзлые дерева зимою. Но живы, и будут жить, эти притрепетные Диалоги Платона. И нет такого человека, который, хотя бы одно время жизни своей, не был платоником. Кто, ведь, не испытывал, как растут крылья души? Кто не знает, как подымается она к непосредственному созерцанию того, что от будничной сутолоки задернуто серым покровом облак? Κто с помощью эроса не проникал в недоведомые рассудку глубины познания? Кому не открывалась иная, лучезарная действительность, где, лицом к лицу, вдохновенный встречает вечные прообразы вещей? Кто не переживал, как рушится и падает непроходимая стена между субъектом и объектом, – как Я выходит за пределы своего эгоистического обособления, как открытою, широкою грудью вдыхает оно горный воздух познания и делается единым со всем миром? Те «прекрасные, чистые, отрешенные от всего земного и, как бы, сотканные из запаха цветов и лунного света грезы любви, которыми теперь туманятся дни юности, и которые воспеваются всеми поэтами у всех образованных народов» – разве грезы эти порождены не платонизмом? И разве «идеи», «сущности», «понятия», «монады», «личности», которыми живет и движется философия, – не в кровном родстве с учением Платона? Идеализм, – в широком смысле слова, – стихия философии, и, лишенная этого кислорода, философия задыхается, а затем увядает и гибнет. Европейская философия вышла из рук Платона.
Но откуда сам он взял свою мысль об эросе, как познавательном начале философии? Откуда явилось у него представление о непосредственном касании к самой сути вещей, к их таинственной душе? Как возникло это почти безграничное отождествление слова и мысли (Soph 263е; Phäd 99 d,ie)? Каким путем пришел Платон к своему царству, воистину – сущих, неизменяемых, имматериальных, самих по себе прекрасных, вечных, находящихся в «умном месте» образов сущего, познавая которые в эросе мы владеем ключом к отверзению всех тайн мира? И почему седою древностью веет от этих концепций философа? Почему они всегда современны? Это – темные вопросы. Но, кажется, менее всего справедливо обычное объяснение, видящее в платоновских «идеях» ипостазированные «понятия» Сократа. «Сократ, мол, учил о родовых понятиях; а Платон взял да превратил их в метафизические сущности». Как это просто! – и как это нелепо психологически!
Глубокоуважаемые слушатели! Не стану излагать платоновского учения: Вы и без меня знаете его. Но мне кажется уместным исполнить сыновний долг дальше, – глубже проникнуть в «книгу родов» нашей Школы. При этом, я надеюсь показать Вам корни платонизма, которыми он привлекает к себе почвенную влагу общечеловеческих верований. В этой почвенности платонизма, мне кажется, и завита причина его вечности. Ведь Платон – не плод школьной философии, а цветок народной души, и краски его не поблекнут, доколе будет жить эта душа.
Вопросом «Откуда происходит платонизм?» спрашивается вовсе не то, каковы исторические влияния и связи, обусловившие возникновение его. Выяснять исторические влияния, в большинстве случаев, дело столь безнадежно темное, что делается оно посредством многих насилий над историей. Но есть и иной смысл вопроса «откуда?», а именно: «Из каких данных сознания? Где эти данные проявили себя в своей первичной грубости? Где они более ярки?»
Если Вы согласитесь на такую постановку вопроса, то ответ мой краток и прост. «Магия» – вот то единственное слово, которое решает платоновский вопрос. Или, если хотите более современного слова, то это будет «оккультизм». Но не думайте, что я хочу говорить Вам о чертях или ведьмах. Меня, как историка, вопрос о их реальности нисколько не касается. Пусть нет леших и русалок; – но есть восприятие их. Пусть нет власти заклятий и заговоров; – но есть вера в нее. Как мне, так и Вам дан факт – мироощущение и мировоззрение мага. Этим-то фактом мы и обязаны заняться. Однако, я не могу сейчас доказывать строго свой тезис о происхождении платонизма из магического мировоззрения непосредственного сознания: это требует целого исследования. Но я позволю себе уяснить свой тезис на некоторых фактах и возьму при этом факты более знакомые всем вам, преимущественно, из области русского фольклора.
Дело психологов решить, мировоззрение ли меняется от изменений в мироощущении, или, напротив, само мироощущение есть лишь производное от мировоззрения. Несомненно то, что существует функциональное соответствие между идеями и внутреннею жизнью, – между мировоззрением и мироощущением. Поэтому, чтобы понять внутреннюю жизнь древнего человека, чтобы проникнуть в непосредственное мировосприятие крестьянина, необходимо отрешиться от интеллигентских взглядов, забыть о них и с чистым сердцем, не очерствелым от предвзятых схем и бесчисленных научных теорий, всмотреться в этот новый душевный мир. Для того же, кто не живет или не может жить этою цельною жизнью, ключ к народному миросозерцанию утерян навсегда. Понимать чужую душу – это значит перевоплощаться. Быть может, самым близким к народному сознанию является момент гениального озарения поэта, когда снимаются грани мирового обособления, когда он слышит
и дольней розы прозябанье, и горних ангелов полет317…
И, напротив, нет ничего более далекого от народного, непосредственного сознания, как тот духовный атомизм, который, как рак, изъел и мертвит современную душу. Возьмите для примера ближайшую к нам область – науку. Идеал цельного знания, столь ясно начертанный Платоном, перестал вести науку даже в качестве кантовской регулятивной идеи. Не Наукою, а науками, и даже не науками, а дисциплинами занято человечество. Случайные вопросы, как внушенное представление, въедаются в сознание, и, порабощенное своими же порождениями, оно теряет связь со всем миром. Специализация, моноидеизм, – губительная болезнь века, – требует себе больше жертв, нежели чума, холера и моровая язва. Нет даже специалистов по наукам: один знает эллиптические интегралы, другой – рататорий, третий – химию какого-нибудь подвида белков и т. д.
Но еще заметнее это разъедающее действие душевного атомизма на других областях. Для многих ли природа не разлагается на ничем не связанные между собою землю, лес, поле, реку и т. д.? Да и многие ли за деревьями видят лес? Для многих ли «лес» есть не только собирательное существительное и риторическое олицетворение, т. е. чистая фикция, а нечто единое, живое. Вы недоумеваете на мой вопрос? Но ведь реальное единство есть единство самосознания. Итак, спрашиваю, многие ли признают за лесом единство, т. е. живую душу леса, как целого, лесного, лесовика, лешего? Согласны ли Вы признать русалок и водяных – эти души водной стихии? – Видите, как различна внутренняя жизнь. – Но оставим природу. Посмотрите, как распались начала внутренней жизни: святыня, красота, добро, польза не только не образуют единого целого, но даже и в мыслях не подлежат теперь слиянию. Современная святыня робка и жмется в затаенный, ни для чего более не нужный уголок души. Красота бездейственна и мечтательна, добро ригористично, польза, – пресловутый кумир наших дней, – нагла и жестока. Жизнь распылилась. Какой глубокий смысл в том, что научная психология – бездушная психология: ведь и впрямь у людей нашего времени нет души, а вместо нее – один только психический поток, связка ассоциаций, психическая пыль318. День мелькает за днем, «дело» –за «делом». Сменяются психические «состояния», но нет цельной жизни. Если у души отрицают субстанциальность, то это – вовсе не выдумка психологов, а действительное самопознание, содержание которого сводится к тому, что не бывает переживания себя, как субстанции, при современном распаде души. Но вглядитесь в душу народную, и вы увидите, что там – совсем не так. Медлительно и важно течет жизнь, – широкая, и светлая, и свежая, как Волга, напоенная закатным блеском и вечереющей прохладой, – и отдельные струи ее, сплетаясь меж собою, дружно текут и сливаются воедино. Тут целен человек. Польза не есть только польза, но она – и добро; она и прекрасна, она и свята. Возьмите народную жизнь, хотя бы причитание над покойником. Тут – и польза, и добро, и святыня, и слезная красота. Теперь сопоставьте с этим причитанием интеллигентский концерт, и Вы сами почувствуете, как он беден содержанием. Знание крестьянина, – цельное, органически-слитное, нужное ему знание, выросшее из души его; интеллигентное же знание – раздробленно, по большей части, органически вовсе не нужно ему, внешне взято им на себя. Он, – как навьюченный скот, – несет бремя своего знания. И все, и все так, в особенности же – язык.
Народ живет цельной, содержательной жизнью. Как нет тут непроницаемости, непроходимой стены из «вежливости» между отдельными личностями, так и с природой крестьянин живет одной жизнью, как сын с матерью, и эти отношения его к природе то любовны, нежны и проникновенны, то исполнены странной жути, смятения и ужаса, порою же – властны и своевольны. То подчиняясь природе, то подчиняя ее сам или же сожительствуя ей, как равный равной, он, однако, всегда открытыми глазами смотрит на всю тварь, дышит с нею одним воздухом, греется одним солнышком. Это – не сентиментальное воздыхание по природе. Нет, это – на деле жизнь с нею, – жизнь, в которой столько черной работы и житейской грубости и которая, тем не менее, в глубине своей, всегда носит сосредоточенность и подлинную любовь. И потому, даже будничная жизнь средних людей, проникнута каким-то непередаваемым трепетом поэзии и сердечности. Возьмите любой Травник или Лечебник, – книгу, по-видимому, чисто утилитарную, – и сравните описание ее с описаниями ботаник. Вы не сможете не поразиться тою нежностью, тою любовностью, с какою говорит о травах народная фармакопея. Есть трава «тихоня», говорится в белорусском Травнике: «Растет окала зелени, листички маленькие, маленькие рядышкым, рядышкым, твяточик сининький. Растет окала земли, стелитца у разный сторыны». – Или послушайте благоговейное описание простого одуванчика (мы, быть может, и не заметили бы его!), как хрупкого, живого и дорогого нам существа: «Трава везде растет по полям и по межнинкам, и по протокам; листье расстилается по земле. Кругом листиков рубежки, а из нее на середине стволик, тощий, прекрасен, а цвет у него желт, а как отцветет, то пух станет шапочкою, а как пух сойдет со стволиков, то станут плешки; а в корне на листу и в стволике, как сорвешь, в них беленко».
Травы, птицы, деревья, насекомые, всякие растения, всякие животные, земля, вода, – каждая стихия вызывает к себе непонятное, благоуханное сочувствие. «Плевать в воду – все равно, что матери в глаза». Зорить гнезда вообще нехорошо; обижать же безвредных птиц – тяжкий грех. Грача жалко убивать, потому что, де, очень уж он смирен; скворчика жалеют за его пение. «Над воробьем жалимся, – говорят крестьяне, – што близок к нам». Собаки тоже не бей: и она была человеком, да обращена в собаку за прожорливость. На что уж лягушка противна, а бить ее – грех. Мало того. В праздник Благовещения покупают певчих птиц и выпускают их из клеток, веруя, что они замолят у Бога несколько грехов своему освободителю.
Бывают среди крестьян особенно жалостливые ко всему живому. Вспоминается одна женка: пойдет, бывало, мимо голубей – ей не утерпеть, чтобы не вынести им горстки пшеницы. Всегда, сама не съест, а животных накормит; прилучила к себе собак, кур и кошек с соседних дворов.
Народ видел и, нередко, видит ангелов в травах, цветах и птицах. «Есть трава именем Архангел, – говорит Травник, – собою мала, на сторонах по девять листов, тонка в стрелки, четыре цвета: червлен, зелен, багров, синь. Та трава вельми добра: кто ее рвет на Иван-день, сквозь златую или серебряную гривну, и та трава носит, и тот человек не боится дьявола ни в ночь, ни злого человека». Голуби называются «Ангелами Божиими»; это – святая птица, убивать ее – великий грех. Пчела – «Божия угодница», – «Божия скотинка». Она – символ чистоты и водится только у людей праведных и чистоплотных, мирно живущих со своею семьею; известно, что «пчела жалит только грешника». А в Костромской губернии и детей научивают: «Если Божия коровка (вслушайтесь в самое название маленького жучка!), – если Божия коровка сядет на ручку, то ее не гони и не обижай, а подыми ручку пальчиком вверх и припевай:
Божия коровка, улетай на небо:
там тепленько, здесь холодненько,
и тогда она раскроет крылышки и улетит».
Какая непроходимая пропасть отделяет это благоговение пред всем и гадливость ко всему, – гадливость, которая так трудно отделима от интеллигентности!
Вся природа одушевлена, вся жива, – в целом и в частях. Все связано тайными узами между собою, все дышит вместе друг с другом. Враждебные и благотворные воздействия идут со всех сторон. Ничто не бездейственно: но, однако, все действия и взаимодействия вещей-существ-душ имеют в основе род телепатии, изнутри – действующее, симпатическое сродство. Энергии вещей втекают в другие вещи, и каждая живет во всех, и все – в каждой. Послушайте, как крестьянин разговаривает со скотиною, с деревом, с вещью, со всею природою: он ласкает, просит, умоляет, ругает, проклинает, беседует с нею, возмущается ею и, порою, ненавидит. Он живет с природою в тесном союзе, борется с нею и смиряется пред нею. Какая-нибудь былинка – не просто былинка, но что-то безмерно более значительное – особый мир. И мир этот глядит на другие миры глубокими, завораживающими очами. Все вещи взирают друг на друга, тысячекрат отражают друг друга. Все вещи – центры исходящих тайных сил. Пересекаясь, сплетаясь, запутываясь, эти черные лучи, эти нити судеб вяжут узлы – новые центры, – как бы, новые многоразличные манифестации природы, – то являющиеся, то исчезающие, то попадающие в поле зрения повседневного, то заволакивающиеся от солнечного света туманной дымкой или исчезающие в густой, как смола, тьме ночи. Это – бесчисленные существа, – лесовые, полевые, домовые, подовинники, сарайники, русалки, шишиги или кикиморы и т. д., и т. д., – двойники вещей, мест и стихий, воплощенные и бесплотные, добрые и злые numina319 их. Это, – предвосхищу дальнейшее, – ипостасные имена вещей, nomina их. Это – знамения судеб их, omina их. Это – Numina – Nomina – Omina rerum320. Но, прежде всего, это – живые существа. Они покровительствуют человеку и враждуют с ним. Они то возвращаются в порождающие их стихии, растворяясь в них, и обезличиваются до простых поэтических олицетворений этой стихии, то снова выступают из них, снова надевают личину самостоятельности, говорят какими-то особыми, но порою человеку понятными голосами, – быть может, беззвучными телепатическими внушениями, прямо в душу, – требуют себе пищи, вершат житейские дела, женятся и посягают, едят, пьют, спят, ссорятся, дерутся, хохочут и плачут, радуются и печалятся, болеют и умирают. Как по стенам неверные тени угасающей лучины, мелькают эти души и двойники вещей, меняются видом, выступают из мрака и снова уходят, вырастают и уменьшаются, делаются отчетливыми и расплываются. Кажется, вот-вот сможешь запечатлеть их взглядом! Но нет! Они растаяли, и осталось обычное, обиходное, дневное. Отвернулся, – и снова они тут, прихотливые трелюдники, чудные проказники. Никто не может точно описать их, никто ответчиво не знает, какие у них лица; а иногда они кажутся и вовсе безликими: у них вместо лиц – зияющая бездонность Ночи. Вся действительность переливается странными, фосфоресцирующими светами, – углубляется новой, интеллигенту неведомой свето-тенью. Каждая вещь порою делается более, нежели она есть грубо-эмпирически. От всего ждешь диковин. И ничего нельзя закрепить, утвердить окончательно. Мир этот есть всегда текущее, всегда бывающее, всегда дрожащее полубытие, и за ним, за его, – как воздух над землею в жаркий полдень, – дрожащими, и колеблющимися, и размытыми очертаниями, чуткое око прозревает иную действительность.
Вот, ветер кружится вдоль по дороге, завивая снежные или пыльные столбы. Но это не просто ветер. Это – ведьма празднует свою нечистую свадьбу с чертом. И в этом легко убедиться. Брось нож в этот вихорь: ты увидишь, как его втянет туда, понесет, а потом он упадет, окровавленный нечистой кровью. «Окровавленный вихрем» нож – не просто нож. Им можно вырезать следы, оставленные молодицей на снегу, можно творить иные неподобные чары. Или еще: над крышей вдовьего дома рассыпались золотым дождем огненные искры. Но это – так же не простые искры, как не простым был золотой поток, одождивший Данаю. Искры эти – змей-летун, оборачивающийся в избе покойным мужем хозяйки, вступающий с нею в плотскую связь и доставляющий ей деньги; от этого сочетания женщины с нездешней силой родится, – уж конечно! – уродина, зверообразный ребенок, имеющий какую-нибудь часть тела звериную. Да и одно ли только это?
Все, – все, что ни видит взор, – все имеет свое тайное значение, двойное существование и иную, заэмпирическую сущность. Все причастно иному миру; во всем иной мир отображает свой оттиск.
О. Кристофоро Борри сообщает про кохинхинцев, как миссионеры хотели возразить им против их потчевания предков жертвами, указывая на тождественность мяса до и после акта жертвоприношения, но были посрамлены глубокомысленным указанием, что духи берут себе невидимую сущность мяса, а видимое вещество оставляют своим поклонникам. Это воззрение на двойственную природу всего в мире – воззрение всечеловеческое. Как каменный хрящ известковым раствором, весь быт пропитан и скреплен потусторонним. Нет просто еды, просто болезни, просто одежды, просто огня, просто жилья. Все – просто, и – не просто; все житейско, и – не житейско. Океан неведомого бьет волнами в обиход. Человек пускает длинные корни в иные почвы, нежели эта почва. Восприимчивость его обостряется, душа его становится чуткой и вещей, примечающую то,
что для других неуловимо,
чего не замечает расслабленная рефлексией душа. Таинственное врастает в обиходе, обиход делается частью таинственного.
Нездешняя сила срастворится с шелестами и шорохами ночи, с воем ветра, с гудением леса, с криком ночных птиц, с жизнью всей природы. Идешь ты вечером над рекою: всплеснулась рыба; зашелестел дрездильник, зашумело что-то в хвощах; выхухоль бросился в воду, – ну, совсем, как мужик. Но ты напрасно успокаиваешь себя. Так и знай, что неспроста екнуло у тебя сердце: ведь это, конечно, дедушка-водяной «мыряется» в черной влаге. – Или, вот, в лесу заржало, заухало, захохотало, – да так, что лист с дерева посыпался. А то, – бывает, – ровно ребенок жалобно заплачет и застонет кто-то в лесу, завизжит и снова расхохочется. Или, еще, – теплина разложена средь чащи, и сидит подле теплины той мужичина такой. Как схватит рукою всю теплину, – куст мужжаковый горящий, – да станет бегать по лесу! Ну, натерпишься тогда страху. Что ж? неужто ты усомнишься и не подумаешь на лесного? Попробуй скрипнуть пошибче. Если крик твой отдастся, то так и знай, что это: либо черт аукается, либо откликается какой лесовой, полевой или рентой.
Воровской тенью таинственная сила проскальзывает за обыкновенным, прикрывается повседневным, стелется вдоль по естественному. Ее и не приметишь сперва, и только сердце – вещун, – «почему-то»! – застучит сильнее. И молитвы «они» не боятся: ведь они – не то, что черти, – не злая сила. Молитва им нипочем. Боятся же они лишь скверных черных ругательств, – чертыхания, да матерного слова. Притаившись за здешним, иная сила порою, как бы, невзначай, кажет себя; – встанет вдруг, вытянется, во весь рот гаркнет: «Вот я!», а потом снова схоронится неприметно, и только сердцу будет словно не по себе.
Однако, у крестьянина среднего, это мироощущение не развивается до конца. Есть множество тайн, которые он принимает попросту, доверчиво, и мудро не любопытствует о них далее, смиряется перед неведомым, молчит или отвечает случайно подвернувшимися мифами. Этих légendes des origines321 – великое множество, но все они, по своей наивной символичности, представляют выразительное противоречие с глубокими переживаниями и наблюдениями тех же людей в других областях. Отчего появились кочки? – «Черт блёвал». Откуда произошла нечистая сила? – «Адам народил много детей и постыдился показать их Богу. Тогда они и обратились в нечистую силу». Откуда взялись лягушки? – «Родители прокляли своих детей «за благость», т. е. за крик; – проклятые и сделались лягушками». И так далее – без конца. Киты, на которых стоит земля, зверь Индрик, великорыбие – огнеродный змей Елеафал. Стратим-птица, баснословный Китоврас и др. – тут мы имеем дело, конечно, не с чем иным, как с кантовскими «предельными понятиями», с «вещами-в-себе», о коих не должно спрашивать, но в существовании которых невозможно сомневаться. Однако эти Grenzbegriffe322 необходимо разлагаются, лишь только мы начинаем анализировать их. Неведомое нисколько не томит среднего крестьянина, да, может быть, эта уравновешенность и более мудра, нежели страдальческая пытливость и фаустовские порывы.
Ведь мы осуждаем жадность в пище. Но почему ж, в таком случае, необузданное удовлетворение другой естественной потребности – познания – не считается пороком? Обуздывать жадность в познании есть такая же добродетель, как полагать предел похотям плоти.
Но есть и среди крестьян отдельные люди, которым ведомо и недоведомое. Они – ведуны и ведуньи, ведьмаки и ведьмы, ибо они ведают по преимуществу; они знахари и знахарки, ибо они знают по преимуществу. Одни из них так и отродились, нарочито отзывчивые на каждую вибрацию мира; другие достигли ведения посредством внутренней аскезы или благочестия и созерцательной жизни. Третьи вступили в союз с темною силою, поработились нечисти, подталкиваемые несчастиями, гневом или страстью. Одни пользуются своим ведением во благо, другие во зло. Но все они, добрые и злые, прирожденные и выученные, переживают такие времена, когда видят, слышат и всячески воспринимают то, что незримо и непостижимо всем прочим. Все они живут двойною жизнью. Пред всеми ними отверзаются настежь двери потустороннего. Всю силу своей воли сосредоточивая на одном желании, заклинатель наполняется этим желанием, сам становится воплощением единого акта воли. «Воля к действию» отделяется от него, выходит за пределы его ограниченности, вступает в активное взаимодействие с волями природных вещей-существ. Она – действенный дух среди других духов, центр мистических сил среди других центров. Он борется с природою и вступает с нею в союз; побеждает ее и бывает побеждаем. Он уже не человек, не просто субъект, для которого мир есть просто объект. Нет тут ни субъекта, ни объекта. Теряется это различение в дружественном или враждебном слитии со природою, в этом объятии или в этой схватке с тайными силами. Он – часть природы; она – часть его. Он вступает в брак с природой, и тут – намек на теснейшую связь и почти неразделимую слиянность между оккультными силами и метафизическим корнем пола. Двое становятся одним. Мысли мага сами собою вливаются в слова. Его слова – уже начинающиеся действия. Мысль и слово, слово и дело – нераздельны, – одно и то же, тождественны. Дело рождается само собою, как плод этого брачного смешения кудесника и природы. Ведь даже в обычном, «дневном» сознании нельзя только мыслить, нельзя мыслить без слов. Мысль сама собою заставляет известным образом напрягаться наши голосовые связки, сама собою заставляет нас внутренне произносить мыслимое слово. Мыслить, – по выражению полинезийцев, рьяно защищаемому М. Мюллером, – это значит «говорить в животе», т. е. беззвучно артикулировать. Стоит немного забыться, и вы будете произносить вслух; ваша артикуляция выявится в звуке. Но, вместе с тем, мысль есть и начало действия. Когда вы обдумываете что-нибудь, вы неизбежно готовитесь начать ряд действий, так или иначе напрягаете мышцы. Чем напряженнее желание, чем непосредственнее сознание, тем ближе друг к другу мысль, слово и дело. В экстазе магического творчества, упоении миротворческой властью нет границы между ними. Одно есть другое. Огненной лавой течет из уст заклинание и, ударяясь о вещи, плавит их и отливает в новые формы, даваемые кудесником. Кто имел дело с гипнозом, тот хорошо знает это состояние, когда слово, даже желание, осуществляется без промежуточных звеньев; но еще лучше знает его тот, кто делал опыт с движением тел по приказу словесному или мысленному, когда нечеловеческое «да будет» претворяет действительность, когда
mens agitat molem323;
и тот поймет, что активность кудесника – это нечто совсем, совсем иное, нежели обычное, пассивное восприятие мира.
В этом соединении субъекта с объектом, в слиянии, которое зачинает уже действие и действие которого есть воплощенное слово, кудесник живет как полубог, как особое существо, уходящее от людей и возвращающееся в лоно природы. Он насылает болезни и дает исцеления; он убивает; он заставляет хворать скотину или лишает коров молока. Он запирает утробы женщинам и делает мужчин бессильными. Он играет всеми человеческими страстями, возбуждает и прогоняет любовь, мучает и благодетельствует. В нем, ушедшем от людей, как за кулисами кукольного театра, сходятся в один узел судьбы все нити человеческого общества; и не только общества, но и природы. От него зависит град и дождь; он правит ветрами и бурей. Он – активный центр заклятой им природы, – самодовлеющий, самодержавный, мощный. Делая символическое действие или произнося слово, напоминающее об этом действии, заклинатель вызывает природу на подражание; подобно мерячещему человеку, природа невольна в своих подражательных действиях. Так, по Фрезеру, оргии – это приемы первобытной магии, посредством которых хотели заставить небо сочетаться браком с землею и оплодотворить ее семенем-дождем. – Вот почему и наши заговоры почти всегда двучленны, причем, первая, эпическая часть повествует о ранее свершившемся или ныне совершающемся действии, аналогичном тому, которое хотят произвести, а вторая – внушает желаемое действие. Вот почему заговоры почти всегда начинаются выражениями, вроде: «встану», «пойду», «умоюся» и т. п. И сам кудесник переживает реальность того, что описывает. «Оболкусь я оболоком, обтычусь частыми звездами», – говорит заклинатель. «И вот он, – по словам Веселовского, – и вот он – уже маг, плывущий в облаке, опоясанный млечным путем, наводящий чары и насылающий страхи». Слово его есть дело его, и даже для рефлектирующего сознания заговоры представляются исполненными мощного пафоса. Да, кудесник – «шептун», как нашептывающий свои заговоры324; – «обаятель», как бающий, сказывающий их; – «врач», как врущий, т. е. заговаривающий недуги, бормочущий325; – Боян, «соловей старого времени», или, точнее, баян, – как писал А. С. Пушкин326, и как догадывается проф. Жданов, – баян (от «баяти») и есть такой маг, ритмическим словом своим заклинающий стихии и творящий историю. И слово мага – это не есть «только слово», «дым и звук пустой» или flatus vocis; и язык не есть flagellum aöris – бич воздуха, как говаривал новопифагореец Секунд, а за ним – схоластики. Нет! Оно державно и мощно. По слову своему эти шептуны и баяны – великие, могучие, сильные. Санскритское mah, древнезендское meg, mag, mug, клинописное magusch, греческое μέγας, латинское magis, русское могучий означают все одного и того же, – внутренне великого и могучего, владеющего силою мудрости и знания. И нетрудно узнать в нем мага, кудесника, волхва и заклинателя, знахаря и волшебника, этого делателя по преимуществу. Неспроста ведь глагол «делать» относится в своем истинном смысле к магическому действу, этому деланию по преимуществу. Так, на Мадагаскаре волшебники и гадатели матитанана называют себя триаза, т. е. «делатели». В санскрите волшебство усвоило себе целое гнездо слов, происходящих от kar – делать: krtya – волшебное делание, krtvan – чародейство (буквально: делание), karmana – чары (от karman – дело), kartram – магическое средство. В романических языках глагол facere дает целый выводок магических терминов: в итальянском языке fattura – чары; в древнефранцузском – faiture, в португальском – feitico (откуда происходит fetisch и многие другие) имеют то же значение. Гримм полагает, что самое вероятное происхождение немецкого Zauber есть древневерхнегерманское Zoupar, – от zouwan, равно готскому taujan – делать. Подобно сему, и греческое φεουργία, богоделание. Точно так же и русское чары, и малорусское каровати – чаровать, литовское Kereti, kirti – то же значение, – есть производное от корня kar – делать, вышедшего из корня qer, quer – действовать.
Действенная, творческая воля кудесника, сама по себе, темна, безвидна и неопределенна. Это – стихийная мощь, не знающая цели; – напряжение, не являющее себя, ибо не знает, как явить себя; – чистая возможность, не имеющая ничего действительного. Она дает сказуемое миротворческого суждения: «Да будет!» Но что «Да будет»? Сказуемым определяется реальность подлежащего; но только подлежащее, своей идеальной данностью, определяет творческий перевод потенции в акт. Идея – вот что должно быть подлежащим. И только наличность идеи в духе кудесника делает действительностью его творческую возможность. Идея, мыслимая кудесником, направляет его мощь, дает определенность его напряжению. Но и сама идея требует скрепляющей ее сдержки. Идея фиксируется лишь в слове. Лишь слово, хотя бы и беззвучно произносимое, хотя бы лишь потенциальное слово, данное, как напряжение голосовых мышц (и, в крайнем случае, как другое мускульное чувство), лишь оно фиксирует мысль на идее. Лишь в слове объективируется и получает определенность воля. Слово кудесника есть эманация его воли; это – выделение души его, самостоятельный центр сил, – как бы, живое существо, с телом, сотканным из воздуха, и внутренней структурой – формой звуковой волны. Это – элементаль, – по выражению оккультистов, – особого рода природный дух, иссылаемый из себя кудесником. Слово – это и есть подлежащее, сказуемым которого является творческое «Да будет».
Действие ли то, состояние, качество или вещь, – слово, как подлежащее, как желаемое, непременно носит характер вещный, субстанциальный. С этим желаемым, кудесник вступает в живое взаимодействие. Мысленно противопоставляя себе идеальное, объект (ибо объект всегда идеален, тогда как субъект – реален), актом воления, в творческом восторге зачатия, он порождает часть своей души, подражающей этому идеальному, и направляя это рожденное от него слово на противостоящий ему объект, заклинает его, т. е. сливается с ним, посредством своей эманации.
Плод кудеснического акта – идеальное и реальное зараз, идеал-реальное, субъект – объективное, Я и не Я, – короче – слово, λόγος, – новое, мгновенное состояние действительности, встающее пред кудесником в творческом экстазе и затем, с увяданием восторга, умирающее и распадающееся.
Да и что такое εκστασις, экстаз, восторг, как не исторжение, выхождение из себя? Даже внутренняя форма речения «восторг» указывает это, ибо восторг, восторгаться, восторженный происходят, конечно, от древнеславянского глагола тръгати, тръгнути, входящего в состав нашего «исторгать» и «отторгать», родственного польскому targac, т. е. рвать, тягать взад и вперед, и, быть может, являющегося родоначальником слова «торкать», «торкаться», употребляемого в костромском наречии и означающего тянуть к себе и от себя (например, про дверь), и слова тόροκ, на архангельском наречии, означающего порыв ветра. Ср. также слово «трогать», первоначально означавшее тащить, trahere (извозчику говорим: «трогай», т. е. езжай).
Восторг (собственно, воз-торг) есть мгновенное отторжение себя от себя. Слово кудесника, рожденное в восторге, несет в себе, возносит с собою отторженный кусок его воления. И потому, слово кудесника само по себе есть новое творение, мощное, дробящее скалы, вверзающее смоковницу в море и двигающее горою, низводящее луну на землю, останавливающее облаки, меняющее все человеческие отношения, все могущее.
«Сие слово, – так заканчивается некий заговор, – сие слово есть утверждение и укрепление, им же утверждается и замыкается... и ничем: ни воздухом, ни бурею, ни водою дело не отмыкается». Слово кудесника – сильнее воды, тяжелее золота, выше горы, крепче железа и горючего камня алатыря. «Слово мое крепко», – говорит заговорщик.
Вещее заклятие – это судьба мира, рок мира. Да и что такое рок, как ни приговор, как ни изречение, как ни слово, как ни заклятие? Вспомним, что наше «рок» происходит от «ракати», т. е. шуметь, рокотать, «рещи», т. е. изречь, совершенно так же, как латинское fatum – от fari, т. е. говорить, сказать. Слово кудесника – это рок вещей, их fatum, и все, на что направлено ладное и складное заклятие, ритмическая incantatio, carmen, столь же мало убежит от него, как дрожащая серна – настигающей ее певучей стрелы. Недаром древние эллины называли слово «крылатым»: бросишь крылатое слово – оно и летит, само настигая жертву.
Но кончено волхвование, и слово умерло. Сказуемое «Да будет» снова ушло в безвидное сплетение стихий, в чистую субъективность; подлежащее снова стало чистым объектом, т. е. идеальным, мертвым, пустым, непроницаемым. Слово это уж не есть творческое суждение, а есть только звук пустой, скорлупа, шелуха мысли, – интеллигентское слово.
Слово кудесника – вещно. Оно – сама вещь. Оно, поэтому, всегда есть имя. Магия действия есть магия слов; магия слов – магия имен. Имя вещи и есть субстанция вещи. В вещи живет имя; вещь творится именем. Вещь вступает во взаимодействие с именем, вещь подражает имени. У вещи – много разных имен, но – различна их мощь, различна их глубина. Есть имена, более и менее, периферические, и, сообразно с тем, зная, мы знаем, более и менее, вещь и могучи, более и менее, в отношении к ней. Непроницаемость вещи происходит от неумения заглянуть внутрь ее, в ее сокровенное ядро. Чем глубже мы постигаем вещь, тем больше мы можем. Кому известны сокровенные имена вещей, нет для того ничего непреступаемого. Ничто не устоит пред ведающим имена, и, чем важнее, чем сильнее, чем многозначительнее носитель имени, тем мощнее, тем глубже, тем значительнее его имя. И тем более оно затаено. Личное имя человека – это почти необходимое средство ведения его и волхвования над ним. Достаточно сказать имя, и воление направлено в круговорот мира. Иной раз это имя-сущность описывается через перечисление признаков, равно как расчленяется и творческое «Да будет». Получается тогда заговор; но первичная форма его – простое имя327.
Феургия и магия столь же стары, как и человечество. Вера в силу заклятия и переживание своего мирообразующего творчества простирается так же далеко, как и человек. Но, т. к. имя является узлом всех магико-теургических заклятий и сил, то понятно отсюда, что философия имени есть наираспространеннейшая философия, отвечающая глубочайшим стремлениям человека. Тонкое и в подробностях разработанное миросозерцание, полагает основным понятием своим имя, как метафизический принцип бытия и познания. И крепость системы тысячекратно усиливается великим множеством подпор, которые находит она в религиозной жизни, в быте, в своеобразной народной науке непосредственного сознания. В ней, – в этой системе, – своя последовательность мысли, своя убедительность, своя логика; и нельзя сказать, чтобы вовсе не было перехода от мировоззрения научного к этому, оккультическому. Если вы вспомните почти современные нам номиналистические тенденции многих лингвистов (В. Гумбольдт, М. Мюллер, Штейнталь, Потебня, Овсянико-Куликовский и многие другие), утверждающих, что мысль невозможна без слова и что лишь в слове она осуществляется; затем, теорию идей-сил (Фулье); далее, внушающую силу слова в явлениях гипнотических; наконец, целый ряд фактов в области истории и психологии религии, то, – я уверен, – даже и не переживавшие творческого экстаза кудесника несколько смягчатся в своих суровых осуждениях философии имен, созданной далекими нашими предками.
Однако, я не решаюсь излагать ее Вам. Ведь непосредственное мышление оперирует не с понятиями, а с живыми, сочными, полными красок и запахов образами. Эти образы не бывают резко обособлены от соприлежащих. Края их часто расплывчаты, как в самой действительности. По многим направлениям они срастаются с соприкосновенными образами, сплетая единое, многократно связанное целое, – ткань сущего, а не нить; поэму, а не полисиллогизм. Вот почему, при всей внутренней ясности первобытной философии, ее почти невозможно уложить на прокрустовом ложе наших, бедных содержанием, сухих, атомистически-обособленных понятий. Первобытная философия рвется при попытке натянуть ее на раму нашего языка и нашего способа изложения. Чтобы излагать ее – неизбежно воспользоваться эпическим, медлительно-важным, широкими кругами возвращающимся к себе изложением, посредством образов, конкретных случаев, примеров, описаний. Только в этой, непосредственной своей форме древнейшая философия сохраняет свой подлинный вид и свою истинную глубину. Однако, при такой форме изложения, собранные мною материалы потребовали бы целого курса лекций. Поэтому, обратив Ваше внимание на эту философию имен, я укажу только несколько черт ее.
Имена выражают природу вещей. Имена – только условные значки вещей. – Познание имен дает и познание вещей; имена имеются у вещей по естеству их, φύσει. Познание вещей позволяет дать им имена; последние придаются вещам по человеческому произволению, θέσει, – по закону, νόμω. «По природе» и «по авторитету», φύσει и νόμω, издревле противопоставленные друг другу Платоном (в его «Кратиле») в вопросе о сущности и происхождении имен, вкратце суммируют содержание дальнейших споров о том же предмете. Эти две крайности, от Платона и ранее, включительно доселе, разделяют людей мысли. Гераклитовцы и софисты, Платон и скептики, реалисты и номиналисты схоластической философии, наконец, идеализм и сенсуализм – это отголоски все того же коренного противоречия. И, если, в общем, более новые, рефлектирующие, мыслители склонны к сенсуализму, то несомненно и то, что более древние, интуитивные, всегда были приверженцами идеализма. Какое значительное противомыслие!
Когда интеллигент ХХ-го века хочет отметить мнимость какого-либо бытия, указать на его призрачность, он говорит, что это – «только имя». И действительно, по ходячим, так называемым, «научным» воззрениям, имя – лишь кличка, flatus vocis, – «пустой звук, не более». «Имя, – говорит Поэт, – воздушное ничто». Напротив, древнее, да и всякое непосредственное представление об имени видит в нем самый узел бытия, наиболее глубоко скрытый нерв его; имя, –думали древние, – сущность, сперматический логос объекта, внутренний разум-сущность, субстанция вещи. «Имя есть некоторое истинное высказывание из присущего именуемой вещи», – говорит Пахимер. «Имена, – говорит он же, – объявления лежащих под ними вещей». Поэтому, имя непереводимо на другой язык и, пытаясь перевести его, мы лишаем его присущей ему таинственной силы. Имея какую-то субстанциальность, «имя признавалось частью самого существа того человека, который носит его, так что посредством него можно было переносить его личность и, так сказать, переселять ее в другие места» (Тайлор). Человек без имени – не человек, ему не хватает самого существенного. «С именем – Иван, без имени – болван». «Без имени ребенок – чертенок», гласит народная мудрость. Имя – материализация, сгусток благодатных или оккультных сил, мистический корень, которым человек связан с иными мирами. И потому, имя – самый больной, самый чувствительный член человека. Но – мало того. Имя есть сама мистическая личность человека, его трансцендентальный субъект. Но и этим еще не высказана полнота реальности имени. «Имя есть некоторое, от своего носителя сравнительно независимое, но для его благоденствия и несчастия высоковажное, параллельное к человеку существо, которое зараз представляет своего носителя и влияет на него» (Гизебрехт). Уже не имя при человеке, но человек при имени. Имя – особое существо, по преимуществу, со всеми прочими живое, дающее жизнь, жизнеподательное, то благодетельное, то враждебное человеку. В массивных представлениях имя почти отождествляется с феруерами или фравашами маздеизма, питрами индусской феософии, терафимами евреев, героями греков, манами, гениями и юнонами римлян, ангелами-идеями Филона, демонами неоплатонизма, фильгиями – скандинавов, с ангелами-хранителями всех родов и всех видов. «Nomina – numina», это не только суеверие, но и истинное определение того, чем были в древности nomina, потому что имя понималось как живое существо, как объективация мистической сущности, лежащей в основе мира, как отдельная волна или всплеск океана мировой воли. Мало того. По своему происхождению имя – небесно. Оно – божественная сущность, приобщаясь которой, тотемистическое животное делается богоживотным, а небесное животное, – созвездие, –богосозвездием, человек же – истинным человеком, animal religiosum328. Приобщаясь жертвенного мяса тотема, человек единится с таинственною сущностью тотема, – получает тотемистическое имя (Волк, Соловей, Баран, Сокол и т. д.) и сам делается чем-то вроде тотема для своих потомков. Культ животных и растений теснейше связан с культом семейного очага, а последний – с почитанием предков. Мало того. Я позволю себе напомнить Вам теорию Фрезера и Грандт-Аллена, по которой самое одомашнение животных и растений есть дело вовсе не пользы, а религиозное, имеющее в виду культ, а не выгоду. Но все эти культы вяжутся одною нитью, – почитанием имени. В тотемном имени – живое единство сородичей. Их одинаковое или, вернее, их единое, общее для всех имя, в котором все они соучаствуют, которому все они подражают, которого все они приобщаются, делает их единосущными (прошу не смешивать этого имя-понимания с современностью, – когда общность имени делает соучастников имени лишь подобносущными). Отсюда – единство фамилии: Волковы, Соловьевы, Соколовы, Барановы и т. д. В сущности говоря, всякое имя, хотя бы оно и не было именем бога, есть нечто божественное. Но, в особенности божественны имена, принадлежащие великим богам, феофорные, т. е. богоносные имена, несущие с собою благодать, преобразующие их носителей, влекущие их по особым путям, кующие их судьбы, охраняющие и ограждающие их. Ономатофоры самой вещью суть феофоры: именоносцы-богоносцы и, нося в себе бога, они сами божественны, сами – боги. Чем острее глаз к восприятию имени (своего и чужого), тем обостреннее самосознание. В экстазе творчества, именами, феург сознает себя богом. Весь мир пронизан магическими и мистическими силами, и нет вещи, которая не была бы опутана сетями мага. Сами боги владеют всем потому, что знают имена всего; их же имен – никто не знает. Но узнайте их имена, и боги окажутся во власти человека.
В отношении к своему носителю, имя представляется двояко. Во-первых, оно представляет своего носителя, указывая, кто есть некто, и затем, что есть он. Во-вторых, оно противопоставляется своему носителю, влияя на него, – то как предзнаменование грядущего, то – как орудие наговора, то, наконец, – как орудие призывания. Влияние это может быть добрым и худым, сообразно с волею носителя и идущих против нее.
Таким образом, имя оказывается alter ego329 своего носителя, – то духом-покровителем его, то существом, одержимым враждебными силами и потому губительным. Отсюда-то исходит, всюду распространенная, своеобразная гигиена имени, заключающаяся в тщательном охранении имени от чужих людей, забота о тайне имени, что достигается посредством целой, тонко разработанной, системы охранительных мер, вроде псевдонимии, полионимии, криптонимии, метонимии и т. п.
Но, если имя несет в себе мистические энергии, то можно пользоваться этими энергиями со стороны. Кудеснику, – зватаю чужого имени, – оно несет благополучие и власть, когда он заклинает высшие существа; но оно же может причинить ему и гибель. Отсюда – многочисленные табу на имена, – запреты называть те или иные имена. Таковы названия болезней, имена темной силы, слова «непристойныя». Можно призвать имя и, не справившись с ним, погибнуть. Наконец, всемогущее Имя Божие дает полную власть над всею природою, потому что в Имени этом открывается звателю Его божественная энергия и божественная помощь. Таким образом, «для первоначального человечества имя носит демонический характер» (Гизебрехт). «Имя есть насмешливый двойник своего носителя, – будь то Бог или человек, – и с именем надобно обращаться весьма осторожно. Если даже боязливо держать его под замком и запором, то оно всегда имеет демоническую наклонность сделаться действующим, вырваться у кого-нибудь в неверный момент и протискаться врагу на уста. ...Больше всего, по-видимому, страшатся своих имен боги; они тщательно скрывают их; имя должно быть добыто от них коварством, т. к., если бы боги были даже могущественнейшими, то еще сильнее их тот, кто знает их имена. ...Но, вместе с тем, люди ничего не страшились так сильно, как своего имени, и боязливо опасались выговорить его, причем, верование это вовсе не ограничено отдельными частями земли, а может быть открыто почти всюду».
Имя вещи есть идея-сила-субстанция-слово, устанавливающая для этой вещи единство сущности в многообразии ее проявлений, сдерживающее и формующее самое бытие вещи. А раз так, то понятно само собою, что изменение глубочайшей сущности, – изменение религиозного содержания вещи, изменение situs330 вещи в вечном порядке иного мира и изменение имени вещи необходимо соответствуют друг другу, как предмет и его тень. Но для древнего сознания, как и для всякого непосредственного мироотношения, вся жизнь имеет уклад религиозно-феургический; все житейское – лишь лицевые поверхности культа; все жизненные явления, так или иначе, блистают светом потустороннего. Отсюда понятно, – и даже с необходимостью постулируется, – переименование при множестве разного рода изменений в ходе житья-бытья, – даже таких, которые для интеллигентского сознания вовсе не связываются с переменами религиозной жизни. Выход девушки замуж, восшествие царя на престол или низвержение его с престола, достижение совершеннолетия, вхождение в род через усыновление, посвящение в мистерии, принятие в число граждан, натурализация в иной стране, переход в рабство или выход из него, поступление женщины в сословие meretricium331, заключение дружбы, крещение, постриг в монашество, ординация, смерть, серьезная болезнь, наконец, смерть, не говоря уже об основании новой религии или секты, – все это было для древнего человека проявлением каких-то переломов в трансцендентном, – подлинным религиозным скачком и, как таковое, связывалось с изменением в культовой обстановке данного лица, а потому, признавалось нарушением самотождества лица, – неразрывности его внутренней жизни. Человек, претерпевший религиозное перемещение или смещение с прежнего своего места, перестает уже быть, с мистической точки зрения, прежним человеком, и потому, это изменение его религиозного situs отражается и на имени. Говорю: «отражается». Но это слово можно употребить здесь лишь применительно к современной точке зрения, с которой имя кажется чем-то вторичным, придатком к сущности. Для древнего же сознания имя и сущность – не два взаимно обусловленные явления, а одно, имя-сущность, так что изменение одного есть ipsa re332 изменение другого: ведь в имени-звуке таинственно присутствует имя-сущность. Звук имени есть звук пресуществленный, так что в нем телесно, физически воплощено сверхчувственное. Поэтому, правильнее всего сказать, что в изменении звука-имени обнаруживается изменение сущности-имени.
Тут обрисовано мною мистико-магическое воззрение на мир в его наиболее общих очертаниях. Но уже и тут, в этом беглом наброске, нельзя не признать разительного сходства с философской системой Платона. Разница лишь в том, что философ – отвлеченнее, нежели народ. Там, где магическое мировоззрение ссылается на прямые факты и переживания, философ хочет доказывать логически.
Стремление Платона к цельному знанию, к нераздробленному единству миропредставления, находит себе точный отклик во всеобъемлемости и органическом единстве первобытного миросозерцания. Безграничная вера Платона в силу человеческого духа есть прямое отражение народной веры в возможность творчества силой мысли. Признанию магии, как нарочито философской способности, соответствует народное представление о познании в кудесническом озарении. Гносеологическое значение эроса, как средства познать внутреннюю суть вещей, как дающего коснуться высшей реальности, есть, конечно, любовный экстаз волхва, когда волхв познает сущность природы и воспринимает в себя высшую реальность ее. То, что познается, – идея Платона, – есть точное соответствие имени, внутреннюю силу которого постигает кудесник в своем волхвовании. И эти полновесные имена так же относятся к обычным именам-кличкам, как идеи Платона – к пустым рассудочным понятиям.
Магическое миросозерцание не укладывается на рассудочной плоскости. Вот почему попытка изложить его отвлеченно, систематически ведет к построению многих, не совместных между собою рассудочных схем, – осколков цельной системы. Совершенно то же – и с системою Платона. Но замечательнее всего то, что даже и осколки обоих мировоззрений оказываются аналогичными друг другу в своей несовместимости между собой. Прежде всего, идеи, – этот серединный болт Платонового построения, – для рассудка имеют две различные точки опоры. Они – и орудия познания подлинно сущего, но они же – и познаваемая реальность. Идеи – самое, что ни на есть, субъективное; но они же – самое объективное; они – идеальны, но они же и реальны. – В магическом миросозерцании, (– мы уже видели это) как раз такой же двойственностью обладают имена. Они – орудия магического проникновения в действительность: зная имя – можно познавать вещь; но они же – сама познаваемая мистическая реальность.
Еще разительнее это совпадение двух мировоззрений выступает тогда, когда они стремятся уяснить способ сосуществования и образ взаимодействия двух миров, поту- и посюстороннего. Вы знаете, конечно, что Платон определял это взаимоотношение идеи и явления различно: 1°, то это – сходство явления и идеи, а, позднее, подражание явления идее (μίμησις); при этом, идеи мыслятся, как конечные причины явлений, к которым явления имеют стремление, наподобие любви. 2°, то это – участие (μετέχειν) явлений в идее; при этом, реальна только идея, – явление же – лишь настолько, насколько оно участвует в этой сущности. 3°, то это – присутствие идеи в явлении (παρουσία): явления становятся сходны с идеей, когда она «приходит к ним»; и теряют это свойство, когда идея «удаляется от них»; вместе с тем, идея – уже принцип не гносеологический, основа не познания, но принцип онтологический, причина бытия, αιτία. Идеи оказываются силами (δυνάμεις), посредством которых объясняются явления.
Все эти способы взаимоотношения идеи и явления мы встречаем и в первобытной философии, именно, применительно к взаимоотношению имени и именуемого. 1°, между носителем имени и самым именем признается сходство, и это сходство иногда мыслится, как подражание именуемого своему имени. В этом смысле, например, дается ребенку имя с каким-либо особым значением, – чтобы он подражал имени, чтобы «по имени было и житие». Но и помимо этого рационального значения имени, оно имеет особое, мистическое содержание, и этому-то содержанию подражает, – несознательно, – именуемый. 2°, однако, именуемый не только подражает имени, но и участвует в нем. Так, все члены рода соучаствуют в фамильном имени. 3°, но можно сказать и наоборот: Имя присутствует в именуемом, входит в него и, в этом смысле, является, как бы, внутренней формой именуемого. Если ранее мыслилось, что человек самостоятелен и подражает имени от себя, то теперь оказывается, что он обладает мистической сущностью имени потому, что само имя оформливает его, присутствует в нем. Так, теофорные имена дают божеские свойства их носителям.
Имя представляется то как начало идеальное, то как начало реальное; то оно – трансцендентно, то – имманентно носителю своему; то оно стоит рядом с именуемым, будучи сходно с ним, причем, сходство это есть нечто просто данное; то имя находится с носителем своим в реальном взаимодействии, являясь причиной мистического его бытия, – или потому, что носитель участвует в имени, или потому, что имя присутствует в носителе. Таким образом, при всем многообразии своих рассудочных определений, неспособных исчерпать, или даже адекватно передать часть живых переживаний, остается, все же, удивительное сходство между учением Отца нашей Академии и миропониманием еще более древних предков наших, теряющихся в тумане древности. Это сходство – фамильное, и, если бы не недостаток времени, то его легко было бы проследить и далее, до более тонких подробностей.
Вы можете, однако, спросить меня: «Как же возникло это сходство?» Мой ответ на такой вопрос был бы краток, а именно, высказывался бы в словах: «Эзотеризм Платоновой школы». Но, чтобы развить эти немногие слова до убедительности, потребовалось бы особое чтение.
Я кончил. Я знаю, меня могут упрекнуть: «Как это в похвальном слове Платону лектор осмелился сравнить его философию с мужицкой верою в заговоры?!»
– Глубокоуважаемые слушатели! Для меня лично это миросозерцание кажется гораздо ближе стоящим к истине, нежели многие лженаучные системы. Но если Вы (– что и вероятно!) не согласны со мною, если Вам это мужицкое миросозерцание все-таки представляется чем-то вроде навоза, то и тогда Вам незачем быть в обиде на развитый здесь взгляд. Ведь
свет из тьмы! Над черной глыбой
вознестися не могли бы
лики роз твоих,
если б в сумрачное лоно
не впивался погруженный
темный корень их333
Такова, именно, Платонова философия, эта благоуханная роза, выросшая на всечеловеческом темном черноземе, эта темного хаоса светлая дочь334
* * *
Пропедевтические лекции к ряду чтений из истории платонизма, читанных студентам первого курса Московской Духовной Академии.
А. Н. Гиляров – Обзор трудов по истории мысли и культуры (за 1892–96 гг.). Киев, 1896, стр. 32.– См. также реферат того же автора о книге Пэтера [8] в «ВФиПс», год V (1894), 3 (23), стр. 440.
Ernst Laasy – Idealismus und Positivismus, l-r Theil. Berlin, 1879, S. 5 – Э. Лаас, – Идеализм и позитивизм, пер. с нем. под ред. С. Н. Эверлинга. М., [1907], первая общая и основная часть, стр. 6–7.
Luise Zurlinden, – Gedanken Platons in der dentschen Romantik. Lpz., 1910. (Untersuchungen zur neueren Sprach- und Literatur-Geschichte, herausgegeben von prof. O. F. Walzel. Neue Folge, VIII Heft.)
С. С. Игнатов, – Э. T. А. Гоффман. Личность и творчество. Μ., 1914.
В. Жирмунский – Немецкий романтизм и современная мистика. СПБ., 1914.
(Тут дается общее изображение восприятия жизни в немецкой романтике, во многом конгениальной платонизму.)
А. Н. Гиляров, – Платонизм, как основание современного мировоззрения, в связи с вопросом о задачах и судьбе философии. (В приложениях: Платонизм в грезах любви. – Взгляд на красоту до Платона. – Платонизм и христианство. – Значение волнений в философии.) М., 1887.
А. Я. Гиляров, – Значение философии. Киев, 1888. (Тут же – литература) .
A. Я. Гиляров, – Предсмертная мысль XIX века во Франции, 1901.
Н. [С]. Арсеньев, – Платонизм любви и красоты в литературе эпохиˆВозрождения (ЖМНП, новая серия, Ч. 43, 1913 г., январь, стр. 23–56, февраль, стр. 232–300). (Тут же – обширная литература) .
Эмилий Метнер, – Размышления о Гёте. Книга 1. М., 1914, гл. VIII, стр. 235–237 и др.
Ernst Maas, – Goethe und die Antike, 1912.
B. Bиндeльбанд, – Прелюдии. Пер. со 2-го нем. изд. С. Франка. СПБ., 1904. «О философии Гёте», стр. 145–165, особ., стр. 165.
Г. Я. Якубанис, – Отзвуки платонизма в лирике Шиллера (сборник «Eranos». Киев, 1906).
Abel Lefranc, – Le Platonisme et la littérature en France à l’époque de la Renaissance (1500–1550). (Rev. de l’Hist. litt, de la France, III, 1896.)
Abel Lefranc, – Marguerite de Navarre et le Platonisme de la Renaissance (Biblioth. de l’Ес. d. Chartes, 1897–8).
Аналогичные исследования для литературы испанской и английской указаны у Арсеньева, id., стр. 253, прим. 1.
Moriz Carriere, – Die philosophische Weltanschauung der Reformationzeit in ihren Beziehungen zur Gegenwart. Stuttgart und Tübingen, 1847.
Филипп Моньё, – Опыт литературной истории Италии XV века Кваттроченто. Пер. с франц. К. С. Шварсалона. СПБ., 1904. Книга третья. Греческий язык, стр. 249–353.
Адольф Гаспари, – История итальянской литературы. Т. II-й. Итальянская литература эпохи Возрождения. Пер. К. Бальмонта. М., 1897, стр. 143, 160.
Я. Буркхардт, – Культура Италии в эпоху Возрождения. Пер. со 2-го нем. изд. СПБ., 1876.– Есть и более новое издание.
Г. Фойгт, – Возрождение классической древности или первый век гуманизма. Пер. со 2-го нем. изд. И. П. Рассадин. Μ., т. I – 1884, т. II – 1885.
М. [С]. Корелин,–Ранний итальянский гуманизм и его историография. Два выпуска (М., 1892). – 2-е изд.
Г. Брандес, – Шекспир, его жизнь и произведения. Пер. под ред. П. И. Стороженка. Μ., Т. I, 1899, стр. 327 (о платонизме в сонетах Шекспира); Т. II, 1901, стр. 18 (влияние Платона в «Гамлете»).
Некоторые соображения на эту тему см. в лекции: П. Флоренский, – Общечеловеческие корни идеализма. Сергиев Посад, 1909 ( = «Богословский Вестник», 1909, №№ 2 и 3).
См. напр.: A. Fouillée, – La philosophie de Platon. T. 3-me: Histoire de Platonisme et de ses rapports avec le christianisme. 2-me ed., revue et augmentée. Paris, 1889.
Через себя (лат.).
Через иное (лат.).
Mutatis mutandis (Внеся необходимые изменения (лат.)) – то же приходится сказать и о другом великом представителе философии – Канте, – с той только разницей, что тут указующий перст направлен куда-то вбок, – в трансцендентальную пустоту смерти.
Идеи, виды (греч.).
«Платонизм, – говорит В. Пэтер, – не есть формальная теория или совокупность теорий, но стремление или группа стремлений – мыслить, или чувствовать, или рассуждать, сообразно с «теми выдающимися особенностями самого Платона и его умственного строя, которые объединяются и находят свое полное выражение в том, что, скорее, комментаторы Платона, чем сам Платон, называют теорией идей». На самом деле, эта «теория» – не что иное, как особый способ рассматривать и обсуждать общие термины, абстрактные понятия, идеалы, – словом, все те термины и понятия, которые выражают в общей форме частные представления нашего индивидуального обзора (р. 136)». Из реферата А. Я. Гилярова о книге: W. Pater, – Plato and Platonism, a series of Lectures. London and New-York, 1893, помещен в «ВФиПс», год V, 1894, кн. 3 (23), стр. 439.
Сущность, природа, ипостась (греч.).
Педант, педантический – от итальянского pedante, происходящего, в свою очередь, от paedare; а это слово – романизированное греческое παιδεύειν, воспитывать дитя (Я. В. Горяев, – Сравнительный этимологический словарь русского языка. Тифлис, 1896, стр. 252).
А. Штёкль – История средневековой философии. Пер. под ред. И. В. Попова. М., 1912, стр. 262.
В. Виндельбанд,– История философии. Пер. с нем. П. Рудича. СПБ., 1898, ч. 3, гл. 1, § 23, стр. 265–266.
Н. Lotze, – Logik, 1874, § 313–321. О. Libmann – Zur Analysis der Wirklichkeit, 2-te Auf!., SS. 313 ff., 471 ff.; – Gedanken und Thatsachen, 1 Heft, 1882.
Виндельбанд,–ib., ч. 3, гл. 1, § 236, прим. 1, стр. 277. «Если изменить имя, то окажется, что речь идет о тебе» (Гораций).
Наureаu, – De la Philosophie scolastique. Paris, 1850, I, pp. 44–45.
Цитата из книги: Ф. [И.] Успенский,– Очерки по истории византийской образованности. СПБ., 1892, стр. 177–178, III.
Maurice de Wulf, – Le Problème des Universaux dans son évolution historique du IX-e au XIII-e siècle «Archiv für Geschichte der Philosophie» Bd. IX, Neue Folge, II Bd., 1896, S. 429.
Единое (греч.).
Многое (греч.).
Единое и многое, или единство во множестве.
Платон, – Софист, 253D: диалектик «μίαν ιδέαν διά πολλών, ένός έκαστου κειμένου χωρίς, πάντη διατεταγμένη ίκανώς διαισθάνεται, και πολλάς έτέρας άλλήλων υπό μιας έξωθεν περιεχομένας, και πολλάς χωρίς πάντη διωρισμενας. τούτο δ’εστιν, η τε κοινωνεΐν έκαάτα δυναται και οπτ μή, διακρίνει κατά γένος έπίστασθαι» (Platonis Opera ex rec. Hirschigiil Parisiis, 1856, Vol. I, p. 1919–15, т. e.: диалектик «достаточно различает, во-первых, одну идею, распростертую всюду через многое, оставляя в стороне отдельные единицы; во-вторых, многие взаимно различные, содержимые одною извне; в-третьих, опять одну, связанную в одном целостью многих, и, в-четвертых, многие, особо всюду определенные: это-то значит уметь различать по родам, как вещи отдельные могут сообщаться, и как нет» (Сочинения Платона, переведенные с греч. Карповым, Ч. У. М., 1879, стр. 549).
«В достаточной степени различить одну идею, повсюду пронизывающую многое, где каждое отделено от другого; далее, он различит, как многие, отличные друг от друга, идеи охватываются извне одною и, наоборот, одна идея связана в одном месте совокупностью многих, наконец, как многие идеи совершенно отделены друг от друга. Все это называется уметь различать по родам, насколько каждое может взаимодействовать [с другим] и насколько нет». Платон. Соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1993. С. 324.
Единая <идея> среди многого (греч.).
Платон, – Филеб, 14 D, Е, 15 D (Platonis Opera, id., pp. 400, 401).
Единое во многом (греч.). Аристотель, – Метафизика, I [Α] 91 (Aristotelis Opera edidit Academia Regia Borussica. Berolini, 1831, Vol. 2, p. 990 b 7,13).
Н. [О.] Лосский, – Обоснование интуитивизма. 2-е изд. СПБ., 1908. стр. 240.
Cp.: Fr. W. I. Schelling, – Bruno (Sämmtliche Werke, 1 Abth., pyc. пер. О. Давыдовой под ред. Э. Л. Радлова. СПБ., 1906).
Ср.: Н. [О.] Лосский, – Введение в философию. Часть I. Введение в теорию знания. СПБ., 1911, стр. 102–203.
Единое и все, или вссединое (греч.), – понятие, введенное Ксенофаном и Парменидом.
Эта мысль удачно раскрывается в свое время встреченном глумлением, а ныне почти забытом, но весьма глубоком и вдумчивом труде: О. [М.] Новицкий, – Постепенное развитие древних философских учений, в связи с развитием языческих верований. Киев, 1860.
Подбор таких мест см. в книге: А. Н. Гиляров, – Платон, как исторический свидетель. Киев, I. 1891, гл. IV, 11, стр. 349–357.
Литература по вопросу об Аристотелевой полемике против Платона указана у А. Н. Гилярова, id., стр. 353, прим. 1393.
Arthur Drews, – Plotin und der Untergang der antiken Weltanschauung. Jena, 1907.
Fr. Picavet – Plotin et lеs Mystères d’Elеusis («Revue de L’histoire des religions», 1903, juin–juillet). – Признание важности этого утверждения Пикавэ высказано Эмилем Бутру в заседании Académie des Sciences morales et politiques от 28 ноября 1903 года («Séances et travaux de l’Académie des Sciences morales et politiques», 64-e an., Nouv. ser., T. 61, 1904. prem. sem., p. 372).
Ludwig Stein – Die Continuität der griechischen Philosophie in der Gedankenwelt der Byzantiner («Archiv für Geschichte der Philosophie», Bd. 9. N. F. II Bd. 1896, SS. 225–246).
Его же, – Das Prinzip der Entwicklung in der Geistgeschichte, einleitende Gedanken zu einer Geschichte der Philosophie in Zeitalter der Renaissance («Deutsche Rundschau», XX, H. 9, Iuni 1895, S. 412 f.). [Коренные выдержки этой статьи приводятся в предыдущей].
Его же – Das erste Autauchen der Gr. Philos. unter den Arabern. («Archiv f. Gesch. d. Philos.», VII, H. 3, S. 358). [Коренные выдержки этой статьи приводятся в первой].
Ф. И. Успенский – Очерки византийской образованности. СПБ., 1892.
Francois Picavety – Plotin et Saint Paul. Comment Plotin est devenu le miltre des philosophes du moyen âge. («Séances et travaux de l’Académie des Sciences morales et politiques». 64-e an., Nouv. ser., T. 61, 1904, prem. sem., pp. 599–620). Это – глава из его Esquisse d'une histoire générale et comparée des philosophies médiévales. Paris, 1907.
Id., p. 600.
А. [И.] Бриллиантов,– Влияние восточного богословия на западное в произведениях И. С. Эригены. СПБ., 1898.
В. B. Болотов – Учение Оригена о Св. Троице. СПБ., 1879.
А. А. Спасский – История догматических движений в эпоху вселенских соборов. Сергиев Посад, 1906; изд. 2-е – 1914.
Ср.: В. Виндельбанд, – История философии, ч. 3, гл. 1, стр. 266–267.
Porphyrii Isagoge et in Aristotelis Categorias commentarium, Ia Brand. 9–14.–Commentaria in Aristotelem Graeca edita consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae, Vol. IV, pars 1, ed. Ad. Busse Berolini, 1887, p. I9–14.
Текст не дает определенного решения, что разуметь под «τά αισθητά» – чувственное явление, чувственная реальность (греч.). А, между тем, в зависимости от того или иного понимания этого термина, меняется и построение всей фразы. По толкованию де Вульфа, опирающегося в данном случае на Орео и на других исследователей (Kleutgen, van Weddingen и др.), «Порфирий задает тройной вопрос, т. е. различает в проблеме три вопроса: 1) Роды и виды существуют ли в природе, или существуют лишь как чистые фикции рассудка (de l’esprit)? 2) Если они – вещи, то суть ли это вещи телесные или бестелесные? 3) Существуют ли они вне чувственных существ (etres), или реализованы в них?» (М. de Wulf, id., p. 433. – Ср.: В. Haureau,– Histoire de la Philosophie scolastique. 1-re partie. Paris, 1892, pp. 48–52. – Ф. [И.] Успенский. – Очерки по истории византийской образованности. СПБ., 1892, стр. 177. – М. [И.] Владиславлев, – Логика. СПБ., 1881, приложения, стр. 64–67). При этом толковании остается неясным, во-первых, какая, собственно, разница между 3-м и 2-м вопросами Порфирия и, во-вторых, как исторически выросло из вопросов Порфирия обсуждение проблемы слова в средневековой философии. Мне думается, что, если 2-м вопросом Порфирий ставит о родах и видах дилемму онтологическую, то 1-м – ставится дилемма гносеологическая, а 3-м – психологическая. «Тела» – «бестелесные сущности» – это сами в себе; «стоят обособленно» и «имеют бытие в чувственных явлениях и с ними» – это уж в отношении к познанию. Следовательно, под «τά αισθητά», – как следует и из этимологии этого термина, – должно разуметь чувственные элементы процесса познания, т. е. весь психологический момент познания. Это будут: то представление, которое составляет ближайшее содержание слова, именующего познаваемый род или вид, ощущения соответствующих ему артикуляционных усилий и, прежде всего, те звуки, в которых данное слово выражается. Короче, под τά αισθητά надо разуметь nomen, sermo, φωνή – имя, слово (лат.), звук (греч.) – и тогда соответствие истории средневековой философии и вопросов Порфирия будет обеспечено.
«Сказать тут же – я буду избегать говорить относительно родов и видов, – существуют ли они самостоятельно, или же находятся в одних только мыслях, и, если они существуют, то тела ли это, или бестелесные вещи, и обладают ли они отдельным бытием, или же существуют в чувственных предметах и опираясь на них: ведь такая постановка вопроса заводит очень глубоко и требует другого, более обширного исследования». Порфирий. Введение к Категориям Аристотеля // Аристотель. Категории/ Пер. А. В. Кубицкого. М., 1939. С. 53.
Id., р. 2510–14. «Далее, я не стану говорить относительно родов и видов, существуют ли они самостоятельно, или же находятся в одних только мыслях, и если они существуют, то тела ли это, или бестелесные вещи, и обладают ли они отдельным бытием, или же существуют в чувственных предметах и опираясь на них: ведь такая постановка вопроса заводит очень глубоко и требует другого, более обширного исследования». Боэций. Утешение философией и другие трактаты. М., 1996. С. 19.
Anicii Manlii Severini Boethii in Isagogen Porphyrii Commenta. Editionis primae lib. I, c. 10 (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum latinorum editum consilio et impensis Academiae Litterarum Caesareae Vindobonensis. Vol. 48, ree. Sam. Brandt. Lipsiae, 1906, p. 244–7). «Он говорит, что совершенно оставляет без внимания вопрос о родах и видах, существуют ли они вполне самостоятельно, или находятся в одном только мышлении и разуме, телесны ли они, или бестелесны, существуют ли они отдельно от чувственных предметов, или соединены с ними».
| Роды и виды | |||
| Существуют самостоятельно | Находятся в одном только голом мышлении | ||
| бестелесное | тела | Стоят обособленно | Имеют бытие в чувственных предметах |
Сюда именно клонится крайне-номиналистическое учение Дж. Стюарта Милля, о чем см.:
Л. М. Лопатин, – Положительные задачи философии. М., 1886–1891. 2-е изд. – М., 1991.
Его же, – статьи в «ВФ и Пс.».
Только я один существую (лат.).
Понятие ереси противополагается понятию кафоличности; в слове αίρεσις содержится идея односторонности, прямолинейного сосредоточения ума и воли на одном из многих возможных утверждений. Подробнее о сепаратистском отщепенстве ереси см.: свящ. П. Флоренский, – Столп и утверждение Истины. М., 1914, стр. 161, стр. 690–691, прим. 240, 241. Там же литературные ссылки.
Стихотворение В. С. Соловьева.
Лосский, – Обоснование интуитивизма, стр. 262.
Edmund Husserl, – Logische Untersuchungen, 2ter Theil. Halle a. S., 1901. SS. 112–113; II, 1, § 3.
Об единичном или «сингулярном» (classe singuliere) классе см.: L. Couiurat, – Les principes des mathematiques. Paris, 1905, pp. 21, 25. Л. Кутюра, – Философские принципы математики, пер. с фр. Б. Кореня под ред. П. С. Юшкевича. СПБ., 1913, стр. 22, 25.
Техническим термином «haecceitas» Doctor Subtilis Иоанн Дунс Скот и его школа именовали ту последнюю форму, которая присоединяется ко всякой другой форме, но к которой не может уже присоединиться никакой другой, – т. е. принцип индивидуации (In 1 sent. 2, dist. 3, qu. 6, 11). О Дунсе Ск. см. Migne, – Dicton, de Philos. et de Théologie scolastiques, T. 2. Paris, 1865 (Troisième Encyclopedie Théologique, T. 22), col. 1605–1616. – «Haecceitas est singularitas» (Prantl, – Geschichte d. Logik. Bd. III, S. 280). – По Гоклену: «Haecceitas – ab Haec pro differentia individuante», так же как и «ipseitas» (R. Gосlenius, – Lexicon philosophicum, 1613, р. 626). – По Хр. Вольфу «Diesheit» есть «Grund der einzelnen Dinge» (Chr. Wolf, – Vernünftige Gedanken von Gott. 1738, Thl. I, § 180).
О различном истолковании идей у Платона в различных его диалогах, а именно, о различной степени их трансцендентности, см., напр.:
А. Н. Гиляров – Платон, как исторический свидетель. I. Киев, 1891, стр. 119–121.
Clodius Pial – Platon. Paris, 1906, pp. 71–72, прим. 1.
Лосский, – Обоснование интуитивизма, стр. 247.
Свящ. Григорий Дьяченко, – Полный церковно-славянский словарь. М., 1900, стр. 184.
То, что Бергсон называет «кинематографическим характером мышления», есть, именно, тенденция науки умертвить всякую жизнь и, затем, разложить оставшееся мертвое тело на ряд не связанных между собою моментов (Н. Bergson, – Revolution creatrice. Paris, 1907. – Есть несколько русских переводов).
Местонахождение не установлено.
О. Родэн, – Искусство. Ряд бесед, записанных П. Гзелль. Перевод I. И. СПБ., 1913, стр. 49.
Id., стр. 50.
Id., стр. 50–51.
Id., стр. 53.
Id., стр. 53–55.
Id., стр. 55–56.
Id, стр. 57.
Id, стр. 58–59.
Id., стр. 61–87.
Id., стр. 61–62.
От реального к реальнейшему (лат.) – лозунг схоластов-реалистов. В первом издании опечатка: вместо «a realibus» стоит «а realia». Вяч. Иванов в докладе «Мысли о символизме» (1912) утверждал: «Истинному символизму свойственнее изображать земное, нежели небесное: ему важна не сила звука, а мощь отзвука. А realibus ad realiora. Per realia ad realiora». Иванов Вяч. Борозды и межи. М., 1916. С. 158.
Сущности более действительные (лат.). Вяч. [И.] Иванов – По звездам. СПБ., 1909, стр. 277.
Б. Христиансен, – Философия искусства. Пер. Г. И. Федорова под ред. Е. В. Аничкова. Изд. «Шиповник». СПБ., 1911 («Библиот. современной философии», вып. 7-й). Часть VIII, стр. 281–289.
Очерк истории французского импрессионизма и снимки с картин см. в: Ю. Мейер-Грефе – Импрессионисты: Гис – Мане – Ван Гог – Писсаро – Сезанн. Пер. со 2-го нем. изд. Г. Я. Звонкиной под ред. М. С. Сергеева. М., 1913 («Проблемы эстетики»). Π. Ф.
Это было бы красками представленное отвлеченное понятие о чувстве или настроении, а не идея его, – ученый чертеж, а не художественное произведение. П. Ф.
См.: Христиансен, id., стр. 166–167. П. Ф.
Лосский, – Обоснование интуитивизма, стр. 286.
Husserly – Logische Untersuchungen, 2-ter Theil, SS. 146–148, 170 и др.
Местонахождение не установлено.
Поясним эту мысль наблюдением одного теоретика искусства «Спаржа» Эд. Мане в коллекции Либерманна – «не просто спаржа, – говорит он. – Характерное в предмете, которое передается не только краскою, чувством, осязанием, но и сознанием всевозможных других ощущений, здесь не только передано, но еще и усилено. Сирень у Мане, если можно так выразиться, более сирень, чем в природе [точнее было бы сказать: чем чувственное восприятие природы. – П. Ф.]. Живопись передает мелкую зернистость, восхищающую нас в настоящем цветке, и передает ее, так сказать, отфильтрованной, очищенной от всего случайного. Можно бы полагать, что таким его первоначально хотел сделать Создатель. Непостижимой остается прозрачность лиловых цветов на темно-синем, почти черном фоне; непостижимо то, что при этом ярком контрасте нет ни следа резкости, что искомую и необходимую определенность подробностей ему удается передать с такой ясностью. У Либерманна стояла однажды ваза с сиренью и розами в той же комнате, где висели эти цветы Мане. Природа показалась слабою рядом с искусством. Совершенно нельзя было смешать те впечатления, которые получались от естественного и нарисованного цветка. У цветов Мане отсутствовали такие свойства, без которых сирень в природе не показалась бы сиренью, а роза – розою. И все-таки, наслаждение, которое я когда-либо испытывал при виде живых цветов, стало непостижимым образом более сильным. Это основывалось на присущем им очаровании, которое мы уже бессознательно хотели получить и раньше, при виде настоящего букета на столе; то очарование, которое преодолевает слабость и мимолетность земных цветов, и не позволяет, чтобы наслаждение превратилось в сожаление» (Ю. Мейер-Грефе, – Импрессионисты, стр. 136–137).
Свящ. П. Флоренский. – Столп и утверждение Истины. М., 1914, стр. 200–203, 712–717. – Тут же и литературные указания.
Напр<имер>, В. Джемсом, в его курсах психологии, большом и малом. – Ср. также: Свящ. П. Флоренский – Пределы гносеологии. Сергиев Посад. 1913 (– «Богосл. Вестн.», 1913, № 1, январь). – «Ст. и ут. Ист.», стр. 648–649.
С. Н. Hinton, – The New Era of Thought; его же. – The Tourth Dimension. Об этих работах см.: П. Д. Успенский, – Четвертое измерение. СПБ., 1910, гл. II, стр. 7–10 и др.; его же, – Tertium Organum. СПБ., 1911, гл. III, стр. 21–24, гл. VII, стр. 56–61 и др.
П. Д. Успенский, – Четвертое измерение, стр. 8.
Id., стр. 8, прим.
Id., стр. 9, прим.
Очень глубокие соображения о значении мистической нечувствительности грешника высказывает, хотя и по иному поводу, Епископ Игнатий Брянчанинов. «Человеки, – говорит он, – делаются способными видеть духов при некотором изменении чувств, которое совершается неприметным и необъяснимым для человека образом. Он только замечает в себе, что внезапно начал видеть то, чего доселе не видел, и чего не видят другие, – слышать то, чего доселе не слышал. Для испытавших на себе такое изменение чувств, оно очень просто и естественно, хотя необъяснимо для себя и для других; для не испытавших – оно странно и непонятно. Так, всем известно, что люди способны погружаться в сон; но что за явление – сон, каким образом, незаметно для себя, мы переходим из состояния бодрости в состояние усыпления и самозабвения – это остается для нас тайной. Изменение чувств, при котором человек входит в чувственное общение с существами невидимого мира, называется в Св. Писании отверзением чувств». Далее идут ссылки на случаи отверзения чувств, бывшие с Валаамом (Чис. 20:31), Елисеем (4Цар. 6:17–20) и апостолами, шедшими в Эммаус (Лк. 24:16–31). «Из приведенных мест Св. Писания, – продолжает Святитель, – явствует, что телесные чувства служат, как бы, дверями и вратами во внутреннюю клеть, где пребывает душа, что эти врата отворяются и затворяются по мановению Бога. Премудро и милосердно пребывают эти врата постоянно заключенными в падших человеках, чтобы заклятые враги наши, падшие духи, не вторгались к нам и не губили нас. Эта мера тем необходимее, что мы, по падении, находимся в области падших духов, окружены ими, порабощены ими. Не имея возможности ворваться к нам, они извне подают нам знать о себе, принося различные греховные помыслы и мечтания, ими привлекая легковерную душу в общение с собою. Не позволительно человеку устранять смотрение Божие, и собственными средствами, по пущению Божию, а не по воле Божией, отверзать свои чувства и входить в явное общение с духами. Но и это случается. Очевидно, что собственными средствами можно достигнуть общения только с падшими духами. Святым Ангелам несвойственно принять участие в деле, несогласном с волей Божией, в деле, неблагоугодном Богу. Чем влекутся человеки к вступлению в открытое общение с духами? Легкомысленные и не знающие деятельного христианства, увлекаются любопытством, незнанием, неверием, не понимая, что, вступив в такое общение, они могут нанести себе величайший вред; люди, предавшиеся греховности и отступившие от Бога, вступают в это общение по самым порочным побуждениям и для самых порочных целей» (Сочинения Еп. Игнатия (Брянчанинова), Т. 3, стр. 13–15).
«Нет никакой пользы видеть Господа телесными очами, – говорит он же в другом месте, – когда слепотствует ум, когда вера – эта сила духовного зрения – не действует. Напротив того, когда действует вера, тогда отверзаются Небеса, и зрится Сын одесную Отца, везде сый по Божеству и вся исполняяй неописанный (тропарь на часах Святой Пасхи)... Бесчувственны и слепы телесные очи, когда слепотствует ум. Господь наш Иисус Христос, во время пребывания Своего на земле, совершил изумительнейшие чудеса в удостоверение Божества Своего: эти знамения так были очевидны, обязательны, что Божество вочеловечившегося Бога долженствовало соделаться явным и ясным для самых ограниченных, для самых чувственных людей. Но люди смотрели во все глаза, и не увидели ничего. Как бы, с удивлением и недоумением, как бы, жалуясь на современников и болезнуя о них, говорит Евангелист: Толика знамения сотворшу Ему пред ними, не вероваху в Него (Ин. 12:37). Далее Евангелист обнаруживает и причину этого ослепления: омрачение ума, ожесточение сердца, рождающиеся от греховной жизни, и делающие зоркость и здравие чувственных очей для познания Истины бесполезными (Ин. 12:40; 3:19–20)» (ib., Т. 4, стр. 277–278, cp. Т. 1, стр. 108–109, 118).
О творчестве Пикассо см.: Я. Тугендхольд – Французское собрание С. И. Щукина. V. («Аполлон», 1914, № 1–2, стр. 28–38).
Г. Чулков – Демоны и современность (мысли о французской живописи) (id., стр. 71–75).
Н. А. Бердяев – Пикассо («София», 1914, март, № 3, стр. 57–62).
С. Н. Булгаков – Русская трагедия («Русская Мысль», 1914, кн. IV, отд. II, стр. 13, прим. 1).
Генрих Тастевен – Футуризм (На пути к новому символизму). М., 1914, стр. 63–73, особ. стр. 66–67.
Художественный путь Пикассо весьма полно представлен 41-й картиной в Щукинской галерее «Каталог картин собрания С. И. Щукина». Москва, 1913, стр. 34–40, №№ 148–182, 226–230). Воспроизведение некоторых его картин можно найти в «Аполлоне», 1914, № 1–2, стр. 67, 69, 71, 73, 75, автотиния между №№ 64 и 65, и в указываемой ниже книге А. Грищенко [78].
Имею в виду: № 178: Скрипка, картина овальной формы (воспроизведение – в «Аполлоне», id., стр. 75 и у Грищенко, id., стр. 87); № 226: Гитара; № 227: Музыкальные инструменты (карт. овальной формы); № 228: Флейта.
А. Грищенко – О связях русской живописи с Византией и Западом. XIII–XX вв. Мысли живописца. М., 1913, стр. 80–81.
Платон, – Государство VII, 514–520 и далее (Platonis Opera ex rec. Schneiden, Parisiis, 1846, Vol. 2, pp. 123–128).
Порфирий, – De anthro nympharum и др. (Porphyrii. Opuscula selecta. Rec. Nauck. Lipsiae, 1886).
F. Creuzer, – Die Mythologie und Symbolik der alten Völker, 1 Aufl. – 1810–1812; 2-te Aufl. – 1820–1824).
Schelling, – Ueber die Gottheiten der Samothrake, 1815 («Sämmtl. Wеrke», I Abth. Bd. 8, SS. 346–422, 349–422).
Его же. – Philosophie der Mythologie («Sämmtl. Werke», II Abth, Bd. 1–4).
Felix Lajard, – Recherches sur le Culte public et les Mystères de Mithra en Orient et en Occident. Paris, 1866.
C. du Prelt – Die Mystik der alten Griechen. Lpz., 1888 и др. соч. того же автора.
К.Н.Е. De Jong, – Das antike Mysterienwesen. Leiden, 1909.
Dr. med. Otto Stoll, – Suggestion und Hypnotismus in der Völkerpsychologie. 2-te umgearbeitete und vermehrte Auflage. Lpz., 1904. Особ. см. XIII Kapitel: Suggestive Erscheinungen im alten Grichenland, SS. 298– 329.
В связи с вопросом о пещерных тайнах, стоит чрезвычайно важный вопрос о древней некромантии, тоже практиковавшейся в пещерах и бывшей, так сказать, сравнительно эзотерической частью эзотерических пещерных культов. Историческая и археологическая основа сказаний о пещерных святилищах и о вызывании там умерших, представленная в повествовании о Сауле (1Цар. 28), расцвечивается весьма распространенным литературным сюжетом о нисхождении в преисподнюю. Так, мистическое сообщение-повествование принимает эзотерическую форму и порождает целый ряд литературных «путешествий в Аид». Романическое путешествие Иштар, схождение Одиссея (Гомер, – Одиссея, песнь XI-я), Энея (Вергилий, – Энеида, песнь VI-я), Данте (Божественная Комедия), Людовика Эния, Перельоса, св. Брандэна или Брендана (легенды о чистилище св. Патрикия или Патрикка; Кальдерон, – Чистилище св. Патрикка) и т. д. – вот примеры. Об исторической основе Некий и «Одиссеи» см.:
V. Bеrard, – Les Pheniciens et l’Odyssee». T. 2. Paris, 1903, livre neuvicme. Chp. II, pp. 310–329. – О некромантии см. еще:
А Ihr. Dieterich, – Nekyia. Beiträge zur Erklärung der Petrusapocalypse. Lpz., 1892.
Erwin Rohde. – Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. 4-te Auflage. Tübingen, 1907. 2 Bde.
А. H. Миронов, – Картины загробной жизни в греческой живописи на вазах (Из «Уч. Зап. Имп. Моск. У-та.» отд. Истор.-филол.). – И т. д.
Рассмотрение легенд о чистилище св. Патрикка см. в статье: Лео Руанэ, – Заметка о чистилище св. Патрикка (Сочинения Кальдерона. Пер. с испанского К. Д. Бальмонта. М., 1900. Вып. 1-й, стр. LXXII- CXLII).
Вопли Фауста о невозможности познать глубину природы имеют и мистическое значение; во 2-й части, получив посвящение, Фауст входит в круг мистического ведения именно через погружение в глубь бытия:
Versinke denn! Ich könnt’ auch sagen: steige!
’S ist einerlei. Entfliehe dem Entstandnen,
In der Gebilde losgebundne Räume.
– Wohin der Weg?
– Kein Weg! Ins Unbetretene,
Nicht zu Betretende; ein Wfeg ans Unerbetene Nicht zu Erbittende...
В центре вселенной: Göttinnen thronen hehr in Einsamkeit,
Um sie kein Ort, noch weniger eine Zeit;
Von ihnen sprechen ist Verlegenheit,
Die Mütter sind es!
– «Итак, спустись во внутренность земли! Я мог бы точно так же сказать: подымись в вышину! Это одно и то же. Беги из мира действительности в свободные области образов...» (В. Гёте, – Фауст. Пер. в прозе П. Вейнберга. СПБ., 1907, стр. 230). – «Где дорога? – Никакой дороги! Путями, которых не попирала ничья нога и не будет попирать; путями в недоступное до сих пор и недоступное в будущем» (id., стр. 227–228).
«Есть богини, величественно царящие в уединении; вокруг них нет пространства, еще менее – времени. Когда говоришь о них, чувствуешь тревожное смущение. Это Матери» (id., стр. 227). При помощи Матерей Фауст изводит на землю идеальный облик Елены.
Но все это – старые перепевы. Народы, ранее Гёте, узнали тайну пещер:
...во тьме печальной
гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна мертвым сном.
И т. д.
Стихотворение А. С. Пушкина «Бессонница» («Мне не спится...»).
На этот текст впервые, как мне известно, обращено внимание в: Н. [И.] Гулак [-Артемовский], – Опыт геометрии о четырех измерениях. Тифлис, 1877. – Ссылки на Платона, на Гёте и др. в интересующем направлении и развитие высказанных здесь мыслей см. в:
J. С. Fr. Zöllner, – Principien einer elektrodynamischen Theorie der Materie. Lpz., 1896, см. SS. LXXVI-XC.
Его же – Wissenschaftliche Abhandlungen. Lpz., 3 тома, из них 2-й – в двух частях. Особенно, см. Bd. 1 и Bd. 3: Die transcendentale Phisik und die sogennannte Philosophie. 1879.
А. M. Бутлеров, – Сборник статей по медиумизму. СПБ., 1889.
K. Kiesewetter – Geschichte des neuren Occultismus, 2-te Aufl. besorgt von R. Blum. Lpz., 1909.
Платон,– Тимей 37D (Opera Platonis, Vol. 2, 209): είκώ δ’ έπενόει κινητόν τι να αιώνος ποιήσαι, καί διακόσμων &μα ουρανόν ποιεί μένοντος αιώνος έν ενί κατ’ αριθμόν ίοΰσαν αιώνιον εικόνα, τούτον, ον δή χρόνον ώνομάκαμεν. – «Поэтому он замыслил сотворить некое движущееся подобие вечности; устрояя небо, он, вместе с ним, творит для вечности, пребывающей в едином, вечный же образ, движущийся от числа к числу, который мы называем временем». Платон. Соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1994. С. 439–440.
Μ. [С.] Аксенов, – Трансцендентально-кинетическая теория времени. Харьков, 1896. – Литературу на эту тему см. в книге: «Ст. и утв. Ист.», стр. 716, прим. 350. – См. так же: М. Буше, – Четвертое измерение. Пер. Б. С. Бычковского. СПб., 1914, стр. 102–122 и др.
Гер. Минковский – Пространство и время. Пер. И. В. Яшунского. СПБ., 1911.
О. Д. Хвольсон – Принцип относительности. Общедоступное изложение. 2-е изд. СПБ., 1914.
Принцип относительности (статьи П. Бурсиана, И. Классена, А. Эйнштейна, Дж. Льюиса, Рич. Тольмана и Ф. Франка). («Новые идеи в физике», № 3.) СПБ., 1912.
Фришейзен-Кёлер, – Проблема времени («Новые идеи в математике», № 3: Пространство и время, II). СПБ., 1913, стр. 117–152.
Принцип относительности в математике (статьи Г. Минковского, М. Лауз, Э. Гёнтингтона, Р. Д. Карамикаэля, Ф. Клейна («Новые идеи в математике», № 5. СПБ., 1914).
«Предела и беспредельного» (греч.). Платон, – Филеб 14 E (Platonis Opera ex гес. В. В. Hirschigii. Parisiis, 1866, Vol. I, р. 40049–5О).
Id., 24 А; 25 В; 16 D, E. (id., рр. 407, 407–408, 402).
Аналогичный способ рассуждения использован Гельмгольцем:
Н. von Helmholz, – Ueber den Ursprung und die Bedeutung der geometrischen Axiome («Populär-wissenschaftliche Vorträge». Braunsweig, 1876. T. I (есть и русские переводы).
Не таковы ли картины Чурляниса? – О нем см.: Вяч. [И.] Иванов, – Чурлянис и проблема синтеза искусств («Аполлон», 1914, № 3; тут же воспроизведения). Б. А. Леман, – Чурлянис (серия «Современное Искусство»), СПБ., 1912. С. 14 рис.
Великое Существо (фр.) – совокупное понятие человечества в философии О. Конта.
Сверхчеловек (нем.) – в философии Ф. Ницше.
У Фр. Ницше, в понимании сверхчеловека, – два противоположных устремления. Из них одно, более позднее и, вероятно, уже отражающее болезнь его, – индивидуалистическое, а другое, более раннее, высказанное, по преимуществу, в «Заратустре», – универсалистическое, весьма близко подходящее к учению мистиков о Небесном Человеке. Сюда же относится и учение Э. Сведенборга о Теле Христовом, изложенное в его трактате: «О небесах, о мире духов и об аде». Пер. с лат., 1863, Лейпциг.
Иоганн Ранке, – Человек. Пер. со 2-го нем. изд. под ред. Д. А. Коропчевского. СПБ., 1900. Т. 2, стр. 69–72, 77. – Тут же рисунки сосочков ладони и стопы, и характерных форм распределения осязательных сосочков 1-го порядка, по А. Кольману.
А. С. Игнатовский – Судебная медицина. Вып. II, прил., стр. 1 ( = «Учен. Зап. Имп. Юрьевск. У-та», год 20, 1912, № 12). – Тут же изображения комбинаций папиллотических линий кожи пальца, по Fоrgeot, и типов распределения папиллотических линий на концах пальцев руки.
По терминологии Н. И. Гулак-Артемовского. Другие термины, им предложенные: плоско-плоскость, плоско-плоскостные углы, многоплоско-плоскостники, или полистереоны, призмо-призма, и пиро-пирамида, шаро-цилиндр, шаро-конус, кубо-куб, параллелостереон и т. п. Обыкновенно, пользуются обычными терминами, но с прибавкой «гипер-»: «гиперсфера» и т. п. – Терминология Н. И. Гулак-Артемовского заставляет вспомнить «любимое романтиками усиление образа (или понятия), как бы, второй степенью его» (В. Жирмунский, – Немецкий романтизм и современная мистика. СПБ., 1914, стр. 36, прим. 1). Так, у Тика в видении Геновефы: И вот, в весне еще весна зажжется, на дне цветов цветок любви проснется.
«Мета-организм» Л. Гелленбаха, «трансцендентальное Я» К. дю Преля, «сублиминальное сознание» Э. Мейерса и т. д. – все это попытки взять личность в ее генетической целостности, делая время четвертым измерением ее. – Из сознательного, или полусознательного, признания этой целостности личности вытекает и убеждение, что целостность личности должна давать себя знать, как связность эмпирического своего проявления, т. е. в закономерностях и соотношениях биографии. Сюда относится, например, закон семилетних (больших) и трех-с-половиноюлетних (малых) циклов во всякой биографии. Сюда же относится и закон золотого сечения, имеющий силу не только в пространстве, относительно тела, но и во времени, относительно течения жизни.
Изображение «древа жизни» см. в: М. Jastrow, jr, – Bildermappe – zur Religion Babyloniens und Assyriens. Giessen, 1912. Tafeln. №№ 55; 56; 57; 63b, d, e, h; 64. См. также: Goblet d'Alviella, id. [97] pp. 147–216, chp. IV. – Слепки с подлинных изображений можно видеть в Музее Александра III, см.: Музей изящных искусств имени Императора Александра III в Москве. Краткий иллюстрированный путеводитель. Ч. I. 1913. 6-е изд. стр. 43. (Зал II.)
Morris Jastrow, jr. – Bildermappe für Religion Babyloniens und Assyriens. Giessen, 1912. Text. Col. 41–42, №№ 55–59.
Е. Bonavia, – The sacred Trees of the Assyrian Monuments–в «Babylonian and Oriental Record». London, T. III, pp. 1–61. Ссылку делаю по: Le comte Goblet d’Alviella, – La migration des symboles. Paris, 1891, pp. 166–167.
Goblet d’Alviella, – id. [97], p. 187 suiv.
«Древо процвело есть Христе, истинной жизни: крест бо водрузися, и напоен быв кровию и водою от нетленного Твоего ребра живот нам прозябе» (Воскресн. кан. 6 гл., песнь 4-я). – Сближение креста и древа жизни делалось неоднократно, например, св. Иустином Философом, Юлием Фирмианом, св. Иоанном Дамаскиным, Феофаном Керамевсом, Фомой Аквинским, св. Андреем Критским, Андреем Фессалоникским и др.
Н. Ив. Троицкий, – Крест Христа – Древо Жизни. Реферат, прочитанный на ХII-м Археологическом съезде в г. Харькове. Тула, 1904 (=«Тул. Епарх. Ведом.», 1904). – Так же см.: Goblet d'Alviella, – id. [97] pp. 163–164. – Н. Leclercq, – Arbres («Dictionnaire d'Archeologie chretienne et de Liturgie», publie par dom Fernand Cabroh Paris, 1907. T. I2, col. 2691–2709).
Б. А. Тураев – История древнего Востока. Ч. 1. 2-е изд. СПБ., 1913, стр. 142. – В кируби типически представлена вся тварная жизнь. По раввинскому объяснению, «четыре существа имеют первенство в сем мире: между (всеми) тварями – человек, между птицами – орел, между скотами – вол и между зверями – лев» (Schemoth rabba, 23).
Н. Г. Троицкий, – Библейская археология. СПБ., 1913, стр. 353– 356.
К. Fr. Keil – Handbuch der Biblische Archäologie, 1-te Hälfte, 1858, Frannfurt а. M. und Erlangen, SS. 86–89.
А. П. Рождественский – Видение прор. Иезекииля на реке Ховар («Христ. Чтен.», 1895, Ч. II, стр. 15–213, 234–240, 242–266).
М. [Н.] Скабалланович, – Первая глава книги прор. Иезекииля. Опыт изъяснения, 1904.
«А на крышке его (кивота) были две фигуры, которые евреи называют Херувимами. Это крылатые животные, по своему виду не похожие ни на одно из животных, которых видели [люди] под небом» (греч.). Иосиф Флавий – Иудейская археология III, 6, 5(137). Flavii losephi Opera Omnia. Post Im. Bekkerum recognovit Sam. Adz. Naber. Lipsiae, 1888, Vol. I, p. 163–6).
«Тетраморфон изображается так: Шестокрылатый ангел, имеющий венец вокруг головы своей, обеими руками держит евангелие у своих персей. Среди двух крыльев, простертых вверх от головы его, пишется орел, у правого крыла подле плеча – лев, а у левого, также, подле плеча – вол. Эти животные смотрят вверх, а когтями и стопами своими держат евангелие» (Дионисий Фурноаграфиот, – Ерминия или наставление в живописном искусстве, 1101–1733 гг. Пер. Порфирия, Еп. Чигиринского. Киев, 1868, стр. 43). – Ср. 175-ю миниатюру из рукописи Hortus Deliciarum (Покровский, – Евангелие, стр. 364), совсем не подходящую под это иконописное правило.
Н. [В.] Покровский, – Евангелие в памятниках иконографии и искусства. Изд. 2-е. СПБ., 1892, стр. XXXII-XXXVII. Его же, – Очерки памятников православной иконографии и искусства. СПБ., 1883. Вып. I, стр. 97–100, прим. I.
Sepher ha-Zohar (le livre de la splendeur). Doctrine ésotérique des Israelites. Traduit pour la première fois sur le texte chaldaïque et accompagné de notes par Jean de Pauly. Publiée par les soins de Emile Lafuma-Giraug. Paris, 5 vol. 1906. Passim.
Житие преп. Венедикта, 14-го марта (Четьи Минеи св. Дмитрия Ростовского). – На это видение обратил мое внимание Ф. К. Андреев.
«И когда муж Божий Бенедикт, пока братья еще спали, встал ночью на молитву, подошел к окну и, вознося молитву Всевышнему Богу, стал вглядываться в глубокую ночь, внезапно увидел он свет, воссиявший в непроглядной ночной тьме. И этот воссиявший во тьме свет сиянием своим превосходил свет дня. Но еще более чудесным в этом видении, как сам он (Бенедикт) после рассказывал, было то, что весь мир предстал пред его очами, как бы, собранный во единый солнечный луч. И, когда досточтимый отец устремил свой взор на сияние этого ярчайшего света, то видит он душу Германа, епископа Капуанского, которую несли на небо ангелы в огненной сфере» (лат.). S. Gregorii Magni papae primi Dialogorum libri IV. De vita et miraculis patrum Italicorum, et de aeternitate animarum (S. Gregorii Magni Operum. T. III. Antverpiae, 1615), Liber II, cap. XXXV, col. 274–275.
Св. Ерм – Пастырь (Die Apistolischen Vater, hcrausgeselen von F. X. Funk. 2-te verbesserte Auflage. Tübingen, 1906).
Николай Кавасила, – Ερμηνεία τής θείας Λειτουργίας, 38 (Migne, – Patrolog. ser. gr. poster., T. 150, col. 451 C, D. 452). – Рус. пер.: Николай Кавасила, – Изъяснение Божественной литургии, гл. 38. (Писания свв. оо. и учч. Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. СПБ., 1857, T. III, стр. 384–385).
О различии этих терминов см.:
А. Döring, – Geschichte der griechischen Philosophie. Lpz., 1903, Bd. I, S. 24.
Theophrasti Pysic. opinionum, fr. 2 (Н. Diels, – Doxographi graeci. Berolini, 1879, p. 479). – Подробнее о том же см.: свящ. П. Флоренский, – Столп и утверждение Истины. М., 1914, стр. 92, 654–655, прим. 118.
«Род – это множество, происшедшее из единого начала» (лат.). S. Isidori Hispalensis. Episcopi Etymologiarum lib. IX, cap. II, 1 (Migne. – Patrolog. ser. lat. secunda, T. 82, col. 328 B).
«Слово «род» происходит от «рождения», т. е. от «рождать», так же, как и «народ» от «рождать» (лат.).
Id., немного ниже.
– Что есть род?
– Слово «род» происходит от «рождать», или производно от «земля», из которой все рождается.
– Каким образом?
– Ведь «ge» по-гречески означает «земля» (лат.).
В. F. Albini seu Alcuini Operum pars VIII. Disputatio puerorum, cap. II. (Migne, – Patrolog. ser. lat. secunda,. 101, col. 1103 A). – «Диспут мальчиков» относится, впрочем, к числу произведений, не достоверно принадлежащих Алкуину (в отделе «Opera dubia»).
А. Walde, – Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. 2-te umgearbeitete Auflage. Heidelberg, 1910, S. 338: gens.
E. Boisacq, – Dictionnaire de la langue grecque. Heidelberg – Paris, 1909, 2-me livrais., p. 144: γένος; pp. 147–148: γίγνομαι.
G. Curtius, – Grundzüge der Griechischen Etymologie. 4-te Aufl. Lpz., 1873, SS. 174–175, n° 128.
W. Prellwitz, – Etymologisches Wörterbuch der Griechischen Sprache. Göttingen, 1892, SS. 59–60.
И др.
Сущность более действительная (лат.).
Vita S. Stephani. Sabaitae Thaumaturgi Monachi auctore Leontio Sancti discipulo, 72. Cap. VI, (Acta Sanctorum. Parisiis et Romae 1867, Iulii T. III, dies decima tertia iulii, 522 A).
Id., Cap. XII, 147 (id., p. 563 E).
S. Ioannis Damasceni, – De fide orthodoxa, lib. IV, cap. VII (Migne, – Patrol. ser. gr., T. 94, col. 1113).
Св. Иоанн Дамаскин, – Точное изложение православной веры, кн. IV, гл. VII («Полное собрание творений», Т. I. СПБ., 1913, стр. 300).
А. Walde – Lateinisches Etym. Wörterbuch, S. 339: germen.
Теория инвариантов, одно из самых значительных приобретений математического анализа во 2-й половине XIX века, до сих пор остается не использованной в философии и ждет еще своего толкователя. Понятиям инварианта и, ему сродных, коварианта, конкомитанта, симультанта, результанта, дискриминанта и т. п. суждено дать в будущем могучий толчок общему жизнепониманию. Чувствуется, что ощупью философия уже идет навстречу этим формальным теориям математики. При этом, наибольшие плоды принесет, вероятно, то видоизменение теории инвариантов, которое носит название «символического», и которое смутно тянется к общим началам мышления. – В области натур-философии, польза теории инвариантов уже обнаружилась, – я разумею применение теории инвариантов к принципу относительности (см.: Ф. Клейн, – О геометрических основаниях лорентцовой группы. «Новые идеи в математике», № 5, 1914, стр. 144–147). Так, конец XIX и начало XX века ознаменовано синкретизмом областей, казавшихся чуждыми друг другу, а именно: теории форм и теории инвариантов, неэвклидовой и многомерной геометрии, геометрии проективной и теории групп, учения о множествах, электромагнитной теории света, принципа относительности, электронной теории и т. д., и т. д. – Для элементарного ознакомления с теорией инвариантов см.:
В. Г. Алексеев, – Основы символической теории инвариантов (для химиков). С приложением – статьи: «О совпадении методов формальной химии и символической теории инвариантов». Юрьев, 1901.
Его же, – Теория рациональных инвариантов бинарных форм в направлении Софуса Ли, Кэли и Аронгольда. Юрьев, 1899 (=«Уч. Зап. Импер. Юрьевск. У-та», 1899, № 4). – Тут же, на стр. 1–9, краткий истор. очерк теорий инвариантов, а на стр. 10–12 – литература.
Μ. Е. Ващенко-Захарченко, – Теория определителей и теория форм. Киев, 1877.
W. Fr. Meyer, – Invariantentheorie («Encyklopädie der Mathematischen Wissenschaften», Bd. 1, SS. 320–403).
A. Clebsch, – Vorlesungen über Geometrie, bearbeitet von F. Liendemann, 2 Bde. Lpz., Bd. I, 1875–1876, Bd. 11–1891.
Его же – Theorie der binären algebraischen Formen. Lpz., 1872.
G. Salmon, – Leçons d’Algèbre supérieure. Paris.
François Faà de Bruno, – Théorie générale de l’élimination. Paris, 1859, и др.
Н. Ebeling, – Lexicon Homericum. Vol. I. Lipsiae, 1885, pp. 251–252.
Δ 58, Ξ 126, ζ 35, N 354, Z 209, δ 62, Б 544, E 896, φ 335, Ξ 113, Φ 186, δ 63, ξ 204. – Большие буквы означают песни Илиады, малые – Одиссеи, а римские цифры – номера Гомеровских гимнов.
τ 116, τ 162, В 852, р 373, ξ 199, π 62, ξ 267, ср. ω 269.
θ 383, о 533, ρ 523, Ζ 180, Τ 124, π 401.
γ 245.
Γ 215.
Род мужей-полубогов (греч.).
Μ 23, Гел. ΧΧΧΙ18,Герм. II309, и т. д.
Henr. Stephanus, – Thesaurus Graecae linguae, ed. 3. Parisiis, 1833, T. 24, col. 576.
Слово classis, от calare – звать, призывать – означает, собственно, «оглашение, воззвание». А затем, в смысле военном, – «призыв», как, например, у нас говорится: «призыв такого-то года». Отсюда, значения для classis: войско, флот, а далее – вообще, группа, разряд, совокупность (cp. WaIde, S. 176: classis). Западная философия весьма характерно подменила термин род термином класс, и сейчас этот последний стал употребляться почти безысключительно, особенно, мыслителями английскими. Если бы у западных философов не было вовсе в образец слов: «γένος», «род», «genus» и т. д., то эта подмена была бы сколько-нибудь извинительна, объясняясь недомыслием. Но нельзя не видеть принижения мысли в, очевидно, сознательной подмене греческого γένος сначала латинским genus, вместо gens, – хотя и gens звучит уже достаточно внешне-юридически (римский род представляется более юридическим единством, нежели онтологическим), – а затем, после genus, – словом classis. Так, живые процессы подменяются там механическими, материнство – инкубатором, семья – договором, молитва – сделкой, государственность – социализмом. Несмотря на мощную онтологию Востока, Запад все же не мог понять ничего, кроме эпифеноменов. Таким он был, таким он и остался. Достаточно одного слова «classis», поставленного вместо «γένος», чтобы понять неизбежность отпадения Запада от Церкви! Но таких «classis» можно назвать сотни. Удивительно не то, что произошло отпадение, а то, что оно так долго, таинственной помощью, не обнаруживалось.
Не менее выразительный пример этой поверхности западного мышления дает Гегель. А именно, представитель идеализма на Западе несмущенно заявляет, что слово идея не нужно, ибо может быть заменено с успехом словом «сорт, Art»! Вот ipsissima verba magistri – собственные слова учителя (лат.): «Die nach ihm (т. e. за Анаксагором) begriffen bestimmter die Natur des Daseyns als είδος oder (δέος d. h. bestimmte Allgemeinheit. Art. Der Ausdruck Art scheint etwa zu gemein und zu wenig für die Ideen, für das Schöne und Heilige und Ewige zu seyn, die zu dieser Zeit grassiren. Aber in der That drückt die Idee nicht mehr noch weniger aus, als Art. Allein wir sehen jetz oft einen Ausdruck, der einen Begriff bestimmt bezeichnet, verschmäht, und einen anderen vorgezogen, der, wenn es auch nur darum ist, weil er einer fremden Sprache angehört, den Begriff in Nebel einhüllt und damit erbaulicher lautet» (Hegel, – Phänomenologie des Geistes. (G. W. Fr. Hegel, – Werke, Bd. 2. Berlin, 1832, S. 44).
Перевод этого места недостаточно точен и не звучит столь же выразительно-филистерски, как и немецкий подлинник: «Последующие (за Анаксагором) мыслители, понимают определеннее природу наличного бытия, как Eidos или идею, т. е. определенную всеобщность, вид Art [собственно, сорт. П. Ф.]. Слово «вид» [Art] кажется несколько вульгарным и незначительным для таких идей, как прекрасное, священное и вечное, которые в настоящее время пользуются большим распространением. Но, в действительности, смысл идеи вполне исчерпывается словом «вид». Однако, мы часто видим в настоящее время, как выражение определенно характеризующее понятие, отвергается и заменяется другим, которое, хотя бы только потому, что оно заимствовано из чужого языка, делает понятие туманным и, вместе с этим, звучит поучительнее» (Г. В. Гегель, – Феноменология духа. Пер. под ред. Е. Л. Радлова. СПБ., 1913, стр. 26).
Непонимание Гегеля кажется сперва удивительным. Ведь наше понятие об «идеальном» так глубоко вросло в нас, что нам трудно представить себе возможность его отсутствия. Ведь у нас, наследников древнего эллинства, понятие об идеальном, как о конкретной полноте совершенства и о высшей реальности, заложено в самом сердце нашего жизнепонимания. Как же обойтись нам без соответственного слова! Однако, Западу понятие об идеальном и об идеале чуждо. Но, если высшая реальность не чувствуется, если понижена чувствительность к ней, то понятно, что слово idéal во французском языке, или ideal, idealisch, ideel – в немецком, относящееся к тому, что не доходит до жизнечувствия, должно означать нечто мнимое, ирреальное, не существующее. Согласно словарю Ларусса, выдержавшему, по крайней мере, сотни полторы изданий, «idéal – qui n’existe que dans Tidée», т. e., попросту говоря, – «лишь воображаемый, но не существующий на самом деле». Вот почему нередкое выражение «l’amour idéal» означает любовь, чувственную по своей природе, но не достигающую своих вожделений и потому, остающуюся воображаемой, головной. Также, во французском переводе сочинений Фр. Бэкона «О мудрости древних» говорится о старых развратниках, что в возрасте, когда они уже не могут грешить делом, они охотно ведут грязные разговоры, будучи вынуждены довольствоваться «de ces jouissances idéelles» (!). Точно так же, и немецкое ideal и др., означает вовсе не высшее бытие, а лишь воображаемое, с подчеркиванием его недействительности. – Не будем говорить о пущенном английскими философами словоупотреблении idea в психологическом смысле, применительно к любому психическому состоянию, включительно до ощущения! – За невинной филологией тут скрывается такая бездна умственного растления, такое оземлянение души, о которых даже страшно думать.
Иногда пишется είδέα, но эта форма ошибочная, внесенная переписчиками в некоторые места Иппократа и в 436-й стих Аристофановских «Женщин на празднике Фесмофорий» (Н. Stephanus, – Thesaurus graecae linguae. Parisiis, 1841, Vol. 4, col. 605).
Hesychii Dictionarium [sine anno et loco]. Тό E μετά τού I, col. 227.
Photii Lexicon. E duobus apographis edidit Godofedus Hermannus. Accessit Io. Albertii index. Lipsiae, 1808, col. 78.
Формы (греч.).
От <глагола> «быть видимым» (греч.).
Suidae Lexicon, Graece et Latine. Post Th. Gaisfordum recensuit Godofredus Bemhardy. Vol. L. Halis, 1843, col. 939 4–10.
Зрелища, созерцания (греч.).
«Идеей Платон называет и вид, и род, и образец, и начало, и причину. Идея же как понятие – это отличительные признаки» (греч.).
(Ряд неприличных слов–греч.)... виды искусств (лат.).
Ebeling, id., Vol. II2, col. 1412 7–12, cp. Vol. 11 col. 93910.
Форма, зрелище, черты лица, вид (греч.). Άνθιμου Γάζη Λεξικόν Ελληνικόν, έκδοσις πρώτη, Τ. I, Έν Βενετία, 1809, στ. 1255.
Вид, форма, взор, образ, видимая форма тела или лица, зрелище, образ, привычка, подобие, предположение, момент (греч.). Ib., Τ. 2, 1812, στ. 8.
E. Boisacq, – Dictionnaire de la langue grecque. Heidelberg – Paris, 1909, 3-me livraison, p. 220. – Астериском отмечены формы, воспостроенные предположительно, а знаком < – происхождение, причем, острие обращено к форме более юной.
А. [Н.] Гиляров, – Платон, как исторический свидетель. Киев, 1891. стр. 123, прим. 228.
«Способный обозреть все вместе – это диалектик, а не способный – нет» (греч.). Платон, – Государство, 537 С (Opera, р. 140), 531 D (id. р. 136).
«Созерцающий сводит рассеянное повсюду в одну идею» (греч.). Платон, – Фэдр, 265 D (Opera, р. 726).
Ernest Laas, – Idealismus und Positivismus. 1-te Theil. Berlin, 1879, l-te Buch, 4, S. 40 рус. пер., стр. 36.
Платон,– Фэдр, 250 D-251 А (Opera, р. 71530–52; рус. пер. Карпова, изд. 2-е, Т. 4, стр. 64–65).
Платон, – Государство, VI, 507 С сл. (Opera, р. 120; рус. пер. Карпова, изд. 2-е, Т. 3, стр. 338).
Платон, – Тимей, 64 D, Е (Opera ex rec. Schneider. Vol. 2, pp. 228–229; рус. пер. Карпова, изд. 2-е, T. 6, стр. 447).
О свете, как высшем начале ведения и красоты, см. «Столп и утверждение Истины», стр. 95–108, 656–674.
Вот перечень мест у Гомера, где употреблено слово είδος: В 58, 715; Г 39, 45, 55, 124, 224; Е 787; Ζ 252; 0 228, 316; К 316; N 365, 378, 769; Р 142, 279; X 370; Ω 376.–δ 14, 264, 454; ε 217, ζ 16, 152; η 57; θ 116, 133, 169, 170, 174, 176; λ 337, 469, 550; ξ 177; ρ 308, 454; σ 4, 217, 249, 251; τ 174; υ 71, 116; ω 17, 253, 274, 454. – I к Апол. 198; III к Афрод. 41, 82, 84, 201, 241; IV к Дем. 6, 66, 84, 94, 158, 126, 275, 315; VI к Дион. 18; XI к Гере 2; XXXII к Селене 16. (Тут большие буквы означают песни Илиады, малые – Одиссеи, римские цифры – номера гимнов, а арабские – стихи.) Перечень этот составлен на основании словаря Эбелинга:
Н. Ebeling, – Lexicon Homericum, Vol. I. Lipsiae, 1885, p. 351.
Id., р. 351.
Theognidis Megarensis Sententiae elegiacae, v. 182 (Hesiodi et aliorum Opera, Vol. I, 1639, Theognidis, p. 13).
Lexicon Aeschileum. Edidit Guilehnus Dindorfius. Fasc. prior. Lipsia, 873, pp. 102–103.
«Он не достоин насмешки ни видом, ни духом, ни состоянием доспехов» (греч.). Aeschylus, – Septem adversus Thebas, v. 507 (Aeschyli et Sophoclis Tragodiae et Fragmenta. Parisiis, 1864, ed. F. Didot, p. 36).
Aeschylus, – Fragm. 327, Stobaeus XVIII, 13 (id., p. 256). (В словаре Диндорфа этот фрагмент цитируется ошибочно под № 288).
Lexicon Sophocleum. Composuit Fridericus Ellendl, Editio altera emendata. Curavit Hermannus Genthe. Berolini, 1872, p. 200 (I, p. 497– 500).
Sophocles, – Electra, v. 1177 (Asch. et Soph., Frag., ed. Didot., 1, 58).
Lexic. Sophocl., p. 200.
«Взирая на ее позорный вид, обезображенный наказанием» (греч.). Sophocles, – Fragm. 1069 (Lex. Sophocl., p. 200).
Dindorfius, Elendt.
Pind. Olymp. 11 (10), 161–162 epod. 5 (Pindar’s Werke. Griechish mit metrischer Uebersetzung... von J. A. Hartung. Lpz., 1855, Bd. I, p. 141).
Herodoti VI119 (Herodoti Historiarum contulit Th. Gaistsford, T. 2. Lipsiae, 1825, p. 60743–44).
II71 (Herodoti Historiarum, curavit Dietsch, 1873. Lipsiae. Vol. I, 1873. p. 151).
От колодца, откуда добывают три разнородных вещества (греч.) – три различных рода вещей (лат.); наружный вид (гиппопотамов) вот какой (греч.); листья удивительного вида (греч.). I203 (id., Vol. I, p. 108).
VI100 (id., T. II, p. 59642).
Euripidis Bacchae, 471 (Euripidis Tragoediae, ed. stereotypa. Lipsiae, 1823. T. 3, p. 166).
Thuc. VI76 (Thucydidis De bello Peloponnesiaco, ex rec. Imm. Bekkeri. Hipertohusae et Novi Yorici, 1831 (Bibliotheca scriptorum graecorum classica. Vol. 3, p. 271).
Thuc. III83 (id., p. 132).
Thuc. III81 (id., p. 131).
Thuc. III112 (id., p. 143).
«Тем же самым способом, всякая разновидность порока и нечестия, все виды гибели, все виды смерти, всякое средство спасения, различные картины войны» (греч.). Thuc. I109 (id., p. 40).
Thuc. ΙΙ19 (id., ρ. 64).
Thuc. ΙΙ77 (id., ρ. 87).
Thuc. ΙΙΙ62 (id., ρ. 124).
Aristoph. Aves. 993. (Aristophanis Comoediae ex rec. Guil. Dindorf. Parisiis, 1846, p. 226).
Id. 1000–1001 (Id., p. 226).
Aristoph. Nub. 287–288 (Id., p. 82).
«Что за род желания? Воздух целостен видом, особенно жаркий. Стряхивая с себя дождевое облако <и> бессмертные идеи. Иной род гимнов» (греч.). Aristoph. Ranae 382 (Id., p. 335).
Цитаты взяты из: Stephani Thesaurus graecae linguae. 3-ed, 1838, T. 2, col. 574–576.
Theocr. XXIII (XXIX) 6 (Bucolicorum graecorum Theocriti, Bionis Moschi reliquiae, rec. H. L. Ahrens, ed. stereot. secunda. Lipsiae, 1897, p. 84).
Cм. Stephanus id.
«То, что мы почитаем, – это скульптуры, статуи, деревянные статуи, седалища богов, образы богов, иконы, подобия, фигуры, виды, формы. Идолов же изображение я не допускаю» (греч.). Julii Pollucis Onomasticon. Ex recensione Immanuelis Bekkeri. Berolini, 1846. I7, p. 3.
«Какой вид имеют у тебя мистерии?» (греч.).
Euripidis Bacchae, 472 (id., р. 166).
Таинственные видения (греч.).
К. Η. Е. de Jorg, – Das antike Mysterienwesen in religionsgeschichtlichen, ethnologischer und psychologischer Beleuchtung. Leiden, 1909.
Carl du Prel – Die Mystik der alten Griechen. Lpz., 1888 (особенно см. гл. III: Die Mysterien, SS. 79–120).
Edouard Schuriy – Sanctuaires d’Orient. Egypte, Grèce, Palestine, 4-me ed. Paris, 1907.
Э. Шюрэ – Великие посвященные. СПБ., 1908,
Erwin Rohde, – Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. 4-te Aufl. Tübingen, 1907, 2 Bde.
Karl Kiesewetter, – Der Occultismus des Altertums (Geschichte des Occultismus. Bd. III2), Lpz.
Plutarchus, – De defect. oraculorum.
Статуе и Богу (греч.).
Pausaniae Graeciae descriptio, ed. stereotypa. Lipsiae, 1829. Фокида (Х), 329, p. 350.
Примеры действия впечатлений матери на плод собраны в редкой книге: Юст Христиан Геннинг, – О сновидениях и лунатиках. Перевод с немецкого (учителей Костромской Духовной Семинарии Павла Ориатского и Василия Розанова). М., 1805, стр. 69–82.
Секст Эмпирик, – Προς μαθηματικούς E, 4 (Sextus Empiricus, ex recensione Imm. Bekkeri. Berolini, 1842, p. 72911–15).
«Φυσική γάρ και ή έκ των εναντίων γένεσις τά μεν γάρ έξ εναντίων γίγνεται αρρενος και θήλεος, τά δ’ έξ ενός μόνου, οιον τά τε φυτά και των ζώων ένια, εκ οσοις ρή έστι διωρισμένον τό άρρεν καί τό θήλυ χωρίς, γονή μέν οών τό από του γεννώντος καλείται αίτιον, όσα συνδυάζεσθαι πέφυκει, τό πρώτον εχον αρχήν γενέσεως, σπέρμα δέ τό έξ άμφοτέρων τάς άρχάς εχον τών συνδυασθέντων, οιον τά τε των φυτών καί ένίων ζώων? έν οίς μή κεχώρισται τό θήλυ καί τό αρρεν, οίσπερ τό γιγνόμενον έκ θήλεος καί αρρενος πρώτον μίγμα, οιον κύημά τι δν ή ζώον καί γάρ ταυτα ηδη εχει τό έξ άμφοίν» – «Естественное рождение происходит от двух противоположных начал. И одни рождаются от двух противоположных начал – от мужского и женского, а другие – от одного, как, например, растения и некоторые виды животных, у которых мужские особи не отличаются от женских. Семенем называется причина, произошедшая от родителя, которая первично заключает в себе рождающее начало у тех, кому естественно свойственно спариваться. А сперма – это то, что содержит начала уже двух спаривающихся особей, как, например, у растений и некоторых видов животных, у которых женские особи не отличаются от мужских. Оно подобно первичной смеси, получающейся при спаривании женской и мужской особи, как бы, некоему зародышу или животному, ибо оно уже состоит из двух начал» (греч.). Аристотель. О происхождении животных. Arist. 18. (Аристотель, – Περί ζψων γενέσεως, Α, 18. – Opera ed. Acad. Reg. Borussica. Berolini, 1831. Vol. prius, p. 724, II8–20). В латинском переводе Феодора Газы это место передано так (приводим ради уяснения латинской терминологии): «Genitura igitur id vocatur, quod a generatione proveniens causa est, quae prima obtineat principium generationis, videlicet in iis, quae coire natura voluit. Semen autem est, quod ex ambobus coeuntibus ilis originem trahit, quale semen plantarum omnium est et animalium nonnullorum, in quibus sexus distinctus non est» (De animarum generatione I, 181 (724). Id., Vol. tertium, Aristoteles latine interpretetibus variis, p. 354 II, b12–20).
«Semen vero, modo Sperma, modo Genitura, appellatur: et quamvis Aristoteles lib. L de ort. animal cap. 18 distinctionem aliquam statuere videatur inter genituram et sperma, quasi illa sit semen coeuntium, hoc non coeuntium, ut plantarum; et quamvis aliis genituram solum modo accipiant pro eo semine, quod absolute foecundum appellari potest, alii pro eo quod constat ex virili muliebri semine simul mixtis, sperma vero pro quocunque semine, attamen, quia ipse Philosophus passim alibi haec nomina confundit, sicut illud ipsorum quoque facit Galenus, cum multis aliis, nos quoque his nominibus pro una eademque re utemur. – Семя называется то спермой, то генитурой: и, хотя Аристотель, по-видимому, устанавливает некоторое различие между генитурой и спермой как будто бы первая – семя совокупляющихся, а вторая – несовокупляющихся, как, например, растений; и, хотя одни считают за генитуру только то семя, которое может быть названо безусловно оплодотворяющим, а другие – то, которое состоит из мужского и женского семени, вместе смешанных, однако, т. к. и сам философ иногда местами смешивает эти названия, точно так же, как то же самое делает и Гален, то, вместе со многими другими, также, и мы будем пользоваться этими названиями, как одной и той же вещью» (Isbrandi de Diemerbrock, in Academia Ultrajectina Medicinae et Anatomes Professoris Opera Omnia, Anatomica et Medica. Nune simul collecta et diligenter recognita per Timannum de Diemerbroeck. Isb. Fil... Ultrajecti, Anno 1684. – Anatomes corporis humani libri decem, liber I. de ventre, caput XXVIII De Semine, p. 159 лев.).
В связи с современным неоламаркистским движением в биологии, намечается, тесно примыкающая к нему, попытка реставрировать перипатетизм. См.:
П. [Н.] Каптерев – Телеология неоламаркистов. Сергиев Посад. 1914.(= «Богосл. Вестн.», 1914). (Тут же литература.)
Вл. Карпов – Витализм и задачи научной биологии в вопросе жизни («ВФиПс», кн. 98 и 99, 1909).
Его же – Ламарк. Исторический очерк. Вступит. статья к переводу Философии зоологии Ламарка. М., 1911.
Его же – Натурфилософия Аристотеля и ее значение в настоящее время («ВФиПс», кн. 109 и 110, 1911).
Его же – Шталь и Лейбниц (ВФиПс, кн. 114, 1912).
Его же – Основные черты органического понимания природы. М. [1913].
Ганс Дриш – Витализм. Его история и система. Авторизованный перевод А. Г. Гурвича. М., 1915.
Секст Эмпирик, id., Е 55–64 (р. 73718–20).
А. Bouché Leclercq. – L’Astrologie grecque. Paris, 1899. Chp. IX, p. 256. cp. p. 185 note2.
Гороскоп, середина неба, закат, подземелье, или противоположная середина неба, или еще середина неба (греч.).
Секст Эмпирик, – id. E 12, 13 (id., p. 73021–29).
Секст Эмпирик, – id. E 61, p. 73826–27.
A. Ω. – Gemma Magica, или магический драгоценный камень: то есть Краткое изъяснение Книги Натуры, по семи величайшим листам ее, в которой можно читать Божественную и Натуральную премудрость, вписанную перстом Божиим. И.А.Ф. В печать отдано и споспешествовано любителем покойного Автора с пожалованием и дозволением Аполлона и Муз. Москва, 1784, стр. 111. – По Сопикову (№ 5011), книга эта «очень редка». Сопиков делает указание, что она – «перевод с немецкого». Однако, заглавие приводится у Сопикова не совсем точно. Указание на нее имеется, также, в реестре книг, взятых в деревне у Новикова в 1792 г. (Μ. Н. Лонгинов, – Новиков и московские мартинисты. М., 1867, стр. 63).
Id., стр. 80.
Id., стр. 46–47.
Id., стр. 49–50.
Plutarchus – Adversus Coloten. 27.
Изложение воззрений Плутарха см. в исследованиях:
Кн. С. Я. Трубецкой, – Учение о Логосе, гл. VI («Собрание сочинений». М., 1906, Т. 4), стр. 166–187.
Я. Елпидинский, – Религиозно-нравственное мировоззрение Плутарха Херонейского. СПБ., 1893.
Plutarchus – De Iside et Osiride, 36.
Id., 59. Филон, – De opificio mundi, 625 (Philonis Alexandrini Opera quae supersunt, ediderunt L. Cohn et P. Vfendland. Berolini, 1896, Vol. 3, p. 83–4 и De mutatione nominum, 23135 (Philonis. Opera, id., 1898, Vol. 3, p. 179): ή άργέτυπος ιδέα.
Вл. [А.] Кожевников,–Повести о перевоплощениях Готамо- Будды и их значение в истории буддизма («Богосл. Вестн.», 1912, Ноябрь, стр. 549).
Vedische Mythologie, I, 427. Цит. по Кожевникову.
Zur Bedeutung von Gandharva (84-s Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Breslau, 1906).
Живое существо, зародыш существа (нем.). Oldenberg – Religion der Veda, 248, 249.
Цит. см. у Кожевн.
О гениях и юнонах см.:
L. Freller, – Römische Mythologie. 3-te Aufl. von H. Iordan. Berlin, 1883, id. 2, 10-te Abschnitt, 2, SS. 185–203 (= l-te Aufl., SS. 566–572).
В. А. Мелихов – Культ римских императоров и его значение в борьбе язычества с христианством. Харьков, 1912. Особ. см. гл. II, § 1, стр. 14–17 и др.
Жан Ревилль, – Религия в Риме при Северах. Пер. с фр. под ред. В. Н. Линда. М., 1898. Ч. 1-я, гл. 1-я, III, стр. 42–50.
Fr. Giesebrecht, – Die Alttestamontliche Schätzung des Gottesnamens und ihre religionsgeschichtliche Grundlage. Königsberg, 1901, SS. 121–123.
G. Boissier, – La religion romaine d’Auguste aux Antonins. T. I. Paris, 1892, 4-me ed.
L’Abbe Migne, – Dictionnaire universel de Mythologie ancienne et moderne, col. 456–458 (Troisième et dernière Encyclopédie Théologique, publiée par M. L’Abbé Migne, T. 10, Paris, 1855).
Литература о гениях и материалы, довольно подробные, собраны в: Э. Тейлор, – Первобытная культура. Ч. 2. СПБ. 1873, стр. 257–263, гл. XV.
Древние изображения гениев весьма многочисленны. Но в Целийском доме свв. Иоанна и Павла, в котором жило столько святых и стены коего украшены христианскими фресками, имеются изображения и юнон. Они помещаются, именно, на своде небольшого проходного помещения, соединяющего северный tablinum и комнаты фасада, выходящего на Clivus Scauri. «La voȗte de cette piece est ornée de Junones ou Génies feminins, nus jusqu’ à la ceinture, entourés de draperies flottantes qui leur font une sorte d’auréole et tenant des couronnes (fig. 2269. = P. Germono, – La casa celimontana, fig. 12)». (F. Cabrol, – Dictionnaire d’Archéologie et de Uturgie. Fase. XXI. Paris, 1910, col. 2853, art. «Celius», fig. 2269).
Servius, – Commentarius in Virgilii Georgica I, 302. (Commentarii in Virgilium Serviani, instruxit H. Alb. Lion. Gottingae, 1826, Vol. 2, p. 215).
Павел Диакон, или Варнефрид, род. около 720 г., умер около 800 г.; был известным историком лангобардов.
Гением называют божество, которое обладает силою порождения всех вещей (лат.). Цит. по Тэйлору.
Paulys Real-Encyklopädie d. klassischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung, hrsg. von G. Wissowa. Stuttgart, 1910, Bd. 7lf col. 1176.
По определению Анкетиля дю Перрона, «феруэры суть прообразы существ... Я, – говорит А. дю Перрон, – рассматриваю их как совершеннейшее выражение мысли Творца, поскольку она направляется на тот или другой предмет». Однако, далее, А. дю Перрон смягчает это определение. «О феруэрах говорится только в отношении разумных существ; феруэры суть, так сказать, часть их души». Аббат Фушэ принимает именно это, последнее определение и приравнивает феруэра к божественной части души, по воззрению греков, к νους, в противоположность страстному началу, ψυχή. С тех пор, сближение феруэров с платоновскими идеями повторялось неоднократно; например, оно делалось Ф. Лажаром, Астом, С. К. Смирновым ([С. К. Смирнов], – Нечто об идеях Платона, «Москвитянин». Ч. IV, № 8, 1893, стр. 415– 416, 419), Дрэпером в «Ист. умств. развития Европы»; С. С. Глаголевым и др. Указывается, между прочим, что первым положил почин в этом деле Ориген в своем труде «Против Кельса».
Укажем кое-какую литературу, где можно найти сведения о феруэрах:
Le Zend-Avesta, trad. nouvelle avec commentaires historiques et philologiques par James Dannestefer (Annales du Musee Guimet, T. 22), pp. 500 suiv. Вступительная статья к Farvardin Yasht.
Johann Friedrich Kleuker, – Anhang zum Zend-Avesta. Bd. 1, 2-te Theil: Abbe Foucher. – Historische Abhandlung über die Religion der Perser, SS. 300–307, прим. О; id., 1-te Theil, S. 236.
Felix Lajard, – Recherches sur le Culte public et les Mystères de Mithra en Orient et en Occident. Paris, 1866, pp. 36–37, 46, 49, 52, 54, 77–78, 64–66.
Его же, – Recherches sur le culte, les symboles, les monuments figures de Venus, en Orient et en Occident. Paris, 1837, p. 12.
Свящ. M. Источников, – Мнимая зависимость библейского вероучения от религии Зороастра. Казань, 1899, стр. 209–211.
E. Е. Кагаров, – Религия древнего Египта 6: эсхатология («Христ. Чтен.», 1906, февраль, стр. 235). Тут – египетские параллели к феруэрам.
Небесная иерархия шин возглавляется небесным императором Шан-Ти (Migne, – Diction. univers. de Mythologie, col. 458).
Литературные указания см. в «Ст. и Утв. Ист.», стр. 616– 617, прим. 20. – Сюда должно прибавить еще: F. Ballerini, – Il Nome е 1а sua importanza nell’Egitto antico (Note e confronti) («Bessarione», Anno XIII, Luglio-Dicembre 1908 (Serie 3a, Vol. V), Fasc. 103–105, pp. 40–62, и Aprile-Giugno 1909 (Serie 3a, Vol. VI), Fasc. 107, pp. 127–158).
Migne, – Dict. univ. de Myth.
Филон, – De Opif. mundi, 6; De mutat, nom., 23.
Н. А. Елагин, – Материалы для биографии И. В. Киреевского («Полное собрание сочинений И. В. Киреевского в двух томах». М., 1912, Т. I, стр. 74).
Пробная лекция pro venia legendi, читанная в Московской Духовной Академии 17 сентября 1908 года.
В стране неверных (лат.).
Из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» (1826).
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
Имеются в виду Уильям Джемс (1842–1910) и ассоциативная психология конца XIX в.
Божества (лат.).
Божества – Имена – Знаки вещей (лат.).
Рассказов о происхождении (фр.).
Предельные понятия (нем.).
Дух движет веществом. Принадлежит Вергилию: «Энеида», VII, 727.
«Глагол шептати употребляется в значении действительного, в смысле врачевать» (Иващенко).
Ср.: польское wrac (wra, wre) – кипеть, течь с клокотом, издавать глухие звуки – и соответствующий греческий корень Fερ'ειρω – говорю.
«Все смолкли, слушают Баяна» (ст. 22). «Не слышат вещего Баяна» (ст. 38). («Руслан и Людмила», Песнь первая. – Сочинения Пушкина, Изд. Имп. Акад. Наук, T. II. СПБ., 1905, стр. 84).
Хотя мне представляется неподходящим уснащать настоящую лекцию книжными справками, но должно сделать исключение для недавно вышедшей, замечательной по добросовестности книги А. Ветухова «Заговоры, заклинания и другие виды народного врачевания, основанные на вере в силу слова. (Из истории мысли)». Вып. I – II. Варшава, 1907. 522 VII стр. – Тут читатель найдет обилие сырого материала и подробную (хотя и не окончательно исчерпываемую) библиографию. К крайнему сожалению, мне пришлось познакомиться с указываемой книгою уже по прочтении своей лекции.
Животное религиозное (лат.).
Второе я (лат.).
Положения (лат.).
Публичных женщин (лат.).
На деле (лат.).
Из стихотворения В. С. Соловьева «Мы сошлись с тобой недаром...» (вероятно, 1892).
Из стихотворения В. С. Соловьева «На Сайме зимой...» (декабрь 1894):
Ты непорочна, как снег за горами,
Ты многодумна, как зимняя ночь,
Вся ты в лучах, как полярное пламя,
Темного хаоса светлая ночь!
