- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
- Глава пятая
- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая
- Глава девятая
Может быть, книга эта – дерзость?
Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны, и значит, и историю мира. Могу ли я на свои плечи поднять величественную тяжесть такой необъятной темы?
Имею ли я право, посмею ли я разрешить или развязать хотя бы главные ее вопросы?
«Книга для родителей» написана мною в сотрудничестве с моей женою
Галиной Стахиевной Макаренко.
А. Макаренко
Глава первая
Может быть, книга эта – дерзость?
Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны, и значит, и историю мира. Могу ли я на свои плечи поднять величественную тяжесть такой необъятной темы? Имею ли я право, посмею ли я разрешить или развязать хотя бы главные ее вопросы?
К счастью, такая дерзость от меня не требуется. Наша революция имеет свои великие книги, но еще больше у нее великих дел. Книги и дела революции – это уже созданная педагогика нового человека. В каждой мысли, в каждом движении, в каждом дыхании нашей жизни звучит слава нового гражданина мира. Разве можно не услышать этого звучания, разве можно не знать, как мы должны воспитывать наших детей?
Но и в нашей жизни есть будни, и в будни родятся сложные наборы мелочей. В мелочах жизни теряется иногда человек. Наши родители, бывает, в этих мелочах ищут истину, забывая, что у них под руками великая философия революции.
Помочь родителям оглянуться, задуматься, открыть глаза – скромная задача этой книги.
Наша молодежь – это с ни с чем не сравнимое мировое явление, величия и значительности которого мы, пожалуй, и постигнуть не способны. Кто ее родил, кто научил, воспитал, поставил к делу революции? Откуда взялись эти десятки миллионов мастеров, инженеров, летчиков, комбайнеров, командиров, ученых? Неужели это мы, старики, создали эту молодежь? Но когда же? Почему мы этого не заметили? Не мы ли сами ругали наши школы и вузы, походя ругали, скучай, привычно; не мы ли считали наши наркомпросы достойными только ворчания? И семья как будто трещала по всем суставам, и любовь как будто не зефиром дышала у нас, а больше сквозняком прохватывала. И ведь некогда было: строились, боролись, снова строились, да и сейчас строимся, с лесов не слезаем.
А смотрите: в непривычно сказочных просторах краматорских цехов, на бесконечных площадях сталинградского тракторного, в сталинских, макеевских, горловских шахтах, и в первый, и во второй, и в третий день творения, на самолетах, на танках, в подводных лодках, в лабораториях, над микроскопами, над пустынями Арктики, у всех возможных штурвалов, кранов, у входов и выходов – везде десятки миллионов новых, молодых и страшно интересных людей.
Они скромны. Они нередко мало изысканные в беседе, у них иногда топорное остроумие, они не способны понять прелесть Пастернака – это верно.
Но они хозяева жизни, они спокойны и уверены, они, не оглядываясь, без истерики и позы, без бахвальства и без нытья, в темпах, совершенно непредвиденных, – они делают наше дело. А покажите им какое-нибудь такое видение, о которых и мы уже начинаем забывать, ну вот, например: «Машиностроительный завод Н. А. Пастухова и С-я», – и вы увидите, какое тонкое остроумие будет обнаружено ими в каждом их движении!
На фоне этого исторического чуда такими дикими кажутся семейные «катастрофы», в которых гибнут отцовские чувства и счастье матерей, в которых ломаются и взрываются характеры будущих людей СССР.
Никаких детских катастроф, никаких неудач, никаких процентов брака, даже выраженных сотыми единицы, у нас быть не должно! И все-таки в некоторых семьях бывает неблагополучно. Редко это катастрофа, иногда это открытый конфликт, еще чаще это конфликт тайный: родители не только не видят его, но не видят и никаких предвестников.
Я получил письмо, написанное матерью:
«Мы имеем одного лишь сына, но лучше бы его не было… Это такое страшное, непередаваемое горе, сделавшее нас раньше времени стариками. Не только тяжело, а и дико смотреть на молодого человека, падающего все глубже и глубже, в то время когда он мог бы быть в числе лучших людей. Ведь сейчас молодость – это счастье, радость!
Он каждый день убивает нас, убивает настойчиво и упорно всем своим поведением, каждым своим поступком».
Вид у отца малопривлекательный: лицо широкое, небритое, однощекое. Отец этот неряшлив: на рукаве какие-то перья, куриные, что ли, одно перо прицепилось к его пальцу, палец жестикулирует над моей чернильницей, и перо с ним.
– Я работник… понимаете, я работаю… вот… и я его учу… Вы спросите его, что он скажет? Ну, что ты скажешь: я тебя учил или нет?
На стуле у стены мальчик лет тринадцати, красивый, черноглазый, серьезный. Он, не отрываясь, смотрит на отца прямо ему в глаза. В лице мальчика я не могу прочитать никаких чувств, никаких выражений, кроме спокойно-пристального, холодного внимания.
Отец размахивает кулаком, наливая кровью перекошенное лицо.
– Единственный, а? Ограбил, оставил вот… в чем стою!
Кулак его метнулся к стене. Мальчик моргнул глазами и снова холодно-серьезно рассматривал отца.
Отец устало опускается на стул, барабанит пальцами, оглядывается; все это в полном замешательстве. Быстро и мелко дрожит у него верхний мускул щеки и ломается в старом шраме.
Он опускает большую голову и разводит руками:
– Возьмите куда-нибудь… что ж… Не вышло. Возьмите…
Он произносит это подавленным, просительным голосом, но вдруг снова возбуждается, снова подымает кулак.
– Ну, как это можно, как? Я партизан. Меня вот… сабля шкуровская… голову мою… разрубила! Для них, для тебя!
Он поворачивается к сыну и опускает руки в карманы. И говорит с тем глубочайшим пафосом муки, который бывает только в последнем слове человеческом:
– Миша! Как же это можно? Единственный сын!
Мишины глаза по-прежнему холодны, но губы вдруг тронулись с места, какая-то мгновенная мысль пробежала по ним и скрылась, – ничего нельзя разобрать.
Я вижу: это враги, враги надолго, – может быть, на всю жизнь. На каких-то пустяках сшиблись эти характеры, в каких-то темных углах души разыгрались инстинкты, расходились темпераменты. Нечаянный взрыв – обычный финал неосторожного обращения с характером – этот отец, конечно, взял палку. А сын поднял против отца свободную, гордую голову – недаром ведь отец рубился со шкуровцами! Так было вначале. Сейчас он извивается в беспамятстве, а сын?
– Я гляжу на Мишу сурово и тихо говорю:
– Поедешь в коммуну Дзержинского! Сегодня!
Мальчик выпрямился на стуле. В его глазах заиграли целые костры радости, осветили всю комнату, и в комнате стало светлее. Миша ничего не сказал, но откинулся на спинку стула и направил родившуюся улыбку прямо на шкуровский шрам, на замученные очи батька. И только теперь я прочитал в его улыбке неприкрытую, решительную ненависть.
Отец печально опустил голову.
Миша ушел с инспектором, а отец спросил у меня, как у оракула:
– Почему я потерял сына?
Я не ответил. Тогда отец еще спросил:
– Там ему хорошо будет?
Книги, книги, книги до потолка. Дорогие имена на великолепных корешках. Огромный письменный стол. На столе тоже книги, монументальный саркофаг чернильницы, сфинксы, медведи, подсвечники.
В этом кабинете жизнь кипит, книги не только стоят на полках, а и шелестят в руках, газеты не только валяются между диванными подушками, а и распластываются перед глазами: здесь события обсуждаются, живут – в интонациях, украшенных тонким знанием. А между событиями, растворенные в табачном дыме, ходят по кабинету лысины и прически, бритые подбородки, американские усики и янтарные мундштуки, и в рамках роговых оправ смотрят глаза, увлажненные росой остроумия.
В просторной столовой чай подается не богатый, не старомодный самоварный чай, не ради насыщения, а чай утонченный, почти символический, украшенный фарфором, кружевными салфетками и строгим орнаментом аскетического печенья. Чуточку томная, немножко наивная, изысканно-рыженькая хозяйка балованными маникюрными пальчиками дирижирует чаем. К чаю прилетают веселым роем имена артистов и балерин, игриво-проказливые новеллы, легкокрылые жизнерадостные эпизодики. Ну, а если к чаю подадут закуску и улыбающийся хозяин два-три тура сделает с графинчиком, тогда после чая снова переходят в кабинет, снова закурят, придавят на диване газетные листы, подомнут боками подушечки и, откидывая головы, захохочут над последним анекдотом.
Разве это плохо? Кто его знает, но среди этих людей всегда вертится и заглядывает в глаза двенадцатилетний Володя, мальчик худенький и бледный, но энергичный. Когда очередной анекдот почему-либо запаздывает выходом, папа подает Володю, подает в самой миниатюрной порции. В театральной технике это называется «антракт».
Папа привлекает Володю к своим коленям, щекочет в Володином затылке и говорит:
– Володька, ты почему не спишь?
Володя отвечает:
– А ты почему не спишь?
Гости в восторге. Володя опускает глаза на папино колено и улыбается смущенно – гостям так больше нравится.
Папа потрепывает Володю по какому-либо подходящему месту и спрашивает:
– Ты уже прочитал «Гамлета»?
Володя кивает головой.
– Понравилось?
Володя и в этот момент не теряется, но смущение сейчас не у места:
– А, не очень понравилось! Если он влюблен в… эту… в Офелию, так почему они не женятся? Они волынят, а ты читай!
Новый взрыв хохота у гостей. Из угла дивана какой-нибудь уютный бас прибавляет необходимую порцию перца:
– Он, подлец, алиментов платить не хочет!
Теперь и Володя хохочет, смеется и папа, но очередной анекдот уже вышел на сцену:
– А вы знаете, что сказал один поп, когда ему предложили платить алименты?
«Антракт окончен». Володя вообще редко подается в таком программном порядке – папа понимает, что Володя приятен только в малых дозах. Володе такая дозировка не нравится. Он вертится в толпе, переходит от гостя к гостю, назойливо прислоняется даже к незнакомым людям и напряженно ловит момент, когда можно спартизанить: и себя показать, и гостей развеселить, и родителей возвеличить.
За чаем Володя вдруг вплетает в новеллу свой звонкий голос:
– Это его любовница, правда?
Мать воздевает руки и восклицает:
– Вы слышите, что он говорит? Володя, что ты говоришь?!
Но на лице у мамы вместе с некоторой нарочитой оторопелостью написаны и нечаянные восхищение и гордость: эту мальчишескую развязность она принимает за проявление таланта. В общем списке изящных пустяков талант Володи тоже уместен: японские чашки, ножики для лимона, салфеточки и …сын замечательный.
В мелком и глупом тщеславии родители не способны присмотреться к физиономии сына и прочитать на ней первые буквы будущих своих семейных неприятностей. У Володи очень сложное выражение глаз. Он старается сделать их невинными, детскими глазами – это по специальному заказу, для родителей, но в этих же глазах поблескивают искорки наглости и привычной фальши – это для себя.
Какой из него может выйти гражданин?
Дорогие родители!
Вы иногда забываете о том, что в вашей семье растет человек, что этот человек на вашей ответственности.
Пусть вас не утешает, что это не больше, как моральная ответственность.
Может настать момент, вы опустите голову и будете разводить руками в недоумении и будете лепетать, может быть, для усыпления все той же моральной ответственности:
– Володя был такой замечательный мальчик! Просто все восторгались.
Неужели вы так никогда и не поймете, кто виноват?
Впрочем, катастрофы может и не быть.
Наступает момент, когда родители ощущают первое, тихонькое огорчение. Потом второе. А потом они заметят среди уютных ветвей семейного дерева сочные ядовитые плоды. Расстроенные родители некоторое время покорно вкушают их, печально шепчутся в спальне, но на людях сохраняют достоинство, как будто в их производстве нет никакого прорыва. Ничего трагического нет, плоды созрели, вид достаточно приятен.
Родители поступают так, как поступают все бракоделы: плоды сдаются обществу как готовая продукция…
Когда в вашей семье появляется первая «детская» неурядица, когда глазами вашего ребенка глянет на вас еще маленькая и слабенькая, но уже враждебная зверушка, почему вы не оглядываетесь назад, почему вы не приступаете к ревизии вашего собственного поведения, почему вы малодушно не спрашиваете себя: был ли я в своей семейной жизни большевиком?
Нет, вы обязательно ищете оправданий…
Человек в очках, с рыженькой бородкой, человек румяный и жизнерадостный, вдруг завертел ложечкой в стакане, отставил стакан в сторону и схватил папиросу:
– Вы, педагоги, все упрекаете: методы, методы! Никто не спорит, методы, но разрешите же, друзья, основной конфликт!
– Какой конфликт?
– Ага! Какой конфликт? Вы даже не знаете? Нет, вы его разрешите!
– Ну, хорошо, давайте разрешу, чего вы волнуетесь?
Он вкусно затянулся, пухлыми губками выстрелил колечко дыма и… улыбнулся устало:
– Ничего вы не разрешите. Конфликт из серии неразрешимых. Если вы скажете, тем пожертвовать или этим пожертвовать, какое же тут разрешение? Отписка! А если ни тем, ни этим нельзя пожертвовать?
– Все же интересно, какой такой конфликт?
Мой собеседник повернулся ко мне боком. Поглядывая на меня сквозь дым папиросы, перекидывая ее в пальцах, оттеняя папиросой мельчайшие нюансы своей печали, он сказал:
– С одной стороны, общественная нагрузка, общественный долг, с другой стороны, долг перед своим ребенком, перед семьей. Общество требует от меня целого рабочего дня: утро, день, вечер – все отдано и распределено. А ребенок? Это же математика: подарить время ребенку – значит сесть дома, отойти от жизни, собственно говоря, сделаться мещанином. Надо же поговорить с ребенком, надо же многое ему разъяснять, надо же воспитывать его, черт возьми!
Он высокомерно потушил в пепельнице недокуренную нервную папиросу.
Я спросил осторожно:
– У вас мальчик?
– Да, в шестом классе – тринадцать лет. Хороший парень и учится, но он уже босяк. Мать для него прислуга. Груб. Я ж его не вижу. И представьте, пришел к нему товарищ, сидят они в соседней комнате, и вдруг слышу: мой Костик ругается. вы понимаете, не как-нибудь там, а просто кроет матом.
– Вы испугались?
– Позвольте, как это «испугался»? В тринадцать лет он уже все знает, никаких тайн. Я думаю, и анекдоты разные знает, всякую гадость!
– Конечно, знает.
– Вот видите! А где был я? Где был я, отец?
– Вам досадно, что другие люди научили вашего сына ругательным словам и грязным анекдотам, а вы не приняли в этом участия?
– Вы шутите! – закричал мой собеседник. – А шутка не разрешает конфликта!
Он нервно заплатил за чай и убежал.
А я вовсе не шутил. Я просто спрашивал его, а он что-то лепетал в ответ. Он пьет чай в клубе и болтает со мной – это тоже общественная нагрузка. А дай ему время, что он будет делать? Он будет бороться с неприличными анекдотами? Как? Сколько ему было лет, когда он сам начал ругаться? Какая у него программа? Что у него есть, кроме «основного конфликта»? И куда он убежал? Может быть, воспитывать своего сына, а может быть, в другое место, где можно еще поговорить об «основном конфликте»?
«Основной конфликт» – отсутствие времени – наиболее распространенная отговорка родителей-неудачников. Защищенные от ответственности «основным конфликтом», они рисуют в своем воображении целительные разговоры с детьми. Картина благостная: говорит, а ребенок слушает. Говорить речи и поучения собственным детям – задача невероятно трудная. Чтобы такая речь произвела полезное воспитательное действие, требуется счастливое стечение многих обстоятельств. Надо, прежде всего, чтобы вами выбрана была интересная тема, затем необходимо, чтобы ваша речь отличалась изобретательностью, сопровождалась хорошей мимикой; кроме того, нужно, чтобы ребенок отличался терпением.
С другой стороны, представьте себе, что ваша речь понравилась ребенку. На первый взгляд может показаться, что это хорошо, но на практике иной родитель в таком случае взбеленится. Что это за педагогическая речь, которая имеет целью детскую радость? Хорошо известно, что для радости есть много других путей; «педагогические» речи, напротив, имеют целью огорчить слушателя, допечь его, довести до слез, до нравственного изнеможения.
Дорогие родители!
Не подумайте, пожалуйста, что всякая беседа с ребенком не имеет смысла. Мы предостерегаем вас только от чрезмерных надежд на разговоры.
Как раз те родители, которые плохо воспитывают своих детей, и вообще те люди, которые отличаются полным отсутствием педагогического такта, – все они слишком преувеличивают значение педагогических бесед.
Воспитательную работу они рисуют себе так: воспитатель помещается в некоторой субъективной точке. На расстоянии трех метров находится точка объективная, в которой укрепляется ребенок. Воспитатель действует голосовыми связками, ребенок воспринимает слуховым аппаратом соответствующие волны. Волны через барабанную перепонку проникают в душу ребенка и в ней укладываются в виде особой педагогической соли.
Иногда эта позиция прямого противостояния субъекта и объекта несколько разнообразится, но расстояние в три метра остается прежним. Ребенок как будто на привязи, кружит вокруг воспитателя и все время подвергается либо действию голосовых связок, либо другим видам непосредственного влияния. Иногда ребенок срывается с привязи и через некоторое время обнаруживается в самой ужасной клоаке жизни. В таком случае воспитатель, отец или мать, протестует дрожащим голосом:
– Отбился от рук! Целый день на улице! Мальчишки! Вы знаете, какие у нас во дворе мальчишки? А кто знает, что они там делают? Там и беспризорные, бывают, наверное…
И голос, и глаза оратора просят: поймайте моего сына, освободите его от уличных мальчиков, посадите его снова на педагогическую веревку, позвольте мне продолжать воспитание.
Для такого воспитания, конечно, требуется свободное время, и, конечно, это будет время загубленное. Система бонн и гувернеров, постоянных надсмотрщиков и зудельщиков давно провалилось, не создав в истории ни одной яркой личности. Лучшие, живые дети всегда вырывались из этой системы.
Советский человек не может быть воспитан непосредственным влиянием одной личности, какими бы качествами эта личность не обладала. Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги. Со всем сложнейшим миром окружающей действительности ребенок входит в бесконечное число отношений, каждое из которых неизменно развивается, переплетается с другими отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом самого ребенка.
Весь этот «хаос» не поддается как будто никакому учету, тем не менее он создает в каждый данный момент определенные изменения в личности ребенка. Направить это развитие и руководить им – задача воспитателя.
Бессмысленна и безнадежна попытка некоторых родителей извлечь ребенка из-под влияния жизни и подменить социальное воспитание индивидуальной домашней дрессировкой. Все равно это окончится неудачей: либо ребенок вырвется из домашнего застенка, либо вы воспитаете урода.
– Выходит так, что за воспитание ребенка отвечает жизнь. А семья при чем?
– Нет, за воспитание ребенка отвечает семья, или, если хотите, родители. Но педагогика семейного коллектив не может лепить ребенка из ничего. Материалом для будущего человека не может быть ограниченный набор семейных впечатлений или педагогических поучений отцов. Материалом будет советская жизнь во всех ее многообразных проявлениях.
В старое время в зажиточных семьях называли детей «ангельскими душами». В наше время было сказано, что дети – «цветы жизни». Это хорошо. Но скоропалительные в суждениях, сентиментальные люди не дали себе труда задуматься над этими прекрасными словами. Если сказано «цветы», значит, нужно цветами любоваться, ахать, носиться, нюхать, вздыхать. Нужно, пожалуй, самим цветам внушить, что они составляют неприкосновенный, «роскошный» букет.
В этом узкоэстетическом и бессмысленном восторге уже заложено его посрамление. «Цветы жизни» надлежит представлять себе не в виде «роскошного» букета в китайской вазе на вашем столе. Сколько бы вы ни восторгались такими цветами, сколько бы ни ахали, эти цветы уже умирают, они уже обречены и они бесплодны. Завтра вы прикажете их просто выбросить. В лучшем случае, если вы неисправимо сентиментальны, вы засушите их в толстой книге, и после этого ваша радость станет еще более сомнительной: сколько угодно предавайтесь воспоминаниям, сколько угодно смотрите на них, перед вами будет только сено, простое сено!
Нет, наши дети вовсе не такие цветы. Наши дети цветут на живом стволе нашей жизни, это не букет, это прекрасный яблоневый сад. И этот – наш, здесь право собственности звучит, честное слово, очаровательно! Трудно, конечно, не любоваться таким садом, трудно ему не радоваться, но еще труднее не работать в таком саду. Будьте добры, займитесь этим делом: вскапывайте, поливайте, снимайте гусеницу, обрезайте сухие веточки. Вспомните слова гениального садовника, товарища Сталина:
«Людей нужно заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево».
Обратите внимание: плодовое. Не только аромат, не только «гаммы красок» – плоды, вот что должно вас интересовать в особенной степени. И поэтому не набрасывайтесь на цветы с одними вздохами и поцелуями, возьмите в руки лопату, ножницы, лейку, достаньте лестницу. А когда в вашем саду появится гусеница, возьмите парижскую зелень. Не бойтесь, побрызгайте немножко, пусть даже цветам будет чуточку приятно. между прочим, у хорошего садовника гусеница никогда не появится.
Да, давайте будем садовниками. Это блестящее сравнение позволит нам кое-что выяснить в трудном вопросе, кто воспитывает ребенка – родители или жизнь?
Кто выращивает садовое дерево?
Из земли и воздуха оно берет атомы своего тела, солнце дает ему драгоценную силу горения, ветры и бури воспитывают в нем стойкость в борьбе, соседние братья-деревья спасают его от гибельного одиночества. И в дереве и вокруг него всегда протекают сложнейшие химические процессы.
Что может измерить садовник в этой кропотливой работе жизни? Не должен ли он бессильно и покорно ожидать, пока созреют плоды, чтобы кощунственной и наглой рукой похитителя сорвать их и сожрать?
Так именно и делают дикари где-нибудь в трущобах Огненной Земли. И так делают многие родители.
Но так не делает настоящий садовник.
Человек давно научился осторожно и нежно прикасаться к природе. Он не творит природу и не уничтожает ее, он только вносит в нее свой математически-могучий корректив; его прикосновение, в сущности, не что иное, как еле заметная перестановка сил. Там подпорка, там разрыхленная земля, там терпеливый зоркий отбор.
Наше воспитание – такой же корректив. И поэтому только и возможно воспитание. Разумно и точно провести ребенка по богатым дорогам жизни, среди ее цветов и сквозь вихри ее бурь, может каждый человек, если он действительно захочет это сделать.
Ничто меня так не возмущает, как панический и отвратительный вопль:
– Уличные мальчики!!
– Вы понимаете, все было хорошо, а потом Сережа подружился с разными мальчиками на нашем дворе…
– Эти «разные мальчики» разлагают Сережу. Сережа шляется неизвестно где. Сережа взял из шкафа отрез на брюки и продал. Сережа пришел под утро, и от него пахло водкой. Сережа оскорбил мать.
Только самый безнадежный простак может поверить, что все это сделали «разные мальчики», «уличные мальчики». Сережа – вовсе не новая марка. Это обычный, достаточно надоевший стандарт, и выделывается он отнюдь не уличными мальчиками и не «мальчиками на нашем дворе», а ленивыми и бессовестными родителями, выделывается вовсе не молниеносно, а настойчиво и терпеливо, начиная с того времени, когда Сереже было полтора года. Выделывается при помощи очень многих безобразнейших приспособлений: бездумной лени, привольного фантазирования и самодурства, а самое главное – при помощи непростительной безответственности и ничтожного состояния чувства долга.
Сережа и есть в первую очередь «уличный мальчик», но таковым он сделался только в семейном производстве. На вашем дворе, может быть, он действительно встретит таких же, как он, неудачников, они вместе составят обычную стайку ребят, одинаково деморализованных и одинаково «уличных». Но на том же дворе вы найдете десятки детей, для которых семейный коллектив и семейный корректив создали какие-то установки, какие-то традиции, помогающие им осилить уличных мальчиков, не чуждаясь их и не отгораживаясь от жизни семейными стенами.
В успехе семейного воспитания решающим является активное, постоянное, вполне сознательное выполнение родителями их гражданского долга перед советским обществом. Там, где этот долг реально переживается родителями, где он составляет основу ежедневного их самочувствия, там он необходимо направляет и воспитательную работу семьи, и там невозможны никакие провалы и никакие катастрофы.
Но есть, к сожалению, категория родителей, довольно многочисленная, у которых этот закон не действует. Эти люди как будто хорошие граждане, но они страдают либо непоследовательностью мысли, либо слабостью ориентировки, либо малым объемом внимания. И только поэтому чувство долга не включается у них в сферу семейных отношений и, стало быть, в сферу воспитания детей. И только поэтому их постигают более или менее тяжкие неудачи, и только поэтому они сдают обществу сомнительную человеческую продукцию.
Другие поступают честнее. Они говорят искренним голосом:
– Надо уметь воспитывать. Я, может быть, действительно не так делаю. Надо знать, как воспитывать.
В самом деле: все хотят хорошо воспитывать своих детей, но секрет не всем известен. Кто-то им обладает, кто-то пользуется, а вы во тьме ходите, вам никто не открыл тайны.
В таком случае взоры всех обращаются к педагогическим техникумам и вузам.
Товарищи родители!
Между нами: среди нашей педагогической братии процент семейных бракоделов нисколько не меньше, чем у вас. И наоборот, прекрасные дети вырастают часто у таких родителей, которые никогда не видели ни парадного, ни черного входа в педагогическую науку.
А педагогическая наука очень мало занимается вопросами семейного воспитания. Поэтому даже самые ученые педагоги хотя и хорошо знают, что от чего происходит, но в воспитании собственных детей стараются больше полагаться на здравый смысл и житейскую мудрость. Пожалуй, они чаще других грешат наивной верой в педагогический «секрет».
Я знал одного такого профессора педагогики. Он к своему единственному сыну всегда подходил с книгами в руках и с глубокими психологическими анализами. Как и многие педагоги, он верил, что в природе должен существовать этакий педагогический трюк, после которого все должны пребывать в полном благостном удовлетворении: и воспитатель, и ребенок, и принципы, – тишь и гладь, и божья благодать! Сын за обедом нагрубил матери. Профессор недолго думал и решил воодушевленно:
– Ты, Федя, оскорбил мать, следовательно, ты не дорожишь семейным нашим очагом, ты недостоин находиться за нашим столом. Пожалуйста, с завтрашнего дня я даю тебе ежедневно пять рублей – обедай где хочешь.
Профессор был доволен. По его мнению, он реагировал на грубость сына блестяще. Федя тоже остался доволен. Но трюковый план не был доведен до конца: тишь и гладь получились, но божья благодать выпала.
Профессор ожидал, что через три-четыре дня Федя бросится к нему на шею и скажет:
– Отец! Я был неправ, не лишай меня семейного очага!
Но случилось не так, вернее, не совсем так. Феде очень понравилось посещение ресторанов и кафе. Его смущала только незначительность ассигнованной суммы. Он внес в дело некоторые поправки: порылся в семейном очаге и проявил инициативу. Утром в шкафу не оказалось профессорских брюк, а вечером сын пришел домой пьяный. Растроганным голосом он изъяснялся в любви к папе и маме, но о возвращении к семейному столу вопроса не подымал. Профессор снял с себя ремешок и размахивал им перед лицом сына в течение нескольких минут.
Через месяц профессор поднял белый флаг и просил принять сына в трудовую колонию. По его словам, Федю испортили разные товарищи:
– Вы знаете, какие бывают дети?
Некоторые родители, узнав об этой истории, обязательно спросят:
– Хорошо! Ну, а все-таки, как же нужно поступать, если сын за обедом нагрубил матери?
Товарищи! Этак, пожалуй, вы меня спросите: как нужно поступить, если утерян кошелек с деньгами? Подумайте хорошенько, и вы сразу найдете ответ: купите себе новый кошелек, заработайте новые деньги и положите их в кошелек.
Если сын оскорбляет мать, никакой фокус не поможет. Это значит, что вы очень плохо воспитывали вашего сына, давно воспитывали плохо, долго. Всю воспитательную работу нужно начинать сначала, нужно многое в вашей семье пересмотреть, о многом подумать и прежде всего самого себя положить под микроскоп. А как поступить немедленно после грубости, нельзя решить вообще – это случай сугубо индивидуальный. Надо знать, что вы за человек и как вы вели себя в семье. Может быть, вы сами были грубы с вашей женой в присутствии сына. Впрочем, если вы оскорбляли вашу жену, когда сына не было дома, – тоже достойно внимания.
Нет, фокусы в семейном воспитании должны быть решительно отброшены. Рост и воспитание детей – это большое, серьезное и страшно ответственное дело, и это дело, конечно, трудное. Отделаться здесь легким трюком нельзя. Если вы родили ребенка – это значит: на много лет вперед вы отдали ему все напряжение вашей мысли, все ваше внимание и всю вашу волю. Вы должны быть не только отцом и шефом ваших детей, вы должны быть еще и организатором вашей собственной жизни, ибо вне вашей деятельности как гражданина, вне вашего самочувствия как личности не может существовать и воспитатель.
Глава вторая
Когда-то в молодости пригласили меня на каникулах готовить к переэкзаменовке не совсем удачного сынка в одной княжеской семье, проводившей лето в своем имении недалеко от нашего губернского города. Я соблазнился хорошим заработком и возможностью познакомиться с княжеским бытом. На пустынной жаркой станции меня ожидал просторный, длинный и блестящий экипаж – коляска. Пара вороных рысаков и спина кучера тоже поразили мое воображение; я почувствовал даже некоторое благоговение перед царством знати, о котором раньше читал только в книгах.
Потертый мой чемоданчик неприлично прыгал на дне коляски, а на душе распространилось уныние: какого дьявола понесло меня в княжеский мир? У них свои законы, коляски, молчаливые кучера, от которых тоже несет аристократическими предками, такими же предками несет и от лошадей…
Я прожил в имении два месяца, и уныние, зародившееся в дороге, не покидало меня до последнего дня. Только на обратном пути, в той же коляске, тот же потертый чемоданчик прыгал уже весело, и не смущало меня ничто: ни коляска, ни кучер, ни весь необъятно богатый, недосягаемо высокий, блестящий княжеский мир.
Мир этот мне не нравился. Сам князь, свиты его величества генерал-майор, «работал» где-то при дворе и в имение не приехал ни разу. Здесь проводили лето высокая, худая, носатая княгиня, двое дочерей-подростков, таких же носатых, и такой же носатый двенадцатилетний кадет, мой, так сказать, воспитанник. Кроме этих лиц, ежедневно в столовой бывало человек до двадцати: я так хорошо и не узнал, кто они такие. Часть этого народа проживала в имении, другие приезжали на два-три дня в гости. Это были соседи, между ними попадались особы титулованные; до этого я и представить себе не мог, что в нашей губернии так много гнездится разной дряни.
Вся эта компания сплошь до одного человека поразила меня своим духовным ничтожеством. До сих пор в своей жизни я никогда не встречал такого собрания бесполезных людей. Может быть, поэтому я был не в состоянии заметить у них какие-либо достоинства.
Глядя на них, я не мог не вспоминать моего отца. Он ежедневно, в течение десятков лет, подымался в пять часов утра, по гудку. Через пятнадцать минут он уже шагает вдоль серых заборов песчаной нашей улицы, и в руках у него всегда красный узелок с завтраком. В шесть часов вечера он приходит с завода пыльный и серьезный и прежде всего выкладывает на табуретку в кухне аккуратно сложенный красный платочек, в котором так давно он носит свой завтрак. Разве могли когда-либо задуматься все эти князья и графы, свиты его величества генерал-майоры, их гости и приживалы над тем, сколько стоит простой ситцеватый красный платок, как нужно его беречь, как бережно нужно его стряхивать после завтрака и складывать вчетверо, а потом еще пополам!?
Сейчас я вспоминаю княжескую семью как чудовищную карикатуру: скорее, это было преступное сообщество, компания бездельников, объединившихся вокруг главаря. Я с отвращением наблюдал все детали княжеской жизни: и глупую, пустую, никому не нужную чопорность, и обеденное и ужиное обилие, и хрусталь, и бесконечные ряды вилок и ножей у приборов, и оскорбительные для человека фигуры лакеев.
Я и теперь не понимаю, сколько времени можно жить такой бездеятельной, пресыщенной жизнью и не обратиться в тупое животное? Ну, год, два, ну, пять лет, но не века же?
Но они жили века. Они целыми днями болтали о чьих-то успехах, о каких-то интригах, о женитьбах и смертях, о наградах и ошибочных надеждах, о вкусах и странностях таких же бездельников, как они, о покупках и продажах имений.
Мой воспитанник был умственно отсталый мальчик. Кажется, такими же умственно отсталыми были и его сестры, и мамаша-княгиня. Но не только большое умственное развитие, но и простая арифметика не были для них существенно необходимы. Богатство, титул, принадлежащая им клеточка в придворном мире, давно разработанные, давно омертвевшие бытовые, моральные, эстетические каноны, несложная семейная дрессировка – все это вполне определяло путь будущего князя.
И несмотря на это, истинную сущность их жизни составляло стяжание, неумолчная, постоянная забота о накоплении, самая примитивная, самая некрасивая, отталкивающая жадность, с небольшим успехом прикрываемая этикетом и чопорностью. Им было мало того, что они имели! Где-то строилась железная дорога, где-то составлялась компания фарфоровых заводов, кто-то удачно обернулся с акциями – все их занимало, тревожило, дразнило, всюду их привлекали и пугали возможности и опасности, они страдали от нерешительности и не могли отказаться от этих страданий. И удивительное дело: эта семья даже отказывала себе кое в чем! Княгиня долго и печально толковала о том, что в Париж надо послать письмо с отказом от платьев, потому что деньги нужны князю «для дела», мой же воспитанник так же печально вспоминал, что в прошлом году хотели купить яхту и не купили.
Возвращаясь в свою рабочую семью, я был глубоко убежден, что побывал в мире антиподов, настолько для меня чуждых и отвратительных, что с рабочими миром невозможно никакое сравнение. Мой мир был неизмеримо богаче и ярче. Здесь были действительные создатели человеческой культуры: рабочие, учителя, врачи, инженеры, студенты. Здесь были личности, убеждения, стремления, споры, здесь была борьба. Приятели моего отца, такие же, как он, старые «мастеровые», были умнее, острее и человечнее аристократов. Кум моей семьи, маляр Худяков, пришел в воскресенье к батьку, сел против меня, ехидно скривил щербатый рот и сказал:
– А ты спросил, захочу я их компании? А к чертовой матери! Ты мне дармоеда медом обмажь, деньгами обсыпь, а я с ним рюмки водки не выпью. Я вот приду к Семену Григорьевичу, посидим, посчитаем, туда-сюда; без князей можно жить, а без нас, маляров? Черта пухлого! Какая будет жизнь без маляров? Некрашеная жизнь!
Потом, когда я чуточку поумнел и осмотрелся в жизни, и в особенности после Октября, я понял, что в старое время в семье князей и в семьях наших приятелей было нечто и общее.
Я хорошо, как выдавал кум Худяков свою дочку замуж. Дочка была у него хорошая, румяная, и страшно ей хотелось пройти жизнь рядом с молодым слесарем Нестеренко. А старый Худяков сказал ей:
– Кто такой Нестеренко? Слесаришко, на тройниках сидит. Какой у него будет заработок? Седым будет – полтора рубля в день! Брось!
Дочка плакала, а старый Худяков говорил:
– Что ты мне голову слезами морочишь? Единственная дочка, а меня, старика, унижаешь! Какой Нестеренко жених?
Дочка еще поплакала, а все-таки вышла за помощника машиниста Сверчкова.
Худяков говорил моему батьку во время воскресного визита:
– Дурная голова! Нестеренко, и все! У него ус вьется – тоже причина! Сверчков сейчас помощником на пассажирских, через год-два ему паровоз дадут, хотя бы и маневровый, скажем, а все ж таки машинист. Даром я работал? Пятьсот рублей приданого валяются или как?
А в нашем свете машинисты не с каждым маляром водили компанию. Когда мне было лет семь, я на машинистов глядел как на самую высокую аристократию. Кум Худяков был маляр очень высокой квалификации – каретник, но женитьба Сверчкова на его дочери все же была для жениха явным мезальянсом.
Мой отец не одобрил кума и по этому случаю вообще осудил его политику по отношению к высшим классам.
– Слушай, Василь, – говорил он ему, – не нравится мне, знаешь, что ты все с панами водишься…
– Да где я там водюсь? – смущенно говорил кум и отворачивал жидкую козлиную бороденку от гостеприимной селедки к кустам жасмина за открытым окном.
– Как водишься? Сам ты в прошлое воскресенье с кем рыбу ловил? С этим… с толстобрюхим… с дорожным мастером! А жена твоя где днюет и ночует? У Новака? А?
Худяков пробовал сыграть на оскорблении:
– У Новака? Моя жена? Днюет и ночует? Ты, Семен Григорьевич, это брось! Жил без панов и проживу без панов. А рыбу ловить, так это охота! Рыбу я могу ловить и с генералом!
Отец хитро кивает на оскорбленного кума:
– Хэ! С генералом! У генерала лодки нет, а у дорожного мастера лодка! И сало в кошелке!
Отец мой правильно укорял кума Худякова, потому что кум действительно с панами водился. В особенности было непростительно, если его жена и в самом деле заглядывала к Новаку. Дорожный мастер был просто зажиточный человек, а обер-кондуктор Новак был представителем настоящего панства, с которым даже машинисты не равнялись.
В нашем поселке никого не было равного Новаку, разве начальник станции. Но начальник станции брал не столько богатством, сколько холеным лицом, блестящим мундиром и таинственной роскошью казенной квартиры, о числе комнат которой мы, разумеется, не имели никакого понятия.
Новак же был богат. На большом его дворе, отгороженном от остального мира высокими заборами, проходила тоже таинственная для нас жизнь новаковской семьи. Бесформенным кирпичным животом выпирал из этого двора двухэтажный дом. В нижнем его этаже была «торговля бакалейных товаров», тоже принадлежавшая семье Новака. С этой торговлей мы чуточку были знакомы, потому что с раннего детства, по поручению родителей, покупали здесь керосин, подсолнечное масло и махорку для батька. А из остального богатства доступны были нашим взорам только тюлевые занавески на окнах. В слове «тюлевые» заключались для меня абсолютно недоступные нормы роскоши.
Обер-кондуктор Новак, худой человек, с холодной, серой, со всех сторон строго обрезанной бородкой, два раза в неделю проезжал мимо наших ворот на рессорной бричке, и рядом с его блестящими сапогами всегда стоял такой же блестящий коричневый саквояж, в который, по общему мнению, обер-кондуктор складывал деньги, полученные от «зайцев». Пока я был мал, «зайцы» эти тоже представлялись мне таинственными существами, гномами, приносящими счастье.
У Новака были хорошие, аккуратные дети, которыми наши родители кололи нам глаза. Они наряжались в ослепительные гимназические мундиры, потом на их плечах появились вензеля. По нашим улицам они проходили гордые, недоступные, окруженные отпрысками таких же богатых фамилий: поповичами, сыновьями главного бухгалтера, пристава, смотрителя зданий и дорожного мастера.
Несмотря на полную недоступность и таинственность этого панства, именно через него спускались в наши рабочие семьи идеалы и нормы быта, а следовательно, и воспитания, спускались из тех высоких сфер, к которым я случайно прикоснулся во время каникул. От княжеских чертогов до хаты маляра Худякова построена была непрерывная лестница, по которой сходили к нам семейные стили – законы капиталистического общества. Конечно, была не только количественная, но и качественная пропасть между теми и другими пропасть классовая. Пролетариат жил по другим законам морали и этики, в основе своей глубоко человеческим. Но если носатым княжнам приуготовлены были в наследство титул, имения, бриллианты и мечты о собственной яхте, то и дочь скромного ремесленника Дуня Худякова кое-что получала в наследство: «гардероб», швейную машину, кровать с никелированными шариками и мечта о граммофоне.
Старая семья, в том числе семья ремесленника или мелкого чиновника, по вышеуказанным законам, также была организацией накопления. Конечно, и накопление было разное, и результаты различные. Новак зарабатывал на «зайцах», дорожный мастер на бесконтрольных расчетах с рабочими, а маляр Худяков на пятнадцатичасовом рабочем дне. После завода он красил полы у богачей или золотил чугунных христосов для намогильных памятников. Накопления были необходимы и для учебы детей, и для приданого дочерям, и для «покойной старости», и для придания солидности фамильной фирме. Благодаря семейному накоплению пробивались отдельные удачники в тот социальный слой, где не только не грозила нищета, но где были надежды выйти в «настоящие люди».
Одним из важнейших путей в этом направлении была удачная женитьба. Как и в семьях князей, так и у нас браки редко совершались по любви. У нас, конечно, не было той домостроевской или замоскворецкой закваски, когда молодые женились, не видя друг друга, по самодурному решению отцов. Наши молодые более или менее свободно встречались, знакомились, «гуляли», но звериный закон борьбы за существование действовал почти механически. Материальные соображения при женитьбе были часто решающими. Приданое за дочкой в двести – триста рублей, с одной стороны, было страховкой будущего благополучия, с другой – привлекало солидных женихов. Только самые бедные девушки, выходя замуж, имели возможность руководствоваться такими незначительными аргументами, как красивые глаза, приятный голос, добрая душа и пр. А если девушка была чуть-чуть побогаче, для нее уже трудно было определить, «на кого вин моргае»:
Чи на тii воли,
Чи на тi корови,
Чи на мое бiле личко,
Чи на чорнi брови.
И очень слабым утешением в таком случае были дальнейшие слова песни:
Воли та корови
Усi поздихають,
Бiле личко, чорнi брови
Повiк не злиняють.
Женихи как раз прекрасно знали, что в сравнении с волами и коровами «бiле личко, чорнi брови» являются предметами, ужасно скоро портящимися.
Хозяином в семье был отец. Он управлял материальной борьбой семьи, он руководил ее трудной жизненной интригой, он организовывал накопление, он учитывал копейки, он определял судьбы детей.
Отец! Это центральная фигура истории! Хозяин, начальник, педагог, судья и иногда палач, это он вел семью со ступеньки на ступеньку, это он, собственник, накопитель и деспот, не знавший никаких конституций, кроме божеских, обладал страшной властью, усиленной любовью.
Но у него есть и другое лицо. Это он пронес на своих плечах страшную ответственность за детей, за их нищету, болезни и смерть, за их тягостную жизнь и тягостное вымирание. Эту ответственность десятки веков перекладывали на него хозяева жизни, грабители и насильники, дворяне и рыцари, финансисты, полководцы и заводчики, и он десятками веков нес ее непосильное бремя, усиленное тою же любовью, и стенал, страдал и проклинал небо, такое же невинное, как и он, но отказаться от ответственности не мог.
И от этого его власть становилась еще священнее и еще деспотичнее. А хозяева жизни были довольны, что всегда к их услугам эта одиозная фигура ответчика за их преступления, фигура отца, отягченная властью и долгом.
Советская семья не может быть отцовской монархией, так как исчезла старая экономическая семейная динамика. Наши браки не совершаются по материальным соображениям, и наши дети ничего материального существенного не наследуют в семейных границах.
Наша семья – это уже не уединенная группа отцовских владений. Члены нашей семьи от отца до вчера родившегося ребенка – члены социалистического общества. Каждый из них несет на себе честь и достоинство этого высокого звания.
И самое главное: для каждого члена семьи определен и обеспечен в великолепном ассортименте, в государственном масштабе выбор путей и возможностей, и победоносное шествие вперед каждого человека теперь зависит больше от него самого, чем от семейной мобилизации.
Но наша семья не есть случайное соединение членов общества. Семья – это естественный коллектив, и, как все естественное, здоровое, нормальное, она должна только расцвести в социалистическом обществе, освободившись от тех самых проклятий, от которых освобождается и все человечество и отдельная личность.
Семья становится единственной первичной ячейкой общества, тем местом, где реализуется прелесть человеческой жизни, куда приходят отдыхать победные силы человека, где растут и живут дети – главная радость жизни.
Наши родители тоже не безвластны, но эта власть – только отражение общественной власти. Долг нашего отца перед детьми – это особая форма его долга перед обществом. Наше общество как будто говорит родителям:
– Вы по доброй, любовной воли соединились, наслаждаетесь вашими детьми и дальше собираетесь радоваться на них. Это дело ваше личное и вашего личного счастья. Но в этом счастливом процессе у вас родились новые люди. Настанет момент, когда эти люди перестанут служить только для вашей радости, а выступят как самостоятельные члены общества. Для общества совсем не безразлично, что это будут за люди. Передавая вам некоторую толику общественной власти, Советское государство требует от вас правильного воспитания будущего гражданина. Оно в особенности рассчитает на некоторое обстоятельство, естественно возникающее из вашего союза, – на родительскую любовь.
Если вы желаете родить гражданина и обойтись без родительской любви, то, будьте добры, предупредите общество о том, что вы желаете сделать такую гадость. Люди, воспитанные без родительской любви, – часто искалеченные люди. И так как такая любовь есть у общества к каждому своему члену, как бы он ни был мал, то ваша ответственность за детей всегда может принять реальные формы.
Родительская власть в советском обществе есть власть, основанная не только на общественном полномочии, но и на всей силе общественной морали, требующей от родителей, по крайней мере, чтобы они не были нравственными уродами.
Вот именно с такой властью и с такой любовью входят родители в семейный коллектив как особые ее компоненты, отличные от других компонентов детей.
Наша семья, как и прежняя, составляет хозяйственную единицу. Но советское семейное хозяйство есть обязательно сумма трудовых заработков. Даже если они очень велики, даже если они превышают нормальные потребности семьи, даже если они накопляются, это накопление имеет иной характер, чем накопление в семье капиталистического общества.
Обер-кондуктор Новак, когда мобилизованные им силы природы и техники: «зайцы», знакомства, двухэтажные дома и торговля – достигли желательных размеров, оставил обер-кондукторское поприще и купил недалеко от нашего города имение, в котором было пятьдесят десятин. Новак купил имение у общипанного панка Пчелинцева, который после этого пошел работать в той самой службе движения, из которой только что выбыл новый помещик Новак. Потеря Новака в нашей среде была, таким образом, достойно компенсирована, пожалуй, даже с излишком, ибо мы пополнили свои ряды персоной чистых кровей.
Все поэтому были довольны. Недоволен был только сын Новака, сухой и скрипучий студент Коммерческого института. Он говорил:
– Фатер наш на авантюры пустился! Мало ему было хорошей жизни, захотелось с мужиками возиться.
Но так судит «ветреная младость». Старый Новак судил иначе:
– Этому балбесу что? Он нацепил золотые полеты и думает: устроился! А кончит институт, что будет делать? Служить? Я уже наслужился, довольно каждому прыщу кланяться. А вот он получит от меня тысячи две десятин да крахмальный завод, он тогда разберет, что это получше твоих полетов. Конечно, придется нам пострадать временем – большие деньги требуются. А ему только одно в голову лезет: на парных извозчиках кататься.
Хозяйство нашей семьи строится в совершенно новых условиях общественной экономики и, следовательно, в новых условиях общественной морали. В наших семейных перспективах нет беспросветной нужды, но зато нет крахмальных заводов и благоприобретенных имений. Поэтому проблема семейной экономической политики в Советском государстве выражается в совершенно новых формах. Прежде всего важно, что теперь за семейное благосостояние не может отвечать только отец. Семья, коллектив призваны отвечать за это благосостояние.
Можно представить себе семью и у нас, в которой потребности удовлетворяются с некоторым напряжением, иногда даже большим. Нам приходилось видеть такие семьи, пример некоторых из них может быть для многих весьма поучительным. В следующей главе мы специально остановимся на одной замечательной семье, жизненная борьба которой, несмотря на очень трудные условия, все же оставалась борьбой советского коллектива за лучшую жизнь, ни на минуту не принимая окрасок нищей беспросветности.
Инстинкты накопления, направлявшие старую жизнь, у нас основательно выключены. Трудно даже представить себе, чтобы у кого-нибудь из наших граждан, хотя бы в тайных подвалах души, зашевелилась старая гадина:
– Эх, жаль, нельзя магазинчик завести!
Инстинкт накопления в старом обществе был постоянно действующим регулятором потребления. Накопительская жадность достигала иногда таких степеней, что уже сама себя отрицала. Загребистые руки делались такими длинными, что теряли способность обслуживать собственную глотку, а были годны только для грабежа.
В нашей стране только сумасшедший может отказывать себе на том основании, что он решил сбить капитальчик и пустить его в оборот.
Это очень важное политическое, экономическое и моральное обстоятельство. В нашем этическом каталоге навсегда вычеркнута организованная жадность, составляющая мотивационную основу всего капиталистического общества. От потребительской жадности, которая логически допустима и у нас, она отличается очень сложной картиной психологических и перспективных деталей, ибо заключает в себе и стремление к власти, и честолюбие, и гонор, и любовь к раболепству, и ту сложнейшую цепь зависимостей, которая необходимо приходит вместе с широкой властью над множеством людей и множеством предметов.
Это организованная жадность вычеркнута впервые в истории мира Октябрьской революцией, и это коротко отмечено в статье шестой Конституции:
«Земля, ее недра, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием».
Эта статья, несмотря на всю ее простую скромность, является основанием новой морали человечества.
Но в нашей Конституции есть десятая статья, в которой сказано:
«Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан, охраняется законом».
В этой статье закреплены права граждан на предметы потребления. Это те права, которые составляют настоящий объект великой борьбы человечества и которые всегда нарушались эксплуатацией человека человеком.
У нас эти права не ограничены законом. Они ограничиваются фактическим состоянием нашего народного богатства, а так как оно растет с каждым днем, то, следовательно, с каждым днем расширяются и потребительские возможности отдельного человека. Наше государство ставит перед собой открытую и ясную цель всеобщего богатства, таким образом, и перед каждой семьей у нас широкая цепь возможностей материальных.
Советский семейный коллектив на основании статьи десяток Конституции является полным хозяином своего семейного имущества, которое имеет исключительно трудовое происхождение. Это хозяйственная арена семейного коллектива становится в значительной мере и ареной педагогической.
Наше общество открыто и сознательно идет к коммунистическому обществу.
У нас моральные требования к человеку должны быть выше среднего уровня человеческого поступка. Мораль требует общего равнения на поведение самое совершенное. Наша мораль уже в настоящее время должна быть моралью коммунистической. Наш моральный кодекс должен идти впереди и нашего хозяйственного уклада и нашего права, отраженного в Конституции, он должен видеть впереди еще более высокие формы общества. В борьбе за коммунизм мы уже сейчас должны воспитывать в себе качества члена коммунистического общества. Только в этом случае мы сохраним ту моральную высоту, которая сейчас так сильно отличает наше общество от всякого другого.
Великий закон коммунизма «от каждого по способности, каждому по потребности» для многих еще представляется практически неуловимым, многие еще не способны представить такой высокий принцип распределения, предполагающий еще невиданные формы честности, справедливости, точности, разума, доверия, чистоты человеческой нравственной личности.
Глубочайший смысл воспитательной работы, и в особенности работы семейного коллектива, заключается в отборе и воспитании человеческих потребностей, в приведении их к той нравственной высоте, которая возможна только в бесклассовом обществе и которая только и может побуждать человека к борьбе за дальнейшее совершенствование.
Нравственно оправданная потребность – это есть потребность коллективиста, т. е. человека, связанного со своим коллективом единой целью движения, единством борьбы, живым и несомненным ощущением своего долга перед обществом.
Потребность у нас есть родная сестра долга, обязанности, способностей, это проявление интересов не потребителя общественных благ, а деятеля социалистического общества, создателя этих благ.
Пришел ко мне пацан. Лет ему, вероятно, двенадцать, а может, и меньше. Уселся против меня в кресле, потирает ручонкой бортик стола, собирается говорить и волнуется. Голова у него круглая, стриженая, щеки пухленькие, а большие глаза укрыты такой обыкновенной, стандартной слезой. Я вижу белоснежно-чистый воротничок нижней сорочки.
Пацан этот – актер, я таких много видел. На его физиономии хорошо сделано горе, сделано из взятых напрокат, вероятно, в кино, стариковских мимических материалов: брови сдвинуты, нежные мускулы лба сложены в слабосильную складку. Я посмотрел на него внимательно и предложил:
– Ну, что же? Говори, что тебе нужно. Как зовут?
Пацан шикарно вздохнул, еще раз потянул ладошкой по столу, нарочно отвернул в сторону лицо и нарочно замогильным голосом сказал:
– Коля. А что говорить? Жить нечем. И кушать нечего.
– Отца нет?
Коля прибавил слезы и молча повертел головой.
– А мать?
Он заложил сложенные руки между колен, наклонился немного вперед, поднял глаза к окну и великолепно сыграл:
– Ах, мать! Нечего и говорить! Чего вы хотите, если она служит… на вешалке… в клубе!
Пацан так расстроился, что уже не меняет позы, все смотрит в окно. В глазах перекатывается все та же слеза.
– Та-ак, – сказал я. – Так что тебе нужно?
Он взглядывает на меня и пожимает плечами:
– Что-нибудь нужно сделать. В колонию отправьте.
– В колонию? Нет, ты не подходишь. В колонии тебе будет трудно.
Он подпирает голову горестной рукой и задумчиво говорит:
– Как же я буду жить? Что я буду кушать?
– Как это? Ты же у матери?
– Разве можно жить на пять рублей? И одеться же нужно?
Я решил, что пора перейти в наступление.
– Ты другое скажи: почему ты школу бросил?
Я ожидал, что Коля не выдержит моей стремительной атаки, заплачет и растеряется. Ничего подобного. Коля повернул ко мне лицо и деловито удивился:
– Какая может быть школа, если мне кушать нечего?
– Разве ты сегодня не завтракал?
Коля встал с кресла и обнажил шпагу. Он, наконец, понял, что и горестная поза, и неистощимая слеза в глазах не производят на меня должного впечатления. Против таких скептиков, как я, нужно действовать решительно. Коля выпрямился и сказал:
– Чего вы меня допрашиваете? Вы не хотите мне помочь, я пойду в другое место. И нечего про завтрак. Завтракал, завтракал!
– Ах, вот ты какой! – сказал я. – Ты боевой!
– Конечно, боевой, – шепнул Коля, но глаза опустил.
– Ты – нахал, – сказал я медленно, – ты – настоящий нахал!
Коля оживился. В его голосе прорвались, наконец, хорошие мальчишеские нотки. И слезы вдруг как не бывало.
– Вы не верите? Вы не верите? Да? Ну, прямо скажите, что не верите!
– А что же ты думаешь: и скажу. Не верю, и все ты наврал. И есть нечего, и надевать нечего! Совсем умираешь, бедный! С голоду!
– Ну, и не верьте, – небрежно сказал Коля, направляясь к выходу.
– Нет, постой, – остановил я его. Ты тут сидел, врал, сколько времени пропало! Теперь поедем!
– Куда поедем? – испугался Коля.
– К тебе поедем, к матери.
– Вот! Смотри ты! Никуда я не поеду! Чего я поеду?
– Как чего? Домой поедешь.
– Мне совсем не нужно домой. Мало ли чего вам захочется.
Я рассердился на пацана:
– Довольно болтать! Говори адрес! Молчишь? Хорошо: садись и ожидай!
Коля не сказал адреса, но уселся в кресле и затих. Через пять минут он залез в машину и покорно сказал, куда ехать.
Через просторный двор нового рабочего клуба он прошел впереди меня, подавленный и расстроенный, но это уже было детское горе, и поэтому в нем активное участие принимали нос, и щеки, и рукава черной курточки, и другие приспособления для налаживания нервов.
В небольшой чистенькой комнате, в которой были и занавеси, и цветы, и украинский пестрый коврик у белой кровати, Коля с места в карьер сел на стул, положил голову на кровать и заревел, что-то приговаривал невнятное и на кого-то обижался, но кепку крепко держал в руке. Мать, молодая, тоже большеглазая и тоже с пухленькими щечками, взяла кепку из его руки и повесила на гвоздик, потом улыбнулась мне:
– Чего он там наделал такого? Вы его привели?
Коля на секунду прекратил рыдания для того, чтобы предупредить возможные с моей стороны каверзы:
– Никто меня не приводил! Я сам его привел! Пристал и пристал: едем и едем! Ну, и говорите, пожалуйста…
Он опять ринулся в мягкую постель, но плакал теперь как-то одной стороной, а другой слушал, о чем мы говорили с матерью.
Мать не волновалась:
– Не знаю, что мне с ним делать. Он не был такой, а как пожил у брата брат у меня директор совхоза в Черниговской области, так с ним и сделалось. И вы не думайте: он сам не знает, что ему нужно. А научился: ходит и ходит! Научился просить разное… и школу бросил, а ведь в четвертом классе. Учился бы, а он по начальникам ходит, беспокоит. А спросите его, чего ему не хватает? И одет, и обут, и постель хорошая, и кушанье у нас, не скажу, какие разносолы, а никогда голодным не был. У нас можно из клубной столовой брать, да и дома когда на примусе. А конечно, у директора лучше: деревня все-таки и совхоз и в то же время – хозяйство.
Коля перестал плакать, но лежал головой на кровати, а под стулом водил ногой, видно, о чем-то своем думал, переживал возражения на скромные сентенции матери.
Мать удивила меня своим замечательным оптимизмом. Из ее рассказа было ясно, что жить ей с сыном трудно, но у нее все хорошо и всем она довольна.
– Раньше хуже было: девяносто рублей, подумайте! А сейчас сто двадцать, и утро у меня свободное, я то тем, то сем заработаю. И учусь. Через три месяца перехожу в библиотеку, буду получать сто восемьдесят.
Она улыбалась с уверенным покоем в глазах. В ней не было даже маленького напряжения, чего-либо такого, что говорило бы о лихорадочной приподнятости, о неполной уверенности в себе. Это была оптимистка до самых далеких глубин души. На фоне ее светлого характера очень диким показался мне бестолковый и неискренний бунт ее сына. Но и в этом бунте мать ничего особенного не находила:
– Пусть побесится! Это ему полезно будет! Я ему так и сказала: не нравится у меня, ищи лучшего. Школу хочешь бросить – бросай, пожалуйста. Только смотри, вот здесь, в комнате, я никаких разговоров не хочу слушать. Ищи других, которые с тобой, с дураком, разговаривать захотят. Это его у дяди испортили. Там кино каждый день бесплатное! А я где возьму кино? Сядь, книжку почитай! Ничего, перебесится! Теперь в колонию ему захотелось. Приятели там у него, как же!
Коля уже сидел спокойно на стуле и внимательным теплым взглядом следил за оживленно-улыбчивой мимикой матери. Она заметила его внимание и с притворно-ласковой укоризной кивнула:
– Ишь, сидит, барчук! У матери ему плохо! Ничего не скажу, ищи лучше, попрошайничай там…
Коля откинул голову на спинку стула и повел в сторону лукавым глазом.
– И зачем ты, мама, такое говоришь? Я не попрошайничаю вовсе, а при Советской власти я могу требовать.
– Чего? – спросила мать, улыбаясь.
– Что мне нужно, – еще лукавее ответил он.
Не будем судить, кто виноват в этом конфликте. Суд – трудное дело, когда неизвестны все данные. Мне и сын и мать одинаково понравились. Я большой поклонник оптимизма и очень люблю пацанов, которые настолько доверяют Советской власти, что уже и себя не помнят, и не хотят доверять даже родной матери. Такие пацаны много делают глупостей и много огорчений причиняют нам, старикам, но они всегда прелестны! Они приветливо улыбаются матери, а нам, бюрократам, показывают полную пригоршню потребностей и вякают:
– Отправьте меня в колонию.
– Отправьте меня в летную школу, я хочу быть летчиком!
– Честное слово, я буду работать и учиться!
И все-таки… Все-таки нехорошо вышло и у Коли, и у его матери. Как-то так получилось, что потребности сына вырастали по особой кривой, ничего общего не имеющей ни с материнской борьбой, ни с ее успехами и надеждами. Кто в этом виноват? Конечно, не дядя-директор. Пребывание у дяди только толкнуло вперед бесформенный клубок плохо воспитанных претензий Коли.
И летняя школа, и колония, и даже кино и хорошая пища – прекрасные вещи. Естественно, к ним может стремиться каждый пацан.
Но совершенно понятно, что мы не имеем права считать потребностью каждую группу свободно возникающих желаний. Это значило бы создать простор для каких угодно индивидуальных припадков, и в таком просторе возможна только индивидуальная борьба со всеми последствиями, печально из нее вытекающими. Главное из этих последствий – уродование личностей и гибель их надежд. Это старая история мира, ибо капризы потребностей – это капризы насильников.
Поведение Коли на первый взгляд может показаться поведением советского мальчика, настолько захваченного движением истории, что бег семейной колесницы для него уже скучен. Общий колорит этого случая настолько симпатичен, что невольно хочется оказать Коле помочь и удовлетворить его неясные желания. Многие так и делают. Я много видел таких облагодетельствованных мальчиков. Из этих мальчиков редко получается какой-нибудь толк. Такие, как Коля, прежде всего насильники, пусть в самой самой дозе. Они подавляют своими требованиями сначала отца или мать, потом приступают с ножом к горлу к представителям государственного учреждения и здесь настойчиво ведут свою линию, подкрепляя ее всем, что попадается под руку: жалобой, слезой, игрой и нахальством.
И за советской физиономией Коли и за его детским притворством скрывается нравственная пустота, отсутствие какого бы то ни было коллективного опыта, который в двенадцать лет должен быть у любого ребенка. Такая пустота образуется всегда, если с раннего детства в семье нет единства жизни, быта, стремлений, нет упражнений в коллективных реакциях. В таких случаях у ребенка потребность набухает в уединенной игре воображения без всякой связи с потребностями других людей. Только в коллективном опыте может вырасти потребность нравственно ценная. Конечно, в двенадцать лет она никогда не будет оформлена в виде яркого желания, потому что корни ее покоятся не в водянистой игре чистой фантазии, а в сложнейшей почве еще неясного коллективного опыта, в сплетении многих образов близких и менее близких людей, в ощущении человеческой помощи и человеческой нужды, в чувствах зависимости, связанности, ответственности и многих других.
Вот почему так важен для первого детства правильно организованный семейный коллектив. У Коли этого коллектива не было, было только соседство с матерью. И каким бы хорошим человеком ни была мать, простое соседство с нею ничего не могло дать положительного. Скорее, наоборот: нет опаснее пассивного соседства хорошего человека, ибо это – наилучшая среда для развития эгоизма. В таком случае как раз и разводят руками многие хорошие люди и вопрошают:
– В кого он уродился?
Алеше четырнадцать лет. Он покраснел, надулся:
– Как, вы достали мягкий? Я не поеду в мягком!
Мать смотрит на него со строгим удивлением:
– Почему ты не поедешь в мягком?
– А почему в прошлом году было в международном? А почему теперь в мягком?
– В прошлом году было больше денег…
– Какие там деньги? – говорит Алеша презрительно. _ Деньги? Я знаю, в чем тут дело. Просто потому, что это я еду. Меня можно в чем угодно возить!
Мать говорит холодно:
– Думай, как хочешь. Если не нравится в мягком, можно и совсем не ехать.
– Вот видишь? Вот видишь? – обрадовался Алеша. – Могу и совсем не ехать! Все рады будете! Конечно! И даже билет можно продать. Деньги все-таки!
Мать пожимает плечами и уходит. Она должна еще подумать, что дальше делать с такими проклятыми вопросами.
Но Надя, старшая сестра Алеши, не так спокойна и ничего не откладывает. Надя помнит тревогу гражданской войны, теплушки эвакуационных маршрутов, случайные квартиры прифронтовых городов, помнит стиснутые зубы и горячую страсть борьбы, терпкую неуверенность в завтрашнем дне и воодушевленную веру в победу.
Надя с насмешкой смотрит на брата, и Алеша читает в ее прикушенной губе еще и осуждение. Он знает, что через минуту сестра обрушится на него со страшной силой девичьего невыносимого презрения. Алеша встает со стула и даже напевает песенку – так он спокоен. Но все напрасно; песенку обрывает короткая оглушительная «очередь»:
– Нет, ты мне объясни, молокосос, когда ты успел привыкнуть к международным?
Алеша оглядывается и находит мальчишеский увертливый ответ:
– Разве я говорил, что привык? Я просто интересуюсь. Каждому интересно, понимаешь…
– А жестким вагоном ты не интересуешься?
– Жестким тоже интересуюсь, но только… это потом… в следующий раз… И потом… какое, собственно говоря, твое дело?
– Мое, – говорит сестра серьезно, – мое дело. Во-первых, ты не имеешь права ехать на курорт. Никакого права! Ты здоровый мальчишка и ничем не заслужил, ничем, понимаешь, абсолютно! С какой стати разводить таких? С какой стати, говори?
Алеша начинает скептически:
– Вон куда поехала! По-твоему, так я и обедать не имею права% тоже не заслужил…
Но он понимает, что стратегическое отступление необходимо. Надька способна на всякую гадость, и перспектива курорта может отодвинуться в далекие эпохи, называемые «взрослыми». Чем кончится сегодняшняя кампания? Хорошо, если только местным пионерским лагерем! Через пятнадцать минут Алеша шутя подымает руки:
– Сдаюсь! Готов ехать в товарном вагоне! Пожалуйста!
Потребность Алеши в международном вагоне не родилась в игре воображения, она выросла в опыте, и тем не менее все понимают, что эта потребность в той или иной мере безнравственна. Понимает это и мать, но она не в силах изменить положение.
Не всякий опыт в нашей стране есть опыт нравственный. Наша семья не является замкнутым коллективом, как семья буржуазная. Она составляет органическую часть советского общества, и всякая ее попытка построить свой опыт независимо от нравственных требований общества обязательно приводит к диспропорции, которая звучит как тревожный сигнал опасности.
Диспропорция в семье Алеши заключается в том, что потребности отца или матери механически становятся потребностями детей. У отца они проистекают из большого ответственного и напряженного труда, из его трудового значения в Советском государстве. А у Алеши они не оправданы никаким коллективным трудовым опытом, а даны в отцовской щедрости; эти потребности у него отцовская подачка. Принципиально такая семья есть самая старая, старая отцовская монархия, нечто подобное просвещенному абсолютизму.
У нас приходится, в виде исключения, наблюдать такие семьи. У них словесная советская идеология мирно уживается с опытом старого типа. Дети в такой семье регулярно упражняются в неоправданном удовлетворении. Трагическое будущее таких детей очевидно. Впереди у них тяжелая дилемма: либо пройти стадию естественного роста потребностей сначала в состоянии взрослого, либо подарить обществу такой большой и такой квалифицированный труд, чтобы заслужить санкцию общества на большие и сложные потребности. Последнее возможно только в исключительных случаях.
Мне приходилось по этому поводу говорить с отдельными товарищами. Некоторые из них рассуждают панически:
– Что же делать? Если я с семьей еду на курорт, как, по-вашему, я должен ехать в одном вагоне, а семья в другом?
Такая паника удостоверяет только одно: нежелание видеть сущность вопроса, отказ от активной мысли, создающей новое. Международный вагон не дороже судьбы детей, но дело не в вагоне. Никакие фокусы не поправят положения, если в семье нет настоящего тона, постоянного правильного опыта.
Проехать с отцом в каком угодно вагоне в отдельном случае нисколько не вредно, если очевидно, что это только приятный случай, вытекающий не из права детей на излишний комфорт, а из их желания быть вместе с отцом. В советском семейном коллективе много найдется других случаев, когда потребности детей не будут связаны с заслугами отца, тогда и у Алеши будет действовать другая логика.
Все это вовсе не значит, что в такой семье к детям нужно применять какую-то особенную дрессировку. Вопрос решается в стиле всей семьи. И если сам отец как гражданин имеет право на дополнительный комфорт, то как член семейного коллектива он тоже должен себя ограничивать. Какие-то нормы скромности обязательны и для него, тем более что в биографиях наших великих людей скромность всегда присутствует:
«Поднимаемся по лестнице. На окнах белые полотняные занавески. Это три окна квартиры Сталина. В крохотной передней бросается в глаза длинная солдатская шинель, над ней висит фуражка. Три комнаты и столовая. Обставлены просто, как в приличной, но скромной гостинице. Столовая имеет овальную форму: сюда подается обед – из кремлевской кухни или домашний, приготовленный кухаркой. В капиталистической стране ни такой квартирой, ни таким меню не удовлетворился бы средний служащий. Тут же играет маленький мальчик. Старший сын Яша спит в столовой, – ему стелят на диване; младший в крохотной комнатке, вроде ниши».
(Анри Барбюс)
Нравственная глубина и единство семейного коллективного опыта совершенно необходимое условие советского воспитания. Это относится одинаково и к семьям с достатком и к семьям с недостатком.
В нашей стране только тот человек будет полноценным, потребности и желания которого есть потребности и желания коллективиста. Наша семья представляет собой благодарный институт для воспитания такого коллективизма.
Глава третья
Степан Денисович Веткин познакомился со мной в начале лета 1926 года. Я и сейчас вспоминаю появление его с некоторым смущением: оно было похоже на вторжение неприятельской армии, произведенное неожиданно – без объявления войны.
А между тем ничего военного на деле как будто и не было. Степан Денисович мирно и застенчиво вошел в мой служебный кабинетик, очень вежливо поклонился, держа кепку впереди себя в обеих руках, и сказал:
– Если вы очень заняты, простите за беспокойство – у меня к вам минимальная просьба.
Даже при слове «минимальная» Степан Денисович не улыбнулся, был сдержанно серьезен и скорее озабочен, чем угрюм.
Он уселся на стуле против меня, и я мог лучше рассмотреть его лицо. У него хорошие усы, прикрывающие рот, под этими усами он часто как-то особенно мило вытягивал губы, как будто что-то обсасывал, на самом деле у него во рту ничего не было, – это движение выражало тоже озабоченность. Рыжая борода Степана Денисовича была немного сбита вправо, вероятно, оттого, что он часто теребил ее правой рукой.
Степан Денисович сказал:
– Да… Видите ли, какое дело! Я, собственно говоря, учитель, здесь недалеко, в Мотовиловке…
– Очень приятно. Коллега, значит…
Но Степан Денисович не поддержал моего оживления. Он захватил рукой большой участок рыжей своей бороды и суховато объяснил, глядя чуть в сторону:
– Приятно – нельзя сказать. Я, конечно, люблю это дело, но прямо скажу – не выходит. То есть методически выходит, а организационно не выходит.
– В чем же дело?
– Да… не то, что организационно, а можно сказать, в бытовом отношении. Я у вас прошу сейчас работу… кузнеца.
Я удивился молча. Он мельком взглянул на меня и продолжал еще более сухо, с особенной симпатичной солидностью, вызывающей большое доверие к его словам:
– Я – хороший кузней. Настоящий кузнец. Мой отец тоже был кузнец. В ремесленном училище. Я потому и вышел в учителя. А у вас тут все-таки заводик, и кузнец хороший нужен. И притом учитель.
– Хорошо, – согласился я. – Вам нужна квартира?
– Да как вам сказать? Комната, конечно, или две комнаты. Семья у меня значительная… Очень значительная.
Степан Денисович засосал губами и задвигался на стуле.
– Учительское дело хорошее, но такую семью невозможно содержать. И кроме того – деревня. Куда они пойдут, детишки?
– Сколько у вас детей?
Он посмотрел на меня и улыбнулся в первый раз. В этой улыбке я увидел, наконец, настоящего Степана Денисовича. Его озабоченное лицо ничего общего не имело с улыбкой: зубы в ней были веселые, белые, блестящие. С прибавлением улыбки Степан Денисович казался искреннее и добрее.
– Это для меня самый трудный вопрос: отвечать прямо – стыдно, а часто все-таки приходится, понимаете, отвечать.
Его улыбка еще раз мелькнула и растаяла за усами, а на ее месте снова вытянутые озабоченные губы, и снова он отвернулся от меня:
– Тринадцать. Тринадцать детей!
– Тринадцать? – завопил я в крайнем изумлении. – Да что вы говорите?!
Степан Денисов ничего не ответил, только еще беспокойнее завозился на стуле. И мне стало страшно жаль этого симпатичного человека, я ощутил крайнюю необходимость ему помочь, но в то же время почувствовал и озлобление. Такое озлобление всегда бывает, если на ваших глазах кто-нибудь поступает явно неосмотрительно. Все эти мои чувства разрешились в неожиданном для меня самого восклицании:
– Черт знает что! Да как же… да как же вас угораздило?
Он выслушал мой неприличный возглас с прежним выражением усталости и заботы, улыбаясь только краем уса:
– В семье может быть от одного до восемнадцати детей. Я читал: до восемнадцатого бывало. Ну… на мою долю выпало тринадцать.
– Как это «выпало»?
– Ну, а как же? Раз бывает до восемнадцати, значит, где-нибудь и тринадцать окажется. Вот на меня и выпало.
Я быстро договорился со Степаном Денисовичем. Хороший кузнец нам, действительно, был нужен. Степан Денисович рассчитывал, что кузнецом он заработает больше, чем учителем, наша организация могла пойти навстречу его расчетам.
С квартирой было хуже. Насилу-насилу я мог выкроить для него одну комнату, да и для этого пришлось произвести целую серию переселений и перетасовок. Правда, наши рабочие так заинтересовались столь выдающейся семьей, что никто и не думал протестовать. По этому поводу кладовщик Пилипенко сказал:
– А я считаю, что это свинство. Уступить, само собой, нужно, а все-таки человек должен соображение иметь и расчет иметь! Живи, живи, да оглядывайся. Скажем, у тебя трое, четверо, смотришь, пятеро стало! Ну, оглянись же, такой-сякой, посчитай: пятеро, значит, сообрази – следующий шестой будет. А то, как дурень с печи, – никакого расчета!
Но товарищ Чуб, старый инструментальщик, у которого было именно шестеро детей, объяснил, что простая арифметика в этом вопросе ничего еще не решает:
– Такое сказал: считай! Думаешь, я не считал? Ого! А что поделаешь: бедность. Бедность, вот кто дела такие делает! У богатого две кровати, богатый себе спит и все. А у бедного одна кровать. Сколько ни считай, а она свое возьмет, и не заметишь как…
– Просчитаешь, – сказал кладовщик.
– Просчет происходит, а как же! – засмеялся и Чуб, который, впрочем, всегда любил веселый разговор.
Круглый и толстый бухгалтер Пыжов слушал их разговор покровительственно, а потом вне и свою лепту в дело объяснения подобных феноменальных явлений:
– Просчет в таком случае вполне возможен. Главное здесь, в дополнительном коэффициенте. Если у тебя один ребенок, а второй, так сказать, в проекте, то ожидается прибавление ста процентов. Расчетливый человек и задумается: сто процентов – сильный коэффициент. Ну, а если у тебя пятеро, так шестой, что же, всего двадцать процентов – пустяковый коэффициент, человек и махнет рукой: была не была, рискую на двадцать процентов!
Слушатели хохотали. Чуба в особенности увлекала причудливая игра коэффициентов, и он потребовал немедленно приложения этой теории к собственному случаю:
– Ох ты, черт! Это значит, если у меня – седьмого подготовить, какой же выйдет… этот…
– Седьмого? – Пыжов только глянул на небо и определил точно:
– В данном положении будет коэффициент шестнадцать и шесть десятых процента.
– Пустяк! – в восторге захрипел Чуб. – Конечно, тут и думать нечего!
– Так и дошел человек до тринадцати? – заливался кладовщик.
– Так и дошел, – подтвердил бухгалтер Пыжов, – тринадцатый – это восемь и три десятых процента.
– Ну, это даже внимания не стоит, – Чуб просто задыхался от последних открытий в этой области.
Так весело все встретили Степана Денисовича, когда он приехал второй раз посмотреть на квартиру. Степан Денисович не обижался ни на кого, он понимал, что математика обязывает.
Квартиру осмотрели компанией. Комната была средняя, метров на пятнадцать квадратных. Помещалась она в одной из хат, доставшихся нашему заводу еще от старого режима. Степан Денисович все пожевывал и посасывал, осматривал комнату, и как будто про себя грустно вспоминал:
– Там все-таки у меня две комнаты… Ну, ничего, как-нибудь…
Что я мог сделать? В растерянности я задал Степану Денисовичу глупый вопрос:
– У вас… много мебели?
Веткин с еле заметным укором на меня глянул:
– Мебель? Да разве мне до мебели? И ставить некуда.
Он вдруг очаровательно улыбнулся, как бы поддерживая меня в моем смущении:
– Вообще для предметов неодушевленных свободных мест нет.
Чуб лукаво почесал небритый подбородок и прищурил глаз:
– При таких объективных условиях товарищу не мебели нужны, а стеллажи, вот как у меня в инструментальной. Стеллажи, если начальник не против, можно будет сделать.
Он прикинул глазом высоту комнаты:
– Три яруса. Четвертый, дополнительный на полу.
– Нельзя здесь поместить тринадцать, – сказал опечаленный кладовщик Пилипенко, – какая же здесь кубатура останется для дыхания воздухом? Никакой кубатуры, да и вас же двое.
Веткин поглядывал то на одного консультанта, то на другого, но у него не было растерянного вида. Вероятно, все затронутые обстоятельства у него были давно учтены и сверстаны в общий план операции. Он подтвердил свое прежнее решение:
– Так я десятого перевезу семейство. Нельзя ли конячку какую-нибудь, потому что все-таки барахлишко и малыши пешком не дойдут от вокзала.
– Конячку? Пожалуйста! Даже две!
– Вот это спасибо. Две, конечно, лучше, потому… семья все-таки переезжает.
Десятого мая, в воскресенье, совершился въезд семейства Веткиных на территорию нашего завода. Завод был расположен недалеко от города, и к нему была проложена специальная дорога, вымощенная булыжником. Рано утром две заводские «конячки» притащили к городу некоторое подобие экипажей, отчасти похожих на линейки, отчасти на площадки. К полудню по дороге началось движение публики, чего раньше никогда не бывало. Семейные пары делали вид, будто совершают воскресную прогулку, дышат свежим воздухом и наслаждаются окрестными ландшафтами.
В два часа дня показалась процессия – никакое другое слово к описываемому явлению не подходит. Сидящий на первой подводе трехлетний мальчик держал в руке небольшой игрушечный флаг, и это еще больше придавало всему шествию характер торжественный.
Впереди шли две подводы. На них преобладало «барахлишко», только на первой сидел знаменосец, а на второй двое детей поменьше. «Барахлишко» состояло из вещей малого размера, за исключением шкафика, установленного на первой подводе в самом ее центре, что придавало шкафчику некоторую нарочитую торжественность. Это был кухонный шкафик одно из самых счастливых изобретений человечества, шкафик, но в то же время и стол. Такие вещи издают всегда замечательный запах: от них пахнет теплом, свежеиспеченным хлебом и детским счастьем. Кроме шкафика выделялись большой самовар, две связки книг и узел с подушками. Все остальное было обыкновенной семейной мелочью: ухваты, веники, ведро, чугунки и т. д.
Рядом со второй подводой шла девушка лет семнадцати, в стареньком, потемневшем ситцевом платьице, босиком и с непокрытой головой. Видно было, что она всегда так ходила: несмотря на то, что лето только началось, волосы ее успели сильно выгореть, лицо было покрыто густым красноватым загаром, а на щеках даже шелушилось. И все же оно производило очень приятное впечатление: серьезное, хорошей формы рот. Голубые глаза ясно и спокойно поблескивали под прямыми умными бровками.
За подводами два мальчика, приблизительно одного роста и возраста, несли выварку, чем-то наполненную и прикрытую полосатым куском материи. Этим было лет по тринадцать. За ними шествовала центральная группа детворы от пяти до двенадцати лет, мальчики и девчонки. Двое, самые молодые, девочки, щекастые и пузатенькие, – шли впереди, взявшись за руки, часто перебирали босыми ножками по чистым теплым булыжникам мостовой и имели вид очень озабоченный: подводы хоть и медленно двигались по шоссе, но этим пешеходам трудно было управиться и с такой скоростью.
Остальные, большие мальчики, заняты были делом: каждый что-нибудь тащил на руках или на плечах, кто зеркало, кто связку рамок, самый старший нес граммофонную трубку.
Вся эта компания произвела на меня неожиданно приятное впечатление: головы всех были острижены под машинку, загоревшие мордочки казались чистыми, даже босые ножки были припорошены только сегодняшней пылью. Поясов ни у кого не было, но воротники ситцевых рубашек были аккуратно застегнуты, не было нигде ничего изодранного, только у того, что нес трубу, блестела на колене заплата. Особенно же мне понравилось то, что ни у одного члена процессии не было несимпатичного или отталкивающего выражения: никаких болячек, никакой золотухи, никаких признаков умственной отсталости. Они спокойно поглядывали на нас, не смущались, но и не глазели безразлично, иногда о чем-то между собой переговаривались, не понижая голоса, но и не бравируя своей свободой.
Я расслышал несколько слов такого разговора:
– Тут сухое место. А это лоза.
– Из нее корзинки можно делать.
– Батько обязательно сделает!
Сам батько, творец и руководитель всей этой армии, шел сзади и бережно нес в руках граммофонный ящик. Рядом с ним, спустив с черной головы желтый, яркий платок, выступала важно, улыбаясь нам влажными большими глазами красивая, румяная женщина. Проходя мимо нас, Степан Денисович расцвел своей замечательной улыбкой и приподнял кепку:
– Приехали! Что хотите делайте, а приехали! Ваши, смотри, рты разинули! А это моя жена, честь имею: Анна Семеновна!
Анна Семеновна церемонно наклонила голову и протянула руку, потом черными глазами стрельнула вокруг и сказала солидным низким контральто:
– Вот ему нужно: рты разинули! Привыкнут. Были б люди хорошие, не злые.
В этот момент среди встречающих произошло движение. Жена инструментальщика Чуба, широкая и важная дама, до сих пор смотревшая на шествие с поджатыми губами, воздела руки и воскликнула:
– Ой, лышенько! Ой, боже ж ты мой! Такие крошки и пешком идут! С вокзала пешком, легко сказать!
Она бросилась к одной из крошек и подхватила ее на руки. Девочка из-за ее плеча выставила такую же, как и раньше, озабоченную мордочку и так же таращила на мир голубые глазенки. Немедленно и другая крошка вознеслась на чьи-то плечи. Встречающие смешались с процессией. К Веткиным подошел бухгалтер Пыжов и сказал, протягивая руку:
– С приездом! И самое главное, не робейте! Это, понимаете, правильно: кадры!
Пользуясь летним временем. Степан Денисович решил основную часть своей армии поместить на свежем воздухе. Для этого он устроил возле своей хаты нечто вроде веранды. Для такого дела нашлось в разных концах нашего двора много бросового материала: обрезки, куски реек, ящики. Воспользовавшись моим разрешением, Степан Денисович назначил для доставки этого материала резервные силы армии, в то время когда основные силы занялись самой постройкой.
Еще семья Веткиных не прибыла к нам, а меня заинтересовал важный педагогический вопрос: имеется ли в этой семье какая-либо организационная структура, или семья представляет из себя, так сказать, аморфную массу? Я прямо спросил об этом Степана Денисовича, когда он зашел ко мне по делу.
Веткин не удивился моему вопросу и одобрительно улыбнулся:
– Вы правы, это очень важный вопрос, структура, как вы говорите. Конечно, есть структура, хоть и трудный вопрос. Тут могут прийти в голову разные неправильные принципы…
– Например?
– Да вот я вам объясняю. Можно, допустим, по возрасту, тогда для дела хорошо будет, а для воспитания неправильно, малыши и одичать главная бригада – четверка: Ванька, Витька, Семен и опять же Ванюшка. Старшему Ваньке пятнадцать лет, Ванюшке десять, но он тоже шустрый, может то другое делать.
– Как это у вас для Вани вышло?
– Вышло так в беспорядке. Старший Ванька правильный, я люблю это имя, а то теперь в моду вошли Игори да Олеги. Ну, а второй родился в шестнадцатом году – война, то, се. Я как учитель освобождается, да черт их разберет, потащили и меня к воинскому начальнику и продержали две недели. А жинка в это время с прибавлением. Хлопоты, нужда, волнение, а кумовья попались неотесанные, деревня! Батюшка, видно, спешил куда, заглянул в святцы, какого святого? Ивана-мученика. Ну, и бултых в воду с этим мучеником, так и осталось. Да ничего страшного, может, потом будут путаться, а сейчас ничего: то – Ванька, а то – Ванюша, они так уже и знают. Ванька белый, а Ванюшка черный, в мать.
– Так это у вас хозяйственная бригада?
– Ого! Хозяйственная. И в школу ходят, и дома, если что сделать, всегда компанией. Работники будут. И к тому же мальчишки. Вот вам и структура. Потом есть еще бригада, хэ, хэ! Васька – восемь лет, осенью в школу, подходит к старшим, а пока гуляет. А кроме него, Люба – семь годков, а Кольке – шесть. В хозяйстве с них какой толк, а все-таки приучаются: принести что, отнести, в кооператив сбегать. Читать умеют и счет в пределах двух десятков – удовлетворительно.
– Это они сейчас материал стаскивают?
– Они. Васька, Люба и Колька, это их дело. Ну, а под ними, конечно, мелочь: Марусе только пять, а другие меньше: Вера и Гришка. А Катя и Петька самые малые – близнецы, в позапрошлом году только появились.
– Старше всех дочка?
– Оксана, как же! Оксана вне конкуренции. Во-первых, невеста, во-вторых, она все умеет, и матери, пожалуй, не уступит в хозяйстве. Это особая статья, и тут подумать нужно. Из Оксаны хороший человек выйдет, и учиться хочет – в рабфаке. Вот посмотрю осенью.
Первая бригада Ваньки старшего неустанно работала по постройке веранды. Сам Степан Денисович мало ей помогал, так как приступил уже к работе в нашей кузнице, и только после четырех часов его взлохмаченная голова торчала над готовым каркасом веранды, занятая больше всего вопросом о конструкции крыши. Но даже и в эти вечерние часы распорядительная власть принадлежала Ваньке. Однажды при мне он сказал отцу:
– Ты туда не лазь. Утром мы сами сделаем. А ты лучше гвоздей достань. Этих гвоздей мало.
В распоряжении бригады были только те гвозди, которые Ванюшка младший вытаскивал из старых досок. Он целые дни просиживал за этим делом, в его распоряжении были для этого клещи и особый молоток с раздвоенным узким концом. Ванюшкина продукция «лимитировала» постройку, и Ванька старший отдал приказание резерву, доставляющему материал:
– Вы не бросайте где попало. Если с гвоздиком, несите к Ванюшке, а если без гвоздика, давайте мне.
Начальник резерва, восьмилетний Васька, человек лобастый, коренастый и серьезный, не пошел, однако, на усложнение работы по доставке материала, а мобилизовал представительницу «мелочи», пятилетнюю Марусю – существо необыкновенно радостное и краснощекое. Маруся с любопытством рассматривала каждую дощечку, придиралась к каждому подозрительному пятнышку и, надувая и без того полные щечки, откладывала дощечку в ту или иную сторону. Во время работы она нежно приговаривала:
– С гвоздиком… Без гвоздика… С гвоздиком… Три гвоздика… А эта… без гвоздика… А эта с гвоздиком…
Только изредка она с испугом всматривалась в какой-нибудь подозрительный обрывок проволоки, прилепившийся к дощечке, и озабоченно топала к Ваньке или к Витьке с трагическим вопросом:
– Это тоже гвоздик? Или это другое?.. Это ровалка? Какая ровалка? Это не нужно с гвоздиком?
Молодые Веткины поражали окружающих удивительным спокойствием своих характеров. В этом переполненном семействе почти не слышно было плача. Даже самые младшие Веткины, близнецы Катя и Петька, никогда не задавали таких оглушительных концертов, какие случались, например, в семействе Чуба. У Чуба дети были веселые, боевые, очень подвижные и предприимчивые. Они много играли, были организаторами всей детворы нашего двора, много проказничали и веселились, их голоса слышались то в том, то в другом конце. Очень часто эти голоса приобретали подчеркнуто минорный характер, а иногда приобретали форму рева, настойчивого, упорного, вредного, с причитаниями и обиды, с неожиданными повышениями до «крика под ножом убийцы». Чубы-родители деятельно боролись с подобными излишествами, сами кричали, ругались и даже проклинали свое потомство, а в случаях с наибольшей экспрессией размахивались затрещинами и подзатыльниками и другими видами непосредственного воздействия. Такое оформление часто сообщало семье Чубов характер классической трагедии, вроде «Ричарда 3», в которой, как известно, детей убивают пачками. На деле, конечно, ничего трагического не было.
Молодые чубенки, накричавшись до хрипа и получив все, что им полагалось по обычаям педагогики, вытирали слезы и немедленно забывали все обиды и неприятности, в том числе и собственные домогательства, послужившие ближайшим поводом к конфликту, и отправлялись с веселыми выражениями лиц продолжать свою счастливую детскую жизнь в другом конце двора. Старые Чубы тоже не предавались никакой грусти. Напротив, сознание исполненного родительского долго повышало их жизнедеятельность, необходимую для выполнения стоящих перед ними семейных задач.
Ничего подобного не было у Веткиных. Даже Катя и Петька в самых пессимистических случаях ограничивались коротким хныканьем, имеющим главным образом символическое значение. Более старшие элементы веткинского потомства даже и не хныкали никогда. Конфликты этой семьи не выносились на общественную арену, а может, конфликтов и вовсе не было.
Наше заводское общество обратило внимание на эту особенность Веткиных; все старались как-нибудь объяснить ее. Никто при этом не упоминал о педагогических талантах родителей.
Чуб говорил:
– Характеры такие. Это от природы. И тут ничего хорошего нет, если вообще посмотреть. Человек должен все уметь. Какой же это человек будет, если ему все равно, хоть блин, хоть г…о? Человек, если что – кричать должен, сердце у него должно быть. И плакать в детском положении следует по закону: живой человек, а не кукла. У своего батька я первый скандалист был, и попадало, правда, то аршином, а то и кулаком. А теперь живу без скандалов, хотя, если кто налезет, пожалуйста, я тоже покричать могу, а как же иначе?
Бухгалтер Пыжов был другого мнения:
– Не в том дело, товарищ Чуб, не в характере дело, а в экономической базе. Когда у тебя один или два, увидят что – дай! Дай этого! На! Дай того! Ну, надоест, нельзя! Начинается крик, конечно, потому что раньше давали, а теперь не дают. А у Веткина – тринадцать, крути не верти, а все равно постоянный недостаток и дефицит. Тут никому в голову не придет кричать: дай! Как это «дай»? Откуда дать? Я и то удивляюсь, как это Степан Денисович управляется без счетовода? Тут, что ни попадет в общий котел, подумай да подумай, по скольку граммов приходится на персону, да ведь не просто раздели, а по дифференциальному методу, старшему одно, а младшему другое. Вот почему и характеры спокойные: каждый сидит и ожидает своего пайка, криком все равно не поможешь.
– Ну, это вы по-ученому придумали, товарищ Пыжов, а только не так, возразил Чуб. – У меня тоже шестеро. По какому хочешь методу, все равно мало приходится на одного. А, однако, орет, понимаешь, хоть ты ему кол на голове теши: дай и все! И такой результат: кто больше кричит, так тому больше и дается. А не выкричит, так силой отнимет у другого. У меня Володька такой – напористый!
Веткин выслушал эти философские новеллы со сдержанной улыбкой превосходства и ответил так:
– Если человек напористый, это еще вопрос, нужно или не нужно. Один напористый нарвется на другого напористого и за ножи хватаются или просто в драку! Надо, чтобы компания была хорошая, тогда все и сделается, а то «напористый»! А что дети плачут и кричат, так это просто от нервов. Вы думаете, у вас только нервы? У них тоже. На вид он хороший мальчишка, и веселый, и все, а на самом деле у него нервы испорчены, как у барыни-сударыни. Он и кричит. Если ему нервы не портить с первого года, чего он будет кричать?
– У моих нервы? – поразился Чуб. – Ого!
– Чего там «ого»? – сказал Веткин и развел усы, прикрывая рукой улыбку. – У тебя у самого нервы бракованные.
Снабдить пищей свою семью Веткину было трудно. Правда, мы отвели для его нужд значительный участок огорода, и на нем скоро заработали Анна Сергеевна и Оксана. Помогли Веткину и еще кое-чем: лошадь, плуг, семена и особенно важная вещь – картофель. Но пока что огород требовал только труда и расходов.
Степан Денисович не жаловался, но и не скрывал своего положения:
– Я не падаю духом. Сейчас главное – хлеб. Для начала, если будет хлеб, хорошо. Но все-таки: самое минимальное – полпуда хлеба, это значит, по пятьсот граммов на едока, в сущности, даже маловато. Каждый день полпуда!
Мы все понимали, что от Веткиных требовалась змеиная мудрость. Сам Веткин эту мудрость реализовал на работе. Он был и в самом деле хороший кузнец: в этом деле ему здорово помогала учительская культура. Заработок его поэтому был гораздо выше среднего заработка нашего рабочего.
Но я был очень удивлен, когда на мое предложение о вечерней сверхурочной работе Веткин ответил:
– Если нужно для завода, я не откажусь – это другое дело. Ну, а если это вы как бы в поддержку мне, так такого не нужно делать, потому что с таким принципом можно сильно напутать.
Он смущенно улыбнулся и потом уже не мог спрятать улыбку, хотя и старался изо всех сил запихнуть ее за густую занавеску усов, – это значит, он чувствовал какую-то неловкость.
Человек должен работать семь часов, а если больше, значит, неправильная амортизация. Я этого не понимаю: народил детей и умри. Это вот, забыл уже, насекомое такое или бабочка, так она живет один день. Положила яички и до свидания: больше ей делать нечего. Может, для бабочки и правильно, потому что ей в самом деле нечего делать, а у человека дела много. Я вот хочу видеть, как Советская власть пойдет и как перегоним этих… Фордов разных и Эдисонов. И японцы, и Днепрострой, мало ли чего? Семь часов кузнечной работы – это для меня не легко.
– Но вы только что сказали, – отозвался я, – что если нужно для завода…
– Это другое дело. Для завода нужно – и все. А для детей моих не нужно. Надо, чтобы отец у них как человек был, а не то, как я наблюдал, не человек, а просто лошадь: взгляд тупой, спина забитая, нервы ни к черту, а души, как кот наплакал. К чему такой отец, спрашивается? Для хлеба только. Да лучше такому отцу сразу в могилу, а детей и государство прокормит = хлеба не пожалеет. Я таких отцов видел: тянет через силу, ничего не соображает – свалился, издох, дети – сироты; а если и не сироты, так идиоты, потому что в семье должна быть радость, а не то что одно горе. А еще и хвалятся люди: я, говорит, все отдал для детей! Ну, и дурак, ты отдал все, а дети получили шиш. У меня хоть и небогатая пища, зато в семье есть компания, я здоровый, мать веселая, душа есть у каждого.
Признаюсь, что в то время такие рассуждения Степана Денисовича не то что не понравились мне, а упали как-то не на благоприятную почву. Логически с ним трудно было не согласиться, но трудно было представить себе ту границу, которая могла бы точно отделить подобную философию от эгоизма или простой лени. Я привык считать, что чувство долга только тогда будет действенным и нравственно высоким, когда оно не находится в очень близком родстве с арифметикой или аптекой.
Мне захотелось ближе посмотреть, как вся эта теория выглядит в практической линии Степана Денисовича. Но зайти к Веткиным у меня все не выбиралось времени, тем более что положение их постепенно улучшилось. В другой половине хаты Веткина жили две девушки-обмоточицы. Они по собственному почину уступили свою комнату Веткиным, а сами перебрались к подруге в другую хату. Степан Денисович деятельно занялся реорганизацией своего обиталища.
Как-то я и инструментальщик Чуб уже в августе месяце пробирались в город. Шли по узкой кривой тропинке в молодых дубовых зарослях. Чуб по своему обыкновению говорил о людях:
– Веткин сына на экзамен отправил – Ваньку старшего. А будет жить у дяди в городе. И сейчас там. Дай мне такого дядю, так я тебе не только тринадцать – тридцать детей наготовлю. Людям везет по-разному: у одного голова, у другого – борода красивая, у третьего – дядя!
– Что там за дядя такой?
– Ого! Не дядя, а масло! Председатель ГРК, легко сказать! Четыре комнаты, рояль, диваны, ну, мануфактуры разной, продовольствия, как у царя!
– Крадет, что ли?
– Чего крадет? Покупает, хэ! В своих магазинах всегда можно купить. Если бы, допустим, у меня свои магазины были, разве я не покупал бы? Нэп называется! Бывает и НЭП, а бывает и ХЭП, ХАП! При «хапе» и для племянников хватит. А вы спросите Степана Денисовича, почему он к дяде пристроился? Ну, и отдал бы Ваньку в наш фабзавуч. Так нет, к дяде нужно, потому что там Нэп этот самый!
В этот момент из-за дубовых зарослей по той же кривой дорожке вышли Степан Денисович и Ванька. Ванька брел сзади, щелкал прутиком по встречным стволам молодых деревьев и имел то сложное выражение, которое бывает только у мальчиков, когда они из уважения и любви к старшим покоряются их решениям, но в глубине души крепко стоят на какой-то своей принципиальной позиции, и это ясно видно по еле заметной, но все же настойчивой и иронической улыбке и в легком налете такого же иронического лака на грустных глазах.
– Выдержал? – крикнул Чуб еще издали.
Степан Денисович даже не улыбнулся, сердито глянул назад на сына и, направляясь мимо нас, буркнул холодно:
– Выдержал.
Но потом вдруг остановился и сказал, глядя в землю:
– Вы слышали о дворянской гордости? Пожалуйста, вот вам дворянская гордость!
Несколько театральным жестом Веткин показал на Ваньку. Сей представитель дворянства в одной руке держал ботинки, а в другой прутик, которым царапал землю у своих босых ног, рассматривая исцарапанное место прежним сложным взглядом, состоящим из двух лучиков: один грустный и расстроенный, а другой лукавый и вредный. Последний лучик, может быть, как раз и отражал идею, безусловно, дворянскую.
Степан Денисович старался пронзить Ваньку сердитым взглядом, но не пронзил: Ванька оказался твердым, как самшит. Тогда Степан Денисович обратился к нам с жалобой на сына:
– Яблоки! Яблоки он признает, если натаскает из совхозного сада. А если они на столе у человека, так он их не признает!
Такое возмутительное отношение к яблокам, конечно, не могло быть изображено никакими словами. Степан Денисович снова воззрился на Ваньку.
Ванька совершил головой неразборчивое движение, состоящее из поматывания в нескольких направлениях, и сказал:
– Разве только яблоки? Не в яблоках дело, а вообще… я там жить не буду.
Степан Денисович снова обернулся к нам, чтобы подчеркнуть развратный характер Ванькиных слов, но Ванька продолжал:
– На что мне ихние яблоки? И конфеты? И этот… балык!
Ванька вдруг пыхнул смехом и отвернул покрасневшее лицо, прошептав несколько смущенно:
– Балык…
Воспоминание об этом деликатесе смешило Ваньку недолго, к тому же это был горький смех сарказма. Ванька повернул этот сарказм к нам его серьезной стороной и сказал с настоящим осуждающим выражением:
– У нас дома ничего такого нет, и я не хочу! Не хочу – и все!
Кажется, в этих словах заключалось окончательное утверждение Ваньки, потому что, сказав их, Ванька выпрямился, крепко хлопнул прутиком по ноге, как будто это был не прутик, а стек, и глянул на батька. В этот момент в выражении Ванькиной фигуры было действительно что-то аристократическое.
Степан Денисович под правым усом что-то такое сделал, как будто начал улыбаться, но бросил эту затею и сказал пренебрежительно:
– Гордец какой! Подумаешь!
Он круто повернулся и зашагал по направлению к заводу. Ванька быстро сверкнул взглядом по нашим лицам, как будто хотел поймать их на месте преступления, и спокойно тронулся за батьком.
Чуб задержал теплый взгляд на уходящем мальчике, кашлянул и полез в карман за махоркой. Он долго расправлял пальцами измятый листик папиросной бумаги, долго насыпал и распределял на нем табак и все посматривал задумчиво в сторону скрывшегося уже Ваньки. Только заклеив смоченную языком цыгарку и взяв ее в рот, он зашарил в глубоком кармане грязного пиджака и сказал хрипло:
– Да-да, мальчишка… А как вы скажете, правильно или неправильно?
– Я думаю, что правильно.
– Правильно?
Чуб стал искать спички в другом кармане, потом в штанах, потом где-то за подкладкой и улыбнулся:
– На свете все легко решается. Вот вы сразу сказали: правильно. А может, и неправильно. Спички вот, и то все бока расцарапаешь, пока найдешь, а тут тебе жизнь, жизненная правда! Как же так, правильно? Вам хорошо говорить, а у Веткина тринадцать. Имеет право этот босяк задаваться? Яблоки, балык, смотри ты! А если у батька и картошки не хватает?
– Постойте, Чуб, вы только сейчас осуждали Веткина…
– Осуждал, а как же! А что ж тут хорошего? Дядя тот сукин сын, а Веткин к нему мостится.
– Ну?
– Так это другое дело. Это к старику придирка, а мальчишке какое дело? Мальчишка должен понимать, что отцу трудно, отец и думает, как лучше. Нашел-таки спички, смотри, куда залезли! Теперь детвора стала такая – все сама, и делает сама, и понимает сама, а ты за нее отвечай!
Ванька настоял на своем и поступил в наш фабзавуч. Городской дядя, таким образом, был оставлен в потенциальном состоянии.
Описанный случай меня заинтересовал в нескольких разрезах. Хотелось увидеть поближе всю мотивационную натуру Ваньки, нужно было выяснить и другое, как такие натуры делаются? Для нашего брата, педагога, второй вопрос представляет настолько важное значение, что мне не стыдно было поучиться кое-чему у такой кустарной педагогической организации, как семья Веткиных. При этом мне не могло прийти в голову, что Ванькина натура дана от природы, что она не является результатом хорошей воспитательной работы.
Среди так называемой широкой публики у нас широко распространено знание того, что теория Ломброзо ошибочна, что хорошее воспитание из любого сырого материала может выковать интересный и здоровый характер.
Это правильное и симпатичное убеждение, но, к сожалению, у нас оно не всегда приводит к практическим результатам. Это происходит потому, что значительная часть наших педагогов исповедует пренебрежение к Ломброзо только в теоретических разговорах, в докладах и речах, на диспутах и конференциях. В этих случаях они решительно высказываются против Ломброзо, но на деле, в будничной практической сфере, эти противники Ломброзо не умеют точно и целесообразно работать над созданием характера и всегда имеют склонность в трудных случаях потихоньку смыться и оставить природное сырье в первоначальном виде.
Эта линия положила начало многим завирательным писаниям и теориям. Отсюда «стала есть» и педология, в порядке хитроумного непротивления, пошла и теория «свободного воспитания», а еще естественнее – пошли отсюда же обыкновенные житейские умывания рук, воздевание тех же конечностей, отмахивание теми же конечностями, сопровождаемые обычными словечками:
– Ужасный мальчик!
– Безнадежный тип!
– Мы бессильны!
– Неисправим!
– Мы на него махнули рукой!
– Нужен специальный режим!
Уничтожение педологии, всенародный провал «свободного воспитания» произошли на наших глазах. Но неудачникам-педагогам стало от этого еще труднее, ибо теперь ничем теоретическим нельзя прикрыть их практическую немощь, а если говорить без обиняков и реверансов – их непобедимую лень.
Ломброзо можно смешать с грязью только единственным способом – большой практической работой над воспитанием характера. А эта работа вовсе не такая легкая, она требует напряжения, терпения и настойчивости. Многие же наши деятели чистосердечно думают, что достаточно чуточку поплясать над поверженным Ломброзо и изречь несколько анафем и долг их выполнен.
Вся эта «практическая» печаль состоит, впрочем, не из одной лени. В большинстве случаев здесь присутствует настоящее, искреннее и тайное убеждение, что на самом деле если человек зародился бандитом, то бандитом и издохнет, что горбатого могила исправит, что яблочко от яблони недалеко падает.
Я исповедую бесконечную, бесшабашную и безоглядную уверенность в неограниченном могуществе воспитательной работы, в особенности в общественных условиях Советского Союза. Я не знаю ни одного случая, когда бы полноценный характер возник без здоровой воспитательной обстановки или, наоборот, когда характер исковерканный получился бы, несмотря на правильную воспитательную работу. И поэтому я не усомнился в том, что благородство Ванькиной натуры должно привести меня к естественному его источнику – глубокой и разумной семейной педагогике.
А с Ванькой старшим я поговорил при первом удобном случае, который произошел в том же лесу, только в самой его глубине, подальше от извилистых дорожек в город. В выходной день я просто бродил в этом месте, соблазненный возможностью побыть одному и подумать над разными жизненными вопросами. Ванька собирал грибы. Еще раньше Степан Денисович говорил мне:
– Грибы – это хорошо придумано. Когда у человека денег нету, можно пойти и насобирать грибов. Хорошая приправа и даром! Ягода – в том же духе. Еще крапива, молодая только.
Ванька ходил по лесу с большой кошелкой и собирал именно грибы маслята. Из кошелки они уже выглядывали влажной аппетитной верхушкой, и Ванька из подола рубахи соорудил нечто вроде мешка и складывал туда последние экземпляры. он поздоровался со мной и сказал:
– Батько грибы страшно любит. И жареные и соленые. Только здесь белых грибов нет, а он больше всего белые любит.
Я сел на пень и закурил. Ванька расположился против меня на травке и поставил кошелку к дереву. Я спросил у него прямо:
– Ваня, меня интересует один вопрос. Ты отказался жить у дяди из гордости… Отец твой правильно сказал, так же?
– Не из гордости, – ответил Ваня и ясно на меня глянул голубыми спокойными глазами. – Чего из гордости? Просто не хочу, на что мне этот дядя?
– Но ведь у дяди лучше? И семье твоей облегчение.
Я это сказал и сразу же почувствовал угрызения совести, даже виновато улыбнулся, но синева Ванькиных глаз была по-прежнему спокойна:
– Батьку это правда, что трудно, а только… чего ж нам расходиться? Тогда еще труднее будет.
Вероятно, мое лицо в этот момент приобрело какое-то особенно глупое выражение, потому что Ванька весело расхохотался, даже его босые ноги насмешливо подпрыгнули на травке:
– Вы думаете что? Вы думаете, батько для чего меня к дяде отправил? Думаете, чтобы нас меньше осталось? Н-нет! Батько у нас такой хитрый… прямо, как тот… как муха! Это он хотел, чтобы мне лучше было! Видите, какой он!
– И тебе было бы легче, и ему было бы легче, – настаивал я на своем.
– Н-нет, – продолжал Ваня по-прежнему весело. – Разве ему один человек – что? Ему ничего. А теперь я в ФЗУ двадцать восемь рублей заробляю, видите? Это он для меня хотел.
– А ты отказался от лучшего?
– Да чего там лучшего? – сказал Ваня уже серьезно. – Это разве хорошо, батька бросать? Хорошо, да? А там ничего лучшего, а все хуже. Только там едят, ну, и все. А у нас дома лучше. Как сядут, во! Весело! И батько у нас веселый, и мать! У нас, конечно, нет балыка. А вы думаете, балык вкусный?
– Вкусный.
– Ой, какой там вкусный! Гадость! А картошка с грибами, вы думаете, как? Целый чугун! А батько еще и приговаривает что-нибудь. И пацаны у нас хорошие, и девчата. Чего я там не видел?
Так я ничего и не выяснил в этом разговоре. Ваня не признавал никакой гордости, а уверял меня, что дома лучше. Когда мы прощались, он сказал мне ласково и в то же время как-то особенно задорно:
– А вы приходите сегодня к нам ужинать. Картошку с грибами. Вы думаете, не хватит? Ого! Вы приходите.
– А что же, и приду!
– Честное слово, приходите! В семь часов. Хорошо?
В семь часов я отправился к Веткиным. На веранде сидел у стола Степан Денисович и читал газету. У летней кухни, построенной в сторонке, хозяйничали Анна Семеновна и Оксана. Оксана глянула на меня, не отрывая рук от сковородки, и ласково улыбнулась, сказав что-то матери. Анна Семеновна оглянулась, подхватила фартук, завертела им вокруг пальцев и пошла мне навстречу:
– Вот как хорошо, что пришли! Ванька говорил, что придете. Степан, ну, принимай же гостя, довольно тебе политикой заниматься.
Степан Денисович снял очки и положил их на газету. Потом ухватил бороду и засосал губами, но это была озабоченность гостеприимная и чуточку ироническая. В дверях хаты стоял Ванька старший, ухватился обеими руками за притолоку и улыбнулся. Под одной его рукой прошмыгнул в хату Васька, а из-под другой руки, опершись на колени ручонками, выглядывала румяная Маруся и щурила на меня глазенки.
Через пять минут мы расположились за большим столом на лавках. На столе не было скатерти, но стол блестел чистотой натурального дерева. Залезая за стол, я не мог удержаться и любовно провел рукой по его приятной белизне. Степан Денисович заметил это движение и сказал?
– Вам нравится? Я тоже люблю некрашеный стол. Это настоящее дело, природное, тут никого нельзя надуть. А скатерть, бывает и так, нарочно покупают серенькую, чтобы не видно было, если припачкается. А здесь чистота без всяких разговоров.
Дома Степан Денисович был новый, более уверенный и веселый, лицо у него вольнее играло мускулами, и он почти не сосал свой таинственный леденец. Возле печи, занавешенной белой занавеской, стояли Ванька старший, Витька, Семен и Ванюшка – вся первая бригада – и, улыбаясь, слушали отца.
В комнату шумно влетела семилетняя Люба – самая смуглая из Веткиных, у нее лицо почти оливкового оттенка. В отличие от прочих ее шея украшена ожерельем из красных ягод растения, называемого в наших местах глодом. Люба вскрикнула:
– Ой, опоздала, опоздала! Ванюшка, давай!
Кареглазый, суровый Ванюшка присел у нижней полки шкафчика и размеренно начал подавать Любе сначала корзину с нарезанным хлебом, потом глубокие тарелки, потом несколько ножей, две солонки и алюминиевые чайные ложки. Сестра отвечала неприступному спокойствию Ванюшки самым горячим движением вокруг стола, отчего по комнате прошел какой-то особенно милый и теплый ветерок.
Пока Люба и Ванюшка накрывали на стол, Ванька старший и Витька вытащили из-под спального помоста два маленьких «козлика» и уложили на них широкую доску, такую же чистую, как и стол. Рядом с помостом, таким образом, протянулся длинный походный столик, и на нем немедленно стали тарелки, принесенные бурным вихрем оливковой Любы. Не успел я оглянуться, как за этим столиком собралась компания: Маруся, Вера, Гриша, Катя и Петька – вся семейная «мелочь» в полном составе. Каждый из них приволок с собой и мебель. Маруся выкатила из-под помоста круглый чурбачок. Близнецы Катя и Петька, кажется, пришли из другой комнаты. Они вошли серьезные и даже озабоченные, и оба прижимали к седалищным местам крошечные сосновые табуреточки. Эти явились в совершенно оборудованном состоянии. Так, не отрывая от собственных тел табуреточек, они и протискались за импровизированный стол и, как только уселись, затихли в серьезном ожидании.
Четырехлетняя Вера, напротив, отличалась веселым характером. Она была очень похожа на Марусю, такая же краснощекая и живая, только у Маруси уже отросли косы, а Вера стрижена под машинку, она, как только уселась за стол, ухватила алюминиевую ложку и о чем-то загримасничала, ни к кому, впрочем, не обращаясь, просто в яркое, летнее, солнечное окно, а ложкой застучала по столу. Ванюшка от шкафчика оглянулся на нее и сердито нахмурил брови, намекая на ложку. Вера загримасничала на Ванюшку, лукаво заиграла щечками и высоко замахнулась ложкой, угрожая с треском опустить ее на тарелку. У нее готов был сорваться закатистый громкий смех, но Ванькин старший поймал ее ручонку вместе с ложкой. Вера подняла на него прекрасные большие глаза и улыбнулась нежно и трогательно. Ванька, не выпуская ее руки, что-то зашептал ей, наклонившись, и Вера слушала его внимательно, скосив глазки, и шептала тем срывающимся на звон шепотом, который бывает только у четырехлетних:
– Ага… ага… не буду… не буду…
Я залюбовался этой игрой и пропустил самый торжественный момент: и на нашем столе и на примостке «мелочи» появились чугунки с картофелем у нас побольше, у «мелочи» поменьше, а Анна Семеновна уже была не в темном кухонном фартуке, а в свежем, ярком, розовом. Оксана и Семен принесли две глубокие миски с жареными грибами и поставили их на стол. Семья спокойно рассаживалась. К моему удивлению, Ванька старший уселся не за нашим столом, а за примостком, с узкого конца, рядом с Марусей. Он весело нахмурил лицо и приподнял крышку над чугунком. Из чугунка повалил густой, ароматный пар. Маруся надула щечки, заглянула в чугунок, радостно обожглась горячим его дыханием и неожиданно громко запела и захлопала в ладошки, оглядывая всю свою компанию:
– Картошка в одежке! Картошка в одежке!
Наш стол сочувственно оглянулся на малышей, но они на нас не обратили внимания. Вера тоже захлопала и тоже запела, хотя она картошки еще и не видала. Катя и Петька по-прежнему сидели серьезные и недоступные никаким соблазнам мира, на чугунок даже не посмотрели.
Степан Денисович сказал:
– У Веры будет контральто. Слышите, она вторит? Только чуточку диезит, чуточку диезит.
Ванька старший уже накладывал картофель в тарелку Веры и сказал ей с шутливой угрозой:
– Верка, ты чего диезишь?
Вера прекратила пение и потерялась между картошкой на тарелке и вопросом брата:
– А?
– Диезишь чего?
Вера переспросила:
– Едишь? – но в этот момент картошка уже производила на нее более сильное впечатление, и она забыла о брате.
Анна Семеновна положила на тарелку мне, мужу и себе и передала бразды правления Оксане. Все занялись раздеванием картошки. Но Ванька старший вдруг вскочил из-за примостка и вскрикнул панически:
– Селедку же забыли!
Все громко засмеялись. Только Степан Денисович укорительно глянул в строну Ваньки:
– Ах, чудак! Так и ужин мог без селедки пройти.
Ванька выбежал из хаты и возвратился, запыхавшись, держа в обеих руках глубокие тарелки, наполненные нарезанной селедкой, перемешанной с луком.
– Селедка – это его инициатива, – сказал Степан Денисович, – ах, ты чудак, чуть не забыл!
Я тоже улыбнулся забывчивости Ваньки. И вообще мне хотелось улыбаться в этой приятной компании. Мне и раньше случалось бывать в гостях, и не помню случая, чтобы меня принимали вот такой единодушной семьей. Обыкновенно детей удаляли в какие-то семейные закоулки, и пиршество происходило только между взрослыми. Занимали меня и многие другие детали ужина. Мне очень понравилось, например, что ребята умели в каждый момент объединить и интерес ко мне как к гостю, и интерес к еде, и память о каких-то своих обязанностях, и в то же время не забывали и о собственных мелких делишках. Они радостно блестели глазами и деятельно ориентировались в происходящем за столом, но в интервалах умели вспомнить о таинственных для меня «потусторонних» темах, потому что я ловил ухом такие отрывки?
– Где? На речке?
Или:
– Не «Динамо», а «Металлист»…
Или:
– Володька брешет, он не видел…
Володька упоминался, конечно, чубовский. Существовали какие-то соседние области, на территории которых этот Володька «брехал».
Все эти обстоятельства и занимали меня, и радовали, но одновременно с этими переживаниями я почувствовал самый неприкрашенный, нахальный аппетит: страшно захотелось вдруг картошки с грибами. А здесь еще была и селедка. Она не была уложена в парадной шеренге на узенькой специальной тарелочке, и кружочки лука не обрамляли ее нежным почетным эскортом, вообще в ней не было ничего манерного. Здесь она красовалась в буйном изобилии до самых краев глубокой тарелки с красным ободком. И белые сегменты лука были перемешаны с ней в дружном единении, облитом подсолнечным маслом.
За ужином шел разговор о новой и старой жизни:
– Мы с жинкой и раньше ничего не боялись, – говорил Степан Денисович, – а на самом деле много было таких предметов, что нужно было бояться: во-первых, нужда, во-вторых, урядник, в-третьих, скучная была жизнь. Скучная жизнь для меня самое противное.
– Вы теперь больше веселитесь? – спросил я.
– Смотря как веселиться, – улыбнулся Степан Денисович, заглядывая в чугунок с картошкой. – Вот Оксана поступила на рабфак. Как ни считай, а через восемь лет будет, это легко сказать, инженер-строитель! Моему батьку за шестьдесят лет жизни приснилось, если так посчитать, до двадцати тысячи снов. Ну, и что ему там снилось, всякая ерунда и фантазия. А я гарантирую, не могло ему такое присниться, чтобы его дочка – инженер-строитель! Не могло, даже, допустим, в пьяном виде.
– А тебе снилось? – спросила, стрельнув глазами, Анна Семеновна.
– А что же ты думаешь? Даже вот вчера приснилось, будто Оксана приехала и дает мне подарок, душу, я во сне и не разобрал, какой это мех. Я и говорю ей: для чего мне такая шуба, мне в кузнице в такой шубе неудобно. А она отвечает: это не для кузницы, а поедем на стройку, я, говорит, радиостанцию на Северной Земле строю. И сама она будто в такой громадной шубе, как боярин какой!
Оксана рядом со мной нахмурила умные аккуратные бровки и покраснела не столько от сообщения отца, сколько от всеобщего внимания – всем приятно было посмотреть на будущего строителя радиостанции на Северной Земле. Васька сказал Оксане:
– Оксана! И я с батьком к тебе поеду. Ты мне валенки привези.
За столом засмеялись, и посыпались такие же деловые предложения. Ванька старший спросил, не скрывая улыбки:
– А я тебе снился, батько? Это очень для меня важно!
– И ты снился! – Степан Денисович с шутливой уверенностью мотнул бородой над тарелкой. – Как же, снился, да только нехороший сон. Пошел будто ты в гости к дяде, а тут бегут ко мне люди и кричат: скорее, скорее, у Ваньки вашего живот заболел, яблоко у дяди скушал! Яблоком отравился!
Все закатились смехом, а Витька даже закричал через весь стол:
– И балыком! И балыком каким-то ихним!
Теперь все смотрели счастливыми веселыми глазами на Ваньку, а он стоял у своего примостка и, не смущаясь, тоже смеялся, глядя на отца. И спросил громко-весело:
– Ну и что же? Умер… от отравления?
– Нет, – ответил Веткин. – Не умер. Сбежались люди, карета скорой помощи приехала. Отходили!
Когда картошка со всем штабом была съедена, сам Степан Денисович внес большущий начищенный самовар, и мы приступили к чаепитию. Оно было оборудовано просто и оригинально. На больших блюдах из тонкой лозы принесены были два коржа, диаметром каждый не меньше полуметра. Я и раньше встречал такие коржи, и всегда они потрясали меня своим великолепием. Очень возможно, что они задевали нежные национальные струны моей украинской души. Это были знаменитые «коржи з салом», о которых сказано в народной мудрости: «Навчить бiда з салом коржи iсти».
Сало вкрапляется в тело коржа редкими кубиками, и вокруг них образуется самое приятное, влажное и солоноватое гнездышко, наткнуться на которое и раскусить составляет истинную сущность гастрономического наслаждения. Верхняя поверхность коржа представляет необозримую равнину, кое-где белого, кое-где розового цвета, а на равнине там и сям разбросаны нежные холмики, сделанные из сухой тонкой корочки. Корж «з салом» нельзя почему-то резать ножом, а нужно разламывать, и его горячие слоистые изломы составляют тоже одну из неповторимых его особенностей.
Семья Веткиных встретила коржи возгласами восхищения. За столом «мелочи» устроена была настоящая овация, даже близнецы Катя и Петька оставили свое стоическое равнодушие и разразились звонкими капельками неуверенного, неопытного смеха.
За нашим столом Семен и Витька, очевидно, не предупрежденные о появлении коржа, удивленно на него воззрились и, как будто сговорившись, закричали вместе:
– У-ю-юй! Ко-орж!
Сам Степан Денисович приветствовал корж сиянием рыжего лица и потирал руки:
– Это и я скажу: достижение! Культура здесь, будем прямо говорить, кулацкая, но съесть его не только можно, но и полезно.
С этого ужина началось мое близкое знакомство с семьей Веткиных. И до самых последних дней я оставался другом этой семьи, хотя, признаюсь, в моей дружбе было немало и утилитарных моментов: многому можно научиться у Веткиных, а самое главное, над многим задуматься.
Семейная педагогика Степана Денисовича, может быть, во многих местах не отличается техническим совершенством но она трогает самые чувствительные струны советской педагогической мысли: в ней хорошего наполнения коллективный тон% много великолепного творческого оптимизма и есть то чуткое прислушивание к деталям и пустякам, без которого настоящая воспитательная работа совершенно невозможна. Такое прислушивание – дело очень трудное, оно требует не только внимания, но постоянной осторожно-терпеливой мысли. Пустяки звучат неуловимо, пустяков этих много, и их звучания перепутываются в сложнейший узел мелких шорохов, шелестов, шумов, еле слышных писков и звонов. Во всей этой дребедени нужно не только разобраться, но и проектировать из нее важные будущие события, выходящие далеко за пределы семьи.
Да, самодельными способами сбивал Степан Денисович свою семью в коллектив, но сбивал упорно и терпеливо. У него, конечно, были и недостатки, и ошибки. Его детвора, может быть, слишком была упорядочена, спокойна, даже «мелочь» отдавала какой-то солидностью. В нашем детском дворовом обществе дети Веткина выступали всегда как представители мира, они были веселы, оживленны, активны и изобретательны, но решительно избегали ссор и конфликтов.
Один раз на волейбольной площадке Володька Чуб, скуластый огневой пацан лет четырнадцати, отказался смениться с места подавальщика. Его партия не протестовала, так как Володька действительно хорошо подавал. У противной партии капитаном ходил Семен Веткин.
Игра была домашняя, без судьи. Семен задержал мяч в руках и сказал:
– Это неправильно.
Володька закричал:
– Не ваше дело, поставьте и себе постоянного!
Всякий другой мальчик непременно в таком случае устроил бы скандал или бросил игру, ибо никакая Фемида не умеет так точно разобраться в вопросах справедливости, как пацаны. Но Семен, улыбаясь, пустил мяч в игру:
– Пускай! Это они от слабости! Надо же им как-нибудь выиграть.
Володькина партия все-таки проиграла. Тогда раздраженный, горячий Володька приступил к Семену с требованием сатисфакции:
– Бери свои слова обратно! Какая у нас слабость!
Володька держал руки в карманах, выдвинул вперед одно плечо – верный признак агрессии. И Семен, так же, спокойно улыбаясь, дал Володькиной полное удовлетворение:
– Беру свои слова обратно! У вас очень сильная команда. Прямо такая!
Для иллюстрации Семен даже руку поднял к небесам. Володька, гордый моральной победой, сказал:
– То-то ж! Давай еще одну сыграем! Вот посмотришь!
И Семен согласился и на этот раз проиграл, и все-таки ушел с площадки с такой же спокойной улыбкой. Только на прощание сказал Володьке:
– Только я тебе не советую. У нас товарищеский матч, это другое дело. А в серьезной игре судья все равно тебя с поля выведет!
Но Володька сейчас и торжествовал и принял Семеново заявление без запарки:
– Ну, и пусть, а все-таки мы выиграли!
В этом случае как и во многих других случаях, выступала наружу довольно запутанная борьба педагогических принципов. Отчасти мне даже нравился горячий, «несправедливый» напор Володьки и его страсть к победе, а приправленная юмором уступчивость Семена могла казаться сомнительной. Об этом я прямо сказал Степану Денисовичу и был очень удивлен, услышав от него определенный, точный ответ, доказывающий, что и эта проблема не только занимала его, но и была разрешена до конца.
– Я считаю, что это правильно, – сказал Степан Денисович. – Семен у меня умный, очень правильно поступил.
– Да как же правильно? Володька нахальничал и добился своего. В борьбе так нельзя!
– Ничего не не добился. Лишний мяч чепуха. И само собой, у Володьки слабость, а у Семена сила. И большая сила, вы не думайте. Смотря в чем борьба. Тут не одна борьба, а две борьбы. Одна за мяч, а другая поважнее за людское согласие. Вот вы сами рассказали: не подрались, не поссорились, даже лишнюю игру сыграли. Это очень хорошо.
– А я сомневаюсь, Степан Денисович, все-таки уступчивость…
– Смотря когда, – задумчиво сказал Веткин, – я считаю, теперь нужно отвыкать от разной грызни. Раньше люди, действительно, как звери, жили. Вцепился другому в горло – живешь, выпустил – в тебя вцепятся. Для нас это не годится. Должны быть товарищи. Если товарищ нахальничает, сказать нужно, организация есть для этого. Судьи не было, плохая организация, и, что же? Из-за этого нечего за горло хватать.
– А если Семену придется с настоящим врагом встретиться?
– Это другое дело. То так и будет: настоящий враг. Будьте уверены, Семен, если придется, а я так полагаю, что должно прийтись, будьте спокойны: и в горло вцепится, и тот… не выпустит!
Я подумал над словами Степана Денисовича, вспомнил лицо Семена, и для меня стало ясно, что в одном Степан Денисович прав: настоящего врага Семен, действительно, не выпустит.
С тех пор прошло много лет. Коллектив Веткиных на моих глазах жил, развивался и богател. Никогда не исчезала у них крепкая связь друг с другом, и никогда не было в этой семье ни растерянных выражений, ни выражений нужды, хотя нужда всегда стучалась в их ворота. Но и нужда постепенно уменьшалась. Вырастали дети и начинали помогать отцу. Сначала они приносили в семейный котел свои рабфаковские, фабзайцевские стипендии, а потом стали приносить и заработки. Оксана вышла действительно в инженеры-строители, вышли хорошими советскими людьми и другие Веткины.
Веткиных у нас на заводе любили и гордились ими. Степан Денисович имел глубоко общественную натуру, умел отозваться на каждое дело и на каждый вопрос и везде вносил свою мысль и спокойную улыбающуюся веру. Наша партийная организация с настоящим торжеством приняла его в свои ряды в 1930 г.
Педагогический стиль семьи Веткиных до последних дней оставался предметом моего внимания и изучения, но учились у них и другие. В значительной мере под влиянием Веткиных совершенствовалась и семья Чуба. И сама по себе это была неплохая семья. У Чубов было больше беспорядка, случайности, самотека, многое не доводилось до конца. Но у них было много хорошей советской страсти и какого-то художественного творчества. Сам Чуб в своей семье меньше всего выступал как отец-самодержец. Это был хороший и горячий гражданский характер, поэтому в его семье на каждом шагу возникал жизнерадостный и боевой коллектив.
Чубы несколько завидовали количественному великолепию Веткиных. Когда у Чубов родился седьмой ребенок – сын, сам Чуб бурлил и радовался и устроил пир на весь мир, во время которого в присутствии гостей и потомства говорил такие речи:
– Седьмой сын – это особая статья. Я тоже был седьмым у батька. А бабы мне говорили: седьмой сын – счастливый сын. Если седьмой сын возьмет яйцо-сносок, бывают такие – сноски, да… возьмет и положит под мышку да проносит сорок дней и сорок ночей, обязательно чертик вылупится, маленький такой – для собственного хозяйства. Что ему ни скажи – сделает. Сколько я этих яиц перепортил, батько даже бил меня за это, а не высидел чертика: до вечера проносишь, а вечером или выпустишь, или раздавишь. Это дело трудное – своего черта высидеть.
Бухгалтер Пыжов сказал:
– Сколько тысяч лет с этими чертями возились, говорят, к каждому человеку был приставлен, а если так посмотреть, на жизненном балансе слабо отражалось, и производительность у этих чертей была, собственно говоря, заниженная.
Степан Денисович разгладил усы и улыбнулся:
– У тебя, Чуб, и теперь еще чертики водятся. Если поискать где-нибудь под кроватью, – наверное, сидит.
– Не, – засмеялся Чуб, – нету. При Советской власти без надобности. Ну! Выпьем! Догнать и перегнать Веткина!
Мы весело чокнулись, потому что это был не такой плохой тост.
Глава четвертая
Деньги! Изо всех изобретений человечества это изобретение ближе всех стояло к дьяволу. Ни в чем другом не было такого простора для приложения подлости и обмана, и поэтому ни в какой другой области не было такой благодатной почвы для произрастания ханжества.
Казалось бы, в советской действительности для ханжества нет места. Однако его бактерии то там, то сям попадаются, мы не имеем права забывать об этом, как нельзя забывать о возбудителях гриппа, малярии, тифа и других подобных гадостях.
Какова формула ханжества? Эгоизм, цинизм, плюс водянистая среда идеалистической глупости, плюс нищенская эстетика показного смирения. Ни один из этих элементов не может содержаться в советской жизни. Другое дело там, где и бог и черт вмешиваются в человеческую жизнь и претендуют на руководство. У ханжи в одном кармане деньги, в другом – молитвенник, ханжа служит и богу и черту, обманывает и того, и другого.
В старом мире каждый накопитель не мог не быть ханжой в большей или меньшей степени. Для этого вовсе не нужно было на каждом шагу играть Тартюфа, в последнем счете и для ханжества были найдены приличные формы, очищенные от примитивной позы и комической простоты. Самые матерые эксплуататоры научились пожимать рабочие руки, умели поговорить с пролетарием о разных делах, похлопать по плечу и пошутить, а навыки благотворительности и меценатства сопровождать солидно-уверенной скромностью и еле заметным покраснением ланит. Получалась в высшей степени милая и привлекательная картина. Не только не спешили славословить господа бога, но даже делали вид, что о господе боге и речи быть не может, вообще не нужно ни благодарности на земле, ни благодарности на небесах. Это была замечательно мудрая политика. Какой-нибудь Тартюф из кожи лез вон, чтобы понравиться господу, его подхалимство было активное, напористое, неудержимое, но именно поэтому от такого Тартюфа за десять километров несло запахом черта, который, между прочим даже и не прятался, а тут же рядом помещался в старом кресле, курил махорку и, скучая, ожидал своего выхода.
Это была грубейшая форма ханжества, нечто напоминающее по технике паровоз Стефансона. У современных западных ханжей все обставлено с завидной обстоятельностью: никакого господа, никаких святых, но зато и чертом и вообще ничем не пахнет, кроме духов. Любителям этой темы рекомендуем познакомиться с классическим образчиком ханжества – с сочинением Андре Жида: «Путешествие в Конго».
Но вся эта чистота – только эстетическая техника, не больше. Как только редеет толпа, как только папаша с мамашей останутся в интимном семейном кругу, как только встанут перед ними вопросы воспитания детей, так немедленно появляются на сцены и оба приятеля: и аккуратный, чисто выбритый, благостный и сияющий бог, и неряшливый, с гнилыми зубами, нахально ухмыляющийся дьявол. Первый приносит «идеалы», у второго в кармане звенят деньги – вещь не менее приятная, чем «идеалы».
Здесь, в семье, где не нужно было никакой «общественной» тактики, где властвовали всемогущие зоологические инстинкты и беспокойство, где на глазах копошились живые, неоспоримые потомки, здесь именно несправедливый, кровожадный и бессовестный строй, отвратительное лицо которого нельзя было прикрыть никаким гримом, выступал почти с хулиганской бесцеремонностью. И его моральные противоречия, его практический деловой цинизм казались оскорбительными для детской ясной сущности.
И поэтому именно здесь, в буржуазной семье, настойчиво старались загнать дьявола в какой-нибудь дальний угол, вместе с его деньгами и другими бесовскими выдумками. Только поэтому в буржуазном обществе старались в тайне хранить финансовые источники семейного богатства, в этом обществе родились потуги отделить детство от денег, именно здесь делались глупые и безнадежные попытки воспитания «высоконравственной личности» эксплуататора. В этих попытках проекты идеалистического альтруизма, какой-то мифической «доброты» и нестяжания были, в сущности, школой того же утонченного ханжества.
Николай Николаевич Бабич – человек как будто веселый. Он очень часто прибавляет к деловой речи странные и ненужные словечки, которые должны показать его оживление и бодрый характер: «дери его за ногу» или «мать пресвятая благородица». Он любит по случаю вспомнить какой-нибудь анекдот, рассказывать его очень громки и надоедливо. Лицо у него круглое, но в этой округленности нет добродушия, нет мягкости очертаний, его линии мало эластичны и застыли в постоянном мимическом каркасе. Лоб большой, выпуклый, расчерченный правильной штриховкой слишком одинаковых параллельных складок, которые если и приходят в движение, то все вместе, как по команде.
В нашем учреждении Николай Николаевич работал в качестве начальника канцелярии.
Мы с Николаем Николаевичем жили в одном доме, выстроенном на краю города в те времена, когда у нас процветала мода на коттеджи. В нашем коттедже – четыре квартиры, все они принадлежат нашему учреждению. В остальных квартирах жили Никита Константинович Лысенко – главный инженер и Иван Прокофьевич Пыжов – главный бухгалтер: оба старые мои сослуживцы, сохранившиеся в моей судьбе еще с тех времен, когда мы познакомились с Веткиным.
В стенах этого коттеджа протекали наши семейные дела, которые всем нам были взаимно известны. Здесь я окончательно уяснил для себя денежную проблему в семейном коллективе. В области этой проблемы особенно различались мои соседи.
Николай Николаевич Бабич с первых дней нашего знакомства поразил меня добротной хмуростью своей семейной обстановки. В его квартире все опиралось на толстые, малоподвижные ноги; и стол, и стулья, и даже кровати – все было покрыто налетом серьезности и неприветливости. И даже в те моменты, когда хозяин расцветал улыбкой, стены и вещи его квартиры, казалось, еще больше нахмуривали брови и относились с осуждением к самому хозяину. Потому улыбки Николая Николаевича никогда не вызывали оживления у собеседника, да и хозяин об этом не беспокоился.
Как только приходилось ему обратиться к сыну или к дочери, его улыбка исчезала удивительно бесследно, как будто она никогда не существовала, а вместо нее появлялось выражение особого сорта усталой, привычной добродетели.
Дети его были почти погодки, было им от тринадцати до пятнадцати лет. В их лицах начинала показываться такая же круглая и такая же неподвижная твердость, как и у отца.
Мне не так часто приходилось заглядывать к Бабичу, но почти всегда я бывал свидетелем такой беседы:
– Папа, дайте двадцать копеек.
– Зачем тебе?
– Тетрадку нужно купить.
– Какую тетрадку?
– По арифметике.
– Разве уже исписалась?
– Там… на один урок осталось…
– Я завтра куплю тебе две тетради.
Или такой беседы:
– Папа, мы пойдем в кино с Надей.
– Ну, идите.
– Так деньги!
– Почем билеты?
– По восемьдесят пять копеек.
– Кажется, по восемьдесят.
– Нет, по восемьдесят пять.
Николай Николаевич подходит к шкафчику, достает из кармана ключи, отпирает ящик замка, что-то перебирает и перекладывает, запирает ящик и кладет на стол ровно один рубль семьдесят копеек.
Сын пересчитывает деньги, зажимает их в кулаке, говорит «спасибо» и уходит. Вся эта операция продолжается минуты три, и за это время лицо мальчика успевает постепенно налиться кровью, которая к концу операции захватывает даже кончики ушей. Я заметил, что количество крови находится в обратной пропорции к величине испрашиваемой суммы и достигает максимума, когда сын просит:
– Папа, дайте десять копеек.
– На трамвай?
– На трамвай.
Происходит то же священнодействие у ящика, и на стол выкладывается два пятака. Сын, краснея, зажимает их в кулаке, говорит «спасибо» и уходит.
Однажды сын попросил не десять копеек, а двадцать и объяснил, что вторые десять копеек нужны на трамвай для Нади.
Николай Николаевич двинулся было к шкафчику и опустил руку в карман за ключами, но вдруг остановился и обратился к сыну:
– Нехорошо, Толя, что ты за сестру просишь. Имеет же она язык?
У Толи прилив крови достиг предела раньше конца операции.
– Она уроки учит.
– Нет, Толя, это нехорошо. Нужны ей деньги, можно сказать. А то выходит, ты какой-то кассир. К чему это? Может, тебе кошелек купить, будешь деньги держать? Это никуда не годится. Другое дело: будешь зарабатывать. Вот тебе десять копеек, а Надя и сама может сказать.
Через пять минут Надя стала на пороге комнаты, и уши у нее уже пламенели до отказа. Она не сразу выговорила ходатайство, а сначала соорудила довольно неудачную улыбку. Николай Николаевич с укором посмотрел на нее, и улыбка моментально трансформировалась в дополнительную порцию смущения: у Нади даже и глаза покраснели.
– Папа, дайте на трамвай.
Николай Николаевич не задал никаких вопросов. Я ожидал, что он вынет из кармана заранее заготовленные десять копеек и отдаст Наде. Нет, он снова направился к шкафчику, снова достал из кармана ключи и так далее. Надя взяла на столе десять копеек, прошептала «спасибо» и вышла.
Николай Николаевич проводил ее скучным добродетельным взглядом, подождал, пока закроется дверь, и просиял:
– Толька уже разбаловался где-то, едят его мухи! Еще бы, товарищи все! Да и соседи. У Лысенко, знаете, какие порядки? Мать честная, пресвятая богородица! У них дети до того развратились, спасите мою душу! А у Пыжова так просто руками разведешь – все мудрит Иван Прокофьевич, дуй его в хвост и в гриву! Понимаете, детей невозможно воспитывать – примерчики, примерчики, прямо хоть караул кричи! Но дочка у меня скромница, видели? Куда тебе! Калина-малина, красная смородина! Эта нет, это нетронутая душа! Конечно, вырастет, ничего не поделаешь, но чистота душевная должна с детства закладываться. А то безобразие кругом: на улице, везде ходят эти мальчишки, деньгами в карманах звенят. Родители все, души из них вон!
Главный инженер Никита Константинович Лысенко имел добродушное лицо. Он был высок и суховат, но на лице его была организована диктатура добродушия, которое настолько привыкло жить на этом лице, что даже в моменты катастрофических прорывов на нашем заводе не покидало насиженного места и только наблюдало за тем, как все остальные силы души тушили опасный пожар.
У Никиты Константиновича порядки диаметрально противоположные порядкам Бабича. Сначала я думал, что они были заведены персонально самим добродушием Никиты Константиновича, без участия его воли и без потуг на теоретическое творчество, но потом увидел свою ошибку. Правда, добродушие тоже принимало какое-то участие, не столько, впрочем, активное, сколько пассивное, – в виде некоторого молчаливого одобрения, а может быть, и умиления.
Но главным педагогическим творцом в семье Лысенко была мать, Евдокия Ивановна, женщина начитанная и энергичная. Евдокию Ивановну очень редко можно было увидеть без книжки в руках, вся ее жизнь была принесена в жертву чтению, но это вовсе не была пустая и бесплодная страсть. К сожалению, она читала все какие-то старые книги с пожелтевшей бумагой, в шершавых переплетах; любимым ее автором был Шеллер-Михайлов. Если бы она читала новые книги, из нее, может быть, и вышла бы хорошая советская женщина. А теперь это была просто мыслящая дама, довольно неряшливая, с целым ассортиментом идеалов, материалом для которых послужили исключительно различные виды «добра».
Нужно признать, что советский гражданин несколько отвык от этой штуки, а наша молодежь, наверное, и вовсе о нем не слышала.
В дни нашей молодости нас призывали к добру батюшки, о добре писали философы. Владимир Соловьев посвятил добру толстую книгу. Несмотря на такое внимание к этой теме, добро не успело сделаться привычным для людей, обыденным предметом и, собственно говоря, было только помехой и хорошей работе, и хорошему настроению. Там, где добро осеняло мир своими мягкими крыльями, потухали улыбки, умирала энергия, останавливалась борьба, и у всех начинало сосать под ложечкой, а лица принимали скучно-кислое выражение. В мире наступал беспорядок.
Такой же беспорядок был и в семье Лысенко. Евдокия Ивановна не замечала его, ибо по странному недоразумению, ни порядок, ни беспорядок не значились в номенклатуре добра, ни в номенклатуре зла.
Евдокия Ивановна строго следовала официальному списку добродетелей и интересовалась другими вопросами:
– Митя, лгать нехорошо! Ты должен всегда говорить правду. Человек, который лжет, не имеет в своей душе ничего святого. Правда дороже всего на свете, а ты рассказал Пыжовым, что у нас серебряный чайник, когда он не серебряный, а никелированный.
Веснушчатый и безбровый, с большими розовыми ушами, Митя дует на чай в блюдечке и не спешит реагировать на поучение матери. Только опорожнив блюдечко, он говорит:
– Ты всегда прибавляешь, мама. В принципе я не говорил, что он серебряный, а вовсе что он серебряного цвета. А Павлушка Пыжов говорит, что не бывает серебряного цвета. А я сказал: а какой бывает? А он говорит: вовсе никелированный цвет. Он ничего не понимает: никелированный цвет! Это чайник никелированный, а цвет серебряный вовсе.
Мать, скучая, слушает Митю. В игре серебряных и никелированных цветов она не находит никаких признаков моральной проблемы. Митя вообще странный: где у него начало добра, где начало зла, невозможно разобрать. Еще вчера вечером она говорила мужу:
– Теперь дети растут какие-то аморальные!
Сейчас она присматривается к детям. Старший, Константин, ученик десятого класса, имеет очень приличный вид. Он в сером коротком пиджачке и галстуке, аккуратен, молчалив и солиден. В семейных разговорах Константин никогда не принимает участия, у него имеются свои дела, свои взгляды, но о них он не находит нужным сообщать другим.
Мите двенадцать лет. Из всех членов семьи Лысенко он кажется наиболее беспринципным, может быть, потому, что очень болтлив и в болтовне высказывает в самом деле аморальную свободу. Недавно Евдокия Ивановна хотела побудить сына на доброе дело: навестить больного дядю, ее брата. Но Митя сказал, улыбаясь:
– Мама, ты посуди, какой толк от этого? Дяде пятьдесят лет, и потом у него рак. С такой болезнью и доктор ничего не сделает, а я не доктор. Он все равно умрет, и не нужно вмешиваться.
Лена еще маленькая, только через год ей идти в школу. Она похожа на отца в обилии ленивого равнодушия, щедро написанного на ее физиономии. Именно поэтому мать ожидает, что в будущем Лена будет более активной представительницей идеи добра, чем мальчишки.
Лена оставила стакан и побрела по комнате. Мать проводила ее любовным взглядом и обратилась к книжке.
Комната у Лысенко до отказа заставлена пыльными вещами, завалена старыми газетами, книгами, засохшими цветами, ненужной, изломанной и тоже пыльной мелочью: кувшинами и кувшинчиками, мраморными и фарфоровыми собачками, обезьянами, пастушками, пепельницами и тарелочками.
Лена остановилась у буфетного шкафа и, поднявшись на цыпочки, заглянула в открытый ящик:
– А где подевались деньги? – пропела она, оборачивая к матери чуть-чуть оживившееся лицо.
Митя с грохотом отбросил стул и ринулся к ящику. Он зашарил рукой в сложном хламе его содержимого, нырнул туда другой рукой, сердито оглядел Лену и тоже обернулся к матери:
– Ты уже все деньги потратила? Да? А если мне нужно на экскурсию?
У матери перед глазами томик Григоровича и судьба Антона-горемыки. Она не сразу понимает, чего от нее хотят:
– На экскурсию? Ну, возьми, чего ты кричишь?
– Так нету! – орет Митя и показывает рукой на ящик.
– Митя, нехорошо так кричать…
– А если мне нужно на экскурсию?!
Евдокия Ивановна тупо смотрит на возбужденное лицо Мити и, наконец, соображает:
– Нету? Не может быть! Неужели Аннушка истратила? А ты спроси у Аннушки.
Митя бросается на кухню. Лена стоит у открытого ящика и о чем-то мечтает. Мать перелистывает страницу «Антона-горемыки». Из кухни вбегает Митя и панически вопит:
– Она говорит, оставалось тридцать рублей! А нету!
Евдокия Ивановна за столом, заваленным остатками завтрака, живет еще в третьей четверти девятнадцатого века. Ей не хочется прерывать приятную историю страданий и перескакивать на полвека вперед, ей не хочется переключаться на вопрос о тридцати рублях. И ей повезло сегодня. Серьезный, недоступный Константин говорит холодно:
– Чего ты крик поднял? Тридцать рублей я взял, мне нужно.
– И ничего не оставил. Это, по-твоему, правильно?! – протягивает к нему горячее лицо Митя.
Константин ничего не отвечает. Он подходит к своему столику и начинает заниматься своими делами. Как ни возмущен Митя, он не может не любоваться уверенной грацией старшего брата. Митя знает, что у Константина есть большой бумажник из коричневой кожи и в этом бумажнике протекает таинственная для Мити интересная жизнь: в бумажнике есть деньги и какие-то записки, и билеты в театр. Константин никогда не говорит о солидных тайнах этого бумажника, но Мите случается наблюдать, как старший брат наводит в нем порядок.
Митя отрывается от этого соблазнительного образа и печально вспоминает:
– А если мне нужно на экскурсию?
Ему никто не отвечает. Лена у спинки кровати раскрыла мамину сумку. На дне сумки лежат два рубля и мелочь. Лене немного нужно: в детском саду ничего нельзя купить, но на углу улицы продают эскимо, это стоит ровно пятьдесят копеек. Закусив нижнюю губу, Лена выбирает мелочь. Финансовый кризису нее разрешен до конца, теперь ей не о чем говорить со взрослыми, и только что пролетевший скандал Лена уже не вспоминает. На ее ладони лежат три двугривенных. Но вдруг и это благополучие летит в бездну. Нахальная рука Мити молниеносно цапнула с руки Лены серебро. Лена подняла глаза, протянула к Мите пустую ладошку и сказала спокойно-безмятежно:
– Там еще есть. Это на эскимо.
Митя заглянул в сумочку и швырнул на кровать мелочь. Лена, не торопясь, собрала деньги с оранжевого одеяла и прошла мимо матери в переднюю. Митя также не поделился с матерью своей удачей и даже не закрыл сумочку. Все стало на место, и комната затихла в пыльном своем беспорядке. На неубранном столе завтракают мухи. Константин ушел последним, аккуратно щелкнув замком в своем ящике. Евдокия Ивановна, не отрываясь от страницы, перешла на диван, заваленный подушками.
Поздно вечером Никита Константинович тоже посмотрел в буфетный ящик, подумал над ним, оглянулся и сказал:
– Слушай, Дуся, денег уже нет?.. А до получки еще пять дней? Как же?..
– Деньги дети взяли… им нужно было.
Никита Константинович еще подумал над ящиком, потом полез в боковой карман, вытащил потертый бумажник, заглянул в него и остановился перед читающей женой:
– Все-таки, Дуся, надо завести какой-нибудь… учет или еще что-нибудь… такое. Вот теперь пять дней… до получки.
Евдокия Ивановна подняла на мужа глаза, вооруженные старомодным золотым пенсне:
– Я не понимаю… Какой учет?
– Ну… какой учет… все-таки деньги…
– Ах, Никита, ты говоришь «деньги» таким тоном, как будто это главный принцип. Ну, не хватило денег. Из-за этого не нужно пересматривать принципы.
Никита Константинович снимает пиджак и прикрывает дверь в комнату, в которой спят дети. Жена с настороженным, готовым к бою взглядом следит за ним, но Никита Константинович и не собирается спорить. Он давно исповедует веру в принципы жены, и не принципы его сейчас беспокоят. Его затрудняет задача, где достать денег до получки.
Евдокия Ивановна все же находит необходимым закрепить моральную сферу мужа:
– Не надо, чтобы дети приучались с этих лет к разным денежным учетам. Довольно и того, что взрослые только и знают, что считают: деньги, деньги, деньги! Наши дети должны воспитываться подальше от таких принципов: деньги! И это хорошо, что наши дети не имеют жадности к деньгам, они очень честные и берут, сколько им нужно. Какой ужас, ты представляешь: в двенадцать лет считать и рассчитывать! Эта меркантильность и так отравила цивилизацию, ты не находишь?
Никита Константинович мало интересуется судьбой цивилизации. Он считает, что его долг заключается в хорошем руководстве советским заводом. Что касается цивилизации, то Никита Константинович способен равнодушно не заметить ее безвременной гибели вследствие отравления меркантильностью. Но он очень любит своих детей, и в словах супруги есть что-то утешительное и приятное. В самом деле, она права: для чего детям меркантильность? Поэтому Никита Константинович благодушно заснул в атмосфере добра, организованной словами Евдокии Ивановны. Засыпая, он решил попросить завтра пятьдесят рублей взаймы у главного бухгалтера Пыжова.
Сон уже прикоснулся к Никите Константиновичу, когда в его сознании в последний раз мелькнул жизнерадостный образ Пыжова и где-то в сторонке, в последних остатках яви, блеснула мысль, что Пыжов человек меркантильный и все у него в расчете: и деньги, и дети… и самая жизнерадостность… улыбки тоже… прибыль и убыток улыбок…
Но это уже начинался сон.
Утром Никита Константинович ушел на работу, как всегда, без завтрака. А Евдокия Ивановна через час зашла в комнату детей и сказала:
– Костя, у тебя есть деньги?
Костя повернул к ней на подушке припухшее лицо и деловито спросил:
– Тебе много нужно?
– Да нет… рублей двадцать…
– А когда отдашь?
– В получку… через пять дней…
Костя, приподнявшись на локте, вытащил из брюк новенький бумажник из коричневой кожи и молча протянул матери две десятирублевки.
Мать взяла деньги и только на пороге вздохнула: ей показалось, что у сына начинается нечто напоминающее меркантильность.
Иван Прокофьевич Пыжов отличался непомерной толщиной; по совести говоря, таких толстяков я в своей жизни больше не встречал. Наверное, у него было самое нездоровое ожирение, но Иван Прокофьевич никогда на него не жаловался, вид имел цветущий, был подвижен и неутомим, как юноша. Он редко смеялся, но на его мягкой физиономии столько разложено было радости и хорошего сдержанного юмора, что ему и смеяться было не нужно. Вместо смеха по лицу Ивана Прокофьевича то и дело перебегали с места на место веселые живчики: они рассказывали собеседнику гораздо больше, чем язык Ивана Прокофьевича, хотя и язык у него был довольно выразительный.
У Пыжова была сложная семья. Кроме него и жены, тонкой большеглазой женщины, она состояла из двух сыновей девяти и четырнадцати лет, племянницы, хорошенькой девушки, высокой и полной, казавшейся гораздо старше своих шестнадцати лет, и приемной дочери, десятилетней Варюши, оставшейся Ивану Прокофьевичу в наследство от друга.
Была еще и бабушка, существо полуразрушенное, но обладающее замечательно веселым нравом, хлопотунья и мастерица на прибаутки.
У Пыжовых всегда было весело. За двенадцать лет моего знакомства с ними я не помню такого дня, чтобы у них не звучал смех, не искрились шутки. Они все любили подшутить друг над другом, умели стремиться к шутке активно, искать ее, и часто у них бывало такое выражение, как будто каждый из них сидел в засаде и коварно поджидал, какая еще неприятность случится с соседом, чтобы порадоваться вволю. Такой обычай должен был бы привести ко всеобщей злостности и раздражению, однако этого у них и в помине не было. Напротив, такое «коварство» как бы нарочно было придумано, чтобы в зародыше уничтожить разные неприятности и жизненные горести. Может быть, поэтому в их семье никогда не было горя и слез, ссор и конфликтов, пониженного тона и упадочных настроений. В этом отношении они сильно напоминали семью Веткиных, но у тех было меньше открытой радости, смеха, веселой каверзы.
Пыжовы почти не болели. Я помню только один случай, когда сам Иван Прокофьевич слег в гриппе. Мне сообщил об этом старший мальчик Павлуша. Он влетел ко мне оживленный и сияющий, направил на меня ироническую улыбку, а всевидящий глаз на группку деталей на столе.
– Отец у нас сегодня подкачал! Грипп! Доктора звали! Лежит и коньяк пьет! А на работе не может прийти и вам сказать… Видите? А говорил: я никогда не болею. Это он просто задавался!
– Это доктор сказал, что у него грипп?
– Доктор. Грипп, это не опасно, правда? Подкачал. Вы не зайдете?
Иван Прокофьевич лежал на кровати, а на столике рядом стояла бутылка коньяка и несколько рюмок. В дверях спальни, прислонившись к дверной раме, стояли младший Севка и Варюша и бросали на отца вредные взгляды. Видно было, что Иван Прокофьевич только что удачно отразил какое-то нападение этой пары, потому что живчики на его лице бегали с торжествующим видом, а губы были поджаты в довольной гримасе.
Увидев меня, Севка подпрыгнул и громко засмеялся:
– Он говорит, что коньяк – это лекарство. А доктор пил, пил, а потом говорит: ну вас к черту, напоили! Разве такое бывает лекарство?
Варюша, покачивая половинку белой двери, сказала с самой въедливой тихонькой иронией:
– Он говорил, кто первый заболеет – пустяковый человек! А теперь взял и заболел…
Иван Прокофьевич презрительно прищурился на Варюшу:
– Бесстыдница! Кто заболел первый? Я?
– А кто?
– Пустяковый человек – это Варюша Пыжова…
Пыжов скорчил жалобную рожу и пропел из «Князя Игоря»:
Ох, мои батюшки,
Ох, мои матушки!
Варюша смотрела на него удивленно:
– Когда? Когда? А когда я так пела?
– А когда у тебя живот болел?
Пыжов схватился за живот и закачал головой. Варюша громко засмеялась и в отчаянии бросилась на диван. Пыжов улыбнулся, довольный победой, взял в руки бутылку и обратился ко мне с просьбой:
– Уберите куда-нибудь этого несчастного мальчишку. Он привык касторкой лечиться и меня подбивает.
Сева даже ахнул от неожиданности удара и открыл рот, не находя ничего для ответа. Пыжов растянулся в улыбке:
– Ага!
Потом предложил:
– Выпьете рюмочку?
– Я удивился:
– Вы больны? Или шутите? Почему пить?
– Ну, а как же! Вы подумайте: восемь лет не болел. До того приятно, как будто годовой отчет сдал. И коньяк можно пить, и книги читать, лежишь, все тебе подносят, люди приходят. Праздник! Хотите рюмочку?
Откуда-то вползла бабушка и захлопотала вокруг больного, приговаривая:
– Где это такое видать, летом болеть? Летом и нищий со светом, а зимою и царь с потьмою. Придумали гриппы какие-то. Почему у нас таких болезней не было? Осенью, бывало, – простуда, лихорадка, прострел. Правда, и те болезни водкой лечили, мой отец других лекарств и не видел. И в середину нальет и снаружи натрет, больной не больной, а видно, что хмельной.
Сева и Варюша сидели теперь на диване и любовно-иронически следили за веселой бабушкой. Из кухни пришла красавица Феня – племянница, заложила руки назад, покачала русой головой и улыбнулась ясными серыми глазами:
– Разве это лекарство и здоровым помогает?
В наших руках ей молча ответили рюмки с золотым напитком. Иван Прокофьевич склонил голову набок:
– Феничка, умница моя, скажи еще что-нибудь такое же остроумное!
Феня покраснела, попыталась сохранить улыбку, но ничего не вышло, пришлось ей убежать в кухню. Зрители на диване что-то закричали и замахали руками.
Закончив такие выражения торжества, Сева сказал мне оживленно:
– Сегодня он всех бьет, потому больной. А когда здоровый, нет, тогда ему никто не спустит!
Сева, показывая зубы, затормозил улыбку в самом ее разгоне и воззрился на отца, интересуясь произведенным впечатлением.
Отец сощурил глаза и зачесал шею пятерней:
– Ишь? Ну, что ты ему скажешь? Это он, называется, больному спускает. Конечно, больной, а то поймал бы его за ногу…
В этой веселой семье тем не менее была самая строгая дисциплина. Пыжовы обладали редким искусством сделать дисциплину приятной и жизнерадостной шуткой, нимало не уменьшая ее суровой обязательности. В живых лицах ребят я всегда читал и внимательную готовность к действию и чуткую ориентировку по сторонам, без чего дисциплина вообще невозможна.
В особенности привлекала меня финансовая организация пыжовской семьи. Она имел вид законченной системы, давно проверенной на опыте и украшенной старыми привычными традициями.
Иван Прокофьевич отклонял от себя честь автора этой системы. Он говорил:
– Ничего я не придумывал! Семья – это дело и хозяйство, разумеется. Деньги поступают и расходуются, это не я придумал. А раз деньги – должен быть порядок. Деньги тратить в беспорядке можно, только если ты их украл. А раз есть дебет и кредит, значит, есть и порядок. Чего тут придумывать? А кроме того, такое обстоятельство: дети. А когда же их учить? Теперь самое и учить.
Больше всего удивляло меня то обстоятельство, что Иван Прокофьевич не завел у себя никакой бухгалтерии. Он ничего не записывал и детей к этому не приучал. По его словам, в семье это лишнее:
– Запись нужна для контроля. А нас семь человек, сами себе и контроль. А приучи к записи, бюрократами и вырастут, тоже опасность. Вы знаете, из нашего брата, бухгалтера, больше всего бюрократов выходит. Работа такая, ну ее!
Веселый глаз Ивана Прокофьевича умел видеть все подробности финансовых операций членов семьи, не прибегая к бухгалтерским записям.
Иван Прокофьевич выдавал карманные деньги накануне выходного дня в довольно торжественной обстановке. В этот день после обеда из-за стола не расходились. Феня убирала посуду и сама присаживалась рядом с Иваном Прокофьевичем. Иван Прокофьевич раскладывал на столе бумажник и спрашивал:
– Ну, Севка, хватило тебе на неделю?
У Севки в руках измазанный кошелек, сделанный из бумаги. В кошельке множество отделений, и в развернутом виде он похож на ряд ковшей в землечерпалке. Севка встряхивает эти ковши над столом, из них падают двугривенный и пятак.
– Вот, еще и осталось, – говорит Севка, – двадцать пять копеек.
Варюша свой кошелек, такой же сложный и хитрый, держит в металлической коробочке из-под монпансье, кошелек у нее чистенький, незапятнанный. На его подозрительную полноту иронически косится Севка:
– Варюшка опять деньги посолила.
– Опять посолила? – расширяет глаза Иван Прокофьевич. – Ужас! Чем это может кончиться? Сколько у тебя денег?
– Денег? – Варюша серьезно рассматривает внутренность кошелька. – Вот это рубль и это рубль… и это… тоже рубль.
Она безгрешным, ясным взглядом смотрит на Ивана Прокофьевича и раскладывает рядом с кошельком несколько монет и два новеньких рубля.
– Ой-ой-ой, – подымается на стуле Сева.
Старшие наблюдают отчетную кампанию с дружеской симпатией, своих кошельков не достают и денег не показывают.
– Это Варюша собирает на курорт, – улыбается Павлуша.
– И не на курорт, а на другое, на другое! На посуду и столик, и на лампу для куклы.
– Пожалуйста, пожалуйста, – говорит Иван Прокофьевич.
Меня всегда удивляло, что Иван Прокофьевич никогда не расспрашивает ребят о произведенных расходах и о расходах предстоящих. Потом я понят, что расспрашивать и не нужно, потому что никаких секретов в семье не было.
Иван Прокофьевич вынимает из бумажника серебряную мелочь и передает малышам:
– Вот тебе рубль и тебе рубль. Потеряется, не отвечаю. Проверяйте деньги, не отходя от кассы.
Севка и Варюша аккуратно проверяют деньги. Варюша два раза передвигала гривенники с места на место, лукаво блеснула глазами на Ивана Прокофьевича и засмеялась:
– Ишь ты какой, давай еще один!
– Да не может быть. Там десять.
– Смотри: один, два, три…
Иван Прокофьевич загребает деньги к себе и напористо-быстро считает:
– Один, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять. Что же ты, а?
Смущенная Варюша повыше взбирается на стул и снова начинает одним пальчиком передвигать гривенники. Но Севка громко хохочет:
– Ха! А как он считал? Он неправильно считал. Пять, а потом сразу семь, а нужно шесть.
Иван Прокофьевич говорит серьезно:
– Ну, положим, ты проверь.
Сбив головы в кучу, все начинают снова считать гривенники. Оказывается, что их действительно десять. Иван Прокофьевич хохочет, откидывая массивное тело. Только Феня прикрыла рот и блестит глазами на дядю: она видела, как он метнул из-под бумажника дополнительный гривенник.
Малыши начинают раскладывать мелочь в свои сложные деньгохранилища.
Наступает очередь старших. Павлуша получает три рубля в шестидневку, Феня – пять рублей. Выдавая им деньги, Иван Прокофьевич спрашивает:
– Вам хватает?
Старшие кивают: хватает.
– Пусть хватает. До первого января ставки изменению не подлежат. Вот если нам прибавят жалованья, тогда посмотрим, правда?
На прибавку надеются не только Иван Прокофьевич, но и Феня с Павлушей. Павлуша учится в ФЗУ. Феня – в техникуме. Свои стипендии они отдают целиком в семейную кассу; это непреложный закон, в правильности которого ни у кого нет сомнений. После получки Иван Прокофьевич иногда говорит в семейном совете:
– Приход: мое жалованье – 475, Павлушкино – 40, Фени – 65, итого 580. Теперь так: матери на хозяйство 270, ваши карманные 50, так? Во: 320, остается 260. Дальше.
Бабушка в сторонке хрипит:
– Я знаю, чего им хочется: навязло в зубах радио, четырехламповое какое-то. И в прошлом месяце все толковали про это радио. Говорят, двести рублей. Купить и купить!
– Купить, – смеется Павлуша, – радио – это тебе культура или как?
– Какая это культура? Кричит, хрипит, свистит, а деньги плати. Если культура не дура, купи себе ботинки и ходи, как картинка. А какие у Фени туфли?
– Я подожду, – говорит Феня, – давайте купим радио.
– И на ботинки хватит, – отзывается Иван Прокофьевич.
– Верно, – орет Севка, – радио и ботинки, видишь, бабушка. И ходи, как картинка.
Такие бюджетные совещания бывают у Пыжовых редко. Подобные проблемы затрагиваются у них по мере возникновения и решаются почти незаметно для глаза. Иван Прокофеьвич признает такой способ наилучшим:
– Тот скажет, другой подскажет, смотришь, у кого-нибудь и правильно! А народ все понимающий – бухгалтерские дети.
У Пыжовых было то хорошо, что они не стеснялись высказывать даже самые далекие желания и мечты, о немедленном удовлетворении которых нельзя было и думать. Четырехламповой приемник появился раньше всего в такой мечте. В такой же проекции возникли и санки для Севы, и другие предметы. О вещах более прозаических не нужно было и мечтать. Однажды Феня, возвратившись из техникума, просто сказала Павлуше:
– Уже последние чулки. Штопала, штопала, больше нельзя. Надо покупать, понимаешь?
И вечером так же просто обратилась к Ивану Прокофьевичу:
– Давай на чулки.
– До получки не дотянешь?
– Не дотяну.
– На.
Чулки не входили в сметы карманных денег. Они назначались на мыло, порошок и другие санитарные детали, на кино, конфеты, мороженое и на перья, тетрадки, карандаши.
Меня всегда радовала эта веселая семья и ее строгий денежный порядок. Здесь деньги не пахли ни благостным богом, ни коварным дьяволом. Это было то обычное удобство жизни, которое не требует никаких моральных напряжений. Пыжовы смотрели на деньги как на будничную и полезную деталь. Именно поэтому деньги у них не валялись по ящикам и не прятались с накопительной судорогой. Они хранились у Ивана Прокофьевича с простой и убедительной серьезностью, как всякая нужная вещь.
Глава пятая
В сказках и былинах, в чудесных балладах и поэмах часто повествуется о счастливых королях и королевах, которым бог послал единственного сына или единственную дочь. Это принцы или принцессы, царевичи или царевны всегда приносят с собой очарование красоты и счастья. Даже самые опасные приключения, не свободные от интервенции нечистой силы, предсказанные заранее какой-нибудь своенравной волшебницей, в этих повествованиях происходят только для того, чтобы подчеркнуть фатальную удачу избранного существа. Даже смерть – казалось бы, фигура непобедимой мрачности и предельного постоянства, – даже она остается в дураках при встрече с таким принцем: находятся и добрые волшебники, и услужливые поставщики живой и мертвой воды, и не менее добрые и услужливые составители оперных и балетных либретто.
Для читателя и зрителя в этих счастливых героях есть какая-то оптимистическая прелесть. В чем эта прелесть? Она не заключается ни в деятельности, ни в уме, ни в таланте, ни даже в хитрости. Она предопределена в самой теме: принц – единственный сын короля. Для этой темы не требуется другой логики, кроме логики удачи и молодости. Принцу положено от века и величие власти, и богатство, и пышность почета, и блеск красоты, и людская любовь. Ему сопутствует и неоспоримая надежность будущего, и право на счастье, право, не ограниченное соперниками и препятствиями.
Лучерзарная тема принца вовсе не так бестелесна, как может показаться с первого взгляда, и вовсе не так далека от нашей жизни. Такие принцы не только игра воображения. Многие зрители и читатели, папаши и мамаши, держат у себя дома, в скромной семье, таких же принцев и принцесс, таких же счастливых, единственных претендентов на удачу и так же верят, что для этой удачи они специально рождены.
Советская семья должна быть только коллективом. Теряя признаки коллектива, семья теряет большую часть своего значения, как организация воспитания и счастья. Потеря признаков коллектива происходит различными способами. Одним из самых распространенных является так называемая система единственного ребенка.
Даже в самых лучших, самых счастливых случаях, даже в руках талантливых и внимательных родителей воспитание единственного ребенка представляет исключительно трудную задачу.
Петр Александрович Кетов работает в одном из центральных учреждений Наркозема. Судьба назначила ему счастливую долю, и это вовсе не сделано из милости. Петр Александрович сильный человек, он и самой судьбе мог бы назначить волю, если бы судьба попалась ему в руки.
У Петра Александровича хороший ум – большой мастер анализа, но Петр Александрович никогда не тонет и не захлебывается в его продуктах. Перед ним всегда стоит будущее. Вглядываясь в его великолепные перспективы, он в то же время всегда умеет радоваться, смеяться и мечтать, как мальчик, умеет сохранять свежий вид, спокойный поворот умного глаза и вдумчиво-убедительную речь. Он видит людей, ощущает дыхание каждой встречной жизни. Между людьми он проходит с таким же точным анализом, иным уступает дорогу, других приветливо провожает, рядом с третьими разделяет строгий колонный марш, четвертых деловито берет за горло и требует объяснений.
В его доме привлекают привлекают крепкий порядок дисциплинированного комфорта, несколько рядов целой жизнью прочитанных книг, чистый потертый ковер на полу и бюст Бетховена на пианино.
И свою семейную жизнь Петр Александрович устроил разумно и радостно. В дни молодости он умным любовным взглядом измерил прелесть встречных красавиц, прикоснулся к ним своим точным, веселым анализом и выбрал Нину Васильевну, девушку с серыми глазами и спокойной, чуть-чуть насмешливой душой. Он сознательно дал волю чувствам и влюбился основательно и надолго, украсив любовь дружбой, тонким и рыцарским превосходством мужчины. Нина Васильевна с той же милой насмешливостью признала это превосходство и доверчиво полюбила мужественную силу Петра Александровича и его бодрую мудрость.
Когда родился Виктор, Петр Александрович сказал жене:
– Спасибо. Это еще сырье, но мы воспитаем из него большого гражданина.
Нина Васильевна улыбнулась, счастливо и ласково возразила:
– Милый, раз это твой сын, значит, он будет и хорошим человеком.
Но Петр Александрович не был склонен преувеличивать доблести своих предков и гарантии крови, он свято верил в могущество воспитания. Он был убежден, что вообще люди воспитываются небрежно и кое-как, что люди не умеют заниматься делом воспитания по-настоящему: глубоко, последовательно, настойчиво. Впереди он видел большое родительское творчество.
Виктору было два года, когда Нина Васильевна, ласкаясь, спросила:
– Ну вот, теперь твой гражданин уже ходит и разговаривает. Ты доволен сыном?
Петр Александрович не отказал себе в удовольствии лишний раз полюбоваться Витей. Мальчик был большой, румяный, веселый. И Петр Александрович ответил:
– Я доволен сыном. Ты его прекрасно выкормила. Можно считать, что первый период нашей работы закончен. А теперь мы за тебя возьмемся!
Он привлек Витю к себе, поставил между колен и еще раз пригрозил с отцовской лаской:
– Возьмемся! Правда?
– Плавда, – сказал Витя, – а как ты измесся?
От Вити исходили запахи счастья и неги, безоблачной жизни и уверенности в ней. У этого будущего гражданина все было так здорово и чисто, такой мирный, ясный взгляд, такой обещающий отцовский лоб и материнская легкая усмешка в серых глазах, что родители могли и гордиться, и ожидать прекрасного будущего.
Нина Васильевна с каждым днем наблюдала, как на ее глазах вырастает большой материнский успех: все более красивым, ласковым и обаятельным становится сын, быстро и изящно развивается его речь, с уверенной детской грацией он ходит и бегает, с неописуемой привлекательностью он умеет шутить, смеяться, спрашивать. В этом мальчике так много настоящей живучей прелести, что даже будущий гражданин отходил несколько в сторону.
Сегодняшний день Нины Васильевны был так прекрасен, что о завтрашнем дне не хотелось думать. Хотелось просто жить рядом с этой созданной ею жизнью, любоваться ею и гордиться своей высокой материнской удачей. Она встречала многих чужих детей, внимательно присматривалась к ним, и приятно было для нее ощущение редкой человеческой свободы: она никому не завидовала.
И вдруг ей страшно захотелось создать еще одну такую же прекрасную детскую жизнь. Она представила себе рядом с Витей девочку, белокурую и сероглазую, с умным лбом и смеющимся взглядом, девочку, которую можно назвать… Лидой. У нее поразительное сходство с Витей и в то же время что-то свое, еще небывалое, единственное в мире, что так трудно представить, потому что его никогда еще не было, оно только может быть создано материнским счастьем Нины Васильевны.
– Петрусь! Я хочу девочку.
– Как девочку? – удивился Петр Александрович.
– Я хочу иметь дочь.
– Тебе хочется пережить материнство?
– Нет, я хочу, чтобы она жила. Девочка, понимаешь? Будущая девочка.
– Позволь, Нина, откуда ты знаешь, что будет обязательно девочка. А вдруг сын?
Нина Васильевна задумалась на один короткий миг. Второй сын? Несомненно, что это не менее прекрасно, чем дочь. И наконец… дочь может быть третьей. Какая очаровательная компания.
Она затормошила мужа в приливе радости и стыдливого женского волнения:
– Послушай, Петрусь, какой ты бюрократ, ужас! Сын, такой как Виктор, понимаешь? И в то же время не такой, свой, ты пойми, дорогой, особенный! А дочь и потом можно! Какая будет семья! Ты представляешь, какая семья!
Петр Александрович поцеловал руку жены и улыбнулся с тем самым превосходством, которое допущено было с самого начала.
– Нина, это вопрос серьезный, давай поговорим.
– Ну, давай, давай поговорим.
Нина Васильевна была уверена, что картина красивой семьи, такая ясная в ее воображении, будет и для него соблазнительна, он оставит свое холодное превосходство. Но когда она заговорила, то почувствовала, что вместо живого великолепия жизни получаются ряды обыкновенных слов, восклицания, беспомощная мимика пальцев, получается бледная дамская болтовня. Муж смотрел на нее любовно-снисходительно, и она умолкала почти со стоном.
– Нина, нельзя же давать свободу такому первоначальному инстинкту!
– Какому инстинкту? Я тебе говорю о людях, о будущих людях…
– Тебе так кажется, а говорит инстинкт…
– Петр!
– Подожди, голубка, подожди! В этом нет ничего постыдного. Это прекрасный инстинкт, я понимаю тебя, я сам переживаю то же. Красивая семья, о которой ты говоришь, могла бы меня и увлечь, но есть цель еще более благородная, более прекрасная. Вот послушай.
Она покорно положила голову на его плечо, а он поглаживал ее руку и говорил, вглядываясь в стеклянную стенку книжного шкафа, как будто за ее призрачным блеском действительно видел благородные дали.
Он говорил о том, что в большой семье можно воспитать только среднюю личность; так и воспитываются массы обыкновенных людей, так редки поэтому великие человеческие характеры, счастливое исключение из серой толпы. Он убежден, что средний тип человека может быть гораздо выше. Воспитать большого человека можно только тогда, если подарить ему всю любовь, весь разум, все способности отца и матери. Нужно отбросить обычное стадное представление о семье: семья – толпа детей, беспорядочная забота о них, забота о первичных потребностях накормить, одеть, кое-как выучить. Нет, нужна глубокая работа над сыном, филигранная, тонкая работа воспитания. Нельзя делить это творчество между многими детьми. Надо отвечать за качество. А качество возможно только в концентрации творчества.
– Ты представь себе, Нина, мы дадим только одного человека, но это не будет стандарт, это будет умница, украшение жизни…
Закрыв глаза, Нина Васильевна слушала мужа, ощущала легкое движение его плеча, когда он подымал руку, видела кончик мягкого, нежного уса, и картина красивой детской компании закрывалась туманом, а на месте ее возникал рисунок блестящего юноши, мужественного, прекрасного, утонченно воспитанного, большого деятеля и большого человека в будущем. Этот образ возникал как-то бестелесно и бескровно, как образ далекой сказки, как рисунок на экране. Вчерашние ее мечты были живее и любовнее, но эта нарисованная сказка, и голос мужа, и его повороты мысли, до сих пор еще непривычно сильные и смелые, и вековая привычка женщины верить этой мужской силе – все это было так согласно между собою и так цельно, что Нина Васильевна не захотела сопротивляться. С крепко спрятанной грустью она простилась с своей материнской мечтой и сказала:
– Хорошо, милый, хорошо. Ты дальше видишь. Пусть будет по-твоему. Но… значит… у нас никогда не будет больше детей?
– Нина! Не должно быть. Никогда.
С этого дня началось что-то новое в жизни Нины Васильевны. Все кругом стало серьезнее, сама жизнь сделалась умнее и ответственнее, как будто только теперь окончательно умерли куклы и навсегда ушла ее девичья безмятежность. Как ни странно, но, отказавшись от материнского творчества, она только теперь почувствовала всю величину материнской страды.
И Виктор теперь иначе радовал ее. И раньше он был бесценной величиной в ее душе, и она даже подумать не могла об его исчезновении, но раньше от его живой прелести родилась вся прелесть жизни, как будто от него исходили особенные животворящие и красивые лучи. Теперь был только он, по-прежнему дорогой и прекрасный, но, кроме него, как будто ничего уже нет, нет ни мечты, ни жизни. От этого Виктор становился еще дороже и привлекательнее, но рядом с любовью поселилась и захватывала душу тревога. Сначала Нина Васильевна даже не отдавала себе отчета в том, что это за тревога, насколько она разумна и нужна. Она просто невольно присматривалась к личику сына, она находила в нем то подозрительную бледность, то вялость мускулов, то мутность глаза. Она ревниво следила за его настроением, за аппетитом, в каждом пустяке ей начинали чудиться предвестники беды.
Это сначала было остро. Потом прошло. Виктор вырастал и развивался, и ее страх стал другим. Он не просыпался вдруг, не холодил сердце, не затемнял сознания, он обратился в страх деловой, будничный, обыкновенный, необходимо-привычный.
Петр Александрович не замечал ничего особенного в жизни жены. Исчезла ее милая насмешливость, спокойные мягкие линии лица перешли в строгий красивый каркас, серые глаза потеряли блеск и влажность и стали более чистыми и прозрачными. Он задумался над этим и нашел объяснение: жизнь протекает, и уходит молодость, а с нею уходят красота и нежность линий. Но все прекрасно, впереди новые богатства жизни, кто знает, может быть, более совершенные, чем богатства молодости. Он заметил рождение новой тревоги жены, но решил, что и это – благо, может быть, в тревоге и заключается истинное счастье матери.
Сам он не чувствовал никакого страха. Он сурово разделил свою личность между работой и сыном; и в том и в другом отделе было много настоящего человеческого напряжения. Виктор с каждым днем обнаруживал все более блестящие возможности. Петр Александрович как будто открывал новую страну, полную природных даров и неожиданной красоты. Он показывал всю эту роскошь жене, и она соглашалась с ним. Он говорил ей:
– Смотри, как много мы делаем в этом человеке.
И жена улыбалась ему, и в ее прозрачных строгих глазах он видел улыбку радости, тем более прекрасную, что в этих глазах ее не всегда можно было увидеть.
Виктор быстро уходил вперед. В пять лет он правильно говорил по-русски и по-немецки, в десять начал знакомство с классиками, в двенадцать читал Шиллера в подлиннике и увлекался им. Петр Александрович шел рядом с сыном и сам поражался его быстрому шагу. Сын ослеплял его неутомимым сверканием умственной силы, бездонной глубиной талантов и свободой, с которой он усваивал самые трудные и самые тонкие изгибы мысли и сочетания слов.
Чем больше развивался Виктор, тем определенное становился его характер. Его глаза рано потеряли блеск первичной человеческой непосредственности, в них все чаще можно было читать разумное и сдержанное внимание и оценку. Петр Александрович с радостью увидел в этом следы своего славного анализа. Виктор никогда не капризничал, был ласков и удобен в общежитии, но в движениях рта появлялась у него понимающая усмешка «про себя», что-то похожее на улыбку матери в молодости, но более холодное и обособленное.
Понимающая улыбка относилась не только ко всему окружающему, она имела отношение и к родителям. Их старательная самоотверженная работа, их родительская радость и торжество были оценены Виктором по достоинству. Он хорошо понимал, что родители готовят ему исключительный путь, и чувствовал себя в силах быть исключительным. Он видел и понимал материнский страх за себя, видел всю бедную неосновательность этого страха и улыбался все той же понимающей улыбкой. Окруженный любовью, заботой и верой родителей, которые никто не разделял с ним, Виктор не мог ошибиться: он был центром семьи, ее единственным принципом, ее религией. С той же силой рано проснувшегося анализа, с уже воспитанной логикой взрослого он признал законность событий: родители вращаются вокруг него как безвольные спутники. Это стало удобной привычкой и приятной эстетикой. Родителям это доставляло удовольствие, сын со сдержанной деликатностью готов был им не противоречить.
В школе он учился отлично и на глазах у всех перерастал школу. Товарищи были слабее его не только в способностях, но и в жизненной позе. Это были обыкновенные дети, болтливые, легко возбудимые, находящие радость в примитиве игры, в искусственной и пустой борьбе на площадке. Виктор свободно проходил свой школьный путь, не тратил энергию на мелкие столкновения, не разбрасывался в случайных симпатиях.
Жизнь семьи Кетовых протекала счастливо. Нина Васильевна признала правоту мужа: у них вырастал замечательный сын. Она не жалела о своих прошлых мечтах. Та глубокая нежность, которая когда-то рисовала в воображении большую, веселую семью, теперь переключилась на заботу о Викторе. За этой заботой мать не видела зародившейся холодной сдержанности сына, которая казалась ей признаком силы. Она не заметила и того, что в их семье поселилась рациональная упорядоченность чувств, избыток словесных выражений. И она и муж не могли заметить, что начался обратный процесс: сын начал формировать личность родителей. Он делал это бессознательно, без теорий и цели, руководствуясь текущими дневными желаниями.
По почину родителей Виктор «перепрыгнул» через девятый класс и победоносно пошел к вузу. Родители затаили дыхание и преклонились перед звоном победы. С этого времени мать начала служить сыну, как рабыня. Перегруппировка сил в семье Кетовых совершалась теперь с невиданной быстротой, а филигранная работа по воспитанию сына закончилась сама собой, без торжественных актив. Отец еще позволял себе иногда поговорить с сыном о разных проблемах, но ему уже не хватало прежнего уверенного превосходства, а самое главное, перед ним не было объекта, который нуждался бы в воспитании.
Виктор механически выбил из комсомола. Петр Александрович узнал это в случайном разговоре и позволил себе удивиться:
– Ты выбыл из комсомола? Я не понимаю, Виктор…
Виктор смотрел мимо отца, и на его чуть-чуть припухлом лице не изменилась улыбка, которую он носил теперь всегда, как униформу, улыбка, выражающая вежливое оживление и безразличие к окружающему.
– Не выбыл, а механически выбыл, – негромко сказал он, – самая законная операция.
– Но, значит, ты теперь не в комсомоле?
– Ты, отец, сделал удивительно правильное заключение. Если выбыл, значит, не в комсомоле.
– Но почему?
– Знаешь что, папа? Я понимаю, что ты можешь прийти в отчаяние от этого важного события. Для вашего поколения все это имело значение…
– А для вашего?
– У нас своя дорога.
Виктор с той же улыбкой о чем-то задумался и, кажется, забыл об отце. Петр Александрович кашлянул и начал перелистывать лежавшую перед ним служебную папку. Перелистывая, он прислушивался к себе и не обнаружил в себе ни паники, ни крайнего удивления. Мелькнула служебная мысль о сыне его заместителя, который никогда не вступал в комсомол, потом такая же служебная справка и диалектике. Каждое новое поколение, действительно, отличается от предшествующего. Очень возможно, что комсомол не удовлетворяет Виктора, особенно если принять во внимание, что в последнее время определились совершенно исключительные способности его в математике.
Семнадцати лет Виктор по особому ходатайству был принят на математический факультет и скоро начал поражать профессоров блеском своего дарования, эрудицией и мощным устремлением в самую глубь математической науки. Почти незаметно для себя Петр Александрович уступил ему свой кабинет, обращенный теперь в алтарь, где пребывало высшее существо Виктор Кетов – будущий светоч математики, представитель нового поколения, которое, без сомнения, с курьерской быстротой погонит вперед историю человечества. В тайных размышлениях Петр Александрович предвидел, что дела и марши этого поколения будут действительно потрясающими, недаром он и его сверстники расчистили для него дорогу, а в особенности он сам мудрым решением о концентрации качества определил путь такого гения, как Виктор. В душе Петра Александровича проснулась новая отцовская гордость, но внешнее его поведение в это время не лишено было признаков зависимости. Слово «Виктор» он начал произносить с оттенком почти мистического уважения. Теперь, возвращаясь с работы, он не бросает вокруг задорных взглядов, не шутит и не улыбается, а молча кивает головой жене и вполголоса спрашивает, посматривая на закрытую белую дверь комнаты сына:
– Виктор дома?
– Занимается, – тихо отвечает Нина Васильевна.
Петр Александрович где-то научился приподымать свое тело на носки. Балансируя руками, он тихонько подходит к двери и осторожно приоткрывает ее.
– К тебе можно? – спрашивает он, просовывая в комнату одну голову.
От сына он выходит торжественно-просветленный и приглушенно говорит:
– Хорошо идет Виктор, замечательно идет. Его уже наметили оставить для подготовки к профессорскому званию.
Нина Васильевна покорно улыбается:
– Как это интересно! Но знаешь, что меня беспокоит? У него какая-то нездоровая полнота. Он много работает, я боюсь за его сердце.
Петр Александрович испуганно смотрит на жену:
– Ты думаешь – порок?
– Я не знаю, я просто боюсь…
И вот родились новые переживания и новых страх. В течение нескольких дней они вглядываются в лицо сына, и в их душах восхищение и преданность перемешиваются с тревогой. Потом приходят новые восторги и новые опасения, заполняют жизнь, как волны прибоя заливают берег, за ними не видно мелких событий жизни. Не видно, что сын давно перестал быть ласковым, что теперь не бывает у него приветливых слов, что у него два новых костюма в то время, когда у отца один поношенный, что мать готовит для него ванну и убирает за ним, и никогда сын не говорит ей «спасибо». Не видно и надвигающейся старости родителей и действительно тревожных признаков тяжелой болезни.
Виктор не пошел на похороны товарища-однокурсника, читал дома книгу. Петр Александрович обратил на это удивленное внимание:
– Ты не был на похоронах?
– Не был, – ответил Виктор, не бросая книги.
Петр Александрович внимательно присмотрелся к сыну, даже встряхнул головой – настолько беспокойно и холодно стало у него на душе. Но и это впечатление пролетело бесследно и скоро забылось, как забывается ненастный день среди благодатных дней лета.
Не услышали родители и громкого звучания нового мотива: как ни блестяще учился Виктор, он не отказывал себе в удовольствиях, часто отлучался из дому, иногда от него попахивало вином и чужими духами, в его несмываемой улыбке бродили воспоминания, но никогда ни одним словом он не посвятил отца и мать в эту новую свою жизнь.
К переходу сына на четвертый курс у Петра Александровича обнаружилась язва желудка. Он побледнел, похудел, осунулся. Врачи требовали хирургического вмешательства и уверяли, что оно принесет полное выздоровление, а Нина Васильевна теряла сознание при одной мысли о том, что мужу могут вырезать кусок желудка и перешить с места на место какую-то кишку. Виктор по-прежнему жил особой жизнью и сидел у себя в комнате или был вне дома.
Вопрос об операции никак не мог разрешиться. Старый приятель Петра Александровича, известный врач-хирург, сидел у кресла больного и злился. Нина Васильевна не могла опомниться от свалившегося несчастья.
Виктор вошел к ним расфранченный, пахнущий духами. Не меняя своей улыбки, не усиливая и не снижая выражения, Виктор пожал руку врачу и сказал:
– А вы все у одра больного? Что нового?
Петр Александрович смотрел на сына с восхищением:
– Да вот думаем насчет операции. Он все уговаривает.
Глядя на отца с прежней улыбкой, Виктор перебил его:
– Да, папа, не найдется ли у тебя пять рублей? У меня билет на «Спящую красавицу»… На всякий случай. А я обанкротился…
– Хорошо, – ответил Петр Александрович. – У тебя есть, Нина? Он убеждает скорее делать, а Нина все боится. А я сам и не знаю как…
– Чего же там бояться? Нашлось? – сказал Виктор, принимая от матери пятерку. – А то без денег в театре… как-то…
– Ты с кем идешь? – спросил Петр Александрович, забыв о своей язве.
– Да кое-кто есть, – уклончиво ответил сын, тоже забыв о язве. – Я возьму ключ, мама, может быть, задержусь.
Он внимательно склонился перед хирургом в прощальном улыбчивом поклоне и вышел.
А у родителей было такое выражение, как будто ничего особенного не произошло.
Через несколько дней у Петра Александровича случился тяжелый приступ болезни. Приятель-хирург застал его в постели и поднял скандал:
– Вы кто? Вы культурные люди или вы дикари?
Он засучил рукава, смотрел, слушал, кряхтел и ругался. Нина Васильевна сбегала в аптеку, заказала лекарство, возвратившись, краснела и бледнела от страха и все спрашивала:
– Ну, что?
Она все время посматривала на часы и с нетерпением ожидала восьми – в восемь лекарство будет готово. То и дело выскакивала в кухню и приносила оттуда лед.
Из своей комнаты вышел Виктор и направился к выходу. Мать налетела на него по дороге из кухни и дрожащим, уставшим голосом заговорила:
– Витя, может, ты зайдешь в аптеку? Лекарство уже готово и… уплачено. Обязательно нужно… сказал…
Повернув на подушке взлохмаченную голову, Петр Александрович смотрел на сына и улыбался через силу. Вид взрослого, талантливого сына приятен даже при язве желудка. Виктор смотрел на мать и тоже улыбался:
– Нет, я не могу. Меня ждут. Я ключ возьму с собой.
Хирург вскочил с места и бросился к ним. Неизвестно, что он хотел делать, но у него побледнело лицо. Впрочем, сказал он горячо и просто:
– Да зачем же ему беспокоиться? Неужели я не могу принести лекарство? Это же такой пустяк!
Он выхватил квитанцию из рук Нины Васильевны. У дверей поджидал его Виктор:
– Вам, наверное, в другую сторону? – сказал он. – А я к центру.
– Конечно, в другую, – ответил хирург, сбегая с лестницы. Когда он возвратился с лекарством, Петр Александрович по-прежнему лежал, повернув на подушке взлохмаченную голову, и смотрел сухим острым взглядом на дверь комнаты Виктора. Он забыл поблагодарить приятеля за услугу и вообще помалкивал весь вечер. И только, когда приятель прощался, сказал решительно:
– Делайте операцию… Все равно.
Нина Васильевна опустилась на кресло: в ее жизни так трудно стало разбирать, где кончается радость и начинается горе. Между горем и радостью появился неожиданный и непривычный знак равенства.
Впрочем, операция прошла благополучно.
Я рассказал одну из печальных историй с участием единственного сына-царевича. Таких историй бывает много. Пусть не посетуют на меня родители единственных детей, я вовсе не хочу их запугивать, я только рассказываю то, чему был свидетелем в жизни.
Бывают и счастливые случаи в таких семьях. Бывает сверхнормальная чуткость родителей, позволяющая им и найти правильный тон и организовать товарищеское окружение сына, в известной мере заменяющее братьев и сестер. Особенно часто приходилось мне наблюдать у нас прекрасные характеры единственных детей при одинокой матери или овдовевшем отце. В этом случае тяжелая потеря или несомненная страда одиночества с большой силой мобилизует и любовь и заботу детей и тормозят развитие эгоизма. Но эти случаи родятся в обстановке горя, они сами по себе болезненны и ни в какой мере не снимают проблемы единственного ребенка. Концентрация родительской любви на одном ребенке – страшное заблуждение.
Миллионы примером – именно миллионы – можно привести, утверждающих огромные успехи детей из большой семьи. И наоборот, успехи единственных детей страшно эфемерная вещь. Лично мне если и приходилось встречаться с самым разнузданным эгоизмом, разрушающим не только родительское счастье, но и успехи детей, то это были почти исключительно единственные сыновья и дочери.
В буржуазной семье единственный ребенок не представляет такой общественной опасности, как у нас, ибо там самый характер общества не противоречит качествам, воспитанным в единственном отпрыске. Холодная жесткость характера, прикрытая формальной вежливостью, слабые эмоции симпатии, привычка единоличного эгоизма, прямолинейный карьеризм и моральная увертливость и безразличие ко всему человечеству – все это естественно в буржуазном обществе и патологично и вредно в обществе советском.
В советской семье единственный ребенок становится недопустимым центром человеческой ячейки. Родители, если бы даже хотели, не могут избавиться от вредного центростремительного угодничества. В подобных случаях только противоестественная слабость родительской «любви» может несколько уменьшить опасность. Но если эта любовь имеет только нормальные размеры, дело уже опасно: в этом самом единственном ребенке заключаются все перспективы родительского счастья, потерять его – значит потерять все.
В многодетной семье смерть ребенка составляет глубокое горе, но это никогда не катастрофа, ибо оставшиеся дети требуют по-прежнему и заботы и любви, они как бы страхуют семейный коллектив от гибели. И конечно, нет ничего более горестного, чем отец и мать, оставшиеся круглыми сиротами в пустых комнатах, на каждом шагу напоминающих об умершем ребенке. Его единственность поэтому неизбежно приводит к концентрации беспокойства, слепой любви, страха, паники.
И в то же время в такой семье нет ничего, что могло бы в том же естественном порядке этому противополагаться. Нет братьев и сестер – ни старших, ни младших, – нет, следовательно, ни опыта заботы, ни опыта игры, любви и помощи, ни подражания, ни уважения, нет, наконец, опыта распределения, общей радости и общего напряжения – просто ничего нет, даже обыкновенного соседства.
В очень редких случаях товарищеский школьный коллектив успевает восстановить естественные тормоза для развития индивидуализма. Для школьного коллектива это очень трудная задача, так как семейные традиции продолжают действовать в прежнем направлении. Для закрытого детского учреждения типа коммуны имени Дзержинского это большое по силам, и обыкновенно коммуна очень легко справлялась с задачей. Но разумеется, лучше всего находить такие тормоза в самой семье.
Опасный путь воспитания единственного ребенка в советской семье в последнем счете сводится к потере качеств коллектива. В системе «единственного ребенка» потеря качества коллектива носит определенный механический характер: в семье просто недостаточно физических элементов коллектива, отец, мать и сын и количественно, и по разнообразию типа способны составить настолько легкую постройку, что она разрушается при первом явлении диспропорции, и такой диспропорцией всегда становится центральное положение ребенка.
Семейный коллектив может подвергаться другим ударам подобного же «механического» типа. Смерть одного из родителей может быть указана как возможный пример такого «механического» удара. В подавляющем большинстве случаев даже такой страшный удар не приводит к катастрофе и распылению коллектива; обычно оставшиеся члены семьи способны поддержать ее целость. Вообще удары, которые мы условно называем механическими, не являются самыми разрушительными.
Гораздо тяжелее семейный коллектив переносит разрушительные влияния, связанные с длительными процессами разложения. Эти явления так же условно можно назвать химическими. Я уже указывал, что «механический» тип «единственного ребенка» только потому должен приводить к неудаче, что он необходимо вызывает «химическую» реакцию в виде гипертрофии родительской любви. «Химические» реакции в семье являются наиболее страшными. Можно назвать несколько форм такой реакции, но я хочу остановиться особо на одной, самой тяжелейшей и вредной.
Русские и иностранные писатели глубоко заглянули в самые мрачные пропасти человеческой психологии. Художественная литература, как известно, лучше разработала тему преступной личности или вообще личности неполноценной, чем тему нормального, обыкновенного или положительного нравственного явления. Психология убийцы, вора, предателя, мошенника, мелкого пакостника и негодяя известна нам во многих литературных вариантах. Самые омерзительные задворки человеческой души не представляют теперь для нас ничего таинственного. Все то, что естественно отгнивало в старом обществе, привлекало внимание таких прозорливцев, как Достоевский, Мопассан, Салтыков, Золя, не говоря уже о Шекспире.
Нужно отдать справедливость великим художникам слова: они никогда не были жестокими по отношению к своим падшим героям, всегда эти авторы выступали как представители исторического гуманизма, составляющего безусловно одно из достижений и украшений человечества. Из всех видов преступления, кажется, одно предательство не нашло для себя никакого снисхождения в литературе, если не считать «Иуда Искариот» Леонида Андреева, да и эта защита была чрезмерно слабой и натянутой. Во всех остальных случаях в темной душе преступника или пакостника всегда находился тот светлый уголок, оазис, благодаря которому самый последний человек оставался все же человеком.
Очень часто этим уголком была любовь к детям, своим или чужим. Дети одна из органических частей гуманитарной идеи, в детстве как будто проходит граница, ниже которой не может пасть человек. Преступление против детей стоит уже ниже этой границы человечности, а любовь к детям – это некоторое оправдание для самого мизерного существа. Детский пряник в кармане раздавленного на улице Мармеладова («Преступление и наказание» Достоевского) воспринимается нами как ходатайство об амнистии.
Но есть основания и для претензии к художественной литературе. Есть преступление, которое она не затронула своей разработкой, и как раз такое, в котором обижены дети.
Я не могу вспомнить сейчас ни одного произведения, где была бы изображена психология отца или матери, отказавшихся от родительских обязанностей по отношению к малым детям, бросивших детей на произвол судьбы в нужде и смятении. Есть, правда, старый Карамазов, но его дети все-таки обеспечены. Встречаются в литературе брошенные незаконные дети, но в таком случае даже самые гуманные писатели больше видели проблему социальную, чем родительскую. Собственно говоря, они правильно отражали историю. Барин, бросивший крестьянскую девушку с ребенком, вовсе и не считал себя отцом, для него не только эта девушка и этот ребенок, но и миллионы всех остальных крестьян были тем «быдлом», по отношению к которому он не был связан никакой моралью. Он не переживал отцовской или супружеской коллизии просто потому, что «низший класс» помещался за границами каких бы то ни было коллизий. Агитация Л. Н. Толстого за перенесение и на «низший класс» господской «нравственности» была бесполезна, ибо классовое общество органически не способно было на такое «просветление».
Отец, бросивший своих детей, иногда даже без средств к существованию, мог бы рассматриваться нами тоже как механическое явление, и это позволило бы нам более оптимистически смотреть на положение семьи, понесшей такой большой ущерб. Бросил и бросил, ничего не поделаешь, в семье исчезла фигура отца, вопрос ясен: семейный коллектив должен существовать без отца, стараясь как можно лучше мобилизовать силы для дальнейшей борьбы. В таком случае семейная драма объективно ничем не отличалась бы от семейного сиротства вследствие отцовской смерти.
В подавляющем большинстве случаев положение брошенных детей сложнее и опаснее, чем положение сирот.
Еще так недавно жизнь Евгении Алексеевны была хорошей жизнью. От нее остался покойный след в виде большого жизненного дела – семьи, от нее родилось крепкое ощущение, что жизнь проходит честно, мудро и красиво, так, как нужно. Пусть прошла весна, пусть с такой же серьезной закономерностью проходит тихое, теплое лето. А впереди еще много тепла, много солнца и радости. В семье рядом с Евгенией Алексеевной стоял муж, Жуков, человек, не так давно обменявшийся с нею словами любви. От любви сохранились нежность, милое чувство товарищеской благодарности и дружеская простота. У Жукова длинное лицо и седловатый нос. Жизнь на каждом шагу предлагает выбор более коротких лиц и более красивых носов, но с ними не связаны ни воспоминания любви, ни пройденные пути счастья, ни будущие радости, и Евгения Алексеевна не соблазнялась выбором. Жуков – хороший, заботливый муж, любящий отец и джентльмен.
Жизнь эта рушилась неожиданно и нагло. Однажды вечером Жуков не возвратился с работы, а наутро Евгения Алексеевна получила короткую записку:
«Женя! Не хочу дальше тебя обманывать. Ты поймешь – хочу быть честным до конца. Я люблю Анну Николаевну и теперь живу с нею. На детей буду присылать ежемесячно двести рублей. Прости. Спасибо за все. Н».
Прочитав записку, Евгения Алексеевна поняла только, что случилось что-то страшное, но, в чем оно заключалось, она никак не могла сообразить. Она прочитала второй раз, третий. Каждая прочитанная строчка постепенно открывала свою тайну, и каждая тайна так мало была похожа на написанную строчку.
Евгения Алексеевна беспомощно оглянулась, сдавила пальцами виски и снова набросилась на записку, как будто в ней не все еще было прочитано. Глаза ее поймали действительно что-то новое: «хочу быть честным до конца». Тень неясной надежды промелькнула мгновенно, и снова с тем же ужасом она ощутила катастрофу.
И сразу же с обидной бесцеремонностью набежали и засуетились вокруг непрошеные мелкие мысли: двести рублей, дорогая квартира, лица знакомых, книги, мужские костюмы. Евгения Алексеевна встряхнула головой, сдвинула брови и вдруг увидела самое страшное, самое настоящее безобразие: брошенная жена! Как, неужели брошенная жена?! И дети?! Она в ужасе оглянулась: вещи стояли на месте, в спальне чем-то шелестела пятилетняя Оля, в соседней квартире что-то глухо стукнуло. У Евгении Алексеевны вдруг возникло невыносимое ощущение: как будто ее, Игоря, Ольгу кто-то небрежно завернул в старую газету и выбросил в сорный ящик.
Несколько дней прошли как будто во сне. Минутами явь приходила трезвая, серьезная, рассудительная, тогда Евгения Алексеевна усаживалась в кресло у письменного стола, подпирала голову кулачками, поставленными один на другой, и думала. Сначала мысли складывались в порядке: и обида, и горе, и трудности впереди, и какие-то остатки любви к Жукову старательно и послушно размещались перед ней, как будто и они хотели, чтобы она внимательно их рассмотрела и все разрешила.
Но один из кулачков нечаянно разжимается, и вот уже рука прикрывает глаза, и из глаз выбегают слезы, и нет уже никакого порядка в мыслях, а есть только судороги страдания и невыносимое ощущение брошенности.
Рядом жили, играли, смеялись дети. Евгения Алексеевна испуганно оглядывалась на них, быстро приводила себя в порядок, улыбалась и говорила что-нибудь имеющее смысл. Только выражение страха в глазах она не могла скрыть от них, и дети начинали уже смотреть на нее с удивлением. В первый же день она с остановившимся сердцем вспомнила, что детям нужно объяснить отсутствие отца, и сказала первое, что пришло в голову:
– Отец уехал и скоро не приедет. У него командировка. Далеко, очень далеко!
Но для пятилетней Оли и «скоро» и «далеко» были словами малоубедительными. Она выбегает к двери на каждый звонок и возвращается к матери грустная:
– А когда он приедет?
В этом страшном сне Евгения Алексеевна не заметила, как теплой, мягкой лапой прикоснулась к ней новая привычка: она перестала по утрам просыпаться в ужасе, она начала думать о чем-то практическом, наметила, какие вещи нужно продать в первую очередь, реже стала плакать.
Через восемь дней Жуков прислал незнакомую женщину с запиской без обращения:
«Прошу выдать подательнице сего мое белье и костюмы, а также бритвенный прибор и альбомы, подаренные сотрудниками, и еще зимнее пальто и связки писем, которые лежат в среднем ящике стола – в глубине. Н.».
Евгения Алексеевна сняла с распорок три костюма и на широком диване разложила несколько газетных листов, чтобы завернуть. Потом вспомнила, что нужно еще белье, прибор и письма, и задумалась. Рядом стоял десятилетний Игорь и внимательно наблюдал за матерью. Увидев ее замешательство, он воспрянул духом и сказал звонко:
– Завернуть, да? Мама, завернуть?
– Ах, господи, – простонала Евгения Алексеевна, села на диван и чуть не заплакала, но заметила молчаливую фигуру пришедшей женщины и раздражительно сказала:
– Ну как же вы так пришли… с пустыми руками! Как я должна все это запаковать?
Женщина понятливо и сочувственно посмотрела на разложенные на диване газеты и улыбнулась:
– А они мне сказали: там что-нибудь найдут, корзинку или чемодан…
Игорь подпрыгнул и закричал:
– Корзинка? Мама, есть же корзинка! Вот та корзинка… она стоит, знаешь, где? Там стоит, за шкафом! Принести?
– Какая корзинка? – растерянно спросила Евгения Алексеевна.
– Она стоит за шкафом! За тем шкафом… в передней! Принести?
Евгения Алексеевна глянула в глаза Игоря. В них была написана только бодрая готовность принести корзинку. Покорясь ей, Евгения Алексеевна улыбнулась:
– Куда там тебе принести! Ты сам меньше корзинки! Дорогой ты мой птенчик!
Евгения Алексеевна привлекла сына к себе и поцеловала в голову. Вырываясь из объятий, Игорь был переполнен все той же корзинкой.
– Она легкая! – кричал он. – Мама! Она совсем легкая! Ты себе представить не можешь!
На шум пришла из спальни Оля и остановилась в дверях с мишкой в руках. Игорь бросился в переднюю, и там что-то затрещало и заскрипело.
– Ах ты господи, – сказала Евгения Алексеевна и попросила женщину: Помогите, будьте добры, принести эту корзинку.
Общими усилиями корзинка была принесена и поставлена посреди комнаты. Евгения Алексеевна занялась укладыванием костюмов. Она подумала, что будет очень неблагодарно уложить костюмы как-нибудь; она внимательно расправляла складки и лацканы пиджаков, брючные карманы, галстуки. Игорь и Оля с деловым интересом смотрели на эту операцию и шевелили губами, если мать затруднялась в укладывании. Потом Евгения Алексеевна уложила в корзину белье. Игорь сказал:
– Навалила, навалила рубашки, а костюмы изомнутся.
Евгения Алексеевна сообразила:
– Да, это верно…
Но вдруг обиделась:
– Да ну их! Пускай разгладят! Какое мне дело?
Игорь поднял на нее удивленные глаза. Она со злостью швырнула в корзинку три пачки писем и предметы бритвенного прибора. Из красного футляра высыпались на белье ножики в синеньких конвертиках.
– Ой, рассыпала! – крикнул недовольно Игорь и начал собирать ножики.
– Не лезь, пожалуйста, куда тебе не нужно! – закричала на него Евгения Алексеевна, отдернула руку Игоря и с силой захлопнула корзинку. – Несите! – сказал она женщине.
– Записки не будет? – спросила женщина, склонив голову набок.
– Какие там записки?! Какие записки! Идите!
Женщина деликатно поджала губы, подняла корзинку на плечо и вышла, осторожно поворачивая корзинку в дверях, чтобы не зацепить.
Евгения Алексеевна тупо посмотрела ей вслед, сели на диван и, склонившись на его валик, заплакала. Дети смотрели на нее с удивлением. Игорь морщил носик и пальцем расширял дырочку в сукне письменного стола, которое когда-то давно Жуков прожег папиросой. Оля прислонилась к двери и посматривала сурово, исподлобья, бросив мишку на пол. Когда мать успокоилась, Оля подошла к матери и сердито спросила:
– а почему она понесла корзинку? Почему она понесла? Какая это тетя?
Оля так же сурово претерпела молчание матери и снова загудела:
– Там папкины куртки и рубашки… почему она понесла?
Евгения Алексеевна прислушалась к ее гуденью и вдруг вспомнила, что дети еще ничего не знают.
Отправка костюмов даже для Оли была делом подозрительным. Что касается Игоря, то, вероятно, он все знает, ему могли рассказать во дворе. Исчезновение Жукова произвело на всех законное впечатление.
Евгения Алексеевна присмотрелась к Игорю. В его позе, в этом затянувшемся внимании к дырочке что-то такое было загадочное. Игорь глянул на мать и опять опустил глаза к дырочке. Мать отстранила Олю, терпеливо ожидающую ответа, потянула к себе руку Игоря. Он покорно стал против ее колен.
– Ты знаешь что-нибудь? – спросила с тревогой Евгения Алексеевна.
Игорь взмахнул ресницами и улыбнулся:
– Ха! Я и не понимаю даже, как ты говоришь! Чего я знаю?
– Знаешь об отце?
Игорь стал серьезным.
– Об отце?
Он завертел головой, глядя в окно. Оля дернула мать за рукав и прежним сердитым гудением оттенила молчаливую уклончивость Игоря:
– На что ему куртки понесли? Скажи, мама!
Евгения Алексеевна решительно поднялась с дивана и прошлась по комнате.
Она снова глянула на них. Они теперь смотрели друг на друга, и Оля уже игриво щурилась на брата, не ожидая в своей жизни ничего неприятного и не зная, что они брошены отцом. Евгения Алексеевна вдруг вспомнила Анну Николаевну, свою соперницу, ее привлекательную молодую полноту в оболочке черного шелка, ее стриженную голову и чуточку наглый взгляд серых глаз. Она представила себе высокого Жукова рядом с этой красавицей: что же в нем есть, кроме вожделения?
– Когда приедет папа? – спросил неожиданно Игорь тем же простым, доверчивым голосом, каким он спрашивал и вчера.
И он и Оля смотрели на мать. Евгения Алексеевна решилась:
– Он больше не приедет…
Игорь побледнел и замигал глазами. Оля послушала тишину, видно, чего-то не поняла и спросила:
– А когда он вернется? Мама?
Евгения Алексеевна теперь уже строго и холодно произнесла:
– Он никогда не вернется! Никогда! У вас нет отца. Совсем нет, понимаете?
– Он, значит, умер? – сказал Игорь, направив на мать белое неподвижное лицо.
Оля взглянула на брата и повторила, как эхо:
– …умер?
Евгения Алексеевна привлекла детей к себе и заговорила с ними самым нежным, ласковым голосом, отчего в ее глазах сразу забили прибои слез, и в голосе нежность перемешивалась с горем.
– Отец бросил нас, понимаете? Бросил. Он не хочет жить с нами. Он теперь живет с другой тетей, а мы будем жить без него. Будем жить втроем: я, Игорь и Оля, а больше никого.
– Он женился, значит? – спросил Игорь в мрачной задумчивости.
– Женился.
– А ты тоже женишься? – Игорь смотрел на мать холодным взглядом маленького человека, который честно старается понять непонятные капризы взрослых.
– Я не оставлю вас, родненькие мои, – зарыдала Евгения Алексеевна. – Вы ничего не бойтесь. Все будет хорошо.
Она взяла себя в руки:
– Идите, играйте. Оля, вон твой медведь лежит…
Оля молча пошатывалась, отталкиваясь от колен матери, щипала рукой верхнюю губу. Оттолкнувшись последний раз, она побрела в спальню. В дверях она присела возле мишки, подняла его за одну ногу и небрежно потащила в свой угол в спальне. Бросив мишку в кучу игрушек, Оля уселась на маленьком раскрашенном стуле и задумалась. Она понимала, что у матери горе, что матери хочется плакать, и поэтому нельзя снова подойти к ней и задать вопрос, который все-таки нужно разрешить, во что бы то ни стало:
– А когда он приедет?
В первые дни было больше всего обиды.
Обидно было думать, что и ее жизнь, жизнь молодой, красивой и культурной женщины, и жизнь ее детей, таких милых, спокойных и способных, жизнь всей семьи, ее значение и радость можно так легко, в короткой записке, объявить пустяком, не заслуживающим ни заботы, ни раздумья, ни жалости. Почему? Потому что Жукову нравится разнообразие женщин?
Но скоро из-за обиды протянула свои лапы нужда. Впрочем, и в первых ее хватках Евгения Алексеевна больше чувствовала оскорбление, чем недостаток.
Все двенадцать лет семейной истории были прожиты под знаком полной хозяйственной власти Евгении Алексеевны. Хотя Евгения Алексеевна и не знала всех денежных получений мужа, но он отдавал в ее распоряжение достаточную сумму. Евгения Алексеевна всегда была убеждена, что она и дети имеют право на эти деньги, что семья для Жукова не только развлечение, но и долг. Теперь оказалось другое: эти деньги он уплачивал ей, Евгении Алексеевне, за ее любовь, за общую спальню. Как только она надоела, он ушел в другую спальню, а право Евгении Алексеевны и детей было объявлено пустым звуком, оно было только приложением к любовному счету. Теперь долг и обязанность лежат на одной матери, нужно оплачивать этот долг ее жизнью, молодостью, счастьем.
Теперь особенно оскорбительной казалась подачка в двести рублей. В ночных бессонных раздумьях Евгения Алексеевна краснела на подушке, когда вспоминала короткую строчку: «На детей буду присылать ежемесячно двести рублей». Он самостоятельно назначил цену своим детям. Только двести рублей! Не бесконечные годы заботы, волнений, страха, не тревожное чувство ответственности, не любовь, не живое сердце, не жизнь, а только пачка кредиток в конверте!
Евгения Алексеевна каждую ночь вспоминала, с каким потухшим стыдом она в первый раз приняла эти деньги от посыльного, как аккуратно исполнила его просьбу расписаться на конверте, как после его ухода она побежала в магазины, с какой бессовестной радостью вечером угостила детей пирожным. Она смотрела на них и смеялась, а гордость, человеческое и женское достоинство спрятались где-то далеко, у них хватило силы только на одно: они не позволили ей самой есть пирожное.
Но только первый удар нужды вызывает оскорбление, а когда оно бьет настойчиво и регулярно, когда она каждое утро подымает от сна злую и бессильную заботу, когда по целым неделям в сумочке перекатываются позеленевшие две копейки, тогда и достоинство и гордость теряются в сутолоке дневного отчаяния. И тогда конверт с пачкой кредиток приближается по считанным дням, как по лестнице, и рука дрожит от радости, выводя на конверте позорную строчку: «Двести рублей получила Е. Жукова».
С каждым днем жуковские двести рублей становились все более обыденным и привычным событием. Услужливая новая совесть подсказывала и рассудительное оправдание: с какой стати, в самом деле, Жуков будет наслаждаться безмятежным счастьем, пусть хоть в этих деньгах из месяца в месяц приходит к нему беспокойство, пусть платит, пусть отрывает у своей красавицы!
Представление о Жукове сделалось неразборчивым, да, пожалуй, и времени не было, чтобы разобраться в нем. Симпатия к нему давно исчезла, как мужчина и муж он никогда теперь не вставал в воображении. В том, что Жуков негодяй, ограниченный и жадный самец, человек без чувства и чести, – в этом сомнений не было, но и такое осуждение переживалось Евгенией Алексеевной без страсти и желания действовать. Иногда даже она думала, что в этом человеке нет ничего привлекательного, о чем стоило бы жалеть, что, может быть, к лучшему жизнь оборвала путь рядом с этим негодяем!
А когда Евгения Алексеевна получила должность секретаря в значительном тресте и пришло к ней новое дело и зарплата, образ Жукова уплыл куда-то в несомненное прошлое, покрылся дымкой пережитого горя, – она перестала о нем думать. Двести рублей, и те теперь мало с ним связывались: это обыкновенные деньги, законный и обжитый ее приход.
Проходили еще недели и месяцы. Они потеряли своеобразие горя, они стали похожими друг на друга, обыкновенными, и на их однообразном фоне все живее просыпалась собственная женская душа, подымала голову молодость.
Евгении Алексеевне всего тридцать три года. Это «классический» возраст обладает многими трудностями. Уже нет первой молодой свежести. Глаза ее хороши, на фотографическом снимке они кажутся «волшебными», но в натуральном виде им все-таки тридцать два года. Нижнее веко еще умеет кокетливо приподыматься, придавая глазу вызывающий и обещающий задор, но вместе с ним приподымается и предательская штриховка морщинок, и задор получается несмелый и отдающий техничкой. В этом возрасте красивое платье, какой-нибудь освежающий воротничок, тонкая наивная прошва, еле уловимое шуршание шелка увеличивают оптимизм жизни.
И Евгения Алексеевна возвратилась к этому женскому миру, к заботе о себе, к зеркалу. Она все же и молода, и хороша, и блестят еще глаза, и многое обещает улыбка.
Евгения Алексеевна держит в руках записку, третью по счету:
«Е. А. Платить каждый месяц двести рублей для меня очень трудно. Сейчас наступают каникулы. Я предлагаю Вам отправить Игоря и Ольгу на лето к моему отцу в Умань. Они проживут там до сентября, отдохнут и поправятся. Отец и мать будут очень рады, я уже с ними списался. Если Вы согласны, сообщите запиской, я всю устрою и потом Вам напишу. Н».
Прочитав записку, Евгения Алексеевна брезгливо бросила ее на стол и хотела сказать посланному, что ответа не будет. Но тут же вспомнила что-то важное. Оно мелькнуло в уме не вполне разборчиво, но похоже было на подтверждение, что детям в Умани будет действительно хорошо. Но уже через несколько мгновений «оно» сбросило с себя детское прикрытие и властно потребовало внимания. Евгения Алексеевна задержалась перед дверью, боком глянула на себя в зеркало и улыбнулась нарочно, чтобы посмотреть, как выходит. В прозрачном тумане зеркала ей ответила яркой улыбкой тонкая дама с большими черными глазами. Евгения Алексеевна вышла к посланному и попросила его передать, что она подумает и ответ даст завтра.
Она усаживалась на диван, ходила по комнате, смотрела на детей и думала. Дети, действительно, лишены радости и развлечений. Побывать на новом месте, на лоне природы, пожить в саду, отдохнуть от волнений и драм – это очень остроумно придумано. Жуков поступил внимательно, предложив им такую поездку.
В последнее время Евгения Алексеевна мало думала о детях. Игорь ходил в школу. Во дворе у него были товарищи, с которыми он часто ссорился, но ведь это обычно. Он никогда не вспоминал об отце. Подарки Жукова, книги и игрушки, были в порядке сложены на нижней полке шкафа, но Игорь к ним не прикасался. С матерью он был ласков и прост, но старался избегать душевных разговоров, любил поболтать о разных пустяках, о дворовых происшествиях, о школьных событиях. В то же время по всему было видно, что он за матерью следит, присматривается к ее настроению, прислушивается к разговорам по телефону и всегда интересуется, с кем она говорила. Когда мать возвращалась поздно, он обижался, встречал ее с припухшим и покрасневшим лицом, но если она спрашивала, что с ним, он отмахивался рукой и говорил с плохо сделанным удивлением:
– А что со мной? Ничего со мной!
Оля росла молчальницей. Она добродушно играла, бродила по комнатам с какими-то своими заботами, уходила в детский сад и возвращалась оттуда такая же спокойная, не склонная к беседам и улыбкам.
Евгения Алексеевна не могла жаловаться на детей, но какая-то тайная жизнь просвечивала в их поведении; этой тайной жизни мать не знала. Но она решила, что и так ясно: перемена обстановки для них будет полезна.
Но Евгения Алексеевна думала не только о детях. Невольно ее мысль сворачивала в сторону и с тихой обидой вспоминала, что в последние шесть месяцев у нее не было никакой жизни. Служба, столовая, дети, примус, починка, штопка и… больше ничего. телефон в ее квартире звонил все реже и реже, трудно вспомнить, когда он звонил в последний раз. За зиму она ни разу не была в театре. Была на одной вечеринке, на которую отправилась поздно, уложив детей спать и попросив соседку «прислушиваться».
На вечеринке за нею ухаживал веселый круглолицый блондин, гость из Саратова, директор какого-то издательства. Он заставил ее выпить две рюмки вина, после чего уже говорил не о недостатке бумаги, а о том, что со временем советское общество обязательно «нацепит на красивых женщин все драгоценности Урала, в противном случае их все равно девать будет некуда».
Евгения Алексеевна не была жеманной святошей и любила потушить за ужином. Она ответила гостю:
– Это глупости! Нам не нужны бриллианты! Бриллианты – это спесь для богатых, а наши женщины и без них хороши. Разве вы так не думаете?
Гость тонко улыбнулся:
– Н-нет, почему же. Вообще это неправильно, надеться, что бриллианты могут украсить безобразие. Как угодно нарядите урода, он станет еще уродливее. На теле красивой женщины сами драгоценности становятся богаче и прелестнее и ее красоту делают прямо… прямо царственной. Вам, к примеру, очень бы пошли топазы.
Евгения Алексеевна рассмеялась:
– Ах, действительно, мне только топазов не хватает!
Саратовский гость, любуясь, смотрел на нее через края рюмки.
– Впрочем, все это к слову, правда же. Вы и так хороши!
– Ну-ну!
– Да нет… я это… по-стариковски, правдиво… Если не нравится, расскажите в таком случае, как вы живете?
Евгения Алексеевна рассказывала ему о Москве, о театре, о модах и о людях, ей было весело и занятно, но вдруг она вспомнила, что уже двенадцатый час на исходе. Дома одни спят дети. Она заспешила домой, не ожидая конца вечеринки. Хозяева возмущались, блондин обижался, но никто не пошел проводить ее, и она одна пробежала по поздним улицам, стремясь к брошенным детям и убегая от обидной неловкости своего панического ухода.
Вот и этот блондин! Так и прошла бесследно эта встреча, а сколько их еще пройдет незамеченных?
Встал перед нею горький вопрос: неужели кончена, неужели кончена жизнь? Неужели впереди только починка, уборка и… старость?
Наутро Евгения Алексеевна послала Жукову по почте записку с согласием на отправку детей к дедушке. За обедом она сказала о своем решении детям. Оля выслушала ее сообщение безучастно, поглядывая на своих кукол, а Игорь задал несколько деловых вопросов:
– А чем поедем? Поездом?
– Там можно рыбу ловить?
– Пароходы там есть?
– Аэропланы там летают?
Евгения Алексеевна уверенно ответила только на первый вопрос. Игорь удивленно посмотрел на мать и спросил:
– А что там есть?
– Там есть дедушка и бабушка.
Оля хмуро отозвалась, посматривая на кукол:
– А почему там дедушка? И бабушка?
Евгения Алексеевна сказала, что дедушка и бабушка очень хорошие люди и там живут. Объяснение не удовлетворило Олю – она не дослушала его и отправилась к своим куклам.
После обеда Игорь подошел к матери, приник к ее плечу и спросил тихо:
– Знаешь что? Этот дедушка тот? Папин? С усами?
– Да.
– Знаешь что? Я не хочу ехать к дедушке.
– Почему?
– Потому что он пахнет. Знаешь… так пахнет!
Игорь рукой потрепал в воздухе.
– Глупости, – сказала Евгения Алексеевна. – Ничего он не пахнет. Все ты выдумываешь…
– Нет, он пахнет, – упрямо повторил Игорь. Он ушел в спальню и оттуда сказал громко, с настойчивой слезой:
– Знаешь что? Я не поеду к дедушке.
Евгения Алексеевна вспомнила своего свекра – он приезжал прошлым летом в гости к сыну. У него действительно были седые усы с пышными старомодными подусниками. Ему уже было за шестьдесят, но он бодрился, держался прямо, водку глушил стаканами и все вспоминал старое время, когда он работал сидельцем в винной лавке. От дедушки распространялся оригинальный, острый и неприятный запах, присущий неряшливым и давно не мытым старикам, но Евгению Алексеевну больше всего отталкивало его неудержимое стремление острить, сопровождая остроты особого значения кряканьем и смешком. Его звали Кузьмой Петровичем, и, вставая из-за стола, он всегда говорил:
– Спасибо богу та й вам, казал Кузьма и Демьян.
Проговорив это, он продолжительно щурился и закатывался беззвучным смехом.
Евгения Алексеевна подумала, что у этого дедушки детям будет «так себе». Да, с чего они живут? Пенсия? Хата своя. Сад, как будто. Может, сын высылает? А не все ли равно? Пусть об этом думает Жуков.
Что-то тревожное и нерадостное родилось в душе Евгении Алексеевны; подозрительным был и Жуков с его жалобой на затруднительность уплаты двухсот рублей; но в душе продолжали жить и неясные надежды на какие-то перемены, на новые улыбки жизни.
Через несколько дней Жуков прислал записку, в которой подробно описывал, когда и в каком порядке должны дети выехать к дедушке. Он давал до Умани провожатого; этот самый провожатый и принес записку. Это был юноша лет двадцати, чистенький, хорошенький и улыбающийся. У Евгении Алексеевны стало почему-то легче на сердце; оставалось только неприятное впечатление от такого места письма:
«Дорогу провожатого (туда и обратно) я оплачу, а тебя прошу дать рублей шестьдесят на билеты для детей, учитывая, что за Олю нужно четверть билета, – у меня сейчас положение очень тяжелое».
Но Евгения Алексеевна на все махнула рукой. Все больше и больше волновала ее мысль о том, что наконец-то она останется одна на два-три месяца, совершенно одна, в пустой квартире. Она будет спать, читать, гулять, ходить в парк и в гости. Сверх всего этого должно быть еще что-то, могущее решительно изменить ее жизнь и ее будущее, – об этом она боялась даже мечтать, но именно поэтому на душе становилось просторно и радостно.
Дети не омрачали эту радость. Игорь как будто забыл о своем недавнем протесте. Перспектива путешествия и новых мест увлекала их. Они весело познакомились с провожатым.
Оля расспрашивала его:
– Поезд, так это с окнами? И все видно? Поле? Какое поле?
Провожатый в предложенных вопросах не видел ничего существенного и отвечал пустой улыбкой, но Игорь придавал им большое значение и с увлечением рассказывал Оле:
– Там такие окна… не такие, как в комнате, а так задвигаются, вниз задвигаются. Когда смотришь, так ветер, и все бежит и бежит.
– А поле какое?
– Это все земля и земля, и все растет. Трава, и деревья, и эти, как их, хаты. И коровы ходят и еще овцы. Целые такие кучи!
В этих вопросах Игорь обладал большими познаниями, так как в своей жизни несколько раз путешествовал. Эти разговоры отвлекали его от запахов дедушки. Но когда пришел день отъезда, Игорь с утра расхныкался, сидели в углу и повторял:
– Так и знай, все равно, возьму и уеду. Вот увидишь, возьму и уеду. И с какой стати! И почему ты не едешь? Какой отпуск? А тебе все равно будет скучно без нас. Так и знай.
Оля просидела целый день на своем раскрашенном стуле и все о чем-то думала. Когда пришло время собираться на вокзал, она заплакала громко, по-настоящему, дрыгала ногами, отталкивая новые туфли, и все протягивала руки к матери. Только этот жест, сохранившийся у нее с раннего детства, обозначал что-то определенное, потому что слов нельзя было разобрать в ее плаче.
Провожатый был уже здесь и весело старался уговорить Олю:
– Такая хорошая девочка и кричит? Разве так можно?
Оля махала на него мокрой рукой и еще громче завопила:
– Да… мам – и больше ничего не разберешь.
С большим трудом, вспоминая вагонные окна, коров и поле за окнами, рассказывая о волшебных садах дедушки и о чудесной реке, по которой ходят белые пароходы и рыбаки проносятся на раздутых парусах, удалось Евгении Алексеевне успокоить детей. Потом до самого отхода поезда она вспоминала жуткий ход, сделанный ею в отчаянии:
– Едем, детки, на вокзал, едем. Вы не грустите, все будете прекрасно. А на вокзале папку увидите, папка будет вас провожать…
Услышав это, Оля радостно взвизгнула, и на мокром ее личике различалось выражение смеющегося счастья. Игорь как-то недоверчиво морщил носик, но сказал весело:
– Вот это да! Посмотрим, какой теперь папка! Может, он теперь не такой?
На улице их ожидала служебная легковая машина Жукова. за рулем сидел все тот же шофер, всегда небритый и строгий Никифор Иванович. Игорь пришел в полное восхищение:
– Мама! Смотри: Никифор Иванович!
Никифор Иванович повернулся на своем месте, небывало сиял и пожимал всем руки. Он спросил:
– Как поживаешь, Игорь?
– А вы теперь не сердитый, Никифор Иванович! А я поживаю… – Игорь вдруг покраснел и поспешил по другому вопросу: – Сколько теперь тысяч? Двадцать семь! Вот это нацокало…
На вокзале в буфете их ожидал Жуков. Он искусственно и церемонно поклонился Евгении Алексеевне и немедленно был отвлечен протянутыми ручонками Оли. Он поцеловал ее и усадил к себе на колени. Оля в замешательстве ничего не могла сказать, только молча смеялась и поглаживала ладошками лацканы светло-серого пиджака отца. Наконец, она сказала нежно, склонив набок головку:
– Это новая куртка? Это пинжак? Да? Новый? А где ты теперь живешь?
Жуков улыбнулся с таким выражением, какое всегда бывает у взрослых, когда их приводит в восторг остроумие малышей. Игорь неловко стоял против отца, смотрел на него, опустив голову, и притоптывал одной ногой. Жуков протянул ему руку и спросил так же, как спрашивал Никифор Иванович:
– Ну, как поживаешь Игорь?
Игорь не успел ответить, он как-то странно поперхнулся, проглотил слюну, залился краской и отвернул лицо в противоположную сторону. Неизвестно откуда в глаз вошла слеза. Игорь так и стоял, отвернувшись от отца, сквозь слезу видел искрящиеся предметы, белые скатерти на столах, большие цветы и золотой шар на буфетной стойке.
– Мама! Смотри: Никифор Иванович!
Жуков нахохлился, осторожно приподнял Олю и поставил ее на пол. Ее ручонка в последний раз скользнула по серому лацкану нового пиджака и упала. Куда-то упала и ее улыбка, от нее остались на лице только отдельные разорванные кусочки.
Жуков достал бумажник и передал провожатому на билет.
– Смотрите, не потеряйте, он – обратный. И письмо. На вокзале вас встретят, а если не встретят, там недалеко.
– Ну, до свиданья, малыши, – сказал он, весело обращаясь к детям, – вы все по курортам, а меня ждут дела. Ох, эти дела, правда, Игорь?
Возвратившись с вокзала, Евгения Алексеевна почувствовала, что она находится во власти беспорядка. Беспорядок был и в комнате – обычный разгром, сопровождающий отъезд, беспорядок был и в душе. жуков обещал возвратить на вокзал машину, чтобы отвезти ее домой. Она лишние полчаса просидела на вокзале, ожидая машину, и не дождалась, стала в очередь к автобусу. А впрочем, черт с ним, с этим Жуковым. Кажется, провожатому он дал бесплатный билет.
Евгения Алексеевна занялась уборкой, потом согрела ванну и искупалась. По мере того, как вокруг нее все принимало обычный вид, и на душе становилось удобнее. Непривычное одиночество в квартире, тишина, чистота воспринимались почти как праздник. Она как будто впервые заметила свежесть воздуха в открытом окне, тиканье часов и уютную мягкость коврика на полу.
Евгения Алексеевна сделала прическу, вытащила со дна ящика давно забытый шелковый халатик, долго вертелась перед зеркалом, рассматривая интимную прелесть кружев и голубых лент на белье, стройные ноги и выдержанную линию бедер. Сказала задорно-громко:
– Дурак этот Жуков! Ты, Евгения, еще красивая женщина!
Она еще раз повернулась перед зеркалом, потом живо и энергично подскочила к книжному шкафу и выбрала томик Генри. Взобравшись с ногами на диван, она прочитала один рассказ, крепко потянулась, улеглась и принялась мечтать.
Но пришел завтрашний день, потом еще один, потом третий, и стало ясно, что мечты ее кружили в одиночестве, и жизнь не хотела мечтать с нею, а трезво катилась в прежнем направлении. На службе были те же бумажки, вызывные звонки управляющего, очередь посетителей и мелкие, будничные новости. Через учреждение, как и раньше, ритмически перекатывались волны дела. деловые люди, как и раньше, вертели соответствующие колесики, а в четыре часа гремели ящиками столов и с посеревшими лицами спешили домой. Что там у них за дома и куда они спешат? Какие у них, подумаешь, притягательные жены! Они спешили обедать, просто им хотелось есть. Во всяком случае, Евгения Алексеевна шла домой одна – всем было с ней не по дороге. Дома, как и раньше, она разводила примус и кое-что себе говорила. Шум примуса казался теперь невыносимо оглушительным и однообразным. Таким же однообразно-скучным был и обед.
На работе вокруг нее вертелось до трех десятков мужчин. Они вовсе не были плохие и почти все были чуточку влюблены в своего секретаря. Но все это был семейный народ, было бы в высшей степени гадко отнимать их у жен и детей…
Но и без близкого мужчины было неуютно, особенно после того, как воображение взбудоражилось неожиданной и непривычной свободой. Евгения Алексеевна уже несколько раз поймала себя на рискованно-игривом тоне в разговоре с некоторыми окружающими. В этой игре она сама неприятно ощущала почти деловую сухость и холодное намерение. В ее поведении не было необходимой простоты и свободы. Как будто она водила на цепочке соскучившуюся женщину и рассчитывала – куда бы ее пристроить?
Вечером Евгения Алексеевна лежала и думала. Господи, нельзя же так! Что это такое? Надо влюбиться, что ли! Как влюбиться? В восемнадцать лет любовь стоит впереди как неизбежная и близкая доля, ее не нужно искать и организовывать. Впереди стоят и любовь, и семья, и дети, впереди стоит жизнь. А теперь, в тридцать три года, любовь нужно сделать, нужно торопиться, нужно не опоздать. И впереди стоит не жизнь, а какой-то ремонт старой жизни; в каком винегрете эта старая жизнь должна быть смешана с новой?
Постепенно падала уверенность духа у Евгении Алексеевны. Прошло все две недели, а неразборчивость и неприглядность будущего успели стать во весь рост, и снова за ним замаячила корявая фигура старости. Заглядывая в зеркало, Евгения Алексеевна уже не радовалась наряду кружев и бантиков, а искала и находила новые морщинки.
И в это время как раз ангел любви пролетел над нею, и на Евгению Алексеевну упала розовая тень его сияющих крыльев.
Случилось это, как всегда случается, нечаянно. Из Саратова прибыл в командировку тот самый блондин, который любил драгоценные камни. Он приехал шумный и насмешливый, ходил по служебным кабинетам, требовал, ругался и дерзил. Евгения Алексеевна с удовольствием наблюдала за этой веселой энергией и так же энергично старалась отбивать его нападение. Он кривил лицо в жалобной мине и, повышая голос до писка, говорил:
– Красавица! И вы обратились в бюрократа! Кошмар! Скоро нельзя будет найти ни одного свежего человека.
– Но нельзя же иначе, Дмитрий Дмитриевич, правила есть. Как это вы так напишете «просто»?
– А вот так и напишу. Дайте бумажку.
Он схватил первый попавшийся обрывок бумаги и широкими движениями карандаша набросал несколько строк. Евгения Алексеевна прочитала и пришла в радостный ужас: там было написано: «В Управление треста. Дайте три тонны бумаги. Васильев».
– Не годится? – презрительно спросил Дмитрий Дмитриевич. – Скажите, почему не годится? Почему?
– Да кто же так пишет? «Дайте!» Что вы, ребенок?
– А как? А как нужно писать? Как? – действительно с детской настойчивостью спрашивал Дмитрий Дмитриевич. – Надо написать: настоящим ходатайствую об отпуске… на основании… и в виду… а также принимая во внимание. Так?
Евгения Алексеевна улыбалась с выражением превосходства и на минуту даже забывала, что она женщина.
– Дмитрий Дмитриевич, ну как же так «дайте»? Надо же основание – для чего, почему?
– Звери! Изверги! Кровопийцы! – запищал Васильев, стоя посреди комнаты и размахивая кулаком. – Третий раз приезжаю! Четыре тонны бумаги исписали, доказывали, объясняли! Все вам известно, все вы хорошо знаете, на память знаете! Н-нет! Довольно!
Он схватил свою дикую бумажку и ринулся в кабинет управляющего Антона Петровича Вощенко. Через пять минут он вышел оттуда с преувеличенным горем на полном лице и сказал:
– Не дал. Говорит: пришлите плановика, проверим. Такие люди называются в романах убийцами.
Евгения Алексеевна смеялась, а он присел в углу и как будто заскучал, но скоро подошел к столу и положил перед ней листик из записной книжки. На нем было написано:
В тресте даже для столицы
Есть хорошенькие лица,
Но ужасно портит тон
Этот Вощенко Антон!!
Евгении Алексеевне стало весело, как давно не было, а он стоял перед ней и улыбался. Потом, осмотревшись, поставил локти на вороха папок и зашептал:
– Знаете что? Плюнем на все эти бюрократические порядки…
– Ну, и что? – спросила она с тайной тревогой.
– А поедем обедать в парк. Там чудесно: есть зеленые деревья, пятьдесят квадратных метров неба и даже – я вчера видел, вы себе представить не можете, – воробей! Такой, знаете, энергичный и, по-видимому, здоровый воробышек. Наверное, наш – саратовский!
За обедом Васильев шутил, шутил, а потом задал вопрос:
– Скажите мне, красавица, вы, значит, есть не что иное, как брошенная жена?
Евгения Алексеевна покраснела, но он перехватил ее обиду, как жонглер:
– Да вы не обижайтесь, дело, видите ли, в том, что я, – он ткнул пальцем в свою грудь, – я есть брошенный муж.
Евгения Алексеевна поневоле улыбнулась, он и улыбку это поднял на руки:
– Мы с вами друзья по несчастью. И ведь незаслуженно, правда? И вы красивая, и я красивый, какого им хрена нужно, не понимаю. До чего плохой народ, привередливый, убиться можно!
Потом они бродили по парку, ели мороженое в каком-то кафе и под вечер попали на футбольный матч. Смотрели, болели, Дмитрий Дмитриевич вякал:
– До чего это полезная штука: футбол! В особенности для умственного развития! Ну, что ж? Я вижу, что они только и будут делать, что гонять этот мяч… Не поискать ли других острых ощущений? например, кино?
А через минуту он решительно предложил:
– Нет, отставить кино! В кино жарко, и поэтому мне страшно захотелось чаю. Пойдемте к вам чай пить.
Так началась эта любовь. Евгения Алексеевна не противилась любви, потому что любовь хорошая вещь, а у Васильева все выходило весело и просто, как будто иначе и быть не могло.
Но через три дня Васильев уезжал. На прощание он взял ее за плечи и сказал:
– Вы прекрасны, Евгения Алексеевна, вы замечательны, но я не буду на вас жениться…
– О, нет…
– Я боюсь жениться. У вас двое детей, семья, а я и без детей муж, по всей вероятности, неважный. Мне страшно, просто страшно. Это знаете, очень тяжело, когда тебя жена бросает. Это удивительно неприятно! Брр! И с тех пор я боюсь. Перепуган. Хочется побыть одному, это далеко не так опасно. Но если вам нужен будет помощник для… какого-нибудь там дела, морду кому-нибудь набить или в этом роде, – я в вашем распоряжении.
Он уехал, а Евгения Алексеевна, отдохнув от неожиданного любовного шквала, грустно почувствовала, что ее жизнь вплотную подошла к безнадежности.
Проходили дни. В душе крепко поместился и занял много места образ Дмитрия Дмитриевича. Нет, это не была случайная греховная шутка. Образ Васильева был милым и притягательным образом, и поэтому так щемило сердце, ибо оно понимало, что Дмитрий Дмитриевич испугался двух детей и сложностей новой семьи. Хотелось нежно сказать ему:
– Милый, не нужно бояться моих детей, они добрые, прекрасные существа, они щедро заплатят за отцовскую ласку.
Дети теперь вспоминались с нестерпимой нежностью. В будущем только они стояли рядом с нею, а капризная прелесть Дмитрия Дмитриевича могла годиться только для игры воображения. Что он такое? Случайный расписной пряник, мгновенный луч зимнего солнца? Дети… И вот это будущее. И только!
От Игоря было получено одно письмо. В аккуратных ученических строчках его было беспокойство. Игорь писал:
«Мама, мы здесь живем у дедушки и у бабушки. Мы сильно скучаем. Дома жить лучше. Дедушка нам все рассказывает, а бабушка мало рассказывает. Речки здесь никакой нету и пароходов нету. Яблок тоже нету, только есть вишни. На деревья нельзя лазить, а бабушка нам дает вишни, а другие вишни продает на базаре. Я тоже ходил на базар, только вишней не продавал, а смотрел на людей, какие люди. Вчера приехал папа и уехал. Целую тебя тысячу раз.
Любимый твой сын Игорь Жуков».
Евгения Алексеевна задумалась над письмом. Только одна строчка говорила прямо: «Дома жить лучше». Бабушка, по всей вероятности, не очень ласкова с детьми. Вишен для них жалеет. И зачем приезжал папа? Что ему нужно?
Беспокойство Евгении Алексеевны не успело разгореться как следует пришло второе письмо:
«Милая наша мамочка, нельзя больше терпеть. Забери нас отсюда. Яблок еще нету, а вишней нам дают мало, все жадничают. Мамочка, забери скорей, приезжай, потому что терпения больше нету.
Любимый твой сын Игорь Жуков».
Евгения Алексеевна в первый момент растерялась. Что нужно делать? Сказать Жукову. Ехать самой? Послать кого-нибудь? Кого послать? Ага, того самого провожатого.
Она бросила к телефону. После разрыва она первый раз услышала голос мужа в телефонной трубке. Голос был домашний, знакомый. Он теперь казался самодовольным и сытым. Разговор был такой:
– Чепуха! Я был там в командировке. Прекрасно все.
– Но дети не хотят жить.
– Мало ли чего? Чего могут хотеть дети!
– Я не хочу спорить. Вы не можете послать того самого молодого человека?
– Нет, не могу.
– Что?
– Не могу я никого посылать. И не хочу.
– Вы не хотите?
– Не хочу.
– Хорошо, я сама поеду. Но вы должны помочь деньгами.
– Благодарю вас, не хочется участвовать в ваших истериках, капризах. И предупреждаю: до сентября я все равно денег вам присылать не буду.
Евгения Алексеевна хотела еще что-то сказать, но трубка упала.
Никогда еще ни один человек в жизни не вызывал у нее такой ненависти. Отправка детей в Умань была для Жукова только выгодным предприятием. Как мог этот жалкий человек обмануть ее? зачем она малодушно поддалась его предложению? Неужели? Ну, конечно, и она поступила, как жадная тварь, которой мешали дети. Дмитрий Дмитриевич? Ну, что ж? И он боится этих несчастных детей. Всем они мешают, у всех стоят на дороге, все хотят столкнуть их куда-нибудь, запрятать.
В полном развернутом гневе действовала Евгения Алексеевна в эти дни. Выхлопотала себе трехдневный отпуск. Продала две бархатные гардины и старые золотые часы, послала телеграмму Игорю. И самое главное: налитыми гневом глазами глянула на телефонную трубку на столе и сказала:
– Вы не будете платить? Посмотрим!
На другое утро она подала заявление в суд. Слово «алименты» мелькало в коридорах суда.
Вечером она выехала в Умань. В ее душе теснились большие чувства: взволнованная и грустная любовь к детям, обиженная нежность к Дмитрию Дмитриевичу и нестерпимая ненависть к Жукову.
У стариков Жуковых она была от поезда до поезда. Там она нашла такую раскаленную атмосферу вражды и такую тайную войну, что задерживаться нельзя было ни на один час, тем более что ее приезд очень усилил детскую сторону. После первых ошеломляющих объятий и слез дети оставили мать и бросились на врага.
У Оли личико сделалось злым и нахмуренным, и на нем было написано только одно: беспощадность. Она входила в комнаты с большой палкой и старалось колотить этой палкой по всему решительно: по столам и стульям, по подоконникам, она только стекло почему-то не била. Старики старались отнять у нее палку и спрятать. Потеряв оружие, Оля замахивалась ручонкой на деда, закусывала губу и шла искать другую палку, не теряя на лице выражения беспощадности. Дедушка следил за ней настороженным глазом разведчика и говорил:
– Плохих воспитали детей, сударыня! Разве это ребенок? Это моровое поветрие!
Игорь смотрит на дедушку с искренним презрением:
– Это вы моровое поветрие! Вы имеете право бить нас ремешками? Имеете право?
– Не лазьте по деревьям!
– Жаднюги! – с отвращением продолжает Игорь. – Сквалыги! Скупердяи! Он
– Кощей, а она – баба-яга!
– Игорь! Что ты говоришь! – останавливает сына мать.
– Ого! он еще и не так говорил. Скажи, как ты говорил?
– Как я говорил? Отцу они такого наговорили! – Игорь передразнил: – У нас ваши птенчики, как у Христа за пазухой. У Христа! Он сам, как Христос, ха. По десять вишен на обед! За пазухой! А что он про тебя говорил? говорил: ваша мать за отцом поплакала, поплакала!
В переполненном твердом вагоне, кое-как разместив вещи и детей, Евгения Алексеевна оглянулась с отчаянием, как будто только что выскочила из горящего дома. У Оли и в вагоне оставалось на лице выражение беспощадности, и она не интересовалась ни окнами, ни коровами. Игорь без конца вспоминал отдельные случаи и словечки. Евгения Алексеевна смотрела на детей, и ей хотелось плакать не то от любви, не то от горя.
Снова у Евгении Алексеевны потекли дни, наполненные активностью сердца, заботами и одиночеством. Одиночество пришло новое, независимое от людей и дел. Оно таилось в глубине души, питалось гневом и любовью. Но гнев отодвинул любовь в самый далекий угол. Без рассуждений и доказательств пришла уверенность, что Жуков преступник, человек опасный для общества и людей, самое низкое существо в природе. Досадить ему, оскорбить, убить, мучить могло сделаться мечтой ее жизни.
И поэтому с таким жестким злорадством она выслушала его голос в телефонной трубке после постановления суда, присудившего Жукову уплату алиментов по двести пятьдесят рублей в месяц:
– Я чего угодно мог ожидать от вас, но такой гадости не ожидал…
– Угу!
– Что? Вы обыкновенная жадная баба, для которой благородство непонятная вещь.
– Как вы сказали? Благородство?
– Да, благородство. Я оставил вам полную квартиру добра, библиотеку, картины, вещи…
– Это вы из трусости оставили, из подлости, потому что вы – червяк…
– А теперь вы позорите мое имя, мою семью…
Силы изменили Евгении Алексеевне. Она изо всей силы взяла трубку обеими руками, как будто это было горло Жукова, потряс трубкой и хрипло закричала в нее:
– Мелкая тварь, разве у тебя может быть семья?
Она произносила бранные слова, и они ее не удовлетворяли, а других, более оскорбительных, она не находила. Для нее самой становилась невыносимой эта одинокая ненависть. Нужно было о ней кому-то рассказывать, усиливая краски, вызывать у людей такую же ненависть, добиться того, чтобы люди называли Жукова мерзавцем, червяком. Хотелось, чтобы люди презирали Жукова и выражали это презрение с такой силой, как она. Но ей некого было привлечь в соучастники своей злобы, и она удивленно раздумывала: почему люди не видят всей низости Жукова, почему разговаривают с ним, работают, шутят, подают ему руку.
Но люди не видели отвратительной сущности Жукова и не поступали с ним так, как хотелось Евгении Алексеевне. Только дети видели всю глубину ее горя и раздражения, и с детьми она давно перестала стесняться. Очень часто вспоминала при них о муже, выражала презрительные мысли, произносила оскорбительные слова. С особым торжеством она сообщила им о постановлении суда:
– Ваш милый папенька воображает, что мне нужна его милостыня – двести рублей! Он забыл, что живет в Советском государстве. Будет платить по суду, а не заплатит, в тюрьме насидится!
Дети выслушивали такие слова молча. Оля при этом хмурилась и сердито задумывалась. Игорь посматривал иронически.
В характере детей после поездки к дедушке произошли изменения. Евгения Алексеевна видела их, но у нее не находилось свободной души, чтобы задуматься над этим. Она останавливала внимание на том или ином детском проявлении, но в ту же минуту на нее стремительно набегали новые заботы и приступы гнева.
У Игоря изменилось даже выражение лица. Раньше на нем всегда была разлита простая и доверчивая ясность, украшенная спокойной и умной бодростью карих глаз. Теперь на этом лице все чаще и чаще стало появляться выражение хитроватой подозрительности и осуждающей насмешки. Он научился посматривать вкось, прищурив глаза, его губы умели теперь неуловимо змеиться, как будто они надолго заряжены были презрением.
У соседей была вечеринка, – конечно, обычное семейное веселье, какое может быть у каждого. Вечером из их квартиры доносятся звуки патефона и шарканье ног по полу – танцуют. Игорь лежит уже в постели. Он налаживает свою высокомерную и всепонимающую гримасу и говорит:
– Накрали советских денег, а теперь танцуют!
мать удивлена:
– Откуда ты знаешь, что они накрали?
– Конечно, накрали, – с пренебрежительной уверенностью говорит Игорь, а что им стоит накрасть? Коротков, знаешь, где служит? Он магазином заведует. Взял и накрал.
– Как тебе не стыдно, Игорь, сочинять такие сплетни? Как тебе не стыдно?
– Им не стыдно красть, а чего мне будет стыдно? – так же уверенно говорит Игорь и смотрит на мать с таким выражением, как будто знает, что и она что-то «накрала», ему только не хочется говорить.
Глубокой осенью у Евгении Алексеевны остановилась приехавшая в Москву на несколько дней сестра Надежда Алексеевна Соколова. Она была гораздо старше Евгении и массивнее ее. От нее отдавало тем приятным и убедительным покоем, какой бывает у счастливых, многодетных матерей. Евгения Алексеевна обрадовалась ей и с жаром посвятила во все подробности своей затянувшейся катастрофы. Разговаривали они больше в спальне наедине, но иногда за обедом Евгения Алексеевна не могла удержаться. Отвечая на ее сетования, Надежда как-то сказала:
– Да ты брось нудьбой заниматься! Чего ты ноешь? Выходи замуж второй раз! На них смотришь? На Игоря? Да Игорю мужчина нужнее, чем тебе. Что он у тебя растет в бабской компании? Не кривись, Игорь, – смотри, какой деспотический сын! Он хочет, чтобы мать только и знала, что за ним ходить. Выходи. Ихний брат к чужим детям лучше относится, чем мы. Они шире…
Игорь ничего не сказал на это, только пристально рассматривал тетку немигающими глазами. Но когда Надежда уехала, Игорь не пожалел ее:
– Ездят тут разные… Жила у нас пять дней, все даром, конечно, для нее выгода. На чужой счет… еще бы!
– Игорь, меня начинают раздражать твои разговоры!
– Конечно, тебя раздражают! Она тебе наговорила, наговорила, про мужчин разных! Выходи замуж, выходи замуж, так ты и рада!
– Игорь, перестань!
Евгения Алексеевна крикнула это громко и раздраженно, но Игорь не испугался и не смутился. По его губам пробежала эта самая змейка, а глаза смотрели понимающие и недобрые.
О характере Игоря доходили плохие слухи и из школы. Потом Евгению Алексеевну пригласил директор.
– Скажите, откуда у вашего мальчика такие настроения? Я не допускаю мысли, что это ваше влияние.
– А что такое?
– Да нехорошо, очень нехорошо. Об учителях он не говорит иначе, как с осуждением. Учительнице сказал в глаза: вы такая вредная, потому что жалованье за это получаете! И вообще в классе он составляет ядро… ну… сопротивления.
Директор при Евгении Алексеевне вызвал Игоря и сказал ему:
– Игорь, вот при матери дай обещание, что ты одумаешься.
Игорь быстро глянул на мать и нагло скривил рот. переступил с ноги на ногу и отвернулся со скучающим видом.
– Ну, что же ты молчишь?
Игорь посмотрел вниз и снова отвернулся.
– Ничего не скажешь?
Игорь поперхнулся смехом – так неожиданно смех набежал на него, но в первый же момент остановил смех и сказал рассеянно:
– Ничего не скажу.
Директор еще несколько секунд смотрел на Игоря и отпустил его:
– Ну, иди.
Мать возвратилась домой испуганная. Перед этой мальчишеской злобностью она стояла в полной беспомощности. В ее душе давно все было разбросано в беспорядке, как в неубранной спальне. А у Игоря начинала проглядывать цельная личность, и эту цельность ни понять, ни даже представить Евгения Алексеевна не умела.
Жизнь ее все больше и больше тонула в раздражающих конфликтах. На службе произошло несколько конфликтов, виновата в них была главным образом ее нервность. Алименты от Жукова поступали неаккуратно, нужно было писать на него жалобы. Жуков уже не звонил ей, но о его жизни и делах доходили отзвуки. У новой жены его родился ребенок, и Жуков поэтому возбудил дело об уменьшении суммы алиментов.
Весной он на улице встретил Игоря, усадил в машину, катал по Ленинградскому шоссе, а на прощание подарил ему свой ножик, состоящий из одиннадцати предметов. Игорь возвратился с прогулки в восторженном состоянии, размахивал руками и все рассказывал о новых местах, папиных шутках и папиной машине. Ножик он привязал на шнурок к карману брюк, целый день раскрывал и закрывал его, а вечером достал где-то прутик, долго обстургивал его, насорил во всех комнатах и, наконец, обрезал палец, но никому не сказал об этом и полчаса обмывал палец в умывальнике. Евгения Алексеевна увидела кровь, вскрикнула:
– Ах ты, господи, Игорь, что ты делаешь? Брось свой гадкий нож!
Игорь обернулся к ней озлобленный:
– Ты имеешь право говорить «гадкий нож»? Ты имеешь право? Ты мне его не подарила! А теперь «гадкий нож»! Потому что папка подарил! Так тебе жалко?
Евгения Алексеевна плакала в одиночку, потому что и дома не от кого было ожидать сочувствия. Оля нее воевала с матерью и не дерзила ей, но она перестала повиноваться матери, и это выходило у нее замечательно, без оглядки и страха. Целыми днями она пропадала то во дворе, то у соседей, возвращалась домой измазанная, никогда ни о чем не рассказывала и не отзывалась на домашние события. Иногда она останавливалась против матери, закусив нижнюю губу, смотрела на нее сурово и непонятно и так же бессмысленно поворачивалась и уходила. Запрещений матери она никогда не дослушивала до конца – над ней не было никакой власти. Даже в те минуты, когда мать меняла Оле белье или платье, Оля смотрела в сторону и думала о своем.
Наступали тяжелые дни, полные отчаяния и растерянности. Не такое уже и давнее время счастья перестало даже мелькать в воспоминаниях, да и что хорошего могла принести память, если в памяти нельзя было обойтись без Жукова.
Весной Евгения Алексеевна начала подумывать о смерти. Она еще не вполне ясно представляла, что может произойти, но смерть перестала быть страшной.
От Дмитрия Дмитриевича изредка приходили письма, нежные и уклончивые в одно время. В апреле он приехал снова в командировку, задержал ее руку в своей, и взгляд его не то просил о прощении, не то говорил о любви. Из треста они вышли вместе. Она ускорила шаг, как будто надеялась, что он не догонит ее. Он взял ее за локоть и сказал суровым, серьезным голосом:
– Евгения Алексеевна, нельзя же так.
– А как можно? – она остановилась на улице и посмотрела в его глаза. Он ответил ей глубоким взглядом серых глаз, но ничего не сказал. Поднял шляпу и свернул в переулок.
В мае произошли события.
В одной из соседних квартир муж сильно избил жену… Муж был журналист, пользовался известностью, считался знатоком в каких-то специальных вопросах. Все верили, что Горохов талантливый и хороший человек. Избитая жена переночевала одну ночь у Коротковых. И Коротковы, и Жуковы, и другие знали, что Горохов с женой обращается плохо, а она не способна даже подумать о протесте. Все привыкли считать, что это касается Гороховых, это их семейный стиль, рассказывали о них анекдоты, смеялись, но при встрече с гороховым не высказывали сомнений в том, что он хороший и талантливый человек.
Узнав о новом скандале, Евгения Алексеевна долго ходила из комнаты в комнату, молча любовалась узором на скатерти, потом нашла в столовой забытую на столе бутылочку с уксусом и долго рассматривала белые фигурные буквы на темно-синем фоне этикетки. Края этикетки были желтые, и было там написано много разных слов; она увлеклась одним: «Мособлпищепромсоюз». В ее глазах сверкнула даже улыбка иронии: не так легко было перевести это слово на обыкновенный язык: московский областной пищепромышленный союз. А может быть, и не так, пищепромышленный как-то нехорошо. Ее глаза остановились на скромной виньетке, удивились ее простоте.
Осторожно поставив бутылочку на стол, она вышла на лестницу, спустилась вниз и позвонила к Коротковым. Там выслушала жалкий бабий равнодушный лепет избитой жены, глядела на нее сухими воспаленными глазами и ушла, не чувствуя ни своего тела, ни своей души.
Поднимаясь по лестнице, она неожиданно для себя толкнула дверь Горохова. Ее никто не встретил. В первой комнате сидела девочка лет четырех прямо на голом грязном полу, и перебирала табачные коробки. Во второй комнате за письменным столом она увидела самого Горохова. Это был маленький человек с узким носиком. Он удивленно поднял голову к Евгении Алексеевне и по привычке приветливо улыбнулся, но заметил что-то странное в ее горящих глазах и привстал. Евгения Алексеевна прислонилась плечом к двери и сказала, не помня себя:
– Знаешь что? Знаешь что, мерзавец? Я сейчас напишу в газету.
Он смотрел на нее зло и растерянно, потом положил ручку на стол и отодвинул кресло одной рукой.
Она быстро подалась к нему и крикнула:
– Все напишу, вот увидишь, скотина!
Ей показалось, что он хочет ее ударить. Она бросилась вон из комнаты, но страха у нее не было, ее переполняли гнев и жажда мести. Влетев в свою комнату, она сразу же открыл ящик письменного стола и достала бумагу. Игорь сидел на ковре и раскладывал палочки, проверяя их длину. Увидев мать, Игорь бросил работу и подошел к ней:
– Мама, ты получила деньги?
– Какие деньги? – спросила она.
– От отца. Папины деньги получила?
Евгения Алексеевна бросила удивленный взгляд на сына. У него вздрагивала губа. Но Евгения Алексеевна думала все-таки о Горохове.
– Получила, а тебе что нужно?
– Мне нужно купить «конструктор». Это игра. Мне нужно. Стоит тридцать рублей.
– Хорошо… А при чем папины деньги? Деньги все одинаковы.
– Нет, не одинаковы. То твои деньги, а то мои!
Мать пораженная смотрела на сына. Все слова куда-то провалились.
– Ты чего на меня смотришь? – сгримасничал Игорь. – Деньги эти папа для нас дает. они наши, а мне нужно купить «конструктор»… И давай!
Лицо у Игоря было ужасно: это было соединение наглости, глупости и бесстыдства. Евгения Алексеевна побледнела, отвалилась на спинку стула, но увидела приготовленный листик бумаги и… все поняла. В самой глубине души стало тихо. Не делая ни одного лишнего движения, ничего не выражая на белом лице, она из стола достала пачку десяток и положила на стекло. Потом сказала Игорю, вкладывая в каждое слово тот грохот, который только что прокатился в душе:
– щенок! Вот деньги, видишь? Говори, видишь?
– Вижу, – сказал тихо испуганный Игорь, не трогаясь с места, как будто его ноги приклеились к полу.
– Смотри!
Евгения Алексеевна на том же заготовленном листке бумаги написала несколько строк.
– Слушай, что я написала:
«Гражданину Жукову.
Возвращаю поступившие от вас деньги. Больше посылать не трудитесь. Лучше голодать, чем принимать помощь от такого, как вы. Е».
Не отрываясь взглядом от лица сына, она запечатал деньги и записку в конверт. У Игоря было прежнее испуганное выражение, но в глазах уже заиграли искорки вдохновенного интереса.
– Этот пакет ты отнесешь этому гражданину, который бросил тебя, а теперь подкупил тебя старым ножиком. Отнесешь к нему на службу. Понял?
Игорь кивнул головой.
– Отнесешь и отдашь швейцару. Никаких разговоров с от… с Жуковым.
Игорь снова кивнул головой. Он уже разрумянивался на глазах и следил за матерью, как за творящимся чудом.
Евгения Алексеевна вспомнила, что-то еще нужно сделать…
– Ага! Там рядом редакция газеты… Впрочем, это я отправлю по почте.
– А зачем газета? Тоже о… этом… Жу…
– О Горохове. Напишу о Горохове!
– Ой, мамочка! И ногами бил, и линейкой! Ты напишешь?
Она с недоверием присматривалась к Игорю. Мать не хотела верить его сочувствию. Но Игорь серьезно и горячо смотрел ей в глаза.
– Ну, иди, – сказала она сдержанно.
Он выбежал из комнаты, не надевая кепки. Евгения Алексеевна подошла к окну и видела, как он быстро перебегал улицу, в его руке белел конверт, в котором она возвращала жизни свое унижение. Она открыла окно. На небе происходило оживленное движение: от горизонта шли грозовые тучи. Главные их силы мрачно чернели, а впереди клубились веселые белые разведчики; далеко еще ворчал гром, от него в комнату входила прохлада. Евгения Алексеевна глубоко вздохнула и села писать письмо в газету. Гнева в ней уже не было, но была холодная, уверенная жесткость.
Игорь возвратился через полчаса. Он вошел подтянутый и бодрый, стал в дверях и сказал звонко:
– Все сделал, мама!
Мать с непривычной, новой радостью взяла его за плечи. Он отвел было глаза, но сейчас же глянул ей в лицо чистым карим лучом и сказал:
– Знаешь что? Я и ножик отдал.
Письмо Евгении Алексеевны в газету имело большой резонанс, ее личность вдруг стала в центре общественного внимания. К ней приезжали познакомиться и поговорить. Целый день звонил телефон. Она не вполне ясно ощущала все происходящее, было только понятно, что случилось что-то важное и определяющее. Она в особенности убедилась в этом, когда поговорила с Жуковым.
– Слушайте, как я должен принять вашу записку?
Евгения Алексеевна улыбнулась в трубку:
– Примите это как пощечину.
Жуков крякнул в телефон, но она прекратила разговор.
Ей захотелось жить и быть среди людей. И люди теперь окружили ее вниманием. Игорь ходил за матерью, как паж, и осматривался вокруг с гордостью. Никто с ним не говорил об отце, все интересовались Евгенией Алексеевной, как автором письма о Горохове. Игорь сказал ей:
– Они все про Горохова, а про нас с тобой ничего и не знают. Правда?
Мать ответила:
– Правда, Игорь. Только ты еще помоги мне. Займись, пожалуйста, Ольгой, она совсем распустилась.
Игорь немедленно занялся. Он через окно вызвал Ольгу со двора и сказал ей:
– Слушайте, уважаемый товарищ Ольга! Довольно вам дурака валять!
Ольга направилась к двери. Игорь стал в дверях. Она глянула на Игоря:
– А как?
– Надо слушаться маму.
– А если я не хочу?
– Ну… видишь… теперь я над тобой начальник. Ты понимаешь?
Ольга кивнула головой и спросила:
– Ты начальник?
– Пойдем к маме…
– А если я не хочу?
– Это не пройдет, – улыбнулся Игорь.
– Не пройдет? – посмотрела на него лукаво.
– Нет.
С тем же безразличным выражением, с каким раньше Оля выходила от матери, сейчас она двинулась в обратном направлении. Игорь чувствовал, что над ней еще много работы.
У матери произошел разговор, имеющий директивный характер. Оля слушала невнимательно, но рядом с матерью стоял гордый Игорь, молчаливая фигура которого изображала законность.
Дела вообще пошли интересно. Неожиданно вечером в их квартиру ввалился белокурый полный человек.
– Евгения Алексеевна! Вы такой шум подняли с этим Гороховым… Все только и говорят о вас. Я вот не утерпел, приехал.
– Ах, милый Дмитрий Дмитриевич, как это вы хорошо сделали, обрадовалась и похорошела Евгения Алексеевна. – Знакомьтесь, мои дети.
– Угу, – серьезно осклабился Дмитрий Дмитриевич. – Это, значит, Игорь? Симпатичное лицо. А это Оля. У нее тоже лицо симпатичное. А я к вам с серьезным разговором: дело, видите ли, в том, что я хочу жениться на Евгении Алексеевне.
Блондин умолк, стоял посреди комнаты и вопросительно посматривал на ребят.
– Дмитрий Дмитриевич, – смущенно сказала Евгения Алексеевна, надо бы со мной раньше поговорить…
– С вами мы всегда согласуем, а вот они, – сказал Дмитрий Дмитриевич.
– Господи, вы нахал!
– Нахал! – протяжно рассмеялась Ольга.
– Ну, так как, Игорь?
Игорь спросил:
– А какой вы?
– Я? Вот вопрос! Я – человек верный, веселый. Мать вашу очень люблю. И вы мне нравитесь. Только на детей я строгий, – заурчал он басом.
– Ой, – запищала Оля радостно.
– Видите, она уже кричит, а ты еще держишься. Это потому, что ты мужчина. Ну, так как, Игорь, я тебе нравлюсь?
Игорь без улыбки ответил:
– Нравитесь. Только… вы нас бросать не будете?
– Вы меня не бросайте, голубчики! – прижал руку к груди Дмитрий Дмитриевич. – Вы меня не бросайте, круглого сироту!
Оля громко засмеялась:
– Сироту!
– Товарищи! Что это такое, в самом деле! Надо же меня спросить, взмолилась Евгения Алексеевна. – А вдруг я не захочу.
Игорь возмутился:
– Мама! Ну, какая ты странная! Он же все рассказал. Нельзя же так относиться к человеку!
– Верно, – подтвердил Дмитрий Дмитриевич. – Отношение к человеку должно быть чуткое!
– Вот видишь? Мамочка, выходи за него, все равно вы давно сговорились. И по глазам видно. Ой, и хитрые!
Дмитрий Дмитриевич пришел в крайний восторг:
– Это же… гениальные дети! А я, дурень, боялся!
История Евгении Алексеевны, конечно, не самая горестная. Встречаются и такие отцы, которые умеют не только бросить детей, но и ограбить их, перетащив на новое место отдельные соломинки семейного гнезда.
Говорят, есть такие отцы, которые, оставив семью, умеют сохранить действительно благородные отношения с детьми, даже принимают участие в их воспитании, даже воспитывают из них правильных людей. Я верю, что это возможно, что это по силам человеку, но я таких не видел. Зато я встречал людей, которые умеют не поддаваться впечатлениям первых семейных недоразумений, способны пренебречь притягательной прелестью новой любви и сохранить в чистоте договор с женой, не придираясь к отдельным ее недостаткам, обнаруженным с таким запозданием. В этом случае и долг перед детьми выполняется более совершенно, и таких людей можно считать образцами.
Но много еще есть «благородных» и неблагородных донжуанов, которые с безобразной слабостью рыскают по семейным очагам, разбрасывая повсюду стайки полусирот, которые, с одной стороны, всегда готовы изображать ревнителей свободы человеческой любви, с другой – готовы показать свое внимание к брошенным детям, с третьей стороны, просто ничего не стоят как люди и не заслуживают никакой милости.
Обиженные и оскорбленные матери и дети при всякой возможности должны обращать «химическую» фигуру такого алиментщика в «механический» и простой нуль. Не нужно позволять этим людям кокетничать с брошенными ими детьми.
И во всяком случае необходимо рекомендовать особую деликатность в вопросе об алиментах, чтобы эти деньги не вносили в семью никакого разложения.
Целость и единство семейного коллектива – необходимое условие хорошего воспитания. Оно разрушается не только алиментщиками и «единственными принципами», но и ссорами родителей, и деспотической жесткостью отца, и легкомысленной слабостью матери.
Кто хочет действительно правильно воспитать своих детей, тот должен беречь это единство. Оно необходимо не только для детей, но и для родителей.
Как же быть, если остался только один ребенок и другого почему-либо вы родить не можете?
Очень просто: возьмите в вашу семью чужого ребенка, возьмите из детского дома или сироту, потерявшего родителей. Полюбите его, как собственного, забудьте о том, что не вы его родили, и, самое главное, не воображайте, что вы его облагодетельствовали. Это он пришел на помощь вашей «косой» семье, избавив ее от опасного крена. Сделайте это обязательно, как бы ни затруднительно было ваше материальное положение.
Глава шестая
Перед нами целый круг вопросов: это вопросы об авторитете, дисциплине и свободе в семейном коллективе.
В старое время вопросы эти разрешались при помощи пятой заповеди: «Чти отца твоего и матерь твою, и благо ти будет, и долголетен будеши на земли».
Заповедь правильно отражала отношения в семье. Почитание родителей действительно сопровождалось получением положительных благ, – разумеется, если родители сами обладали такими благами. А если не обладали, то в запасе оставалось царствие небесное. В царствии небесном блага были эфемернее, но зато лучше по качеству. На всякий же случай пятая заповедь допускала получение благ иного порядка – благ со знаком минус. на уроках закона божия батюшки особенно подчеркивали этот вариант, который звучал приблизительно так: «Чти отца твоего и матерь твою, а если не будешь чтить, за последствия не отвечаем».
Последствия приходили в виде ремешка, палки и других отрицательных величин. Батюшки приводили исторические примеры, из которых было видно, что в случае непочтения к родителям или к старшим господь бог не склонен к мягкотелости. Хам за непочтение к отцу поплатился очень серьезно за счет всех своих потомков, а группа детей, посмеявшихся над пророком Елисеем, была растерзана волчицей. Рассказывая о таком ярком проявлении господней справедливости, батюшки заканчивали:
– Видите, дети, как наказывает господь тех детей, которые непочтительно ведут себя по отношению к родителям или старшим.
Мы, дети, видели. Божеский террор нас не очень смущал: господь бог, конечно, был способен на все, но, что волчица приняла такое активное участие в расправе, нам как-то не верилось. Вообще, поскольку пророки Елисеи и другие важные лица встречались с нами редко, мы не могли бояться небесного возмездия. Но и на земле было достаточно охотников с нами расправляться. И для нас пятая заповедь, освященная богом и его угодниками, была все-таки фактом. Так, из господней заповеди вытекал родительский авторитет.
В современной семье иначе. Нет пятой заповеди, никаких благ никто не обещает ни со знаком плюс, ни со знаком минус. А если отец в порядке пережитка и возьмется за ремешок, то это будет все-таки простой ремешок, с ним не связана никакая благодать, а объекты порки ничего не слышали ни о почтительном Хаме, ни о волчице, уполномоченной господом.
Что такое авторитет? По этому вопросу многие путают, но вообще склонны думать, что авторитет дается от природы. А так как в семье авторитет каждому нужен, то значительная часть родителей вместо настоящего «природного» авторитета пользуется суррогатами собственного изготовления. Эти суррогаты часто можно видеть в наших семьях. Общее их свойство в том, что они изготовляются специально для педагогических целей. Считается, что авторитет нужен для детей, и, в зависимости от различных точек зрения на детей, изготовляются и различные виды суррогатов.
В педагогической относительности и заключается главная ошибка таких родителей. Авторитет, сделанный специально для детей, существовать не может. Такой авторитет будет всегда суррогатом и всегда бесполезным.
Авторитет должен заключаться в самых родителях, независимо от их отношения к детям, но авторитет вовсе не специальный талант. Его корни находятся всегда в одном месте: в поведении родителей, включая сюда все отделы поведения, иначе говоря, всю отцовскую и материнскую жизнь работу, мысль, привычку, чувства, стремления.
Невозможно дать транспарант такого поведения в коротком виде, но все дело сводится к требованию: родители сами должны жить полной, сознательной, нравственной жизнью гражданина Советской страны. А это значит, что и по отношению к детям они должны быть на какой-то высоте, на высоте естественной, человеческой, а не созданной искусственно для детского потребления.
Поэтому все вопросы авторитета, свободы и дисциплины в семейном коллективе не могут разрешаться ни в каких искусственно придуманных приемах, способах и методах. Воспитательный процесс есть процесс постоянно длящийся, и отдельные детали его разрешаются в общем тоне семьи, а общий тон нельзя придумать и искусственно поддерживать. Общий тон, дорогие родители, создается вашей собственной жизнью и вашим собственным поведением. Самые правильные, разумно продуманные педагогические методы не принесут никакой пользы, если общий тон вашей жизни плох. И наоборот, только правильный общий тон подскажет вам и правильные методы обращения с ребенком, и прежде всего правильные формы дисциплины, труда, свободы, игры и… авторитета.
Отец приходит с работы в пять часов. Он – электромонтер на заводе. Пока он стаскивает тяжелые, пыльные и масленые сапоги, четырехлетний Вася уже сидит на корточках перед отцовской кроватью, кряхтит по-стариковски и пялит в темную площадку пола озабоченные серые глазенки. Под кроватью почем-то никого нет. Вася беспокойно летит на кухню, быстро топает в столовой вокруг большого стола и цепляется ножками за разостланную в комнате дорожку. Через полминуты он спокойной деловой побежкой возвращается к отцу, размахивает парой ботинок и гримасничает на отца милыми чистыми щечками. Отец говорит:
– Спасибо, сынок, а дорожку все-таки поправь.
Еще один рейс такой же деловой побежки, и порядок в комнате восстановлен.
– Вот это ты правильно, – говорит отец и направляется в кухню умываться.
Сын с трудом тащит за ним тяжелые сапоги и с напряжением поглядывает на встречную дорожку. Но ничего, это препятствие миновали благополучно. Вася ускоряет бег, догоняет отца и спрашивает:
– А трубу принес? Для паровоза трубу принес?
– А как же! – говорит отец. – После обеда начнем.
Васе повезло в жизни: родился он в послеоктябрьское время, отец попался ему красивый, – во всяком случае. Васе он очень нравится: глаза у него такие же, как у Васи – серые, спокойные, немножко насмешливые, а рот серьезный и усы приятные: хорошо провести по ним одним пальцем, тогда каждый раз неожиданно обнаруживается, что они шелковистые и мягкие, а чуть отведешь палец, они прыгают, как пружинки, и снова кажутся сердитыми и колючими. Мать у Васи тоже красивая, красивее, чем другие матери. У нее теплые и нежные щеки и губы. Иногда она как будто хочет что-то Васе сказать, посмотрит на Васю, и губы ее чуть-чуть шевельнутся. И не разберешь, улыбнулась мать или не улыбнулась. В такие минуты жизнь кажется Васе в особенности прекрасной! Есть еще в семье Назаровых Наташа, но ей только пять месяцев.
Надевать утром ботинки – самое трудное дело. Продеть шнурок в дырочку Вася умеет давно, но когда шнурок прошел уже все дырочки, Вася видит, что получилось неладно. Вася переделывает, и, смотришь – получилось правильно. Тогда Вася с симпатией посматривает на башмак и говорит матери:
– Завязазай!
Если дело сделано верно, мать завязывает, а если неверно, она говорит:
– Не так. Что же ты?
Вася бросает удивленный взгляд на башмак и вдруг видит, что действительно не так. Он сжимает губы, смотрит на башмак сердито и снова принимается за работу. Спорить с матерью Васе не приходит в голову, он не знает, как это делается.
– Тепей так? Завязазай!
Мать становится на колени и завязывает, а Вася хитро посматривает на другой башмак и видит ту первую дырочку, в которую он сейчас наладит конец шнурка.
Умываться Вася умеет, умеет и зубы чистить, но и эти работы требуют массы энергии и пристального внимания. Сначала Вася измазывается мылом и зубным порошком до самого затылка, потом начинает создавать лодочку из маленьких неловких рук. Лодочку ему удается сделать, удается набрать в нее воды, но, пока он поднесет лодочку к лицу, ладони выпрямляются раньше времени, и вода выливается на грудь и живот. Вася не смывает мыло и зубной порошок, а размазывает их мокрыми ладонями. После каждого такого приема Вася некоторое время рассматривает руки и потом снова начинает строить лодочку. Он старается натереть мокрыми ладонями все подозрительные места.
Мать подходит, без лишних слов овладевает ручонками Васи, ласково, но сильно наклоняет его голову над чашкой умывальника и бесцеремонно действует на всей территории Васиной мордочки. Руки у матери теплые, мягкие, пахучие, они сильно радуют Васю, все же продолжает его беспокоить неосвоенная техника умывания. Из этого положения есть много оригинальных выходов: можно и покапризничать – по-мужски запротестовать: «Я сам!» Можно и молчанием обойти инцидент, но лучше всего засмеяться и, высвободившись из рук матери, весело поблескивать на нее мокрыми глазами. В семье Назаровых последний способ самый употребительный, потому что люди они веселые. Ведь капризы тоже не от бога приходят, а добываются житейским опытом.
Пересмеявшись, Вася начинает мыть зубную щетку. Это самая приятная работа: просто поливаешь щетку водой, теребишь ее щетину, а она сама становится чистая.
На сером сукне в углу столовой расположилось игрушечное царство Васи. Пока Вася надевает башмаки, умывается, завтракает, в игрушечном царстве царит тишина и порядок. Паровозы, пароходы и автомобили стоят у стены, и все смотрят в одну сторону. Пробегая мимо них по делам, Вася на секунду задерживается и проверяет дисциплину в игрушечном царстве. За ночь ничего не случилось, никто не убежал, не обидел соседа, не насорил. Это потому, что на сторожевом посту простоял деревянный раскрашенный Ванька-Встанька. У Встаньки широкощекое, лупоглазое лицо и вечная улыбка. Встанька давно назначен охранять игрушечное царство и выполняет эту работу честно. Вася как-то спросил у отца:
– Он не может спать?
А отец ответил:
– Как же ему спать, когда он сторож? Если он честный сторож, должен сторожить, а не спать. А то он заснет, а у него автомобиль выведут.
Вася тогда с опаской смотрел на автомобиль и с благодарностью на сторожа и в тех пор регулярно ставит его на посту, когда сам уходит спать.
В настоящее время Вася не столько боится за автомобиль, сколько за дорогой набор очень важных вещей, сложенных в деревянной коробке. Все эти вещи назначены для постройки главного дома в игрушечном царстве. Здесь есть много деревянных кубиков и брусочков, «серебряная» бумага для покрытия крыши, несколько пластинок целлулоида для окон, маленький красивый болтик с гаечкой, назначение которого еще не установлено. Кроме того, проволока разная, шайбы, крючочки, трубки и несколько штук оконных переплетов, вырезанных из картона с помощью матери.
Сегодня у Васи план: перевезти строительные материалы к месту постройки – в противоположный угол комнаты. Еще с вечера он был обеспокоен недостатком транспорта. Нельзя ли использовать пароход? Отец этот вопрос проконсультировал:
– Речка нужна для парохода. Ты же видел летом?
Вася что-то такое помнит; действительно, пароходы плавают по речке. У него мелькнула идея провести речку в комнате, но Вася только вздохнул: мама ни за что не позволит. Недавно она весьма отрицательно отнеслась к проекту устроить для парохода пристань. Сама же дала Васе жестяную коробку, а когда он налил в нее воды, осудила:
– Твоя пристань протекает. Смотри, грязь какую завел!
Теперь коробка наполнена песком и предназначается для парка. Саженцы уже на месте – целую ветку сосны принес для этого отец.
Вася спешит завтракать: работы, заботы столько, что некогда чашку кофе выпить, и лицо Васи все поворачивается к игрушечному царству. Мать спрашивает:
– Будешь дом строить сегодня?
– Нет! Буду ездить! Возить буду! Туда!
Вася показывает на строительную площадку и прибавляет:
– Только не запачкаю, ты не бойся!
Собственно говоря, не столько боится мать, сколько сам Вася: строительство очень грязное дело.
– Ну, если напачкаешь – уберешь, – говорит мать.
Такой неожиданный поворот в условиях строительства переполняет Васю энергией. Он забывает о завтраке и начинает сползать со стула.
– Вася, чего это ты? Допивай кофе, нельзя оставлять в чашке!
Это верно, что нельзя. Вася быстрыми глотками приканчивает чашку. мать следит за ним и улыбается:
– Не успеешь, что ли? Куда тебе спешить?
– Надо спешить, – шепчет Вася.
Он уже в игрушечном царстве. Прежде всего он снимает с поста Ваньку-Встаньку. Давно мать сказала ему:
– Твой сторож день и ночь на ногах. Куда это годится? Он тоже отдыхать должен. Ты ведь каждую ночь спишь?
Действительно, как это Вася выпустил из виду охрану труда? Но это упущение было давно. Сейчас Вася запихивает Встаньку в старый картонный домик и придавливает его голову каким-то строительным материалом. Встанька топорщится и вырывается из рук, но мало ли чего, первое дело – дисциплина! А в выходной день, когда отец дома, Встанька целые сутки дрыхнет в домике, а на посту стоит фарфоровый человечек в розовой тирольке. Этот парень, хоть и мамин подарок, а работник плохой, все с ног валится. недаром отец сказал о нем:
– В шляпе который, лодырь, видно!
Вася поэтому его не любит и старается обойтись без его работы.
Первой общественной нагрузкой Васи были отцовские сапоги и ботинки. Родители дают Васе и другие поручения: принести спички, поставить стул на место, поправить скатерть, поднять бумажку, но это все случайные кампании, а сапоги и ботинки – это постоянная работа, долг, о котором нельзя забыть.
Один только раз, когда в игрушечном царстве произошла катастрофа отвалилась труба от паровоза, – Вася встретил отца с аварийным паровозом в руках и был настолько расстроен, что забыл об отцовских ботинках. Отец рассмотрел паровоз, покачал головой, причмокнул и до конца понял Васино горе.
– Капитальный ремонт, – сказал он.
Эти слова еще больше потрясли Васю. Он прошел за отцом в спальню и там грустно всматривался в паровоз, боком улегшийся на кровати. Но вдруг его поразила непривычная тишина в спальне, и в тот же момент он услышал насмешливый голос отца:
– Паровоз, выходит, без трубы, а я без ботинок.
Вася глянул на его ноги, залился краской и мгновенно забыл о паровозе. Он бросился на кухню, и скоро положение было восстановлено. Отец, улыбаясь как-то особенно, посматривал на Васю. Вася потащил в кухню его сапоги и вспомнил о паровозе только тогда, когда отец сказал:
– Я тебе другую трубу принесу, крепкую!
Когда Васе исполнилось шесть лет, отец подарил ему большую коробку, наполненную кубиками, брусками, кирпичиками, балками и другими материалами для постройки. Из этого можно было строить настоящие дворцы. В коробке была и тетрадка с рисунками дворцов, которые нужно было строить. Из уважения к отцу и его заботе Вася уделил коробке большое внимание. Он добросовестно рассматривал каждый рисунок и терпеливо, вытягивая губы, разыскивал нужные детали, чтобы сложить здание по данному проекту. Отец что-то заметил и спросил:
– Тебе не нравится?
Васе не хотелось сказать, что ему не нравится работа, но и сказать противное правде он не умел. Он молча хмурился над постройкой.
Отец сказал:
– Ты не хмурься, а говори: не нравится?
Вася посмотрел на отца, потом на постройку и ответил:
– Много домов. Этот дом построить, а потом поломать, а потом другой построить, а потом поломать, а того уже нету… Так все строишь и строишь… аж голова болит…
Отец рассмеялся.
– Га! Ты правильно говоришь! Действительно, строишь, строишь, а ничего нет. Это не строительство, а вредительство.
– Вредительство? Это – какое?
– А вот такое, как у тебя, – вредное. Есть такие сволочи…
– Сволочи? – повторил Вася.
– Да, сволочи, – сказал отец настойчиво, – нарочно так строят, а потом хоть поджечь, хоть поломать, никуда не годится.
– А потом можно другое построить, – обратился Вася к рисункам. – И такое можно, и такое можно…
Вася разобрал постройку и решил начать новую, более сложную, чтобы хоть немного порадовать отца.
Отец молча наблюдал за его работой.
– Выходит хорошо. Только что ж? Все это у тебя на честном слове держится: его толкни, а оно рассыплется…
Вася засмеялся, размахнулся и ударил по постройке.
Вместо затейливого дворца на полу валялись аккуратные его части.
– Взял и развалил?
– А его все равно разваливать нужно, потому что другой можно еще…
– Вот видишь, ничего и нет.
– И нет, – сказал Вася, разводя руками.
– Это не годится.
– Угу, – подтвердил Вася, отчужденное и безжалостно глядя на разбросанные детали.
– Вот подожди, – улыбнулся отец и направился к своему ящику. Он возвратился с целым богатством в руках. В деревянной коробке лежали гвозди, шурупы, болтики, отрезки проволоки, стальные и медные пластинки и прочая мелочь, сопровождающая каждого порядочного металлиста. Отдельно в руках отец держал какие-то прутики, подскакивающие при движении, как на качелях.
– Эти твои дома мы оставим, – сказал отец, – а давай построим что-нибудь крепкое. Только не знаю – что.
– Надо построить мост. Только речки нету.
– Нету речки, так нужно сделать.
– А разве так бывает?
– До сих пор не было, а теперь бывает. Вон большевики взяли да и провели Волгу в самую Москву.
– Какую Волгу?
– Речку Волгу. Где текла? Вон где! А они взяли да и провели по чистому месту.
– И что? – спросил Вася, не отрываясь взглядом от отца.
– Потекла как миленькая, – ответил тот, выкладывая на пол принесенное добро.
– Давай и мы проведем… Волгу
– Да и я вот думаю.
– А потом мост построим.
Но Вася вдруг вспомнил когда-то раньше возникший вопрос о речке и увял. Он сидел на корточках перед отцовским ящиком и чувствовал, что у него не хватит сил бороться с препятствиями.
– Нельзя, папа, речку строить, мама не позволит.
Отец внимательно поднял брови и тоже опустился на корточки:
– Мама? Да-а, вопрос серьезный.
Вася посмотрел на лицо отца с надеждой: а вдруг отец найдет средство против мамы. Но отец глядел на сына с неуверенным выражением; Вася уточнил положение:
– Она скажет: поналиваете.
– Скажет. В том-то и дело, что обязательно скажет. И в самом же деле поналиваем!
Вася улыбнулся отцовской наивности:
– Ну, а как же ты хотел? И речку провести, и чтобы сухо было?
– Так ты пойми, речка, она как течет? В одном месте течет, а кругом сухо, берега должны быть. А потом сообрази, если речку прямо по полу провести, она вся в нижний этаж пройдет. Люди живут, а на них вода сверху – откуда такая беда? А это мы с тобой речку проводим.
– А в Москве не лилась вода?
– Почему в Москве?
– А когда эту… Волгу проводили?
– Ну, брат, там это сделали по-настоящему, там берега сделали.
– Из чего?
– Там придумали. Из камня сделали. Из бетона.
– Папа, слушай! Вот слушай! Мы тоже давай сделаем… берега!
Так родился проект великого строительства у Васи Назарова. Проект оказался сложным и требовал большой предварительной работы. Ближайшим последствием его рождения была полная ликвидация строительства временных дворцов. Отец и Вася так и решили, что дворцом они больше строить не будут, ввиду полной их непрактичности. Содержимое коробки решили употребить на мост. Возник вопрос, как использовать тетрадку с рисунками. Для Васи она потеряла интерес, отец тоже отозвался о ней с пренебрежением:
– Да какой же с нее толк? Выбросить жалко, а ты подари ее какому-нибудь малышу.
– А на что ему?
– Да на что… посмотрит…
Вася скептически встретил это предложение, но на следующее утро, выходя во двор, он захватил с собою и тетрадку.
Это не был городской двор, обставленный кирпичными стенами. Он представлял из себя широкую площадь, щедро накрытую небом. С одной стороны площади стоял длинный двухэтажный дом, выходящий во двор целой полудюжиной высоких деревянных крылец. Со всех остальных сторон протянулся невысокий деревянный забор, за которым пошла к горизонту холмистая песчаная местность, называемая в наших местах «кучугарами», привольная и малоисследованная земля, привлекавшая мальчиков своим простором и тайнами. Только за домом и стоящими рядом с ним добротными воротами начинался первый переулок города.
В доме живут рабочие и служащие вагонного завода, народ солидный и многосемейный. Детей во дворе видимо-невидимо. Вася только недавно начал близко знакомиться с дворовым обществом. Может быть, и прошлым летом были завязаны кое-какие отношения, но в памяти от них осталось очень мало, а зимой Вася почти не бывал во дворе, так как болел корью.
В настоящее время Вася был знаком почти исключительно с мальчиками. Были во дворе и девчонки, но они держались по отношению к Васе сдержанно, потому что были старше его на пять-шесть лет – в том возрасте, когда появляется у них гордая походка и привычка напевать на ходу с недоступным видом. А малышки двух-трех лет, само собой, для Васи не могли составить компанию.
Тетрадь с проектами дворцов сразу же вызвала интерес в обществе. Васин ровесник Митя Кандыбин увидел тетрадь и закричал:
– Где ты взял альбом? Где ты взял?
– Это мое, – ответил Вася.
– Где ты взял?
– Я нигде не взял. Это папа купил.
– Это он для тебя купил?
Митя не нравился Васе, потому что он был слишком энергичен, яркий и нахальный. Его светлые маленькие глазенки без устали бегали и тыкались во все стороны, и это смущало Васю.
– Это он для тебя купил? Для тебя?
Вася заложил руки с тетрадкой за спину.
– Для меня.
– А ну, покажи! А ну, покажи!
Васе не хотелось показывать. Не жаль было тетрадки, но было желание сопротивляться сильному Митиному напору. А Митя уж и на месте стоять не мог от волнения и начал заходить сбоку.
– Тебе жалко показать?
Митя недалек был от того, чтобы броситься отнимать тетрадку, хотя был слабее и мельче Васи, но на его крик в этот момент подошел Левик.
Левик принадлежал к старшему поколению и был в первом классе 34-й школы. Он весело воззрился на агрессивного Митю и крикнул еще издали:
– Крику много, а драки нет! Бей его!
– А чего он! Скупердяга! Показать жалко!
Митя с презрением повернул к Васе голое плечо, перекрытое полотняной тесемкой детских помочей.
– А ну покажи! – Левик с веселой властностью протянул руку, и Вася вручил ему тетрадку.
– Слушай! – обрадовался Левик. – Ты знаешь что? Ой! А у меня такая потерялась. Все есть, а альбомчик потерялся. Вот здорово! Давай меняться! Давай!
Вася в своей жизни никогда еще не менялся и сейчас не знал, как ответить Левику. Во всяком случае, было очевидно, что начинается какая-то интересная история. Вася с любопытством смотрел на веселого Левика. Левик быстро перелистывал тетрадь:
– Здорово! Пойдем к нам…
– А зачем? – спросил Вася
– Вот чудак: зачем? Надо же посмотреть, на что меняться.
– И я пойду, – хмуро сказал Митя, еще не вполне покинувший свою вызывающую позу.
– Пойдем, пойдем… Ты будешь как свидетель, понимаешь? Меняться всегда нужно, чтобы был свидетель…
Они направились к Левиному крыльцу. Уже взбираясь на высокое крыльцо, Левик оглянулся:
– Только вы на сестру, на Ляльку, не обращайте внимания!
Он толкнул серую дверь. В сенях их придушил запах погреба и борща. Когда Левик закрыл за ними дверь, Вася даже испугался: темнота в соединении с запахами была неприятна. Но открылась вторая дверь: мальчики увидели кухню. Видно было мало: в кухне стоял дым, а в дыму перед самыми глазами стеной висели какие-то полотнища: белые, розовые, голубые, наверное, простыни и одеяла. Два из этих полотнищ раздвинулись, и из-за них выглянуло румяное скуластое лицо с красивыми глазами.
– Левка, ты опять навел своих мальчишек? Варька, ты хоть обижайся, хоть не обижайся, а я их бить буду.
Из-за развешанных полотнищ слабый женский голос ответил:
– Ляля, ну чего ты злишься, чего они тебе сделают?
Ляля пристально и злостно смотрела на мальчиков и, не меняя выражения лица, говорила быстро-быстро:
– Чего сделают? Они везде лазят, у них ноги грязные, у них головы грязные, из них песок сыплется…
Она ткнула пальцем в лохматую голову Мити и поднесла палец к глазам:
– О! Тебе голову воробьи засидели, ты! А этот откуда? Смотри, глазища какие!
Девочке было лет пятнадцать, но она производила громовое впечатление, и Вася попятился назад. Но Левик уже закрыл дверь в сени и смело сказал товарищам:
– Не обращайте внимания! Идем!
Мальчики пролезли под развешанными вещами и вошли в комнату. Комната была небольшая, набитая вещами, книгами, гардинами, цветами. оставался маленький проход, в котором один за другим и остановились вошедшие. Левик толкнул в грудь каждого из своих гостей:
– Вы сидите на диване, а то тут и не пройдешь.
Вася и Митя повалились на диван. У Назаровых не было такого дивана. На нем было приятно сидеть, но теснота и загруженность комнаты пугали Васю. Здесь было много странных вещей, комната казалась очень богатой и непонятной: пианино, много портретов в овальных рамках, желтые подсвечники, книги, ноты, вертящийся табурет. На этом табурете перед ними вертелся Левик и говорил:
– Если хочешь, дам тебе четыре колечка от ключей, а если хочешь ласточкино гнездо. Потом… кошелек, смотри, какой кошелек!
Левик вскочил с вертящегося табурета и выдвинул ящик маленького письменного стола. Он поставил ящик на колени. В первую очередь предстал перед Васей маленький кошелек зеленого цвета, он закрывался одной пуговичкой. Левик несколько раз хлопнул пуговичкой, возбуждая интерес Васи. Но в этот момент Вася увидел нечто более интересное, чем кошелек, во всю длину ящика вкось протянулась узкая% в три пальца, металлическая коробка черного цвета.
– О! – вскрикнул Вася и показал на коробку пальцем.
– Коробка? – спросил Левик и перестал хлопать пуговичкой кошелька. Да… только… ну, еще и лучше.
Митя вскочил с дивана и наклонился над ящиком.
– Это мне нужно, – кивнул Вася на коробку. Он поднял на Левика большие глаза, честные, убедительно спокойные серые глаза. А Левик смотрел на Васю бывалыми, карими хитроватыми гляделками:
– Значит, ты мне альбом, а я тебе коробку, так? При свидетеле, так?
Вася серьезно кивнул головой, глядя на Левика. Левик вытащил коробку из ящика и повертел в руках:
– Твоя коробка!
Вася обрадовался удаче. Он держал коробку в руках и заглядывал на ее дно. Дно было крепко вделано, не сквозили в нем щели, и, значит, в нижнем этаже воды не будет. Это будет длинная, настоящая речка! А берега он обложит песком, вот на столько обложит, и сделает на берегах лес. Речка течет в лесу. А потом мост.
– Показать тебе ласточкино гнездо? У меня есть ласточкино гнездо, предложил хозяин. – Вот я тебе покажу.
Он ушел в третью комнату. Вася бережно положил коробку на диван и стал в дверях. В комнате стояло несколько кроватей, аквариум и деревянные полки с разными вещами. Левик достал с полки ласточкино гнездо.
– Это не нашей ласточки, это японской. Видишь, как сделано?
Вася осторожно принял в ладошки темный легкий шарик с трубкой.
– Хочешь вместо коробки ласточкино гнездо?
– А для чего оно?
– Ну, как «для чего»? Это для коллекции, чудак!
– А что это «коллекция»?
– Ну, коллекция! Еще такое достанешь. Или другое. И будет коллекция.
– А у тебя есть коллекция?
– Мало чего у меня есть. И у тебя будет. А то простая коробка!
Но Вася завертел головой:
– Мне коробка нужная, а это не нужное.
Вася любовно вспомнил о коробке и обратился к дивану. Но на диване коробки не было. Он оглянулся в комнате, посмотрел на крышку пианино, на стопку книг. Коробки не было.
– А где она? – обратился он к Левику.
– Кто? Ласточка? – спросил Левик из другой комнаты.
– Нет, коробка где?
– Да я ж тебе дал. Я ж тебе в руки дал!
Вася растерянно посмотрел на диван.
– Она тут лежала.
Левик тоже посмотрел на диван, тоже оглянулся по комнате, выдвинул ящик.
– Стой! А Митька? Это он украл.
– Как украл?
– Ну, как украл? Спер коробку и смылся.
– Ушел?
– Смылся! Да что ты, не понимаешь? нету ж Митьки!
Вася грустно сел на диван, потом встал. Коробку было очень жаль.
– Спер? – машинально переспросил он Левика.
– Мы с тобой честно поменялись, – напрягая лицо, заговорил Левик. Честно. Я тебе в руки отдал, при свидетеле.
– При каком свидетеле?
– Да при Митьке ж! Ой, и свидетель! Потеха! Вот так свидетель!
Левик громко рассмеялся:
– Смотри, какой свидетель! А ты что же? Ты теперь с пустыми руками. Мы честно!
В дверях стояла скуластая Ляля, удивленно смотрела чуть-чуть раскосыми темными глазами на веселого брата и вдруг бросилась в комнату. Вася испуганно встал с дивана.
– Ты зачем мой кошелек брал?
Левик перестал хохотать и двинулся к дверям, обходя Васю.
– А я его брал?
– А чего он на столе лежит? Чего?
– И пускай лежит! Какое мне дело!
Ляля быстро дернула ящик, уставилась в него острым взглядом и закричала:
– Отдай! Сейчас же отдай! Свинья!
Левик уже стоял в дверях, готовый удирать дальше. Ляля бросилась к нему и налетела на растерявшегося, подавленного шквалом событий Васю. Она толкнула его на диван, и он сильно опрокинулся, мелькнув ножками, а она с разгону ударилась в дверь, которую перед самым ее носом сильно захлопнул Левик. Слышно было, как хлопнула вторая дверь и третья, наружная. Двери еще стучали, пока Ляля металась между ними, догоняя брата. Наконец, она с такой же стремительностью ворвалась в комнату, еще раз дернула ящик, с шумом порылась в нем и громко заплакала, склонившись на стол. Вася продолжал смотреть на нее с удивлением и испугом. Он начал догадываться. что рыдания Ляли относятся к коробке, только что исчезнувшей на его глазах. Вася хотел уже что-то сказать, но Ляля, не прекращающая плакать, попятилась и бросила свое узкое тело на диван, рядом с ним. Плечи ее вздрагивали у Васиных ног. Вася еще больше расширил глаза, оперся ручонками на диван и склонился над рыдающей девочкой.
– Ты чего плачешь? – спросил он звонко. – Ты, может, за коробкой плачешь?
Ляля вдруг перестала рыдать, подняла голову и вонзилась в Васю злыми красивыми глазами. Вася тоже смотрел на нее, видел капельки слез на желобках ресниц.
– Ты за коробкой плачешь? – повторил он вопрос, догадливо кивнув головой.
– За коробкой? Ага-а! – крикнула Ляля. – Говори, где?
– Кто, коробка? – спросил Вася, несколько удивленный ненавидящими нотками Ляли.
Ляля толкнула его рукой в плечо и еще громче закричала:
– Говори! Говори, где? Чего ты молчишь? Куда ты ее дел? Куда дел пенал?
– Пенал?
Вася чего-то не понял. Мелькнула мысль, что дело касается чего-то другого, не коробки. Но он честно хотел помочь этой расстроенной девочке с красивыми, чуть косо разрезанными глазами:
– Как ты говоришь? Пенал?
– Ну, пусть коробка! Коробка! Куда вы ее дели?
Вася оживленно показал на ящик:
– Она там лежала?
– Да не морочь мне головы! Говори, куда вы ее дели?
Вася вздохнул и начал трудный рассказ:
– Левик говорит: дай твою тетрадку, а я тебе дам кошелек. И еще говорил: ласточкино гнездо, только потом, а раньше дал коробку. Черненькую. И дно… дно там крепкое. А я сказал: хорошо. А он говорит: при свидетелях, в руки… И дал мне в руки. А я…
– Ах, так это ты взял? Ты!
Вася не успел ответить. Он вдруг увидел, как вздрогнули темно-коричневые глаза Ляли, и в тот же момент его голова мягко стукнулась о спинку дивана, а на щеке остро вспыхнуло незнакомое и неприятное ощущение. Вася с трудом сообразил, что Ляля его ударила. В своей жизни Вася никогда не испытывал побоев и не знал, что это оскорбительно. И все в глазах Васи заволновались слезы. Он вскочил с дивана и взялся рукой за щеку.
– Отдавай сейчас же! – крикнула Ляля, подымаясь против него.
Теперь уже Вася понимал, что она может ударить второй раз, и не хотел этого, но по-настоящему его занимало другое: как это она не соображает, что коробки нет. Он спешил растолковать ей, в каком положении находится дело в этот момент.
– Ну? Где она?
– Так ее нету! Понимаешь, нету!
– Как «нету»?
– Митя ее взял.
– Взял?
– Ну да! Он… тот… спер… спер коробку – Вася был рад, что вспомнил это слово, возможно, что так она скорее поймет.
– Это тот белобрысый? Ты ему отдал? Говори.
Ляля двинулась к нему. Вася оглянулся. Только между пианино и столом оставался узкий закоулок, но он не успел туда отступить. Ляля сильно толкнула его к окну, по дороге больно ударила по голове, и ее рука снова взлетела в воздух. Но неожиданно для нее и для Васи его кулачок описал дугу сверху вниз и стукнулся по ее острому розовому подбородку. Вслед за ним вступил в дело и второй кулачок, за ним снова первый. Наморщив лицо и показывая зубки, Вася молотил перед собою по чему попало, а больше промахиваясь. Ляля несколько отступила, скорее от неожиданности, чем от ударов, но и в лице ее и в позе не было ничего хорошего. Бой должен был еще продолжаться, но в дверях комнаты появилась худая, длиннолицая женщина в очках.
– Лялька, что здесь происходит. Чей это мальчик?
– А кто его знает, чей он, – оглянулась Ляля. – Это Левка привел. Они мой пенал украли! Смотри, какой стоит!
Коричневые глаза Ляли вдруг улыбнулись чуть-чуть, но теперь Васю больше интересовала ориентация женщины. Наверное, это мать Ляли – они сейчас будут бить его вдвоем.
– Вы здесь подрались, что ли? Лялька!
– Пускай отдает коробку! Я ему еще дам! Чего ты смотришь?
Ляля подошла ближе. Вася придвинулся ближе к столу. Глаза у Ляли стали добрее, да и слова женщины его успокаивали, но недавний опыт еще не забылся.
– Лялька, перестань его запугивать! Какой хороший мальчик!
Ляля закричала:
– Брось, Варька, не вмешивайся! Хороший мальчик. У тебя все хорошие, добрая душа! Давай коробку, ты!
Но в этот момент подошло еще подкрепление: в тех же дверях стал невысокий мужчина и дергал узкую черную бороденку.
– Гришка! – сказала уже веселее девочка. – Смотри, она его защищает! Этот забрался в дом, куда-то девал мою коробку, а Варька его защищает!
– Ну, Варька всегда защищает, – улыбнулся мужчина. – А чей это мальчик?
– Чей ты? Как тебя зовут? – спросила с улыбкой Ляля.
Вася ясно оглядел всех. Сказал серьезно-=приветливо:
– Меня зовут Вася Назаров.
– Ах, Назаров! – вскрикнула девочка.
Она уже совсем ласково подошла к нему.
– Вася Назаров? Ну, хорошо. Так вот теперь по-хорошему обещай мне найти коробку. Понимаешь?
Вася понял мало: что значит «по-хорошему» – непонятно. Что значит «найти» – тоже непонятно.
– Ее взял Митя, – сказал он уверенно.
– Я не могу больше, – прервала женщина, которую звали Варькой, – она побила его.
– Лялька, – сказал мужчина с укором.
– Ой! Гришка! Этот тон действует мне на нервы! – она повернулась с недовольным лицом. – А ты тоже, добрая душа!
Девочка вздернула носиком в сторону Варьки и быстро вышла из комнаты.
– Иди, Вася, и ни о какой коробке не думай, – сказала Варька, – иди!
Вася посмотрел Варьке в лицо, и оно ему понравилось. Он прошел мимо ухмыляющегося Гришки и вышел на крыльцо.
Возле крыльца стоял Левик и смеялся:
– Ну что, попало тебе?
Вася улыбнулся смущенно. Он еще не совсем пришел в себя после страшных событий и не думал о них. В сущности, его интересовали только отдельные места. Коробка не выходила у него из головы: такая хорошая была бы река! Он уже с крыльца оглядывал двор и искал глазами Митю. Кроме того, нужно было как-нибудь узнать, что это за люди Варька и Гришка. И еще один вопрос: где папа и мама Левика?
Он спустился с крыльца:
– Левик, а где твой папа?
– Папа? А разве ты не видел?
– Нет, не видел.
– А он пришел. С бородой…
– С бородой? Так это Гришка.
– Ну, Гришка, папа – все равно.
– Нет, папа – это… еще говорят: отец. А то Гришка.
– Ты думаешь, если папа, так уж и имени у него нет? Твоего папу как зовут?
– Моего? Ага, это, как мама говорит? Мама говорит «Федя».
– Ну, у тебя отец Федя, а у нас Гриша.
– Гриша? Так это твоя мама так говорит, да?
– Ой, и глупый же ты! Мама! И мама, и все. Гришка, а мама – Варька.
Вася так ничего и не понял, но расспрашивать уже не хотелось. Да и Левик побежал вверх, а Вася вспомнил, что нужно возвращаться домой.
Взобравшись на свое крыльцо и открыв дверь, он столкнулся с матерью. Она внимательно на него посмотрела и не пошла за водой, как собиралась, а возвратилась в квартиру.
– Ну, рассказывай. Чего ты сегодня не такой какой-то?
Не спеша и не волнуясь, Вася рассказал о своих приключениях. Только в одном месте ему не хватило слов, и он больше показывал и изображал в мимике:
– Она как посмотрит! Как посмотрит!
– Ну?
– А потом как ударит… Вот сюда.
– Ну, и что?
– Ха! И сюда… Потом… я пошел, а она опять. Я тоже как ударю! А потом Варька пришла.
– Какая еще Варька?
– Кто ее знает какая. В очках. И Гришка. Это у них так называется, как ты папу называешь, Федя, так и они: Гришка и Варька. А Варька сказала: хороший мальчик, иди.
– Дела у тебя, Васенька, серьезные.
– Серьезные дела, – подтвердил Вася, мотнул головой перед матерью и улыбнулся.
Отец сказал:
– Так! Видишь, как Волгу строить! Что же ты дальше будешь делать?
Вася сидел на своем коврике возле игрушек и думал. Он понимал, что отец хитрит, не хочет помогать ему в его сложнейшей жизни. Но отец был для Васи образцом знания и мудрости, и Вася хотел знать его мнение:
– А почему ты не говоришь? Я еще маленький!
– Ты маленький, однако, ты не спрашивал меня, когда пошел меняться? Не спрашивал.
– Левик говорит: давай меняться. Я посмотрел, а там коробка.
– Дальше смотри: поменялся ты, а где твоя коробка? Где?
Вася засмеялся иронически над самим собою и развел руками.
– Коробки нету… Митя… спер.
– Что это за слово «спер»? По-русски говорят: украл.
– А это по-какому?
– А черт его знает, по-какому. Это так воры говорят.
– И Левик тоже так говорит.
– А ты на Левика не смотри. А сестра у него в художественном техникуме учится, так у нее эта коробка для кисточек. Видишь, какая история? А сестра тебя отколошматила, и правильно…
– Это виноват Левик и Митя.
– Нет, друг, виноват один мальчик: Вася Назаров.
– Ха! – засмеялся Вася. – Папа, ты неправильно говоришь, я вовсе не виноватый.
– Вася поверил Левику, человеку незнакомому, новому, чужому. Вася ничего не думал, развесил уши, коробку взял, да и второй раз уши развесил и рот открыл, как ворона на крыше. А тут еще Митя Кандыбин подвернулся. И коробки нету, и Васю побили. Кто виноват, спрашивается?
По мере того, как отец говорил, Вася краснел все больше и больше и все больше понимал, что виноват он. В этом его больше всего убеждали даже не слова, а тот тон, которым они произносились. Вася ощущал, что отец им действительно недоволен, а значит, виноват действительно Вася. Кроме того и слова кое-что значили. В семье Назаровых часто употреблялось выражение «развесить уши». Еще недавно отец рассказывал, как на заводе инструктор группы токарных, отец Мити Кандыбина, «развесил уши» и как по этой причине «запороли» сто тридцать деталей! Вася сейчас слово в слово вспомнил этот отцовский рассказ.
Он отвернулся, еще больше покраснел, потом несмело глянул на отца и улыбнулся слабо, грустно и смущенно. Отец сидел на стуле, поставил локти на колени и смеялся, глядя на Васю. Сейчас он показался Васе особенно родным и милым – так мягко шевелились его нежные усы и так ласково смотрели глаза.
Вася так ничего и не сказал. Он вдруг вспомнил, что маленькие гвоздики, подаренные отцом для постройки моста, некуда сложить. Они лежат просто на сукне неприятной бесформенной кучкой. Опершись на локоть, Вася рассмотрел хорошо эту кучку и сказал:
– А гвоздики некуда девать… Мама обещала коробочку… и забыла… потом…
– Идем, дам тебе коробочку, – сказала мать.
Вася побежал за матерью, а когда возвратился, отец уже сидел в спальне, читал газету и громко смеялся:
– Маруся, иди посмотри, какой Муссолини перевязанный, бедный! Это после Гвадалахары его перевязали…
Вася уже не раз слышал это странное, длинное слово «Муссолини» и понимал только, что это что-то плохое и отцу не нравится. Но тут он вспомнил Митю Кандыбина. И нужно эту коробочку у него взять.
После завтрака Вася поспешил на двор. Был выходной день. Отец с матерью собрались за покупками в город, Вася любил ходить с ними, но сегодня не пошел. Они взяли с собой на руки Наташу, а Васе отец сказал:
– У тебя здесь дела?
Вася ничего не ответил, так как в словах отца услышал намек, – значит, он все и так знает. Кроме того, на душе у Васи было нехорошо – у него не было точного плана действий. Вышли из квартиры все вместе. У ворот отец отдал Васе ключ от квартиры.
– Ты погуляй. И ключ не потеряй, и не меняйся ни с кем.
Вася выслушал это распоряжение серьезно, даже не покраснел, потому что ключ в самом деле вещь серьезная и меняться им нельзя.
Возвратившись на двор, Вася увидел много мальчиков. Затевалась серьезная война на «кучугурах». Об этой войне давно уже были разговоры, она висела в воздухе. Кажется, сегодня должна разразиться военная гроза.
Вася несколько раз бывал на «кучугурах» с отцом, но всех тайн этой чудесной местности еще не знал.
«Кучугуры» представляли обширную незастроенную и не тронутую человеком территорию, которая тянулась, начиная от последних домов города, куда-то далеко, километра на три, а вправо и влево даже больше. Вся эта местность состояла из многих песчаных холмов, довольно высоких, имеющих иногда форму настоящих горных цепей. Кое-где они заросли лозой, иногда расползались по ним сухая приземистая травка. В центре «кучугур» помещалась настоящая гора, которую ребята называли «Мухиной горой», потому что на этой горе человек казался таким маленьким, как муха. Мухина гора только издали казалась монументальным целым, на деле же в ней было несколько вершин, крутых склонов, подернутых песчаной рябью. Под ними располагались пропасти и ущелья, заросшие кустарником. Вокруг Мухиной горы, сколько видит глаз, до самой деревни Корчаги, чуть заметной на ярко-зеленом фоне, разбросаны были горы поменьше, снабженные такими же пропастями и ущельями.
Вася видел, как некоторые мальчики бесстрашно скатывались по крутым склонам на самое дно пропасти. Они быстро вертелись, за ними подымалась вихри, а после них на гладкой поверхности ската оставался рыхлый, далеко видный след. Вероятно, это было большое наслаждение прокатиться по такому склону, а потом победоносно стоять на дне ущелья и посматривать на вершину склона, постепенно высыпая песок из одежды, носа и ушей. В присутствии отца Вася стеснялся предпринять такое низвержение в бездну, но втайне мечтал о нем.
Впрочем, сейчас «кучугуры» уже не могли быть использованы для подобных мирных развлечений. Их территория была отравлена семенами войны. Вася до сих пор не принимал участия в коллективных выступлениях местных молодых сил, но он уже подходил к «призывному возрасту», и военные дела его занимали. Среди мальчишеской общественности уже в течение нескольких дней происходили горячие дебаты по поводу напряженного положения на «кучугурах». Война должна была начаться не сегодня-завтра. Признанным главнокомандующим во дворе был Сережа Скальковский, ученик пятого класса, сын приемщика вагонов. Старик Скальковский крепко держал свою большую семью, но человек он был веселый, разговорчивый и насмешливый. Он имел орден Красного Знамени, много помнил о партизанских временах, но никогда не хвастал своими партизанскими успехами, а напротив, любил поговорить о военной технике и организации. Поэтому и Сережа Скальковский был противником беспорядочной военной возни на «кучугурах» и требовал порядка.
Враг помещался в большом трехэтажном доме, подошедшем к «кучугурам» в полукилометре от двора Васи. Мальчики этого дома давно освоили «кучугуры» с своей стороны, и их поиски шли также в направлении к Мухиной горе. В ущелье этой горы и произошли первые столкновения. Сначала это были одиночные стычки, потом групповые. В одной из недавних стычек целый отряд под командой самого Сережи Скальковского был низвергнут противником в одну из пропастей, а победители с торжественными песнями пошли домой по гребням гор. Но вчера к вечеру Сереже удалось смыть позор: перед самым заходом солнца он захватил в «восточном секторе» группу противника. Произошло сражение, противник отступил, но главный смысл победы заключался в том, что у одного из пленников была отобрана незаконченная карта всей территории «кучугур» – явное доказательство захватнических намерений противника. Вася оказался во дворе как раз в тот момент, когда Сережа Скальковский говорил:
– Видите, они уже карту составляют. А мы только ходим без всякого толку. И смотрите, они нарисовали наш дом и надпись сделали: «Центр расположения синих».
– Ого! – крикнул кто-то звонко. – Мы, по-ихнему, синие?
– Синие!
– А они красные?
– Выходит, так.
– И на карте так написали, – крикнул другой голос.
– А кто им дал право?
– Подумаешь, красные!
– А теперь карта у нас, можно переписать!
Все были очень возмущены, заглядывали в карту и фыркали. Вася тоже протеснился к карте и хотя читать еще не умел, но ясно увидел, что их двору нанесена обида, и у него не было никаких сомнений, что красными могут называться только Сережины воины.
Вася серьезно слушал, посматривал то на то, то на другое лицо и вдруг увидел по другую сторону толпы настойчивые, быстрые глазки Мити Кандыбина. В душе Васи военный пожар сразу потух и возникла проблема коробки. Он обошел толпу и взял Митю за локоть. Митя оглянулся и быстро отодвинулся в сторону.
– Митя, ты вчера взял ту… коробку?
– Взял. Ну, так что? А что ты мне сделаешь?
Хотя Митя и держался вызывающе, однако отодвигался дальше, и, видимо, готов был убежать. Такое поведение страшно удивило Васю. Он сделал шаг вперед и сказал уверенно:
– Так ты отдай!
– Ох, какой ты скорый, – презрительно скривился Митя. – Отдай! Какой ты скорый!
– Значит, ты не хочешь отдавать? Украл и не хочешь отдавать? Да?
Вася произнес это возбужденно-громко, с маленьким гневом.
В ответ Митя скорчил вредную и отвратительную гримасу. Что произошло дальше, никто не мог рассказать, даже и сам Вася. Во всяком случае, военный совет принужден был прекратить обсуждение стратегических вопросов. Его участники расступились и с увлечением смотрели на любопытное зрелище: Митя лежал на земле лицом вниз, а на нем верхом сидел Вася и спрашивал:
– Отдашь? Ну, скажи, отдашь?
Митя на этот вопрос не давал никакого ответа, а старался выбраться на свободу. Лицо Мити было испачкано в песке, оно быстро показывалось то с той, то с другой стороны и на соответствующую сторону старался заглянуть Вася и спрашивал:
– Ну, скажи, отдашь?
Участники военного совета хохотали. Особенно смешно было то, что в лице Васи не было ничего ни злобного, ни воинственного, ни возбужденного. В его больших глазах выражалась только заинтересованность – отдаст Митя или не отдаст? Этот вопрос он задавал без какой бы то ни было угрозы, обыкновенный деловой вопрос. В то же время Вася изредка придавливал своего противника к земле и чуточку прижимал его голову.
Вася, наконец, заметил всеобщее внимание и хохот и поднял голову. Сережа Скальковский взял Васю за плечи и осторожно поставил на ноги. Вася улыбнулся и сказал Сереже:
– Я его давил, давил, а он молчит.
– За что ты его давил?
– Он взял мою коробку.
– Какую коробку?
– Такая большая… железная…
Митя стоял рядом и вытирал рукой лицо, отчего оно, впрочем, не делалось чище.
Сережа спросил:
– Почему ты не отдаешь ему коробку?
Митя дернул носом, посмотрел в сторону и сказал нудным, неприветливым басом:
– Я отдал бы, так отец у меня взял.
– А коробка его?
Митя так же бесстрастно кивнул головой.
Красивый, с прической, сильный белокурый Сережа задумался:
– Ну что же! Пускай отец отдает. Ведь не его коробка? Он отнял у тебя?
– Он не отнял. Он вчера то… украл.
Мальчики засмеялись. Засмеялся и Левик. Вася увидел Левика и крикнул:
– Вон Левик все знает.
Левик отвернулся, напуская серьезность:
– Ничего я не знаю. Какое мне дело, что он у тебя украл!
Сережа строго, как настоящий главнокомандующий, крикнул на Митю:
– Ты украл? Говори!
– Взял. Чего там украл?!
– Хорошо, – сказал Сережа. – Мы сейчас кончим, а вы оба тут подождите. Тебя как зовут?
– Вася.
– Так ты, Вася, за ним смотри. Он под арестом. Арестован!
Вася вкось посмотрел на Митю и улыбнулся. Ему очень понравилось распоряжение Сережи, хотя он и не понимал, что ему, собственно говоря, нравится. Васю увлекала сила Сережи и сила мальчишеской организации, стоявшая за ним.
Вася искоса поглядывал на Митю, но последний и не думал ударить, может быть, потому, что не сомневался в цепких руках часового, а может быть, ему тоже понравилось быть арестованным самим главнокомандующим. Оба противника поэтому в полном порядке стояли и переглядывались и так увлеклись этим делом, что даже не слышали разговоров в военном совещании.
В совещании участвовало около десятка мальчиков, насчитывая таких допризывников, как Вася и Митя, которые не могли надеться на ответственные посты, но инстинктивно чувствовали, что в наступающих боях никто не помешает им проявить свою энергию. Условия войны их поэтому мало интересовали. Но судьба их оказалась счастливее, чем они предполагали. Из центра совещания вдруг раздался голос Сережи Скальковского.
– Нет, главные силы не будем трогать. У нас есть такие разведчики, что ого! Вот этот пацан, который сегодня победитель, ага, Вася! Смотрите, боевой! Он и будет начальником разведки.
– Нет, начальником нужно большого, – сказал кто-то.
– Ну, хорошо, а он будет помощником. Чем плохой?
Все смотрели на Васю и улыбались. Вася быстро сообразил, какая карьера перед ним открывается, так как отец не раз рассказывал ему о разведках. Он покраснел от внутренней гордости, но ни одним движением не выдал своего волнения, напротив, он еще пристальней стал посматривать на Митю. Митя презрительно вытянул губы и сказал тихо:
– Тоже, разведчик!
Это было сказано из зависти, но в этот момент Сережа, выйдя из круга, осмотрелся и начал за рукава и за плечи стаскивать разведчиков в одну кучу к Васе. Их оказалось восемь человек, и первым попал сюда, конечно, Митя. Они были все довольны, хотя и держались без уверенности, свойственной разведчикам.
Сережа произнес речь:
– Вот вы, разведчики, поняли? Только смотрите, чтобы была дисциплина, а не как кому хочется. Вашим начальником будет Костя Вареник, а помощником вот этот Вася. Поняли?
Разведчики закивали головами и обратились лицами к Косте. Костя Вареник был тонкий мальчик лет тринадцати. У него был веселый большой рот и насмешливые глаза. Он заложил руки в карманы, осмотрел свою команду и поднял кулак:
– Разведка должна показать… во! Только кто будет изменником или струсит… расстрел!
Разведчики напружинили глаза и поперхнулись от удовольствия.
– Идем организовываться! – приказал Костя.
– А арестованный? – спросил Вася.
– Ага, сейчас! Товарищ главком! Арестованного отпустить?
– Что вы! – возмутился Сережа. – Сейчас поведем!
Сережа вышел вперед и хотел куда-то вести их, но в этот момент отворилась тяжелая калитка ворот и пропустила трех мальчиков лет 11–13. Один из них нес на палочке белую тряпицу.
– Ой! Парламентеры! – закричал Сережа в крайнем волнении.
– Они сдаются! – крикнул кто-то сзади.
– Смирно! Никаких разговоров! – свирепо приказал главнокомандующий.
Все испуганно примолкли и ждали, что будет дальше. Главком и другие покрылись холодным потом, увидев, до чего организован противник: у одного белый флаг, у другого пионерская труба, у третьего на старой кепке золотистое перо из петушиного хвоста – это какой-то начальник. Не успели ребята перевести дух после первого потрясения, как противник показал себя еще с более блестящей стороны: парламентеры выравнялись в одну линию, трубач поднял трубу и что-то заиграл. Даже у Сережи захватило дух от зависти, но он раньше других пришел в себя, выступил вперед, отсалютовал рукой и сказал:
– Я главнокомандующий Сергей Скальковский. Мы не знали, что вы придете и поэтому не приготовили почетного караула. Просим нас извинить.
У мальчиков отлегло от сердца, и они еще раз увидели, что их главнокомандующий понимает дело.
Начальник парламентеров тоже выступил вперед и произнес следующую речь:
– Мы не успели вам сказать, потому что мало времени. Красное командование объявляет войну синим, только нужно составить правила, и чтобы вы отдали наш план, а вы отняли его не по правилам, войны еще не было. Нужно составить правила, когда воевать и какие знамена у красных и у синих.
Кто-то из толпы обиженно крикнул:
– Мы не синие! Смотри ты, придумали, синие!
– Цыть! – распорядился главнокомандующий, но и сам прибавил. – Давайте составим правила, только это вы напрасно говорите, что вы – красные. Так нельзя: вы сами… как захотели…
– Мы первые, – сказал парламентер.
– Нет, мы первые, – снова крикнули из рядов.
Сережа сообразил, что война может начаться до составления правил, и поспешил внести успокоение:
– Постойте, чего кричите, давайте сядем и поговорим.
Парламентеры согласились и все расселись на куче бревен у забора.
Вася сказал арестованному:
– Пойдем туда.
Арестованный согласился и побежал к забору. Вася еле успел догнать его. Они расположились вместе с другими разведчиками на песке.
После получасового спора было достигнуто полное соглашение между сторонами. Решено было войну проводить от десяти часов утра до гудка на заводе в четыре часа. В другое время территория «кучугур» считается нейтральной, можно гулять, делать что угодно и никого нельзя брать в плен. Победителем будет тот, чей флаг три дня простоит на Мухиной горе. Флаги у обеих сторон красные, только у сережиной армии светлее, а у противником темнее. И те и другие называются красными, только одна сторона будет называться северной, а другая – южной. В плен можно уводить, если кормить, а если не кормить, так отпускать пленников в четыре часа на все четыре стороны, потому что войска вообще мало, и если брать пленных, так и совсем не останется. Захваченный северными план отдать южным.
Парламентеры удалились с прежней церемонией. Они шли по улице, размахивая белым флагом и играя на трубе. Северные только в этот момент поняли, что война началась, что противник очень организован и силен, нужно принимать немедленные меры. Сережа отправил несколько мальчиков по квартирам производить мобилизацию – уговаривать домоседов и тихонь записываться в северную армию.
– У нас на территории армии тридцать три хороших пацана, да разведчиков сколько, а они сидят возле маминых юбок!
Вася услышал эти слова и с тоской подумал о неразрешимых противоречиях жизни, потому что его мать все-таки лучше всех, а вот Сережа говорит… Конечно, у других мам и юбки не такие…
Через пять минут к мальчикам подошла одна из матерей, и Вася обратил внимание на ее юбку. Нет, это была неплохая юбка, легкая и блестящая, вообще эта мать пахнула духами и была добрая… Она пришла вместе с сыном, семилетним Олегом Куриловским. Даже Васе привелось слышать о семье Куриловских кое-какие рассказы.
Семен Павлович Куриловский работал на заводе начальником планового отдела. На территории северной армии не было никого, кто мог по значительности равняться с Семеном Павловичем Куриловским. Этот основной факт, впрочем, больше всего беспокоил самого Куриловского, а отец Васи говорил о нем так:
– Начальник планового отдела! Конечно, важная птица! Но все-таки на свете есть и поважнее!
Как раз в последнем Куриловский, кажется, сомневался. В его важности было что-то такое, чего не могли понять другие люди. Но так было на заводе. А в семье Куриловских все понимали и не представляли себе жизни, не растворенной в величии Семена Павловича. Помещались источники этого величия в плановой работе или в педагогических убеждениях Семена Павловича, сказать трудно. Но некоторым товарищам, которых удостоил беседой Семен Павлович, удалось слышать такие слова:
– Отец должен иметь авторитет! Отец должен стоять выше! Отец – это все! Без авторитета какое может быть воспитание?
Семен Павлович, действительно, стоял «выше». Дома у него отдельный кабинет, в который может заходить только жена. Все свободное время Семен Петрович проводит в кабинете. Из домашних никто не знает, что он там делает, да и не может знать, не может даже знать о своем незнании, потому что есть вещи более обыкновенные, чем кабинет, но и их имена произносятся с трепетом: папина кровать, папин шкаф, папины штаны.
Возвращаясь со службы, папа не проходит по комнатам, а шефствует, неся в руках коричневый двойной портфель, чтобы поместить его в кабинетном алтаре. Обедает папа один, хмурый и загазеченный, а дети в это время пересиживают в каком-нибудь дальнем семейном переулке. Хотя у Семена Павловича и нет собственной «прикрепленной» машины, но часто его «подбрасывает» заводской газик. Газик с усилием ныряет в волнах песчаной улицы, его шум далеко разносится в окрестностях, нервничают собаки во всех прилежащих дворах, отовсюду выбегают на улицу дети. Вся природа смотрит на газик пораженными глазами, смотрит на сердитого шофера, на Семена Павловича Куриловского, похожего на графа С. Ю. Витте. Конечно, газик составляет одну из самых существенных частей отцовского авторитета: это в особенности хорошо знают Куриловский Олег – семи лет, Куриловская Елена пяти лет и Куриловский Всеволод – трех лет.
Семен Павлович редко спускается для педагогического действия, но в семье все совершается от его имени или от имени его будущего недовольства. Именно недовольства, а не гнева, потому что и недовольство папино – вещь ужасная, папин же гнев просто невозможно представить. Мама часто говорит:
– Папа будет недоволен.
– Папа узнает.
– Придется рассказать папе.
Папа редко входит в непосредственное соприкосновение с подчиненными.
Иногда он разделяет трапезу за общим столом, иногда бросает величественную шутку, на которую все обязаны отвечать восторженными улыбками. Иногда он ущипнет Куриловскую Елену за подбородок и скажет:
– Ну?!
Но большей частью папа передает свои впечатления и директивы через маму после доклада. Тогда мама говорит:
– Папа согласен.
– Папа не согласен.
– Папа узнал и очень сердится.
Сейчас жена Семена Павловича вышла во двор вместе с Олегом, чтобы выяснить, что это за северяне и может ли Олег принять участие в их действиях, вообще выяснить идеологию северян и их практику для доклада папе.
Олег Куриловский – сытый мальчик с двойным подбородком. Он стоит рядом с матерью и с большим интересом слушает объяснения Сережи.
– У нас война с южанами, они живут в том доме… Надо поставить флаг на Мухиной горе. Сережа кивнул на Мухину гору, светло-желтая вершина которой видна за забором.
– Как это война? – спросила Куриловская, оглядывая толпу мальчиков, обступившую ее. – Ваши родители знают об этом?
Сережа улыбнулся.
– Да что ж тут знать? Мы в секрете не держим. А только, мало каких игр есть? Разве про всякую спрашивать?
– Ну да, «про всякую». Это у вас не просто игра, а война.
– Война. Только это игра! Как всякая игра!
– А если вы раните кого-нибудь?
– Да чем же мы раним? Что у нас, ножи или револьверы?
– А вон сабли!
– Так это деревянные сабли!
– Все-таки, если ударить!
Сережа перестал отвечать. Ему был неприятен этот разговор, срывающий кровавые одежды с войны между северянами и южанами. Он уже со злостью смотрел на Олега Куриловского и не прочь был причинить ему на самом деле какие-нибудь неприятности. Но Куриловская хотела до конца выяснить, что это за война.
– Но все-таки: как вы будете воевать?
Сережа рассердился. Он не мог допустить дальнейшего развенчивания военного дела:
– Если вы за Олега боитесь, так и не нужно. Потому, что мы и не ручаемся, может, в сражении его кто-нибудь и треснет. А он побежит к вам жаловаться! Все ж таки война! У нас вон какие, и то не боятся! Ты не боишься? – спросил он у Васи, положив руку на его плечо.
– Не боюсь, – улыбнулся Вася.
– Ну, вот видите, – сказала Куриловская с тревогой, снова оглядывая всех мальчиков, как будто в надежде узнать, кто треснет Олега Куриловского и насколько это будет опасно.
– Ты не бойся, Олег! – сказал сзади добродушно-иронический голос. – У нас и Красный Крест есть. Если тебе руку или голову оторвет бомбой, сейчас же перевязку сделают. Для этого девчата имеются.
Мальчики громко рассмеялись. Оживился, улыбнулся, порозовел Олег. И для него перевязка на месте оторванной руки или… головы казалась сейчас привлекательной.
– Господи! – прошептала мать и направилась к дому. Олег побрел за ней. Мальчики смотрели им вслед, прищурив глаза и показывая белые зубы.
– Да! Вспомнил Сережа. – А где арестованный?
– Я здесь.
– Идем!
Митя наклонил голову.
– Только он все равно не отдаст!
– Посмотрим!
О! Ты еще не знаешь моего отца!
– Интересно! – сказал Сережа и покачал красивой белокурой причесанной головой.
Расположение квартиры Кандыбина было такое, как и у Назаровых, они жили в нижнем этаже, но Вася не мог найти ничего общего между своим жилищем и этим. Пол, видно, не подметался несколько дней. Стены были покрыты пятнами. На непокрытом столе трудно сказать чего больше: объедков или мух. Стулья, табуретки в беспорядке: разбросаны везде. Во второй комнате неубранные постели и желтоватые, грязные подушки. На буфете навалены грязные тарелки и стаканы. Даже ящики комода почему-то были выдвинуты и так оставлены. Вошедший первым Сережа сразу попал в какую-то лужу и чуть не упал.
– Осторожнее, молодой человек, стыдно падать на ровном месте, – сказал краснолицый бритый человек.
Отец Мити сидел возле стола и держал между ногами подошвой кверху сапог. На углу стола, рядом с ним, стояла та самая черная железная коробка. Только теперь она была разделена диктовыми перегородками, и в отдельных помещениях насыпаны были деревянные сапожные гвозди.
– Чем могу служить? – спросил Кандыбин, достав изо рта новый гвоздик и вкладывая его в дырочку, просверленную в подошве. Вася увидел между губами Кандыбина еще несколько гвоздиков и понял, почему он так странно говорит. Сережа легонько толкнул Васю и спросил шепотом: – Эта?
Вася поднял глаза и так конспиративно кивнул головой.
– Что же вы пришли в чужую хату и шепчетесь? – с трудом прогнусавил Кандыбин.
– Они за коробкой пришли, – прогудел Митя и спрятался за спину товарищей.
Кандыбин ударил молотком по сапогу, вытащил изо рта последний гвоздь и только теперь получил возможность говорить полным голосом.
– А! За коробкой? За коробкой нечего ко мне приходить. Это пускай к тебе приходят.
Выпрямившись на стуле, Кандыбин сердито смотрел на мальчиков, а в руке держал молоток, как будто для удара. Красное лицо Кандыбина было еще молодо, но брови были белые-белые, как у старика. Из-под этих бровей смотрели жесткие, холодные глаза.
– Митя признался, что коробку он взял, вроде как бы… ну, украл. А у него вы взяли. А это Васи Назарова коробка.
Сережа стоял и спокойно смотрел на вытянутую фигуру Кандыбина.
Отец перевел глаза на сына:
– Ага? Украл?
Митя выступил из-за спины Сережи и заговорил громко, напористо, с маленьким взвизгиванием:
– Да не украл! Украл, украл! Она там лежала, при всех, все видели! Я и взял. А что они говорят, так брешут, брешут и все!
Вася оглянулся пораженный. Он никогда еще в жизни не слышал такой откровенной лжи, высказанной таким искренним и страдальческим голосом.
Кандыбин снова перевел глаза на Сережу:
– Так не годится, товарищи! Пришли и давай: украл, украл! За такие слова можно и отвечать, знаете!
В волнении Кандыбин начал рыться пальцами в железной коробке, сначала в одном отделении, потом в другом. Сережа не сдавался:
– Ну хорошо, пускай и не украл. Но только коробка эта Васи… а не ваша. Значит, вы отдадите ему?
– Кому, ему? Нет, не отдам. Пришли бы по-хорошему, может, и отдал бы. А теперь не отдам. Украл, украл! Взяли и из человека вора сделали! Идите!
Сережа попробовал еще один ход:
– Пускай! Это я говорил, а Вася ничего не говорил. Так что… нужно ему отдать…
Кандыбин еще сильнее вытянул свое тело над сапогом:
– Ну! Молодой ты еще меня учить! И по какому праву ты сюда пришел? Влез в мою хату и разговариваешь тут? Что у тебя отец партизан? Ну, так это еще вопрос. Вижу: одна компания! Идите! Марш отсюда!
Мальчики двинулись к дверям.
– А ты, Митька, куда? – крикнул отец. – Нет, ты оставайся!
Сережа снова чуть не упал на пороге. Из кухни смотрела на них равнодушными глазами худая старая женщина. Вышли во двор.
– Вот, понимаешь, жлоб! – раздраженно сказал Сережа. – Не-ет! Мы эту коробку у него выдерем!
Вася не успел ответить, ибо в этот момент колеса истории завертелись, как сумасшедшие. К Сереже стремительно бежали несколько мальчиков. Они что-то кричали, перебивая друг друга и размахивая руками. Один из них, наконец, перекричал товарищей:
– Сережа! Да смотри ж! Они уже флаг…
Сережа глянул и побледнел. На вершине Мухиной горы развевался темно-красный флаг, казавшийся отсюда черным. Сережа опустился на ступени крыльца, он не мог найти слов. В душе у Васи что-то трепыхнулось извечное мальчишеское отвращение к противнику.
Мальчики сбегались к ставке главнокомандующего, и каждый из них сообщал все то же известие, и каждый требовал немедленного наступления и расправы с наглым врагом. Они кричали неистовыми дискантами, с широко открытыми глазами, грязными руками показывали своему вождю нестерпимо позорный вид Мухиной горы.
– Чего мы сидим? Чего мы сидим, а они задаются? Сейчас идем!
– В наступление! В наступление!
Сабли и кинжалы начали кружиться в воздухе.
Но главнокомандующий северной славной армией знал свое дело. Он влез на вторую ступеньку крыльца и поднял руку, показывая, что хочет говорить. Все смолкло.
– Чего вы кричите? Горлопанят, никакой дисциплины! Куда мы пойдем, когда у нас еще и знамени нету! Пойдем с голыми рыками, да? И разведка не сделана! Кричат, кричат! Знамя я сам сделаю, мама обещала! Назначаю атаку Мухиной горы завтра в двенадцать часов. Только держать в секрете. А где начальник разведки?
Все северяне бросились искать начальника разведки:
– Костя!
– Костя-а!
– Варение!
Догадались побежать на квартиру. Возвратившись, доложили:
– Его мать говорит: он обедает и не лезьте!
– Так помощник есть!
– Ах, да, – вспомнил Сережа, – Назаров!
Вася Назаров стоял здесь перед главнокомандующим, готовый выполнить свой долг. Только далеко где-то загудела беспокойная мысль: как отнесутся к его деятельности разведчика родители?
– Разведке завтра выступить в одиннадцать часов. Узнать, где противник, и доложить!
Вася кивал головой и оглядывался на своих разведчиков. Все они были здесь, только Митю Кандыбина задержали семейные дела.
Но в этот момент послышался и голос Мити. Он раздавался из его квартиры и отличался выразительностью и силой звука:
– Ой, папа, ой, папочка! О-ой! Ой, не буду! Ой, не буду, последний раз!
Другой голос гремел более самостоятельным тоном:
– Красть? Коробка тебе нужна? Позорить… у… рыжая твоя морда!
Северяне замерли, многие побледнели, в том числе и Вася. Один из бойцов северной армии, тут рядом, в двух шагах, подвергался мучениям, а они принуждены были молча слушать.
Митя еще раз отчаянно заорал, и вдруг открылась дверь, и он, как ядро, вылетел из квартиры, заряженной гневом его родителя, и попал прямо в расположение северян. Руки его были судорожно прижаты к тем местам, через которые по старой традиции входит в пацана все доброе. Очутившись среди своих, Митя молниеносно повернулся лицом к месту пыток. Отец его выглянул в дверь и, потрясая поясом, заявил:
– Будешь помнить, сукин сын.
Митя молча выслушал это предсказание, а когда отец скрылся, упал на ступеньку у самых ног главнокомандующего, и горько заплакал. Северная армия молча смотрела на его страдания. Когда он перестал плакать, Сережа сказал:
– Ты не горюй! Это что! Это личная неприятность! А ты глянь, что на Мухиной горе делается!
Митя вскочил и воззрился своими активными, а в настоящую минуту заплаканными глазами на вершину Мухиной горы:
– Флаг? Это ихний?
– А чей же! Пока тебя били, они заняли Мухину гору. А за что это тебя?
– За коробку.
– Ты признался?
– Не, а он говорит: позоришь.
Вася тронул Митю за штанину.
– Митя, завтра на разведку в одиннадцать часов… идти. Ты пойдешь?
Митя с готовностью кивнул и произнес еще с некоторым оттенком страдания:
– Хорошо.
Отец сказал Васе:
– Это хорошо, что ты начальник разведки. А вот что ты побил Митю – это плохо. И отец его побил. Бедный хлопчик!
– Я его не бил, я его только повалил. И давил. Я ему говорю отдай, а он молчит.
– Это пускай и так, а только из-за такого пустяка не стоит: коробка! Ты этого Митю приведи к нам и помирись.
– А как? – спросил Вася по обыкновению.
– Да так и скажи: Митя, пойдем к нам. Да ведь он тоже разведчик?
– Угу… А как же коробка?
– Кандыбин не отдает? И сына побил, и коробку присвоил! Странный человек! И токарь хороший, и сапожник, и уже инструктор, зарабатывает здорово, а человек несознательный. Грязно у них?
Вася наморщил лицо:
– Грязно-грязно! И на полу и везде! А как же коробка?
– Что-нибудь другое придумаем.
Мать слушала их и сказала:
– Только ты, разведчик, смотри там, глаз не выколи.
– Ты другое скажи, – прибавил отец, – в плен не попадись, вот что.
На другой день Вася проснулся рано, еще отец не успел на работу уйти, и спросил:
– Сколько уже часов?
Отец ответил:
– Что тебе часы, если на Мухиной горе чужое знамя стоит. Хороший разведчик давно на горе был бы. А ты спишь!
Сказал и ушел на завод, – значит, семь часов. Его слова внесли в душу Васи новую проблему. В самом деле почему нельзя сейчас отправиться на разведку? Вася быстро оделся, ботинок теперь надевать не нужно, а короткие штанишки натягиваются моментально. Вася бросился к умывальнику. Здесь его действия отличались такой вихревой стремительностью, что мать обратила внимание.
– Э, нет? Война, или что, а ты умывайся как следует. А щетка почему сухая? Ты что это?
– Мамочка, я потом.
– Что это за разговоры! Ты мне никогда таких разговоров не заводи! И куда ты торопишься? Еще и завтра не готов.
– Мамочка, я только посмотрю.
– Да на что смотреть? Ну, посмотри в окно.
Действительно, в окно было все видно. На Мухиной горе по-прежнему реял флаг, казавшийся черным, а во дворе не было ни одного бойца северной армии.
Вася понял, что и в жизни разведчика есть закономерность, и покорно приступил к завтраку. О существе работы разведчика он еще не думал, знал только, что это дело ответственное и опасное. Воображение слабо рисовало некоторые возможные осложнения. Вася попадает в плен. Враги допрашивают Васю о расположении северной армии, а Вася молчит или отвечает: «Сколько ни мучьте, ни за что не скажу!» О таких подвигах партизан, попавших в плен, иногда рассказывал и Сережа Скальковский, и читал отец в книгах. Но Вася не только мечтатель. Он еще и реалист. Поэтому за завтраком ему приходят иронические мысли, и он спрашивает у матери:
– А если они будут спрашивать, где наши, так они и так знают, потому что сами вчера в наш двор пришли. И с трубой, и с флагом.
Мать ответила:
– Раз они знают, так и спрашивать не будут об этом, а о чем-нибудь другом спросят.
– А как они спросят?
– Они спросят, сколько у вас войска, сколько разведчиков, сколько пушек.
– Ха! У нас пушек ни одной нету. Только есть сабли. А про сабли тоже будут спрашивать?
– Наверное, будут. Только ведь ты не попадешься в плен?
– Тогда надо бежать! А то попадешься, и тогда будут спрашивать. А как они будут мучить?
– Да смотря, какие враги! Ведь эти самые южане не фашисты?
– Нет, они не фашисты. Они вчера к нам приходили: такие самые, как мы, все такое самое. И флаг у них тоже красный, и они называются красные, только южные.
– Ну, значит, не фашисты, тогда они мучить не должны.
– У них нету этого… Му…
– Муссолини?
– Угу… У них нету.
Таким образом, первая разведка была сделана Васей еще дома.
Когда Вася вышел во двор, там уже было некоторое военное движение. На крыльце у Сережи Скальковского стояло ярко-красное знамя, и вокруг него торчали бойцы и разведчики, пораженные его торжественностью. Сам Сережа, Левик, Костя и еще несколько старших обсуждали план атаки. Тут же во дворе вертелся Олег Куриловский и прислушивался к разговорам с завистью. Сережа спросил у него:
– Ну что, тебе разрешили?
Олег опустил глаза.
– Не разрешили. Отец сказал: можно смотреть, но в драку не лезть!
– А ты к нам в разведчики.
Олег посмотрел на окна своей квартиры и отрицательно завертел головой.
Костя Вареник начал собирать своих разведчиков. Митя Кандыбин сидел на бревнах рядом с Васей и был настроен грустно. Вася вспомнил совет отца помириться с ним и теперь внимательно рассматривал его лицо. Митины светлые глазки по привычке бросались то в ту, то в другую сторону, но личико у него было бледное и грязное, а рыжеватые волосенки склеились в отдельные плотные пучки и торчали на голове, как бурьян.
Вася сказал:
– Митя, давай мириться.
– Митя ничего не выразил на лице, но ответил:
– Давай!
– И будем вместе.
– И играть вместе, и воевать. А ты ко мне придешь?
– Куда это?
– Ко мне домой.
Митя смотрел куда-то вперед и так же бесстрастно ответил:
– Приду.
– А тебя папа сильно побил? Вчера?
– Нет, – сказал Митя и скорчил свою обычную презрительную гримасу. – Он махает своим поясом, а я тоже знаю: надо и сюда, и туда, а он хлопает, хлопает, а только даром.
Митя чуточку оживился и даже начал поглядывать на собеседника.
– А мама тебя не бьет?
– А ей чего бить? Какое ей дело?
Прибежал Костя, пересчитал разведчиков, присел возле них на корточки и зашептал:
– Слушай, хлопцы! Видите Мухину гору? Там, на горе, наверное, они все сидят, южные. Сережка поведет наших кругом, кругом поведет, в тыл, значит, по ущельям, чтобы они не видели. Они не будут видеть, а Сережа на них нападет сзади. Поняли?
Разведчики подтвердили, что этот стратегический план они понимают.
– А мы пойдем прямо на них.
– А они нас увидят, – сказал кто-то.
– И пускай видят. Они подумают, что тут все наши, а назад не будут смотреть.
Митя скептически отнесся к таким надеждам:
– Думаете, они такие глупые? Они сразу узнают.
– А вы не лезьте по чистому месту, а все за кустиками, за кустиками. Они и будут думать, что это большие. Поняли?
Костя разбил свою команду на две части. Он сам поведет свою колонну левыми дорожками, а Васе приказал вести своих правыми. Если южане будут наступать, в бой не идти, а прятаться.
В колонне Васи было пять пацанов, считая и его самого: Митя Кандыбин, Андрюша Горелов, Петя Власенко и Володя Перцовский. Все эти пацаны отличались самостоятельностью мнений и крикливыми голосами. Они сразу взбунтовались, когда Вася дал приказ:
– Станьте теперь так… в рядок.
Они кричали:
– Это не нужно. Это разведчики. Надо пригибаться. Надо на животе, на животе! Он сам ничего не понимает!
Но Вася был неумолим:
– На животе не надо. Это если в разведку, тогда на животе, а мы будем наступать.
Вася смутно ощущал недостаток военных знаний, но крикливые разведчики вызывали у него сопротивление. Он уже начал хватать разведчиков за рукава и силой вталкивать в боевой порядок. Кто-то крикнул:
– Он не имеет права толкаться!
Помощь пришла с неожиданной стороны. Митя Кандыбин первым стал в строй и заворчал:
– Довольно кричать. Вася – начальник. Раз он сказал, чего там?
Вася в полном порядке повел свою колонну на поле битвы. Впереди колонны он гордо прошел мимо главных сил, собравшихся возле знамени. Сережа Скальковский, пропуская мимо себя колонну, одобрил ее марш.
– Вот это верно! Молодец, Вася! Вы ж там смотрите!
Тогда Вася обернулся к колонне и сказал уже с полной уверенностью командира:
– А я что говорил?
Но разведчики и сами были довольны одобрением главнокомандующего.
Колонна Васи расположилась за кустиками на возвышенности, в непосредственной близости к Мухиной горе. Слева, на соседней возвышенности, лежали на песке разведчики Кости Вареника, а справа внизу мелькало между кустами ярко-красное знамя. Это главные силы под предводительством самого главнокомандующего совершали обходное движение.
Мухина гора была видна хорошо, но главная ее вершина была частью скрыта большим песчаным наметом, поэтому виднелась только верхушка флага. На намете чернела одинокая фигура.
– Это ихний часовой, – сказал Володя Перцовский.
– Эх, если бы бинокль достать! – страстно замечтал Андрюша.
Вася почувствовал, как сжалось от сожаления сердце. Как это он не догадался выпросить у отца бинокль! Ужас, сколько потеряно великолепия, блеска, авторитета, военного удобства!
Но уже и без бинокля было видно, как многочисленное войско южан выдвинулось из-за вершины. Внутри у Васи трепыхнулось что-то штатское при виде такой тучи врагов. Костина колонна поднялась за своими кустами и закричала, подымая руки, тогда и Вася задрал руки вверх и завопил что-то воинственное. Южная армия смотрел на них без слов. Но вдруг из вражеской армии отделились три человека и стали быстро взбираться на верхушку намета. Подскочив к одинокой фигуре, три южанина закричали «ура», схватили эту фигуру и потащили к своим. Фигура закричала жалобно и заплакала. Разведчики Васи с открытыми от ужаса глазами наблюдали эту странную драму во враждебном стане: никто не мог понять, что такое происходит. Андрюша несмело высказал догадку:
– Это они своего изменника захватили.
Но Митя Кандыбин, у которого были глаза острее других, сказал весело:
– Ой-ой-ой! Они Олега поволокли! Олега Куриловского!!!
– Он наш? Он наш? – спросило несколько голосов.
– Какой там наш! Он ничей! Ему отец не позволил.
– А чего ж они?
– А почем они знают?
Трое тащили Олега к южной армии. Он упирался и кричал на всю территорию войны, но к разведчикам доносились и звуки смеха, принадлежавшие, конечно, южанам. Видно было, как Олега окружили со всех сторон.
– Ха, – сказал Митя, – он пошел посмотреть, а его взяли в плен.
Колонна Кости в это время вышла из-за кустов и стала спускаться вниз, подвигаясь к Мухиной горе. Вася заволновался:
– Идем, идем!
Они тоже начали спускаться с своего холма и забирать вправо к новым кустикам впереди. Открылся весь подъем на Мухину гору, стал виден во весь рост неприятельский флаг. По каким-то странным причинам враг не только не пошел навстречу разведчикам, а всей своей массой начал отступать к своему знамени. Вот и подошва Мухиной горы. Осталось только взобраться по крутому и длинному склону и вступить в бой. Но южная армия закричала «ура» и куда-то побежала. Затем она провалилась, как будто ее и не было, уже и криков не слышно. Возле знамени остался только кто-то один, наверное, часовой, да сидел ближе к разведчикам на песке Олег и, вероятно, плакал с перепугу.
От Кости прибежал Колька Шматов и запищал:
– Я связист, я связист! Сказал Костя, идем прямо, ихний флаг возьмем, флаг возьмем!
Митя крикнул:
– От здорово! – и первый начал взбираться на Мухину гору.
Вася глубоко вздохнул и полез вверх по крутому склону.
Склон был измят и истоптан, – наверное, ногами южан. Шагать в этом песчаном месиве было очень трудно. Босые ноги Васи проваливались в песок до самых колен, а от следов Мити ветерок подымал и сыпал в глаза острые вредные песчинки. Вообще это была очень тяжелая атака. Вася запыхался, но когда поднял глаза и глянул вперед, до неприятельского знамени оставалось так же далеко. Вася заметил, что оставленный у знамени часовой волновался, как-то странно прыгал и панически орал, обернувшись назад.
Костя Вареник, идущий сбоку, крикнул:
– Скорее, скорее!
Вася замесил ножками энергичнее, раза два споткнулся и упал, но все же скоро поравнялся с Митей. Митя был слабее Васи, он падал на каждом шагу и скорее полз на четвереньках, чем шел. Остальные разведчики сопели сзади, и кто-то все время толкался в Васину пятку.
Вася снова поднял глаза и увидел, что находится совсем близко от цели и впереди всех. Южанин, с лицом до странности незнакомым и действительно вражеским, был почти перед носом. Это был маленький пацан, лет шести, но мельче Васи. Он со страхом впился всей своей остренькой мордочкой в Васины глаза и вдруг ухватился ручонками за древко знамени и начал вытаскивать его из песка. Но знамя у южан было большое. Его огромное темно-красное полотнище трепыхалось над головой Васи. Вася прибавил энергии, кстати, и бежать стало легче: крутой подъем кончился, началась пологая вершина. Южанин, наконец, выдернул древко и бросился удирать к противоположному склону. Вася что-то крикнул и побежал за ним. Он почти не заметил, как больно стукнула по голове верхушка знамени, которое южанин не в силах был держать в руках, не заметил Олега Куриловского, промелькнувшего рядом. Вася перемахнул вершину и с разгону покатился вниз. Он не испугался и ясно чувствовал, как рядом с ним катится южанин, а через секунду понял, что враг от него отстает. Вася уперся ножками, задержался, поднял глаза, и в тот же момент южанин со знаменем скатился прямо ему на голову. Вася мелькнул ножками, быстро вывернулся в сторону, и враг поехал мимо: знамя тащилось за ним. Вася животом бросился на древко. Оно немного протянулось по его голому животу, левая рука зарылась в полотнище. Вася почувствовал радость победы и глянул вверх. Один Митя тормозил свое падение рядом с ним. Костя и другие разведчики стояли на вершине и что-то ему кричали и показывали вниз. Вася посмотрел вниз, и стриженные его волосы зашевелились от ужаса. Прямо на него снизу взбирались чужие мальчики. Впереди быстро работал ногами тот самый начальник с петушиным пером, который приходил вчера парламентером. За ним карабкались другие, и у одного в руках было ярко-красное знамя северной армии.
Вася ничего не понял, но услышал грохот катастрофы. Глазами, расширенными от страха, он видел, как прямо в руки врагов скатился Митя Кандыбин. Вася дернулся, чтобы бежать вверх, но чья-то сильная рука ухватила его за ногу, и звонкий, победоносный голос закричал:
– Врешь, попался! Ах ты, мышонок! Стой!
Разгром северной армии был полный. Стоя на вершине Мухиной горы, окруженный врагами, Вася слышал шум победы южан и понял все. Рядом с ним щекастый, румяный мальчик с очень приятным, хотя вражеским лицом болтал больше всех:
– Вот здорово! Ой, как они покатились! А тот! А тот! Ихний главнокомандующий!
– Спасибо этому, а то они нас хотели перехитрить! – сказал начальник с пером и кивнул на Олега Куриловского.
– Он все рассказал им, – шепнул Митя Кандыбин.
Враги с увлечением рассказывали друг другу о тайнах своей победы. Вася понял, что они от Олега узнали план Сережи и поэтому оставили без прикрытия знамя, а сами пошли навстречу главным силам северян. Они встретили Сережу на краю крутого подъема. Целые груды песка они сбросили на головы наступающим, низвергли их в пропасть и захватили в плен Левика Головина вместе со знаменем. Левик сидел недалеко под кустиком и вытаскивал занозу из руки.
– Эй, пленники! – крикнул начальник с пером. – Вы здесь будете сидеть.
Он показал место рядом с Левиком. там на песке валялось опозоренное знамя северян. Кроме Левика, пленников было трое: Вася, Митя и Олег Куриловский. Они сели на песке и молчали. Левик вытащил занозу, прошелся два раза мимо пленников и бросился в соседнюю пропасть. Он с ужасной быстротой вертелся на ее крутом скате. Потом он стал внизу, снял с головы желтую тюбетейку и приветственно размахивал ею:
– До свиданья! Я иду обедать!
За ним никто не побежал. Все это происходило на глазах Васи, но казалось, что это снится. Вася не мог забыть горе поражения, а впереди он ожидал неведомой расправы жестокого врага. После бегства Левика кто-то из южан предложил:
– Надо их связать, а то они все поубегают!
Другой ответил:
– Верно, давайте свяжем им ноги.
– И руки, и руки!
– Нет, руки не надо.
– А они поразвязываются руками!
В этот момент сидящий рядом с Митей Олег Куриловский взлетел в воздух и пронзительно закричал:
– Ой-ой-ой-ой! Чего ты щипаешься!?
Южане расхохотались, но их начальник напал на Митю:
– Ты не имеешь права щипаться! Ты сам пленный!
Митя не удостоил его взглядом.
Тогда начальник рассердился:
– Связать им руки и ноги!
– И этому? – показали на Олега.
– Этому не нужно.
Южане бросились к пленникам, но сейчас же выяснилось, что связывать нечем. Только у одного южанина был поясок, но отказался выдать его в распоряжение командования, ссылаясь на то, что «мамка заругает».
Вася с напряжением смотрел на чужие, страшные лица врагов, и в нем все больше и больше разгоралась ненависть к Олегу, истинному виновнику поражения северян и его, Васиных, страданий. Один из южан достал где-то узкую грязненькую тряпицу и крикнул Васе:
– Давай ноги!
Но на вершине горы кто-то закричал:
– Сюда! Сюда! Они идут! Защищайся!
Южан как ветром снесло. Все они побежали отражать атаку северян. На вершине остались одни пленники. Битва шла рядом, на противоположном склоне слышны были крики «ура», слова команды, смех. Митя пополз к вершине, но его мало интересовал ход сражения. Поравнявшись с Олегом, он дернул его за ногу. Олег отчаянно закричал и покатился вместе с Митей к кустам. Вася за конец рубахи перехватил Олега и немедленно уселся на нем верхом. Он радостно смеялся, сидя на предателе.
– Давай его бить, – предложил Митя.
Вася не успел ответить. Более взрослый и жирный Олег вывернулся из-под Васи и побежал в сторону. У кустов он снова был опрокинут. Митя схватил его… Олег снова огласил «кучугуры» самым диким воплем.
Вася сказал:
– Ты не щипайся, а давай поведем его к Сереже.
Олег плакал громко и грозил:
– Вот я все расскажу папе.
За это Митя еще раз ущипнул его, после чего Олег растянул рот до самых ушей. Вася смеялся:
– Давай его тащить! Давай! Ты пойдешь сам? – спросил он Олега.
– Никуда я не пойду, и чего вы ко мне пристали!
– Давай!
Вдвоем они столкнули Олега с той самой кручи, по которой удрал Левик. С визгом Олег барахтался в песке. Его преследователи сползли рядом, зарываясь ногами. Они почти достигли дна пропасти, когда наверху раздались победные крики южан. Олег так орал, что сохранить побег в секрете было невозможно. Их легко поймали.
Пришлось снова двум отважным разведчикам взбираться по сыпучему песку в гору. Олег карабкался, не переставая плакать. Митя по дороге ухитрился ущипнуть его в последний раз. Начальник с пером сказал:
– Это вредные пацаны! Они этого плаксу целый день будут молотить.
– Да и верно, – кто-то поддержал начальника. – Когда нам с ними возиться? Северные опять в атаку пойдут, а они подерутся опять.
– Хорошо, – сказал начальник, – мы вас отпускаем, только дайте честное слово, что вы пойдете домой, а не в ваше войско.
– А завтра? – спросил Вася.
– А завтра, пожалуйста!
Вася глянул на Митю:
– Идем?
Митя молча кивнул, поглядывая на Олега.
Олег отказался:
– Я не пойду с ними. Они будут щипаться. Я никуда не пойду.
Вася стоял против Олега, стройный, красивый и веселый, и в его ясных больших глазах открыто для всех было сказано, что действительно Олег по дороге домой ничего хорошего ожидать не может.
Начальник сердился:
– Так куда тебя девать? Смотри, такой большой!
– Я с вами буду, – прохныкал Олег, поглядывая на разведчиков.
– Да черт с ним, пускай остается, от него никакого вреда!
– Ну, а вы идите, – сказал начальник.
Разведчики улыбнулись и двинулись домой. Они не успели спуститься с Мухиной горы, как в армии южан опять забили тревогу. Вася дернул спутника за рукав. Они остановились и оглянулись. Ясно: южане побежали драться. Вася шепнул:
– Пойдем за кустиками.
Они быстро полезли обратно. Спотыкались, падали, тяжело дышали. За последним кустом ярко горело на солнце брошенное знамя северян. Митя потянул за древко, и красное полотнище сползло к ним.
– Теперь бежим, – шепнул Митя.
– А я то возьму.
– Чего это?
– Ихнее возьму.
– Да ну! А то кто стоит?
– Да то Олег!
Митя обрадовался. Он улыбался нежно, и его лицо сделалось красивым. Он обнял Васю за плечи и зашептал любовно:
– Васятка, знаешь что? Наше здесь полежит. Ты бери ихнее, а я его столкну. Хорошо?
Вася молча кивнул, и они быстро понеслись в атаку. Олег оглушительно завизжал и покатился в пропасть с предельной скоростью. Вырывая знамя из песка, Вася успел посмотреть вниз: ни своих, ни чужих он не увидел, битва отошла далеко.
Разведчики начали отступление. Они спустились вниз, но там стало труднее. Знамена были очень тяжелые. Догадались свернуть полотнище вокруг палок и легко потащили их между кустами. Они долго шли, не оглядываясь, а когда оглянулись, увидели на вершине Мухиной горы страшное смятение. Южане бегали по всей горе и заглядывали в каждый закоулок.
– Бежим, бежим, – шепнул Митя.
Они побежали быстрее. Снова оглянулись – на горе никого. Митя затревожился:
– Они все побежали за нами. Все побежали. Теперь, если поймают, отлупят.
– А как?
– Знаешь? Давай туда своротим, там густо-густо! Там ляжем и будем лежать. Хорошо?
Они побежали влево. Действительно, скоро они попали в такие густые заросли, что с трудом пробирались в них. На небольшой прогалине остановились, задвинули древки в кусты, а сами рядом зарылись в песок и притихли. Теперь они ничего не могли видеть, только прислушивались. На заводе раскатисто-победно пропел гудок – четыре часа. Нескоро донеслись к ним голоса преследователей, сначала неясные, далекие. По мере того как они приближались, стало возможным слышать и слова:
– Они здесь! Они здесь, – уверял один голос пискливо.
– А может они уже дома, – ответил другой, более солидный.
– Нет, если б домой пошли, видно бы было. Там все видно!
– Ну, давай искать!
– Они сюда, они сюда полезли! Вот следы ихние!
– Да, да.
– Вот, вот, они палку тащили.
На полянку выскочили четыре босые ноги. Разведчики и дышать перестали. Босые ноги ходили по линии кустов и осматривали каждый кустик. Митя шепнул в самое ухо Васи:
– Наши идут.
– Где?
– Честное слово, наши!
Вася послушал. Действительно, совсем рядом проходил галдеж десятка голосов, и не могло быть сомнений, что это «наши». Митя вскочил на ноги и заорал раздирающим уши надсадным криком:
– Сережка-а-а!
Двое южан остолбенели сначала, потом обрадовались, бросились к Мите. Но Митя уже не боялся их. Он отбивался кулачками и напористо сверкал глазами:
– И не приставай! И не приставай! Сережка-а-а!!!
Вася выпрыгнул на полянку и спокойно смотрел на врагов. Один из них, дочерна загоревший мальчик с яркими губами, улыбнулся:
– Чего ты кричишь? Все равно в плену. Где знамена? Говори, где? повернулся он к Васе.
Вася развел руками:
– Нету! Понимаешь, нету!
В это время затрещали кусты, зашумели голоса, и враги бросились в другую сторону.
Митя еще раз заорал:
– Сережка-а-а!
– Что тут делается? – спросил Сережа, выходя на полянку. За ним выглядывала вся северная армия.
– Вот, смотрите! – сказал Вася, развертывая вражеское знамя.
– И наше! И наше!
– Какой подвиг! – воскликнул Сережа. – Какой героический подвиг! Ура!
Все закричали «ура». Все расспрашивали героев. Все трепали их по плечам. Сережа поднял Васю на руки, щекотал его и спрашивал:
– Ну, как тебя благодарить? Как тебя наградить?
– И Митя! И Митя! – смеялся Вася, дрыгая ногами.
Ах, какой это был славный, героический, победный день! Как было торжественно на Мухиной горе, куда свободно прошла северная армия и где Сережа сказал:
– Товарищи! Сегодняшний день кончился нашей победой! Мы три раза ходили в атаку, но три раза враг, вооруженный до зубов, отражал наше наступление. Наши потери страшные. Мы уже думали, что разбиты наголову. С поникшими сердцами мы начали отступление, и вот мы узнали, что доблестные наши разведчики Вася Назаров и Митя Кандыбин на западном фронте одержали блестящую победу!..
Кончил Сережа так:
– Так пусть же эти герои своими руками водрузят наше знамя на вершине Мухиной горы! Нате!
Вася и Митя взяли яркое алое знамя и крепко вдвинули его древко в податливый песок. Северяне оглашали воздух кликами победы. Недалеко бродили расстроенные южане. Некоторые из них подошли ближе и сказали:
– Неправильно! Мы имеем право снять!
– Извините! – ответил им Сережа. – Знамя ваше захвачено до четырех часов?
– Ну… до четырех…
– А теперь сколько!? Умойтесь…
Какой это был прекрасный день, звенящий славой и героизмом.
– Нет, пойдем к нам, – решительно сказал Вася.
Митя смутился. Куда девалась его постоянная агрессия!
– Я не хочу, – прошептал он.
– Да пойдем! И обедать будем у нас. А ты скажешь маме, что ты пойдешь к нам.
– да чего я буду говорить…
– А ты так и скажи!
– Ты думаешь, что я боюсь мамы? Мама ничего и не скажет. А так…
– А ты что говорил… еще утром… там ты что говорил?
Митя, наконец, сдался. Когда же они подошли к крыльцу, он остановился:
– Знаешь что? Ты подожди, а я пойду и сейчас же приду.
Не ожидая ответа, он побежал в свою квартиру. Через две минуты он выскочил обратно, держа в руках знаменитую железную коробку. В ней уже не было ни гнезд, ни диктовых перегородок.
– На твою коробку!
Он сиял розовой радостью, но глаза отводил в сторону.
Вася опешил:
– Митя! Тебя отец побьет!
– Ой! Побьет! Ты думаешь, так он меня легко поймает?
Вася двинулся вверх. Он решил, что это проклятый вопрос с коробкой сможет решить единственный человек на свете: мудрый и добрый, всезнающий его отец Федор Назаров.
Мать Васи встретила мальчиков с удивлением:
– А, ты с гостем? Это Митя? Вот хорошо! Но, ужас! На кого вы похожи? Да где вы были? Вы сажу чистили?
– Мы воевали, – сказал Вася.
– Страх какой! Федя, иди на них посмотри!
Отец пришел и закатился смехом:
– Васька! Немедленно мыться!
– Там война, папа! Ты знаешь, мы знамя захватили! С Митей!
– И говорить с тобой не хочу! Военные должны раньше умываться, а потом разговаривать.
Он прикрыл дверь в столовую, высунул оттуда голову и сказал с деланной суровостью:
– И в столовую не пущу! Маруся, бросай их прямо в воду! И этого выстирай, Кандыбина, ишь какой черный! А это та самая коробка? Угу… понимаю! Нет, нет, я с такими шмаровозами не хочу разговаривать!
Митя стоял на месте, перепуганный больше, чем в самой отчаянной битве. С остановившимися в испуге острыми глазами он начал отступление к дверям, но мать Васи взяла его за плечи:
– Не бойся, мы будем мыться простой водой!
Скоро мать вышла из кухни и сказала мужу:
– Может, ты острижешь Митю? Его волосы невозможно отмыть…
– А его родители не будут обижаться за вмешательство?
– Да ну их, пускай обижаются! Бить мальчика они умеют, у него… все эти места… в синяках.
– Ну, что же, вмешаемся, – сказал весело Назаров и достал из шкафа машинку.
Еще через четверть часа оба разведчика, чистые, розовые и красивые, сидели за столом и… есть не могли, столько было чего рассказывать.
Назаров поражался, делал большие глаза, радовался и скорбел, вскрикивал и смеялся – переживал все случайности военной удачи.
Только что пообедали, прибежал Сережа.
– Где наши герои? Выходите сейчас же, парламентеры придут…
– Парламентеры? – Назаров серьезно оправил рубаху. – А мне можно посмотреть?
Северная армия выстроилась в полном составе для встречи парламентеров. Трубача, правда, своего не было, но зато на вершине Мухиной горы стояло северное знамя!
Но раньше, чем пришли парламентеры, пришла мать Олега и обратилась к северянам:
– Где Олег? Он с вами был?
Сережа уклонился от ответа:
– Вы ж не разрешили ему играть.
– Да, но отец позволил ему посмотреть…
– У нас его не было…
– Вы его видели, мальчики?
– Он там торчал, – ответил Левик. – Его в плен взяли.
– Кто взял в плен?
– Да эти… южные…
– Где это? Где он сейчас?
– Он изменник, – сказал Митя. – Он им все рассказал, а теперь боится сюда приходить. И пусть лучше не приходит!
Куриловская с тревогой всматривалась в лицо Мити.
Митя сейчас сиял чистым золотом яблоком головы, и его глазенки, острые и напористые, теперь не казались наглыми, а только живыми и остроумными. Назаров с интересом ожидал дальнейших событий, он предчувствовал, что они будут развиваться бешеным темпом. Из своей квартиры, пользуясь хорошим вечером, вышел и Кандыбин. Он недобрым глазом посматривал на нового, остриженного Митю, но почему-то не спешил демонстрировать свои родительские права.
Куриловская в тревоге оглядывалась, подавленная равнодушием окружающих к судьбе Олега. Она встретила любопытный взгляд Назарова и поспешила нему.
– Товарищ Назаров, скажите, что мне делать? Нет моего Олега. Я прямо сама не своя. Семен Павлович еще ничего не знает.
– Его в плен взяли, – улыбнулся Назаров.
– Ужас какой! В плен! Куда-то потащили мальчика, что-то с ним делают! Он и не играл совсем.
– Вот то и плохо, что не играл. Это напрасно вы ему не позволили.
– Семен Павлович против. Он говорит: такая дикая игра!
– Игра не дикая, а вы сами поставили его в дикое положение. Разве так можно?
– Товарищ Назаров, мало ли мальчишки чего придумают? А только у них своя жизнь…
В это время калитка впустила торжественную тройку парламентеров, а четвертым вошел и Олег Куриловский, измазанный, заплаканный и скучный. Мать ахнула и бросилась к нему. Она повела его домой, он шел рядом и хныкал, показывал пальцем на мальчиков.
Мальчикам было не до Олега. Южная армия выставила ни на что не похожие требования: возвратить знамя и признать, что северяне потерпели поражение. Парламентеры утверждали, что Вася и Митя были отпущены потому, что дали честное слово больше сегодня не воевать, – им поверили, а они честное слово не сдержали.
– Какие там честные слова, – возмутился Сережа, – война – и все!
– Как? Вы против честного слова? Да? – человек с пером искренне негодовал.
– А может, они нарочно дали честное слово? Они, может, нарочно, чтобы вас обмануть!
– Честное слово! Ого, какие вы! Честное слово если дал, так уже тот… уже нужно держать…
– А вот если, например, к фашистам попался? К фашистам! Они скажут: дай честное слово! Так что? Так, по-твоему, и носиться с твоим честным словом?
– О! Куда они повели! – начальник рукой протянул по направлению к небу. – К фашистам! А мы как? У нас какой договор? У нас такой договор: и мы красные, и вы красные, и никаких фашистов. Придумали – фашисты!
Сережа был смущен последним доводом и обернулся к своим:
– Вы давали честное слово?
Митя насмешливо прищурился на человека с пером:
– Мы давали честное слово?
– А то не давали?
– А то давали?
– Давали!
– Нет, не давали!
– А я вам не говорил: дайте честное слово?!
– А как ты говорил?
– А как я говорил?
– А ты помнишь, как ты говорил?
– Помню.
– Нет, ты не помнишь.
– Я не помню?
– А ну, скажи, как?
– Я скажу. А по-твоему, как?
– Нет, как ты говорил, если ты помнишь?..
– Не беспокойся, я помню, а вот как по-твоему?
– Ага? Как по-моему? Ты сказал: дайте честное слово, что не пойдете к своему войску. Вася, так же он говорил?
– А разве не все равно?
Но карта врагов была бита. Северяне засмеялись и закричали:
– А они пришли! Честное слово! Тоже хитрые!
Кандыбин, на что уж серьезный человек, и тот расхохотался:
– Чертовы пацаны! Обставили! А кто моего так обстрогал?
Назаров не ответил. Кандыбин придвинулся ближе к мальчикам – их игра начинала его развлекать. Он долго смеялся, когда услышал контрпредложение северян. Смеялся он непосредственно и сильно, как ребенок, наклонясь и даже приседая.
Северяне предложили: пускай их знамя три дня стоит на Мухиной горе, а потом они отдадут, и тогда начинать новую войну. А если не хотят, значит, «Мухина гора – наша».
Парламентеры смехом ответили на это предложение:
– Пхи! Что мы, не сможем себе новое знамя сделать? Сможет, хоть десять! Вот увидите завтра, чье знамя будет стоять на Мухиной горе!
– Увидим!
– Увидим!
Прощальная церемония была сделана наскоро, кое-как; парламентеры уходили злые, а северяне кричали им вдогонку, уже не придерживаясь никаких правил военного этикета:
– Хоть десять знамен пошейте, все у нас будут!
– Ну, завтра держись! – сказал Сережа своим. – Завтра нам трудно придется!
Но им пришлось трудно не завтра, а сейчас.
Из своей квартиры по высокой деревянной лестнице спускался сам начальник планового отдела Семен Павлович Куриловский, спускался массивный, гневный, страшный. За ним, спотыкаясь, прыгал со ступеньки на ступеньку измочаленный жизнью Олег Куриловский.
Семен Павлович поднял руку и сказал высоким властным тенором, который, впрочем, очень мало походил к его фигуре под графа Витте:
– Мальчишки! Эй, мальчишки! Подождите! Подождите, я вам говорю!
– Ой и злой же! Это Олега…
Семен Павлович еще на нижней ступень крыльца закричал:
– Издеваться! Насильничать! Самовольничать! Я вам покажу насильничать!
Он подбежал к мальчикам:
– Кто здесь Назаров? Назаров кто?
Все притихли.
– Я спрашиваю, кто Назаров?
Ваня испуганно оглянулся на отца, но отец сделал такой вид, будто все происходящее его не интересует. Вася покраснел, удивленно поднял лицо и сказал звонко и немного протяжно:
– Назаров? Так это я – Назаров!
– Ага, это ты! – закричал Куриловский. – Так это ты истязал моего сына? А другой? Кандыбин? Где Кандыбин?
Митя напружинил глазенки и повернулся плечом к гневному графу Витте:
– А чего вы кричите? Ну, я Кандыбин!
Куриловский подскочил к Мите и дернул его за плечо так сильно, что Митя описал вокруг него некоторую орбиту и попал прямо в руки к Сереже. Сережа быстро передвинул его на новое место сзади себя и подставил Куриловскому свое улыбающееся умное лицо.
– Где он? Чего вы прячете? Вы вместе издевались?
Куриловский так комично заглядывал за спину Сережи, и Митя так остроумно прятался за этой спиной, что все мальчики громко расхохотались. Куриловский налился кровью, оглянулся и понял, что нужно скорее уходить, чтобы не сделаться объектом настоящего посмешища. В следующий момент он, вероятно, убежал бы в свой кабинет и там дал бы полную волю гневу, если бы в это время к нему не подошел отец Мити:
– Вам, собственно, для чего понадобился мой сын? – спросил он, заложив руки за спину, а голову откинул назад, так что на первом плане оказался его острый кадык, обтянутый красной кожей.
– Что? Что вам угодно?
– Да не угодно, а я спрашиваю, для чего вам понадобился мой сын? Может, вы его побить хотите? Я вот – Кандыбин!
– А, это ваш сын?
– Ох, и стукнет его сейчас! – громко сказал Митя.
Новый взрыв хохота.
Назаров быстро подошел к двум родителям, стоявшим друг перед другом в позициях петушиной дуэли. Вася сейчас не узнал своего отца. Назаров сказал негромко, но голосом таким сердитым, какого Вася еще никогда у отца не слышал:
– Это что за комедия? Немедленно прекратите! Идем ко мне или к вам и поговорим!
Кандыбин не переменил позы, но Куриловский быстро сообразил, что это лучший выход из положения.
– Хорошо, – с деланной резкостью согласился он. – Идем ко мне.
Он направился к своему крыльцу. Кандыбин двинул плечами.
– А пошли вы к…
– Иди! – сказал Назаров. – Иди, лучше будет!
– Тьфу, барыня б вас любила! – Кандыбин двинулся за Куриловским.
Назаров поднялся на крыльцо последним. Он слышал, как в притихшей толпе мальчиков кто-то крикнул:
– Здорово! Вася, это твой папан? Это я понимаю!
В своем кабинете Семен Павлович, конечно, не мог кричать и гневаться: из-за какого-то мальчишки не стоило нарушать единство стиля. Любезным жестом он показал на кресла, сам уселся за письменным столом и улыбнулся:
– Эти мальчишки хоть кого расстроят.
Но улыбка хозяина не вызвала оживления у гостей. Назаров смотрел на него, нахмурив брови:
– Вас расстроили? Вы соображаете что-нибудь?
– Как, я соображаю?
– Орете на ребят, хватаете, дергаете. Что это? Кто вы такой?
– Я могу защищать своего сына?
Назаров поднялся и презрительно махнул рукой:
– От кого защищать? Что вы, его за ручку будете водить? Всю жизнь?
– А как по-вашему?
– Почему вы не позволили ему играть?
Теперь и Куриловский поднял свое тело над столом:
– Товарищ Назаров, мой сын – это мое дело. Не позволил, и все. Мой авторитет еще высоко стоит.
Назаров двинулся к дверям. На выходе он обернулся:
– Только смотрите: из вашего сына вырастет трус и двурушник.
– Сильно сказано.
– Как умею.
Во время этой не вполне выдержанной беседы Кандыбин молча сидел, вытянувшись на стуле. У него не было охоты разбираться в тонкостях педагогики, но и позволить Куриловскому толкать своего сына он тоже не мог. В то же время ему очень понравились слова Куриловского об авторитете. Он даже успел сказать:
– Авторитет – это правильно!
Но отставать от Назарова он принципиально не мог. А внизу на крыльце Назаров сказал ему:
– Слушай, Степан Петрович. Я тебя очень уважаю и человек ты порядочный, и мастер хороший, а только если ты своего Митьку хоть раз ударишь, – лучше выезжай из города: я тебя в тюрьму упеку. Поверь моему слову большевистскому.
– Да ну тебя, чего ты пугаешь?
– Степан Петрович, посажу.
– Тьфу, морока на мою голову! Чего ты прицепился? Как там я его бью?
– Он у меня купался сегодня. Весь в синяках.
– Да ну?
– А мальчик он у тебя славный. Забьешь, испортишь.
– Для авторитета бывает нужно.
– Авторитет, авторитет! Это дурак сказал, а ты повторяешь, а еще стахановец!
– Вот пристал! Федор Иванович, чего ты прицепился? Черт его знает, как с ними нужно!
– Пойдем ко мне, посидим. Есть по рюмке, и вареников жена наварила…
– Разве по такому случаю подходяще?
– Подходяще.
Проблему авторитета в семье Головиных подменило развлечение, организованное вокруг навязчивой идеи. Родители и дети должны быть друзьями.
Это неплохо, если это серьезно. Отец и сын могут быть друзьями, должны быть друзьями. Но отец все же остается отцом, а сын остается сыном, т. е. мальчиком, которого нужно воспитывать и которого воспитывает дополнительно отец, приобретающий, благодаря этому, некоторые признаки, дополнительные к его положению друга. А если дочь и мать не только друзья, но и подруги, а отец и сын не только друзья, а закадычные друзья, почти собутыльники, то дополнительные признаки, признаки педагогические, могут незаметно исчезнуть. Так они исчезли в семье Головиных. У них трудно разобрать, кто кого воспитывает, но во всяком случае, сентенции педагогического характера чаще высказываются детьми, ибо родители играют все же честнее, помня золотое правило: играть, так играть!
Но игра давно потеряла свою первоначальную прелесть. Раньше было так мило и занимательно:
– Папка – бяка! Мамка – бяка!
Сколько было радости и смеха в семье, когда Ляля первый раз назвала отца Гришкой! Это был расцвет благотворной идеи, это был блеск педагогического изобретения: родители и дети – друзья! Сам Головин учитель. Кто лучше него способен познать вкус такой дружбы! И он познал. Он говорил:
– Новое в мире всегда просто, как яблоко Ньютона! Поставить связь поколений на основе дружбы, как это просто, как это прекрасно!
Времена этой радости, к сожалению, миновали. Теперь Головины захлебываются в дружбе, она их душит, но выхода не видно: попробуйте друга привести к повиновению!
Пятнадцатилетняя Ляля говорит отцу:
– Гришка, ты опять вчера глупости молол за ужином у Николаевых!
– Да какие же глупости?
– Как «какие»? Понес, понес свою философию: «Есенин – это красота умирания!» Стыдно было слушать. Это старо. Это для малых ребят. И что ты понимаешь в Есенине? Вам, шкрабам, мало ваших Некрасовых да Гоголей, так вы за Есенина беретесь…
Головин не знает: восторгаться ли прямотой и простотой отношений или корчиться от их явной вульгарности? Восторгаться все-таки спокойнее. Иногда он даже размышляет над этим вопросом, но он уже отвык размышлять над вопросом другим: кого он воспитывает? Игра в друзей продолжается и по инерции и потому, что больше делать и нечего.
В прошлом году Ляля бросила школу и поступила в художественный техникум. Никаких художественных способностей у нее нет, ее увлекает толь ко шик в самом слове «художник». И Гришка, и Варька хорошо это знают. Они пытались даже поговорить с Лялей, но Ляля отклонила их вмешательство:
– Гришка! Я в твои дела не лезу, и ты в мои не лезь! И что вы понимаете в искусстве?
А что получается из Левика? Кто его знает! Во всяком случае, и друг из него получился «так себе».
Жизнь Гришки и Варьки сделалась грустной и бессильной. Гришка старается приукрасить ее остротами, а Варька и этого не умеет делать. Теперь они никогда не говорят о величии педагогической дружбы и с тайной завистью посматривают на чужих детей, вкусивших дружбу с родителями не в такой лошадиной дозе.
С такой же завистью встречают они и Васю Назарова.
Вот и сейчас вошел он в комнату с железной коробкой под мышкой. Головин оторвался от тетрадей и посмотрел на Васю. Приятно было смотреть на стройного мальчика с приветливо-спокойным серым взглядом.
– Тебе что, мальчик?
– Я принес коробку. Это коробка Лялина. А где Ляля?
– Как же, как же, помню. Ты – Вася Назаров?
– Ага… А вы тот… А вас как зовут?
– Меня… меня зовут Григорий Константинович!
– Григорий Константинович? И еще вас зовут… тот… Гри…ша. Да?
– М-да. Ну, хорошо, садись. Расскажи, как ты живешь.
– У нас теперь война. Там… на Мухиной горе.
– Война? А что это за гора?
– А смотрите: в окошко все видно! И флаг! То наш флаг!
Головин глянул в окно: действительно, гора, а на горе флаг.
– Давно это?
– О! Уже два дня!
– Кто же там воюет?
– А все мальчики. И ваш Левик тоже. Он вчера был в плену.
– Вот как? Даже в плену? Левик!
Из другой комнаты вышла Ляля.
– Левика с утра нет. И не обедал.
– Завоевался, значит? Так! Вот он тебе коробку принес.
– Ах, Вася, принес коробку! Вот умница!
Ляля обняла Васю и посадила рядом с собой.
– А мне эта коробка страшно нужна! Какая ты прелесть! Почему ты такая прелесть? А ты помнишь, как я тебя отлупила? Помнишь?
– Ты меня не сильно отлупила. И даже не больно. А ты всех бьешь? И Левика?
– Смотри, Гришка, какой он хороший. Ты смотри!
– Ну, что же, смотрю.
– Вот если бы у вас с Варькой был такой сын.
– Лялька!
– Вы только и умеете: «Лялька!» Если бы у меня был такой брат, а то босяк какой-то. Он мой беленький кошелек сегодня утром продал.
– Ну, что ты, Ляля!
– Продал. Какому-то мальчику за пятьдесят копеек. А за пятьдесят копеек купил себе вороненка, теперь мучит его под крыльцом. Это вы так воспитали!
– Лялька!
– Ну, посмотри, Вася! Он ничего другого не умеет говорить. Повторяет, как попугай!
– Лялька!!
Вася громко засмеялся и уставился на Гришку действительно как на заморскую птицу.
Но Головин не оскорбился, не вышел из комнаты и не хлопнул дверью. Он даже улыбнулся покорно:
– Я не только Левика, а и тебя променяю на этого Васю!
– Гришка! О Левике ты можешь говорить, а обо мне, прошу, в последний раз!
Гришка пожал плечами. Что ему оставалось делать?
И на Васином дворе и на «кучугурах» жизнь продолжалась. С переменным счастьем прошла война между северными и южными. Было много побед, поражений, подвигов. Были и измены. Изменил северянам Левик: он нашел себе новых друзей на стороне противника, а может быть, и не друзей, а что-нибудь другое. Когда он через три дня захотел вернуться в ряды северной армии, Сережа Скальковский назначил над ним военный суд. Левик покорно пошел на суд, но ничего не вышло: суд не захотел простить его измену и отказал в восстановлении его чести. Где-то на краю «кучугур» начал он копать пещеру, рассказывал о ней очень много, описывал, какой в пещере стол и какие полки, но потом об этой пещере все забыли, и даже сам Левик.
Война не успела привести к разгрому одного из противников. Когда военные действия были перенесены на крайний юг, там враждебные стороны наткнулись на симпатичное озеро в зеленых берегах, за озером увидели вишневые сады, стоги соломы, колодезные журавли и хаты – деревню Корчаги. По почину южан решили срочно прекратить войну и организовать экспедицию для изучения вновь открытой страны. Экспедиция получила большой размах после того, как отец Васи решил принять в ней участие. Вася несколько дней подряд ходил по двору и громко смеялся от радости.
Экспедиция продолжалась от четырех часов утра до позднего вечера. Важнейшим ее достижением было открытие в деревни Корчаги сильнейшей организации, при виде которой Сережа Скальковский воскликнул:
– Вот с кем воевать! Это я понимаю!
У корчагинцев было свое футбольное поле с настоящими воротами. Экспедиция буквально обомлела, увидев такую высокую ступень цивилизации. Корчагинские мальчики предложили товарищеский матч, но экспедиция только покраснела в ответ на любезное приглашение.
Жизнь уходила вперед. Уходил вперед и Вася. В его игрушечном царстве все еще стояли автомобили и паровозы, еще жил постаревший и ободранный Ванька-Встанька, в полном порядке были сложены материалы для постройки моста и мелкие гвозди в красивой коробке – но это все прошлое.
Вася иногда останавливается перед игрушечным царством и задумывается о его судьбе, но с ним уже не связывается никакая горячая мечта. Тянет на двор к мальчикам, где идут войны, где строят качели, где живут новые слова: «правый инсайд» и «хавбек», где уже начали мечтать о зимнем катании с гор.
Однажды над игрушечным царством сошлись отец и сын, и отец сказал:
– Видно по всему, Вася, будешь строить мост, когда вырастешь, настоящий мост через настоящую реку.
Вася подумал и сказал серьезно в ответ:
– Это лучше, а только надо учить много… как строить. А теперь как?
– А теперь будем строить санки. Скоро снег выпадет.
– И мне санки, и Мите санки.
– Само собой. Это одно дело. А теперь другое дело: за лето ты чуточку распустился.
– А как?
– На этажерке убираешь редко. Газеты не сложены, цветы не политы. А ты уже большой, надо тебе прибавить нагрузку. Будешь утром подметать комнаты.
– Только ты купи веник хороший, – сказал Вася, – такой, как у Кандыбина.
– Это не веник, а щетка, – поправил отец.
Семья Кандыбиных в это время переживала эпоху возрождения, и символом этой эпохи сделалась щетка, которую Кандыбин купил на другой день после вареников и рюмки водки. Тогда в беседе с Назаровым он больше топорщился бы, но как это сделаешь, если на столе графинчик, а в широкой миске сметана, если хозяйка ласково накладывает тебе на тарелку вареников и говорит:
– Какой у вас милый этот Митя! Мы так рады, что Вася с ним подружился..
И поэтому Кандыбин честно старался быть послушным гостем, и ему нравилось то, что говорил Назаров. А Назаров говорил прямо:
– Ты меня не перебивай! Я культурнее тебя и больше видел, у кого же тебе и научиться, как не у меня? И с сыном нужно по-другому, и по хозяйству иначе. Ты человек умный, стахановец, ты должен нашу большевистскую честь держать. А это что такое: бить такого славного хлопца? Это же, понимаешь, неприлично, как без штанов на улицу выйти. Да ты ешь вареники, смотри, какие мировые! Жаль, что жинки твоей нету… Ну, другим разом.
Кандыбин ел вареники, краснел, поддакивал. А на прощание сказал Назарову:
– Спасибо тебе, Федор Иванович, что поговорил со мной. А в выходной день приходи, посмотри мою жизнь, моя Поля в отношении вареников тоже достижение.
Повесть о Васе кончена. Она не имела в виду предложить какую-нибудь мораль. Хотелось в ней без лукавства изобразить самый маленький кусочек жизни, один из тех обыденных отрывков, которые сотнями проходят перед нашими глазами и которые не многим из нас кажутся достойными внимания. Нам посчастливилось побыть с Васей в самый ответственный и решающий момент его жизни, когда мальчик из теплого семейного гнезда выходит на широкую дорогу, когда он впервые попадает в коллектив, значит, когда он становится гражданином.
Этого перехода нельзя избежать. Он так же естественно необходим и так же важен, как окончание школы, первый выход на работу, женитьба. Все родители это знают, и в то же время очень многие из них в этот ответственный момент оставляют своего ребенка без помощи, и оставляют как раз те, кто наиболее ослеплен либо родительской властью, либо родительской игрой.
Ребенок – это живой человек. Это вовсе не орнамент нашей жизни, это отдельная полнокровная и богатая жизнь. По силе эмоций, по тревожности и глубине впечатлений, по чистоте и красоте волевых напряжений детская жизнь несравненно богаче жизни взрослых. Но ее колебания поэтому не только великолепны, но и опасны. И радости и драмы этой жизни сильнее потрясают личность и скорее способны создавать и мажорные характеры деятелей коллектива и характеры злобных, подозрительных и одиноких людей.
Если вы эту насыщенную яркую и нежную жизнь видите и знаете, если вы размышляете над ней, если вы в ней участвуете, только тогда становится действенным и полезным ваш родительский авторитет, та сила, которую вы накопили раньше, в собственной, личной и общественной жизни.
Но если ваш авторитет, как чучело, раскрашенное и неподвижное, только рядом стоит с этой детской жизнью, если детское лицо, детская мимика, улыбка, раздумье и слезы проходят бесследно мимо вас, если в отцовском лице не видно гражданина – грош цена вашему авторитету, каким бы гневом или ремешком он ни был вооружен.
Если вы бьете вашего ребенка, для него во всяком случае трагедия: или трагедия боли и обиды, или трагедия привычного безразличия и жестокого детского терпения.
Но трагедия эта – для ребенка. А вы сами – взрослый, сильный человек, личность и гражданин, существо с мозгами и мускулами, вы, наносящий удары по нежному, слабому растущему телу ребенка, что вы такое? Прежде всего вы невыносимо комичны, и, если бы не жаль было вашего ребенка, можно до слез хохотать, наблюдая ваше педагогическое варварство. В самом лучшем случае, в самом лучшем, вы похожи на обезьяну, воспитывающую своих детенышей.
Вы думаете, что это нужно для дисциплины?
У таких родителей никогда не бывает дисциплины. Дети просто боятся родителей и стараются жить подальше от их авторитета и от их власти.
И часто рядом с родительским деспотизмом ухитряется жить и дебоширить детский деспотизм, не менее дикий и разрушительный. Здесь вырастает детский каприз, этот подлинный бич семейного коллектива.
Большей частью каприз родится как естественный протест против родительской деспотии, которая всегда выражается во всяком злоупотреблении властью, во всякой неумеренности: неумеренной любви, строгости, ласки, кормления, раздражения, слепоты и мудрости. А потом каприз уже не протест, а постоянная, привычная форма общения между родителями и детьми.
В условиях обоюдного деспотизма погибают последние остатки дисциплины и здорового воспитательного процесса. Действительно важные явления роста, интересные и значительные движения детской личности прививаются, как в трясине, в капризной и бестолковой возне, в самодурном процессе высиживания снобов и эгоистов.
В правильном семейном коллективе, где родительский авторитет не подменяется никаким суррогатом, не чувствуется надобности в безнравственных и некрасивых приемах дисциплинирования. И в такой семье всегда есть полный порядок и необходимое подчинение и послушание.
Не самодурство, не гнев, не крик, не мольба, не упрашивание, а спокойное, серьезное и деловое распоряжение – вот что должно внешним образом выражать технику семейной дисциплины. Ни у вас, ни у детей не должно возникать сомнения в том, что вы имеет право на такое распоряжение, как один из старших, уполномоченных членов коллектива. Каждый родитель должен научиться отдавать распоряжение, должен уметь не уклоняться от него, не прятаться от него ни за спиной родительской лени, ни из побуждений семейного пацифизма. И тогда распоряжение сделается обычной, принятой и традиционной формой, и тогда вы научитесь придавать ему самые неуловимые оттенки тона, начиная от директивы и переходя к тонам совета, указаниям, иронии, сарказма, просьбы и намека. А если вы еще научитесь различать действительные и фиктивные потребности детей, то вы и сами не заметите, как ваше родительское распоряжение сделается самой милой и приятной формой дружбы между вами и ребенком.
Глава седьмая
Тратят и силы к тому ж влюбленные в тяжких страданьях,
И протекает их жизнь по капризу и воле другого;
Все достояние их в вавилонские ткани уходит,
Долг в небреженьи лежит, и расшатано доброе имя.
На умащенных ногах сикионская обувь сверкает,
Блещут в оправе златой изумруды с зеленым отливом,
Треплется платье у них голубое, подобное волнам,
И постоянно оно пропитано потом Венеры.
Все состоянье отцов, нажитое честно, на ленты
Или на митры идет и заморские ценные ткани.
…Итак, заранее лучше держаться
Настороже, как уж я указал, и не быть обольщенным,
Ибо избегнуть тенет любовных и в сеть не попасться
Легче гораздо, чем там очутившись, обратно на волю
Выйти, порвавши узлы, сплетенные крепко Венерой.
Тит Лукреций Кар. «О природе вещей». (1 век до н. э.)
Познакомился я с Любой Гореловой случайно: она зашла ко мне по короткому делу. Пока я писал нужную записку, она тихонько сидела в кресле и изредка вздыхала про себя, сложив руки на коленях и поглядывая куда-то с далеким прицелом. Ей было лет девятнадцать и принадлежала она к тем девушкам-аккуратисткам, которые даже в самом тяжелом горе не забывают вовремя разгладить кофточку.
– Чего вы так грустно вздыхаете? – спросил я. – У вас неприятности?
Люба неловко вздернула чистенько причесанной головкой, вздохнула пианиссимо и страдальчески улыбнулась:
– Нет… ничего особенного. Были неприятности, но уже прошли.
В своей жизни я достаточно повозился с девичьими неприятностями и привык о них разговаривать. Поэтому я спросил дальше:
– Прошли, а вы вздыхаете?
Люба повела плечами, будто в ознобе, и посмотрела на меня. В ее карих честных глазах вспыхнуло оживление:
– Хотите, я вам расскажу?
– Ну, рассказывайте.
– Только это длинное!
– Ничего…
– Муж меня бросил…
Я с удивлением на нее глянул: кажется, ее длинный рассказ был окончен, а подробности можно было увидеть в ее личике: маленький розовый рот дрожит в улыбке, а в глазах тонкая сверкающая слеза.
– Бросил?
– Угу, – сказал она еле слышно и по-детски кивнула головой.
– Он был хороший? Ваш муж?
– Да… очень! Очень хороший!
– И вы его любили?
– Конечно. А как же? Я и теперь люблю!
– И страдаете?
– Вы знаете… ужасно страдаю!
– Значит, ваши неприятности не совсем прошли?
Люба посмотрела на меня задорно-подозрительно, но мой искренний вид ее успокоил:
– Прошли… Все прошло. Что же делать?
Она так наивно и беспомощно улыбнулась, что и для меня стало интересно: что ей делать?
– В самом деле: что вам делать? Придется забыть вашего мужа и начинать все сначала. Выйдете снова замуж…
Люба надула губки и изобразила презрение.
– За кого выходить? Все такие…
– Позвольте, но ваш муж тоже хорош. Вот же бросил вас. Собственно говоря, его и любить не стоит.
– Как не стоит? Вы ж его не знаете!
– Почему он бросил вас?
– Другую полюбил.
Люба произнесла это спокойно и даже с некоторым удовольствием.
– Скажите, Люба, ваши родители живы?
– А как же! И папа, и мама! Они меня ругают, зачем выходила замуж?
– Они правильно вас ругают.
– Нет, неправильно.
– Да как же: вы еще ребенок, а уже успели и замуж выйти и развестись.
– Ну… чего там! А им что такое?
– Вы не с ними живете?
– У меня своя комната. Муж меня бросил и пошел жить к своей… а комната теперь моя. И я получаю двести рублей… И совсем я не ребенок! Какой же я ребенок?
Люба смотрела на меня с сердитым удивлением, и я видел, что в своей жизненной игре она совершенно серьезна.
Вторая наша встреча произошла в такой же обстановке. Люба сидела в том же самом кресле. Теперь ей было двадцать лет.
– Ну, как ваши семейные дела?
– Вы знаете, так хорошо, что я и сказать не умею!
– Вот как! Значит, нашелся человек лучше вашего… этого…
– И ничего подобного. Я вышла замуж за того самого. Второй раз вышла!
– Как же это случилось?
– Случилось. Он пришел ко мне и плакал. И сказал, что я лучше всех. Но это же неправда? Я же не лучше всех?
– Ну… кому что нравится. А чем же вы такая… плохая?
– Вот видите! Значит, он меня любит. А папа и мама сказали, что я делаю глупость. А он говорит: давай все забудем!
– И вы все забыли?
– Угу, – так же тихо и незаметно, как и раньше, сказала Люба и кивнула головой настоящим детским способом. А потом посмотрела на меня с серьезным любопытством, как будто хотела проверить, разбираюсь ли я в ее жизненной игре.
В третий раз я встретил Любу Горелову на улице. Она выскочила из-за угла с какими-то большими книгами в руках и устремилась к трамваю, но увидела меня и вскрикнула:
– Ах! Здравствуйте! Как хорошо, что я вас встретила!
Она была так же молода, так же чистенько причесана, и на ней была такая же свежая, идеально отглаженная блузка. Но в ее карих глазах туманились какие-то полутоны, нечто, похожее на жизненную усталость, а лицо стало бледнее. Ей был двадцать один год.
– Она пошла рядом со мной и повторила тихо:
– Как хорошо, что я вас встретила.
– Почему вы так рады? Я вам нужен для чего-нибудь?
– Ага. Мне больше некому рассказывать.
И вздохнула.
– У вас опять жизненные неприятности?
Она заговорила негромко, рассматривая дорогу:
– Были неприятности. Такие неприятности! Я плакала даже. Вы знаете, она подала в суд. И теперь суд присудил, и мы платим сто пятьдесят рублей в месяц. Алименты. Это ничего. Муж получает пятьсот рублей, и я получаю двести пятьдесят. А только жалко. И так, знаете, стыдно! Честное слово! Только это неправильно. Это вовсе не его ребенок, а она выставила свидетелей…
– Слушайте, Люба, прогоните вы его.
– Кого?
– Да этого самого… мужа вашего.
– Ну, что вы! Он теперь в таком тяжелом положении. И квартиры у него нет. И платить нужно, и все…
– Но ведь вы его не любите?
– Не люблю? Что вы говорите? Я его очень люблю. Вы ж не знаете, он такой хороший! И папа говорит: он – дрянь! А мама говорит: вы не записывались, так и уходи!
– А вы разве не записывались?
– Нет, мы не записывались. Раньше как-то не записались, а теперь уже нельзя записаться.
– Почему нельзя? Всегда можно.
– Можно. Только нужно развод брать и все такое.
– Мужу? С этой самой, которой алименты?
– Нет, он с той не записывался. С другой.
– С другой? Это что ж… старая жена?
– Нет, почему старая? Он недавно с нею записался.
Я даже остановился:
– Ну, я ничего не понимаю. Так, выходит, не с другой, а с третьей?
Люба старательно объяснила мне:
– Ну да, если меня считать, так это будет третья.
– Да когда же он успел? Что это такое?
– Он с той недолго жил, с которой алименты… Он недолго. А потом он ходил, ходил и встретил эту. А у нее комната. Они стали жить. А она говорит: не хочу так, а нужно записаться. Она думала – так будет лучше. Так он и записался. А после, как записался, так они только десять дней прожили…
– А потом?
– А потом он как увидел меня в метро… там… с одним товарищем, так ему стало жалко, так стало жалко. Он пришел тогда и давай плакать.
– А может, он все наврал? И ни с кем он не записывался…
– Нет, он ничего не говорил. А она, эта самая, с которой записался, так она приходила. И все рассказывала…
– И плакала?
– Угу, – негромко сказала Люба и кивнула по-детски. И внимательно на меня посмотрела. Я разозлился и сказал на всю улицу:
– Гоните его в шею, гоните немедленно! Как вам не стыдно!
Люба прижала к себе свои большие книги и отвернулась. В ее глазах, наверное, были слезы. И она сказала, сказала не мне, а другой стороне улицы:
– Разве я могу прогнать? Я его люблю.
В четвертый раз встретил я Любу Горелову в кинотеатре. Она сидела в фойе в углу широкого дивана и прижималась к молодому человеку, красивому и кудрявому. Он над ее плечом что-то тихо говорил и смеялся. Она слушала напряженно-внимательно и вглядывалась куда-то далеко счастливыми карими глазами. Она казалась такой же аккуратисткой, в ее глазах я не заметил никаких полутонов. Теперь ей было двадцать два года.
Она увидела меня и обрадовалась. Вскочила с дивана, подбежала, уцепилась за мой рукав:
– Познакомьтесь, познакомьтесь с моим мужем!
Молодой человек улыбнулся и пожал мне руку. У него и в самом деле было приятное лицо. Они усадили меня посередине. Люба действительно была рада встрече, все теребила мой рукав и смеялась, как ребенок. Муж со сдержанной мужской мимикой говорил:
– Вы не думайте, я о вас хорошо знаю. Люба говорила, что вы – ее судьба. А сейчас увидела вас и сразу сказала: моя судьба.
Люба закричала на все фойе:
– А разве неправильно? Разве неправильно?
Публика на нее оглядывалась. Она спряталась за мое плечо и с шутливой строгостью сказала мужу:
– Иди! Иди выпей воды! Ну, чего смотришь? Я хочу рассказать, какой ты хороший! Иди, иди!
За моей спиной она подтолкнула его рукой. Он пожал плечами, улыбнулся мне смущенно и ушел к буфету. Люба затормошила оба мои рукава:
– Хороший, говорите, хороший?
– Люба, как я могу сказать, хороший он или плохой?
– но вы же видите? Разве не видно?
– На вид-то он хороший, ну… если вспомнить все его дела… вы же сами понимаете…
Глаза Любы увеличились в несколько раз:
– Чудак! Да разве это тот? Ничего подобного! Это совсем другой! Это… понимаете… это настоящий! Настоящий, слышите.
Я был поражен.
– Как «настоящий»? А тот? «Любимый»?
– Какой он там любимый! Это такой ужасный человек! Я такая счастливая! Если бы вы знали, какая я счастливая!
– А этого вы любите? Или тоже… ошибаетесь?
Она молчала, вдруг потеряв свое оживление.
– Любите?
Я ожидал, что она кивнет головой по-детски и скажет: «Угу».
Но она сидела рядом, притихшая и нежная, гладила мой рукав, и ее карие глаза смотрели очень близко – в глубину души.
Наконец, она сказала тихо:
– Я не знаю, как это сказать: люблю. Я не умею сказать… Это так сильно!
Она посмотрела на меня, и это был взгляд женщины, которая полюбила.
Научить любить, научить узнавать любовь, научить быть счастливым – это значит научить уважать самого себя, научить человеческому достоинству. Никакие образовательные экскурсии в автономную область Венеры не помогут этому делу. В человеческом обществе, а тем более в обществе социалистическом, половое воспитание не может быть воспитанием физиологии. Половой акт не может быть уединен от всех достижений человеческой культуры, от условий жизни социального человека, от гуманитарного пути истории, от побед эстетики. Если мужчина или женщина не ощущает себя членом общества, если у них нет чувства ответственности за его жизнь, за его красоту и разум, как они могут полюбить? откуда у них возьмутся уважение к себе, уверенность в какой-то своей ценности, превышающей ценность самца или самки?
Половое воспитание – это прежде всего воспитание культуры социальной личности. И если в буржуазном обществе такое воспитание на каждом шагу встречает препятствие в классовом разделении общества, в нищете, в насилии, в эксплуатации, то в нашем государстве для такого воспитания проложены широкие дороги. В самой скромной советской семье, как только она до конца поймет, какое важное и определяющее участие ей предоставлено в государственной жизни, как только она научится ощущать это свое единство с обществом не только в великих вопросах истории, но и в каждой подробности своего быта, тем самым разрешается проблема полового воспитания, ибо такая семья уже находится в фарватере культурной революции.
Не так еще давно проблема полового воспитания занимала многих свободных людей в такой форме: как объяснить детям тайну деторождения? Проблема выступала в либеральных одеждах, и либеральность эту видели в том, что уже не сомневались: тайну деторождения над старыми возмутительными подходцами, ненавидели аистов и презирали капусту. Были убеждены в том, что от аистов и от капусты должны происходить разные бедствия и что своевременное объяснение эти бедствия предупредит.
Самые отчаянные и либеральные требовали полного срывания «покровов» и полной свободы в половых разговорах с детьми. На разные лады и различными голосами толковали о том, какими ужасными, извилистыми путями современные дети узнают тайну деторождения. Впечатлительным людям в самом деле могло показаться, что положение ребенка перед тайной деторождения подобно трагической коллизии какого-нибудь царя Эдипа. Оставалось только удивляться, почему эти несчастные дети не занимаются массовым самоубийством.
В наше время нет такого стремления объяснить детям тайну деторождения, но в некоторых семьях добросовестные родители и теперь страдают над вопросом: как быть с этой тайной и что отвечать детям, если они спрашивают. Надо, впрочем, отметить, что в области этой панической проблемы, такой важной и неотложной, было больше разговоров, чем практических мероприятий. Я знаю только один случай, когда отец усадил своего пятилетнего сына, как его мать разрешается от бремени. Как и всякий другой случай идиотизма, этот случай заслуживает только внимания психиатров. Гораздо чаще бывало, что честные родители в самом деле приступали к различным «правдивым» процедурам объяснения. И вот в первые же моменты этой полезной правдивости оказывалось, что положение их почти безвыходное.
Во-первых, выступало наружу пронзительное противоречие между родительским либерализмом и родительским идеализмом. Вдруг, кто его знает откуда, с полной очевидностью выяснялось, что половая проблема, несмотря ни на какие объяснения, несмотря на их героическую правдивость, желает оставаться все-таки половой проблемой, а не проблемой клюквенного киселя или абрикосового варенья. В силу этого она никак не могла обходиться без такой детализации, которая даже по самой либеральной мерке была невыносимо и требовала засекречивания. Истина в своем стремлении к свету вылезала в таком виде, что и самые смелые родители ощущали нечто, похожее на обморок. И это чаще всего случалось с теми родителями, которые выдвигались из обыкновенных рядов, которые ближе стояли к «идеалам», которые активно стремились к лучшему и совершенному. В сущности говоря, им хотелось так «объяснить» половую проблему, что она сделалась как бы уже и не половой, а какой-то другой, более чистой, более высокой.
Во-вторых, выяснилось, что при самом добросовестном старании, при самой научной мимике все-таки родители рассказывали детям то самое, что рассказывали бы им и «ужасные мальчишки и девчонки», предупредить которых и должно было родительское объяснение. Выяснилось, что тайна деторождения не имеет двух вариантов.
В конце концов вспоминали, что с самого сотворения мира не было зарегистрировано ни одного случая, когда вступившие в брак молодые люди не имели бы достаточного представления о тайне деторождения и, как известно… все в том же самом единственном варианте, без каких-нибудь заметных отклонений. Тайна деторождения, кажется, единственная область, где не наблюдалось ни споров, ни ересей, ни темных мест.
Александр Волгин живет на четвертом этаже нового дома. Отец Александра, Тимофей Петрович Волгин, работает в НКВД. На рукавах его гимнастерки нашиты две серебряные звезды и две звездочки на малиновых петлицах. В жизни Александра эти звезды имеют значение. Еще важнее револьвер. В кобуре отец носит браунинг номер второй. Александр хорошо знает, что по сравнению с наганом браунинг более усовершенствованное оружие, но он знает также, что я ящике отцовского стола спрятан любимый револьвер отца, и этот «любимчик» – наган, боевой товарищ, о котором он может рассказать много захватывающих историй из тех времен, когда не было еще чистой, уютной квартиры в новом доме, когда не было и самого Александра, ни Володьки Уварова, ни Кости Нечипоренко. В школе об этом времени рассказывают очень коротко и все по книжкам, и рассказывают учителя, которые сами ничего не видели и ничего не понимают. Вот, если бы они послушали, как двадцать человек чекистов, выезжая из города, по зимней накатанной дороге, наткнулись на целый отряд бандитов, как чекисты залегали за крайними плетнями города, как четыре часа отстреливались сначала из винтовок, а потом из наганов, как по одному патрону отложили для себя, – вот тогда они узнали бы, что такое наган, который сейчас мирно отдыхает в ящике стола. А учительница рассказывает, рассказывает, а если ей показать наган, так она, наверное, закричит и убежит из класса.
Александр Волгин гордится своим отцом и гордится его оружием и его звездочками. Александр знает, что в боевой жизни отца заключаются особые права и законы, которые он, Александр Волгин, должен соблюдать. Другие обстоятельства, а именно: отцовский спокойный и глубокий взгляд, молчаливые умные глаза и уравновешенная мужская сила – все это Александр Волгин как-то пропускал в своей оценке, почти не замечал, как не замечают люди здоровья. Александр был убежден, что он любит отца за его боевую деятельность.
Теперь – мама. Мама не закричит и не убежит, если ей показать наган. В городе Овруче она сама отстреливалась от бандитов, а отец в это время сидел на партийном собрании. Там была и Надя, только Наде тогда был один год, и она в этой истории ни при чем, Теперь Наде семнадцать лет, Александр любит ее, но это другое дело. И мать. Мать, конечно, не боевой деятель, хотя ей и пришлось пострелять в Овруче. Во-первых, она работает в каком-то там Наробразе, во-вторых, нет у нее ни револьвера, ни звездочек, ни звания старшего лейтенанта государственной безопасности, а в-третьих, она очень красивая, добрая, нежная, и если бы даже у нее был наган и какое угодно звание, кто его знает, на каком месте все это поместилось бы в представлении Александра. Александр Волгин любит свою мать не за какие-нибудь заслуги, а… любит, и все!
У Александра Волгина эти установки любви выяснились еще с позапрошлого года, т. е. с того времени, когда в его жизни завелись настоящие друзья, не какие-нибудь слюнявые Коти, все достоинство которых заключается в карманных складах и новых костюмчиках, а настоящие товарищи, обладающие жизненным опытом и самостоятельностью мнений. Может быть, они тоже любят своих родителей, но не лезут с ними в глаза, да им и некогда заниматься родителями. Жизнь ежедневно ставит такие вопросы, что не только родителей, а и обедать забудешь, и для разрешения этих вопросов требуется много силы и знаний: возьмем, например, матч между «Динамо» и «Локомотивом», или дела авиационные, или снос дома на соседней улице, или асфальтирование рядом проходящей трассы, или радио. В школе тоже столько дел и вопросов, столько запутанных отношений, сколько интриг, столько событий, что даже Володька Уваров теряет иногда голову и говорит:
– Очень мне нужно! Скажите, пожалуйста! Да ну их к чертям собачьим! Не хочу связываться!
А ведь Володька Уваров никогда не смеется. Володька Уваров не самом деле похож на англичанина, это все хорошо знают. Он никогда не смеется. Другие тоже пробовали, больше одного дня никто не выдерживал, все равно на второй день зубы выскалит и ржет, как обезьяна. А Володька только изредка поведет губой, так это разве смех? Это для того, чтобы показать презрение. Александр Волгин уважает суровую манеру Володьки, но и не думает подражать ему. Славу Александра Волгина составляют остроумие, увлекательный смех и постоянное въедливое вяканье. Все ребята знают, что Александру Волгину лучше не попадаться на язык. Весь пятый класс. И учителя знают. Да… и учителя. Что касается учителей, то здесь, конечно, сложнее. Бывает часто, что с учителей и начинаются разные неприятности.
Несколько дней назад учитель русского языка Иван Кириллович объявил, что он переходит к Пушкину. Володька Уваров еще раньше учителя принес в класс «Евгения Онегина» и демонстрировал несколько стихов. А теперь Иван Кириллович сказал, что класс основательно переходит к Пушкину. Называется «основательно», а на самом деле самые интересные стихи пропускает. Александр Волгин громко, хотя и вежливо спросил:
– А как это понимать: «…он, пророчествуя взгляду неоцененную награду…»?
У Александра Волгина тонкое лицо и подвижный рот. Он беззастенчиво показал зубы Ивану Кирилловичу и ждал ответа. В классе все засверкали глазами, потому что вопрос был поставлен действительно интересно. Все хорошо знали, что «она» значит ножка, женская ножка, у Пушкина об этом подробно написано, и мальчикам понравилось. Стихи эти показывали девочкам и с большим интересом наблюдали, какое они произвели впечатление. Но с девочками эффект получился, можно сказать, отрицательный. Валя Строгова взглянула на стихи, ни чуточки не покраснела и даже засмеялась. А то, что она сказала, даже вспомнить стыдно:
– Ой, желторотые! Они только сегодня увидели!
Другие девочки тоже засмеялись. Александр Волгин смутился и посмотрел на Володьку. На Володькином лице не дрогнул ни мускул. Он сказал сквозь зубы:
– Когда мы увидели – это другой вопрос, а вот ты объясни.
Это у Володьки получилось шикарно, и можно было ожидать, что финал всего разговора будет победоносный. Действительность оказалась гораздо печальнее.
Валя Строгова внимательно присмотрелась к Володьке. Сколько в этом взгляде было превосходства и пренебрежения! А сказала она так:
– Володя, в этих стихах ничего нет непонятного. А ты еще маленький. Подрастешь – поймешь.
Такие испытания не каждый может перенести спокойно. В них рушится человеческая слава, исчезает влияние, взрывается авторитет, уничтожаются пучки годами добытых связей. И поэтому все с остановившимся дыханием ожидали, что скажет Володька. А Володька ничего не успел сказать, потому что Валя Строгова встряхнула стриженой головой и гордо направилась к выходу. К ее локтям прицепились Нина и Вера. Все они уходили особой недоступной походкой, небрежно посматривали по сторонам и поправляли волосы одной рукой. Володька Уваров молча смотрел им вслед и презрительно кривил полные губы. Все мальчики примолкли, только Костя Нечипоренко произнес:
– Охота вам с ними связываться?
Костя Нечипоренко учился лучше всех и довольствовался этой славой, он мог позволить себе роскошь особого мнения. Все остальные были согласны, что Володька потерпел поражение, и от него требовались немедленные и решительные действия. Медлить было невозможно. Володька на своей парте замкнулся в холодном английском молчании. Александр Волгин зубоскалил по самым пустяшным поводам и на переменках не отдыхал ни секунды. Пристал к худенькому, подслеповатому Мише Гвоздеву, спрашивал:
– Почему у мужчин штаны, а у женщин юбки?
Миша понимал, что в такой невинной форме начинается какая-нибудь вредная каверза, и старался молча отойти подальше. У него осторожные, трусливые движения и испуганное выражение лица. Но Александр хватает его за локти и громко, на весь класс повторяет:
– Почему штаны и юбки? Почему?
Миша бессильно двигает локтями, обижается и смотрит вниз.
Володька говорит сквозь зубы:
– Брось его, сейчас плакать будет.
Александр Волгин смеется:
– Нет, пускай скажет!
Миша в слабости склоняется на парту. Он и в самом деле может заплакать. Когда Александр выпускает его руки, он залезает в дальний угол и молчит, отвернувшись к стене.
– Вот чудак! – смеется Александр. – Он уже такое подумал, бесстыдник такой! А это совсем просто:
Чтобы Миша не влюбился,
На мужчине не женился.
Вот теперь Миша заплакал и капризно вздернул локтем в воздухе, хотя его локоть никому и не нужен. Но Володька Уваров брезгливо морщится, и он прав: никаким зубоскальством нельзя уничтожить неприятного осадка после разговора с девочками. В классе было много людей, которые и раньше с молчаливым неодобрением относились к Володьке Уварову и его другу Александру Волгину. В особенности было тяжело видеть, с каким независимым, холодным пренебрежением входили в класс и располагались на своих местах девочки. Они делали вид, что задней парты не существует, а если и существует, то на ней нет ничего интересного, что они сами все узнают и что в этом знании они выше каких-то там Волгиных и Уваровых. Девочки склоняют друг к другу головы, перешептываются и смеются. И разве можно разобрать, над кем они смеются и почему они так много воображают?
Ситуация требовала срочных действий. Вопрос, обращенный к учителю, должен был восстановить положение. Вот почему Александр Волгин с такой торжественной улыбкой ожидал ответа Ивана Кирилловича. Даже самые отъявленные тихони, зубряки и отличники примолкли: они отдавали должное этой интересной дуэли. Учитель был еще очень молод и едва ли сумеет вывернуться из затруднительного положения.
Иван Кириллович и в самом деле растерялся, покраснел и забормотал:
– Это, собственно говоря, из другой области… ну… вообще… из области… других отношений. Я не понимаю, почему вы задаете этот вопрос?
Александр Волгин употребил героические усилия, чтобы у него вышло удовлетворительное ученическое лицо, и, кажется, оно получилось ничего себе:
– Я задаю потому, что читаешь и ничего не понимаешь: «неоцененную награду». А какую награду, и не разберешь.
Но учитель вдруг выбрался из трясины и, честное слово, выбрался здорово:
– У нас сейчас идет разговор о другом. Чего мы будем отвлекаться? А я на днях зайду к вам домой и объясню. И родители ваши послушают.
Александр Волгин побледнел до полного вежливого изнеможения:
– Пожалуйста.
Володька бросил на Александра убийственный взгляд и сказал, не вставая с места:
– Если спрашивают в классе, так чего домой?
Но учитель сделал вид, что ничего не расслышал, и пошел дальше рассказывать о капитанской дочке.
Александр Волгин хотел что-то еще сказать, но Костя Нечипоренко дернул его за рубаху, силой усадил на место и посоветовал добродушно:
– Не хулигань! Влопаешься!
Честь задней парты была спасена, но какой дорогой ценой!
Об этом сейчас с тревогой вспоминает Александр Волгин. Прошло уже три дня. Дома Александр нервно отзывался на каждый звонок, но учитель все не приходил. Александр теперь особенно аккуратно готовит уроки, в классе помалкивает, а на Володьку старается даже и не смотреть. Если этот Иван Кириллович в самом деле придет ябедничать отцу, трудно даже представить, чем это может кончиться. До сих пор у Александра не было конфликтов с отцом по вопросам школы. Александр учился на «хорошо», скандалов никаких не было. Дома он старался о школе мало разговаривать, считая, что это во всех отношениях удобнее. А вот теперь такая история!
По вечерам, укладываясь в постель, Александр раздумывал о случившемся. Все было ясно. За то, что он задает в классе посторонние вопросы, отец ничего не скажет, это пустяк, а вот за эту самую «неоцененную награду», черт бы ее побрал, попадет. Александр в этом месте быстро перевертывается с одного бока на другой, и перевертывается не потому, что попадет, а потому, что есть что-то еще более страшное. Пусть как угодно попадет, как угодно, совсем не в этом дело. Да и как там попадет? Бить будет, что ли? Бить не будет. Но как говорить с отцом обо всех этих вещах, наградах, ножках, – ужас! Стыдная, тяжелая, невозможная тема!
Володька Уваров спросил:
– Не приходил… Этот?
– Нет.
– А что ты будешь делать, когда он придет?
– А я не знаю.
– Ты скажи, что ты и на самом деле ничего не понял.
– Кому сказать?
– Да отцу, кому же? Не понял, и все! Черт их там поймет!
Александр завертел головой:
– Ну, думаешь, моего отца так легко обмануть? Он, брат, не таких, как мы с тобой, видел.
– А я считаю… Ничего… Можно сказать… Я своему так бы и сказал.
– А он поверил бы?
– Поверил – не поверил! Скажите, пожалуйста! Нам по сколько лет? Тринадцать. Ну так что? Мы и не обязаны ничего понимать. Не понимаем, и все!
– Не понимаем, а почему такое… выбрали… самое такое.
– Ну… выбрали… Пушкин как раз… подскочил…
Володька искренне хотел помочь другу. Но Александр почему-то стеснялся сказать Володьке правду. Правда заключалась в том, что Александр не мог обманывать отца. Почему-то не мог, так же не мог, как не мог говорить с ним о «таких вопросах».
Гроза пришла, откуда не ждали: Надька! Отец так и начал: Надя мне рассказала…
Это было так ошеломительно, что даже острота самой темы как-то притупилась. Отец говорил, Александр находился в странном состоянии, кровь в его организме переливалась, как хотела и куда хотела, глаза хлопали в бессмысленном беспорядке, а в голове торчком стало неожиданное и непростительное открытие: Надька! Александр был так придавлен этой новостью, что не заметил даже, как его язык залепетал по собственной инициативе:
– Да она ничего не знает…
Он взял себя в руки и остановил язык. Отец смотрел на него серьезно и спокойно, а впрочем, Александр с трудом разбирал, как смотрит отец. Он видел перед собой только отцовский рукав и две серебряные звездочки на нем. Его глаза безвольно бродили по шитью звездочек, останавливались на поворотах шитья, цеплялись за узелки. В уши проникали слова отца и что-то проделывали с его головой, во всяком случае, там начинался какой-то порядок. Перед ним стали кружиться ясные, разборчивые и почему-то приемлемые мысли, от них исходило что-то теплое, как и отцовского рукава. Александр разобрал, что это мысли отца и что в этих мыслях спасение. Надька вдруг провалилась в сознании. Защемило в гортани, стыдливые волны крови перестали бросаться куда попало, а тепло и дружески согрели щеки, согрели душу. Александр поднял глаза и увидел лицо отца. У отца напряженный мускулистый рот, он смотрел на Александра настойчивым, знающим взглядом.
Александр поднялся со стула и снова сел, но уже не мог оторваться от отцовского лица и не мог остановить слез, – черт с ними, со слезами. Он простонал:
– Папочка! Я теперь понял! Я буду, как ты сказал. И всю жизнь, как ты сказал! Вот увидишь!
– Успокойся, – тихо сказал отец, – сядь. Помни, что сказал: всю жизнь. Имей в виду, я тебе верю, проверять не буду. И верю, что ты мужчина, а не… пустая балаболка.
Отец быстро поднялся со стула, и перед глазами Александра прошли два-три движения его ладного пояса и расстегнутая пустая кобура. Отец ушел. Александр положил голову на руки и замер в полуобморочном, счастливом отдыхе.
– Ну?
– Ну, и сказал.
– А ты что?
– А я? А я ничего…
– А ты, наверное, заплакал и сейчас же: папочка, папочка?
– Причем здесь «заплакал»?
– А что, не заплакал?
– Нет.
Володька смотрел на Александра с ленивым уверенным укором.
– Ты думаешь, отец, так он всегда говорит правильно? По-ихнему, так мы всегда виноваты. А о себе, так они ничего не говорят, а только о нас. Мой тоже, как заведет: ты должен знать, ты должен понимать…
Александр слушал Володьку с тяжелым чувством. Он не мог предать отца, а Володька требовал предательства. Но и за Володькой стояла какая-то несомненная честь, изменить которой тоже было невозможно. Нужен был компромисс, и Александр не мог найти для него приличной формы. Кое в чем должен уступить Володька. И почему ему не уступить? И так зарвались.
– А по-твоему, мой отец все говорил неправильно?
– Неправильно.
– А может быть, и правильно?
– Что ж там правильного?
– Другой, так он иначе бы сказал. Он сказал бы: как ты смеешь! Стыдись, как тебе не стыдно! И все такое.
– Ну?
– Он же так не говорил?
– Ну?
– Тебе хорошо нукать, а если бы ты сам послушал.
– Ну, хорошо, послушал бы… Ну, все равно, говори. Только ты думаешь, что всегда так говорят: «как тебе не стыдно» да «как тебе не стыдно»? Они, брат, тоже умеют прикидываться.
– А чего прикидываться? Он разве прикидывался?
– Ну, конечно, а ты и обрадовался: секреты, секреты, у всех секреты!
– И не так совсем.
– А как?
– Совсем иначе.
– Ну, как?
– Он говорит, ты понимаешь: в жизни есть такое, тайное и секретное. И говорит: все люди знают, и мужчины, и женщины, и ничего в этом нет поганого, а только секретное. Люди знают. Мало ли чего? Знают, значит, а в глаза с этим не лезут. Это, говорит, культура. А вы, говорит, молокососы, узнали, а у вас язык, как у коровы хвост. И еще сказал… такое…
– Ну?
– Он сказал: язык человеку нужен для дела, а вы языком мух отгоняете.
– Так и сказал?
– Так и сказал.
– Это он умно сказал.
– А ты думаешь…
– А только это просто слово такое. А почему Пушкин написал?
– О! Он и про Пушкина говорил. Только я забыл, как он так говорил?
– Совсем забыл?
– Нет, не совсем, а только… тогда было понятно, а вот слова какие… видишь…
– Ну?
– Он говорит: Пушкин великий поэт.
– Подумаешь, новость!
– Да нет… постой, не в том дело, что великий, а в том, что нужно понимать…
– Что же там непонятного?
– Ну да, только не в том дело. Он так и говорит… ага, вспомнил: совершенно верно, совершенно верно, так и сказал: совершенно верно! – Да брось ты, «совершенно верно»! – А он так сказал: совершенно верно, в этих словах сказано об этом самом… вот об этом же… ну, понимаешь…
– Ну, понимаю, а дальше?
– А дальше так: Пушкин сказал стихами… и такими, прямо замечательными стихами, и потом… это…… еще одно такое слово, ага: нежными стихами! Нежными стихами. И говорит: это и есть красота!
– Красота?!
– Да, а вы, говорит, ничего не понимаете в красоте, а все хотите переделать на другое.
– И ничего подобного! А кто хотел переделать?
– Ну, так он так говорит: вам хочется переделать… на разговор, нет, на язык пьяного хулигана. Вам, говорит, не нужно Пушкина, а вам нужно надписи на заборах…
Володька стоял прямо, слушал внимательно и начинал кривить губу. Но глаза опустил, как будто в раздумье.
– И все?
– И все. Он еще про тебя говорил.
– Про меня?
– Угу.
– Интересно.
– Сказать?
– А ты думаешь, для меня важно, как он говорил?
– Для тебя, конечно, не важно.
– Это ты уши распустил.
– Ничего я не распускал.
– Он тебя здорово обставил. А как он про меня сказал?
– Он сказал: твой Володька корчит из себя англичанина, а на самом деле он дикарь.
– Это я?
– Угу.
– И сказать «корчит»?
– Угу.
– И дикарь?
– Угу. Он так сказал: дикарь.
– Здорово. А ты что?
– Я?
– А ты и рад, конечно?
– Ничего я не рад.
– Я, значит, дикарь, а ты будешь, скажите, пожалуйста, культурный человек!
– Он еще сказал: передай своему Володьке, что в социалистическом государстве таких дикарей все равно не будет.
Володька презрительно улыбнулся, первый раз за весь разговор:
– Здорово он тебя обставил. А ты всему и поверил. С тобой теперь опасно дружить. Ты теперь будешь «культурный человек». А твоя сестра все будет рассказывать, ей девчонки, конечно, принесут, ничего в классе сказать нельзя! А ты думаешь, она сама какая? Ты знаешь, какая она сама?
– Какая она сама? Что ты говоришь?
Александр и впрямь не мог понять, в чем дело, какая она сама? Надя была вне подозрений. Александр, правда, еще не забыл первого ошеломляющего впечатления после того, как выяснилось, что Надя его выдала, но почему-то он не мог обижаться на сестру, он просто обижался на себя, как это он выпустил из виду, что сестра все узнает. Теперь он смотрел на Володьку, и было очевидно, что Володька что-то знает.
– Какая она сама?
– О! Ты ничего не знаешь? Она про тебя наговорила, а как сама?
– Скажи.
– Тебе этого нельзя сказать! Ты такой культурный человек!
– Ну, скажи.
Володька задирал голову в гордой холодности, но и какое-то растерянное раздумье не сходило с его полного лица. И в его глазах на месте прежней высокомерной лени теперь перебегала очередь мелких иголочек. Такие иголочки бывают всегда, когда поврежденное самолюбие вступает в борьбу с извечным мальчишеским благородством и любовью к истине.
И сейчас самолюбие взяло верх. Володька сказал:
– Я тебе скажу, пожалуйста, только вот еще узнаю… одну вещь.
Так был достигнут компромисс. Вмешательство Нади не интересовало друзей, потому что она была в десятом классе, но двурушничество сестры терпеть было нельзя.
Надя Волгина училась в десятом классе той самой школы, где учились и наши друзья. Ясны были пути разглашения пушкинской истории. У этих девчонок гордость и разные повороты головы прекрасно совмещались со сплетнями и перешептываниями, а теперь было известно, о чем они шептались. Они обрадовались такому случаю. Если вспомнить, что вопрос о пушкинских стихах был предложен в самой культурной форме, и на самом деле никто и не собирался переделывать эти стихи на язык хулиганов, и все понимают, что эти стихи красивы, а не только они понимают, и если бы учитель взял и объяснил как следует, если принять все это во внимание, то на первый план сейчас же выступает коварство этих девчонок. Они делают такой вид, что они разговаривают о «Капитанской дочке», а учителя им верят. А они рассказали Наде о пушкинских стихах. Вот они о чем разговаривают.
И Валя Строгова только в пятом классе такая гордая. А домой она ходит с восьмиклассником Гончаренко под тем предлогом, что они живут в одном доме. И на каток вместе. И с катка вместе. Еще осенью Володька Уваров послал ей записку:
«Вале Строговой.
Ты не думай, что мы ничего не понимаем. Мы все понимаем. Коля Гончаренко, ах, какой красивый и умный! Только и задаваться нечего».
Видели, как Валя Строгова получила записку на уроке грамматики и как прочитала ее под партой, как она потом злая сидела все уроки и переменки. А на последнем уроке Володька получил ответ:
«Володе Уварову.
Дурак. Когда поумнеешь, сообщи».
Володька три дня не мог опомниться от этого оскорбления. Он послал еще одну записку, но она возвратилась в самом позорном виде с надписью наверху:
«Это писал Уваров, поэтому можно не читать».
А она и теперь все ходит с Гончаренко. А учителя думают, что раз девочки, так ничего. И не только Валя. Пожалуйста. У всех секреты, у всех какие-то тайные дела, а перед пятым классом гордость. И все нити этих секретов уходят в верхнюю перспективу – в даль восьмых, девятых и десятых классов. Тамошние юноши при помощи своей красоты и первых усиков проникают всюду. А что делается у девочек этой высокой перспективы, невозможно даже представить.
Володька Уваров был представителем крайнего скепсиса в этом вопросе. Он рассказывал о старших девушках самые невероятные истории и даже не заботился сильно о том, чтобы ему верили. Для него какие-нибудь факты вообще не представляли интереса, важны были темы, тенденции и подробности. Другие ничего не рассказывали. Володьке не верили, но рассказы его слушали внимательно.
Девушки девятого и десятого классов! Легко сказать! Володька, и тот пасовал. Разве могло ему прийти в голову написать кому-нибудь записку? Как написать? О чем написать? Девушки старших классов были существа малопонятные. На них даже смотреть было страшновато. Если она заметит и глянет на тебя – что может ответить слабый пацан? Только самые отчаянные позволяли себе иногда, шныряя по коридору, задеть плечом бедро или грудь старшей девушки, но это было жалкое развлечение. Все это приходилось делать со страхом и с замиранием сердца, риск был огромный. Если поймаешься, если она посмотрит на тебя, скажет что-нибудь, куда деваться на твердом неподатливом полу, который не проваливается по желанию. В прошлом году в классе был такой бесшабашный скабрезник Комаровский Илья, потом его выгнали. Ну, и что же? В мальчишеском кругу он о таких подробностях рассказывал, что парты замирали и краснели, а слушатели больше оглядывались, чем слушали. И все-таки и он: рассказывать рассказывал, а если нахулиганит, как встретится взглядом… и умер. Молчит и старается улыбаться. А она ему только и сказала:
– Нос утри. Есть у тебя платок?
И выгнали Комаровского вовсе не за это, а за прогулы и неуды. И когда выгнали, никто не пожалел, даже приятно стало.
Александр Волгин в глубине души ничего не имел против старших девочек, но это был страшный секрет, что настоящее содержание его даже никогда не приходило во сне, а если и снилось, то ничего нельзя было разобрать. А ведь он был еще в лучшем положении, ибо в самой квартире на четвертом этаже между ним и родителями жила Надя – существо непонятное, симпатичное и близкое. К Наде приходили подруги-десятиклассницы, такие же, как и она, нежные девушки с убийственными глазами, с мягкими подбородками и волнистыми, до абсурда чистыми волосами, с теми особенностями фигуры, о которых реально и в мечтах лучше было не думать. Александр иногда допускался в их общество, допускался не совсем бескорыстно. В этом обществе он держался свободно, говорил громко, острил, сломя голову летал за мороженым и за билетами в кинотеатр. Но все это снаружи. А внутри у него слабо и глухо бормотало сердце, и душа поворачивалась медленно и неуклюже. Смущала его особенная девичья уверенность, какая-то мудрая сила. Она находилась в пленительном противоречии с их кажущейся слабостью и наивностью движений. Они не умели как следует бросить камень, но когда Клава Борисова однажды взяла Александра за щеки мягкими, теплыми руками и сказала:
– А этот мальчик будет хорошеньким мужчиной, – на Александра налетела шумная и непонятная волна, захлестнула, захватила дыхание и понесла. А когда он вырвался из этой волны и открыл глаза, он увидел, что девушки забыли о нем и о чем-то тихо разговаривают между собой. Тогда он неясно почувствовал, что где-то здесь близко проходит линия человеческого счастья. Вечером в постели он вспоминал об этом спокойно, а когда закрывал глаза, девушки казались ему высокими, белыми облаками.
Он не умел думать о них, но в душе они всегда приходили с радостью.
И этому не мешали ни сарказмы Володьки, ни скабрезности Ильи Комаровского.
И поэтому рассказам ребят о разных приключениях, в которых участвовали будто бы девушки, он не хотел верить. Вот и теперь Володька намекает на Надю. Какие у Володьки доказательства?
– А ты как хотел, чтобы они все перед твоими глазами делали?
– А все-таки, какие у тебя доказательства?
– А ты видел, когда твоя Надя домой идет? Видел?
– Так что?
– А сколько за ней «пижонов»?
– Как «сколько»?
– А ты не считал? И Васька Семенов, и Петька Вербицкий, и Олег Осокин, и Таранов, и Кисель, и Филимонов. Видел?
– Так что?
– А ты думаешь, даром они за нею ходят? такие они дураки, думаешь? Ты присмотрись.
Александр присматривался и видел: действительно, ходят вместе, им весело, они хохочут, а Надя идет между ними, склонив голову. Видел и Клаву Борисову в таком же пышном окружении, но рядом с небольшой грустной ревностью у него не просыпалось в душе никаких подозрений, хотя «пижоны» и казались очень несимпатичными.
Пришла весна, дольше стало дежурить на небе солнце, зацвели каштаны на улицах. У Александра прибавилось дела: и матчи, и лодка, и купание, и разные испытания. Надя готовилась к испытаниям особенно напряженно. В ее комнате каждый день собирались девушки. Вечером они выходили из комнаты побледневшие и серьезные, и зубоскальство Александра не производило на них никакого впечатления. Иногда приходили заниматься и юноши, но все это производило такое солидное, десятиклассное впечатление, что и у Володьки не повернулся бы язык говорить гадости.
И вот в это самое время, в разгар испытаний, что-то случилось. После ужина, поздно вечером отец сказал:
– Где это Надя?
Мать глянула на стенные часы:
– Я и сама об этом думаю. Она ушла в четыре часа заниматься к подруге.
– Но уже второй час.
– Я давно тревожусь, – сказала мать.
Отец взял газету, но видно было, что читать ему не хочется. Он заметил притаившегося за «Огоньком» сына:
– Александр! Почему ты не спишь?
– У меня завтра свободный день.
– Иди спать.
Александр спал здесь же, в столовой, на диване. Он быстро разделся и лег, отвернувшись к спинке, но заснуть, само собой, не мог, лежал и ожидал.
Надя пришла около двух часов. Александр слышал, как она нерешительно позвонила, как осторожно проскользнула в дверь, и понял, что она в чем-то виновата. Какой-то негромкий разговор произошел в передней, из него донеслось несколько слов матери:
– Ты думаешь, что дело в объяснении?
Потом о чем-то недолго говорили в спальне. Там был и отец: о чем говорили – осталось неизвестным. Александр долго не мог заснуть, его захватила странная смесь из любопытства, тревоги и разочарования. Сон уже прикоснулся к нему, когда в последний раз перед ним пронеслись лица Нади, Клавы и других девушек и рядом с ними копошились какие-то отвратительные, невыносимые, но в то же время и любопытные мысли.
На другой день Александр внимательно всматривался в лицо Нади и заметил некоторые подробности. Под глазами у Нади легли синие пятна. Надя побледнела, была грустна и задумывалась. Александр смотрел на нее с сожалением, но больше всего мучило его желание узнать, что именно произошло вчера вечером.
Володьке он ничего не сказал. Он оставался по-прежнему его другом, вместе судачили о школьных делах, затевали мелкие, незначительные проказы, ловили рыбу и осуждали девочек. Но о Наде все же говорить не хотелось.
Дома Александр с терпеливой и настойчивой энергией тыкался носом во все семейные щели, прикидывался спящим, притаивался на целые часы в кабинете, прислушивался к разговорам отца и матери, следил за Надей, за ее тоном и настроением.
Ему повезло в выходной день. Отец с рассветом уехал на охоту и своим отъездом взбудоражил весь дом. Проснулся и Александр, но тихонько лежал с закрытыми глазами и ждал. Сквозь щели глаз он видел, как полураздетая Надя пробиралась в спальню «досыпать». Она всегда это делала по старой привычке, когда отец рано уходил или оставался на службе на дежурство.
Скоро в спальне начался разговор. Многое не дошло до Александра: кое-что недослышал, кое-чего не понял.
Мать говорила:
– Любовь надо проверять. Человеку кажется, что он полюбил, а на самом деле это неправда. Масло не покупают без проверки, а наши чувства берем как попало, в охапку и носимся с ними. Это просто глупо.
– Это очень трудно проверять, – еле слышно прошептала Надя.
Потом молчание. Может, так тихо шептались, а может, мать ласково поглаживала Надину растрепанную головку. А потом мать сказала:
– Глупенькая, это очень легко проверить. Хорошее, настоящее чувство всегда узнаешь.
– Как хорошее масло, правда?
В голосе матери пронеслась улыбка:
– Даже легче.
Вероятно, Надя спрятала лицо в подушку или в колени матери, потому что сказала очень глухо:
– Ох, мамочка, трудно!
Александр уж хотел с досадой повернуться на другой бок, но вспомнил, что он крепко спит, поэтому только недовольно выпятил губы: все у них какие-то нежности, а потом масло какое-то! Странные эти женщины, ну, и говорили бы дело!
– Это верно, нужен маленький опыт…
И неслышно, как мать договорила. Вот мастера шептаться!
Надя заговорила быстрым возбужденным шепотом:
– Мамочка, тебе хорошо говорить: маленький опыт! А если ничего нет, никакого самого маленького, а? Скажи, как это так: опыт любви, да? Скажи, да? Опыт любви? Ой, я ничего не понимаю.
«Сейчас заплачет», – решил Александр и еле заметно вздохнул.
– Не опыт любви, что ты! Опыт любви – это звучит как-то даже некрасиво. Опыт жизни.
– Какая же у меня жизнь?
– У тебя? Большая жизнь – семнадцать лет. Это большой опыт.
– Ну, скажи, ну, скажи! Да говори же, мама.
Мать, видимо, собиралась с мыслями.
– Ты не скажешь?
– Ты и сама знаешь, не прикидывайся.
– Я прикидываюсь?
– Ты знаешь, что такое женское достоинство, женская гордость. Мужчина легко смотрит на женщину, если у нее нет этой гордости. Ты знаешь, как это легко сдержать себя, не броситься на первый огонек.
– А если хочется броситься?
Александр совсем начинал грустить, когда же, наконец, они будут говорить о том самом вечере. И что такое случилось? Говорят, как в книгах: броситься, огонек!
мать сказала строго и гораздо громче, чем раньше:
– Ну, если уж очень слаба, бросайся, пожалуй. Слабый человек, он везде проиграет и запутается. От слабости люди счастье пропивают.
– А почему раньше было строго? А теперь почему такая свобода: хочешь женишься, хочешь – разводишься? Почему при Советской власти такая свобода?
Мать ответила так же строго:
– При Советской власти расчет идет на настоящих людей. Настоящий человек сам знает, как поступить. А для слякоти всегда упаковка нужна, чтобы не разлезалась во все стороны.
– По-твоему, я слякоть?
– А почему?
– А вот видишь: влюбилась… чуть не влюбилась…
Александр даже голову поднял с подушки, чтобы слушать обоими ушами:
– Чуть или не чуть, я этого не боюсь. Ты у меня умница, и тормоза у тебя есть. Я не за то на тебя обижаюсь.
– А за что?
– Я от тебя такого малодушия не ожидала. Я думала, у тебя больше этой самой гордости, женского достоинства. А ты второй раз встретилась с человеком и уже прогуляла с ним до часу ночи.
– Ох!
– Это же, конечно, слабо. Это некрасиво по отношению к себе.
Наступило молчание. Наверное, Надя лежала на подушке, и ей было стыдно говорить. Потому что и Александру стало как-то не по себе. Мать вышла из спальни и направилась в кухню умываться. Надя совсем затихла.
Александр Волгин громко потянулся, кашлянул, зевнул, вообще показал, что он насилу проснулся от крепкого сна и встречает день, не подозревая в нем ничего плохого. За завтраком он рассматривал лица матери и сестры и наслаждался своим знанием. У Нади ничего особенного в лице не было, представлялась она шикарно, даже шутила и улыбалась. Только глаза у нее, конечно, покраснели, и волосы были не так хорошо причесаны, как всегда, и вообще она не была такая красивая, как раньше. Мать разливала чай и смотрела в чашки с тонкой суховатой улыбкой, которая, может быть, выражала печаль. Потом мать быстро взглянула на Александра и действительно улыбнулась:
– Ты чего это гримасничаешь?
Александр спохватился и быстро привел в порядок свою физиономию, которая действительно что-то такое выделывала, не согласовав своего поведения с хозяином.
– Ничего я не гримасничаю.
Надя метнула в брата задорный, насмешливый взгляд, еле заметно два-три раза качнула головой и… ничего не сказала. Это было довольно высокомерно сделано, и, пожалуй, годилось для вчерашнего дня, но сегодня стояло в оскорбительном противоречии с осведомленностью Александра. Он мог бы ее так срезать… Но тайна была дороже чести, и Александр ограничился формальным отпором:
– Скажи, пожалуйста! И чего ты так смотришь?
Надя улыбнулась:
– У тебя такой вид, как будто ты «географию» сдал на «отлично».
В этих словах свернула насмешка, но она не успела как следует задеть Александра. Широким фронтом вдруг надвинулась на него география, заблестела реками и каналами, заходила в памяти городами и цифрами. Между ними прятался целый комплекс: и честь, и отец, и «удочка» в третьей четверти, и соревнование с пятым «Б». Сегодня испытание. Александр махнул рукой на сестру и бросился к учебнику.
Но, идя в школу, он все время вспоминал утренний разговор. Воспоминание проходило на общем приятном фоне: Александр Волгин знает секрет, и никто об этом не догадывается. На этом фоне располагались разные рисунки, но Александр не умел еще видеть их все сразу. То один выделялся, то другой, и каждый говорил только за себя. Был приятный рисунок, говорящий, что сестра в чем-то виновата, но рядом другой то и дело царапал его душу – неприятно было, что с сестрой что-то случилось. И тут же было написано широким ярким мазком все их девичье царство, по-прежнему привлекательное и похожее на высокие белые облака. И без всяких облаков прыгали ехидные карикатуры: эти девушки только представляются, и на самом деле, может быть, Володька и прав. Потом все это терялось и забывалось, и вспоминались слова матери в утреннем разговоре, какие-то слова необычные и важные, о которых все больше и больше хотелось думать, но о которых думать он не умел, а только вспоминал их теплую, мудрую силу. Вспоминал слова о том, как мужчина легко смотрит на женщину. Что-то было в этих словах интересное, но что это такое, он не мог разобрать, потому что впереди торчало большое и близкое слово «мужчина». Мужчина – это он, Александр Волгин. После того разговора с отцом это слово часто приходило. Это было что-то сильное, суровое, терпеливое и очень секретное. Потом и этот рисунок стирался, выступали откровенные подпольные мысли о стыдном, скабрезные рассказы Ильи Комаровского и настойчивый цинизм Володьки Уварова. Но и это исчезло, и опять блестят на ярко-синем небе высокие белые облака и улыбаются чистые, нежные девушки.
Все это бродило вокруг души Александра Волгина, толкалось в ее стены, по очереди о чем-то рассказывало, но в душе сидел только отцовский подарок – мужчина, выразитель силы и благородства.
Александр рано пришел в школу. Испытания начнутся в одиннадцать часов, а сейчас только четверть одиннадцатого. Возле карт уже работало несколько человек. В школьном скверике гулял Володька Уваров и важничал, заложив руки за спину. Неужели он так хорошо подготовил географию? Володька задал несколько светских вопросов о самочувствии, о Сандвичевых островах, о видах на «отлично», сам высказал пренебрежительное намерение сдать на «удочку» и вдруг спросил:
– Твоя сестра уже вышла замуж?
Александр вздрогнул всем своим организмом и влепился в Володьку широко открытыми глазами:
– Что?
– Ха! Она вышла замуж, а он не знает! Дела!
– Как ты говоришь? Вышла замуж? Как это?
– Вот теленок! Он не знает, как выходят замуж. Очень просто: раз, раз, а через девять месяцев пацан.
Володька стоял, заложив руки за спину, крепко держа на шее красивую круглую голову.
– Ты врешь!
Володька пожал плечами, как взрослый, и улыбнулся редкой своей улыбкой:
– Сам увидишь.
И направился к зданию. Александр не пошел за ним, а сел на скамью и начал думать. Думать было трудно, он ничего не придумал, но вспомнил, что он должен быть мужчиной. К счастью, география прошла отлично, и Александр радостный побежал домой. Но когда он увидел сестру, радость мгновенно исчезла. Надя сидела в кабинете и что-то выписывала в тетрадь. Александр постоял в дверях и неожиданно для себя двинулся к ней. Она подняла голову:
– Ну, как география?
– География? География на «отлично». А вот ты мне скажи.
– Что тебе сказать?
Александр вздохнул громко и выпалил:
– Скажи, ты вышла замуж или нет?
– Что?
– Вот… ты мне скажи… ты вышла замуж или нет?
– Я вышла замуж? Что ты мелешь?
– Нет, ты скажи.
Надя внимательно присмотрелась к брату, встала и взяла его за плечи:
– Подожди. Что это значит? О чем ты спрашиваешь?
Александр поднял глаза и взглянул ей в лицо. Оно было гневное и чужое. Она оттолкнула его и выбежала из комнаты. Слышно было, как в спальне она заплакала. Александр Волгин стоял у письменного стола и думал. Но думать было трудно. Он побрел в столовую. В дверях на него налетела мать:
– Какие гадости ты наговорил Наде?
И вот снова Александр Волгин сидит против отца и снова близко может рассматривать его серебряные звезды. Но сейчас Александр спокоен, он может смотреть отцу прямо в глаза, и отец отвечает ему улыбкой:
– Ну?
– Я тебе обещал…
– Обещал.
– Я сказал, что буду мужчиной.
– Правильно.
– Ну, вот так и делала… все так делал.
– Только одно сделал неправильно?
– Не как мужчина?
– Да. У Нади не нужно было спрашивать.
– А у кого?
– У меня.
– У тебя?!
– Ну, рассказывай.
И Александр Волгин рассказал отцу все, даже подслушанный утренний разговор. А когда рассказал, прибавил:
– Я хочу знать, вышла она замуж или не вышла. Мне нужно знать.
Отец слушал внимательно, иногда утвердительно кивал головой и не задал ни одного вопроса. Потом он прошелся по кабинету, взял на столе папиросу, окружил себя облаком дыма и в дыму замахал спичкой, чтобы она потухла. И в это время спросил, держа папироску в зубах:
– А для чего тебе это нужно знать?
– А чтобы Володька не говорил.
– Чего?
– Чтобы не говорил, что замуж вышла.
– Почему этого нельзя говорить?
– Потому что он врет.
– Врет? Ну, пускай врет.
– Как же? А он все будет врать.
– Да что ж тут обидного? Разве выйти замуж – это плохо?
– Он только говорит: замуж…
– Ну?
– А он говорит… такое… он гадости говорит.
– Ага… значит, ты разобрал.
– Разобрал.
Александр кивнул головой, самому себе подтверждая, что действительно разобрал.
Отец подошел к нему вплотную, взял его за подбородок и посмотрел в глаза серьезно и сурово:
– Да. Ты мужчина. Ну… и дальше всегда разбирай. Все.
Александр на следующий день не подошел к Володьке и сел на другой парте. На перемене Володька положил ему руку на плечо, но Александр Волгин сбросил его руку с плеча:
– Отстань!
Володька покривил губы и сказал:
– Думаешь, нуждаюсь?
На этом вся история, собственно говоря, и кончается. Пути Володьки Уварова и Александра Волгина разошлись надолго, может быть, навсегда. Но был такой день, всего через две недели, в последний день учебного года, когда эти пути на короткую минуту снова скрестились.
В том же скверике в группе мальчиков Володька говорил:
– Клавка в десятом классе первая…
Мальчики с хмурой привычкой слушали Володьку.
Александр прошел сквозь их толпу и стал против рассказчика:
– Ты сейчас наврал! Нарочно наврал!
Володька лениво повел на него глазом:
– Ну, так что!
– Ты всегда врешь! И раньше все врал! И сегодня!
Мальчики в его тоне услышали что-то новое и по-новому бодрое. Они подвинулись ближе. Володька поморщился:
– Некогда чепуху слушать…
Он двинулся в сторону, Александр не тронулся с места:
– Нет, ты не уходи!
– О, почему?
– А я сейчас буду бить тебе морду!
Володька покраснел, но по-английски сжал губы и прогнусавил:
– Интересно, как ты будешь бить мне морду!
Александр Волгин размахнулся и ударил Володьку в ухо. Володька немедленно ответил. Завязалась хорошая мальчишеская драка, в которой всегда трудно разобрать, кто победитель. Пока подбежал кто-то из старших, у противников текла из носов кровь и отлетело несколько пуговиц. Высокий десятиклассник спросил:
– Чего это они? Кто тут виноват?
Одинокий голос сказал примирительно:
– Да подрались, и все. Одинаково.
Мальчики недовольно загудели:
– Одинаково! Сказал! Этому давно нужно!
Добродушный голос Кости Нечипоренко спокойно разрезал общий гул:
– Неодинаково. Есть большая разница. Волгин этого гада за сплетни бил, а он… конечно, отмахивался!
Мальчики громко рассмеялись.
Володька провел рукавом по носу, быстро всех оглянул и направился к зданию. Все глядели ему вслед: в его походке не было ничего английского.
Никакие разговоры о «половом» вопросе с детьми не могут что-либо прибавить к тем знаниям, которые и без того придут в свое время. Но они опошлят проблему любви, они лишат ее той сдержанности, без которой любовь называется развратом. Раскрытие тайны, даже самое мудрое, усиливает физиологическую сторону любви, воспитывает не половое чувство, а половое любопытство, делая его простым и доступным.
Культура любовного переживания невозможна без тормозов, организованных в детстве. Половое воспитание и должно заключаться в воспитании того интимного уважения к вопросам пола, которое называется целомудрием. Умение владеть своим чувством, воображением, возникающими желаниями – это важнейшее умение, общественное значение которого недостаточно оценено.
Многие люди, говоря о половом воспитании, представляют себе половую сферу, как нечто совершенно изолированное, отдельное, как что-то такое, с чем можно вести дело с глазу на глаз. Другие, напротив, делают из полового чувства какой-то универсальный фундамент для всего личного и социального развития человека; человек в их представлении есть всегда и прежде всего самец или самка. Естественно, и они приходят к мысли, что воспитание человека должно быть прежде всего воспитанием пола. И те и другие, несмотря на свою противоположность, считают полезным и необходимым прямое и целеустремленное половое воспитание.
Мой опыт говорит, что специальное, целеустремленное так называемое половое воспитание может привести только к печальным результатам. Оно будет «воспитывать» половое влечение в такой обстановке, как будто человек не пережил длинной культурной истории, как будто высокие формы половой любви уже не достигнуты во времена Данте, Петрарки и Шекспира, как будто идея целомудренности не реализовалась людьми еще в Древней Греции.
Половое влечение не может быть социально правильно воспитано, если мыслить его существующим обособленно от всего развития личности. Но и в то же время нельзя половую сферу рассматривать как основу всей человеческой психики и направлять на нее главное внимание воспитателя. Культура половой жизни есть не начало, а завершение. Отдельно воспитывая половое чувство, мы еще не воспитываем гражданина, воспитывая же гражданина, мы тем самым воспитываем и половое чувство, но уже облагороженное основным направлением нашего педагогического внимания.
И поэтому любовь не может быть выращена просто из недр простого зоологического половое влечения. Силы «любовной» любви могут быть найдены только в опыте неполовой человеческой симпатии. Молодой человек никогда не будет любить свою невесту и жену, если он не любил своих родителей, товарищей, друзей. И чем шире область этой неполовой любви, тем благороднее будет и любовь половая.
Человек, который любит свою Родину, народ, свое дело, не станет развратником, его взгляд не увидит в женщине только самку. И совершенно точным представляется обратное заключение: тот, кто способен относиться к женщине с упрощенным и бесстыдным цинизмом, не заслуживает доверия как гражданин; его отношение к общему делу будет так же цинично, ему нельзя верить до конца.
Половой инстинкт, инстинкт огромной действенной силы, оставленный в первоначальном, «диком» состоянии или усиленный «диким» воспитанием, может сделаться только антиобщественным явлениям. Но связанный и облагороженный социальном опытом, опытом единства с людьми, дисциплины и торможения, он становится одним из оснований самой высокой эстетики и самого красивого человеческого счастья.
Семья – важнейшая область, где человек проходит свой первый общественный путь! И если этот путь организован правильно, правильно пойдет и половое воспитание. В семье, где родители деятельны, где их авторитет естественно вытекает из их жизни и работы, где жизнь детей, их первые общественные движения, их учеба, игра, настроения, радости, огорчения вызывают постоянное внимание родителей, где есть дисциплина, распоряжение и контроль, в такой семье всегда правильно организуется и развитие полового инстинкта у детей. В такой семье никогда не возникнет надобности в каких-либо надуманных и припадочных фокусах, не возникнет, во-первых, потому, что между родителями и детьми существует совершенно необходимая черта деликатности и молчаливого доверия. На этой черте взаимное понимание возможно без применения натуралистического анализа и откровенных слов. И во-вторых, на той же черте значительным и мудрым будет каждое слово, сказанное вовремя, экономное и серьезное слово о мужественности и целомудрии, о красоте жизни и ее достоинстве, то слово, которое поможет родиться будущей большей любви, творческой силе жизни.
В такой атмосфере сдержанности и чистоты проходит половое воспитание в каждой здоровой семье.
будущая любовь наших детей будет тем прекраснее, чем мудрее и немногословнее мы будем о ней говорить с нашими детьми, но эта сдержанность должна существовать рядом с постоянным и регулярным вниманием нашим к поведению ребенка. Никакая философия, никакая словесная мудрость не принесет пользы, если в семье нет правильного режима, нет законных пределов для поступка.
Старый интеллигентный «российский» разгон умел объединять, казалось бы, несовместимые вещи. С одной стороны, мыслящие интеллигентные всегда умели высказывать самые радикальные и рациональные идеи, часто выходящие даже за границы скромной реальности, и в то же время всегда обнаруживали страстную любовь к неряшливости и к беспорядку. Пожалуй, в этом беспорядке с особенным вкусом видели что-то высшее, что-то привлекательное, что-то забирающее за живое, как будто в нем заключались драгоценные признаки свободы. В разном хламе бытовой богемы умели видеть некоторый высокий и эстетический смысл. А этой любви было что-то от анархизма, от Достоевского, от христианства. А между тем в этой беспорядочной бытовой «левизне» ничего нет, кроме исторической нищеты и оголенности. Иные современники в глубине души еще и сейчас презирают точность и упорядоченное движение, целесообразное и внимательное к мелочам бытие.
Бытовая неряшливость не может быть в стиле советской жизни. Всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении, мы должны вытравливать этот задержавшийся богемский дух, который только по крайнему недоразумению считается некоторыми товарищами признаком поэтического вкуса. В точности, собранности, в строгой и даже суровой последовательности, в обстоятельности и обдуманности человеческого поступка больше красоты и поэзии, чем в любом «поэтичном беспорядке».
Что у нас не совершенно исчезли эти «сверхчеловеческие» симпатии к неряшливости быта, лучшим доказательством является стихотворение Вадима Стрельченко, помещенное в пятом номере «Красной нови» за 1937 год.
Не в дому рожденному
В синем небе – тучи, солнце и луна…
Праздничны – акации. Улица – шумна.
Что там? Все столпились… Крик на мостовой.
Что там?
Только лошадь вижу за толпой…
Что там?
«Да роженица! Редки дела:
Как везли в больницу, тут и родила».
Кто бежит в аптеку, кто жалеет мать…
Ну а мне б ребенка в лоб поцеловать:
Не в дому рожденный! Если уж пришлось,
Полюби ты улицу до седых волос!
Взгляды незнакомые, нежные слова
Навсегда запомни, крошка-голова!
Не в дому рожденный!
Не жалей потом:
Ну, – рожден под солнцем, не под потолком!
Но пускай составят твой семейный круг
Сотни этих сильных
Братьев и подруг.
Что это такое? Поэзия? Шутка? Или серьезно?
Разрешение от бремени на улице, в толпе зевак, среди дикой заботы и диких чувств, есть прежде всего большое несчастье и для матери и для ребенка. По своей санитарной, медицинской, житейской непрезентабельности такое событие может вызвать только возмущение. Это некрасиво, нечистоплотно, опасно для жизни и матери и ребенка. И причины таких явлений не вызывают сомнений: все та же неряшливость, ротозейство, лень, бездумье, неспособность рассчитать, подготовить, организовать – вот эта проклятая манера угорелой кошки всегда спешить и везде опаздывать.
А поэт обрадовался: ему удалось налететь на такой идеально беспорядочный случай. Безобразная, некрасивая история его вдохновила, у него рождаются и эмоции и рифмы. Почему бы ему не вдохновиться таким частым и нормальным случаем, как рождение под потолком, в чистой комнате, в присутствии врача, в обстановке научно организованной заботы и помощи? Почему? Нет, это пресно, это почти мещанство. А здесь такой красивый бедлам, такой вопиющий беспорядок: и солнце, и луна, и тучи, и лошадь, и крик, и аптека! И «улица – шумна»! И он торжествует. Ему не хочется выругать того возмутительного ротозея и лежебоку, мужа или врача, который виноват в этом несчастном случае, ему, видите ли, захотелось «ребенка в лоб поцеловать». В этом желании так много разболтанного и нечистоплотного эгоизма, пьяного воодушевления и довольства жизнью, которые, как известно, всегда носятся с непрошеными поцелуями. Очень жаль, конечно, что этот «не в дому рожденный» не может ничего сказать. Что он мог бы сказать поэту, приставшему к нему с поцелуями в самый бедственный и трагический момент своей жизни:
– Гражданин! Отстаньте, пожалуйста, с вашими поцелуями, не то я позову милиционера!
Этому ребенку просто некогда разговаривать с поэтом. Он должен кричать и стонать и как-то выбираться из неприятностей, уготованных для него слишком «поэтическими» взрослыми. И поэтому он ничего не может ответить на восторги поэта и, к своему счастью, пропустит мимо ушей его дикие пожелания и утверждения. В каком это смысле нужно «полюбить» улицу «до седых волос»? Зачем нужно запомнить «взгляды незнакомых» уличных зевак и «нежные слова», не имеющие никакого смысла и значения и такие же дешевые, как поцелуи поэта?
В нашей жизни еще встречаются такая умилительная нетребовательность, такие неразборчивость и нечистоплотность. У нас есть еще индивиды, которые действительно полюбили улицы «до седых волос» и вырезвляются на первом парадном крыльце, а то и просто на тротуаре.
В семье такая неряшливость быта, непривычка к точному времени, к строгому режиму, к ориентировке и расчету очень много приносит вреда и сильнее всего нарушает правильный половой опыт молодежи. О каком можно говорить воспитании, если сын или дочь встают и ложатся, когда вздумается или когда придется, если по вечерам они «гуляют» неизвестно где или ночуют «у подруги» или «у товарища», адрес которых и семейная обстановка просто неизвестны. В этом случае налицо такая бытовая неряшливость (а может быть, и не только бытовая, а и политическая), что говорить о каком-либо воспитании просто невозможно – здесь все случайно и бестолково, все безответственно.
С самого раннего возраста дети должны быть приучены к точному времени и к точным границам поведения. Ни при каких условиях семья не должна допускать каких бы то ни было «ночевок» в чужой семье, за исключением случаев совершенно ясных и надежных. Больше того, все места, где ребенок может задержаться на несколько часов даже днем, должны быть родителям хорошо известны. Если это семья товарища, только родительская лень может помешать отцу или матери с ней познакомиться ближе.
Точный режим детского дня – совершенно необходимое условие воспитания. Если нет у вас такого режима и вы не собираетесь его установить, для вас абсолютно лишняя работа чтение этой книги, как и всех других книг о воспитании.
Привычка к точному часу – это привычка к точному требованию к себе. Точный час оставления постели – это важнейшая тренировка для воли, это спасение от изнеженности, от пустой игры воображения под одеялом. Точный приход к обеду – это уважение к матери, к семье, к другим людям, это уважение к самому себе. А всякая точность – это нахождение в кругу дисциплины и родительского авторитета, это, значит, и половое воспитание.
И в порядке той же бытовой культуры в каждой семье должно быть предоставлено большое место врачу, его совету, его санитарному и профилактическому руководству. Девочки в некоторые периоды особенно требуют этого внимания врача, которому всегда должна помогать и забота матери. Врачебная линия, конечно, главным образом должна лежать на обязанности школы. Здесь уместна организация серьезных бесед по вопросам пола, по ознакомлению мальчиков с вопросами гигиены, воздержания, а в старшем возрасте с опасностью венерических заболеваний.
Необходимо отметить, что правильное половое воспитание в границах одной семьи было бы значительно облегчено, если бы и общество в целом этому вопросу уделяло большое активное внимание. В самом обществе должны все сильнее и требовательнее звучать настойчивые суждения общественного мнения и моральный контроль над соблюдением нравственной нормы.
С этой точки зрения нужно в особенности коснуться такой «мелочи», как матерная ругань.
Очень культурные люди, ответственные работники, прекрасно владеющие русским языком, находят иной раз в матерном слове какой-то героический стиль и прибегают к нему по всякому поводу, ухитряясь сохранить на физиономии выражение острого ума и высокой культурности. Трудно понять, откуда идет эта глупая и дикая традиция.
В старое время матерное слово, может быть, служило своеобразным коррективом к нищенскому словарю, к темному косноязычию. При помощи матерной стандартной формулы можно было выразить любую примитивную эмоцию, гнев, восторг, удивление, осуждение, ревность. Но большей частью она даже не выражала никаких эмоций, а служила технической связкой, заменяющей паузы, остановки, переходы – универсальное вводное предложение. В этой роли формула произносилась без какого бы то ни было чувства, она показывала только уверенность говорящего, его речевую развязность.
За двадцать лет наши люди научились говорить. Это бросается в глаза, это можно видеть на любом собрании. Нищенское косноязычие ни в какой мере не характерно для наших людей. Это произошло не только благодаря широкому распространению грамотности, книги, газеты, но и главным образом благодаря тому, что советскому человеку было о чем говорить, существовали мысли и чувства, которые и нужно было выразить и можно было выразить. Наши люди научились без матерного слова высказывать мысли по любому вопросу. Раньше они не умели этого делать и пробавлялись общепринятым и взаимно заменяемым стандартом:
– Да ну их к…!
– Что же ты…!
– Здорово…!
– Я тебя…!
Даже и связная речь, в сущности, была связана из таких же элементов:
– Подхожу… к нему, а он… говорит: пошел ты к… Ах ты, думаю…! На… ты мне нужен…! Да я таких…, как ты…, видел… тысячи.
Матерное слово потеряло у нас свое «техническое» значение, но все же сохраняется в языке, и можно даже утверждать, что оно получило большое распространение и участвует в речи даже культурных людей. Теперь оно выражает молодечество, «железную натуру», решительность, простоту и презрение к изящному. Теперь это своего рода кокетство, цель которого понравиться слушателю, показать ему свой мужественных размах и отсутствие предрассудков.
В особенности любят его употреблять некоторые начальники, разговаривая с подчиненными. Получается такой непередаваемой прелести шик: сидит ответственнейший, могущественный деятель за огромным письменным столом, окружен кабинетной тишиной, мягкостью, монументальностью, обставлен телефонами и диаграммами. Как ему разговаривать? Если ему разговаривать точным языком, деловито, вежливо – что получится? Могут сказать: бюрократ сидит. А вот если при своем могуществе и блеске рассыпает он гремящее, или шутливое, или сквозь зубы матерное слово, тогда подчиненные, с одной стороны, и трепещут больше, а с другой стороны, и уважают. Прибегут в свою комнату и восторгаются.
– Ох, и крыл же! Ох, и крыл…!
И получается не бюрократ, а свой парень, а отсюда уже близко и до «нашего любимого начальника».
И женщины привлекаются к этим любовным утехам. При них, конечно, не выражаются открыто, а больше символически.
– Жаль, что здесь Анна Ивановна, а то я иначе бы с вами говорил!
И Анна Ивановна улыбается с любовью, потому что и ей начальник оказал доверие. Любимый начальник!
А так как каждый человек всегда над кем-нибудь начальствует, то каждый и выражается в меру своих способностей и прерогатив. Если же он последний в иерархическом ряду и ни над кем не начальствует, то он «кроет» неодушевленные предметы, находящиеся в его распоряжении: затерявшуюся папку, непокорный арифмометр, испорченное перо, завалившиеся ножницы. В особо благоприятной обстановке он «кроет» соседнего сотрудника, соседнее отделение и, снижая голос на семьдесят пять процентов, «любимого» начальника.
Но не только начальники украшают свою речь такими истинно русскими орнаментами. Очень многие люди, в особенности в возрасте 20–22 лет, любят щегольнуть матерным словом. Казалось бы, что немного нужно истратить интеллектуальной энергии, чтобы понять, что русский революционный размах нечто диаметрально противоположное русскому пьяному размаху, и вот не все понимают же! Не все понимают такую простую, абсолютно очевидную вещь, что матерное слово есть неприкрашенная, мелкая, бедная и дешевая гадость, признак самой дикой, самой первобытной культуры, циничное, наглое, хулиганское отрицание и нашего уважения к женщине, и нашего пути к глубокой и действительно человеческой красоте.
Но если для женщин это свободно гуляющее похабное слово только оскорбительно, то для детей оно чрезвычайно вредно. С удивительным легкомыслием мы терпим это явление, терпим его существование рядом с нашей большой и активной педагогической мечтой.
Необходимо поднять решительную, настойчивую и постоянную борьбу против площадного слова, если не из соображений эстетических, то из соображений педагогических. Трудно подсчитать, а еще труднее изобразить тот страшный вред, который приносит нашему детству, нашему обществу это наследие рюриковичей.
Для взрослого человека матерное слово – просто неудержимо оскорбительное, грубое слово. Произнося его или выслушивая, взрослый испытывает только механическое потрясение. Матерное слово не вызывает у него никаких половых представлений или переживаний. Но когда это слово слышит или произносит мальчик, слово не приходит к нему как условный ругательный термин, оно приносит с собой и присущее ему половое содержание. Сущность этого несчастья не в том, что обнажается перед мальчиком половая тайна, а в том, что она обнажается в самой безобразной, циничной и безнравственной форме… Частое произношение таких слов приучает его к усиленному вниманию к половой сфере, к однобокой игре воображения, а это приводит к нездоровому интересу к женщине, к ограниченной и слепой впечатляемости глаза, к мелкому, надоедливому садизму словечек, анекдотов, каламбуров. Женщина приближается к нему не в полном наряде своей человеческой прелести и красоты, не в полном звучании своей духовной и физической нежности, таинственности и силы, а только как возможный объект насилия и пользования, только как оскорбленная самка. И любовь такой юноша видит с заднего двора, с той стороны, где человеческая история давно свалила свои первобытные физиологические нормы. Этими отбросами культурной истории и питается первое, неясное половое воображение мальчика.
Не нужно, конечно, преувеличивать печальные последствия этого явления. Детство, жизнь, семья, школа, общество, книга дают мальчику и юноше множество противоположных толчков и импульсов, вся наша жизнь, деловое и товарищеское общение с девушкой и женщиной приносят новую пищу для более высоких чувств, для более ценного воображения.
Но не нужно и преуменьшать.
Каждый мужчина, отказавшийся от матерного слова, побудивший к этому товарища, потребовавший от каждого встречного разошедшегося «героя», принесет огромную пользу и нашим детям, и всему нашему обществу.
Глава восьмая
Вера Игнатьевна Коробова работает в библиотеке большого завода, выстроенного на краю города. Обыкновенно она возвращается домой к пяти часам вечера. Сегодня она, ее помощницы и сочувствующие задержались позже – готовились к диспуту. Диспут будет завтра. На диспут ожидают автора, одного из крупных писателей. Читатели любят его книги, любит их и Вера Игнатьевна. Сегодня она с радостью возилась над витриной. Любовно и тщательно она расположила за бортиками реек всю критическую литературу о писателе, красиво подставила к журнальным страницам строчки рекомендательных надписей, а в центре витрины укрепила портрет писателя. Портрет был хороший, редкий, писатель смотрел с добродушной домашней грустью, и поэтому вся витрина казалась интимно близкой и какой-то родной. Когда работа была кончена, Вера Игнатьевна долго не могла наладить себя на дорогу домой, хотелось еще что-нибудь сделать и не хотелось уходить.
Вера Игнатьевна особенно любила свою библиотеку в эти вечерние часы. Она любила с особенной заботливой нежностью принимать со столов и размещать на полках возвращенные читателями книги, приводить в порядок карточки и наблюдать, чтобы старая Марфа Семеновна везде убрала пыль. На ее глазах в библиотеке располагался уютный, отдыхающий порядок, и тогда можно уходить домой, но еще лучше, вот как сегодня, остаться поработать в небольшой кампании таких же любителей, как она сама.
В затененных проходах между полками только в некоторых местах корешки книг освещены светом лампы над столом. В этих местах книги смотрят с таким выражением, как будто они вышли погулять на освещенную вечернюю улицу. Подальше, в полутени, книги мирно сумерничают, о чем-то толкуют тихонько, довольные, что сегодня они не стоят в одиночестве. В далеких черных углах крепко спят старики-журналы, которые и днем любят подремывать, кстати, и читатели редко их беспокоят. Вера Игнатьевна хорошо знала свое книжное царство. В ее представлении каждая книга имеет свою физиономию и свой особый характер. Характер составляется в довольно сложном плане из внешнего вида книги, общего рисунка ее содержания, но главным образом из типа отношений между книгой и читателем.
Вот, например, «Наши знакомые» Германа. Это толстенькая, моложавая женщина с хорошеньким личиком, болтливая и остроумная, но какая-то несерьезная, чудачка. Ее компанию составляют главным образом девчонки семнадцати-восемнадцати лет. Несмотря на то, что она гораздо старше их, они с нею в приятельских и коротких отношениях, и, судя по лицам читателей, эта толстушка рассказывает им что-то такое, чего в тексте даже и не прочитаешь. Мужчины возвращают эту книгу с ироническим выражением, как будто говорят: «М-да!»
«Как закалялась сталь» – это книга святая, ее нельзя небрежно бросить на стол, при ней неловко сказать сердитое слово.
«Дорога на океан» – это серьезный хмурый товарищ, он никогда не улыбается, с девчонками принципиально не кланяется, а водит компанию только с суховатыми, худыми мужчинами в роговых очках. «Энергия» – это молчальница, книга с меланхолическим характером, на читателя смотрит недружелюбно, и читатель ее боится, а если обращается к ней, то исключительно вежливо и только по делу. «Разгром» – это старый известный доктор, у которого очередь записавшихся и который принимает читателей с выражением добросовестной, хорошей, трудовой усталости. Читатель эту книгу возвращает со спокойной благодарностью, уверенный, что книга ему помогла.
Даже в руках Веры Игнатьевны, когда она отмечает выдачу или возвращение, книги держат себя по-разному. Одни покорно ожидают, пока их запишут, другие рвутся из рук, побуждаемые горячими взглядами читателей, третьи упрямятся и хотят обратно на полку – это потому, что читатель встречает их отчужденным и холодным взглядом.
В представлении Веры Игнатьевны книги жили особенной, интересной и умной жизнью, которой Вера Игнатьевна даже немного завидовала, но которую все же любила.
Вере Игнатьевне тридцать восемь лет. В ее лице, в плечах, в белой шее сохранилось еще очень много молодости, но Вера Игнатьевна об этом не знает, потому что о себе она никогда не думает. Она думает только о книгах и о своей семье, и этих дум всегда так много, что они не помещаются в ее сознании, толпятся в беспорядке и не умеют соблюдать очередь.
Как ни приятно остаться вечером в библиотеке, а думы тянут домой. Вера Игнатьевна быстро собирает в сумочку разную мелочь и спешит к трамваю. В тесном вагоне она долго стоит, придерживаясь за спинку дивана, и в это время сдержанная, шепчущая жизнь книг постепенно замирает, а на ее место приходят дела домашние.
Сегодня она возвращается домой поздно, значит, и вечер будет напряженный. Еще в трамвае в ее душе начинают хозяйничать заботы сегодняшнего вечера, они распоряжаются ее временем с некоторым удовольствием. Откуда берется это удовольствие – она не знает. Иногда ей кажется, что это от любви. Очень возможно, что это так и есть. Когда встает перед ней лицо Павлуши или Тамары, Вера Игнатьевна уже не видит ни пассажиров, ни пробегающих улиц, не замечает толчков и остановок, не ощущает и собственного тела, а ремешок сумочки и трамвайный билет держатся между пальцами как-то сами собой, по установившейся привычке. У Павлуши хорошенькое чистенькое лицо, а глаза карие, но в белках столько синевы, что весь Павлуша так и представляется золотисто-синеватым мальчиком. И лиц, и глаза Павлуши – это такое пленительное видение, что Вера Игнатьевна даже думать не может, а только видит, видит и больше ничего. О Тамарочке она, напротив, может и думать. Тамара, правда, несомненная красавица. Вера Игнатьевна таким же неотрывным взглядом всегда видит в ней что-то исключительно прелестное, женственное, нежное. Этого так много в ее длинных ресницах, в темных кудряшках на висках и на затылке, в пристальном, глубоком и таинственном взгляде серьезных глаз, в неизъяснимом очаровании движений. О Тамаре она часто думает.
Жизнь самой Веры Игнатьевны с незапамятных времен катилась по одним и тем же рельсам. Этот прямой и гладкий рельсовый путь был проложен по равнинам труда, ежедневных однообразных забот, однообразного кружева мелочей, которые никогда не оставляли ее в течение дня, а так и ходили вокруг нее одними и теми же петельками, кружочками и крестиками. Мимо Веры Игнатьевны с потрясающим грохотом пронеслась революция, она чувствовала ее горячий ветер, она видела, как на этом ветру стремительно подхватило и унесло старую жизнь, старых людей, старые обычаи. Трудовой человек, она радовалась этому животворному вихрю, но оторваться от кружева мелочей она не могла ни на одну минуту, потому что это кружево было для кого-то необходимо. Вера Игнатьевна никогда не думала, что это – долг, она просто не могла себе представить, как это можно разорвать какую-нибудь петлю в кружеве, если от этого благим матом может заорать Тамарочка, или Павлуша, или Иван Петрович. Она и замуж вышла за Ивана Петровича, как будто вывязала очередной узор кружева, а не выйти замуж было нельзя: Иван Петрович, по крайней мере, мог бы захныкать.
Вера Игнатьевна на свою жизнь никогда не жаловалась, в последнем счете все окончилось хорошо, и теперь можно с радостью смотреть на своих детей и думать о них. А кроме того, ее жизнь украшается книгами. Впрочем, Вера Игнатьевна никогда не занималась анализом своей жизни – было некогда. Что хорошего, что плохого в жизни – разобрать трудно. Но когда ее мысль доходила до Тамары, она начинала работать неожиданно оригинально. Не было сомнений в том, что жизнь Тамары должна пройти иначе. Сейчас Тамара в архитектурном институте, что-то там зубрит, на ее столе лежит начатый чертеж: какие-то «ордера» и капители, какие-то львы с очень сложными хвостами, похожими на букеты, и с птичьими клювами. Конечно, судьба Тамары вовсе не в этих львах, а в чем-то другом. В чем – не совсем было ясно, но это было то, что в книгах называется счастьем. Счастье Вера Игнатьевна представляла себе как лучезарное шествие женщины, как убийственно-гордый ее взгляд, как радость, от нее исходящую. По всему было видно, что Тамара создана для такого счастья и сама в нем не сомневается.
Вера Игнатьевна машинально протолкалась к выходу и быстро пробежала короткое расстояние до своего дома. Тамара открыла ей. Вера Игнатьевна бросила сумочку на подоконник в передней и заглянула в столовую.
– Павлуша обедал?
– Обедал.
– Он куда-нибудь ушел?
– Не знаю. Кажется, на коньках.
И в том, что все обедали, и в том, что Павлуша катается на коньках, можно было не сомневаться. Куски пищи были разбросаны по столу, и стояли тарелки, с остатками обеда. В передней валяются на полу комочки земли, какие-то веревочки, обрезки проволоки.
Вера Игнатьевна привычным жестом откинула со лба прямые волосы, оглянулась и взяла в передней щетку. Тамара села в широком кресле, распустила волосы, мечтательно устремила в окно хорошенькие глазки.
– Мама, ну, как же с туфлями?
Выметая из-под ее кресла, мать негромко сказала:
– Тамарочка, может быть, обойдешься?
Тамара с грохотом отодвинула кресло, швырнула на стол гребень, глаза ее вдруг перестали быть хорошенькими. Она протянула к матери розовые ладони, ее шелковый халатик распахнулся, розовые бантики белья тоже глянули на Вера Игнатьевну сердито.
– Мама! Как ты говоришь! Даже зло берет! Платье коричневое, а туфли розовые! Что это за туфли!
Тамара с возмущением дрыгнула ножкой, обутой в симпатичную розовую туфельку. В этот момент ее костюм не содержал никаких противоречий: халатик тоже розовый, и чулки розовые.
Вера Игнатьевна задержала щетку и сочувственно посмотрела на ножку Тамары.
– Ну что же… купим. Вот будет получка!
Тамара взглядом следила за работой щетки. По всем законам физики и геометрии ее взгляд должен был натолкнуться на истоптанные, покривившиеся, потерявшие цвет туфли матери, но этого почему-то не случилось. Тамара обвела комнату усталым от страдания взглядом.
– Надоело, – сказала она, – сколько уже получек прошло!
Тамара вздохнула и направилась в спальню. Вера Игнатьевна окончила уборку столовой и ушла в кухню мыть посуду. Из кухонного шкафчика она достала старенький бязевый халат, надела на себя. Домработницы у Коробовых нет. По договоренности жена дворника Василиса Ивановна приходит в два часа и готовит обед для Тамары и Павлуши. Иван Петрович и Вера Игнатьевна предпочитают обедать на работе – это удобнее, меньше уходит времени.
Примус у Веры Игнатьевны замечательный, она не может им налюбоваться. Стоит два-три раза качнуть насосиком, и он с веселой готовностью без передышки шумит и гонит настойчивый деловой огонек. Вода в кастрюле закипает в четверть часа. По своей привычке Вера Игнатьевна и к примусу относится с любовью и узнает в нем личный характер, очень симпатичный и дружеский, а главное, такой… рабочий.
Умеет Вера Игнатьевна разбирать и выражение физиономий грязных тарелок. Она готова даже улыбнуться, глядя на них, – такой у них приятный и смешной вид. Они с молчаливым, доверчивым ожиданием наблюдают за ее хлопотами, они с нетерпением ждут купания в горячей воде. Наверное, у них кожа чешется от нетерпения.
Вера Игнатьевна любила жизнь окружающих вещей и наедине с ними чувствовала себя хорошо. Она иногда даже разговаривала с ними. За работой лицо Веры Игнатьевны оживлялось, в глазах перебегали с шутками и дурачились смешливые зайчики, полные губы по-домашнему иногда даже улыбались. Но на глазах у людей, даже у близких, все это легкомысленное оживление исчезало: неловко было дурачиться перед людьми, неловко и несерьезно, Вера Игнатьевны не привыкла.
Сегодня она за мойкой посуды только самую малость пошутила, а потом вспомнила о туфлях Тамарочки и уже до конца думала о них.
Весь этот вопрос о туфлях был изучен ею основательно. Может быть, было ошибкой покупать розовые туфли только потому, что халатик розовый, и вообще нельзя же покупать туфли к халатику. Но так уже случилось, ничего теперь не поделаешь. Потом была длинная история с коричневым платьем. Платье шелковое, действительно нежно-коричневое. Оно очень идет к карим глазам и темным кудрям Тамары. Но все-таки вопрос о коричневых туфлях возник как-то непредвиденно, сначала казалось, что коричневое платье заканчивает кампанию. Еще третьего дня Вера Игнатьевна, оставшись дома одна, произвела сравнение. Платье было нежно-коричневое, а туфли розовые, не такие розовые, как розовая роза, а чуть-чуть темнее и не такие яркие. На самое короткое мгновение у Веры Игнатьевны блеснула мысль, что при таких туфлях коричневое платье носить можно. И сами туфли в этот момент как будто кивнули утвердительно. Но это была только минутка слабости, Вера Игнатьевна старалась не вспоминать о ней. Сейчас она вспоминала только расстроенное личико Тамары, и от этого на душе у нее становилось больно.
В наружную дверь постучали. Вера Игнатьевна встряхнула руками над тазом и пошла открыть. Она была очень удивлена: в дверях стоял Андрей Климович Стоянов.
Андрей Климович Стоянов любил библиотеку и книги, пожалуй, не меньше Веры Игнатьевны. Но он был не библиотекарь, а фрезеровщик, и фрезеровщик какой-то особенный, потому что другие фрезеровщики его фамилию произносили не иначе, как в двойном виде:
– Сам-Стоянов.
– Даже-Стоянов.
– Только-Стоянов.
– Ну-Стоянов.
– Вот-Стоянов.
Вера Игнатьевна в одушевленных предметах разбиралась вообще слабее, чем в неодушевленных, поэтому не могла понять, что такое в Андрее Климовиче было специально фрезерное? Правда, до нее доносились из цехов восторженные сообщения о том, что бригада Стоянова сделала 270–290 процентов, что в бригаде Стоянова придумали какой-то замечательный «кондуктор», что бригада Стоянова завела целый цветник вокруг своих станков, даже шутили, что бригада скоро будет переименована в «универсально-фрезерную оранжерею имени Андрея Стоянова». И все же в представлении Веры Игнатьевны Андрей Климович выступал исключительно как любитель книги. Ей трудно было понять, как он мог справляться со своими фрезерными, если на самом деле он так влюблен в книгу. Андрей Климович нарочно устроился работать в вечерней смене, а на выборах в фабзавком сам напросился:
– Приспособьте меня к библиотеке.
Книги Андрей Климович любил по-своему. Книги – это переплетенные люди. Он иногда удивлялся, зачем в книгах описание природы, какого-нибудь дождя или леса. Он приходил в комнату к Вере Игнатьевне и говорил:
– Человека разобрать трудно, в человеке тайна есть; писатель разберет, а наш брат прочитать должен, тогда видно. А дождь – так и есть дождь. Если я на дождь посмотрю, так и разберу сразу – дождь. И какой дождь – разберу, маленький или большой, вредный или не вредный. Лес тоже. Писатель никогда того не напишет, что увидеть можно.
Зато люди, описанные в книгах, всегда вызывали у Андрея Климовича напористое и длительное внимание. Он любил поговорить об этих людях, умел заметить противоречия и всегда обижался, если писатель был несправедлив к людям.
– Достоевского не люблю. Говорят, хороший писатель, а я не люблю. Такого про человека наговорит, стыдно читать. Ну, скажем, этот самый Раскольников. Убил он старушенцию, за это суди и взгрей как следует. А тут тебе на! – целый роман написал! И что же вы думаете! Читаю, читаю, а мне уж его и жалко стало и зло берет: за что жалею, а все потому, что пристали к человеку, спасения нет.
И вот сейчас Андрей Климович стоит в дверях и улыбается. Улыбка у него немного застенчивая, нежная и красивая, как будто это не сорокалетний фрезеровщик улыбается, а молодая девушка. И в то же время в этой улыбке есть много мужественного, знающего себе цену.
– Разрешите, Вера Игнатьевна, зайти, дело есть маленькое.
Андрей Климович и раньше заходил по книжным делам – живет он на той же лице, но сейчас действительно чувствовалось, что зашел он по какому-то особому делу.
– А вы все по-хозяйству?
– Да какое там хозяйство! Посуда только. Проходите в комнату.
– Да нет, давайте здесь, на кухне, можно сказать, в цеху, и поговорим.
– Да почему?
– Вера Игнатьевна, дело у меня… такое, знаете, секретное!
Андрей Климович хитро улыбнулся и даже заглянул в комнату, но никого там не увидел.
В кухне Андрей Климович сел на некрашеную табуретку, иронически посмотрел на горку вымытой, еще мокрой посуды и спросил:
– На посуде этой вы-то не обедали?
Вера Игнатьевна вытирала руки полотенцем.
– Нет, дети.
– Дети? Ага! Я к вам, можно сказать, от фабзавкома, тут нужно выяснить одно дело.
– Это насчет завтрашнего диспута?
– Нет, это персонально касается вас. Решили у нас кое-кого премировать по культурному фронту. Как бы к Новому году, но поскольку в библиотеке вроде праздник, так вас решили в первую очередь. Деньгами премируют, как водится, но тут я вмешался: деньгами, говорю, Веру Игнатьевну нельзя премировать, ничего из такой премии не выйдет, одни переживания и все.
– Я не понимаю, – улыбнулась Вера Игнатьевна.
– Вот не понимаете, а вещь самая простая. Деньги штука скользкая: сегодня они в одном кармане, а завтра они в другом, а послезавтра и следу не осталось. Деньги для вас – это мало подходит, да у вас же и карманов нету. Надо вещь какую-нибудь придумать!
– Какую же вещь?
– Давайте думать.
– Вещь? Ага, ну, хорошо. А только стоит ли меня премировать?
– Это уже по высшему соображению. Ваше дело сторона. так какую вещь?
– Туфли нужны, Андрей Климович. Я вам прямо скажу: очень нужны!
Андрей Климович осторожно глянул на туфли Веры Игнатьевны, а она еще осторожнее придвинулась к табуретке, на которой стояла посуда.
– Туфли эти… да-а! Туфли – хорошее дело, туфли можно.
– Только…
Вера Игнатьевна покраснела.
– Только коричневые… обязательно коричневые, Андрей Климович!
– Коричневые?
– Андрей Климович с какой-то грустной улыбкой поглядел в сторону.
– Можно и коричневые, что ж… Только… туфли такое дело, туфли без примерки нельзя. Отправимся с вами в магазин и примерим. Бывает, подъем не подойдет, и фасон нужно присмотреть, а то дадут тебе такой фасон, господи помилуй!
Вера Игнатьевна краснела и улыбалась, а он поднял голову и присматривался к ней одним глазом. Носок его ботинка задумчиво подымался и опускался, постукивая по полу.
– Так что, пойдем завтра купим?
– Да зачем вам беспокоиться, Андрей Климович? Я никогда не примериваю. Просто номер и все.
– Номер? Ну… какой же номер?
– Какой номер? Тридцать четвертый.
– Тридцать четвертый? Не тесный ли будет, Вера Игнатьевна?
Вера Игнатьевна вспомнила, что пора вытирать посуду, и отвернулась к стене за полотенцем.
– Этот номер не пройдет, Вера Игнатьевна, – весело сказал Андрей Климович.
Вера Игнатьевна подхватила первую тарелку, но и тарелка смотрела на нее с широкой тарелочной улыбкой. Вера Игнатьевна сказала так, для приличия:
– Какой номер не пройдет?
– Тридцать четвертый номер не пройдет!
Андрей Климович громко расхохотался, поднялся с табурета и плотно прикрыл дверь. Стоя у двери, он поднял глаза к потолку и сказал, будто декламируя:
– Барышне вашей здесь ничего не достанется… раз я взялся за это дело по специальному заданию. Ни одной коричневой туфли не достанется. Барышня и так будет хороша!
Вера Игнатьевна не умела сказать «какое ваше дело», да и вид Андрея Климовича не располагал к такой грубости. Она растерянно промолчала. Андрей Климович снова оседлал табуретку.
– Вы не сердитесь, хозяюшка, что я вмешиваюсь. А если нужно! Надо что-нибудь с вами делать. Я, как от фабзавкома, имею государственное право. И я так и сказал: премируем товарища Коробову, а девчонку вашу, франтиху, пускай папка премирует!
Почему вы так говорите? Какая она франтиха? Молодая девушка…
Вера Игнатьевна сердито посмотрела на гостя. Почему он, в самом деле, говорит такие слова: девчонка, франтиха! Это о Тамаре, о ее красавице, которой принадлежит будущее счастье. Вера Игнатьевна подозрительно проверила: неужели Андрей Климович враг ее дочери? В своей жизни она мало видела врагов. У Андрея Климовича были кудрявые усы, они симпатично шевелились над его нежной улыбкой, и это, конечно, противоречило его враждебным словам. Но все-таки пусть он скажет.
– Почему вы так относитесь к Тамаре?
Андрей Климович перестал улыбаться и озабоченно погладил себя по затылку:
– Вера Игнатьевна, давайте я скажу вам правду. Давайте скажу.
– Ну, какую там еще правду? – Вере Игнатьевне вдруг захотелось сказать: «Не надо говорить правду».
– Вот я вам скажу правду, – серьезно произнес Андрей Климович и хлопнул рукой по колену, – только бросьте на минутку ваши эти тарелки, послушайте!
Он принял из ее рук вытертую тарелку и осторожно положил на горку чистых, даже рукой погладил сверху в знак полного порядка. Вера Игнатьевна опустилась на табуретку у окна.
– Правды не нужно бояться, Вера Игнатьевна, и не обижайтесь. Дело ваше, понятно, и дочка – ваша, это все так. Но только и вы у нас работник дорогой. А мы видим. Вот, скажем, как вы одеваетесь. Присмотрелись. Вот это юбчонка, например…
Андрей Климович осторожно, двумя пальцами взял складочку ее юбки:
– …Одна у вас. Видно же. И на службе она работает, и на диспуте, и посуду ей приходится. А юбочка свое отслужила, по всему видать. Это и говорить нечего. От бедности, что ли? Так и муж – сколько, и вы – сколько, и дочкина стипендия все-таки, а детей у вас двое. Так? Двое. А самое кардинальное: барышня ваша щеголиха, куда тебе! Инженерши с ней не сравняются. Придет в клуб – фу, фу, фу! То у ней синее, то у ней черное, то еще какое. Да и не в этом дело, пускай себе ходит, мы и без того знаем, народ говорит. И посуду с какой стати!
– Андрей Климович! Я – мать – могу заботиться!
– Вот редкость какая – мать! Моя Елена Васильевна тоже мать, а посмотрите, как мои девчурки мотаются. И им ничего, молодые – успеют нагуляться. У моей Елены и руки не такие, а у вас все-таки, как говорится, – интеллигентная работа. Стыдно, прямо скажу. Вам жить да жить, вы еще молодец, и женщина красивая, а с какой стати, ну, с какой стати?
Вера Игнатьевна опустила глаза и по вековой женской привычке хотела пощипать юбку на колене, но вспомнила, как охаял юбку только что Андрей Климович, и еще вспомнила все места, где эта юбка заштопана и заплатана. Вера Игнатьевна приняла руку с колена и начала потихоньку обижаться на Андрея Климовича.
– Андрей Климович, каждый живет по-своему. Значит, мне так нравится.
Но Андрей Климович сверкнул на нее сердитым взглядом, даже его кучерявые усы зашевелились сердито:
– А нам не нравится.
– Кому?
– Нам, народу, не нравится. Почему такое: наш уважаемый библиотекарь, а одевается… недопустимо сказать. И мужу вашему не нравится.
– Мужу? А откуда вы знаете? Ведь вы же его и не видели.
– Во-первых, видел, а во-вторых, раз он муж, все одинаковы, возьмет да и то… народ знаете какой, за ними смотри да смотри.
Андрей Климович снисходительно улыбнулся и поднялся с табуретки.
– Одним словом, решили вас премировать отрезом на платье, шелк такой есть, какой-то буржуазный, черт его знает, называется – не выговоришь, это моя жинка умеет выговаривать, мужеский язык на это не способен. Но только и пошьем в нашем пошиве, это уж как хотите, чтобы по вашей мерке было. И пенензы у меня!
Он хлопнул себя по карману. Вера Игнатьевна подняла на него глаза, потом перевела их на недоконченные тарелки и тихо вздохнула. Что-то такое было в его словах справедливое, но оно насильственно обрывало какую-то нежную петельку в кружеве ее жизни, и это было страшновато. И не могла она никак примириться с враждебностью Андрея Климовича к Тамаре. В общем, все получалось какое-то странное. Но в то же время Андрей Климович любил книги, и он член фабзавкома, и от него исходила убедительная простая симпатия.
– Так как? – спросил бодро Андрей Климович, стоя у дверей.
Она собралась ответить, но в этот момент широко распахнулась дверь, и перед ними встало очаровательное видение: Тамара в разлетевшемся халатике, и чулки, и бантики, и туфли. Она презрительно пискнула и исчезла, дверь снова закрыта. Андрей Климович провел рукой по усам от носа в сторону:
– Да… Так как, Вера Игнатьевна?
– Ну, что же… если нужно… я вам очень благодарна.
Вечер это был не совсем обычный, хотя события протекали сравнительно нормально. Вера Игнатьевна покончила с посудой, убрала в кухне и начала готовить ужин. А тут пришел и Павлуша, оживленный, румяный и намокший. Он заглянул в кухню и сказал:
– Жрать хочется, ты знаешь, как крокодилу! А что на ужин? Каша с молоком? А если я не хочу с молоком? Нет, я хочу так, а молоко тоже так.
– Где ты измок?
– Я не измок, а это мы снегом обсыпались.
– Как это так: обсыпались? И белье мокрое?
– Нет, белье только в одном месте мокрое, вот здесь.
Вера Игнатьевна спешно занялась переодеванием сына. Кроме этого одного места, составляющего всю его спину, он промок и во многих других местах, а чулки нужно было выжимать. Вера Игнатьевна хотела, чтобы Павлуша залез под одеяло и согрелся, но этот план ему не понравился. Пока мать развешивала в кухне его одежду, он вырядился в отцовские ботинки и синий рабочий халатик Тамары. Прежде всякого другого дела он показался в этом наряде сестре и был вознагражден свыше меры. Тамара крикнула: – Отдай!
И бросилась отнимать халатик. Павлуша побежал по комнатам, сначала в столовую, потом в спальню. Перепрыгнув два раза через кровать отца, он снова очутился в столовой. Здесь Тамара поймала бы его, но он ловко подбрасывал на ее пути стулья и хохотал от удачи. Тамара кричала «отдай», налетала на стулья, швыряла их в сторону. Грохот этой игры испугал Веру Игнатьевну. Она выбежала из кухни. Преследуя брата, Тамара не заметила матери и сильно толкнула ее к шкафу. Падая на шкаф, Вера Игнатьевна больно ушибла руку, но не успела почувствовать боль, так как была ошеломлена звоном разбиваемого стекла: это она сама столкнула с буфета кувшин с водой. В этот момент Павлуша уже хохотал в руках Тамары и покорно стаскивал с себя синенький халатик. Тамара вырвала халатик из рук брата и розовой ручкой шлепнула его по плечу.
– Если ты посмеешь взять мой халатик, я тебя изобью.
– Ох, изобьешь! Какая ты сильная!
– А ну, попробуй! Ну, попробуй!
Тамара увидела мать, склонившуюся над останками кувшина, и закричала:
– Мама! Что это, в самом деле? Хватает, берет, таскает! Что это такое? Как пошить что-нибудь, так у нас три года разговаривают, туфель допроситься не могу, а как рвать и хватать, так ничего не говори! С какой стати такая жизнь… проклятая!
Последние слова Тамара выпалила с рыданием, с силой швырнула халатик на стол и отвернулась к буфету, но больше не рыдала, а стояла и молча смотрела на буфет. Обычно в такой позе она всегда казалась матери несчастной и обиженной и вызывала нестерпимую жалость. Но сейчас Вера Игнатьевна не оглянулась на нее – так была занята кропотливой работой собирания осколков кувшина. Тамара бросила вниз на мать быстрый внимательный взгляд и снова отвернулась к резьбе буфета. Мать ничего не сказала, молча понесла в кухню стекляшки. Тамара проводила ее пристальным, несколько удивленным взглядом, но, услышав ее шаги, снова приняла прежнее положение. Вера Игнатьевна возвратилась из кухни с тряпкой и, присев к разлитой воде, сказала тихо, серьезно:
– Ты растоптала воду… подвинься.
Тамара переступила лужицу и отошла к своему столику, но и от столика еще наблюдала за матерью.
События, собственно говоря, протекали нормально. Бывали и раньше такие веселые игры, бывало, что и разбивалось что-нибудь стеклянное. В таком же нормальном порядке мать поставила на стол ужин. Полураздетый Павлуша набросился на кашу. Он долго одной рукой размешивал в каше масло, а другой рукой держал на столе стакан с молоком – он очень любил молоко. Тамара каши никогда не ела, она любила мясо, и теперь ее ожидали на сковородке две подогретые котлеты. Но Тамара замерла у своего столика с чертежом и смотрела мимо матери и мимо ужина. Вера Игнатьевна глянула на дочь, и жалость царапнула ее материнское сердце.
– Тамара, садись кушать.
– Хорошо, – шепнула Тамара и тяжело повела плечами, как всегда делают люди, разбитые жизнью.
Жизнь протекала нормально. В одиннадцать часов пришел Иван Петрович. Давно было достигнуто соглашение о том, что Иван Петрович всегда приходит с работы, и поэтому за последние годы не было случая, чтобы возникал вопрос, откуда он пришел. Даже когда он возвращался в окружении паров Госспирта, Вера Игнатьевна больше беспокоилась о его здоровье, чем о нарушении служебной этики. Такое добросовестное соблюдение соглашения происходило потому, что Иван Петрович отличался замечательно ровным характером, справедливо вызывающим зависть многих домашних хозяек. Знакомые часто говорили Вере Игнатьевне:
– Какой у вас хороший муж! Редко можно встретить мужа с таким характером! Вам так повезло, Вера Игнатьевна!
Эти слова всегда производили на Веру Игнатьевну приятное впечатление обычно ей никто не завидовал в жизни, если не считать мелкого случая, когда ей кто-то сказал:
– Какой у вас замечательный примус! Редко можно достать такой примус!
Иван Петрович работал старшим экономистом, но в отличие от других старших экономистов, как известно, людей желчных и склонных к конъюнктурным анализам и к частым переменам службы, Иван Петрович имел характер спокойный, и к анализам склонности не имел, и сидел на одном месте лет пятнадцать, а может быть, и больше. Правда, о своей работе он никогда ничего жене не рассказывал, и то, что он где-то работает старшим экономистом, у Веры Игнатьевны вставало как воспоминание молодости.
На Иване Петровиче хорошего покроя костюм, лицо у него полное, чистое и маленькая прекрасно отбритая по краям бородка. О его костюмах Вера Игнатьевна заботится только тогда, когда они пошиты, а как они шьются, Вера Игнатьевна не знает, Иван Петрович заботится об этом без ее консультации. Ежемесячно он дает Вере Игнатьевне триста рублей.
Как всегда, придя домой, Иван Петрович присаживается к столу, а Вера Игнатьевна подает ему ужин. Пока она подаст, он подпирает бородку сложенными руками и покусывает суставы пальцев. Его глаза спокойно ходят по комнате. Перед ним появляются тарелки, он чуть-чуть приосанивается и закладывает за воротник угол салфетки. Без салфетки он никогда не ест, и вообще он человек очень аккуратный. Разговаривать он может только тогда, когда немного закусит.
И сегодня все проходило нормально. Иван Петрович съел котлеты и придвинул к себе компот. И спросил:
– Ну, Тамара, как твоя архитектура?
У своего столика Тамара пожала вежливо плечом. Вера Игнатьевна присела на стул у стены и сказала:
– Тамара очень обижается. Никак не купим ей коричневых туфель.
Иван Петрович отломил зубочистку от спичечной коробки и заходил ею в зубах, подталкивая ее языком и вкусно обсасывая. С трудом повел глазом на Тамару. Потом внимательно рассмотрел зубочистку и сказал:
– Туфли – серьезное дело. А что, не хватает денег?
– Для меня всегда не хватает, – грустно сказала Тамара.
Иван Петрович встал за столом, заложил руки в карманы брюк и о чем-то задумался, глядя в пустую тарелку. Стоя в таком положении и думая, он два-три раза поднял свое тело на носки и опустил, а потом начал насвистывать песенку герцога. Можно было предположить, что он думает о туфлях. Но вероятно, он ничего хорошего не придумал. Качнувшись последний раз, он медленно пошел в спальню, и песенка герцога стала доноситься уже оттуда. Тамара гневно повернулась на стуле и горячим взглядом ударила в дверь спальни. Вера Игнатьевна начала убирать со стола.
Так нормально прошел и этот вечер, один из вечеров жизни Веры Игнатьевны. Но в нем было и свое отличие от других вечером. С того момента, когда ушел Андрей Климович, в душе Веры Игнатьевны происходило неслышное движение.
И раньше за работой по хозяйству Вера Игнатьевна умела думать о разных интересных вещах. Обычно она вспоминала свою работу в библиотеке, представляла вновь полученные книги, разговоры читателей, отдельные свои советы и слова. Любила вспоминать удачные действия, остроумные выходы, душевные слова. Когда какое-нибудь теплое или значительное выражение проходило в ее памяти несколько раз подряд, она с внутренней улыбкой рассматривала его, прислушивалась к нежнейшим оттенкам и радовалась.
Сегодня, если бы не Андрей Климович, она думала бы о завтрашнем диспуте, вспоминала бы витрину и портрет любимого писателя, думала бы о его книгах в красивых, твердых, синевато-сизых переплетах. Книги его отличались молодым насмешливым характером, о них вспоминать было приятно.
Но сегодня обо всем этом не думалось. И готовя ужин, и подбирая осколки разбитого кувшина, и снова вытирая тарелки, когда уже все отправились спать, Вера Игнатьевна все думала о словах Андрея Климовича. Почему-то на первый план выступала только одна тема: убийственный отзыв Андрея Климовича о ее юбке. Было очень обидно узнать, что все ее труды и старания, все надежды пропали даром. Сколько вечером она истратила на починку юбки, и всегда, заканчивая работу, она была уверена, что цель победоносно достигнута, завтра она выйдет на работу в очень приличном виде, а временами ей украдкой казалось, что вид у нее не только приличный, а даже элегантный. И выходит, что все это было наоборот. «Народ говорит». Все видели и все посмеивались. А завтра? Завтра диспут.
Покончив с посудой и уборкой, Вера Игнатьевна освободила стол, сняла с себя юбку и разложила ее на столе. Юбка послушно расправила на столе свои старые морщины. Вера Игнатьевна присмотрелась к ней, и неожиданно ее глаза заполнились слезой; ей так жаль стало эту старушку. Юбка смотрела на нее с выражением печальной, уставшей дряхлости, видно было, что ей так нужно отдохнуть, полежать где-нибудь в теплом уголке комода, поспать вволю. Когда-то она была шелковой. Была очень хорошенькая, нежная, игривая. Сейчас шелковистость ткани можно было увидеть, только если очень пристально присмотреться, но эта шелковистость была седая. И в этой легкой дрожащей седине возле прошли морщинки и рубцы старых жизненных ран. Еще то, что было было заштопано давно, кое-как держалось, но последние рубцы представляли собой совершенно изможденные сеточки, сквозь которые просвечивала белая крышка стола.
Вера Игнатьевна включила утюг. Она осторожно, стараясь несильно надавливать, провела несколько раз горячим утюгом. В том месте, где он проходил, морщины разглаживались и прятались, и юбка смотрела со старческой грустной ласковостью.
Отгладив юбку, Вера Игнатьевна подняла ее в руках и осмотрела. Нет, теперь трудно было обмануться: и отглаженная, она не обещала никакой элегантности, но Вера Игнатьевна бодро улыбнулась: ничего, вместе жили, вместе и отвечать будем.
На душе у Веры Игнатьевны стало спокойнее и тише, а когда она села приводить в порядок свои туфли, в тишине кухонной комнаты ей показалось как-то по-особенному уютно и думалось уже не о юбке, не о завтрашнем выступлении на диспуте, а о себе.
По странному свойству своего характера, сейчас Вера Игнатьевна не чувствовала себя одинокой. Во-первых, на столе лежала отглаженная, успокоившая юбка, во-вторых, где-то далеко улыбались усы Андрея Климовича. На него она не обижалась. Что же? Надо подумать над его словами.
Вера Игнатьевна толстой иглой и вощаной ниткой пришивала отпоровшуюся подошву и размышляла улыбаясь. Улыбалась она потому, что чувствовала себя помолодевшей, и это было непривычно и немного смешно. Она представляла себя в новом шелковом платье, и это выходило тоже… странно и… тоже смешно. Сквозь туман своих домашних забот она видела, что новое платье это неизбежно, но дело в том, что это не только платье, а еще… дико и стыдно думать, в нем было что-то, похожее на молодость. Вера Игнатьевна даже головой встряхнула от удивления. Она осторожно подошла к тусклому зеркальцу над умывальником. Ее вдруг поразили действительно молодые, улыбающиеся глаза и полные, что-то шепчущие, веселые губы. Румянца в зеркальце не было видно, но Вера Игнатьевна чувствовала, как он теплой краской разливался на щеках. Она нечаянно вспомнила об Иване Петровиче, отошла от зеркала, снова уселась на табурете, но ее рука с толстой иглой не возобновила работы. Она ясно увидела: какая же она жена? Для этого чисто одетого, чисто выбритого, уверенного мужчина разве она могла быть женой? Она давно уже не была ею, и не могла быть. Иван Петрович не видел ее белья, ее чулок, он многого не видел.
Вера Игнатьевна спохватилась. Ее пальцы со спешным усилием заработали над туфлей. Наморщив лоб, Вера Игнатьевна торопилась окончить работу и идти спать, чтобы ни о чем больше не думать.
Диспут прошел очень интересно. Читатели говорили искренне и взволнованно, сходя с трибуны, пожимали руку писателю и благодарили. Вера Игнатьевна ревнивым взглядом встречала каждого выступающего и провожала, успокоенная и радостная. И молодые и старики умели не только говорить, они умели и чувствовать, в этом было большое торжество, и Вера Игнатьевна знала, что это торжество широкое, народное. И впереди себя и за своей спиной она ощущала новую восхитительную страну, которая умеет говорить и чувствовать.
Андрей Климович тоже взял слово и сказал коротко:
– Книги товарища я прочитал, прямо скажу, с опасностью для жизни: две ночи не спал. До чего там народ изображен хороший! Боевой народ, понимаете, молодой народ, веселый. Даже пускай там что угодно, а он своему делу преданный народ! Ну что же? Ночью читаешь, а днем посмотришь, и в самом деле такой народ! Верно показано. Да я и сам такой…
Публика громко рассмеялась. Андрей Климович сообразил, что слишком увлекся, и смущенно разгладил усы от носа в сторону. А потом и поправил дело:
– Культуры, конечно, нужно больше, это верно, и у вас это правильно подмечено. Так для культуры и стараемся. Вот библиотека у нас какая, клуб прямо мировой, писатели приезжают, ученые. И спасибо Советской власти, таких товарищей ставит на работу, как Вера Игнатьевна Коробова.
В зале горячим взрывом взлетели аплодисменты. Вера Игнатьевна оглянулась на писателя, но и писатель уже стоял за столом, улыбался, смотрел на нее и хлопал. В зале многие встали, все смотрели на Веру Игнатьевну, шум аплодисментов подымался все выше и выше. Вера Игнатьевна в полном испуге двинулась было к дверям, но писатель мягко перехватил ее за талию и осторожно подвинул к столу. Она опустилась на стул и неожиданно для себя положила голову на спинку стула и заплакала. Все сразу стихло, но Андрей Климович с дурашливым отчаянием махнул рукой, и все засмеялись добродушно и любовно. Вера Игнатьевна подняла голову, быстро привела в порядок свои глаза и тоже рассмеялась. В зале прошла волна говора. Андрей Климович взял в руки бумажку и прочитал, что парторганизация, фабзавком и заводоуправление постановили за энергичную и преданную работу премировать заведующую библиотекой Веру Игнатьевну Коробову отрезом крепдешина. Последнее слово Андрей Климович произнес не вполне уверенно и даже кивал головой в знак трудности, но все равно это слово смешалось с новыми аплодисментами. Из портфеля Андрей Климович вынул легкий сверток, перевязанный голубой ленточкой, переложил его в левую руку, а правую протянул для пожатия. Вера Игнатьевна хотела взять сверток, но заметила, что это будет неправильно. Андрей Климович поймал ее руку и крепко пожал, люди в зале аплодировали и смеялись радостно. Вера Игнатьевна густо покраснела и глянула на Андрея Климовича с искренним и сердитым укором. Но Андрей Климович высокомерно улыбался и терпеливо проделывал все необходимые церемонии. Наконец, крепдешин, завернутый в белую бумагу и перевязанный голубой ленточкой, улегся на столе перед ней. В этот момент она вспомнила о своей старенькой юбке и поспешила поджать ноги под стул, чтобы туфли ее не были видны из зала.
Все это еще не так скоро окончилось. Взял слово писатель и сказал хорошую речь. Благодарил фабзавком за то, что он воспользовался этим диспутом и отметил работу такого замечательного человека, как Вера Игнатьевна Коробова. В писательской среде многие знают Веру Игнатьевну. Мало написать книгу, надо эту книгу организовать в глубоком общении с читателем, и так делается великое дело политического, культурного и нравственного просвещения. Вокруг таких людей, как Вера Игнатьевна, растет и ширится новая, социалистическая культура. Сегодняшнее собрание – это не меньшее достижение, чем постройка нового завода, чем повышение урожайности, чем дорожное строительство. И таких собраний, таких проявлений молодой и глубокой социалистической культуры много в нашем Союзе. Мы все должны гордиться этим и гордиться такими людьми, как Вера Игнатьевна. В то время, когда в фашистских государствах книги сжигают на кострах, преследуют и изгоняют лучших представителей человеческого гуманизма, в нашей стране к книге относятся с любовью и благодарностью и чествуют таких творческих работников книги, как Вера Игнатьевна. От имени писательской общественности он благодарит ее за большую работу и желает ей силы и здоровья, чтобы она могла еще долго работать над воспитанием советского читателя…
Вера Игнатьевна внимательно слушала речь писателя и с удивлением видела, что она и в самом деле совершает великое дело, что ее любовь к книге – это вовсе не секретное личное чувство, это действительно большое, полезное и важное явление. Вплотную к ней придвинулось не замечаемое ею до сих пор ее общественное значение. Она напряженно присматривалась к этой идее и вдруг увидела ее всю целиком, увидела десятки тысяч книг, прочитанных людьми, увидела и самых людей, еще так недавно наивных и несмелых, теряющихся перед шеренгами корешков и линией имен и просящих: «Дайте что-нибудь о разбойниках» или «Что-нибудь такое… о жизни». Потом они стали просить про войну, про революцию, про Ленина. А сейчас они ничего уже не просят, а записываются тридцать пятым или пятьдесят пятым в очередь на определенную книгу и ругаются:
– Что это такое! В такой библиотеке только пять экземпляров! Что это такое!?
Вера Игнатьевна удивлялась: да ведь все это она и раньше знала. Под ее руководством работает восемь библиотекарей, и они все это знали и часто в вечерние часы говорили о книге, о читателе, о методе. Знает она работу и других библиотек, была на многих конференциях, читала критические и библиографические статьи и журналы. Все знала, везде участвовала и все-таки не почувствовала вот такой большой гордости, как сегодня, такого торжества.
И как будто на ее вопрос отвечал писатель:
– Такие люди, как Вера Игнатьевна, страшно скромны, они никогда не думают о себе, они думают о своей работе, они слишком поглощены ее сегодняшним звучанием. Но мы с вами думаем о них, мы с горячей пронзительностью пожимаем им руки, и прекрасно сделала организация вашего завода, что премировала Веру Игнатьевну дорогим платьем. И мы ей говорим: нет, и о себе думайте, живите счастливо, одевайтесь красиво, вы заслужили это, потому что и революция наша для того сделана, чтобы настоящему труженику жилось хорошо.
Этот исключительный день до конца был исключительным. После собрания в библиотеке был организован банкет для работников библиотеки и актива читателей. На столах было вино, бутерброды, пирожное. Молодые сотрудники усадили Веру Игнатьевну рядом с писателем, и до вечера они вспоминали свои победы, затруднения, сомнения, говорили о своих общих друзьях: читателях, книгах и писателях.
А когда расходились, Андрей Климович осторожно вынул у Веры Игнатьевны из-под мышки перевязанный голубой ленточкой сверток и сказал:
– Домой это вам не нужно нести. Мы здесь его в ящичек запрем, а завтра, благословясь, и в инпошив.
Даже писатель расхохотался на эти слова. Вера Игнатьевна покорно отдала сверток.
Придя домой, Вера Игнатьевна принялась за обычную работу. Павлуша снова отправился кататься на коньках, и после него остались такие же следы в передней. Тамара, видимо, с утра ходила непричесанная, на ее столе лежал все тот же чертеж, в нем за сутки не произошло никаких изменений, если не считать одного львиного хвоста, который сейчас был наведен тушью. С матерью Тамара не разговаривала: так всегда начиналась правильная осада после стремительного, но неудачного штурма.
Раньше в представлении Веры Игнатьевны эта стратегия выражала не только обиду дочери, но и ее собственную вину, а сегодня почему-то никакой своей вины Вера Игнатьевна не чувствовала. И сегодня очень тяжело было видеть, как Тамара страдает, очень больно было смотреть на ее хорошенькое грустное личико, очень жаль было, что в этой молодой, милой жизни исковерканным оказывается сегодняшний день, но было уже ясно, что виновата в этом не Вера Игнатьевна. Мысль переходила к Ивану Петровичу. Очень возможно, что виноват именно он. Вчерашняя песенка герцога все-таки припоминалась. Иван Петрович должен был хоть немного заинтересоваться туфлями Тамары. И… триста рублей в месяц – мало. Сколько он получает жалованья? Раньше он получал, кажется, семьсот рублей, но это было очень давно…
Думая об этих делах, Вера Игнатьевна все же находилась под впечатлением сегодняшнего своего торжества, и поэтому думалось как-то лучше и смелее. Она не могла уже забыть и волну любовного внимания людей и широкую картину большой ее работы, нарисованную писателем. И свой дом показался ей сейчас бедным и опустошенным.
Но домашние дела никто не отстранил, они и сегодня протекали нормально, в них была та же привычная техника и привычные пути заботы и мысли, и привычные, десятилетиями воспитанные эмоции. И снова Вера Игнатьевна подавала ужин Павлуше и Тамаре. Тамара с такой печалью смотрела на котлету, ее вилка с такой трогательной слабостью подбирала крошки пищи на тарелке, ее нежные губы с таким бессилием брали с вилки эти крошки, что Вера Игнатьевна не могла быть спокойна. Начало саднить в груди, и вдруг вспомнился сверток, перевязанный ленточкой. Простой и жадный эгоизм стоял за этим свертком. В то время, когда эта красивая девушка не может даже надеть свое любимое платье, Вера Игнатьевна в тайне держит где-то свой дорогой крепдешин. А потом она сошьет платье и будет щеголять в нем, как какая-нибудь актриса, а кто поможет этой девушке? Уже в воображении Веры Игнатьевны возникла дверь комиссионного магазина, вот она входит в магазин и предлагает… но… ей нечего предложить, сверток остался у Андрея Климовича. Быстро-быстро шмыгнуло в уме, что сверток можно взять, но так же быстро Андрей Климович улыбнулся кудрявым усом, и комиссионный магазин исчез. И в груди стало саднить еще больше, и до самого прихода Ивана Петровича Вере Игнатьевне было не по себе.
Когда Иван Петрович приступил к ужину, Вера Игнатьевна, сидя на стуле у стены, сказала:
– Сегодня у нас был диспут, а после диспута, представьте, меня премировали.
Тамара широко открыла глаза и забыла о своих страданиях. Иван Петрович спросил:
– Премировали? Интересно! Много дали?
– Отрез на платье.
Иван Петрович поставил по сторонам тарелки кулаки, вооруженные ножом и вилкой, и сказал, деловито и вкусно пережевывая мясо, постукивая черенком ножа по столу:
– Старомодная премия!
Тамара подошла к столу, полулегла на него, приблизила к матери живой, заинтересованный взгляд:
– Ты уже получила?
– Нет… он там… там, в инпошиве.
– Так она уже есть? Материя уже есть?
Вера Игнатьевна кивнула головой и застенчиво посмотрела на дочь.
– А какая материя?
– Крепдешин.
– Крепдешин. А какого цвета?
– Я не видела… не знаю.
Головка Тамары со всеми принадлежностями: хорошенькими глазками, розовыми губками, милым, остреньким, широким у основания носиком – удобно расположилась на ладошках. Тамара внимательно рассматривала мать, как будто соображала, что получится, если мать нарядить в крепдешин. Ее глаза подольше остановились на колене матери, спустились вниз, к туфлям, снова поднялись к плечам.
– Будешь шить? – спросила Тамара, не приостанавливая исследования.
Вера Игнатьевна еще больше застыдилась и сказала тихо, с трудом:
– Да… думаю… моя юбка старенькая уж…
Тамара скользнула по матери последним взглядом, выпрямилась, заложила руки назад, посмотрела на лампочку.
– Интересно, какой цвет?
Иван Петрович придвинул к себе тарелку с сырниками и сказал:
– У нас давно не премируют вещами. Деньги во всех отношениях удобнее.
Полным голосом новое платье заговорило только на другой день. В обеденный перерыв в библиотеку пришел Андрей Климович и сказал:
– Ну, идем наряжаться.
Веселая, черноглазая Маруся набросилась на него с высоты верхней ступеньки лестнички:
– А вы чего пришли? Думаете, без вас не управимся?
– А я нарочно пришел. Идем с Верой Игнатьевной в инпошив.
Вера Игнатьевна выглянула из своей комнатки.
Андрей Климович показал головой на дверь.
– Да куда вы пойдете? Кто вас пустит? Это дамский инпошив. Без вас обойдемся.
Маруся спрыгнула с лестнички.
– Вам нельзя туда.
– Маруся, вот я вам два слова по секрету скажу. Вот идем сюда.
Они отошли к окну. Там Андрей Климович шептал, а Маруся смеялась и кричала:
– Ну да! А как же? Конечно! Да какой же это секрет?! Знаем без вас, давно знаем! Будьте спокойны! Не-ет! Нет, все понимаем.
Они возвратились от окна довольные друг другом, и Маруся сказала:
– Давайте сюда эту самую премию.
Андрей Климович отправился в самый дальний угол библиотеки. Его вторая сообщница, такая же веселая, только беленькая, Наташа, развевая полами халатика, бросилась за ним с криком:
– Под десятью замками! Сами не откроете!
Они возвратились оттуда с знаменитым свертком. Вера Игнатьевна за своим столом работала, обложившись счетами. Наташа внимательным, любовным движением отняла у нее перо и положила его на чернильницу, отодвинула в сторону счета и с милой девичьей торжественностью положила перед Верой Игнатьевной перевязанный ленточкой сверток. Двумя пальчиками она потянула кончики узелка, и через секунду голубая ленточка уже украшала ее плечи. И вот из конверта белой блестящей бумаги первым лучом сверкнул радостный, праздничный шелк.
– Вишневый! – закричала Наташа и молитвенно сложила руки. – Какая прелесть!
– Ну, что вы, вишневый! – смутилась Вера Игнатьевна. – Разве это можно?
Но Наташины руки уже подхватили благодарные волны материи и набросили их на грудь и плечи Веры Игнатьевны. Она с судорожным протестом уцепилась за Наташины пальцы и покраснела до самых корней волос.
Маруся пищала:
– Какая красота! Как вам идет! Какая вы прелесть! У вас такой цвет лица! Как это замечательно выбрано: вишневый крепдешин!
Девушки обступили Веру Игнатьевну и с искренним восторгом любовались и глубокой темно-красной волной шелка, и смущением Веры Игнатьевны, и своей дружеской радостью. Маруся тормошила за плечи Андрея Климовича:
– Это вы выбирали? Сами?
– Сам.
– Один?
– Один.
– И выбрали вишневый?
– Выбрал.
– Врете! Не может быть! Жену с собой водили.
– Зачем мне жена? Если я сам с малых лет, можно сказать, в этих шелках… можно сказать… купался… и вообще вырос.
– В каких щелках? Где это вы так выросли?
– А вот в этих самых креп… креп… кремдюшинах! Как же!
Андрей Климович разгладил усы и серьезно приосанился.
Маруся смотрела на него недоверчиво:
– Вы такой были… аристократ?
– А как же! Моя мать, бывало, как развесит одежду сушить… после стирки, прямо картина: шелка тебе кругом разные – вишневые, яблочные, абрикосовые!
– А-а! – закричала Маруся. – Сушить! Разве шелковую материю стирают?
– А разве не стирают?
– Не стирают!
– Ну в таком случае беру свои слова назад.
Девушки пищали и смеялись, снова прикидывали материю на плечи Веры Игнатьевны, потом на свои плечи и даже на плечи Андрея Климовича. Он держал прежнюю линию:
– Мне что? Я привычный!
В заводском инпошиве продолжались такие же торжества. Вокруг вопроса о фасонах разыгралась такая борьба, что Андрей Климович повертел головой, махнул рукой и ушел и только на крыльце сказал:
– Ну и народ же суматошный!
Вера Игнатьевна настаивала на самом простом фасоне:
– Это не годится для старухи.
У Наташи от таких слов захватило дыхание, и она снова тащила Веру Игнатьевну к зеркалу:
– Ну, пускай, пускай гладко! А все-таки здесь нужно немного выпустить.
Седой бывалый мастер кивал головой и подтверждал:
– Да, это будет лучше, это будет пышнее.
Вера Игнатьевна чувствовала себя так, как будто ее привели сюда играть с малыми детьми. Даже в далекой своей молодости она не помнила такого ажиотажа с шитьем платья, тем более сейчас ей казались неуместными все эти страсти. Но девиц остановить было невозможно. Разогнавшись на фасонах, они перешли к прическе и предлагали самые радикальные реформы в этой области. Потом пошли темы чулок, туфель, комбинаций. Наконец, Вера Игнатьевна прогнала их в библиотеку, воспользовавшись окончанием обеденного перерыва.
Наедине с мастером она твердо остановилась на простом фасоне, а мастер охотно подтвердил его наибольшую уместность. Сговорившись о сроке, она ушла на работу. По дороге с некоторым удивлением заметила в себе серьезную решимость сшить и носить красивое платье. Вместе с этим решительно возникал новой образ ее самой. Это была какая-то новая Вера Игнатьевна. В инпошиве в зеркале она увидела новую свою фигуру, украшенную вишневом, и новое лицо, им освещенное. Ее приятно поразило, что в этом новом не было ничего кричащего, ничего легкомысленно-кокетливого, ничего смешного. В темно-красных складках ее лицо действительно казалось более красивым, молодым и счастливым, но в то же время в нем было много достоинства и какой-то большой правды.
Подходя к дверям библиотеки, Вера Игнатьевна вспомнила речь писателя. Она глянула вниз на свои туфли. Не могло быть сомнений в том, что эта рвань может оскорблять не только ее, но и то дело, которому она служит.
Вера Игнатьевна возвращалась домой в состоянии непривычного покоя. Как и раньше, стоя в трамвае, она с любовью представляла себе лица Павлуши и Тамары, так же, как и раньше, любовалась ими, но теперь о них больше хотелось думать, и думалось без тревожной, мелочной заботы, они выступали в ее воображении скорее как интересные люди, чем как опекаемые.
Дома она застала тот же неубранный стол. Она бросила на него привычный взгляд, но привычное стремление немедленно приняться за уборку не возникало в ней так неоспоримо, как раньше. Она села в кресло у стола Тамары и почувствовала, как это приятно. Ей почти не приходилось отдыхать в этом кресле. Она откинула голову на спинку и погрузилась в пассивный легкий полусон, когда мысли не спят, но пробегают без дирижера свободной легкой толпой. Из спальни вышла Тамара.
– Ты и сегодня не была в институте? – спросила Вера Игнатьевна.
Тамара подвинулась к окну и сказала печально, глядя на улицу.
– Нет.
– Почему ты не ходишь в институт?
– Мне в чем ходить в институт,
– Тамарочка, но что же делать?
– Ты знаешь, что надо делать.
– Ты все о туфлях?
– О туфлях.
Тамара повернулась к матери и заговорила быстро и громко.
– Ты хочешь, чтобы я ходила в розовых туфлях и в коричневом платье? Ты хочешь, чтобы я смешила людей. Да? Ты этого хочешь? Так и говори прямо.
– Тамарочка, но ведь у тебя есть и другие платья. И есть черные туфельки. Они, конечно, старые, но целые. И неужели все ваши студенты так строго наблюдают цвета?
– Черные? Черные туфли?
Тамара бросилась к серому шкафчику и возвратилась оттуда с черной туфелькой в руках. Она возмущенно протянула ее к лицу матери:
– В этом ходить? Это, по-твоему, обувь? А может, по-твоему, это не заплата? А здесь, по-твоему, не зашито?
– Да ты посмотри, в каких я хожу! Тамарочка!
Вера Игнатьевна произнесла это несмело, с самым дружеским оттенком доверия. Она хотела по возможности смягчить упрек. Но Тамара никакого упрека не заметила, она обратила внимание только на нелогичность сравнения:
– Ну, что ты говоришь, мама? Что же, я должна одеваться так, как ты? Ты свое отжила, а я молодая, я хочу жить!
– Я была молодая, я гораздо больше тебя нуждалась. Я часто и спать ложилась голодная.
– Ну! Пошла! Почем я знаю, что там у вас было и почему вы голодали? То было при царизме, какое мне дело! А теперь совсем другие! И родители теперь должны для детей жить, это все знают, только у нас почему-то не знают. А когда я буду старая, так я не буду жалеть для дочери!
Тамара стояла, опершись на стол, говорила по-прежнему быстро, размахивала туфелькой, но не видала ни ее, ни матери. В ее глазах и в ее голосе начинали кипеть слезы. Она остановилась, чтобы передохнуть, и в это время Вера Игнатьевна успела сказать:
– Неужели уж я такая старая, что все должна отдавать тебе, а сама ходить в этих опорках?
– А я разве заставляю тебя ходить в опорках? Ходи, в чем хочешь, а меня не выставляй на посмешище! Небось, как себе, так шьешь новое платье! Шьешь. Себе так все можно, а мне так нельзя? Ты же шьешь себе шелковое платье?
– Шью.
– Вот видишь? Я так и знала! Сама ты можешь наряжаться. Перед кем тебе наряжаться? Перед кем? Перед отцом, да?
– Тамара! У тебя же есть платье!
– А ты не могла продать? Можно коричневое продать. А у тебя какого цвета эта… премия? Какого?
– Вишневого.
– Ну, вот видишь: вишневого! А я сколько просила вишневое! Я сколько просила, а ты все забыла, все забыла.
Тамарочка уже не удерживала слез, ее лицо было мокрое.
– Чего же ты хочешь?
– Хочу! А что ты думаешь? Родила, а теперь ходи как попало? А сама ты наряжаешься, стыдно тебе молодиться на старости лет, стыдно!
Все это Тамара проговорила уже в истерике. Она еще раз крикнула «стыдно!» и бросилась в спальню. Оттуда по всем комнатам разнеслись ее рыдания, приглушенные подушкой. Вера Игнатьевна замерла в кресле. На нее надвинулась черная туча тоски, может быть, ей действительно стало стыдно. В двери постучали. Пошатываясь среди черной тучи, прислушиваясь к рыданиям Тамары, она направилась к двери.
Перед ней стоял Андрей Климович. Войдя в дверь, он повернул голову на звуки рыданий, но немедленно улыбнулся:
– Я вот решил занести по дороге. Это талоны на бесплатный пошив.
Вера Игнатьевна сказала машинально:
– Заходите.
Андрей Климович на этот раз не выразил желания разговаривать в кухне, охотно прошел в столовую. Вера Игнатьевна поспешила к спальне, чтобы закрыть дверь, но не успела. К двери подбежала Тамара, размахнулась чем-то большим темным и швырнула его к ногам матери. Легкие черные волны развернулись в воздухе и улеглись на полу. Тамара только одно мгновение наблюдала этот полет, потом метнулась в спальню, и к ногам Веры Игнатьевны полетело коричневое. Тамара крикнула:
– Пожалуйста! Можешь носить! Наряжайся! Мне не нужно твоих нарядов.
Тамара увидела Андрея Климовича, но ей уже было все равно. В гневе она хлопнула дверью и скрылась в спальне.
Вера Игнатьевна стояла над распростертыми нарядами и молчала. Она даже не размышляла. Она не была оскорблена, ей не стыдно было гостя. Человеческий гнев всегда замораживал ее.
Андрей Климович положил на стол какие-то бумажки, потом быстро наклонился, поднял оба платья и поместил их на боковине кресла. Сделал все это по-хозяйски и даже поправил завернувшийся рукав. Потом он стал против Веры Игнатьевны в позе наблюдателя, заложил руки за спину и сказал:
– Вы что это? Испугались этого г…?
Сказал громко, в явном расчете, что и в спальне услышат. В спальне действительно стало так тихо, как будто там лег покойник.
Вера Игнатьевна вздрогнула от грубого слова, схватилась за спинку стула и вдруг… улыбнулась:
– Андрей Климович? Что вы говорите?
Андрей Климович стоял в той же позе, смотрел на Веру Игнатьевну строго, и губы его побледнели:
– Это я только говорю, Вера Игнатьевна, а разговоров тут мало. Мы вас, это верно, уважаем, но и такого дела простить нельзя. Кого это вы здесь высиживаете? Кого? Врагов разводите, Вера Игнатьевна?
– Каких врагов? Андрей Климович?!
– Да кому такие люди нужны, вы сообразите! Вы думаете, только вам неприятности, семейное дело? Вот она пообедала, а посуда стоит, а она, дрянь такая, вместо того, чтобы после себя убрать, чем занимается? Барахлишко вам в лицо кидает? А вы его заработали своим честным трудом! К вам у нее такое чувство, а к Советской власти какое? А она же и комсомолка, наверное. Комсомолка?
– Комсомолка! Ну, так что?
Андрей Климович оглянулся. В дверях стояла Тамара, смотрела на Андрея Климовича презрительно и покачивала головой.
– Комсомолка? А вот интересно, я посмотрел бы, как ты посуду помоешь, тряпичная твоя душа!
Тамара на посуду не глянула. Она не могла оторвать от Андрея Климовича ненавидящего взгляда.
– Ты обедала? – кивнул он на стол.
– Это не ваше дело, – сказала Тамара гордо. – А какое вы имеете право ругаться?
– Комсомолка! Ха! Я в восемнадцатом году комсомольцем был и таких барынь, как ты, видел.
– Не ругайтесь, я вам говорю! Барынь! Может быть, я больше всего работаю.
Тамара повернулась к гостю плечом. Какую-нибудь секунду они смотрели друг на друга сердитыми глазами. Но Андрей Климович вдруг обмяк, развел руками и сощурил ехидные глазки:
– Добром тебя прошу, сделай для меня, старого партизана, удовольствие: помой!
В лице Тамары зародилась улыбка и сразу же приняла презрительное выражение. Она бросила мгновенный взгляд на притихшую мать, такой же взгляд на платья, лежавшие в кресле.
– А? Давай вместе. Ты будешь мыть, а я примус налажу. Ты же все равно не сумеешь.
Тамара быстро подошла к столу и начала собирать тарелки. Лицо у нее было каменное. Даже глаза прикрыла, чуть-чуть вздрагивали красивые, темные ресницы.
Андрей Климович даже рот приоткрыл:
– Вот молодец!
– Не ваше дело, – хрипло прошептала Тамара.
– неужели помоешь?
Она сказала так же тихо, как будто про себя, проходя в спальню:
– Халат надену.
Она скрылась в спальне. Вера Игнатьевна смотрела на гостя во все глаза и не узнавала. Куда девался Андрей Климович, любитель книги, человек с кудрявыми усами и нежной улыбкой. Посреди комнаты стоял коренастый, грубовато-занозистый и властный человек, стоял фрезеровщик Сам-Стоянов. Он по-медвежьи и в то же время хитро оглядывался на спальню и крякал по-стариковски:
– Ах ты, чертово зелье! Не ругайтесь! Вот я тебя возьму в работу!
Он начал засучивать рукава. Тамара быстро вышла из спальни в спецовке, глянула на Стоянова вызывающе:
– Вы думаете, только вы умеете все делать? Тоже: рабочий класс! Воображаете! Вы сами не умеете мыть посуду, дома жена моет, а вы тоже барином.
– Ну, не разговаривай, бери тарелки.
Вера Игнатьевна опомнилась и бросилась к столу:
– Зачем это? Товарищи!
Стоянов взял ее за руку и усадил в кресло. Вера Игнатьевна почувствовала особое почтение к его открытым волосатым рукам.
Тамара быстро и ловко собрала тарелки, миски, ножи, вилки и ложки. Стоянов серьезно наблюдал за нею. Она ушла в кухню, и он зашагал за нею, размахивая волосатыми руками и с такой экспрессией, как будто они собирались не посуду мыть, а горы ворочать.
Вера Игнатьевна осталась в кресле. Ее пальцы ощутили на боковинке прохладную ткань шелка, но она уже не могла думать ни о каких нарядах. Перед ее глазами стоял Стоянов. Она завидовала ему. Это оттуда, из фрезерного цеха, приносят люди железную хватку и простую мудрость. Там идет настоящая работа, и там люди другие. Перед ней как будто открылся уголок большого занавеса, и она увидела за ним горячую область настоящей борьбы, по сравнению с которой ее библиотечная работа показалась ей маленькой и несерьезной.
Вера Игнатьевна поднялась и не спеша побрела в кухню. Она остановилась в передней. В неширокую щель приоткрытой двери она увидела одного Стоянова. Он сидел на табурете, широко расставив ноги, разложив на коленях волосатые руки, и со сдержанной хитроватой улыбкой наблюдал. Сейчас его усы не кучерявятся над нежной улыбкой, а нависли торчком, и вид у них такой, как будто они и не усы вовсе, а придирчиво-острое оружие.
Он говорил:
– На тебя вот за работой и посмотреть приятно. Совсем другая девка. А платья швырять, на кого похожа? Ведьма, форменная ведьма! Думаешь, красиво!
Тамара молчала. Слышно было, как постукивали тарелки в тазу.
– Гоняешься за красотой, душа из тебя вон, а выходит у тебя некрасиво, просто плюнуть жалко. Для чего это тебе такие моды-фасоны разные? И черное! И коричневое! И желтое! Да ты ж и так красива, и так на чью-нибудь голову горе с тобой и готовится!
– А может, и не горе! А может, кому-нибудь счастье!
Тамара сказала это без злости, доверчиво-весело, очевидно, разговор со Стояновым не обижал ее.
– Какое от тебя счастье может быть, сообрази, – сказал Стоянов и пожал плечом, – какое счастье? Коли ты жадная, злая, глупая!
– Не ругайтесь, я вам говорю!
– И такая ты неблагодарная, тварь, сказать стыдно! Мать у тебя… Мать твою весь завод почитает. Работа у нее трудная… На что уже я рабочий человек… Да как же ты моешь? А с обратной стороны кто будет мыть? Пепка?
– Ах, – сказала Тамара.
– Ахать вот ты умеешь, а матери не видишь. Тысячи книг, каждую знай, каждому расскажи, каждому по вкусу подбери и по надобности в то же время, разве не каторга? А домой пришла – прислуга! Кому прислуживать? Тебе? За что, скажи на милость, для чего? Чтобы та такой ведьмой выросла еще кому на голову? Да на твоем месте мать на руках носить нужно. Последнее отдать, туда-сюда мотнуться, принести, отнести, ты ж молодая, собаки б тебя ели. Вот приди ко мне, посмотри – не хуже тебя девки – с косами, и образованные тоже, одна историком будет, другая доктором.
– А что ж, и приду.
– И приди, и полезно. Душа у тебя хорошая, забаловали только. Разве мои могут допустить, чтобы мать у них за прислугу ходила? Мать у них во! Королева! А посуду все-таки не умеешь мыть. Что ж это… повозила, повозила, а жир весь остался.
– Где остался?
– А это что? Придавить нужно.
Стоянов поднялся с табуретки, его стало не видно. Потом Тамара тихо сказала:
– Спасибо.
– Вот, правильно, – произнес Стоянов, – надо говорить «спасибо». Благодарность – вещь самая нужная.
Вера Игнатьевна на цыпочках удалилась в столовую. Она взяла с кресла платья Тамары и спрятала их в шкаф. Потом смела крошки с обеденного стола и начала подметать комнату.
Стало как-то неловко ощущать, что за спиной чужой человек воспитывает ее дочь. Возникла потребность в объяснении, почему Тамара внимательно слушает его, не дерзит, не обижается, почему воспитание протекает так легко и удачно?
Тамара принесла из кухни посуду и начала размещать ее на полках в буфете. Стоянов стал у дверей. Когда она закрыла дверцы шкафа, он протянул руку:
– До свиданья, товарищ.
Тамара хлопнула его по руке своей розовой ручкой:
– Сейчас же просите прощения! За все слова просите прощения, сколько слов наговорили: барыня, ведьма, тварь, дрянь и еще хуже. Разве так можно общаться с девушкой. А еще рабочий класс! Просите прощения!
Андрей Климович показал свою нежную улыбку:
– Извините, товарищ. Это в последний раз. Больше такого не будет. Это я согласен: в рабочем классе должно быть вежливое обращение.
Тамара улыбнулась, вдруг схватила Стоянова за шею и чмокнула в щеку. Потом бросилась к матери, проделала с нею такую же операцию и убежала в спальню.
Стоянов стоял у дверей и с деловым видом разглаживал усы:
– Хорошая у вас дочка, душевная! Но только и баловать нельзя.
После этого вечера настали в жизни Веры Игнатьевны по-новому наполненные дни. Тамара всю свою горячую энергию бросила в домашнюю заботу. Вера Игнатьевна, возвращаясь домой, находила полный порядок. Вечером она пыталась что-нибудь делать, но Тамара в своей спецовке вихрем носилась по квартире, и за нею трудно было успеть. Она грубовато выхватывала из рук матери разные деловые предметы, брала мать за плечи и вежливо выталкивала в столовую или в спальню. Павлуша был подвергнут настоящему террору, сначала протестовал, а потом и протестовать перестал, старался скрыться на улицу к товарищам. Через несколько дней Тамара объявила, что она будет делать генеральную уборку в квартире и пусть мать в этот день задержится в библиотеке, а то она помешает. Вера Игнатьевна ничего на это не сказала, но по дороге на работу задумалась.
Ее радовала перемена в дочери. Она почувствовала, кажется, впервые в жизни, все благо отдыхать, она даже поправилась и пополнела за эти дни, но в то же время что-то продолжало ее беспокоить, в душе нарастала тревога, которой раньше у нее никогда не было. То ей казалось, что нельзя и даже преступно загружать девушку такой массой черной и неблагодарной домашней возни. Руки у Тамары за эти дни подурнели. Мать обратила внимание на то, что и в учебе Тамара прибавила работы. Чудесные львы с букетными хвостами были кончены и исчезли со стола, вместо них разлегся на половину обеденного стола огромный лист, на котором Тамара возводила целые леса пунктиров, спиралей, кругов и который назывался «коринфским» ордером. Обо всем этом соображала Вера Игнатьевна и все-таки чувствовала, что это «не то». Роились мысли и в другом направлении. Не подлежало уже сомнению, что возврата к прежнему быть не может. Та Тамара, которая с простодушной жадностью потребляла жизнь матери, которая швыряла ей в лицо шелковые тряпки, эта Тамара не может быть восстановлена. Вера Игнатьевна теперь прекрасно понимала величину той бездумной ошибки, которая совершалась в течение всей ее жизни. Резкое слово Андрея Климовича, сказавшего, что она высиживает врага, Вера Игнатьевна принимала как серьезное и справедливое обвинение. И вот на это обвинение она ничем, собственно говоря, не ответила. Ей по-прежнему становилось не по себе, когда она вспоминала, как бездеятельно и пассивно она позволила постороннему человеку расправляться с ее дочерью, а она сама в это время трусливо подслушивала в передней, а потом на цыпочках убежала от них. А кто будет дальше воспитывать ее дочь, кто будет воспитывать Павлушу, неужели и дальше придется призывать на помощь Андрея Климовича?
Все это пристально разбирала Вера Игнатьевна, во всем находила много нужного и правильного и все-таки чувствовала, что и это не главное, «не то». Было еще что-то, чего она никак не могла поймать, и оно как раз и вызывало неясную тревогу. То человеческое достоинство, которое она увидела в себе на последнем диспуте, та новая Вера Игнатьевна, которая родилась по дороге из инпошива, все еще не были удовлетворены.
С этой тревогой, с этой неудовлетворенностью Вера Игнатьевна и вошла в библиотеку.
День в библиотеке начался плохо. Черноглазая Маруся с озабоченным видом порхала по лестницам от полки к полке, растерянная, возвращалась к растущей очереди читателей и без всякой пользы заглядывала в одну и ту же карточку.
Вера Игнатьевна подошла к ней:
– Что у вас случилось?
Маруся еще раз посмотрела на карточку, и Вера Игнатьевна догадалась, в чем дело:
– Карточка дома, а книга где?
Маруся испуганно смотрела на Веру Игнатьевну.
– Идите, ищите, а я отпущу очередь.
Маруся с виноватым видом побрела к полкам. Для нее теперь еще труднее стало сообразить, на какое «чужое» место она задвинула книгу. Она уже не порхала по лестницам, а с тоской бродила по библиотеке и боялась встретиться взглядом с Верой Игнатьевной.
Вера Игнатьевна быстро отпустила очередь и уже собиралась заняться своим делом, когда услышала рядом тревожные звуки аварии. Перед Варей Бунчук стоял молодой человек в очках, румяный и оживленный, и громко удивлялся:
– Не понимаю, как это может быть? Я еще раз прошу, дайте мне какую-нибудь книгу о Мопассане. Это же не какой-нибудь там начинающий писатель, а Мопассан? А вы говорите «нету»!
– У нас нету…
Варя Бунчук – девушка в веснушках – лепечет свое «нету», а сама со страхом косится на Веру Игнатьевну. Вера Игнатьев ласково говорит ей:
– Варя, сделайте здесь, а я займись товарищем.
Веснушки Вари Бунчук исчезают в густой краске стыда. Переходя на новое место, она неловко наталкивается на Веру Игнатьевну, от этого у нее наливаются кровью шея и уши, она тихо шепчет: «Ах». Маруся на краю стойки по секрету вручает читателю найденную, наконец, книгу и переходит к другим читателям, но и с ними она разговаривает вполголоса.
Вера Игнатьевна помогает любителю Мопассана и уходит в свою комнату. Через десять минут над ее столом склоняется Маруся и стонет:
– Вера Игнатьевна, родненькая, ой-й-й!
– Нельзя, Маруся, быть такой невнимательной. Вы знаете, чем это могло кончиться? Вы могли бы до вечера искать книгу.
– Вера Игнатьевна, не сердитесь, больше не будет.
Вера Игнатьевна улыбается в жадные, просящие улыбки глазки, и Маруся убегает счастливая, полная готовности бесстрашно пойти на какой угодно библиотечный подвиг.
Через полчаса в дверь заглядывает Варя Бунчук и скрывается. Через несколько минут снова заглядывает и спрашивает тихо:
– Можно?
Это значит, что она виновата. Во всех остальных случаях она может ворваться в комнату с сокрушительным грохотом.
Вера Игнатьевна понимает, что нужно Варе Бунчук. Она говорит строго:
– Варя, надо читать справочную литературу. И уметь пользоваться. А то какой глупый ответ «нету»!
Варя Бунчук грустно кивает в щель полуоткрытой двери.
– Я вам даю срок десять дней, до двадцатого. И проверю, как вы разбираетесь в справочниках.
– Вера Игнатьевна, он меня испугал: очкастый такой, мордастый. И все говорит и говорит…
– Что это за объяснение? Вы разве только истощенных можете обслуживать?
Варя радостно спешит:
– Двадцатого увидите, Вера Игнатьевна!
Она закрывает дверь, и слышно, как весело застучали ее каблучки.
Симпатичные девчурки! Еще ни разу не приходилось Вере Игнатьевне делать им выговоры более строгие, чем сегодня, никогда она не повышала голоса, долго не помнила их преступлений. И все же они умеют самыми нежными щупальцами узнавать ее недовольство и осуждение. И тогда они мгновенно скисают, тихо носят свою вину между книгами и печально воспринимают мою. Им до зарезу нужно, чтобы она сказала им несколько строгих слов, может быть, даже не имеющих практического значения. И без того Маруся простить себе не может невнимательности в расстановке книг, и так Варя Бунчук уже отложила справочники, чтобы сегодня вечером заняться ими. Но нужно оказать им внимание и уважение в их работе.
Почему все это так легко и просто здесь, в библиотеке, среди чужих людей, почему так трудно дома, среди своих?
Вера Игнатьевна задумалась над вопросом, в чем разница между домом и работой. Она с усилием старалась представить себе расположение чистых принципов семьи и дела. Здесь – в библиотеке – есть долг, радость труда, любовь к делу. И там – в семье – есть радость трудна, любовь и тоже долг. Тоже долг! Если дело оканчивается «высиживанием врага», то с долгом, очевидно, не все благополучно. В самом деле, почему долг там, в семье, так труден, когда здесь, на работе, вопрос о долге прост, так прост, что почти невозможно различить, где оканчивается долг и начинается наслаждение работой, радость труда. Между долгом и радостью здесь такая нежная гармония.
Радость! Какое странное, старомодное слово! У Пушкина с такой наивной увлекательной красотой проходит это слово и рядом с ним обязательно идут «сладость» и «младость». Слово для влюбленных, счастливых поэтов, слово для семейного гнездышка. Кто до революции мог приложить это слово к делу, к работе, к службе? А сейчас Вера Игнатьевна именно к этой сфере прикладывает его, не оглядываясь и не стыдясь, а в семейном ее опыте ему отведено такое тесное место!
Как каталог, быстро перелистала свою жизнь Вера Игнатьевна и не вспомнила ни одного яркого случая семейной радости. Да, балы и есть любовь, вот в чем сомнений не могло быть. За этой любовью можно, оказывается, и прозевать выполнение долга, и прозевать радость.
Вера Игнатьевна встала из-за стола и несколько раз прошла по комнате. Что это за чушь: любовь – причина безрадостной жизни! Так разве было?
Вера Игнатьевна остановилась против закрытой двери и приложила руку ко лбу. Как было? Да, как было? Можно ли больше любить своих детей, чем любила она. Но даже эту великую свою любовь она никогда не выражала. Она стеснялась приласкать Павлушу, поцеловать Тамару. Свою любовь она не могла себе представить иначе, как бесконечное и безрадостное жертвоприношение, молчаливое и угрюмое. И оказывается, в такой любви нет радости. Может быть, только для нее? Нет, совершенно очевидно, нет радости и для детей. Правильно, все правильно: злость, жадность, эгоизм, пустота души. «Высиживание врага!»
Это все от любви? От ее большой материнской любви?
От большой материнской любви.
От… слепой материнской любви.
Все вдруг стало ясно для Веры Игнатьевны. Стало понятно, почему так мало радости в ее личной жизни, почему в такой опасности оказался ее гражданский и материнский долг. Ее любовь к Марусе и к Варе Бунчук оказалась более разумной и плодотворной любовью, чем любовь к дочери. Здесь, в библиотеке, она умела за любовью видеть становление человека, умела словом, взглядом, намеком, тоном, любовно и сурово, страшно быстро экономично помочь ему, дома она умела только с панической, бессмысленной и вредной услужливостью пресмыкаться перед зоологическим, слепым инстинктом.
Вера Игнатьевна не могла больше ожидать ни одной минуты. Было только два часа дня. Она вышла в раздаточную и сказала Марусе:
– Мне нужно домой. Вы без меня управитесь?
Девицы что-то загалдели в приподнятом стиле.
Она спешила домой, как будто дома случилось несчастье. Только сойдя с трамвая, она испуганно заметила свою панику, а между тем надо быть такой же спокойной и уверенной, как в библиотеке.
Вера Игнатьевна улыбнулась дочери и спросила:
– Павлуша пришел?
– Нет еще, – ответила Тамара и набросилась на мать. – А ты чего пришла? Я же тебе говорила, чтобы ты совсем не приходила!
Вера Игнатьевна положила сумочку на подоконник в передней и направилась в столовую. Тамара топнула ножкой и крикнула:
– Что это такое, мама? Я же сказала тебе не приходить! Иди себе обратно, иди!
Вера Игнатьевна оглянулась. С нечеловеческим усилием она захотела представить себе на месте лица Тамары лицо Вари Бунчук. На мгновение как будто это удалось. Она спокойно взяла стул и сказала официально-приветливо:
– Сядь.
– Мама!
– Садись!
Вера Игнатьевна села в кресло и еще раз показал взглядом на стул.
Тамара что-то простонала, недовольно повела плечами и села на краешек стула, подчеркивая дикую неуместность каких бы то ни было заседаний. Но в ее взгляде было и любопытство, не свободное от удивления. Вера Игнатьевна сделала еще одно усилие, чтобы спроектировать на стуле против себя одну из своих молодых сотрудниц. Возникло опасение, будет ли послушным голос?
– Тамара, объясни толком, почему я должна уходить из дому?
– Как почему? Я буду делать генеральную уборку.
– Кто это решил?
Тамара в недоумении остановилась перед этим вопросом. Она начала отвечать на него, но сказала только первое слово:
– Я…
Вера Игнатьевна улыбнулась ей в глаза так, как она улыбалась в библиотеке, как улыбается старший товарищ в глаза горячей, неопытной молодости.
И Тамара покорно ответила на ее улыбку, ответила любовным и радостным, виноватым смущением:
– А как же, мамочка?
– Давай поговорим. Я чувствую, у нас с тобой начинается новая жизнь. Пусть она будет разумной жизнью. Ты понимаешь?
– Понимаю, – прошептала Тамара.
– Если понимаешь, как же ты можешь командовать и приказывать и выталкивать меня из дому? Что это: каприз, или неуместная шутка, или самодурство? Вероятно, ты все-таки не понимаешь.
Тамара в изнеможении поднялась со стула, сделала два шага по направлению к окну, оглянулась на мать:
– Неужели ты думаешь, что мне нужна была уборка?
– А что тебе было нужно?
– Я не знаю… что-то такое… хорошее…
– Но в твои расчеты не входило меня огорчать?
И после этого Тамару уже ничто не могло удержать. Она подошла к матери, прижалась к ее плечу и отвернула лицо с выражением счастливого и неожиданного удивления…
Платье готово было в срок. Вера Игнатьевна первый раз надела его дома.
Тамара помогала ей нарядиться, отходила в сторону, осматривала сбоку и, наконец, рассердилась, упала на стул:
– Мамочка, нельзя же эти туфли!
Она вдруг вскочила и закричала на всю квартиру:
– Ай! Какая же я разиня!
Она стремглав бросилась к своему портфелю и, стоя возле него, пела с таким воодушевлением, что ноги ее сами что-то вытанцовывали:
– Разиня, разиня! Какая разиня!
Наконец, она выхватила из портфеля пачку пятирублевок и понеслась с ними в спальню.
– Моя стипендия! Тебе на туфли!
Павлуша смотрел на мать, вытаращив свои золотисто-синие глазенки, и, вытянув губы, гудел:
– Ой, ой, ой! Мама! Платье!
– Тебе нравится, Павлуша?
– Ой же и нравится!
– Это меня премировали за хорошую работу.
– Ой, какая ты…
Целый вечер Павлуша почти с выражением испуга поглядывал на мать и, когда она ловила его взгляд, широко и светло улыбался. Наконец, он сказал, перемешав слова с глубоким взволнованным дыханием:
– Мама, знаешь что? Ты такая красивая! Знаешь, какая! Ты всегда чтоб была такая! Такая… красивая.
Последнее слово вышло уже из самой глубины груди – не слово, а чистая эмоция.
Вера Игнатьевна посмотрела на сына со сдержанно-строгой улыбкой:
– Это хорошо. Может быть, теперь ты не будешь пропадать целый вечер на своих коньках?
Павлуша ответил:
– Конечно, не буду.
Последний акт драмы произошел поздно вечером. Придя с работы, Иван Петрович увидел за столом красивую молодую женщину в вишневом шелковом наряде. В передней он даже сделал движение, чтобы поправить галстук, и только в этот момент узнал жену. Он снисходительно улыбнулся и пошел к ней, потирая руки:
– О! Совсем другое дело!
Вера Игнатьевна новым, свободным жестом, которого раньше она не наблюдала, отбросила прядь волос и сказала приветливо:
– Я рада, что тебе нравится.
И сегодня Иван Петрович не покусывал суставы пальцев, и не разглядывал стены размышляющим взглядом, и не насвистывал песенку герцога. Он шутил, острил и даже играл глазами. И только тогда его удивление несколько упало, когда Вера Игнатьевна сказала спокойно:
– Да, Иван, я все забываю тебя спросить: сколько ты получаешь жалованья?
Наши матери – граждане социалистической страны: их жизнь должна быть такой же полноценной и такой же радостной, как и жизнь отцов и детей. Нам не нужны люди, воспитанные на молчаливом подвиге матерей, обкормленные их бесконечным жертвоприношением… Дети, воспитанные на жертве матери, могли жить только в обществе эксплуатации.
И мы должны протестовать против самоущербления некоторых матерей, которое кое-где творится у нас. За неимением других самодуров и поработителей эти матери сами их изготовляют из… собственных детей. Такой анахронический стиль в той или иной степени у нас распространен, и особенно в семьях интеллигентных. «Всё для детей» понимается здесь в порядке совершенно недопустимого формализма: все, что попало, – это значит и ценность материнской жизни, и материнская слепота. Все это для детей! Работа и жизнь наших матерей не слепой любовью должна направляться, а большим, устремленным вперед чувством советского гражданина. И такие матери дадут нам прекрасных, счастливых людей и сами будут счастливы до конца.
Глава девятая
Над широкой судоходной рекой стоит город. К реке он подошел своим деловым тылом: лесопильными заводами, складами, бесконечными рядами бочек, измазанных в смоле, и грохотом грузовых подвод кованными колесами по пыльной, исковерканной мостовой. А уже за этим деловым миром начинается город, приукрашенный по силам разными культурными принадлежностями: гранитными тумбами по краям тротуаров, рядами акаций и воркующим перестуком красных, желтых и коричневых колес извозчичьих пролеток.
Река катится мимо города веселой, полнокровной жизнью и все спешит и смотрит вперед, потому что впереди, чуть ниже города, поджидает ее строгий, аккуратный, под линейку вычерченный железнодорожный мост. Мост поставил в воду одиннадцать ног, обутых в гранитные калоши, и они смотрят все носами вперед, навстречу катящейся реке. И река спешит к ним с естественным хозяйским беспокойством. Не отрывая глаза от моста, она торопится к месту происшествия, подбрасывая к городским берегам все лишнее, чтобы не мешало: баржи, плоты, буксиры и лодки.
У самого моста, на другом берегу, расположился посад. Посад мало интересуется рекой. Он приткнулся к ней только одним домиком, а сам побежал рядом с железнодорожной насыпью куда-то в сторону, к более мирным и покойным пейзажам: к вишневым садам, к рядам тополей и ветряков на горизонте. До горизонта от реки недалеко: простым глазом видно, как за посадом подымается в горку товарный поезд и обволакивается белым дымом.
Говорят, что когда-то по этой реке плавали скифы, и запорожцы, и татары. Может быть. Несколько лет назад приплыли по ней на старом катере, вооруженном смешной пушечкой, деникинцы. Их встретили хмурым молчанием, потому что еще раньше где-то на севере казаки грозили обходом, и защитники отступили по железной дороге. Белогвардейцы полгода владели городом, мостом и посадом, а потом бросили катер вместе с пушечкой возле моста, а сами сели в товарные вагоны и быстро поехали к югу. Через два часа после этого пролетел по мосту паровоз, впереди себя толкая платформу: на платформе трехдюймовка и десятка два веселых людей, одетых в серые шинели. Паровоз с платформой осторожно перебрался через посадскую станцию, а потом задымил и погнался за деникинцами. На другой день он возвратился во главе целого поезда, мирно подружившись с другим паровозом. В вагонах сидели белогвардейцы, только теперь они были скучнее, щеки у них были в щетине. На станции соскочил с платформы отец Сергея и Тимки Минаевых – заводской столяр, пулеметчик и большевик.
С тех пор прошло пять лет, может быть, немножко больше. Василий Иванович Минаев начинает уже забывать, как режет плечо ремешок винтовки, но зато хорошо помнит, как гнали белогвардейцев от самого Орла. Об этом он часто по вечерам рассказывает сыновьям. Старший сын Сергей слушает его серьезно и внимательно, второй – Тимка во время рассказа не сидит на месте, ерзает на стуле, все ему хочется спросить: а что это такое «за Курском», а какая сабля у Ворошилова? И по ночам, после рассказов отца, снились его сыновьям разные сны. Сергею снились пожары городов и пехотные цепи, прокуренные в боях суровые товарищи отца, не вернувшиеся с войны, и ненавистные враги, рыщущие в посаде с обысками. А Тимке снился Буденный, с большими усами, на коне и с поднятой саблей, стреляющие огромные пушки и неприступные крепости с высокими зубчатыми стенами, такие, как нарисованы в старой «Ниве».
Сережа уже второй год учится в фабзавуче на заводе, а Тимка второй год – в трудовой школе. Сережа помнит то время, когда отец ушел с Красной гвардией, а Тимка познакомился с отцом после Деникина. Он не помнит даже, как вызывали мать в контрразведку на допрос, как она три ночи не ночевала дома, как на четвертый день пришла худая и желтая, в полчаса связала в узелок разную мелочь и унесла узелок и Тимку к деду Петру Поликарповичу на хутор. Много еще не помнит Тимка, а то, что рассказывают ему старшие, кажется далекой-далекой историей, интересной, но вовсе не страшной.
Над рекою и над посадом расцветало солнце.
Весна пришла занятная, говорливая, хлопотливая. Тимкины голубые глаза не много помнили весен, и поэтому на весну они смотрели с жадным любопытством, а энергии в душе, в ногах, в руках, на языке набиралось столько, что Тимка еле-еле управлялся за день истратить ее как следует. И даже поздно вечером, когда нагулявшееся за день тело начинает засыпать, язык еще не может успокоиться, что-то лепечет, и ноги во сне куда-то спешат, и пальцы во сне шевелятся.
Сегодня Тимка с утра в работе, жизнь и обстоятельства складываются очень сложно, он не успевает откликнуться на все запросы жизни, не успевает со всеми поспорить. Домой пришел под вечер, а Сергей стоит в дверях кухни и разговаривает с матерью:
– А разве контрразведка была в гончаровском доме?
И сразу Тимка насторожился:
– Контрразведка?
Сергей пошел в столовую заниматься, а Тимка сел против него и начал:
– А боялись все этой контрразведки. Правда, боялись?
Сергей сказал:
– Что ты за дурень такой? Это разве шутка, контрразведка? Ты думаешь, это тебе шутка?
Тимка на мгновение задумывается и отвечает с мечтательной находчивостью:
– А если взять и бросить бомбу! Вот такую бомбу, как папка говорил? Взять и бросить! Ах!!
Сережа улыбается:
– Какой ты герой в комнате. А вот если бы тебе на самом деле пришлось?
– А ты думаешь что?
– Тебе кажется, так это легко? Размахнулся и бросил?
– А как же?
– А они, думаешь, сидят себе и смотрят?
– Ну, и пускай!
– А они стреляют.
– Пускай они еще попадут раньше.
Тимка с презрением выпячивает губы, но в глубине души воображение рисует непредвиденные раньше подробности: на него смотрят злые лица буржуев и целятся из огромных ружей. Тимка отводит глаза в сторону: он ничего не боится, но в его расчеты вовсе не входит, чтобы буржуи палили в него. Затея с бомбой основательно испорчена, и Тимкины живые глаза бродят в поисках более доброкачественных переживаний. Их взгляд задерживается на мгновение на портрете Буденного, но сейчас Буденный не хочет садиться на коня и смотрит на Тимку даже чуть-чуть насмешливо. Тимкины глаза косятся вправо. Там блестит стекло буфета, сквозь него Тимка видит два пирога на тарелке. Пироги лежат и молчат, но вид у них тоже немного иронический. Тимка переводит взгляд на Сережу. Сережа рассматривает чертеж в книжке, которая называется в непостижимо высоком стиле: геометрия. У Сережи сильно отросли светло-русые прямые волосы, он зачесывает их назад, но они еще не умеют держаться в прическе, а острятся над Сережиным лбом многочисленными своими кончиками. Тимка рассматривает прическу брата и видит в ней такое же высокое превосходство, как в геометрии. Сережа очень умный. Только поэтому сегодня за обедом его голос оказался решающим в вопросе о пирогах.
Тимка быстро вспоминает все, что было после этого. началось с пирогов, а вот теперь опять пироги.
Сначала пирогов было много. Мать поставила их на стол целую большую тарелку и сказала:
– Пироги сегодня удались. Ешьте, пока горячие.
Отец отложил в сторону газету и улыбнулся:
– Вид у них квалифицированный! Тимка, ты, конечно, уже пробовал?
Тимка немножко покраснел и ответил отцу боевой улыбкой. Придя из школы, он действительно забежал в кухню и схватил с листа один пирог. Мать хотя и махнула на него рукой, но посмотрела ласково:
– Не дождешься обеда?
Но все равно, пирог этот промелькнул в Тимкиной жизни без особенной радости: во рту осталось только ощущение ожога. Пирог такой был горячий, что его и в руках нельзя было держать, и есть было чересчур горячо, в общем, положение было настолько безвыходное, что Тимка проглотил пирог без наслаждения, исключительно для того, чтобы он больше не обжигал пальцев.
Отец разрезал первый пирог вдоль на две части, и тогда в белой пушистой рамке свежего теста показалась влажная темная мясная начинка. Отец одобрительно улыбнулся и стал намазывать каждую половинку маслом. Делал он все это не спеша, да еще и рассказывал:
– Это не наша вода идет. наши снега давно уже в море. Это идет верхняя вода, северная. там снегу много, говорят, большая волна идет. Сегодня на один метр прибавилось.
Отец рассказывал, смотрел на мать строгими, светло-голубыми глазами и ножом показывал на север, а половинки пирога все лежали и лежали перед ним, и масло на них начинало уже просыхать.
Тимка не мог понять отцовского сложного вкуса. Может быть, и приятно съесть такую половинку, но чем можно оправдать такую неосмотрительную неторопливость? Тимка вовсе не нервничал, брал пироги с тарелки осторожным, неловким движением, и рот у Тимки совсем маленький, но пирог существо слабое. Он так быстро и охотно проскальзывает в глотку, что не успеешь его начать, а в руке остается только маленький твердый носик, еще мгновение, и он исчезает в зубах, а в руках уже новый пирог. Тимка не успел опомниться, как на тарелке осталось только два пирога, и Тимка почувствовал, что в жизни не все разумно устроено. Он глянул на брата: тот жевал и слушал отца. Тимкина рука начала было подыматься к тарелке, но Сережа взял его за локоть и наклонился к Тимкину уху:
– Брось. Отцу оставь! Мало тебе?
Тимка облизнул губы и подумал, что Сережка напрасно вмешивается: отец все равно больше не хочет.
А после обеда было пропасть событий. Отец ушел на работу, а Тимка до самых сумерек хлопотал во дворе и на улице. Во дворе было мокро. Возле сарая образовалась огромная лужа, наверное, очень глубокая, побродить в ней было заманчиво, но мешали ботинки. Но корабль, сделанный из газеты, никуда не хотел плыть и скучно стоял на месте, пришвартовавшись к случайному стеблю прошлогоднего бурьяна.
На улице были другие неудобства: неясность границ и сфер влияния. От железнодорожной насыпи, как раз возле Тимкиного двора, проносился мощный поток. Он прорыл в песке глубокий и сложный фарватер. Тонкая лысая кромочка льда на дороге свешивалась над потоком острыми фигурными берегами, в некоторых местах под этой кромочкой вода убегала в таинственный и уютный полумрак. Бумажный кораблик, пущенный сверху по течению, кивал и нырял на штопорных волнах потока и с разгону влетал под эту кромочку, скрываясь из глаз. Что происходило с ним в таинственной темной пещере, нельзя было видеть, но было приятно стоять над потоком и ожидать, когда кораблик снова выскочит на открытую воду. А потом нужно пройти по берегу до следующей пещеры, и там такое же удовольствие.
Все это было очень веселое дело, но у Тимкиного двора находились самые интересные плесы, заводи, пещеры и водопады, и сюда собирались ребята со всей улицы. Каждый приносил свой корабль, каждый пускал его, где хотел, каждый тыкал палкой в воду, каждый старался пропихнуть свое судно на самое интересное место. Тимка долго с негодованием смотрел на всю эту возню и наконец закричал:
– А чего вы сюда пришли? Мы к вам не ходим! Что, это ваша река? У вас бежит, там и пускайте!
Но и здесь, как и в других случаях международной жизни, дело редко решается в пользу прав и справедливости. Сын портного Григорьева, рыжий, веснушчатый, красноухий Митрошка стоит на другом берегу потока и оттуда обливает Тимку воинственным презрением:
– Чего ты задаешься? Чего ты задаешься? Думаешь, как твой отец большевик, так ты и задаешься? Ты речку купил, ты купил, да?
Тимка ничего не ответил рыжему Митрошке, а поднял свою палку, назначенную для навигационных целей, и треснул по Митрошкиному кораблю, остановившемуся на мели. Грязная вода брызнула в стороны, а Митрошкин корабль, сделанный из серой оберточной бумаги, распластался в воде намокшей темной тряпкой. Совершив этот акт международной справедливости, Тимка молниеносно удрал во двор. Вслед за ним в доски ворот загремел кусок кирпича. В потоке остался и Тимкин корабль, но это это была случайная и неудачная конструкция из газеты.
Минут двадцать Тимка в одиночестве ходил по двору, прыгал на корочке льда под стенкой сарая до тех пор, пока корочка не раскрошилась на мелкие кусочки. Потом вышел во двор хозяйский сын Кирик.
Минаевы нанимали квартиру у Кирикова отца, плотника Бычкова. Бычков был странный человек. Он работал на постройках хат, и характер у него был неровный, злой. Пока он тешет дерево на земле, с ним еще можно иметь дело, можно и поговорить, как с человеком. Он слушает собеседника с суровым молчанием, хэкает своим топором и только изредка ухмыляется саркастически, а потом скажет:
– Тэк. Наладится, говоришь? Ну, ну, нехай налаживается.
Но как только залезает на крышу и начинает с помощником устанавливать стропила или сидит на коньке и прилаживает поперечную обшивку, так уже от него ничего хорошего ожидать нельзя. Стоит ли внизу собеседник или никого нет, Бычков все равно ворчит и ворчит, язвит и цепляется:
– Правило сделали: восемь часов! Сидит и газету читает, а спроси его, так он трудящийся, большевик! Отработал восемь часов, и он тебе большевик! А я сколько работаю?
Бычков опускает топор и смотрит вниз с насупленным, взлохмаченным, злым вниманием:
– Сколько часов я работаю? Васька! Сколько часов я работаю?
Бычков поворачивает голову к помощнику Ваське и следит за ним не столько глазами, сколько мохнатыми бровями, мохнатым, заросшим ртом. Васька возится со стропильной ногой и даже не смотрит на хозяина. Бычков повторяет про себя в глубоком раздумье:
– Сколько я работаю? Может, восемь часов? Не… Бычков работает двенадцать часов, двенадцать! А кто такой Бычков, трудящийся или не трудящийся? Вопрос. А может, он буржуй? Ишь, до чего народ паскудный! А он тебе бригадир! Во: бригадир!
Бычков вытаращивает глаза, надувает щеки, руками впереди себя показывает важность. Потом плюет в кулак, перекладывает топор из рук в руки и продолжает работу. Минут десять работает сосредоточенно и молчит, но вдруг снова опускает топор и снова вперяется вниз хитровато-угрюмым лицом:
– Порядки! Если человек старается, горбом и потом живет, – это мало им! Как же, то – пролетарий, а то придумали – кустарь! Я – кустарь, а? Видели? Дожил. Дожил Бычков! Старый дурак, дожил! Кто такой кустарь? Васька! Кто такой кустарь?
Васька по-прежнему молчит. Бычков несколько секунд рассматривает Ваську и шевелит усами. И отвечает себе:
– Кустарь, я понимаю. Кружево – правильно. Корзинки: фить-фить, туда-сюда, зацепил, прицепил, нацепил, ручку сплел, вот тебе и корзинка! Два дня потел, два дня кряхтел, десять верст до базара, а цена полтинник пара. Во! А это тебе корзинка? Это тебе корзинка?
Он показывает на переплет стропил и вертит головой:
– Кустарь! А что вас раки ели, когда утопнете! Мельниченку кто строил? Бычков. Сероштану? – Бычков. Резникову? – Бычков. Осипу Павловичу глаголем, кто? – Бычков. Наливайченку, Василию Евдокимовичу… А где теперь Василий Евдокимович? Васька! Где Василий Евдокимович?
На этот вопрос Васька почему-то отвечает:
– Да брось ты… Василий Евдокимович! Первая сволочь была, живоглот… вспомнил тоже!
Бычков тупо смотрит на Ваську и чешет бороду возле уха:
– Не в смысле живоглота, а кто строил? И все стараются пообиднее, чтобы до сердца дошло: кустарь!
С Минаевым Бычков не водил компании, в комнаты не старался заходить, а по делу присылал жену. Но при встрече с Минаевым держался вежливо и говорил спокойно, высказывая вполне расположенную лояльность:
– Я не какой-нибудь лавочник, я и сам рабочий человек.
Кирик Бычков учился в одном классе с Тимкой. А старший сынок Бычкова Ленька – в том самом фабзавуче, где и Сергей, только шел на один год впереди. В свое время Леньку не хотели принимать в фабзавуч, но он поднял такой скандал, кричал и жаловался, несколько раз ходил в город, что своего-таки добился.
Тимка своим товарищем был доволен. Кирик имел спокойный характер, хорошенькое личико и всегда радостную, улыбчивую мину. И сегодня, выйдя во двор, он добродушно выслушал горячий рассказ Тимки о конфликте на «речке» и сказал:
– Их не нужно пускать. А знаешь что? Давай мы вечером перекопаем и сюда переведем эту… речку.
– Как переведем?
– А так: прокопаем и переведем. Под воротами, прямо сюда. А это будет море.
Мальчики подошли к морю возле сарая. Мысль была очень дельная. Тимка несколько раз через щель в заборе заглянул на улицу, посмотрел за сараем выходило все очень просто и удобно. Он только спросил:
– А если они не уйдут?
Кирик пожал плечами.
– Нет, они уйдут. Они спать пойдут.
Потом друзья вышли за ворота и осторожно остановились у калитки. На ручье занимались навигацией человек десять. Измокший и грязный Митрошка, у которого даже лицо было забрызгано грязью, до сих пор возился с газетным кораблем Тимки. По самым скромным требованиям, этот корабль давно отслужил свое, давно промок и насилу удерживал признаки корабля и мореходные качества. Но Митрошка, кряхтя, все водил его по бурному и опасному потоку. Он был так занят этим жалким делом, что даже не обратил внимания на Тимку. Другие мальчики с таким же увлечением управляли своими суднами, некоторые из них были прекрасной конструкции. Лучше всех был сделан корабль у Пети Губенко – сына заводского охранника. Материалом для него послужил толстый кусок коры. В Петином корабле были скамейки, мачта и парус, а неудобство только одно: корабль имел слишком большую длину и, становясь поперек реки, обращался в мост. Кроме того, благодаря мачте он не мог заходить в речные пещеры.
Тимка с Кириком подошли к реке. Митрошка предусмотрительно взял свою газетную посудину и понес навигацию дальше, вниз по течению. Петя Губенко побежал поближе к насыпи и там пустил свой корабль. Легкая темная лодочка, трепыхая лоскутом паруса, быстро понеслась по ручью. Она свободно скользила на вертлявых, спиральных струях, без усилий отталкиваясь от берегов и весело ныряла носиком на водопадиках. Петя бежал рядом и зорко следил за рейсом. Возле самых ног Тимки счастливый кораблик зацепился за стебелек старой травки и остановился, задрожав всем телом. Тимка присел к ручью и взял кораблик в руки. Он ожидал, что Петя обидится и закричит, и уже готов был ответить презрительной гримасой, но Петя спокойно смотрел с другого берега и не подавал признаков беспокойства. В благодарность за это Тимка сказал:
– Легкий какой!
– Это из коры, – сказал Петя.
– Ты ножиком вырезал?
– Ножиком.
– А где ты взял ножик?
– У меня свой ножик.
– А ну, покажи.
Петя доверчиво достал из кармана ножик и протянул Тимке. В ножике одно лезвие было сломано, а другое почернело и сточилось. Но все же, какое завидное счастье иметь такой ножик!
– А кто тебе дал ножик?
– Это матрос подарил.
Тимка напружинил глазенки:
– Какой матрос?
– Еще прошлым летом: мы с отцом ездили рыбу ловить, а там матрос был, так он и подарил.
– Он настоящий матрос? А где он сейчас?
Петя затруднился сразу ответить на оба вопроса. Он зашатал головой в старом картузе без козырька. Личико у Пети бледное, остренькое, худенькое, но у него очень стройная фигура и такая же стройность в лице: хороший светлый лоб и красиво вычерченные черные брови. Петя улыбнулся:
– Он на реке, матрос, на пароходах. А сейчас он в городе.
– А за что он тебе подарил?
– Он ни за что не подарил, а мы вместе ловили рыбу. Я ему и батьку червяков накопал, а он мне перемет сделал. А потом он и сказал: возьми себе ножик, у меня другой есть.
Тимка иногда слышал рассказы о таких чудесных вещах: вдруг в жизни откуда-то берется матрос и дарит ножик. Тимка не очень верил таким рассказам. Если им верить, так выходит, что достать ножик ничего не стоит. И почему такое счастье сразу привалило этому Пете? И матрос и ножик!
– Твой отец сторож? Да? – прищурился Тимка.
Петя серьезно опустил глаза и сейчас же поднял:
– Сторож. Он завод охраняет.
– А мой отец бригадир.
Петя молчал.
– И мой отец – коммунист.
Петя протянул руку:
– Ну, давай!
– Нет, постой, – сказал Тимка, рассматривая ножик. – Твой отец не коммунист? Нет?
Петя спокойно рассматривал физиономию Тимки.
– Он не коммунист, только это все равно: мой отец завод охраняет.
– Как он там охраняет, подумаешь!
– Он охраняет. Он с ружьем охраняет.
Тимка снова вытаращил глазенки:
– О! С ружьем! А ты видел?
– Видел.
– Ружье?
– Ружье. Винтовка.
– А чего он домой ходит без винтовки?
– Не полагается. Винтовка казенная.
– И он стреляет? А в кого он стреляет?
– В кого? В бандитов стреляет.
– А теперь нет бандитов. А ты мне сделай такую лодку.
Петя улыбнулся доверчиво и оживленно:
– Ты возьми эту, а я себе сделаю.
– Да ну?
– Ты возьми. Я не жалею, ты не думай, что я жалею.
Тимке захотелось сделать что-нибудь приятное для Пети.
– А я тебе дам, знаешь что? Я тебе дам крючок для удочки.
– У меня есть крючок.
– А то будет два крючка. И будем вместе ходить за рыбой, хорошо? Эх, если б еще лодку!
– У моего отца есть лодка.
– Что? Есть лодка? – закричал Тимка в полном изумлении.
– Есть.
– Настоящая лодка? Настоящая? А где он взял?
– Он сам сделал.
Тимка перемахнул через ручей. Положительно, у этого Пети чудесное царство.
Он еще долго разговаривал с Петей и все больше и больше поражался. Петин отец, бородатый, строгий человек с военной выправкой, который каждый день проходил мимо их ворот в черной шинели, теперь представлялся Тимке настоящим волшебником. Смущала Тимку только неуловимая нотка грусти, которая то и дело слышалась на поверхности Петиных слов. Она вызывала у Тимки чувство симпатии, желание подружиться. Тимка сам никакого значения не придавал своим чувствам и был уверен, что самое главное в этом знакомстве – это настоящая лодка у Петиного отца, на которой можно будет плавать по реке и ловить рыбу.
Тимка дошел с товарищем до насыпи. Там в старой хате жил отец Пети.
Наступили сумерки, когда Тимка возвращался домой. Возле ворот никого уже не было, только Кирик с лопатой копошился над ручьем. Он обернулся на шаги Тимки:
– Что же ты? Взял и ушел!
– А разве что?
– А речку проводить?
Тимка вспомнил о проекте, и на душе у него стало неприятно. Но Кирик с радостным оживлением продолжал:
– Совсем не трудно. Смотри, вот сюда выкопать и сюда выкопать. А потом земли насыпать, и она потечет прямо во двор. Вот тогда вся река у нас будет.
Тимка держал в руках Петин подарок – лодку, сделанную из коры. Он вспомнил нотки Петиной грусти, и ему не захотелось отводить речку с улицы. Он сказал:
– А ребята будут ругаться.
– Пускай сколько угодно ругаются, какое наше дело? Зато у нас и речка будет и море. Мы еще и гавань сделаем! Гавань, понимаешь? И пристань. Ночью пароходы будут стоять в гавани.
– Только, чтобы Петя Губенко у нас играл. Хорошо?
Кирик задрал нос:
– Петька? А что ему у нас нужно?
– А он мне лодку дал. Вот какая лодка.
Кирик долго вертел лодку в руках:
– Это он сам сделал?
– Сам.
– Пускай и мне сделает.
Тимка ничего не сказал на это. Внутри у него что-то скрипело и царапало. Страшно интересно было иметь собственную гавань, но и Петю обидеть было невозможно.
– А когда будем копать?
– А давай, когда темно станет. Хорошо?
– Хорошо.
Много событий пробежало между обедом и тем моментом, когда снова в Тимкиной жизни встретились пироги.
Тимка не спеша прошелся мимо буфета, присмотрелся к Сереже. Сергей все зубрил геометрию. Тимка постоял возле буфета, потом вспомнил, что лодку, сделанную из коры, нужно отремонтировать – привязать парус. Он уселся против Сергея и занялся ремонтом. Мать принесла горящую лампу. Тимка закончил работу, поставил лодку на подоконник и долго любовался ею. В стекле окна отражалась вся комната и отражался буфет. Тимка с любопытством присмотрелся к этому отражению: буфет хорошо был виден, но о пирогах можно было только догадываться. Тимка быстро оглянулся: нет, пироги лежат по-прежнему.
Сергей закрыл книжку и пошел в кухню. Тимка вспомнил, что нужно идти работать по проведению новой реки, и вздохнул. Потом подошел к буфету, поднялся на цыпочки и открыл дверцу. Пальцы прикоснулись к лакированной поверхности одного пирога. Тимка расширил захват пальцев, сгреб оба пирога, прижал их к груди и тихонько закрыл буфет. Он неслышно прошел мимо кухни, а на первой ступеньке лестницы закусил первый пирог. Лестница была маленькая, всего ступеней десять, но пока Тимка дошел до нижней ступеньки, от пирогов осталось только несколько крошек, разбросанных на груди. Последний глоток Тимка сделал с поспешным усилием, потому что в открытую наружную дверь уже виднелся Кирик с лопатой. Тимкина глотка еще сжималась в последних рабочих усилиях, а лицо уже изобразило деловой интерес:
– И я возьму лопату, правда?
– Ты знаешь что? – сказал Тимка после того, как вооружился лопатой. – Давай мы сначала сделаем канавку, а потом – раз, раз и проведем.
– А как жн иначе, – ответил Кирик, – а то она по всему двору побежит.
Наступила темнота, но еще днем на небе стоял месяц, а сейчас он светил прямо на площадку двора. Тимка работал сосредоточенно и за работой все думал о том, как сказать Пете Губенко, чтобы он сделал лодку для Кирика.
– Крик, а если Петя не захочет сделать лодку?
– И пускай, – сказал Крик. – Я и сам сделаю. Подумаешь, какой лодочник. Я такую лодку сделаю, ты такой еще и не видел.
– А чем ты сделаешь?
– Да у отца целый ящик инструмента, чем хочешь, тем и сделаю. Хочешь стамеской, хочешь – рашпилем, хочешь – ножом.
– Рашпилем! Как же ты рашпилем лодку сделаешь?
Тимка задумался о рашпиле, а из-за рашпиля снова выдвинулся вопрос о Пете Губенко. С настоящей лодкой связывается счастливая область лета и летней мечты. Лодка – это и рыба, и ночевки на островах, и костры, и уха, и, наконец, матросы, раздающие ножики и умеющие делать переметы. Все эти блага, кроме матроса, конечно, были знакомы Тимке с прошлого лета. Но прошлым летом приходилось выступать в самых незначительных ролях, потому что лодку доставал отец у электромонтера Еленича, а за рыбой ездили и отец, и Еленич, и Сережка, и Ленька Бычков, и еще товарищ Сережки Абрам Ройтенберг. Вот сколько ездило. И каждый о себе воображает, а Тимке оставались такие пустяки, как собирание валежника для костра и одна малюсенькая удочка без поплавка, на которую ночью все равно ничего не поймаешь.
Канавка уже перерезала двор и вплотную подошла к подворотне. Мальчики с лопатами вышли на улицу и приступили к самой ответственной части работы. Поток сейчас шумел в одиночестве, и было даже жалко, что даром пробегает такая масса воды. Кирик сказал:
– Вот здорово будет! Они завтра прилезут, а речка вся у нас! И, кроме того, гавань.
Но в этот момент из неразборчивого лунного пространства к самым воротам выдвинулась высокая фигура отца. Минаев переступил через поток и остановился:
– Тимка! А это кто? Кирик? Что вы здесь в темноте делаете?
– А мы копаем, – весело ответил Тимка.
Он был доволен, что можно похвастаться перед отцом таким замечательным начинанием.
– Копаете? Для чего?
– Ты посмотри: мы на дворе уже кончили. А теперь здесь прокопаем, и она прямо сюда побежит. Речка.
– Вот как! Здорово! Люди из дворов воду отводят, а вы, наоборот, во двор. Чего это вам пришло в голову?
Тимка закричал обиженным голосом:
– Так они все сюда приходят. Приходят… и тут… с кораблями все.
– Кто это?
– Да все! Со всей улицы. Им досадно, что тут хорошо бежит и водопадом падает. Так они и лезут.
– Понятно. А вы все-таки молодцы! Значит, только вы будете пускать корабли?
Хотя Тимка и услышал что-то каверзное в тоне отца, но не имел времени разобраться в нем, а кроме того, его увлекла действительно верная догадка, что пускать корабли будут только они с Кириком. И поэтому Тимка ответил воодушевленно:
– Ну да! Они придут, а речка к нам потекла.
– Замечательно! Кто же это так остроумно придумал? Неужели ты?
– Это мы с Кириком.
Кирик стоял с лопатой в руках и с некоторым смущением выслушивал восторженные восклицания Минаева. Он спокойно даже пропустил мимо ушей довольно наглое со стороны Тимки нарушение авторского права, ибо на самом деле придумал только он один – Кирик.
Минаев расставил ноги над потоком и сверху вниз смотрел на мальчиков. Можно было подумать, что он любуется.
– Да. Жаль вот, что всю улицу нельзя к вам во двор перевести.
Тимка с тревогой прислушался к этому явно гиперболическому сожалению и промолчал. Кирик зато громко рассмеялся:
– А на что нам улица?
– Будете ходить по улице, а другие чтоб не ходили. Хорошо, правда?
Тимка понял, что лучше дальше в прениях не участвовать. Но и прения приняли такой характер, что участие в них Тимки представлялось излишним.
– Паршивцы такие! Видишь, что придумали? Идем домой!
Тимка пошел впереди отца. Он не заметил, как он перешагнул только что сделанное русло, и не заметил, как очутился в комнате, как снял пальто.
Сергей до сих пор сидел над книгой, но Тимка уже не мог интересоваться никакими высокими науками. Он сел на табуретке, направил неподвижный взгляд в угол и, вообще, приготовился к неприятностям.
Отец вышел из кухни с полотенцем в руках и сказал громко:
– Хороший у меня сын! Такому сыну только при буржуях жить. Лужа на улице, так и то ему досадно, почему лужа на улице, а не у него в кармане? А? Все на лужу смотрят, мимо лужи ходят! Куда такое годится? Нельзя! Один Тимка может, другим нельзя! Вот до чего жадность доводит подлецов!
Тимка тупо смотрел в угол, и душа его сгибалась под тяжестью обвинений. Отец стоял посреди комнаты прямой и крепкий, как башня, все вытирал и вытирал руки, говорил рокочущим басом; его светло-голубые глаза только изредка поглядывали на Тимку, а больше смотрели на полотенце. Так же смотрели и подбородок, и смятые в крупные складки бритые щеки. И Тимку поражали не столько его слова, сколько выраженная в позе и в голосе сила. Тимка чувствовал, что перед этой силой он, Тимка, – ничтожество, и больше ничего он чувствовать не мог. Не мог он и думать, но для злости оставалось место, и Тимка злился на Сергей и на мать. Сергей смотрел на Тимку с улыбкой и раза два громко рассмеялся, а мать стояла рядом с отцом и делала такой вид, как будто она грустно улыбается. Они просто рады, что Тимка попал в такое трудное положение, что не обратился в такое жалкое ничтожество. Тимка ухитрился даже посмотреть на Сергея уничтожающим взглядом.
Отец ушел в кухню, а Сергей хохотал:
– Да неужели, Тимка, ты хотел лужу себе заграбастать?
Тимка остервенело дернул плечом в знак протеста против Сережкиного вмешательства, бросил еще один взгляд угрозы и презрения, но вообще позы не переменил и продолжал смотреть в угол. Он терпеть не мог унизительных положений и в таких случаях старался компенсировать убытки при помощи неподвижной хмурости. Сейчас Тимка начинал уже ощущать небольшое удовольствие, проистекающее от выдержанности стиля, но вдруг на него свалилось новое испытание, гораздо более тяжелое. Когда мать успела оставить позу грустного наблюдателя, Тимка не заметил. В его уши неожиданно проникли невыносимо дикие слова, ни с чем не сравнимый по силе удар:
– Да ему не только на лужу завидно. Он и на пироги позавидовал, что для отца оставили. А может, это и не он?
В Тимкиных мозгах произошло паническое движение. С открытым ртом Тимка оглянулся на тарелку, на которой когда-то лежало два пирога. Неведомая сила подхватила Тимку, перебросила в другую комнату, завернула в черный неразборчивый туман и швырнула на кровать. Тимкины ноги в мокрых ботинках свесились с кровати, а во всей остальной части Тимки загудело море, облитое рыданиями. Сквозь туман и беспорядок пробился к нему раскатистый смех Сережки, но Тимка уже чувствовал, что все кончено, все разрушено, ничего нельзя прибавить к его отчаянию.
Через полминуты мать села рядом с ним на кровать, отчего рыдания разлились еще шире и захватили даже ноги, ноги задрыгали на краю кровати:
Мать положила руку на Тимкино плечо и сказала:
– Успокойся, дружок, чего ты так убиваешься. Из-за каких-то пирогов, бог с ними.
После этих слов рыдания как будто вырвались из теснины и покатились дальше широкой рекой. Они катились так под ласковой рукой матери до тех пор, пока отец не сказал из другой комнаты:
– Пироги съел? Какие пироги? Которые мне оставили?
Тут Тимка перестал рыдать, но вовсе не потому, что горе стало меньше, а потому, что отец говорил негромко, притом же из другой комнаты, его слова и так трудно было расслышать. Что-то тихо ответил Сережа, а отец продолжал:
– Ах да, действительно, я только один пирог съел за обедом! А Тимка съел? Да может, не он? И ничего не оставил? Не может быть! Ну?! Он не такой! Он же всегда говорил, что меня очень любит. Недоразумение. Никогда не поверю. Это мыши съели. Вот здесь лежали? Это мыши, конечно.
Тимка понимал, что на него никто не сердится, но понимал также, что про мыши говорится нарочно, чтобы ему досадить. И все-таки в его представлении и в самом деле явились две мыши. Они нахально влезли в тарелку, задрожали у них хвостики. А потом каждая мышь закусила полпирога. Это зрелище только одну секунду занимало экран. Сейчас же вспомнилась другая картина: пироги съел Тимка на лестнице, и при этом без всякого удовольствия. Тимка еще раз тяжело всхлипнул. Он понимал, что с кровати подыматься еще рано, положение все-таки здорово испорчено. Мать приглаживала его по затылку:
– Нехорошо это, Тимочка, сделал. Пирогов сколько угодно можно налепить, пирогов не жалко, а только нельзя так хватать, нужно и об отце подумать. Правду я, сынок, говорю?
Тимка молчал. В глубине его восьмилетней души маршем прошло несколько соображений, все они имели характер оправдания. Во-первых, он думал, что отец пирогов не хочет, во-вторых, пирогов было только два, в-третьих, может быть, Сережка за обедом больше съел пирогов, чем Тимка. Мать продолжала:
– И потом: как же это так, без спросу? Чтобы никто не видел! Так не годится, сынок.
Тимка не видел лица матери, но хорошо знал, какое оно в эту минуту: оно круглое, нежное, мягкое, серые глаза щурятся, а на полных губах улыбка и на верхней губе маленькая родинка с двумя волосками.
Тимка поплыл в бездумном приятном покое, таком приятном, что вдруг захотелось во всем согласиться с матерью. И как раз в это время мать с силой повернула его голову и заглянула в лицо. Она действительно улыбалась, и от ее улыбки исходила сила, теплая и широкая, которая не унижала Тимку и не обращала в ничтожество.
Тимка блестящим взглядом, хорошо промытым слезной бурей, глянул на мать.
– Ну, что скажешь?
– Я не буду так делать, мамочка, честное слово, не буду.
– Вот и умница. Вставай, будем ужинать.
Она потрепала его по уху и ушла. Но вставать было нельзя: в другой комнате стучал сапогами отец. Если встать, он сейчас же начнет про мышей. Тимка поэтому лежал боком и смотрел на шкаф. Но сапоги отца послышались ближе, и он стал на пороге комнаты. Почему-то отцы устроены так, что как только их увидишь, так все останавливается в душе и ждет, что будет дальше. Отец подошел ближе к кровати, взял стул, поставил его против глаз Тимки и сел. Хорошо бы скорее закрыть глаза, но и глаза остановились, не закрываются. Отец улыбается, как-то по-особенному у него выходит: и весело и в то же время зло. И в злые складки складываются у него жесткие, выбритые, румяные щеки. Отец приблизил к Тимке знакомое, сильное, умное лицо:
– Ты, Тимофей, не слушай мать. Если еще где придется, лужа какая или пирог, не обращай внимания: хватай скорее, а то прозеваешь, другой ухватит, правда?
Тимка понял хитрый ход отца, и оттого, что понял, отец стал доступнее и проще. Тимкина душа встрепенулась, звякнула веселыми шестеренками и опять пошла, как бывает, вдруг пойдут остановившиеся часы, как только их возьмет в руки хороший мастер. Тимка искренне улыбнулся голубыми, еще сырыми глазами и ответил отцу шепотом:
– Нет, неправда…
– Эге, да ты умница. Я думал, ты ничего не понимаешь! Значит, чего же? Выходит так, что можно идти чай пить?
Тимка сказал уже более свободно, хотя в голосе еще и царапали какие-то камешки, принесенные слезами:
– А ты не обижаешься? За пироги?
– Сначала обижался, а теперь перестал.
– Мама еще напечет.
– Вот и я так подумал.
– А ты не обижайся.
– Замнем, – сказал отец.
– Замнем, – засмеялся Тимка, схватился с кровати и ринулся к отцовским коленям. Отец хлопнул его по мягким частям и сказал:
– Вот по этим самым местам раньше ремешком гладили в подобных случаях. Но я думаю, что это лишнее.
Тимка глянул вверх на отцовский подбородок и ответил так, как часто говорил отец:
– Абсолютно лишнее!
– Ну, идем ужинать.
В столовой Сережа уже не сидел за книгой, а встретил Тимку намекающим ироническим взглядом. Но Тимка был так доволен жизнью, что не стал протестовать. А как только сели за стол, отец сказал такие слова, которые круто изменили мир и окончательно повернули его к Тимке жизнерадостной и интересной стороной:
– Тимка с Кириком хотели провести во двор какую-то лужицу, а тут дела такие, что к нам и вся река может пожаловать.
– Что ты говоришь?
– Самые плохие сведения! Вчера прибавил ветер, а сегодня метр и двадцать сотых. Наводнение, кажется, будет настоящее.
– А что делать? – спросила мать.
– Уже делается. Сегодня ночью начинают укреплять дамбу.
Убегая от реки, посад не спасался от ее шалостей. В самую высокую воду первый домик, стоявший на самого берегу возле моста, не заливался водой, здесь река всегда подпирала один и тот же берег, подбежавший к ней узким отрогом от холмов на горизонте. По этому отрогу давно когда-то и начал строиться посад. Но потом, в течение трех столетий его истории, домишки посада разбросались по склонам отрога и спустились к плавням. Плавни расходились широко вверх по реке. С этой стороны каждую весну и подходило к посаду половодье. На краю плавней стояли домики, которые плавали каждый год, при самой низкой воде. Они и строились с расчетом на эту неприятность, все стояли на тонких высоких ножках, а жители входили в эти домики по крутым высоким лестничкам. Обитатели этой полосы издавна славились буйными характерами и скромными потребностями, исключая потребность в казенном вине, которую нельзя, во всяком случае, назвать скромной: они поглощали водку в неумеренном количестве, хотя и с умеренной закуской, вызывая удивление более положительных людей:
– И откуда они берут деньги, эту шелудивцы?
Шелудиевка, как называлась эта мокрая полоса, действительно пользовалась весьма ограниченными денежными поступлениями. Народ здесь обитал малоквалифицированный, иногда он перебивался черной работой на лесных складах, на разгрузке барж, а больше бродил по берегу с двумя-тремя удочками или шнырял по реке на древних душегубках…
С расширением завода положение шелудиевцев улучшилось, но и старый быт еще процветал над плавнями.
Железнодорожная насыпь, проходящая от моста, разрезала посад на две части: «Раек» и «Занасыпь». Между Шелудиевкой и насыпью разбросаны многочисленные домики, принадлежащие самому хозяйственному населению посада. Здесь живут возчики, воловики, лавочники, портные, огородники. Домики, принадлежащие им, воздвигнуты по старым чертежам, одобренным жизнью еще при царе Алексее Михайловиче. Стены их сделаны из глины и кизяка на легком деревянном каркасе, снабжены завалинками и ставнями, но в уровень с веком крыты не соломой, а железом. Вместо древнего глиняного пола, доливки, у них настоящие крашенные полы. Но по той же старинной моде домики окружены вишневыми садами, подсолнухами и стеблями кукурузы, огорожены довольно высокими заборами, а на улицу смотрят добротные ворота, крытые двускатной узенькой железной крышей. В общем, здесь цветущее царство, и названо оно «Райком» с некоторой претензией. В последнее время домики здесь стали строиться пошире, на две-три квартиры. Во многих домиках жили не только хозяева, но и квартиранты – рабочие и служащие завода сельскохозяйственных орудий…
Основное заводское общество размещалось по другую сторону железнодорожной насыпи. Там стояло много кирпичных, двухэтажных и трехэтажных домов, были мостовые и даже тротуары, там был и театр. Но и здесь между основательными сооружениями были разбросаны такие же райские дворики, принадлежащие посадским старожилам.
Высокое железнодорожное полотно, разделявшее посад на две части, разделяло и их весенние судьбы: «Занасыпь» никогда не страдала от воды. Только в двух местах, где сквозь насыпь под чугунными мостиками пробивались улицы, вода могла проникнуть к заводу, но в этих местах нетрудно было преградить ей путь.
«Раек» не имел таких преимуществ. Во время высокого половодья он обращался в Венецию, и с учетом этого подобия многие домики здесь стояли на сваях. Правда, лет двадцать тому назад, при городском голове Кандыбе, имевшем собственный дом на «Райке», была построена земляная дамба. Она великодушно прошла между «Райком» и Шелудиевкой, не лишая шелудиевцев привычных для них весенних ванн. Но после Кандыбы дамба эта ни разу не ремонтировалась, выполняя свои обязанности постольку поскольку…
На следующий день было воскресенье. Как только Тимка позавтракал, он немедленно направился к дамбе. Все люди спешили туда, навигация на уличном потоке была прекращена, лучшие корабли валялись где попало. Пока Тимка дошел до дамбы, рядом с ним уже шагала целая компания: и Митрошка Григорьев, и Кирик, и Петя Губенко, и многие другие. Петя сегодня был веселый. Он подошел к Тимке и спросил:
– Ты куда?
– Туда.
– И я туда.
– А чего ты сегодня не такой?
– Не какой?
– А ты вчера был такой: все думал и думал.
– Да так, – сказал Петя. – С сестрой подрался. – Петя смущенно улыбнулся. – С Наташей. Из-за тетрадки.
– Какая Наташа?
– А сестра Наташа. Она в девятом классе.
– А-а! Я знаю. Губенко Наташа?
Тимка хорошо знал Губенко Наташу. ОНа была председателем школьного комитета и часто заходила в их класс, чтобы поругать ребят за грязь или растоптанный мел.
Пользуясь воскресным днем, на дамбе собралось много народу. С неба смотрело приятное апрельское солнце. Дамба была твердая, слежавшаяся, еще не отошедшая от морозов. Впереди, перед дамбой, плавала Шелудиевка; ее обитатели оживленно шныряли между домишками на своих душегубках или карабкались взад и вперед по высоким крутым крылечкам; вода поднялась до высоты полов.
Она не подошла еще и к дамбе и вообще стояла неподвижная, мирная и грязная, подняв на себя весь накопившийся за год прах шелудивеских улиц: навоз, солому, тряпки и бумажки. На свободной полоске у дамбы были уже навалены кучи досок и бревен, с трудом поворачивались длинные подводы «разводки», суетились плотники. Дамба имела длину больше километра, и везде шла работа, плотники с молотками и лопатами укрепляли столбы и приколачивали к ним кривые шершавые доски. С другой стороны дамбы ползали в рыхлой земле «колымажки», опрокидывая к насыпи свежие кучки земли.
По самой дамбе бродили жители и заводские рабочие. Бычков стоял в новом пиджаке и говорил портному Григорьеву, маленькому тщедушному человечку, у которого вместо усов еще в молодости выросли по три волоска возле углов губ, да так и остались на всю жизнь:
– Смотри, сколько народу нагнали! Да впустую все. Впустую, – решительно буркнул Бычков. – Кто сказал, что будет вода? Кто сказал? Вода бывает как раз через десять лет. Была в семнадцатом, значит, в двадцать седьмом будет. А это так. Во!.. Смотрите, какие мы заботливые. Где хозяин! Чем не хозяин? А на самом деле Спирька это Самохин. Вчера кочегаром был, а сегодня он большевик. И все понимает, и какое наводнение, и какую дамбу нужно. С книжечкой ходит.
Тимка и Петя обошли всю дамбу, два раза спускались к самой воде, бросили палку и смотрели, куда она поплывет. Палка долго стояла неподвижно, а потом еле заметно стала подвигаться вдоль берега.
– А где ваша лодка стоит? – спросил Тимка.
– А там на реке. Там дядя мой на мосту служит.
У этого Петьки вся жизнь наполнена завидными вещами. Вчера матрос, а сегодня дядя на самом мосту.
– А чем он служит?
– А он называется начальник моста.
Петя произнес это без бахвальства, но все равно, зависть кольнула в тимкином сердце.
– Может, ты еще скажешь, что он большевик?
– Он так и есть – партийный. Так и есть – коммунист.
– Врешь!
Петя улыбнулся:
– А чего я буду врать?
– Ты думаешь, куда ни посмотри, так тебе все коммунисты?
– Чудак ты какой, так он же и есть коммунист.
– А чего вы лодку сюда не пригоните?
– Куда? На дамбу?
– Вот сюда. Здесь и поставить. Шикарно было бы!
– Сюда нельзя поставить. Пройдут еще три дня или четыре дня, и тогда вода через дамбу пойдет.
– Как? Прямо на «Раек»?
– Прямо на эти дома.
– От здорово! А откуда ты знаешь?
– А отец говорил?
– А он почем знает?
– Он все знает. Он говорит: несчастье будет, если не удержат. А то как и зальет. Все зальет.
Петя показал на «Раек» и глянул на Тимку серьезными черными глазами.
Тимка глянул по направлению его руки, и в его воображении встали все эти хаты, сады, дворники, плавающие в воде. В Тимкиных глазах загорелось восхищение.
– Вот красиво! Тогда будем здесь на лодке плавать, правда?
Петя нахмурил брови:
– На лодке можно плавать. Только будет жалко.
– Чего тебе жалко?
– А людей?
Тимка засмеялся:
– О! Людей! Вон же там залито, а люди все целые. И катаются на лодках. А чего жалко? И туда на лодке, и сюда на лодке! А там под мостом аж на самый завод.
– В завод? В завод ни за что не пустят!
– А я попрошу. Я скажу: только на минуточку, посмотрю и назад.
– Воду туда не пустят. Кто тебе пустит воду? Чтобы завод остановился?
Тимка спешно задумался. Остановиться завод не может – это Тимка хорошо понимал, потому что завод в его глазах был наиболее могучим и внушительным явлением. С завода каждый день приходил отец и приносил с собой какой-то особенный, сложный и радостный запах настоящей, большой жизни. И Тимка недолго думал, уступил.
– А чего он остановится? Только под мостами перегородить и все.
В этот воскресный день жизнь протекала не только нормально, но даже весело. На дамбе было оживление, гуляли девушки и молодые люди. Колеса на подводах приятно и мирно постукивали втулками. Спиридон Самохин похаживал по дамбе, посматривал на Шулудиевку и солидно и аккуратно записывал в блокнот число привезенных досок и колымажек земли. Деловые люди подходили к нему так же спокойно, они разговаривали, неторопливо поворачивались лицами то в сторону Шелудиевки, то в сторону «Райка». Даже шелудиевцы, обыкновенно народ задорный, подъезжали на своих душегубках к берегу и высказывали желания, не имеющие никакого отношения к угрозе наводнения:
– Эй, желтенькая, иди прокачу на быстрой лодочке! А, да это Катя! Катя, чего вам на дамбе ножки трудить? Садитесь.
– Опрокинешь.
– Да какой мне расчет опрокидывать? Старый моряк, что вы!
И некоторые девушки, кокетливо подобрав юбки, спускались с насыпи и осторожно, с приличным случаю волнением ступали носком на шаткую душегубку, а потом оглашали криком все плавни и валились в галантные объятия лодочника. С дамбы смотрели на них другие девушки и юноши и кричали:
– Катя, не верь ему, он обманщик, у него лодка с дырками!
– Ночевать будешь на крыше!
…А когда наступил вечер, на дамбе разложили костры, новая смена рабочих так же мирно постукивала топорами и втулками подвод, а возле костров собрались разные люди и негромко разговаривали, вспоминали прошлые годы. В их рассказах прорывался изредка смех, и не было ни одного трагического случая.
К вечеру и мальчикам прибавилось заботы и впечатлений. Вообще, за этот день они набегались, насмотрелись, наговорились, наспорились на целый год. А многие и наголодались. Когда стемнело, пришли матери и разыскивали своих слишком впечатлительных сыновей. Некоторые ласково, с тихим, душевным разговором повели детей обедать или ужинать, а кто и толчком направил бродягу домой, пользуясь для этого естественным удобством мягкого склона дамбы.
А были и такие, что и вовсе не нашли искомого, ходили и спрашивали встречных:
– Не видели Кольки? Ну, что ты скажешь, до чего противный мальчишка!
А Колька в это время, близко познакомившись с хозяином колымажки, сидит на узкой жердине и чмокает на коняку, перебирая в руках веревочные вожжи.
Уйти домой было трудно, события пробегали слишком поспешной чередой: не успеешь открыть глаза на одно, как налетает другое. Не успела перевернуться душегубка с полупьяным парнем, не успел парень выжать из себя грязную воду, как что-то закричали справа, и нужно лететь туда, кое-как рассматривая дорогу возбужденными глазами. А там привезли мешки, а в другом месте распрягалась лошадь, а с левой стороны подъехал грузовик, а с правой заиграла гармошка, а в середке запылали фары лакированной машины – прибыл предисполкома. И снова, и снова должны работать уставшие ноги, и снова устремляются вперед жадные глаза, и снова человек должен пыхтеть, преодолевая многочисленные расстояния. А когда пришел вечер, к разнообразным, быстро проносящимся случаям прибавились еще и результаты дня. Главное: вода подошла к самой дамбе. Грязный Митрошка уже бродил в воде и кричал стоящим наверху:
– Уже две доски закрыла! Две доски закрыла!
Верхние слушали, свесившись головами вниз, и млели от зависти к Митрошке, которому судьба послала такое редкое счастье – покладистых родителей, позволивших Митрошке целый день прогулять без ботинок.
Но уже на другой день утром картина изменилась: Митрошка уже не мог бродить под дамбой. В Шелудиевке вода подбиралась к полам, и шелудиевцы не катались на душегубках, а перетаскивали пожитки на чердаки. Как и вчера, приезжал председатель исполкома, повертел головой, забот у него много: вокруг самого города дамба протянулась на десять километром.
Прошел еще день и еще один. Вода прибывала на глазах по полтора метра в сутки. У шелудиевских домишек скрылись окна. Поверхность воды уже не стояла грязной домашней лужицей, исчез куда-то разный мелкий сор. Заметнее стало течение, кое-где появились водовороты, а набегающий ветерок уже подымал обычную рябенькую волну. У самой дамбы вода начинала бить потихоньку частыми мелкими всплесками. Доски были дошиты до самых верхушек вкопанных столбов, досыпана была земля. По высоте дамбы еще оставалось не покрыто водой несколько метров, но скептики косо посматривали на тонкую стенку дамбы: для того, чтобы удержать напор реки, нужно было расширить стенку, по крайней мере, вдвое. 24 апреля уровень воды достиг высоты семнадцатого года. Вечером в этот день завод приостановил работу и объявил мобилизацию всех рабочих сил для борьбы с наводнением. Закрылись школы. На станционные пути были поданы товарные вагоны для потерпевших.
Двадцать пятого числа Минаевы встали чуть свет. Еще вечером отец сказал:
– Вагон хоть и получили, а перебираться пока подождем. Сергей, собери наши лопаты, совки – все, что есть. А ты не шныряй под ногами, сиди дома, нечего тебе по дамбе лазить.
Но глаза Тимки ответили отцу таким страданием, что отец засмеялся и махнул рукой:
– Только там нечего наблюдателем ходить, возьмешь ведро, будешь мешки насыпать.
Тимка немного обиделся на отца за «наблюдателя». Выходило так, как будто он не помогал делать носилки.
Дамба была разделена на три участка. Самый левый поручался заводу, средний – «жителям», а правый, самый опасный, подходящий к главному руслу реки, – полку Красной Армии. Красноармейцы работали уже вчера. Тимка с ребятами бегали туда, но на дамбу пробраться не удалось, кругом стояли часовые с винтовками и не хотели даже разговаривать с гостями. Мальчики долго сидели на заборе и смотрели издали на работу красноармейцев. Работа полка производила впечатление очень важного и сурового действия. Тимка почувствовал это и в фигурах командиров, перетянутых ремнями, и в быстрых экономных движениях военных, и в озабоченном движении грузовиков, и в двух флажках, поставленных на дамбе: один синий, другой зеленый. И отец сказал вечером:
– С правой стороны, хоть и трудно, но там удержат. Легко сказать: полк Красной Армии! Куда там эта река годится!
Услышав эти слова, Тимка даже рот открыл, так это было прекрасно и сильно. Оттого, что против реки выступил полк Красной Армии, вся река представилась Тимке совсем в другом виде. Ему уже не хотелось кататься на лодке, а нужно было так же спокойно и сурово стать против нее, как стали красноармейцы. Духовные глаза Тимки видели теперь реку во всей ее вредной силе, видели страшную мощь ее движения и напора, видели размах берегов, скрывающихся в тумане горизонтов. Тимка захотел тоже бороться с ней и поэтому начал ненавидеть Бычкова.
Вчера, когда он с отцом и Сергеем делал в сарае носилки, подошел Бычков, долго стоял и смотрел на их работу, а потом по своему обыкновению уставился в землю заросшим лицом и сказал:
– Чего это, Василь Иванович, силы тратишь? Слышал я, тебя начальником над рекой назначили. Зачем тебе носилки?
– Не начальником, а помощником начальника участка. А носил все равно нужны.
– Хэ! Носилками реку остановят! Что на носилки положишь?
– Мешок с землей, – ответил Минаев.
– Поздно мешки класть. Надо было зимой дамбу делать. А теперь, конечно, за что попало, за то и хватаешься. И солдат мало пригнали, красноармейцев. Что же там, полк!
Минаев собрался что-то ответить, но в это время в дверях сарая показался Ленька Бычков и направил на своего отца широкое, скуластое лицо:
– Хоть ты и отец, но сказал чепуху.
– Во! Новый пророк явился! Откуда ты взялся, господи прости?
– А я здесь и был. «Пригнали!» Старый ты человек, а такое говоришь. Они к тебе на помощь пришли, а по-твоему – пригнали!
– Один черт, «на помощь»! Ну, вот их и пригнали, значит, на помощь. Приказали, они и поехали. Что же тут говорить? Солдат – все понятно! А ты еще сопляк отцу замечание делать.
Бычков хмуро и сонно смотрел на сына. Ленька постоял-постоял в дверях, ничего не сказал, хлопнул дверью и ушел со двора. Бычков повернул голову, глядя ему вслед, и долго так стоял и смотрел на калитку, за которой скрылся Ленька. На Минаевых смотрело только его ухо, такое же мохнатое, как и весь Бычков. Минаев прищурился на это ухо и сказал, как будто сыновьям:
– Ходит и болтает. И время даром тратит, и язык. Для чего носилки?
Бычков вдруг обернулся и закивал бородой:
– Тебе моего языка жалко?
– Жалко.
– Моего языка?
– Твоего языка.
Ребята захохотали.
Бычков повел глазом по сараю и молча было отошел, но обернулся:
– Тебе моей жизни не жалко.
Минаев закусил губу и оглушительно забил тяжелым молотком по длинному гвоздю. В два удара вогнал гвоздь в дерево и еще оглушительнее треснул его по шляпке, только лязг пошел по двору. И под этот лязг сказал Бычкову:
– Иди ты болтать в церковь!
Бычков ушел.
Все это вспоминал Тимка по дороге к дамбе. Разговоры эти, сложные, новые, горячие, как-то особенно его волновали. Он поворачивал душу во все стороны и везде встречал большую человеческую тревогу и многого в ней не разбирал.
В его руке слабо постукивало ведро, такие же звуки то там, то сям на улице. В темном еще тумане рассвета по улице белели носилки, поднятые на плечи людей. За улицей над крышами домов и над вениками голых еще деревьев еле заметно начинало розоветь небо. И там, где оно розовело, и в той стороне, где была река и дамба, затаилась чужая, какая-то гнусная тишина, а люди спешили к ней навстречу. Впереди головы людей и поднятые над ними лопаты быстро уходили в остатки ночной темени. Где-то очень далеко лаяли собаки, голос каждой был слышен, он придавал наступающему дню недобрый и несимпатичный вид. Тимка подбежал к отцу и тронул его за рукав. Отец сказал негромко, продолжая шагать:
– Ничего, Тимофей, шагай бодрей!
На заводском участке дамбы смены менялись в шесть часов утром и вечером. Двадцать шестого, как только склонилось солнце, Минаев сказал Тимке:
– Пришли ваши сменщики?
– Уже пришли, а я еще немножко.
– Иди со мной. Посмотрим участок.
Тимка отдал ведро Володьке Сороке и побежал за отцом. Они пошли по дамбе. Сегодня день прошел удачно. Ветерок дул на реку, было тепло, работалось весело, сделано было много. Минаев посматривал на Шелудиевку, от которой над водой остались только крыши. Еще утром спасательные лодки сняли с чердаков людей и отвезли в вагоны. Вчера в вагон перебрались и Минаевы. Солнце садилось за Шелудиевкой, и от этого ее крыши казались черными.
Река стояла в уровень с дамбой, как в стакане, налитом до краев.
Внизу и на склоне дамбы копошились люди, а на верху, хорошо утрамбованном и утоптанном, виднелись только отдельные фигуры.
У подошвы дамбы спорили. Ленька Бычков кричал:
– Во-первых, я не житель, а фабзавучник, – значит, рабочий.
Ему отвечал гнусавый, спокойный, чуточку презрительный голос:
– А говоришь, как житель.
– Да что ты, житель, житель. Жители тоже дни и ночи на дамбе.
– Им так и полагается. Такая у них организация.
– Чего же ты, как житель, как житель…
– А рассуждаешь ты, как житель. Я тебе говорю: иди домой, твоя смена кончилась.
– А я не хочу. Имею я право или не имею?
Минаев бегом спустился с дамбы. Тимка стоял наверху и слушал, замирая от сложности и серьезности обстановки.
– В чем тут дело? – спросил Минаев.
Против скуластого сердитого Леньки стоял молодой токарь Голубев, распорядитель работ в этом отрезке. На вопрос Минаева никто не ответил. Видно, что и Голубев сомневался в своей правоте. Минаев оглянулся: среди носилок, лопат и мешков стояли люди и с любопытством прислушивались к спору.
– Чего вы спорите? Работать бросили…
– Да как же не спорить? – почти со слезами сказал Ленька. – Гонит меня домой. Прямо в шею, пристал и пристал.
– Такой приказ, Ленька.
Ленька отвернул лицо:
– Приказ! Приказ для порядка. А если я хочу еще поработать?
– У него хата в «Райке», он и волнуется, – сказал откуда-то сбоку негромкий ехидный голос. Ленька злобно обернулся и ощетинился всей своей фигурой:
– Пусть она провалится, моя хата! Забери ее себе, дурак!
– И верно, что дурак, – сказал другой голос, басистый и тоже ехидный. Ленька не из-за хаты работает.
– Ленька, успокойся и иди домой, – спокойно проговорил Минаев.
Ленька размахнулся лопатой и со злостью всадил ее в землю.
– Не пойду! Не имеете права! Если я хочу работать!
– А дисциплины у тебя нет. За такие разговоры я мог бы тебя и совсем прогнать с дамбы, да вот молодой ты…
– Да почему?
– Нельзя. Сейчас твое геройство не нужно. Таких героев тут много… А ты чего задаешься, как будто ты лучше всех!
– Это всегда нужно…
– Нет, не всегда. Сейчас вы все тут герои, готовы работать без отдыха, а вдруг завтра, послезавтра действительно потребуется, а вас нет, вы свалились, и ни к черту. Что тогда будет?
– Не свалюсь, – Ленька упорно держался за лопату.
– Марш домой, я тебе говорю! – вдруг заорал на него Минаев. Тимка на верху дамбы испугался, его ноги дернулись и быстро переступили. Ленька отпрыгнул в сторону и бросил лопату. Потом хмуро двинулся к посаду, но остановился и пробурчал:
– Так бы и говорили с самого начала, а то житель, житель!
Кругом захохотали. Минаев, улыбаясь, взобрался по крутому откосу наверх и оттуда показал Леньке кулак. Тогда Ленька положил руку на затылок, потом взмахнул ею и побрел домой. К Минаеву быстро подошел в шинели, перетянутый поясом, Губенко. Его черная борода была всклокочена а выдавала волнение.
– Василий Иванович, я отказываюсь с ним возиться. Я не могу. Я никогда не работал в сумасшедшем доме.
– Не ходят?
– Во-первых, не ходят, во-вторых, плохо работают. Они всех подведут.
Он промолчал и прибавил:
– Сволочи!
– Ну, идем. А как дамба?
– Да пока ничего, держит. Но только… слабая, очень слабая.
Губенко был такого же роста, как и Минаев. Тимке пришлось следовать за ними бегом.
На «жительском» участке народу было заметно меньше, но Губенко, кажется, ошибся. Народ находился в большом движении. Здесь было много женщин. Они о чем-то тараторили, переругивались и все перебегали, устремляясь к одному месту.
– Чего вы все в куче? – спросил Губенко.
Молодая широкая фигура женщины выпрямилась:
– Мокреет.
Минаев широко шагнул вперед. На крутом склоне дамбы полоса около метра в длину сочилась тонкими струйками, сбегающими вниз. Тимка смотрел на струйки из-под руки отца и ничего не видел в них страшного. Но отец, видно, взволновался:
– Ай-ай-ай! Очень плохо. Да что ж вы мешками залепливаете! Ну, еще два мешка положите, а третий все равно сползет. На чем он будет держаться? Да где ваш народ?
Женщины молчали.
– Бычков где?
– Бычков и вчера не был, – ответил Губенко.
– Бычков хату строит Ракитянскому, – сказала одна из женщин.
– Хату? За насыпью?
– Да нет, в «Райке».
– Тьфу, черт бы вас побрал, идиоты! – рассердился Минаев. – А Захарченко, а Волончук? А этот… Григорьев?
– Волончук приходил, так мокрый совсем. Говорит, с горя выпил. А Захарченко вчера был, а сегодня в город чего-то пошел.
– Так… Ну, хорошо, начинайте снизу…
– Снимите меня отсюда, не могу я за них отвечать… – начал Губенко.
– Чего тебе за них отвечать? Ты кончай эту дыру, а я побегу насчет помощи. Тимка, ступай домой, я попозже приду.
Утром, когда пришла смена, никто уже не думал идти домой отдыхать. Тимка прибежал с Петей и не узнал дамбы. Над ней дебоширило ненастье, скрывая от глаз и Шелудиевку, и реку. Мелкий дождик то затихал, то набрасывался сверху холодными злыми порывами. С реки налетел сильный ветер и рассыпался мокрыми, липкими волнами. По реке ходили валы и пенились гребешками. Почти без передышки у края дамбы всплескивались языки воды, разливались по насыпи и сбегали вниз тонкой, пенисто-ажурной тканью. Люди скользили по откосам, падали, скатывались к подошве.
Тимка, Петя, Володя и другие мальчики не успевали наполнять землей пустые мешки. Земля сделалась жидкой и непослушной. Она прилипала к ведру, к рукам и не хотела высыпаться в мешок. Голубев сказал, чтобы брали землю в сараях соседних дворов, но только что мальчики побежали туда, на неоседланной широкой лошади прискакал мокрый и грязный Минаев и приказал:
– Голубев, бери всех комсомольцев и марш в центр. Там насилу держат!
Молодежь бросилась к центру. Тимка в нерешительности оглянулся. Отец посмотрел на него невидящим взглядом и поскакал дальше. Тимка схватил свое ведро и побежал за комсомольцами. Впереди, разбрасывая ботинками жидкую грязь, бежал Петя. Минаев галопом обогнал их.
Когда Тимка подбежал к центру, комсомольцы все были там. Женщины оторопело отступили. Между людьми топтался Григорьев и стонал. Перед носом Тимки Ленька Бычков с тяжелым мешком обрушился на странно булькающую пучину грязи у самой подошвы и закричал:
– Мешки!!! Скорей мешки!!
Тимка отпрянул в сторону перед волной людей с мешками и упал на первый горбик более сухой земли. Несколько человек упали рядом с ним, другие прыгнули к ним с пустыми мешками. Кто-то вырвал ведро из рук Тимки, и он заработал голыми руками. Справа от него очутился Петя, быстро мелькал совком и зашептал:
– Сейчас… сейчас… конец будет сейчас…
Тимка поднял голову. Далеко вверх расползался склон дамбы, по нему бегали, ползали, скатывались комсомольцы и с силой втискивали в земляное месиво тяжелые мешки с землей. К Тимке стремглав скатился Ленька с черным от грязи лицом и, задыхаясь, прохрипел:
– Давайте хлопцы, давайте!
– Ой!! – закричал кто-то впереди, на крик метнулись. Тимка с ужасом увидел, как на склоне задышала, приподымаясь, целая группа мешков. Вдруг между ними вырвался и подпрыгнул вверх черный блестящий купол и растаял в широком потоке. Несколько мешков тяжело полетели вниз, а на их месте кривой струей забило неожиданно чистая вода. Ленька прыгнул туда с мешком и вдруг провалился по пояс. Над головой раздался резкий голос отца:
– Все наверх! Долой отсюда! Разбегайся по дамбе!
Тимка только на миг оглянулся на отца. Он мелькнул в его глазах дрожащим пятном и исчез в общем вихре тревоги. По Тимкиным коленям ударила холодная волна воды, потом она ударила в грудь и повалила навзничь. Падая, Тимка ухватился за плечо Пети, но и Петя падал… Перед самым лицом Тимки возникла нога лошади, и чей-то голос сказал спокойно:
– Хватай того!
Кажется, это был голос отца. Тимка кувырком понесся вверх. Он опомнился только тогда, когда почувствовал на щеке странную мокрую щетку. Он открыл глаза и увидел страшно близко лицо Губенко. Тимка рукой отстранил от глаз его бороду и сказал:
– Я… ничего… Я встану. А где Петя?
– Подожди вставать, – сказал Губенко.
Он тяжело взбирался на насыпь. На насыпи сидел на коне и держал на руках Петю.
Тимка оглянулся: по дамбе бежали люди. Внизу уже везде была вода. В месте прорыва она шла горбатым ревущим потоком и остервенело била в стену ближайшего домика. Домик кренился под ее ударом, его крыша приподнялась одним краем и вдруг рухнула.
– Конец, – сказал отец. – Мы с тобой, кажется, сыновьями поменялись.
Губенко поставил Тимку на дамбу.
– Разберемся.
Лодка плыла по улице «Райка». В лодке сидели отец, Губенко, Петя. Тимка не узнавал своей улицы – только верхние части стен виднелись над водой и как шалаши стояли на них крыши. На одной крыше сидел Бычков и кричал лодке:
– А-а! Катаетесь!? Вам кататься? А я? Дом отняли и сына отняли?
Он ударил кулаком в грудь:
– Сына отняли!
– Выпил? – спокойно спросил Минаев.
Бычков выкатил глаза:
– Выпил. А что же ты думаешь? Уже и выпить нельзя. Ах, вы… утопийцы! Утопийцы! Сына отняли!
Губенко рассмеялся:
– Да кому такой отец нужен? Барахло! И правильно Ленька сделал. На что ему такой отец?
– Не нужен, значит? Не нужен?
Лодка была уже далеко, а Бычков все еще шумел.
Тимка шепотом рассказывал Пете, что Ленька отказался от отца и живет теперь в общежитии фабзавучников. Расширяя глаза, Тимка сказал:
– Говорит: я рабочий, а это не мой отец. Он, говорит, – шкурник. Ты понимаешь?
Петя кивнул головой:
– Он правильно сказал.
И Тимка кивнул головой:
– А как же, конечно, правильно: такая беда, а он хату строит, думает вот заработаю! Все себе хватает и хватает. Правда?
Какой-нибудь двухлетний Жора смотрит с презрением на чашку молока, замахивается на нее ручонкой и отворачивается. Жора сыт, у него нет желания пить молоко. Этот будущий человек не испытывает никаких прорывов в области питания. Но, вероятно, есть другие области, где его потребности недостаточно удовлетворены. Может быть, у него есть потребность в симпатии к другим людям или, по крайней мере, к другим существам. А если у Жоры еще нет такой потребности, то, может быть, ее нужно создать?
Мать смотрит на Жору любовным взглядом, но эти вопросы почему-то не интересуют мать. Он не интересует и любую наседку, любую мать в зоологическом царстве.
Там, где жизнь направляется инстинктом, там у матери единственная цель – накормить детеныша. И зоологические матери выполняют эту задачу с благородной простотой: они запихивают в раскрытые пасти, клювы, рты те продукты, которые им удается добыть и притащить в гнездо, запихивают до тех пор, пока удовлетворенные птенцы не закроют ротовые отверстия. После этого зоологические матери могут и отдохнуть и заняться собственными, личными потребностями.
Природа-мать весьма осмотрительно снабдила зоологических матерей очень мудрыми условиями. Во-первых, разные воробьихи и ласточки, чтобы накормить своих деток, должны совершить несколько десятков, а может быть, и несколько сотен рейсов в воздухе в течение одного рабочего дня. Пустяковая букашка. содержащая в своем теле какую-нибудь сотую долю калории, требует отдельного рейса, часто при этом неудачного. Во-вторых, зоологические матери не обладают членораздельной речью. Это достижение присуще только человеку. Выходит как будто, что человеческие матери поставлены в гораздо лучшие условия. Но эти выгодные условия сплошь и рядом становятся причиной гибельного воспитания человеческих детей…
Над человеком шефствуют законы человеческого общества, а не только законы природы. Законы социальной жизни обладают гораздо большей точностью, гораздо большим удобством, большей логикой, чем законы природы. Но они предъявляют к человеку гораздо более суровые требования дисциплины, чем мать-природа, и за пренебрежение этой дисциплиной наказывают очень строго.
Очень часто можно наблюдать: человеческая мать обнаруживает склонность подчиняться только законам природы, но в то же время не отказывается от благ человеческой культуры. Как можно назвать такое поведение? Только двурушничеством. И за это преступление матери против высокой человеческой сущности дети несут тяжелое возмездие: они вырастают неполноценными членами человеческого общества.
Нашей матери не нужно тратить столько энергии, чтобы накормить своих детей. Человеческая техника изобрела рынки, магазины, большую организованную заготовку продуктов питания. И поэтому пагубно-излишней становится страсть как можно больше напихать пищи в ротовые отверстия детей. И тем более опасно как попало употреблять для этой цели такое сложное приспособление, как членораздельная речь.
Жора смотрит с презрением на чашку молока. Жора сыт. Но мать говорит Жоре:
– Кошка хочет съесть молоко. Кошка смотрит на молоко. Нет! Кошке не дадим! Жора скушает молоко! Пошла вон, кошка!
Слова матери похожи на правду. Кошка действительно смотрит, кошка на самом деле не прочь позавтракать. Жора смотрит на кошку подозрительно. И природа-мать торжествует: Жора не может допустить, чтобы молоко ела кошка.
* * *
Может быть, все вопросы воспитания можно свести к одной формуле: «воспитание жадности». Постоянное, неугомонное, тревожное, подозрительное стремление потребить способно выражаться в самых разнообразных формах, очень часто вовсе не отвратительных по внешнему виду. С самых первых месяцев жизни развивается это стремление. Если бы ничего, кроме этого стремления, не было, социальная жизнь, человеческая культура были бы невозможны. Но рядом с этим стремлением развивается и растет знание жизни, и прежде всего знание о пределах жадности.
В буржуазном обществе жадность регулируется конкурентностью. Там размах желаний одного человека ограничивается размахом желаний другого. Это похоже на колебание миллионов маятников, расположенных в беспорядке в тесном пространстве. Они ходят в разных направлениях и плоскостях, цепляются друг за друга, толкают, царапают и скрежещут. В этом мире выгодно, накопив себе инерцию металлической массы, размахнуться сильнее, сбить и уничтожить движение соседей. Но и в этом мире важно знать силу соседских сопротивлений, чтобы самому не расшибиться в неосторожном движении. Мораль буржуазного мира – это мораль жадности, приспособленной к жадности.
В самом человеческом желании нет жадности. Если человек пришел из дымного города в сосновый лес и дышит в нем счастливой полной грудью, никто никогда не будет обвинять его в том, что он слишком жадно потребляет кислород. Жадность начинается там, где потребность одного человека сталкивается с потребностью другого, где радость или удовлетворение нужно отнять у соседа силой, хитростью или воровством.
В нашу программу не входят ни отказ от желаний, ни голодное одиночество, ни нищенские реверансы перед жадностью соседей.
Мы живем на вершине величайшего перевала истории, в наши дни начинается новый строй человеческих отношений, новая нравственность и новое право, основанием для которых является победившая идея человеческой солидарности. Маятники наших желаний получили возможность большого размаха. Перед каждым человеком теперь открывается широкая дорога для его стремлений, для его счастья и благополучия. Но он трагически попадает в невыносимое положение, если на этом свободном, просторном пути вздумает по старой привычке действовать локтями, ибо даже пионерам теперь хорошо известно, что локоть дан человеку для того, чтобы чувствовать соседа, а не для того, чтобы прокладывать себе дорогу. Агрессивное тыкание локтями в наше время есть действие не столько даже безнравственное, сколько глупое.
В социалистическом обществе, на разумной идее солидарности, нравственный поступок есть в то же время и самый умный. Это очень существенное обстоятельство, которое должно быть хорошо известно каждому родителю и воспитателю.
Представьте себе толпу голодных людей, затерявшихся в какой-нибудь пустыне. Представьте себе, что у этих людей нет организации, нет чувства солидарности. Эти люди каждый за свой страх, каждый в меру своих сил ищут пищу. И вот они нашли ее и бросились к ней в общей, свирепой свалке, уничтожая друг друга, уничтожая и пищу. И если в этой толпе найдется один, который не полезет в драку, который обречет себя на голодную смерть, но никого не схватит за горло, все остальные, конечно, обратят на него внимание. Они воззрятся на его умирание глазами, расширенными от удивления. Одни из этих зрителей назовут его подвижником, высоконравственным героем, другие назовут дураком. Между этими двумя суждениями не будет никакого противоречия.
Теперь представьте себе другой случай: в таком же положении очутился организованный отряд людей. Они объединены сознательной уверенностью в полезной общности своих интересов, дисциплиной, доверием к своим вождям. Такой отряд к найденным запасам пищи направится строгим маршем и остановится перед запасами на расстоянии нескольких метров по суровому командному слову только одного человека. И если в этом отряде найдется один человек, у которого заглохнут чувство солидарности, который завопит, зарычит, оскалит зубы и бросится вперед, чтобы одному поглотить найденные запасы, его тихонько возьмут за шиворот и скажут:
– Ты и негодяй, ты и дурак.
Но кто же в этом отряде будет образцом нравственной высоты?
Все остальные.
В старом мире моральная высота была уделом редких подвижников, число которых измерялось единицами, а поэтому снисходительное отношение к нравственному совершенству давно сделалось нормой общественной морали. Собственно говоря, были две нормы. Одна парадная, для нравственной проповеди и для специалистов-подвижников, другая для обыкновенной жизни и для «умных» людей. По первой норме полагалось отдать бедному последнюю рубашку, раздать имение, подставлять правую и левую щеки. По второй норме этого ничего не полагалось, да и вообще ничего не полагалось святого. Здесь измерителем нравственности была не нравственная высота, а обыкновенный житейский грех. Так уже и считали: все люди грешат, и ничего с этим не поделаешь. Грешишь в меру – это и было нормой. Для приличия полагалось один раз в год подвести черту всем грехам за истекший период, кое-как попоститься, несколько часов послушать гнусавое пение дьячков, на минутку притаиться под замасленной епитрахилью батюшки… и списать «на убыток» все прегрешения. Обыденная нравственность не выходила за границу среднего греха, не настолько тяжелого, чтобы быть уголовщиной, не настолько и слабого, чтобы заслужить обвинение в простоте, которая, как известно, «хуже воровства».
В социалистическом обществе нравственное требование предъявляется всем людям и всеми людьми должно выполняться. У нас нет парадных норм святости, и наши нравственные движения выражаются в поведении масс.
Да, у нас есть Герои Советского Союза, но, посылая их на подвиг, наше правительство не устраивало им особого экзамена. Оно выбирало их из общей массы граждан. Завтра оно пошлет на подвиг миллионы людей и не будет сомневаться в том, что эти миллионы обнаружат такую же нравственную высоту. В уважении и любви к нашим героям меньше всего морального удивления. Мы любим их потому, что солидарны с ними – в их подвиге видим обязательный для нас практический образец и для нашего поведения.
Наша нравственность вырастает из фактической солидарности трудящихся.
Коммунистическая мораль только потому, что она построена на идее солидарности, не может быть моралью воздержания. Требуя от личности ликвидации жадности, уважения к интересам и жизни товарища, коммунистическая мораль требует солидарного поведения и во всех остальных случаях, и в особенности требует солидарности в борьбе. Расширяясь до философских обобщений, идея солидарности захватывает все области жизни: жизнь есть борьба за каждый завтрашний день, борьба с природой, с темнотой, с невежеством, с зоологическим атавизмом, с пережитками варварства; жизнь – это борьба за освоение неисчерпаемых сил земли и неба.
Успехи этой борьбы будут прямо пропорциональны величине человеческой солидарности.
Только двадцать лет прожили мы в этой новой нравственной атмосфере, а сколько уже мы пережили великих сдвигов в самочувствии людей.
Мы еще не можем сказать, что мы уже окончательно усвоили диалектику коммунистической морали. В значительной мере в нашей педагогической деятельности мы руководствуемся интуицией, больше надеемся на наше чувство, чем на нашу точную мысль.
Много еще живет в нас пережитков старого быта, старых отношений, старых привычных моральных положений. Сами того не замечая, мы в своей практической жизни повторяем многие ошибки и фальсификаты истории человечества. Многие из нас бессознательно преувеличивают значение так называемой любви, другие еще носятся с верой в так называемую свободу, не замечая сплошь и рядом, что вместо любви они воспитывают сентиментальность, а вместо свободы – своеволие.
Из области общих солидарных интересов вытекает идея долга, но не вытекает прямо выполнение долга. И поэтому солидарность интересов еще не составляет нравственного явления. Последнее наступает только тогда, когда наступает солидарность поведения, В истории человечества всегда существует солидарность интересов трудящихся, но солидарная успешная борьба стала возможна только в конце нашего исторического опыта, завершенного энергией и мыслью великих вождей рабочего движения.
Поведение есть очень сложный результат не одного сознания, но и знания силы, привычки, ухватки, приспособленности, смелости, здоровья и, самое главное, – социального опыта.
С самых малых лет советская семья должна воспитывать этот опыт, должна организовать упражнение человека в самых разнообразных солидарных движениях, в преодолении препятствий, в очень трудном процессе коллективного роста. В особенности важно, чтобы ощущение солидарности у мальчика или у девочки не строилось только на узких семейных транспарантах, а выходило за границы семьи в широкую область советской и общечеловеческой жизни.
Заканчивая первый том «Книги для родителей», я позволяю себе надеяться, что она принесет некоторую пользу. Я преимущественно рассчитываю, что читатель в этой книге найдет для себя полезные отправные позиции для собственного активного педагогического мышления. На большее я рассчитывать не могу. Каждая семья отличается своеобразием жизни и жизненных условий, каждая семья должна самостоятельно решать многие педагогические задачи, пользуясь для этого отнюдь не готовыми, взятыми со стороны рецептами, а исключительно системой общих принципов советской жизни и коммунистической морали.
В первом томе я успел затронуть только узловые вопросы, связанные со структурой советской семьи как коллектива. В дальнейшем рассчитываю перейти к вопросам духовной и материальной культуры семьи и эстетического воспитания. Было бы желательно, чтобы второй том был написан не только на основании моего личного опыта, но и на опыте других людей. Поэтому я буду очень благодарен тем родителям, которые напишут мне о своих мыслях, затруднениях, находках. Такое общение между писателем и читателем будет лучшим выражением нашей солидарности.
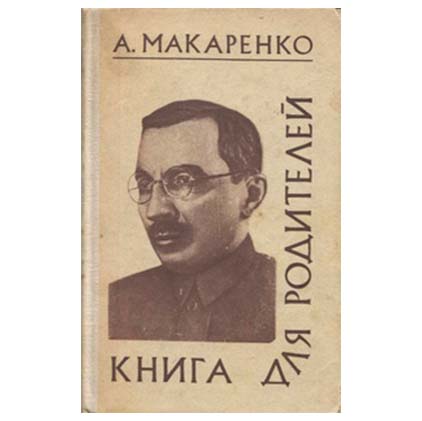
Комментировать