Господин пустыни
I. Мертвая пустыня
Палевая пустыня с синими тенями от нанесенных самумом песчаных бугров. Все они, как волны в океане, гребнями в одну сторону. До боли всматриваешься вдаль: не мелькнет ли что, не скажется ли на этом мертвом просторе, хотя бы случайно, жалкая крадущаяся жизнь. Нет, — все кругом и впереди и позади недвижно… Опаловое небо слепит. Солнце заливает этот уголок Сахары таким палящим огнем, что вода в козьих мехах сохнет.
Еще час назад на западе мерещился сквозь тени призрачными очертаниями чуть проступающий на этом знойном небе дрожащий мираж Тафилета: четырехугольные массивные профили его мечетей, тяжелые белые куполы и бесчисленные ступени белых плоскокровельных домов. Но теперь, когда, собирая последние силы, оглядываешься, — уж ничего там не различаешь, кроме однообразных гребней песчаных волн. Хоть бы на одном из них закурился дымком взрытый ветром песок!
Нет! Недвижима и молчалива пустыня, и если бы не звонки нашего маленького каравана и не тихая песня араба рядом, я бы думал, что все замерло, ничто не дышит кругом…
За весь первый мучительный день я помню только белые кости верблюдов, зловещей полосой намечавшие нашу дорогу между песчаными буграми, да большую серую змею, переползавшую путь… Только к вечеру в песчаных буграх показались расщелившиеся серые камни… На песке показались мягкие следы… Верблюды втягивали в себя воздух, арабы ожили… Воздух так же жег и пламенел, но они привыкли в Сахаре издали угадывать источник…
— Здесь ходят львы, — говорили они, — значит, близко вода. «Господин пустыни» не может жить без нее…
Так недалеко от Тифалета, — всего один день пути, — и уже львы!
Мне, видевшему их только в клетках зоологических садов и в детстве начитавшемуся о необыкновенных приключениях путешественников, стали чудиться чуть не за каждым камнем их рыжие косматые головы.
Сразу исчезло оцепенение от этого измучившего меня своим зноем солнца. Даже головную боль от морской зыби верблюжьего бега точно рукой сняло. В этом, полном огня воздухе все, казалось, дрожало: и песчаные валы, и серо-желтые камни… И, вглядываясь в ущелья между сыпучими горами, я уже различал какие-то силуэты…
II. Львы!
К источнику раньше нас подошел другой караван.
— Как бы не выпили всей воды!
Та, которая сохранилась в наших мехах, была горяча и загустела в противную муть.
— Нет. Через час вода опять наполнит выбоины… — ответили мне арабы.
Маячили беспорядочно разбросанные тонкие и темные силуэты верблюдов. В нескольких местах чуть-чуть синели струйки дыма от костров, прямые и стройные в неподвижном воздухе. И странно, — ни одной пальмы не было около.
— Отсюда их и не увидеть… Они в тени тех вон скал.
Проводник на одном из каменных выступов зачем-то остановил наш караван. Со мной был бинокль. Я взглянул в него, — действительно, под бурыми утесами выступили едва намеченные жалкие деревья. Еще далее, на самом гребне горных скал, что-то мелькнуло и скрылось. Выступило опять. Разбилось на два медленно скользившие тела. Я указал туда проводнику.
— Это — «господин пустыни» с своей женой. Верблюдов чуют…
В поле зрения бинокля чуть намечалась пара львов. Снизу караван их не видел. Могучие хищники заранее высматривали добычу. Я представлял себе, как они судорожно и злобно царапают накалившийся камень, как бьют по нем хвостами, как припадают к земле, нюхая пахнувший живьем и дымом воздух.
— Ночью не придется спать…
— А что?
— Львы возьмут или у них или у нас верблюда. Голодны. Иначе днем не показались бы…
Отсюда шел крутой спуск.
На одном из поворотов меня так и отбросило в сторону.
Вдруг с земли поднялась длинная шея. К нам обернулась голова с прекрасными страдальческими глазами. Брошенный верблюд хотел подняться на ноги. Сделал последнее усилие и всей своей тяжестью рухнул на песок, окутавший его золотым облаком… Передние ноги были сломаны. Накалившаяся земля уже выпила горячую кровь из ран, и там, куда она пролилась, только чернело… Должно быть, поскользнулся, упал… Наши верблюды проходили, осторожно и опасливо оглядываясь, старались дальше отодвинуться от этой жертвы, брошенной пустыне. Только их головы на длинных шеях поворачивались к ней, тяжело дыша вздрагивающими тонкими ноздрями.
Когда мы почти миновали несчастное животное, оно вдруг жалобно и резко послало нам вслед длинный, медлительный последний крик. Еще живое, оно прощалось с живыми…
— Так нельзя оставить его, — обратился я к переводчику.
— А что?
— Что же ему страдать!.. Ведь тут каждое мгновение невыносимая мука.
Тот перевел проводнику.
— Умирающий верблюд спасет живых: львы почуют его скоро, и с них будет довольно и этой добычи. Этому брошенному недолго мучиться. Как только сядет солнце — львы будут здесь…
Дымки пастухов выступали яснее… Беспорядочный шум бивака в пустыне уже долетал к нам странными, гортанными и резкими, как птичий клекот, звуками.
III. Ночная тревога
Вечер пустыни. Солнце еще не село, — оно нестерпимо сверкает в океане слепящего пламени, а по спаленному лицу Сахары уже бегут, колеблются и растут странные изменчивые тени. В воздухе еще не погасли искры томительного дня, а возбужденное ухо уже ловит, если не самые звуки, то призраки, миражи звуков.
Чудится, будто откуда-то крадется чье-то дыхание: коварное, подстрекающее, стелющееся по земле. Чу… Издали доносится грозное, властное рычание косматого зверя, не знающего себе соперника на всем этом просторе…
Ниже и ниже солнце… Настала ночь…
На укрепленных в податливом песке жердях черные кошмы. В их устьях огоньки погасающих костров.
Голоса под шатрами смолкли. Луна, громадная, страшная даже, все обливала своим мерцанием. Как глубоко молчит пустыня! Даже рычание львов не нарушило этой тишины. В синем свете белели кости павших верблюдов.
Чу, что это? Залаяли собаки, пугливо и трепетно забились на своих привязях усталые верблюды Один ворвался, и вдруг перед лунным пятном у входа в мой шатер обрисовались его тонкие, казавшиеся черными ноги. Кто-то встал, подхватил и отвел его. Зарычало в другой стороне, — и опять раздалось трусливое тявканье псов.
Где-то вспыхнул огонек, другой. Никто уже не спал. Люди выползали с ружьями. Как будто треснуло несколько крупных сучьев, раздались выстрелы, где-то далеко-далеко повторило их эхо бурных утесов. Еще раз… Арабы пугали львов: не спим-де — сторожим.
— Ты знаешь, как крадется лев? — говорил мне переводчик. — Я видел таких в лесной чаще у вод Аль-Могари. Ни листок не шевельнется, ни сучок не сломится, а ведь они больше быков здесь. Он животом по земле ползет. Вытянет лапу, в корни вопьется и тянется вперед. Как дышит, и то его не слышно…
IV. Украденный львенок
Между арабами точно застывает тихая, тихая, смолкающая и опять вспыхивающая беседа.
— О чем вы говорите?..
— Мой приятель, Абд-эль-Амру, двадцать семь лет назад привез из пустыни львенка…
— Зачем?
— Дочь каида, смеясь, сказала ему: когда ты отымешь у львицы ее детеныша, тогда и я буду тебе женой под черной кошмой твоей бедной палатки.
Это слышали другие. Наедине молодой араб обратил бы все в шутку. Тем более, что ему не на чем было уйти в пустыню. Не пешком же добывать львят из их логовища! Он тогда только пас чужих верблюдов. Своей у него оказывалась только собака, да и та сама кормилась где попало, причем хозяину случалось ей завидовать. Часто от голода он ложился в накалившийся солнцем песок — средство, до сих пор знакомое бедным марокканским пастухам…
— Львенок будет у тебя… —сказала девушка, — или…
— Что «или»?
— Или ты никогда меня больше не увидишь.
В одну светлую лунную ночь Абд-эль-Амру украл у ее отца лучшего из верблюдов и отправился в пустыню за львенком.
Верблюд так несся вперед, как будто пустыня сама бежала ему навстречу. Скоро огни Тафилета погасли позади… Рядом скользила по бледным пескам синяя тень. Показались первые утесы. На бегу мелькнул мимо источник оазиса. Львы скоро начали перекликаться в пустыне… Замирал рев направо, — и далеко, далеко слышался ответный налево.
С Абд-эль-Амру были только тонкое и длинное копье да нож. Такому нищему даже и не снилось ружье, хотя из чужих он стрелял хорошо… И второй источник попался на пути. Тут араб вымыл верблюду ноздри и ноги, дал ему сделать два-три глотка, чтобы скакун не отяжелел на бегу.
Ночью львы на добыче; детеныши в логовищах. Лежат и ждут, пока родители не вернутся с добычей. Играют на лунном свете, мурлычат, облизывая друг друга.
— Как он мог отыскать их?
— По запаху. Логовища львов чуют здесь издали. Воздух пустыни так чист, что дыхание зверя дает себя знать на большом пространстве.
— А запах верблюда, на котором он несется?
— Бег так быстр, что испарения его кожи остаются позади. Потом около логовища всегда есть остатки от старой добычи — необглоданных костей, изодранной шкуры.
Абд-эль-Амру скоро почуял в стороне убежище льва и его семьи… Он направился туда и увидел спавших у камня двух львят величиной с комнатную собаку. Живо он захватил их и оглянулся назад… Теперь надо было уходить как можно скорее. Каждое мгновение могла вернуться львица. Да и детеныши барахтались в его руках и визжали и мяукали, так что чуткая мать услышала бы их на далеком расстоянии… Львята царапали арабу и ноги и руки.
Он захватил обоих за уши, а скакун сам направился назад к Тафилету, уже не руководимый всадником. Бугры за буграми мелькали по сторонам. Далеко позади оставалось палевое облако взрытого песка. Из-под него часто под самые ноги верблюда подвертывались белые оглоданные ребра и черепа… Все было бы еще хорошо, если бы не визг львят в тишине пустыни…
Вот первый оазис близко. В лунном свете стали заметны его чахлые пальмы. Араб хотел было остановиться, освежить верблюда, но вдруг позади раздался такой полный отчаяния и бешенства рев, что молодые львята, узнав голос матери, завертелись в его руках и забились… Рев повторился еще отчаяннее и неистовее. Верблюд почуял позади несущуюся за ним смерть. И, казалось, уже не бежал, а летел по пустыне.
Пронзительно мяукали львенки, остервенело ревела нагонявшая их мать. Оглядываясь, араб уже видел ее, то проносившуюся над песчаными буграми и темными камнями, то стлавшуюся по земле и царапавшую песок своими мощными когтями. Сколько времени неслись они так, он не знал — час или мгновение…
Чтобы заставить молчать львят, араб сильно прижал их к себе, но они изорвали ему грудь тонкими, как иглы, когтями. Он прижал их к торчку своего седла, и те завизжали от боли еще пронзительнее и оглушительнее, а почти в самое ухо всаднику заревела тоскующая мать. Что-то круглое ударило ему в спину, и верблюд подпрыгнул, точно хотел унестись в небо от когтей, разодравших ему спину.
Абд-эль-Амру обернулся. Львица скатилась с верблюда и припала к земле для нового убийственного и быстрого, как выпрямившаяся пружина, прыжка. Гибель была неизбежна. Араб мгновенно сообразил, что надо делать, и швырнул назад ей одного из детенышей. Кувыркнувшись в песке, с жалобным воем распластался львенок. Мать бросилась к нему и начала жалобно облизывать и ворошить его.
Абд-эль-Амру свободною теперь рукой выхватил висевшее у пояса копье. Приподнялся на мягких стременах — петлях — и со страшною силою пустил копье. Он, уже не оглядываясь, несся вперед… Раненая львица ревела позади. Может быть, она бессильно распласталась на неостывшем за ночь песке пустыни и уже исходила кровью. Останавливаться было некогда, хотя в таком случае он мог бы захватить и брошенного им львенка.
Ведь каждую минуту крики раненой львицы мог бы услышать ее могучий самец, если он не унесся за добычей в противоположную от нее сторону. Там, где добыча редка, лев часто расстается с львицей, вместе они охотятся только у жилых мест и у оазисов, куда пристают караваны…
Смутные очертания белых зубчатых стен и башен Тафилета показались под утро, когда яркие звезды пустыни меркли, и на востоке небо Сахары облилось кровью восхода. Поднявшееся солнце зажгло весь город. Точно запылали в его огне белые стены и кровли… Абд-эль-Амру поставил верблюда назад в стойло каида и вышедшей за водою бронзовой красавице швырнул под ноги рыжего и мягкого львенка…
— Зачем он был ей? — на этом закончил свой рассказ мой проводник и добавил:
— Это время далеко. Теперь и «господин пустыни» уходит от нас. То ли мы слышали в такие ночи! Пустыня ревела сотнями львиных глоток. Казалось, ее камни обращаются в косматые гривы и орут на весь этот простор. Наши шейхи и каиды у своих ворот держали львов на цепях. А у султана в Феце они сидели в клетках, и часто им кидали туда мятежников, — тех, кто поднимался против угнетения…
— Связанных?
— Нет. Султану было бы не на что смотреть. Осужденному на львиную смерть давали в руки нож и щит. И он умирал, защищаясь, как и подобает отважному. Случалось таким и побеждать льва. Я видел сам раз такого. Эти битвы были ужасны. Человек и зверь сплетались в клубок. Рычал один; в смертных воплях исходил другой. Кровь их смешивалась, и когда лапы «господина пустыни» раздирали спину мятежнику, он, бывало, распарывал могучему врагу своему живот. Тут был бой — грудь с грудью. Для прыжка и разбега клетка не давала места.
Иногда видели, как и тот и другой подолгу мерялись пылающими глазами. Человек — прижимаясь в угол и держа перед собою щит, зверь — припав в другом и раздувая ноздри на обреченную ему добычу… Мне говорили, что раз такую добычу бросили сытому льву, и тот только сонно смотрел на него, хлопая хвостом оземь. Только когда пленный шевелился, лев злобно рычал, приподымаясь на передние лапы.
Лучшие рабыни кормили таких львов. К каждой клетке было приставлено по одной, и никогда «господин пустыни» не трогал ее. Если бы захотел, он бы ударил лапой невольницу. Она часто гладила его гриву, брала его за когти, говорила с ним, и лев только жмурился и тихо рычал от удовольствия. Сколько раз я видел таких из племени Бени-Ассан. Они засыпали, прислонясь спиною к клетке… Помню, раз лев положил ей на плечо лапу, и сам опустил веки — задремал. Невольницы входили к львам в клетку…
У одного каида лев зарычал было на рабыню. Другой — сильный, недавно привезенный из пустыни — кинулся на нее и прокусил ей горло… Давно это было…
Забрезжила вскоре заря, и страхи ночи кончились.
V. Поединок льва с буйволом
На другой день мы вышли на большую дорогу караванов, змеившуюся по спаленной пустыне песка сплошною полосою белых костяков лошадей и верблюдов. Тут уже чаще были оазисы, и сладко дремалось в тихом шелесте их пальм, шептавшихся у прозрачных вод ручья. Кое-где встречались темные шатры кочевников, и из-под их тени пристально следили за нами суровые глаза арабки, которым солнце, казалось, сообщило свой беспощадный, насквозь пронизывающий блеск.
В чистых и сухих зарослях тут слышался зловещий шорох. Через тропинки порой ползли большие сытые змеи, шипя в нашу сторону и раскрывая пасти, в которых трепетали тонкие раздвоенные языки. Как изумруды, сверкали злые глаза, и длинное кольчатое тело, точно прут, свивалось в чащу… Вечерами здесь пели невиданные птицы, и назло ученым, поставившим магребский восток вне пределов досягаемости для ярко-красных фламинго, мы часто по зорям видели их, прилетевших к далеким заводям.
Помню, мы раз отошли от арабского поселка. Тут, в оазисе, уже не было тишины пустыни. Чиликало в листве, свистало в траве, подернутой цветами, и сухо и оглушительно верещало в застывших в свете и зное кустах. Пахло пряно и возбуждающе какими-то благоуханиями…
На одном из поворотов дороги вдруг ехавший впереди Абд-эль-Амру чуть не слетел с верблюжьих горбов, — так «корабль пустыни» под ним точно поддало назад.
Я не успел остановиться, — на этот раз я был на коне, — и конь вынес меня вперед, в чащу… Точно по сигналу, замолкли птицы. Радужное облачко их поднялось в сторону, и только одни большие черные цикады неистово продолжали трещать и скрипеть по сторонам.
Моя лошадь тоже насторожила уши. По ее темной коже бежали судороги… Захрапела и подалась назад, и тотчас же влево послышалось мучительное, жалобное мычание.
Лошадь взвилась, не слушая удара. Я как-то сполз с нее, упал, встал и, точно опасность была позади, кинулся вперед…
Я теперь даю себе неясный отчет во всем происшедшем тогда. Мне казалось, что я ничего не видел перед собою: что-то громадное примерещилось в переплетах сухой и желтой травы за кустами. Оттуда меня обдало горячим паром, как будто чья-то пасть дохнула мне в лицо. Гигантский клуб перевившихся черного и рыжего тел, и по черному — яркие алые струи… Клуб этот хрипел, и сквозь хрипение что-то хрустело и хряскало… Клуб смотрел четырьмя глазами, и между ними бороздили землю большие могучие рога. Что было потом, я не знаю. Сзади на меня вихрем налетело что-то, схватило и подняло. Когда я очнулся, я сообразил, что лежу поперек верблюда Абд-эль-Амру.
— Что это было?
— Ты безнаказанно видел, как лев терзает буйвола.
VI. В осаде у львов
Люди в поселке были в отчаянии. Раз львы повадились сюда, небольшому их стаду грозила неминуемая смерть.
У арабов этого племени были плохие ружья, да и тех не было дома. Местный каид потребовал к себе всю молодежь, так как ожидался набег соседей, давно собиравшихся отомстить ему за отбитое стадо.
Оставшиеся в поселке боялись отходить далеко в сторону от оазиса и сидели встревоженные, прислушиваясь, не раздастся ли издали зловещий рев льва. По ночам вокруг поселка били в двойные местные барабаны, стучали трещотками, нашли где-то старые рога и трубили в них навстречу предполагаемому хищнику.
Ночью я то и дело просыпался от этого адского шума и выходил к тихим струям, поперек которых от луны ложились тонкие тени пальм, и слушал жалобы арабов.
Накануне нашего предполагавшегося отъезда в селении поднялось неописуемое смятение. Из одного шатра в другой перебегали косматые простоволосые арабки, перекликаясь с одного конца становья в другой; дети, точно кто-то их швырнул полною горстью, рассыпались во все стороны.
Мой переводчик задыхался, и, весь изворачиваясь, как сырая ветка в огне, он, наконец, заорал в мою сторону:
— Господин, завтра нам нельзя будет одним двинуться в путь!
— Почему?
— Львы изорвали лошадь Абдуллаха… Вон он сам, Абдуллах, — едва дополз сюда. Спроси его…
Абдуллах из Тафилета ехал сюда, и под самым селением его настигли львы, должно быть, голодные, потому что напали среди белого дня. Он бросил им коня, когда увидел, что сейчас они будут на плечах у него, и сам даже рассказать не мог, как уполз от них. Не только уполз, но и ружье с собой приволок, не выпустив из него ни одного заряда.
— Я был один, — оправдывался он, — а за львом я разглядел вдали и львицу.
Когда вечером у тусклых огоньков костра собрался народ, — меня потянуло к нему.
Молчаливые арабы точно прислушивались к чему-то…
И в самом деле ждать пришлось недолго. С востока донеслось далекое рычание. Лев вышел на добычу…
Когда я вгляделся в сидевших тут, мне весь этот оазис показался каким-то жалким островком со всеми своими чахлыми пальмами и черными шатрами, затерявшимися посреди огненного и страшного океана безмолвной Сахары.
Что тут может сделать трепетная кучка полуоборванных, спаленных ее солнцем арабов? Достаточно одного полета песчанокрылого самума, чтобы следующий караван не нашел даже места оазиса… И от шатров, и от этих бронзовых с черными глазами арабок не останется даже и следа. Эти подвижные валы пустыни передвинутся и все занесут своими сыпучими массами. А вскоре другой самум пылающими устами сдунет и этот караван.
Одни львы уйдут от этих уст. Им, как кораблям в океане, никуда не заказан путь!..
VII. Львиная игра
Через два дня мы дождались каравана.
В розовом блеске утренней зари показались вдали длинною цепью черные верблюды. Медленно двигались они к нашему оазису. Из шатров выползали обрадованные люди. Арабский поселок жил такими посетителями. Скоро издали послышались звонки, вынеслись вперед арабы на лошадях…
Караван был богатый. На верблюжьих горбах колыхались плетеные и коврами задрапированные пестрые клетки с женщинами и важными маврами, закутанными в белый шелк. За спинами у молодежи, гарцевавшей впереди, были ружья.
Перед нами развернулась одна из самых странных картин пестрого, красочного Магреба. Всадники развернулись длинной линией и с воинственным диким криком ринулись вперед. Мы любовались, как, вскакивая босыми ногами на горбатые седла, они стреляли вверх, вниз, по сторонам, вскидывали ружья и на стремительном бегу ловили их.
Вдруг раздался пронзительный сигнал, и вся эта беснующаяся масса замерла, точно прикованная к своим местам. Молодежь по новому оклику разделилась на две партии. В тучах песку они разбежались на далекое пространство, подбрасывая вверх ружья, ловя их. Точно целили в кого-то и откидывались назад, будто заряжая. Одна партия обдавала другую оскорбительными вызовами, улюлюканьем, какими-то пронзительными восклицаниями на верхних нотах. Отдельные всадники выскакивали вперед и, грозя дулами, проносились мимо враждебной стороны.
Наконец послышался оглушительный вопль. Группа молодцов кинулась сослепу вперед, стоя в стременах с прикладами у плеча. Бросились врассыпную, но по мере головокружительного бега выравнивались, так что минуту спустя уже неслись стройною, необыкновенно живописною линией.
Противоположная сторона ждала, подняв ружья на прицел. Затрещали залпы, и в дыму и в песке точно свершилось чудо: в седлах никого. Всадники свернулись с седел, на которых болтались львиные шкуры. Охватив шеи коня, ногами держась за стремя, мчались они под беглым огнем противника. Враги за ними. В это время женщины визгливо запели что-то…
Я обернулся к переводчику…
— Они славят этих охотников: «Богатыри Магреба победили и перебили «господ пустыни». Теперь наши верблюды и буйволы могут спокойно пить воду речного оазиса, а дети играть на цветущих берегах».
С этим караваном мы на другой день выступили в путь.
Засыпанный колодец
I
Как ураган в пустыне — шел завоеватель. Ужас охватывал все перед ним. Безлюдели деревни и города… Запирались воины в каменные стены. Он жег дворцы и разрушал крепости. Пощады не знало его сердце. В бешеном неистовстве он говорил: «Я бич в руке божьей». Позади оставались пустыри, безлюдье, пожарища… Следом за ним неслась моровая язва: чего не докончил его меч, то добавила она… За нею уж не было ничего… Жизнь прекращалась; царство смерти раскидывалось в необъятный простор. В руинах жили только змеи и ящерицы… Вырубленные сады и истоптанные поля заносило песками. Под солнцем белели кости… Над ним в лунные ночи носились призраки и видения, и даже сам грозный Азраил, пролетая в небесах, черным крылом своим закрывал от себя печальное зрелище этого края…
II
И настоящая пустыня не остановила завоевателя… Что ему было до воинов, умиравших от жажды и голода в ее песках! Под вечер он разбивал свой шатер под пальмами мирных оазисов. Для него в них было достаточно воды!.. Он слушал, как пели птицы в их вееровидных венцах, смотрел, как полымя заката мерцало в них золотистым сиянием… Жалобно роптал на него ключ,— и ему ведь грозила смерть. Его жадно выпивало грозное войско, и нужны были целые годы, чтобы народились и просочились новые струи, столетия, чтобы выросли молодые пальмы взамен срубленных и сожженных в кострах… Ночью небесные звезды смигивали светлые слезинки, плача над несчастным жребием земли… Но какое дело завоевателю было до этих очей далекого неба!.. Они совершали свои пути,— он шел тоже своею дорогой…
III
И оазисы окончились. Их уже не было больше. Шатер завоевателя рабы раскинули над колодцем. В незапамятную старь какие-то шейхи долго рыли его… Они знали, что не им придется пить его живоносную влагу, но им было ведомо тоже, что ничто доброе не пропадает и только зло уходит бесследно из мира… Дети их окончили это, и вода, внезапно наполнившая черную нору, с тех пор служила целым поколениям измученных путников… Тысячелетие прошло,— и каждый день слышались благословения тем, кто напоил жаждущих в пустыне. И души великих шейхов, как на крылах, все выше и выше поднимались этими благословениями в самое седьмое небо, к вечному престолу Аллаха. Но что за дело было завоевателю до жалкого человечества. Ему надо было победить пустыню. Рабы его и воины могли вернуться и покинуть его. Ее солнце уже пугало их. Он утром приказал засыпать и сровнять с землею колодец. «Здесь ждет вас отныне смерть,— сказал он им,— а там победа и слава; куда я — туда и вы пойдете за мной…»
IV
И они пошли за ним. Но мера беззаконий его исполнилась… Ему навстречу понесся еще более грозный Хамсин, точно завесу от земли до неба поднимая перед собою пески горячей пустыни… Отблесками мечей небесной рати сверкали в них тысячи молний. Негодующее небо в один гневный крик сливалось с дрожавшею от торя землей… Наступало возмездие, и завоеватель понял это. С презрением взглянул он на потерявшееся стадо своих невольников. Ему и умирать неприлично было с ними. Он сел на лучшего своего коня и понесся навстречу Хамсину… «Я не могу победить тебя, но я не складываю меча перед тобою!» — гордо кричал он ему в самые недра бури, где ему чудился красный, словно раскалившийся и полымем дышавший на всю эту пустыню, громадный лик ангела, в руки которого Господь положил управление стихиями земли… И ангел дунул на него, и завоевателя, как пушинку, снесло прочь… Он завернулся в плащ и лицом в землю умер… Завеса песков нагнала испуганных рабов и схоронила их… Никто не может указать, где их могилы… Ни славы, ни воспоминания!..
V
На черных крылах своих Азраил понес душу владыки к престолу Суда… Темным вихрем стремились вслед призраки убитых им людей… Из бесконечных далей спешили они свидетельствовать о нем. Из-за теплых и холодных морей, из-за степей, весною покрывающихся зеленью, из-за гор, где положены пределы земли и начало небу, как бесчисленные пчелиные рои, подымались они вслед завоевателю… В первую же ночь над пожарищами и руинами не показывалось страшных фантомов… Все-все должны были стать перед недавним владыкою у подножия Аллаха. Все-все… Их видела преступная душа и ни разу не содрогнулась. Гордость пережила самую смерть, и теперь, казалось, сбросив тело и страсти, владыка еще грозил своим жертвам. Вихрем они вились кругом, но не приближались к нему… Им было страшно. Они боялись его и теперь, уже бессильного сделать им зло… Вот в миллионах солнц, в стройном хоре бесчисленных светил, поддерживаемый мириадами лазурных крыл величайших серафимов,— престол Аллаха, и смятенно трепещущий ангел смерти сложил перед ним душу завоевателя.
VI
«Говорите!» — сказал Аллах, и убиенные начали свидетельствовать… Длинные свитки злодейств раскинулись от небес до земли. Рыдания наполнили вселенную… Чудом воскресшие города запылали, стали вновь падать расцветшие сады… Бесконечные картины истребления одни сменялись другими… Дымом пожарищ окутало праведных,— даже солнца Аллахова престола потускнели в нем. Слышалось, как содрогается земля в своих недрах; стихийною бурею налетали стоны женщин, мучительные крики детей… Душа завоевателя видела, как миллионы призраков простирали к ней свои руки, как другие миллионы ожидали своей очереди в пространстве. Мечи опять стучали о мечи, дротики свистали в воздухе, сквозь свидетельство жертв прорывались воинственные восклицания боевых дружин… «Воистину,— изрек Аллах,— земля доныне еще не создавала подобного палача… Но чего же ждать от нее. На этой жалкой пылинке вселенной зло еще торжествует, и добру не настало время одолеть его… На тебя, жалкий изверг низшего мира, тоже подымали мечи,— и ты им мечом платил за это. Ты стал сильнее других и истребил их… Будь они сильные, они бы убили тебя… Это я бы простил тебе… Но чья эта тихая жалоба?..»
VII
Тихая-тихая… Точно плач младенца… Будто ночью ропот струек, падающих в мраморный водоем… Странно тихая-тихая; но от нее вдруг замолкло свидетельство миллионов жертв, погасли чудом рыдания женщин… Вознесенные издавна к престолу Аллаха — добрые шейхи стали перед ним: «Эта жалоба засыпанного колодца, о, Справедливый… это его голос, о, Вечный…» И Аллах склонил свой слух… «Мы служили только добру, одному добру. Мы не спрашивали у жаждущего в пустыне: «Кто ты и достоин ли нас?» Мы поили его своими струями. Мы поили его стада потому, что ты, о, Милосердный, и им дал дыхание жизни… На этой злой земле мы целые века являли правду твою, и никто, прибегавший к нам, не уходил от нас обманувшимся в своей надежде. Нас щадил ангел бури, и Хамсин, пролетая мимо, не задевал нас огненными крыльями. Он знал тоже, что мы служим тебе в добре и вечной любви твоей… И вот пришел человек, назвавшийся бичом твоим… Я напоил и его, исполненного злодеяний, его жестокости я открыл милость твою… Но он не научился ничему из этого… Он и меня убил, он и меня засыпал,— и теперь я, заключенный в самые недра горячей пустыни, молю тебя, о, грозный Аллах, яви правду свою…» Голос засыпанного колодца все тише и тише звучал; но все темнее становился лик Аллаха, и в ужасе перед ним закрывались тучами блистательные солнца его престола, и мириады агентов опускали крылья над своими глазами.
VIII
«Жалкая тля жестокого мира… Ты называл себя бичом моим? Ты будешь им! Иди назад на землю; ты — отныне мой гнев. Ты посеешь чуму и соберешь жатву черной смерти… Ты из самых недр ада вызовешь беспощадных демонов и укажешь им области, заслужившие кару мою. Во главе этих темных сил ты истребишь противящихся мне. Ты будешь топить корабли в океане и караваны в пустыне. Ты отторгнешь младенца от груди матери и мать отнимешь у беспомощного ребенка. Ты в каждое слово любви бросишь свое змеиное жало и каждый светлый день омрачишь своею тенью. Ты — засуха и град, ты — наводнение и буря. Ты в тучах саранчи опустишься над благословенными полями и с бледными призраками голода войдешь в обнищавшие города. Ты будешь лить кровь и сеять страдание, но с каждым шагом твоим ты все будешь несчастнее и несчастнее…»
IX
«Иди и помни! Ты сам будешь, творя зло, испытывать муки всех твоих жертв — боль чумы и ужас черной смерти. Страх перед демонами, покорными тебе, и муки тех, кого они, по указанию твоему, погубят. Ты будешь утопать с пловцами и задыхаться в пустыне с пилигримами, гореть в огне тобою же зажженных пожаров… Ты испытаешь горе матери сам и страдание младенца, оставленного ею. Твои змеиные жала будут жалить тебя самого, прежде чем они ужалят другого… Ты почувствуешь голод и холод и нигде не укроешься от бури… В твоем страдании, мой бич, сольются, как реки в море, боли, недуги и муки всей земли… Потому что нет гнева без страдания,— одно добро есть добро и полно само собою… Иди, мой бич, и искупи свои злодеяния, пока засыпанный тобою колодец не откроется вновь и не станет поить жаждущих!.. Азраил, сбрось его…»
И с стихийным криком ужаса, от которого содрогались проносившиеся мимо кометы, душа завоевателя низринулась на землю.
X
Века прошли за веками. Одно тысячелетие уже минуло, а бич Божий носится над сушею и океанами, и нет ему покоя, нет предела его страшной муке. Над руинами поднялись новые города, сожженные им сады сменились другими, уничтоженные царства воскресли с новыми владыками и старыми недугами. А в огненном кольце песков спаленный солнцем пустыни засыпанный колодец все еще спит, ревниво храня живую влагу… Всякий раз, как смелые люди пробивались к нему,— отовсюду слетались тысячи призраков и пугали тех и отгоняли от заветного места. Люди пробовали победить пустыню, одолевая ее шаг за шагом. Они раздвигали свои поля и сады; они надеялись, что в конце концов все знойное лицо ее исчезнет под их насаждениями… Но опять подымались призраки убитых, взрывали недвижные пески и засыпали посевы и жатвы… И долго еще будет спать в своей жаркой могиле заповедный колодец, и многие тысячелетия станет мучиться, творя зло, душа великого завоевателя…
XI
В далекой стране, в солнечном краю Тафилета, у самых пределов великих африканских пустынь, под темным шатром своим, рассказал мне эту сказку старый бербер… Верблюжий помет курился у входа. Одинокая чахлая пальма клонилась к земле, точно у неё искала защиты от беспощадного солнца. Откуда-то издалека слышалась печальная-печальная песня… Ночь не принесла прохлады… Земля, истомленная зноем, горячо и тяжко дышала. Ярко сверкали чуждые мне созвездия — таинственные символы над вечным молчанием пустыни… Вдруг на самом краю ее словно раскрылось чудовищное в полнеба огненное око и какой-то страшный мучительный голос раздался оттуда…
— Что это? — спросил я у номада, дремавшего около.
— Стонет душа великого завоевателя, уносясь куда-то творить определенное ей зло!..
Собака
Что это была за Рождественская ночь! Пройдут еще десятки лет, тысячи лиц, встреч и впечатлений мелькнут мимо, следа не оставят, а она все будет предо мною в лунном блеске, в причудливой рамке Балканских вершин, где, казалось, все мы были так близки к Богу и Его кротким звездам…
Как теперь помню: лежали мы пластом — усталь так морила, что не хотелось даже близко к костру подвинуться.
Фельдфебель последним прилег. Ему пришлось указать места всей роте, проверить солдат, принять приказание от командира. Это был уже старый солдат, оставшийся на второй срок. Война подошла — стыдно ему показалось уходить от нее. Он принадлежал к тем, у кого под холодною внешностью бьется горячее сердце. Брови нависли сурово. И глаз не разберешь, а рассмотри их — прямо к нему со своим горем самый ледящий солдатишко доверчиво пойдет. Добрые, добрые они — и светились, и ласкали.
Лег он, потянулся… «Ну, слава Богу, теперь для-ради Рождества Христова и отдохнуть можно!» К огню повернулся, трубку вынул, закурил. «Теперь до рассвета — покой…»
И вдруг мы вздрогнули оба. Близко-близко залаяла собака. Отчаянно, точно на помощь звала. Нам было не до нее. Мы старались не слышать. Но как это было сделать, когда лай становился все ближе и оглушительнее. Собака, очевидно, бежала по всей линии костров, не останавливаясь нигде.
Нас уже пригревало костром, у меня глаза слипались, и ни с того ни с сего я даже дома очутился за большим чайным столом, должно быть, засыпать начал, как вдруг лай послышался у меня над самыми ушами.
Ко мне подбежала — и вдруг прочь кинулась. И даже заворчала. Я так и понял, что не оправдал ее доверия… К фельдфебелю сунулась, к самой голове его; тот поманил ее. Она ему в мозолистую руку холодным носом ткнулась и неожиданно завизжала и заскулила, точно зажаловалась… «Неспроста это! — вырвалось у солдата. — Пес умный… У него дело ко мне есть!..» Точно обрадовавшись, что ее поняли, собака выпустила шинель и радостно-радостно залаяла, а там опять за полу: пойдем-де, пойдем скорее!
— Неужели вы пойдете? — спросил я у фельдфебеля.
— Значит, надо! Пес завсегда знает, что ему нужно… Эй, Барсуков, пойдем на случай чего.
Собака уже бежала впереди и только изредка оглядывалась.
…Должно быть, я долго спал, потому что в последние мгновения сознания в моей памяти как-то осталось — луна надо мною на высоте; а когда от внезапного шума я поднялся, она уже была позади, и торжественная глубина неба вся искрилась звездами. «Клади, клади осторожнее! — слышалось приказание фельдфебеля. — Ближе к огню…»
Я подошел. На земле у костра лежал не то сверток, не то узел, напоминавший формою детское тело. Стали его распутывать, а фельдфебель рассказывал о том, что собака привела их на засыпанный склон горы. Там лежала замерзшая женщина. Она бережно держала у самой груди какое-то сокровище, с чем бедной «беженке», как их тогда называли, всего тяжелее было расстаться или что она хотела во что бы то ни стало, хотя бы ценою собственной жизни, сохранить и отнять у смерти… Все с себя сняла несчастная, чтобы для другого существа сберечь последнюю искру жизни, последнее тепло.
«Ребеночек? — толпились солдаты. — Ребеночек и есть!.. Вот послал на Рождество Господь… Это, братцы, к счастью».
Я дотронулся до его щек — мягкие оказались, теплые… Глаза его блаженно закрылись из-под овчины назло всей этой обстановке — боевым кострам, морозной балканской ночи, ружьям, составленным в козлы и тускло блиставшим штыками дальнему, десятками ущелий повторенному выстрелу. Перед нами покойное-покойное было детское личико, одною своею безмятежностью обессмысливавшее всю эту войну, все это истребление…
Барсуков разжевал было сухарь с сахаром, оказавшимся в чьем-то запасливом солдатском кармане, но старый фельдфебель остановил его:
— Внизу сестры милосердия. У них для ребеночка и молочка найдется. Дозвольте отлучиться, ваше высокоблагородие.
Капитан дозволил и письмо даже написал, что рота берет находку на свое попечение.
Собаке очень понравилось у огня, она даже лапы вытянула и брюхом к небу обернулась. Но как только фельдфебель тронулся с места, она без сожаления бросила костер и, ткнувшись мордой в руку Барсукова, со всех ног кинулась за ним. Старый солдат нес дитя под шинелью бережно. Я знал, какой страшный путь прошли мы, и с невольным ужасом думал о том, что его ожидало: почти отвесные спуски, скользкие, обледеневшие скаты, тропки, едва державшиеся на ребрах утеса… К утру он будет внизу, а там — сдал ребенка и опять вверх, где рота уже построится и начнет свое утомительное движение в долину. Я заикнулся об этом Барсукову, но тот ответил: «А Бог-то?» — «Что?» — не понял я сразу.
— А Бог-то, говорю?.. Нешто Он попустит?..
И Бог действительно помог старику… На другой день он рассказывал: «Точно крылья несли меня. Там, где одному было жуть днем, а тут в туман спустился, ничего не вижу, а ноги сами идут и дите ни разу не крикнуло!.. И сестры как обрадовались: «Скажи капитану, что мы его выходим и собаку приютим!»
Но собака поступила совсем не так, как ожидали сестры. Она осталась и в первые дни пристально следила, не спуская глаз с ребенка и с них, как будто хотела убедиться, хорошо ли будет ему и заслуживают ли они ее песьего доверия. А убедившись, что и без нее ребенку будет хорошо, собака покинула госпиталь и на одном из перевалов появилась перед нами. Поприветствовав сначала капитана, потом фельдфебеля и Барсукова, она поместилась на правом фланге около фельдфебеля, и с тех пор это было ее неизменным местом.
Солдаты ее полюбили и прозвали «ротной Арапкой», хотя с арапкою у нее не было никакого сходства. Она была покрыта светло-рыжею шерстью, а голова казалась совсем белой. Тем не менее, решив, что на мелочи обращать внимания не стоит, она стала и на имя «Арапки» отзываться весьма охотно. Арапка так Арапка. Не все ли равно — лишь бы с хорошими людьми дело иметь.
Благодаря этому чудесному псу было спасено много жизней. Она рыскала по всему полю после боев и громким отрывистым лаем обозначала тех, кому еще могла принести пользу наша помощь. Она не останавливалась над мертвыми. Верный собачий инстинкт указывал ей, что вот тут под напухшими комьями грязи еще бьется сердце. Она живо дорывалась до раненого своими кривыми лапами и, подав голос, бежала к другим.
— Тебе бы, по-настоящему, медаль следовало дать, — ласкали ее солдаты. Но животным, даже самым благородным, дают, к сожалению, медали за породу, а не за подвиги милосердия. Мы ограничились только тем, что заказали ей ошейник с надписью: «За Шипку и Хаскиой — верному товарищу»…
Много лет прошло с тех пор. Ехал я как-то по задонскому приволью. Русский простор охватывал меня отовсюду своими ласковыми зеленями, могучим дыханием неоглядных далей, неуловимою нежностью, что живописным источником пробивается сквозь его видимое уныние. Сумей подслушать его, найти, напейся его воскрешающей воды, и жива душа будет, и потемки рассеются, и сомнению места не останется, и сердце, как цветок, откроется теплу и свету… И зло пройдет, и добро останется во веки веков.
Вечерело… Мой ямщик добрался, наконец, до села и остановился на постоялом дворе. Мне не сиделось в душной, полной назойливых мух комнате, и я вышел на улицу. Вдали — крыльцо. На нем пес растянулся — дряхлый-дряхлый… куцый. Подошел. Господи! Старый товарищ — на ошейнике прочитал: «За Шипку и Хаскиой…» Арапка, милая! Но она не узнала меня. Я — в избу дед сидит на лавке, мелюзга кругом шебаршит. «Батюшка, Сергей Ефимович, вы ли это?» — крикнул я. Вскинулся старый фельдфебель — разом узнал. О чем мы говорили, кому до того дело? Наше нам дорого, и на весь свет кричать об этом даже стыдно поди… Арапку мы позвали — едва доползла и у ног хозяина улеглась. «Помирать нам с тобой пора, ротный товарищ, — гладил ее старик, — довольно пожили на покое». Собака подымала на него угасавшие глаза и повизгивала: «Пора-де, ох, давно пора».
— Ну, а что с ребенком сталось, известно?
— Приезжала! — И дедушка радостно улыбнулся. — Отыскала меня, старика…
— Здесь?
— Да! Барыня совсем. И все у нее по-хорошему. Меня приласкала — подарков навезла. Арапку в самую морду поцеловала. Просила ее у меня. «У нас, — говорит, — холить ее станут…» Ну да нам-то не расстаться с ней. И она от тоски подохнет.
— А Арапка ее узнала?
— Ну, где… Комочек ведь была она тогда… девчонка-то… Эх, брат Арапка, пора нам с тобою на вечное успокоение. Пожили, будет… А?
Арапка вздохнула.
Страшные люди
(Из детских воспоминаний приятеля)
I
Жили мы в Дербенте.
Нынче мирный и тихий — в те далёкие годы этот город был передовою русскою твердыней у величавых и грозных вершин воинственного, полуразбойничьего-полурыцарского Дагестана.
Наш дом прятался в глухой татарской улице, вверху, — так что большой зелёный купол «персидской мечети», когда я глядел в окно, представлялся мне внизу и так близко, что стоило только прыгнуть, чтобы очутиться на нём. Порою по двору мечети медленно проходили важные муллы в белом. Ветер с гор, долетая сюда, чуть-чуть шевелил большие деревья, выросшие над входом в неё, в камнях древней стены.
Наш балкон тонул в яркой зелени гранатников. Раздражённо-красные цветы их дразнили взгляд, а громадная айва, точно благословляя мою кровлю, протягивала над нею густолистые ветви.
По ночам случалось просыпаться от бешеного крика и беспорядочных выстрелов оторопью. Я так и знал; удальцы из Дювека, — лезгинского аула, висевшего над Дербентом, — прорвались в городские улицы и подняли там отчаянную суматоху, Утром подберут несколько трупов, и как потом окажется, — горцы увезли в плен какого-нибудь бека[1] или утащили девушку. Поговорят об этом на базарах и забудут.
Бека, — если у родных хватит средств, — выкупят, а молоденькую татарку всё равно не вернёшь, — она через неделю уже далеко от Дювека. Лихие барантачи[2] продадут её в Чечню. Чечня — в Кабарду, а в Кабарде всегда были турецкие скупщики для анатолийских невольничьих рынков. Через год, через два родные, неведомо какими путями, узнают, что их Алсын, Гюль или Зюлейка благоденствует где-нибудь в Смирне или Бруссе, а то и в самом Стамбуле женою паши, ест рис до отвалу, толстеет от розового варенья и медовых шербетов, целые дни проводит (верх блаженства для восточной женщины) в банях, шуршит шёлковыми шароварами и не может без улыбки вспоминать о скромной дарая[3], которую она носила в праздничные дни дома.
К такой ночной «истории» все привыкли, она никого не пугала, и стоило только подняться солнцу из-за лазури Каспийского моря, как смелые сыны гор преспокойно разбегались по окрестным садам, за стены Александра Македонского. Я как-то привольно и легко себя чувствовал, бывало, когда громадные и царственные с четырёхугольными древними башнями они останутся позади, а передо мною в свете и зное ласково и нежно заколышутся осыпанные цветами деревья татарских загородных хуторов. Весело и задорно журчат воды, проведённые по канавкам. Бог весть в какую старину вырыли их татары, — так эти канавки и остались до сих пор. Ленивый потомок воспользовался только наследием прошлого и от себя ничего к нему не прибавил. Вон он под каким-нибудь карагачем[4] лежит себе на кубинском ковре и жмурится, когда сквозь изумрудные листья пронижется солнечный луч, огнистый и горячий, и выхватит из сплошной тени громадный, загнутый вниз, хищный, как у ночной птицы, нос, или загорелые, тёмные щёки… Откуда-нибудь звенят струны, и слышится меланхолическая песня. И тихо-тихо кругом. И голые вершины гор ясно, отчётливо и пустынно рисуются в чистых бирюзовых небесах.
II
Мой отец, старый боевой кавказец, как-то вернулся домой раньше обыкновенного.
— Я за тобой. Ты всё мечтаешь о приключениях, да читаешь глупые рыцарские романы. Хочешь увидеть настоящего рыцаря?
Меня так и обдало холодом.
— Где?
— Пойдём в крепость. Заперли беднягу. Смотрит из-за железных решёток на синие горы и тоскует.
— Ты про Сулеймана? — спросила мать.
— Да.
— Неужели его схватили?
— Вчера…
— Жалко! Ведь он твой кунак[5]?
— Что же делать. Слава Богу, не при мне. Я у него в горах гостил не раз. В бою взяли казаки. Отбивался отчаянно. Да Степовой ему сзади верёвку на руки накинул, — ну, и скрутили. А то бы не дался живой.
Мы пошли.
Улицы — точно русла высохших горных потоков. Нужна была привычка ходить по ним. Из окрестных двориков выглядывают глазастые татарчата, всё мои приятели, и я им по-ихнему кричу: — «Сулеймана иду смотреть!» Кудлатые головёнки исчезают, — дети бегут передать эту поразительную новость матерям. Матери выскакивают на балконы, прикрыв лица белыми чадрами, и долго глядят нам вслед…
До крепости — добрых полчаса; солнце жжёт. Из-под арабской вязи фонтанов журчит студёная вода, — я пью по пути и ещё веселее бегу вперёд. Ещё бы! Когда дождёшься такого случая — увидеть самого Сулеймана! Сулеймана, который был когда-то в корпусе, ушёл в горы за год до производства в офицеры, участвовал по крайней мере в пятидесяти набегах, а в последнее время уже наибом[6] у Шамиля, не побоялся приехать прямо в Тифлис к главнокомандующему и наместнику Воронцову в гости! Его отпустили с честью, даже проводили до первого лезгинского аула, и многие, в том числе мой отец, стали его «кунаками»; — Сулеймана, дравшегося всегда впереди и отступавшего последним, — того самого, про которого наши ширванцы и апшеронцы[7] говаривали: «его не бойся, когда он нападает, берегись, как уходить начнёт. Уж очень огрызается! Такие зубы показывает!»
Сулейман давно был моим героем, и я жадно слушал отцовский рассказ, как к этому горному орлу они ездили в гости в его неприступное каменное гнездо на вершине Шайтан-баира. Отец оставался у него неделю и вернулся, взяв обещание, что тот отплатит ему визит. Действительно, Сулейман, хоть голова его была оценена, безоружный приехал к нам в Дербент и провёл у нас несколько дней…
— Папа, отчего ты не прикажешь его выпустить?
— Нельзя… В бою взяли.
— А ты всё-таки вели.
— Ты ещё мал и глуп. Не понимаешь, — служба…
Может быть, действительно, потому я никак и не мог понять, как это человека, ещё так недавно ласкавшего меня, могут держать под замком!
III
Часовые отдавали честь. Бил барабан. Откуда-то доносились пронзительные сигналы горниста. Я понимал их и собственным напевом переводил на общий язык: «колонна храбрая вперёд — дирекция направо!» Далеко, по плацу маршировала куда-то рота, отбивая по-тогдашнему шаг. Щёлкали замки громадных ворот, скрипели ржавые петли, с глухим шумом отодвигались громадные засовы. Начальники караулов браво подходили, становились во фронт и, глядя отцу в глаза, рапортовали о том, что у них всё «обстоит благополучно».
В тёмных коридорах пахло щами и только что испечённым хлебом. Кашевары, которых отец называл лодырями, прятались в щели.
Мне всё это было знакомо, своё!
Я сюда бегал зачастую и без отца. Сначала он выводил меня отсюда за уши, потом и ему надоело, бросил. Случалось, тянется солдат в струну, встречая отца, — а в мою сторону у него из-под седых, щетинистых усов шевелится улыбка. У меня с ними водилась настоящая, большая дружба; мы с полуслова понимали друг друга и взаимно обменивались услугами, какими могли. Когда варилась каша, я никогда не опаздывал к ротному котлу, зато, в свою очередь, снабжал приятелей отцовским табаком, и когда они, бывало, проштрафятся, — я сейчас же — к матери, и мы вдвоём подготовим отца так, что гнев его обходился пустяками.
В одном из крепостных двориков я ещё издали различил Сулеймана. Он сидел у стены и оттуда смотрел неотступно на родные горы. У меня заныло сердце. Я побежал к нему. Он меня узнал и приветствовал грустною улыбкой… Очень она была и странна, и красива на этом худом, длинном и смуглом лице, на котором из-под чёрных, густых и сросшихся бровей зорко и смело смотрели горячие, карие глаза, над небольшими усами загибался хищный нос с тонкими ноздрями. Они дрожали, когда Сулейман горячился. Стан был тонкий, а плечи широкие, как это и полагается настоящему горцу: у него ведь под талией должна свободно пройти кошка, если он ляжет на бок.
Он взял меня за плечо и удержал около. Отец пожал ему руку.
— Спасибо за ужин, а сегодня за чай.
— Тебе будут доставлять всегда от меня…
Сулейман кивнул головой. Благодарить было не за что. Кунак должен был поступить так.
— Я тебе пришлю белья… Если надо — платье…
— И то, и это хорошо. У меня нет.
— От души жалею, что встречаю тебя здесь.
— Судьба! Сегодня — я, а завтра — ты. Каждому свой черёд. Бедствия никого не обойдут. Такой порядок установил Аллах. Его воля. А только если бы я из этого боя вышел, ты бы меня и вовсе не увидел.
— Что так?
— Я собирался в Турцию. Меня султан зовёт в Стамбул. А теперь…
— Надейся на милость наместника.
— Надеюсь только на милость Аллаха и у людей не ищу её, — сверкнул он горячими глазами.
Эти слова так и остались у меня в памяти.
— Я буду писать в Тифлис…
— Не трудись, — ты только себе повредишь.
— Почему? — удивился отец.
— Потому что за меня вступаться теперь опасно,
— Ну, мне до этого нет дела. Я поступаю так, как мне велит совесть. Отчего ты отказался вчера дать слово, что не бежишь? Тебя бы не запирали.
— Если бы я дал слово, я был бы или бабой, или глупцом.
— Почему?
— Не бежать, когда есть случай, — или подло или глупо… а случаи бывают часто.
И он, наклонившись со стены, смерил взглядом бездну внизу.
Вершины деревьев там казались отсюда кустиками, белая дорога — ниточкой, а кровля татарского дома крохотною ладонью… Вздохнул, обернулся к отцу.
— Видишь? — указал он ему на запад.
Там из-за голых вершин Дагестана, точно серебряная опрокинутая чаша, видна была громадная гора.
— Мне кажется, я на ней различаю мою саклю… Теперь жена смотрит сюда, и ей тоже чудится, что она видит меня… оттуда!.. Там и ветер не такой, как здесь… Вольный!.. В нём простор и сила…
Заговорили обо мне.
Он наклонился и зорко взглянул мне в глаза.
— У меня Измаил такой же. Нет, пожалуй, поменьше будет… хоть с горы на всём скаку спускается.
— Это и я могу! — обиделся я.
— Ну, а кинжалом сумеешь защищаться?
Я покраснел. Оружия мне в руки не давали.
— Вот видишь… А мой Измаил недавно от чекалок отбился. Голодные были. В шесть лет мальчик должен уже оружие носить. Ты по прежнему всё за стены бегаешь гулять, да? Боюсь, как бы тебя мои не захватили. Они теперь вокруг Дербента наверно шныряют. Стыдно им вернуться в аул без своего вождя… Вот тебе впрочем…
Он снял с пальца железное кольцо.
— Носи на шее, в минуту опасности покажи горцам. Все они знают Сулеймана, знают и моё кольцо… Скажешь, — от меня получил, никто тебя не тронет.
Солнце стояло уже высоко.
На крепостном дворике жгло.
Я видел, как с гор вдали спускалась партия джигитов. Впереди ехал кто-то с треугольным зелёным значком, позади медленно гуськом — голова лошади в хвост передней — следовали всадники. Склоны, выстланные колючкой баят-ханы, горели от её цветов нежно-лазоревым пламенем. По громадным камням стен Александра Македонского бегали зелёные ящерицы. Вдали на башне часовой — неподвижный между её зубцами — казался цаплей.
Я спрятал кольцо в карман и ощупывал его поминутно. Гордился им. Ещё бы, от такого рыцаря, как Сулейман, получил!
— А я ещё хотел к тебе в Дербент послать Измаила, чтобы он учился, пока я устроюсь в Турции.
— Очень бы рад был! — ответил отец.
— Пускай бы росли с твоим сыном друзьями.
— Неизвестно, кто кому понадобится в жизни.
— Всегда нужно иметь на свете преданное сердце и верную руку.
IV
Над Каспием бывают удивительные утра.
Всё точно утопает в прозрачной лазури. И море и небо… где кончается одно, где начинается другое? Или моря нет совсем, и одно и то же небо обняло эти сизые горы с аметистовыми тенями и скалами.
Ребёнком, бывало, и то я не мог насмотреться на эту красоту. Понятно, что в праздник, когда отец диакон не приходил к нам учить меня «от сих и до сих», а опальный офицер из поляков не старался внушить мне чисто-парижский выговор, я забирал из дому побольше съестного и бежал за стены Дербента. Там уже поджидали меня приятели-татарчата, и мы немедленно устраивали войну: воздвигали крепости, штурмовали их, делали набеги на окрестные сады и, возвращаясь оттуда с подбитыми глазами, чувствовали прилив необыкновенного счастья.
Как-то после свидания с Сулейманом, в воскресенье, я пробрался через брешь в стене и спугнул в куче щебня громадную змею. Точно длинный кнут, она, извиваясь, исчезла в трещину. У меня в памяти только и остался злой взгляд её изумрудных глаз. На назначенном месте друзей не оказалось. Я один отправился к большим плитам, под которыми лежали безвестные кавказские герои. Ветер печально шевелил над ними вспыхнувшую голубыми цветами колючку баят-ханы, пёстрая птичка охорашивалась в стороне, топорща крылышки и вся вздуваясь ершом. Издали лаяла собака и в бесконечность ложилась внизу синева моря, пустынного, безлюдного. Тогда судов на нём было мало. Изредка ползла татарская лодка или персидская рыбачья шхуна. Шёл я, шёл, добрался до заброшенного сада с развалившеюся саклей и вдруг остановился, как вкопанный. Смотрю, в тени тутового дерева стреножены лошади, не наши, не дербентские. Те привыкли к чужим, а эти обернули ко мне худые, короткие морды, с горящими, налитыми кровью глазами и точно спрашивают «тебе чего?», продолжая жевать нарезанную перед ними траву. Из сакли говор, — я пошёл туда смело. Какой-то коротконосый конь застучал копытом, кто-то крикнул, — как потом оказалось, в вершине шелковицы сидел сторожевой горец, — и из сакли мне навстречу выскочили смуглые длиннолицые люди в овчинных папахах на бритых головах. Заметили, что я один, остановились и ждут. Я остановился тоже. Выступил один, говоривший по-русски.
— Твоя какая будет?
— Я? А тебе что? Ты сам откуда?
Горец засунул большие пальцы за чёрный ремённый пояс, на котором болтался громадный в чёрной коже кинжал, и оправился.
— Ты баранчук[8]?..
Я заговорил по-татарски, хвастаясь, что я сын коменданта, и вовсе их не боюсь, в доказательство чего сейчас пойду к ним. Совсем по выражению глаз хищные птицы. Они переглянулись, безмолвно поняли друг друга и потом заболтали разом, приглашая к себе, а первый встретивший меня озабоченно всматривался вдаль, видимо, занятый мыслью, действительно ли я один или вру, и за мной идут другие. Какой-то седобородый с хитрыми, прятавшимися в щёлки глазами горец даже присел на корточки и стал меня подманивать, до смешного, похоже на то, как у нас птичница сзывает на корм цыплят.
Как я ни был мал, но сейчас же понял, что это за люди.
— Вы Сулеймановские, да?
Они оторопели.
— Мой отец кунак Сулеймана. А я его друг.
Опять переглянулись и вдруг заболтали что-то на неизвестном мне языке. Потом, сообразив, должно быть, что я один, уйти мне некуда, и если я задумаю бежать, то меня нагонят у самой ограды брошенного сада, из толпы их вышел молодой лезгин — ободранный, но великолепно вооружённый, и подал мне руку по-русски.
— Да, мы знаем, что твой отец — кунак Сулеймана. Мы все из его аула.
— И вы хотите его освободить?
Глаза у них опять загорелись.
— Нельзя допустить, чтобы его отправили в Тифлис.
Должно быть, у меня это вырвалось горячо, потому что некоторые одобрительно закивали головами, зато другие ещё подозрительнее стали меня оглядывать.
— Сулейман целые дни сидит у стены и смотрит за Шайтан-баир… Он очень тоскует…
— Наш вождь не девка, чтобы плакать и печалиться, — обиделся за него молодой лезгин.
— Я и не говорю, что он плачет. Он только не отводит глаз от того места, где должен быть его аул.
— Орёл, пойманный в западню, тоже глядит на своё гнездо в горных утёсах.
И вдруг, когда я вовсе не ожидал этого, мне почудилось, что я точно на небо вознёсся. Какие-то железные руки подхватили меня на воздух, и не успел я крикнуть, как шершавая ладонь закрыла мне рот, и в следующую минуту я оказался в полутёмной сакле.
— Ты, баранчук, не бойся. Мы тебе зла не сделаем. А только за тебя твой отец отдаст нам Сулеймана.
Меня поставили на ноги. В первое мгновение я растерялся, но сейчас же вспомнил про подарок моего рыцаря. Он уже висел у меня на шее вместе с крестом. Живо вытащил его.
— Сулейман знал, что вы здесь, — и чтобы меня никто из вас не смел тронуть, он дал мне своё кольцо.
Молодой лезгин быстро выхватил его из моих рук. Осмотрелся и, приложив его ко лбу и сердцу, передал другим. Каждый делал то же. Все опять заболтали на гортанном неизвестном мне языке. Показывали на меня, спорили между собою и, наконец, когда я этого уже не ожидал, рука, лежавшая на моём плече, поднялась, и я почувствовал себя свободным.
— Иди, куда хочешь. Возьми кольцо… Ступай и скажи Сулейману, что мы все готовы умереть за него. Если его повезут в Тифлис, — камни обернутся в джигитов и станут на его дороге.
— Хорошо. А мне можно побыть с вами?
— Ты у себя. Раз у тебя есть его кольцо, — ты наш.
В углу стояли мафраши, скинутые с коней. Я уселся туда и с острым любопытством начал разглядывать новых приятелей.
V
Кольцо, очевидно, совсем изменило отношение ко мне.
Молодой лезгин подсел ближе и стал расспрашивать о Сулеймане.
Я ему сообщил, что наиб не нуждается ни в чём. Бельё, платье и пищу ему посылает отец. По вечерам у пленного сходятся офицеры, чтобы ему не было скучно. Если бы он дал слово не бежать, его не держали бы взаперти…
— Как можно дать такое слово! — возмутились горцы. — Мужчина никогда не сделает этого.
— Воина удержат в плену только замками и оковами…
Старики в углу о чём-то совещались, посматривая на меня. Речь у них шла на том же неведомом мне языке. Одни, очевидно, хотели чего-то у меня просить, другие удерживали их, повторяя с подчёркиванием слово «урус, урус»! Я перед тем только что начитался Вальтера Скотта. Передо мной проходили въявь поэтические былины, и в розовой окраске детских впечатлений ещё ярче и заманчивее казались Ричард Львиное Сердце, Айвенго, Монтрозы, Вудстоки. Сулейман для меня был один из неизменных богатырей этой же сказки. Я уж рисовал себе, как он уйдёт из крепости, и совершенно неожиданно для молодого лезгина спросил у него:
— Отчего же он не убежит?..
Тот вздрогнул. Обвёл меня яркими глазами.
Другие тоже подошли и уставились на нас.
— Разумеется. Вон я недавно читал… — и давай передавать ему содержание последнего улёгшегося в моей памяти рыцарского романа. Яркая лунная ночь. Рыцарь спускается с высокой башни, а верный оруженосец внизу ждёт его с конями… Орёл в (рыцарских романах орлы непременно состоят при героях даже по ночам) парит над беглецом, прикрывая его широкими, чёрными крыльями так, что стража из-за зубцов и с бойниц замка не видит заключённого.
Слова мои произвели на всех потрясающее впечатление. Лезгины воспламенились до того, что все заговорили разом. Один самый старый с белой бородой и совсем юношеским глазом, пронизывающим меня из-под седых бровей, другой у него был покрыт большим белым бельмом, схватил меня за руку и, что меня очень удивило, спросил на чистом русском языке:
— Один, кто мог бы спасти нашего Сулеймана, это ты.
— Я?
— Да… Ты никому не скажешь?
Я готов был самим Ричардом Львиным Сердцем и всеми крестоносцами Палестины поклясться свято сберечь тайну.
— Ты ведь свободно ходишь по всей крепости?
— Да.
— Передай ему это. Легко пронести под платьем. Никто и не увидит на тебе?
— Что это?
— Простая верёвка, сплетённая у нас в горах.
Действительно, ссученная руками лезгинок тонкая, шёлковая верёвка. На ней в известных расстояниях узлы и петли. У меня тотчас же мелькнуло в памяти, что ведь и «рыцарю чёрного замка» доставили такую же. Они под платьем всего меня обвили ею.
Я чуть на захлебнулся от счастья.
— И ещё это.
Тонкая стальная пила. Вся свернулась вокруг моей ноги. Её-то уж никто бы не заметил.
— Помоги тебе Аллах. Помни, — в горах мы все будем твоими слугами, и никогда ничего недоброго не случится ни с тобою, ни с твоими близкими. Мы сами станем беречь их в мире и в войне.
Я обещал. Да и теперь не жалею об этом.
— Только одного я хочу за это.
— Чего? Мы бедны.
— Нет, вы меня не поняли. Я должен сам видеть, как всё это случится.
— Да разве ты ночью можешь уйти?
— Могу. Скажу, что пойду к детям нашего переводчика Искендер-бека и пробуду там до утра.
— Тебе поверят?
— Ещё бы!
Я даже обиделся, не сообразив того, что сам собирался обманывать.
— Хорошо мы тебе дадим знать накануне. Вот что, скажи Сулейману, чтобы он слушал, когда внизу ночью три раза крикнет ястреб. Всё будет тогда готово.
— Какой ястреб?
— Это уже мы знаем. Потом, — пусть всё, что нужно, он напишет и перекинет за стену. Внизу под ней всегда есть кто-нибудь.
— Бумагу унесёт ветер.
Я казался самому себе необыкновенно умён в это время.
Лезгины усмехнулись.
— Камни под ногой. Завернул бумажкою камень и швырнул… Попадёт куда надо.
Когда я уходил, — подо мною горела земля.
Важен я был сверх меры. У бреши меня встретили приятели-татарчата, — я на них не обратил даже внимания. Мне ли, подготовлявшему бегство «узнику башни», герою, о котором впоследствии будут писаться романы, якшаться с какими-то Абдулками, Махметками и Гассанками, которых ещё сегодня матери драли плётками под неистовый крик «аман-аман, мана джан!»
Даже отец дома заметил моё необычайно горделивое настроение.
— Ну, ты, Годфрид Бульонский, взял уже Иерусалим или нет?
Я не отвечал. Разве они могли понимать меня. Только матери я не выдержав, сообщил кратко:
— Через несколько дней вы узнаете все — кто я!
— Ты — дурак и больше ничего! — ответила она. — Это и теперь все знают.
— Увидите…
— А вот вечером буду варить варенье и не дам тебе пенок.
Дело становилось серьёзным. У меня засосало под ложечкой. Героизм боролся с чревоугодием, но победил его.
— Что такое варенье!
— Вишнёвое? — ужаснулась мама.
— Хотя бы и вишнёвое.
Но при этом голос у меня падал, и в горле стояли слёзы. В самом деле, если бы я способен был изменить обетам рыцарства, то… только за вишнёвое варенье! Ничто иное на белом свете не могло бы отвлечь меня от подвига. Впрочем, надо себе отдать справедливость. Я устоял и презрительно взглянув на груду приготовленных ягод, меланхолически вышел из комнаты, жалея, что на мне нет бархатного плаща, чтобы «угрюмо завернуться» в него.
VI
Если бы на мой счёт могло существовать хотя малейшее подозрение, меня схватили бы у ворот крепости. Во-первых, я вспомнил, как индейский вождь «Чёрная Пантера» пробирался в вигвам[9] вражьего племени Стёганых Волков. Я думаю, — ни одна кошка не кралась так на чужую крышу, как я полз вдоль стены к часовому, добродушно глядевшему на мою эквилибристику. Во-вторых, я старался смотреть зловеще, как «Рыцарь Красного Щита»; в третьих, я всем предлагал одно и то же, никем не требуемое от меня, объяснение: «я ничего, ей Богу не несу с собою. Я только хочу видеть Сулеймана, а что из этого выйдет, знает судьба», даже, кажется, не судьба, а рок. Так было трагичнее. К счастью, у Сулеймана не было никого. Офицеров вызвали зачем-то к коменданту, сторож оставался за стеною. Сулейман сидел на приступке и по горскому обычаю стругал ножиком палочку. Он улыбнулся мне навстречу и замер, увидев, что я кладу палец на губы.
— Тише, а то нас услышат.
— Что же ты кричишь сам? Потом кому слышать? Птице? — засмеялся Сулейман.
— Я видел твоих. За стеною.
Он встрепенулся и зорко взглянул мне прямо в глаза.
— Кого?
Мне кажется, я до сих пор слышу, как заколотилось его сердце.
— Молодого лезгина. Он назвал себя Ибрагимом. Тонкий такой. И кинжал у него в золоте.
— Ну! а ещё?
— Старик… страшный, у него бельмо на глазу.
— Страшный? Абдул. Он моих детей нянчил. Что ж они тебе сказали?
— Велели передать вот… верёвку…
Я вдруг завертелся на месте, как волчок. Это он свивал с меня её. Как он успел спрятать её на себе, — не знаю. По крайней мере, когда я наконец повернулся к нему, — у него в руках ничего не было.
— Только это?
— Нет, вот ещё.
Тонкая пила, точно змея, вилась вокруг моей ноги. Он и пилу снял с тою же ловкостью.
Видимо, кровь ему ударила в голову. Вскочил, пробежал по площадке, взглянул за стену, в бездну, — точно спрыгнуть собирался, потом схватил меня на руки, поцеловал…
— Ты мне жизнь спас. Орла нельзя держать в курятнике, — умрёт. Помни одно, ты ничего дурного своим не сделал. Свободный — я не буду драться с русскими, их не осилишь. Я уйду в Турцию, а мой аул, как Елисуй, Барчалы и многие другие, принесут покорность. С вами лучше жить в мире. Я не могу… и ухожу…
— Тебе велели передать; жди ночью, когда три раза крикнет ястреб.
— Ну?
— Там старик с бельмом и Ибрагим будут ждать тебя… и лошади.
— Уйди теперь — и молчи. Я не могу. Должен один остаться. А то у меня тут разорвётся! — указал он на грудь. — Ещё раз… хотел бы, чтобы судьба помогла мне отплатить тебе так же… Носи моё кольцо, когда-нибудь оно понадобится. Почём знать, может быть, мы ещё встретимся… Будешь большим, — помни: позовёшь меня, где бы я ни был, приду… Да хранит тебя Аллах. Ты вырос в его глазах, потому что оказал милость пленному. Прощай, прощай!..
Геройство кончилось, началась очередь вишнёвого варенья.
Я бежал домой, забыв и «Чёрную Пантеру», и «Рыцаря Красного Щита». А что, как мама уже сварила варенье и отдала пенки людям? Чёрт возьми, это уж пахло серьёзным. Целому Дербенту было известно, что пенки — мои. Это была собственность, освящённая обычаем. Запыхавшись, я перескочил через порог калитки и под ярким, точно лакированным гранатником увидал наклонившуюся над медным большим тазом мать. Острый запах вишен, варившихся в сахаре, ударил меня в нос. Я различил бульканье пены розовой, вскипавшей и пузырившейся над вишнями. Кругом, жужжа, вились пчёлы, пахло жасминами; мать была вся красная.
— Что, прилетел? — засмеялась она, увидев меня.
— Нет… я так… за книгой.
— Нечего врать. Бери. Вот тебе в блюдечке.
Повторять незачем было…
Я присел.
Вспомните ваше детство! Разве в целом мире есть что-нибудь лучше пенок от вишнёвого варенья? Если есть, — назовите… А я не знаю. Я помню, на другой же день я изумил диакона:
— И вовсе не за чечевичную похлёбку Исав продал своё первородство.
— А за что ещё?
— За пенки от варенья…
— Вот и видно, что ты лакомка.
Это я-то, совместивший в себе Ричарда Львиное Сердце с «Чёрной Пантерой»!
VII
Через несколько дней как-то выбежал на улицу.
Старуха — нос крючком, борода стручком, — подкралась ко мне кивая и улыбаясь беззубым ртом.
— Баранчук… а баранчук…
— Ну?.. Ты к нам поди, у нас на кухне тебя накормят.
— Я не нищая. — И татарка выпрямилась. — Я милостыни не прошу, — у сына живу и каждый день жирный плов ем…
— Чего же тебе надо?
— Сулейман!
Имя было в достаточной степени магическое.
— Тебе старик обещал дать знать…
— Ну!
— Сегодня… под той скалой, где главная башня. Ночью!
Когда я опомнился, — старухи след простыл.
«Страшные люди» исполнили слово и предупредили меня.
Я опрометью бросился домой.
— Мама, дети Искендер-бека зовут меня вечером к ним.
— Хорошо… Скажи, что может быть, и я приду.
Это вовсе не входило в мои планы.
— У них будут одни мальчики.
— А я — девочка? Разве я к вам? Я к его Арсалан.
Так звали жену Искендер-бека.
— Ну вот.
— Ты кажется недоволен?
— Разумеется. Разве большие что-нибудь понимают? Они только помешают нам играть. Большие ничего не понимают.
— Да играйте, Господь с вами. Мы будем в комнатах, а вы в саду.
— Всё-таки!
А что «всё-таки» — молчал. Нельзя же было крикнуть ей: ты мне помешаешь видеть, как Сулейман бежит из крепости.
Через час я опять вернулся.
— Мама, я ошибся.
— Ну.
— Нас звали не на сегодня… на завтра.
У меня созрел другой план.
— Ты что-то путаешь. Впрочем, завтра мне ещё свободнее.
— Да, да, завтра.
За ужином я был как на иголках.
— Да что с тобой? — добивался отец. — Этакий большой вырос… Пора тебя в корпус. Чего ты не сидишь спокойно?
Посмотрел бы я на него, как он в моём положении усидел бы спокойно?
Наконец, несносный ужин кончился. Встали, помолились. Отец ушёл. Обыкновенно он работал до полуночи, а теперь сейчас же лёг спать. Мама тихо говорила с нашей горничной-армянкой что-то по хозяйству. Скоро и они заснули. Я взял сапожки в руки, — моя комната была внизу. Тишина. Тихо звенит комар, на полу шевелятся отражённые ветви гранат. За ними вся в серебряном сиянии лунная ночь. Попробовал раму. Отворил. Перекинул ногу туда. Волчок тявкнул спросонок, но увидев, что это я, свернул хвост кренделем и опять уложил морду между лапами. Чёрт знает, как скрипит калитка. Я даже застрял в ней. Вдруг услышат! Нет, слава Богу, все спят. Вот вверху светится. Это лампада у отца в комнате. К нашей горничной Тамаре окно открыто. Да она спит крепко. Мать часто смеялась над ней: пушками не разбудишь. Опять заскрипела калитка. Ах, чтоб тебя!.. Ещё минута, — я стою точно к земле прирос, и вдруг как будто меня поддали в «лапте», — только пятки у меня засверкали, так я кинулся вперёд в лунный свет в пространство…
Всё кругом одухотворялось и жило совсем не по дневному. Тени, протягивавшиеся по земле, казались таинственными, одушевлёнными; деревья, замершие в ночном покое, точно хранили что-то про себя. Одни кошки, пробегавшие по крышам и кравшиеся вдоль маленьких татарских домов, нарушали волшебный сон Дербента. Пёстрые днём, окна смотрели на меня зловеще, за каждым углом будто кто-то подстерегал…
Вот наконец и брешь в стене. Вся она завалена щебнем. В щебне шуршат змеи, мерещатся скорпионы, — всё равно. Я быстро перебрался через неё и сразу попал в заколдованное царство ночи. Тут уже не было домов, улиц…
Далеко-далеко плакали голодные чекалки. Прекрасное, недвижное ложилось в бесконечность серебряное под луною Каспийское море. Трава в лунном свете вытянулась и заснула. Плиты старых могил тоже облиты призрачным сиянием. Тёмными пятнами кажутся сады, и ещё величавее подымаются в небо голые, пустынные горы…
Я бодро бегу вверх. Сердце колотится. А вдруг — опоздаю?.. Нет, вот он крик ястреба… Ещё и ещё… что-то шевелится у стены, какие-то люди…
— Здравствуй… — по-русски встречает меня Ибрагим.
Я ему жму руку: я равный между равными. Хоть я и маленький, а они большие, но сегодня я сыграл роль гораздо более трудную, чем они. Оглядываюсь. Лошади не едят, стоят, понурясь. Всматриваюсь, вижу, морды у них перевязаны — совсем как нынче устраивают намордники собакам. Очевидно, чтоб ненароком не заржали и в священной тишине этой ночи не выдали моих лезгин. Люди сидят под стеною. Старик с бельмом схватил руками колена и точно погрузился в небытие. Башня упирается в стену. Скала тоже падает отвесом. Я вижу, верёвки не хватит. Говорю об этом старику.
Старик бесстрастно подымает на меня своё бельмо.
Ибрагим отвечает за него.
— Сулейман — горец.
Этим всё сказано. Чего же тут больше…
Лунный свет бьёт прямо в древнюю башню. Стройная и громадная, она вся так и млеет под ним. Что это? я схватываю Ибрагима за руку и показываю ему на тёмное, медленно-медленно скользящее по стене вниз… Ах, как медленно, — кажется, века проходят и ещё пройдут века, прежде чем оно достигнет скалы… Ибрагим тоже — весь волнение. Он стискивает мне пальцы и острым, как у молодого копчика, взглядом впивается в это пятно. Медленно, страшно медленно. Верёвки не видать, она слишком тонка, и Сулейман, спускающийся по ней, мерещится каким-то пятном на величавой башне. Именно пятном.
Лети большая птица вниз, — такую же тень бросила бы на стену.
— А верёвка не оборвётся? — замирая, спрашиваю я.
— Вот тебе и на! Её наши женщины ссучили в ауле.
— Быка выдержит…
Чу, тень на стене остановилась… Что могло случиться. Я вижу: вверху на башне между её зубцами показался часовой… Посмотрел, посмотрел в безмолвное царство лунной ночи…
— Слу-ш-шай! — раздалось в тишине.
— Слу-шай! — ответил ему солдат на другой башне.
— Слушай! — медлительно пронеслось с третьей.
И пошло это «слушай!» по всей окружности дербентских стен. Удивительно печально звучало оно здесь. Точно какие-то призраки с высоты возвещали что-то скорбное, скорбное целому миру… — «Слу-шай!» — замерло наконец.
Чёрточка часового между зубцами скрылась, и пятно опять поползло вниз по стене…
Мне казалось, — часы прошли прежде, чем оно опустилось на скалу. Сулейман вдруг исчез; должно быть, с той стороны припал к утёсу и отдыхал на нём…
Опять завыли чекалки. Проснулся ветер и с тихим стоном побежал по траве, засвистал в бойницах вверху, зашелестел в выросшем на стене дереве и точно пересчитывает, все ли у него листья целы… Из города затявкали собаки. Начала одна, подхватили другие…
— Идёт, идёт! — зашептал Ибрагим.
Действительно, если это называется идти, — так и птица ходит.
Утёс точно срезан. По срезу — щели и трещины. Издали под солнцем увидишь, — точно на мраморной скрижали кто-то вывел неведомые руны[10], под луною всё сплылось…
Теперь я уже различаю хорошо… Висит на руке Сулейман. Носком ноги ищет щели и другою рукою шарит внизу тоже… Ещё минута, — я вижу, что у него ноги босые. Тонкий силуэт горца врастает в утёс, точно он часть этого камня или нарисован на нём. Никакой выпуклости!
— Теперь сейчас… сейчас.
Старик с бельмом тоже встал.
Все зашевелились…
Филин, плача, пролетел мимо. Тень его обрисовалась рядом с Сулейманом на отвесе. Фу, как развылись поганые чекалки. Ветер не унимается. Вот он, словно облачко, гонит вверх в гору пыль и шуршит колючками баят-ханы… Громадный (мне тогда всё казалось громадным) купол персидской мечети, царственной шапкой, прикрыл что-то таинственное от яркого света южной луны… По морю тоже побежали складки, будто кто-то его серебро разом тронул тонкими чёрточками черни… Ближе, ближе Сулейман… И вдруг, — я даже не дал себе отчёта в этом, — точно мешок рухнул вниз и тяжело дышит. Люди столпились вокруг. Я вижу, что ноги у этого рыцаря в крови, руки тоже.
Я нарочно стараюсь ему попасть на глаза, но горцу не до меня.
Едва отходит от страшной устали. Остальные почтительно молчат, только старик с бельмом тихо сообщает ему, что дома у него всё благополучно. Дети ждут. О жене при других, по горскому обычаю, говорить неприлично..
— Ну, будет, — и Сулейман встал.
Старик прислонил его к стене. Одну за другую обвил ободранные ноги моего рыцаря чистыми тряпками и сверху окутал их тонкими шкурками ягнят, — точно в опанках были они после этого…
Сулейман протянул мне руки…
Ни слова не сказал, — но я видел по его глазам, что он чувствует.
Подвели коней…
В моей памяти до сих пор эти всадники… Они становились всё меньше и меньше, точно таяли вдали… А серебро с чернью струилось всё так же к берегу, и старые мрачные башни высились в белом царстве лунного света…
VIII
Я не стану вспоминать о переполохе, который поднялся утром в крепости.
Помню только, что отец прискакал домой и, швырнув повод денщику, крикнул, ещё не слезая с седла.
— А Сулейман бежал.
— Ну? — крикнула мать.
— Да, представь. Решётки нет; висит шёлковая верёвка. Вот и весь след.
— Бедный часовой.
— Ничего не бедный. Никто не в ответе. Разве можно было его видеть.
— Тогда, пожалуй, слава Богу.
— Вот он задаст нам ещё «слава Богу».
Отец сейчас же засел писать рапорт в Тифлис.
— Всё-таки неприятно. Ты чего такой красный?
Это относилось ко мне.
Хорошему раку, только что вытащенному из кипятка, совсем не зачем было бы завидовать мне.
— Радуешься, что твой герой ушёл? А всё-таки в Тифлисе скажут, что мы здесь не бережём казённого интереса. Лодыри! служить не умеем. Положим, наместник знает меня… Одного не понимаю, каким образом могла попасть к Сулейману пила и верёвка. Ведь не мой же лоботряс передал ему…
Если бы он в эту минуту попристальнее взглянул на «своего лоботряса», может быть, вера в мою невинность у него поколебалась. Я почувствовал себя неловко и ушёл из комнаты во дворик, там запустил камнем в чужую кошку, кравшуюся по нашему балкону за пичужкой, беззаботно распевавшей в карагаче, ветви которого спускались на самый балкон.
— Ты знаешь, — встретили меня приятели-татарчата на улице, — Сулейман бежал!
— Ещё бы мне не знать!
Так и хотелось целому миру крикнуть: ведь я именно и устроил это.
Ходил я целый день гоголем и всех поражал таинственностью.
Приятели-татарчата даже попробовали было побить меня за неё, но первый же опыт их в этом роде совсем не удался. Я был очень силён и решителен, и помню, все эти Махмудки и Абдулки разбежались от меня горошком и только издали вступили в мирные переговоры.
— Разве так следует?
— А то как?
— Ты что же это в животы кулаком тычешь?
— Мне разбирать некогда. Вас четверо, а я один.
— Давай сначала.
— Суньтесь-ка.
И, наклонясь, я поднял камень.
Они рассыпались ещё дальше.
— Значит, сегодня ты играть с нами не будешь?
В самом деле, — ну разве я, освободитель Сулеймана, мог играть с какими-то ребятами… Я в одну эту ночь вырос и возмужал. И у детей бывают такие моменты, когда кажется, что на них смотрят сорок столетий с египетских пирамид.
— Разумеется, не буду.
Я ушёл опять домой и стал мечтать о том, как Сулейман подъезжает теперь к своему аулу. Его встречают родные и друзья, и он вместо всякого разговора приказывает им: «отныне благословляйте имя моего русского друга!» и при этом называет меня… Потом я видел себя уже взрослым. В каком-то кровавом (непременно кровавом) бою я сталкиваюсь с Сулейманом, но тот узнаёт меня и говорит: — «генерал (вот я куда уже заехал!), я не могу поднять шашку на своего спасителя. Я сдаюсь на великодушие победителя!» И протягивает мне эту шашку. Но я, разумеется, отказываюсь взять её, потому что у «храбрых оружия не отнимают!» И мы посреди боя обнимаемся и опять клянёмся друг другу в вечной дружбе.
Через несколько дней — отец получил письмо. Доставил его старый лезгин с бельмом. Сулейман сообщал, что он уезжает навсегда в Турцию, благодарил кунака за радушие, а мне посылал чудесное, всё в золотой чеканке, ружьё, такой же кинжал и пистолеты. Старик с бельмом смотрел на меня бесстрастно и равнодушно, — точно он видел меня первый раз в жизни, и я для него был таким же мальчиком, как и сотни других, бегавших по Дербентской улице. Только, когда отец вышел зачем-то в другую комнату, он оживился, вынул из кармана что-то и сунул мне за пазуху.
— Носи на шее. Это тебе посылает старуха-мать Сулеймана… Ни дурной глаз, ни лихорадка не коснутся тебя, ты не будешь знать страха и ни перед кем не опустишь взгляда. Вырастешь храбрым.
Амулет этот на золотой цепочке до сих пор у меня. Сделал ли он меня храбрым и сильным — другой вопрос. Только всякий раз, глядя на него, я вспоминаю яркую лунную ночь и себя у старой стены монументального, умирающего теперь Дербента.
IX
Решение наместника не заставило себя ждать.
Разумеется, в ответе никто не остался. Дело велено было предать воле Божией. Часовые строго исполняли обязанности, дежурные по караулам тоже. Побег оставался необъяснимым, как необъяснимы были до тех пор такие же, совершенные Хаджи-Муратом, Кази-Магомой, князем Темирговым и другими рыцарями гор.
Это была, впрочем, официальная сторона дела. В частном письме к отцу наместник сообщал:
«Извещаю вас при сей оказии, что оный Сулейман, по сведениям, доставленным в моё управление, благополучно переселился с своей семьёй в Турцию, а так как сей горский бек был одним из лучших воинов, несомненно способнейшим наибом у Шамиля и проводником его влияния в Дагестане, то и спасению его из крепости, и побегу в Константинополь весьма радуюсь. И если бы виновник сего счастливого события объявился, прошу вас имени его мне не сообщать, ибо, как главнокомандующий, я должен был бы его наказать по воинскому уставу, а как наместник и политик — одобрить и наградить, что сделать в одно и то же время весьма затруднительно. Вместе с сим уведомляю вас, что аул Джардикой, принадлежавший Сулейману, по совету его, желает принести покорность и перейти в разряд мирных, для чего даже принять наше гражданское управление и, когда к вам явятся от него выборные аксакалы[11], то имеете вы принять их со всем радушием и забвением обид, свойственными храброму российскому воинству».
Так благополучно окончилось моё детское приключение… Но и теперь, когда я уже стар, и у меня у самого есть такие же лоботрясы, каким и я был в те счастливые времена, — стоит мне вспомнить Сулеймана, чтобы от этой полузабытой были на меня повеяло духом чего-то романтического, светлого, беззаветного. Я улыбаюсь, вспоминая рыцарски-настроенного маленького героя, который, как кошка, пробирался по тихим улицам спящего города, к крепостной бреши, стену башни и обрез утёса, и на них, словно тень от большой ночной птицы, опускающегося в бездну Сулеймана. Мои дети растут теперь в Петербурге. Ну, где им испытать что-нибудь подобное, откуда им вложить в душу вечным вкладом такую чудную каспийскую ночь с серебряным морем внизу и царственными вершинами гор, плывущими в ночном свете в таинственное и мистическое царство вечности.
Примечания
[1] Бек — дворянин, помещик у татар.
[2] Барантач — грабитель, отнимающий добычу большею частью вооружённой рукой.
[3] Местная дешёвая ткань.
[4] Род сливного дерева.
[5] Кунак — хороший знакомый, приятель.
[6] Наиб — наместник какой-нибудь горной области.
[7] Знаменитые боевые полки на Кавказе.
[8] Так они называли детей офицеров.
[9] Вигвамы — шалаши-жилища индейцев.
[10] Руны — древнегерманские буквы; встречаются на оружии, памятниках и утвари.
[11] Аксакалы — выборные населением лица — старшины.
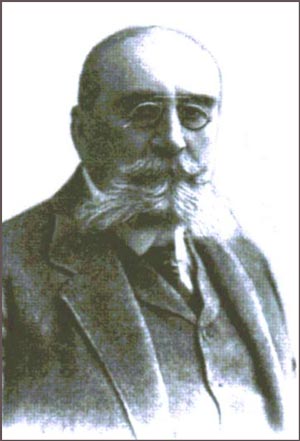
Комментировать