(Интервью, взятое Η. А. Струве в связи с 90-летием)[1]
Какие чувства вызывает у Вас Ваше 90-летие?
Подходившее мое 90-летие я воспринимала как ежедневное чудо, как ежедневный дар, нисходящий от «ЖИЗНИ Подателя», Духа Святого, обязывающий меня принять этот дар с покорностью воле Божией, дающей мне возможность со смирением готовиться к последнему моменту разделения души и тела. Сберегая мою жизнь, Господь сберегал ее и для моей, живущей со мною дочери, достигшей 50-ти лет, но оставшейся на уровне десятилетнего ребенка, нуждающегося в моих постоянных заботах.
Жизнь наша проходит мирно и тихо, мы взаимно поддерживаем и помогаем друг другу, и дочь является для меня радостью и утешением, а не посланным мне испытанием, как думают многие.
Насколько мне известно, будучи дочерью священника, Вы всю жизнь прожили в Православной Церкви, Обязаны ли Вы этой верностью отцу, воспитанию или каким-либо внесемейным факторам и событиям?
Отвечая на этот вопрос, мне придется несколько пространнее коснуться моей биографии.
Отец мой стал священником только на 62-м году своей жизни, после троекратного предложения и настойчивых убеждений архиеп. Анастасия. По приезде в Париж в 1923 г., его принял в свою епархию митрополит Евлогий. Первое время он состоял разъездным священником при Александро-Невском соборе, потом прослужил 9 лет в домашней церкви кн. Григория Трубецкого в Кламаре и, до самой смерти, в 1941 г., в Русском Доме и, при нем построенной церкви Успения Божьей Матери в Сент-Женевьев-де-Буа. В общем, около 20-ш лет служения во Франции. До своего рукоположения, он всю жизнь служил в Министерстве Финансов, был старшим инспектором Государственного Банка, много разъезжал по России и потом многое рассказывал нам из своих впечатлений. В своих инспекторских поездках ему приходилось общаться с людьми, выслушивать жалобы, улаживать трения и недоразумения, это как-то подготовило его к будущему духовничеству. В своем окружении он слыл «миролюбцем», Был он также одним из директоров Невского судостроительного завода, субсидируемого Государственным Банком. При нем строились суда-красавцы «Жемчуг» и «Изумруд», и на спуске их, в присутствии Государыни Марии Федоровны, отец на фотографической группе изображен стоящим в расшитом мундире, в треуголке и при шпаге, как требовал этого «превосходительный» ранг действительного статского советника. Инспекторская деятельность заставляла его часто отсутствовать из дому, особенно когда он ездил в Сибирь. Воспитанием нас, троих детей, — меня, брата на полтора года младше и сестры, моложе меня на восемь лет — занималась мать. В церковь нас иногда водил отец, т. к. мама часто болела, а главное религиозное влияние оказывала на меня моя крестная, сестра матери.
После няни, у нас всегда были бонны и гувернантки инославных вероисповеданий, и мы с детства привыкли с уважением относиться как к протестантизму, так и католичеству. Это впоследствии оказало некоторое влияние на мое экуменическое мировоззрение.
Хронологически и по местожительству мою жизнь в дореволюционной России можно разделить на 3 периода: 8 лет жизни в Петербурге, где я родилась, 8 лет в Царском Селе, где я провела гимназические годы, и 8 лет снова в Петербурге, когда я поступила на высшие курсы в женский Педагогический Институт, основателем и попечителем которого состоял вел. кн. Константин Константинович. Институт находился в ведомстве имп. Марии Федоровны,
Этот петербургский период был последним в нашей жизни в дореволюционной России. Мы покинули СПБ, тогда уже Петроград, в ноябре 1917 г., застав там уже начало революции, уехали на Дон.
Духовная, а не внешняя жизнь моя в Православной Церкви, о которой Вы задаете вопрос, слагалась постепенно. Мама учила нас с братом молитвам, и мы читали их, стоя рядом перед большой иконой Благовещения итальянского письма, висевшей в нашей детской, с теплившейся перед ней лампадой. Я любила, даже ночью, т.к. я всегда плохо спала, смотреть на эту икону Пресвятой Девы Марии, сидящей у аналоя с раскрытой книгой на нем, Архангела Гавриила с лилией в руках и ангелочками, летающими вокруг. Она вызывала во мне скорей эстетическое, а нерелигиозное впечатление. Заученные молитвы мы оба с братом повторяли автоматически, и, быть может, педагогической ошибкой было то, что родители не молились вместе с нами и что иногда мама подводила к дверям нашей детской одну или другую из своих гостий, чтобы показать им, «как дети молятся». В церкви я тоже стояла рассеянно, не отдавая себе отчета в том, что происходит. Только раз, уже позднее, оглянувшись на стоящего около меня отца, я увидела no ero лицу, что он переживает в это время что-то, что мне недоступно.
В 6 лет, когда я выучилась читать, мне подарили книгу Закона Божьего с Историей Ветхого и Нового Заветов, и это было для меня величайшим событием моей жизни. Первый рассказ о сотворении мира произвел на меня впечатление, подобное тому, какое мог бы испытать Христофор Колумб при открытии им Америки. Впервые Господь открылся мне как Творец и Создатель всего существующего, и, думала я, может быть, и меня самой. Я долгое время верила, что дети творятся в раю у Бота и что ангелы, быть может такие же, как ангелочки на иконе Благовещения, приносят их матерям, В сумерки я любила сидеть одна в гостиной у окна и смотреть на звезды, с которых, быть может, спускаются на землю детские души. В 7 лет меня повели на исповедь, которой я очень боялась, но батюшка велел мне только прочесть молитвы, которые я знала, и не спрашивал у меня о моих капризах и непослушании, так что исповедь не произвела на меня особого впечатления. К Причастию, как это было принято, нас водили только раз в год на Страстной, и я долго не отдавала себе отчета в ее значении. Спасителя я жалела за Его страдания, но не понимала тайну Искупления.
С раннего детства меня мучил вопрос о зле, которое в моем воображении представлялось мне в виде устрашающих образов, которые снились мне часто по ночам. Оставаясь иногда одна в детской, я со страхом смотрела на дверь, из которой может появиться какое-то неведомое существо. Во сне оно воплощалось иногда даже в образе моей няни, которая гонялась за мною, и, убегая от нее, я взлетала на воздух, вылетала из окна и падала на землю, просыпаясь с плачем. О своих переживаниях я никогда никому не рассказывала. Только раз поведала об этом гораздо позднее, когда «нападения» меня особенно одолевали, моему крестному, военному врачу, брату отца. Он серьезно выслушал меня и посоветовал читать молитву «Да воскреснет Бог», осеняя себя при этом Крестным знамением с призыванием Имени Иисусова. Этот совет я всегда исполняла и помню, как «призраки» при этом мгновенно исчезали.
Не только мистические переживания, но и совершавшиеся в мире события, до меня доходившие, влияли на мое воображение. Так, помню борьбу (1898–1902) буров с англичанами в Трансваале в 1900 г., отстаивавшими во главе с их президентом Кригером свою независимость от английской аннексии. Мы с братом вынули деньги из своих копилок и просили родителей послать их бурам, что родители и сделали через какой-то журнал. В том же году вспыхнуло в Пекине восстание секты «боксеров», напавших на иностранную миссию.
В Манчжурию, сестрой милосердия, поехала двоюродная сестра отца, наша «тетя Катя», и там, заболев тифом, скончалась. Это было для нас большое горе. Но в том же 1900 г. послана нам была и большая радость — рождение моей сестры, которую тетя Катя еще успела поняньчитъ до своего отъезда.
В 1901 г. отец решил для нашего здоровья переселиться с семьей в более здоровое по климату, чем Петербург, Царское Село. Был куплен там участок земли и построен дом, в который мы и переселились, В том же году я там поступила в Мариинскую женскую гимназию, которую и кончила там в 1908 г. с золотой медалью. Учение давалось мне легко, некоторые предметы меня интересовали, но уроки Закона Божьего не затрагивали моей духовной жизни, особенно катехизис, где все надо было заучивать наизусть. Но нужно сказать, что впоследствии эти заученные тексты мне очень пригодились.
В те часы, когда к нам приходил священник, к полькам приходил католический аббат, к протестанткам пастор и к нескольким бывшим у нас в классе еврейкам раввин. На религиозные темы мы между собой не спорили, но по окончании гимназии я узнала, что наши еврейки приняли христианство.
1905 г. с так называемой «революцией 5-го года» был отмечен большими беспорядками, забастовками почти по всей России. Некоторые семьи фабрикантов или более видных и богатых людей, из предосторожности, уезжали заграницу. Так, из нашего класса временно выбыли две девочки.
Железнодорожное сообщение между Петербургом и Царским было прервано, и отец возвращался из Петербурга в наемной карете. Мама всегда с волнением ожидала его, стоя у окна. В Петербурге происходили манифестации, шла пальба, и однажды шальная пуля чуть не задела в затылок проезжавшего в санях моего крестного, пролетев над его головой.
Однажды, сидя на уроке в классе, мы заметили из окна приближающуюся к нашей гимназии манифестацию гимназистов, потребовавших нашего выхода и присоединения к ним. Мы стойко выдержали, остались сидеть в классе и чувствовали себя героинями. Гимназисты удалились. Ho, после получения начальницей телеграммы из Петербурга, гимназия была на некоторое время закрыта. 1905 г. был несчастлив и в отношении военных событий: войны с Японией и наших больших поражений. Сдача Порт-Артура, бой при Цусиме и гибель эскадры Рождественского повергли всю Россию в уныние, и я глубоко переживала эти события.
По окончании гимназии, наш законоучитель о. Иаков Червяковский роздал нам всем Евангелия. На моем его рукой было написано:
«Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого» (Евр.4:12).
С тех пор я ежедневно стала прочитывать из него по главе и, старенькое и потрепанное, оно служит мне по сей день.
Летом 1908 г. серьезно заболела мама, и ее отвезли в госпиталь. Ночью я стала горячо о ней молиться, быть может в первый раз в моей жизни с такой силой веры, и, вдруг, словно какое-то внутреннее «озарение» охватило мою душу, и я почувствовала всем существом «близость» Христа. Слезы лились из моих глаз и погружали меня в состояние благодатного оцепенения. Мама поправилась, ее операция прошла благополучно, но я ей ничего не сказана о своем переживании.
После гимназии я целую зиму пробыла на курсах Берлина для изучения английского языка, а потом была принята в женский Педагогический Институт на словесно-историческое отделение. К этому времени брат поступил в Имп. Александровский Лицей, сестра — в Екатерининский Институт, и мы покинули Царское Село и переселились снова в Петербург.
В Педаг. Институте лекции читали: Платонов, Шляпкин, Введенский, Каринский, Адриянов, Кульман, француз Байи-Конт и многие другие. Последние два профессора преподавали и в Алекс. Лицее, и в семье вел. кн. Константина Константиновича. Первый курс был посвящен общему образованию: были лекции но богословию, психологии, истории искусства, философии, велись практические занятия по анатомии, химии и биологии. Кроме словесно-исторических наук, я избрала еще специальностью французский яз., что мне в будущем очень пригодилось. Кроме проф. Введенского, лекции по философии читал и Радлов, друг Влад. Соловьева. Он читал не систематический курс, а отдельные лекции о цели жизни, о времени и вечности и т.п., и слушать его собирались не только слушательницы нашего курса, но и других, даже естественницы, так что наша аудитория наполнялась до отказа, сидели и на подоконниках, и на ступенях кафедры. Эти лекции дали мне много и в религиозном отношении. Я впервые тогда познакомилась с Влад. Соловьевым, и его большой портрет висел у меня над письменным столом. Несколько слушательниц организовали кружок имени Вл.Соловьева, к которому примкнула и я. Руководителем его мы просили быть проф. Аникева, читавшего лекции по введению в богословие.
Он потом принял священство и был расстрелян а самом начале революции. При курсах была создана «Константановская» гимназия, в которой мы давали «пробные» уроки. Из окончивших ее я встретила лотом в Париже писательницу И.П. Горяинову, а из окончивших Институт — известных в Париже Т.И. Манухину и А.П. Жихареву.
Была у нас в Институте и домовая церковь, которую я очень любила и где стала постепенно вникать в православное богослужение.
В ноябре 1910 года Россию облетела весть о кончине Льва Толстого. Многие студенты и курсистки поехали в Ясную Поляну на похороны, которые должны были быть гражданскими, т. к. еще десять лет до своей смерти Толстой был отлучен Синодом от Церкви. Я очень огорчалась его отлучением, г. к. любила его романы, а противоправительственных и антицерковных его сочинений не читала. В день похорон я, как обычно, пошла на лекции в Институт. У подъезда стоял некто в «гороховом пальто» (тайная полиция) и сказал, что Институт временно закрыт из-за студенческих манифестации, так что мне пришлось идти домой. Наш Институт был «благонадежный», т. к. при подаче прошений о приеме надо было прилагать «свидетельство о благонадежности», выдаваемое полицией. Через несколько дней я узнала, что все-таки некоторые из наших слушательниц старшего курса на похороны ездили.
Другим, не связанным с этим, событием моей жизни этого года была наша поездка заграницу. Сначала мы прожили месяц в Саксонии, которая была еще автономной и управлялась королем. Жили мы около Дрездена, в гористой местности за Эльбой, где в хвойном лесу водились почти ручные белочки, бравшие орешки из рук, что было для меня живым общением с природой. Часто мы ездили в Дрезденскую картинную галерею и особенно долго останавливались перед Мадонной Рафаэля. Она производила на меня неотразимое впечатление отражавшейся на ее лице тайной божественного материнства, а младенец Иисус — всевидящим взором своих глаз. Мы купили копию этой картины и, по возвращении в Петербург, повесили в столовой, так что я постоянно ее созерцала.
После Саксонии мы поехали в Швейцарию и поселились сначала в небольшом курорте кантона Во, над Женевским озером. Из нашего сада открывался чудесный вид на озеро, на белоснежную вершину горы за ним и на православную церковь в Неве. Это сочетание являлось образом такой красоты, которая вызвала у меня на глазах слезы, «как откровенье неземное», когда я в первый раз это увидела… Но вот, снова вернулись мы в серый, туманный Петербург. Снова лекции в Институте, работала над сочинениями, экзамены. Для французского сочинения я выбрала трагедию Корнеля «Синна», для которой эпиграфом я выбрала слова Корнеля: «Ce qui est vraiment tragique, c’est d’etre enferme comme dans une impasse, dont on ne peut sortir que par un effort exceptionnel de la volonté» («Что действительно трагично — это быть запертым как в (некий) тупик, из которого можно выйти лишь исключительным усилием воли») — мысль, смысл которой мне не раз открывался в жизни (не забывая при этом и слов: «на будет воля Твоя»).
Перед Пасхой начиналось обычно приготовление к экзаменам. У нас была курсовая, а не предметная система преподавания и перехода с одного годичного курса на следующий, поэтому к весне мы были перегружены количеством экзаменов. Я часто уходила готовиться к ним поблизости от нашего дома на Петербургской стороне в «садик Спасителя», расположенный около домика Петра Великого, в часовне которого находилась старинная, потемневшая от времени икона Нерукотворного Спаса, принадлежавшая Петру. Во время экзаменов к часовне обычно подъезжали собственные экипажи и извозчичьи пролетки, привозившие пажей, правоведов, лицеистов и других учащихся, которые приезжали перед экзаменами помолиться и поставить свечку перед образом Нерукотворного Спаса. Свечей накоплялось так много, что сторожа снимали их пачками и заменяли новыми. Помолиться Спасу для облегчения трудностей в учении было тогда традиционным выражением народного благочестия.
Усиленные занятия отразились на моем здоровье и на состоянии легких, вызывали головные боли, которыми я потом еще долго мучилась, и врачи посоветовали везти меня на юг. Мама решила опять ехать за границу и повезла меня в Ментону. Я была уже на 4-м курсе, весной мне предстояло держать экзамен для получения французского диплома в Парижской Сорбонне и поездка на некоторое время во Францию меня даже устраивала.
Мама недолгое время пробыла со мной и вернулась в Петербург, т.к. время близилось уже к Рождеству.
В Ментоне я встретилась с несколькими высланными из России за их антиправительственные выступления эмигрантами и впервые столкнулась со взглядами, противоположными тем, которые я привыкла встречать в своей семье. Эти эмигранты получали запрещенные в России газеты, в которых критиковался русский государственный строй и возводилась клевета на царскую семью, которую я очень любила за доброту и приветливость всех ее членов. Живя в гимназические годы в Царском Селе, я часто встречала их, то во время прогулок, в парке, то, по воскресеньям, когда они всей семьей ехали в дворцовую церковь. Заходя во время экзаменов в собор помолиться, я иногда видела у иконы великомученика и целителя Пантелеимона государыню Александру Федоровну, молившуюся, вероятно, за болящего наследника. В кабинете моего отца висели портреты царской семьи, и среди них, написанный отцом масляными красками, портрет имп. Александра II, которого отец помнил в своей юности и особенно чтил его за освобождение крестьян от крепостного права. В нашем детстве читал он нам манифест Государя, кончавшийся словами: «Осени себя крестным знамением, православный народ и призови Божие благословение на твой свободный труд». Отец работал в здании Государственного Банка, выходившем одной стороной на Садовую улицу, а другой на Екатерининский канал, когда на нем раздался ужасный взрыв, потрясший не только здание Банка, но и всю Россию, и стоивший жизни Царя Освободителя. Не будь этого цареубийства, судьба России, быть может, была бы другая, т. к. подготовлялись и другие реформы,
Мои ментонские соседи-эмигранты, с которыми я сидела в пансионе за одним столом, критиковали не только государственный режим в России. но и Православную Церковь, которая, по их словам, жила на поводу у государства. Они делали иронические замечания, когда по праздничным дням я иногда после обедни приходила к столу с опозданием. Но они по-своему все же любили Россию и с нетерпением ожидали амнистии, чтобы снова вернуться на родину. Мне тоже опостыла жизнь заграницей и я с тоской ожидала скорее вернуться домой. Одиноко сидя в своей комнате вечерами и глядя в окно, я иногда вспоминала стихи Надсона:
Снова лунная ночь, только лунная ночь на чужбине,
Весь залит серебром потонувший в тумане залив,
Синих гор полукруг наклонился к цветущей долине
И чуть дышит листва кипарисов и пальм, и олив…
…
Да не тянет меня красота этой южной природы,
Не манит эта даль, не пьянит этот воздух морской
И, как узник в тюрьме жаждет света и жаждет свободы,
Так я жажду отчизны, отчизны моей дорогой.
Помимо всего, мне хотелось снова окунуться «по-настоящему» в лоно Православной Церкви, т.к. хотя я, несмотря на иронические замечания эмигрантов, и не переставала посещать чудную ментонскую церковь, которая существует до сегодняшнего дня, но эти замечания, не колебля моей веры, как-то «царапали» мое церковное «благочестие».
По возвращении домой меня ожидала несказанная для меня радость. Мама объявила мне, что решила со мной и моею сестрой совершить поездку в Саровскую Пустынь. Я с детства любила преп. Серафима по рассказам няни и моей крестной, посетившей Саров и Дивеево еще до нас. Свои впечатления от этого паломничества я описала в статье, озаглавленной «В обители преп. Серафима».[2] Посещение Сарова и Дивеева оставило глубокий след в моей душе.
Запомнилось общение с Дивеевскими сестрами, их рассказы, обход Серафимовой «канавки», по которой «стопочки Божией Матери прошли» кельи преп. Серафима из его «Дальней» и «Ближней» пустынек, икона Умиления, перед которой скончался Преподобный, перевезенная из Саровского монастыря, могилы его «сирот» и основательницы Адвеевской общины старицы Агафьи Мельгуновой, Монтурова и Мотовилова, литургия в соборе св. Троицы, построение которого было заповедано пр. Серафимом, но построенного после ero смерти.
А в Саровской обители — гробница с мощами Преподобного, посещение его пустынек, источник ero co студеной, родниковой водой, в которую я окуналась и чувствовала себя, выходя из нее, обновленной и телом и духом. А чудный Саровский лес, с ковром благоухающих, белоснежных ландышей! … Всего не расскажешь в кратких словах.
Перед началом войны 1914 г. я еще побывала в Чернигове и Киеве, где посетила Киево-Печерскую Лавру и другие монастыри.
Объявление войны с Германией в июле 1914 г. было встречено в России всеобщим подъемом. Вот как описал это Л.А. Зандер (мой муж) в своей статье «В ставке Верховного», помещенной в «Русской Мысли»:[3] «20-го июля 1914 г. многотысячная толпа собралась на площади перед Зимним дворцом в ожидании выхода на балкон Государя. Появление его в сопровождении Государыни было встречено народом пением «Боже, царя храни» и восторженными возгласами. Многие опускались на колени, плакали. Молодежь рвалась на передовые позиции, на фронт были посланы лучшие гвардейские полки. Но уже в августе начали поступать сведения об огромных потерях, понесенных нашей армией в Восточной Пруссии… Бурный энтузиазм первых педель войны начал сменяться чувством подавленности и угнетения».
А я писала:
Каждый день слышен звон похоронный,
каждый день умирает герой
и в церквах перезвон монотонный
дум печальных наводит мне рой.
Вспоминаются юные лица,
что дышали отвагой вчера
И угасли, как гаснут зарницы,
не дождавшись прихода утра.
Этого желанного «утра» мы дожидались с надеждой и нетерпением. Военные события 1914–1917 гг. изменили лик России. Кончился несколько беспечный довоенный период жизни с придворными балами, парадами, кутежами молодежи, народными гуляньями, Что-то более духовное созревало во многих душах. И на мою душу лег отпечаток этих переживаний.
Были ли в Вашей жизни особо для Вас знаменательные встречи?
В раннем детстве нас водили «под благословение» о. Иоанна Кронштадтского, когда он приезжал к бабушке и дедушке, и образ его с тех пор запомнился мне на всю жизнь. Я встретила его еще раз позднее, в Царском Селе. Помню, как сейчас, его лиловую рясу, пахнущую ладаном, весь облик его, не похожий на других священников, благостный взор его. «Видение» его «святости», более чем внешнее, краткое с ним соприкосновение, сокровенно хранится в моей душе, и мне легко обращаться к нему с молитвой.
Другого рода встреча произошла у меня при посещении в Дивееве блаженной Паши Саровской, встрече, гоже описанной мною подробно в моих воспоминаниях о Дивееве и Сарове. Совершенно особое впечатление произвело на меня то, как она, размахнувшись, бросила на пол протянутый ей мною серебряный рубль, покатившийся по всей ее келье и ударившийся об стенку, Что это означало? Мое ли недостоинство и нежелание Паши принять от меня дар, или нечто более сложное? На рубле с одной стороны был вычеканен российский герб с двуглавым орлом, а с другой — голова имп. Николая I, и это показалось мне предвестием чего-то непонятного и страшного…
Совсем иное событие моей жизни произошло летом того же 1913 г. Во время наших каникул мой брат встретил своего старшего лицейского товарища, Льва Зандера, моего будущего мужа. В моей жизни никогда не было чего-то «случайного», и встреча с Зандером определила, через 10 лет, уже в Париже, будущую мою судьбу, При первой встрече мы сразу же нашли много между нами общего. У нас были те же профессора, мы оба любили как богословские труды, так и стихи Вл. Соловьева.
Заходили у нас разговоры и на темы, поднятые Достоевским, которого Зандер очень любил. Меня в то время интересовал вопрос, затронутый Достоевским в романе «Братья Карамазовы», в главе «Воспоминание о юности и молодости старца Зосимы еще в миру», где говорится, что «жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять и тотчас же он настанет во всей красоте своей», Мысль моя возвращалась к словам Корнеля из моего французского реферата об усилиях воли. могущий преодолеть препятствия в жизни. Л. З. воспринимал идею «рая» эсхатологически, а я — как «Царствие Божие внутри человека». Таковы были наши беседы. Л. З. вырос вблизи Каннского храма, в котором он прислуживал, и любил тамошнего священника, занимавшегося с ним Законом Божиим. (Отец Льва Александровича был врачом вел. кн. Михаила Николаевича, который, по состоянию своего здоровья, проводил зиму на юге Франции, в Каннах, и отец Л. А. жил там со своей семьей). Живя около храма и бывая постоянно на церковных службах, Л. З. с детства рос в православной атмосфере и, во время моей встречи с ним, был более меня проникнут Православием. Вместе с тем, оп увлекался и философией, Киркегором и другими философами, и после сдачи экзаменов при Петербургском университете решил поехать в Гейдельберг, чтобы там слушать лекции проф. Виндельбанда. Он пропел там зимний семестр 1913–1914 года. Объявленная в июле война с Германией заставила его вернуться в Россию. Мы снова начали встречаться. В то время Л. А. был прикомандирован к Красному Кресту, в бюро помощи военнопленным и их семьям, а я работала в дамском комитете, организованном женой министра финансов Барка, собиравшемся в Зимнем дворце и занимавшемся шитьем белья для сражавшихся на фронте. Встречи наши с Л. А. продолжались недолго. В конце 1915 г. Ставка из Барановичей была переведена в Могилев, и генерал-инспектором артиллерии был назначен вел. кн. Сергей Михайлович, который привлек Л.3. к работе в Ставке в качестве переводчика и заведующего артиллерийской научной библиотекой. Изредка мы переписывались. Я подружилась с ero сестрой, которая летом жила с отцом и мачехой в имении вел. кн. Сергея Мих. в Михайловке, под Петергофом, куда я иногда к ней приезжала погостить.
В феврале 1917 г. перевернулась страница Российской истории.
Как пережили Вы начало революции и отречение от престола Государя?
Отречение Государя за себя и Наследника от престола было для меня оглушительным, едва переносимым ударом. Как хотелось тогда, чтобы снова, как при объявлении войны, Государь вышел бы на балкон и обратился с призывом к собравшейся толпе! Но этого не случилось. Вернувшийся из Ставки J1. 3. рассказывал о прощании Государя со Штабом. «Тяжело мне расставаться с вами, говорил он, но такова воля Божия и последствия моего решения». Он просил всех продолжать самоотверженно служить России. Многие плакали, а иные падали в обморок. Государь сохранял удивительное самообладание, но Л. А. заметил, что, направляясь к выходу из зала, он смахнул слезу. А в это время разложение в войсках было в полном разгаре, даже лейб-казаки в Царском Селе отказались от подчинения. Командующие фронтами, включая вел. кн. Николая Николаевича, как и другие великие князья, высказались за отречение Императора от власти, и таким образом он оказался покинутым даже членами Императорской семьи.
Все это с трудом умещалось в сознании. В один из этих тяжелых дней мимо нашего дома (мы в то время жили на Загородном просп. у Пяти Углов) проходила процессия «красных» похорон «жертв революции», и я спустила шторы на окнах, чтобы их не видеть. В это время я была одна в квартире, почему-то дверь «черного хода» не была закрыта (м. б. прислуга выбежала смотреть на похороны), ко мне ворвался какой-то парень в большом волнении и сказал: «Если будете продолжать стрелять, я тут же вас прикончу!» В полном недоумении я ответила, что у меня даже никакого оружия нет, и парень, видя перед собой растерянную молодую девушку, ни слова больше не говоря, быстро удалился. Но, как потом выяснилось, полиция поставила на крышах некоторых домов, во избежание народного мятежа во время похорон, пулеметы, и, возможно, что было несколько залпов с крыши нашего дома. Это был единственный случай непосредственной для меня смертельной опасности, Но, по-видимому, этот парень был «сознательный революционер», исполнявший свой долг и не зарившийся, вместе с тем, и возможностью поживиться чужим имуществом. Еще не настали те времена, о которых потом писал Блок в своей поэме «Двенадцать»: «Запирайте этажи, нынче будут грабежи».
А я тогда все время повторяла слова из Псалма: «Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего».
В то время героем многих стал Керенский. Он захватывал людей своим красноречием, но я возлагала тогда горячие надежды на Корнилова и на то, что ему удастся собрать остатки не поддавшейся соблазнам революции армии. На каждом перекрестке города собирались митинги и выступали ораторы, Но, кроме митинговых ораторов, появились и христианские проповедники, и среди них привлек мое внимание А. Орбели, выступавший в гимназии Оболенской и в других залах Петрограда. Он говорил вдохновенно, с глубокой верой и убеждением. Основной его темой было Слово Божие и его значительность в жизни человека. Он внушал мне доверие, и я с ним познакомилась. Встречу с ним я отношу к одной из значительных в моей жизни. Время приближалось к Пасхе, но я его переживала в подавленном настроении, ничего кругом не радовало. Помню, что и Пасхальную Заутреню я пережила без обычного радостного подъема. В первый день Пасхи, вместе с братом и сестрой, я отправилась похристосоваться с бабушкой, жившей недалеко от нас. День был пасмурный, накрапывал даже мелкий дождик. Я шла под гнетом тяжелых мыслей… И вдруг, внезапно, что-то произошло… Что это было — нс знаю. Не «экстаз», а некое внутреннее «озарение». Все вокруг просветлело, что-то неописуемое охватило все мое существо. Основным чувством была несказанная «радость». Мне показалось, что и встречные прохожие радовались со мной. Я «де пала на землю», как Алеша Карамазов в тот памятный для него момент, «когда кто-то посетил его душу», но чувствовала себя необычайно легкой, точно какая-то тяжесть спала с моей души. Я не помню, как я от бабушки возвращалась домой, но я летела, как на крыльях, так что, заслышав мои шаги, мама спросила в удивлении: «Что с тобой, ты словно летишь?» Да, я и впрямь «летела» и еще долгое время продолжала »лететь» в этом радостном «озарении». При встрече с Орбели, у него на дому, я рассказала ему и об унынии, одолевавшем мою душу, и о том, что внезапно произошло со мной. Я по-прежнему чувствовала к нему доверие и поэтому решилась с ним об этом говорить. «Это — Любовь Духа Св. вас посетившая», — сказал он. И я тогда впервые осознала силу и действие Духа Св., Который может «вселяться в нас и очищать нас от всякой скверны». Как близки мне стали слова псалма 54-го: «Кто даст мне крылья голубиные и полечу и почию… чая Бога, спасающего меня от малодушия и от бури». Я перестала быть «чеховским типом», как меня называла мама, вероятно, уподобляя меня одной из его «трех сестер», или «самогрызом», как называл меня мой брат. Я почувствовала не только легкость, но и силу, как бы оправдывая свое имя «Валентина» (лат. — «сильная»). Орбели влиял на меня, укрепляя в любви к Слову Божию, а в более глубоком восприятии Православия оказывал на меня тогда влияние князь Иоанн Константинович, с которым я встречалась у одних знакомых. Потом он приходил и к нам домой и раз пригласил меня и сестру на «Царя Иудейского», пьесу его отца вел. кн. Константина Константиновича (поэта Κ. Р.). Уже после смерти вел. князя эту его драму ставили в частном театре. В ложе присутствовали и младшие братья Иоанна Константиновича, Константин и Игорь. Думалось ли тогда, что все трое примут мученическую кончину в Алапаевске, в следующем, 1918 г.? Да упокоит Господь их светлые души!
Были ли у Вас до отъезда из России еще какие-либо значительные встречи или события, повлиявшие на Вашу духовную жизнь?
До отъезда из России. 6-го марта 1920 г., мы прожили еще 3 года на Дону, в Новочеркасске, где. по приглашению Донского правительства, мой отец занял пост помощника Управляющего финансовым отделом (что соответствовало должности товарища министра финансов). Назначение это было для него совершенно неожиданным, и он согласился ero принять, имея в виду, что сможет в таком случае соединиться с нами (матерью, сестрой и мною), уехавшими по его настоянию в конце ноября 1917 г. в область войска Донского, станицу Каменскую. В Петрограде в это время стало очень неспокойно, все время слышалась пальба, взламывались винные погреба матросами и бежавшими с фронта солдатами, чувствовался недостаток продовольствия и дров для отопления квартиры. Но после того, как я почувствовала прилив духовных сил, я уже ничего не боялась и смело ходила по городу, даже вечерами. Перед отъездом мне хотелось в последний, может быть, раз побывать у святынь, особо почитаемых в Петрограде. Ходила в часовню к иконам «Всех скорбящих Радосте», что у Стеклянного завода, к «Скоропослушнице» и, особенно часто, заходила в Казанский собор помолиться перед иконой Божией Матери, копию которой я дотом увидела в Париже на рю Дарю. Была я и на кладбище у Ксении Блаженной. Какое-то внутреннее чувство говорило мне, что все это уже я больше не увижу, хотя мы тогда собирались уехать только до Рождества, когда все должно было придти в норму. Особенно часто тогда я навещала бабушку и любимую крестную, с которыми жалко было расставаться. Многие отговаривали нас уезжать, говоря, что «все обойдется». Особенно против нашего отъезда был вел. кн. Иоанн Константинович. Он так верил в Россию и русский народ! «Не уезжайте, не уезжайте! — повторял он. — Скоро эта завируха кончится». На прощание он подарил мне Евангелие с надписью «Да не смущается сердце ваше» (Ио.14:1) и со стихами ero отца: «Пусть эта книга священная, / Спутница всем неизменная,/ Будет с тобою везде и всегда». И она пребывает со мной до сегодняшнего дня,
С Левой Зандером мы еще побывали на «Стрелке», на островах, полюбовались закатом солнца. Оп предполагал уехать в Пермь, где предлагали ему приват-доцентуру по философии. Туда должен поехать и Вл. Вейдле, с которым Л. 3. в то время работал в Публичной библиотеке, в которой работал также и С. Безобразов (будущий еп. Кассиан). Оказалось потом, что на этих Петербургских островах мы расстались с Л, 3. на 6 лет,
В станице Каменской нас встретили не очень дружелюбно, «петроградцев» там не любили. «Вы нежелательный элемент», — говорили нам. С трудом удалось найти помещение, две комнаты в семье одного казачьего полковника. Одноэтажный домик стоял на окраине города, на крутом берегу Донца, за которым простиралась необозримая степная даль, в это время года покрытая снежной пеленой. Казалось, что мы на краю света. Но большой радостью для нас, заброшенных в такую даль, оказалось то, что от нас совсем недалеко имеется церковь, в которой происходят почти ежедневные церковные службы, на которых мы стали бывать, Там мы обратили внимание на одну, выделявшуюся от других казачек в пестрых головных платках, худощавую, высокую, пожилую женщину в черном, с монашеского типа лицом. После службы ее обычно окружали подходившие к ней другие женщины, тоже вроде монашек. Однажды одна из них к нам подошла. «Вы приезжие?» — спросила она. На наш утвердительный ответ она сказала: «Заходите как-нибудь к нам!» Мы поблагодарили, и она подвела нас к той пожилой женщине, на которую мы раньше обратили внимание. «Вот, Варвара Федоровна, — обратилась она к ней, — это приезжие, примите их». Та ласково улыбнулась нам. «Так что ж, милости просим, пойдемте ко мне!» Жила она не очень далеко, в небольшой хатке, окруженной садиком. Мы рассказали ей нашу историю и стали часто у нее бывать. На все время нашего пребывания в станице эта старица оказалась единственной нашей знакомой, близкой нам по духу. Одна из ее маленьких комнат была вроде молельни, с множеством икон и старинных книг в кожаных переплетах. В беседах с ней мы находили большое утешение, и я особенно часто бывала у нее. Перед Рождеством она сказала нам, что в церкви в Сочельник будет ночная служба и чтобы мы непременно приходили. В 4 часа ночи раздался благовест. Мама меня разбудила, и мы обе, быстро одевшись, вышли в морозную ночь. Снег хрустел под ногами, в небе сияли звезды, и мне чудилась среди них Вифлеемская звезда. В церкви было уже много народа, но мы успели исповедаться. Всенощная начиналась с великого повечерия и, когда раздалось пение «С нами Бог» и открылись Царские врата, трепетная, ликующая радость охватила мое сердце, пасхальная радость, которую я не пережила в этом году во время пасхальной ночи. Рождественская служба длилась всю ночь. Это было высочайшее духовное торжество, проникнутое тайной Боговоплощения. Особенной радостью переживалось Причащение Св. Тайн. Когда подходили ко Кресту, священник каждому говорил: «Христос родился!» Когда мы в 8 ч. утра выходили из церкви, старица Варвара Федоровна пригласила нас к себе «разговеться». «Было как на Пасхе», — сказала я ей. «Да это и есть «вторая Пасха», как считает Православная Церковь», — ответила она. У нее в домике уже собрались те несколько женщин, с которыми мы познакомились в церкви. Стол был накрыт белой скатертью, под которой была разостлана солома в память Вифлеемских яслей. На столе стояли разные Рождественские угощения: кутья, сочиво, взвар из сухих фруктов и разные другие кушанья. В первый и последний раз в жизни переживала я и такую Рождественскую ночную службу, и такую особенную Рождественскую трапезу. Перед тем как сесть за стол, все вместе спели тропарь и кондак Рождеству. «Христос родился», — сказала нам всем Варвара Федоровна. Всю жизнь потом я мысленно переживала эти Рождественские впечатления.
От отца мы не имели никаких известий. В это время Новочеркасск и станицу Каменскую заняли «красные», и почтовое сообщение почти совсем прекратилось. Перед их вступлением мы еще видели, как на большой площади в станице гарцевали на конях добровольцы-казаки и несколько приезжих офицеров-корниловцев, собиравшихся двинуться в поход, оказавшийся «Ледовым походом», и соединиться в степи с Кубанцами, Тердами и Добровольческой армией. Ползли слухи, одни печальнее других. В Новочеркасске застрелился перед вступлением красных генерал Каледин, возглавлявший тогда Донское правительство, «белые» всюду терпели поражение. В Петрограде «воцарился» Ленин, которого я видела раз перед своим отъездом, ораторствующего перед небольшой группой людей у дома Кшесинской, в котором он тогда поселился. В начале января 18-го года от отца пришло одно письмо, в котором он писал, что жизнь в Петрограде становится с каждым днем труднее и что он собирается в скором времени выехать в Новочеркасск и встретиться с нами. А от брата я получила открытку на английском языке с сообщением, что отец выехал из Петрограда 27-го января. Но прибыл он в Новочеркасск только 7 февраля. Как он написал в открытке, дорога была ужасная: остановки в пути из-за шедших вблизи боев, пересадка из вагона I класса в нетопленный товарный вагон, часть пути на лошадях, снежная пурга в степи… Приехав в Новочеркасск, отец приступил к своим новым обязанностям помощника управляющего отделом финансов, но вступление красных в город остановило работу. В марте ему удалось с великим трудом добраться до Каменской и встретиться, наконец, с нами. А мы, незадолго до этого, переехали на другую квартиру, которую настоящим чудом нам посчастливилось получить. В это время и «красные» и «зеленые» занимали станицу, Шли обыски, расстрелы. Большую часть дня мы проводили у Варвары Федоровны, с которой познакомили и отца. Она давала ему читать имевшиеся у нее духовные книги (кажется, св. Василия Вел.), и как-то проникновенно сказала ему: «Ведь вы будете потом проповедовать, так это чтение вам полезно». Она известна была в станице как прозорливая, и эти се слова действительно потом исполнились, когда отец принял священство. Иногда я приходила к Варваре Федоровне одна, и она поведала мне о своем желании собрать уже знакомых мне женщин в небольшую общину и звала меня примкнуть к ней. Я всей душой на это откликалась, но не знала, как отнесутся к этому мои родители. Наступала Страстная. В станице ходили слухи, что где-то недалеко идут бои и приближаются «союзники». То ли французы, то ли англичане, то ли чехи. А «красные» стали в это время особенно наглыми, они почему-то отличали меня и сестру от казачек и говорили при встрече: «Ишь, буржуйки! Вот ужо скоро напьетесь своей крови!» У Заутрени в церкви почти не было народу. Многие казачьи семьи разъехались по своим хуторам. Электричества не было, фонари тоже не горели, и в полной темноте мы добирались домой. Решили парадную дверь на ночь не закрывать, чтобы не было стука и трезвона, если вдруг придут нас забирать. Но ночь прошла тихо. «Вот мы еще живы!»— сказали мы друг другу утром. В станице тоже было тихо. Говорили, что «красные» внезапно ушли. Ilo в полдень вдруг началась пальба где-то в степи за Донцом. Мы с сестрой взяли бинокль и взобрались на холмик в саду, откуда видна была степь. Вдоль Донца, с нашей стороны, пролегал железнодорожный путь, и какой-то товарный состав метался взад и вперед по проложенным рельсам. «Это «красные» удирают, — подумалось нам, — может быть и вправду приближаются союзники». И вдали, за мостом через Донец, мы увидели какой-то приближающийся отряд. Всмотревшись хорошенько, мы заметили на головах шедших солдат остроконечные шлемы. «Немцы!» — воскликнули мы в ужасе. Да, это были немцы! Перейдя Донец, они вошли в станицу, и мы видели, как они стройными рядами проходили мимо нашего дома. «Что-то нас ждет?» — думала я. Через некоторое время я вышла с отцом узнать, что делается в станице, и мы узнали, что в первую очередь немцы освободили из тюрьмы приговоренных к расстрелу офицеров. Вернувшись домой, мы увидели на воротах начертанную по-немецки надпись: «столько-то человек, столько-то лошадей». Оказалось, что часть штаба заняла наш дом. Гостиную занял полковник, в столовой сидели адъютант и полковой врач, на кухне хлопотали денщики, хозяйская прислуга ставила самовар.
Трудно описать наши переживания при этой встрече с врагами родины и, вместе с тем, людьми, спасшими нас от неминуемой гибели… С нами они были очень корректны, но по хуторам забирали у казаков все, что можно, из продовольствия. Немцы пробыли месяц и внезапно ушли, Из Новочеркасска пришло известие, что «красных» прогнали и что власть возглавляет генерал Краснов, избранный атаманом, Отец решил с первой возможностью вернуться в Новочеркасск, наладить там все дела по своей новой должности и до нашему устройству и затем приехать за нами или нас выписать к себе. Все вместе мы пошли сообщить об этом Варваре Федоровне. Она опечалилась тем, что придется расстаться с нами, хотя она и рада была за нас и просила моих родителей оставить меня у нее. Родители воспротивились, и я, конечно, подчинилась их воле. Прощаясь с отцом, Варвара Федоровна попросила у него благословения и поцеловала ему руку. Отец вспоминал об этом после рукоположения.
В Новочеркасске отец был так занят своей работой, налаживанием связей с Ростовом, Таганрогом и Добровольческой Армией, что не имел возможность приехать в Каменскую и просил меня приехать к нему, чтобы заняться поисками для нас квартиры. Это было начало июня. По приезде в Новочеркасск меня ожидало потрясшее меня известие, только что полученное отцом через Киев, об убийстве, при ограблении квартиры, всей семьи моей матери, ее сестры, моей крестной, и ее двух братьев. Бабушку, лежавшую в параличе, оставили в живых, но она в скором времени скончалась. Известие было получено уже в конце июня. Подробностей никаких не сообщали. Папа был обеспокоен тем, как примет мама это ошеломляющее, трагическое известие, просил меня, при первой же возможности, съездить в Каменскую, чтобы со всеми предосторожностями сообщить ей об этом. За время короткого моего пребывания в Новочеркасске, у директора Гос. Банка, у которого отец мой временно остановился в ожидании нахождения для нас квартиры, родилась дочка, и меня просили быть крестной. Поэтому я должна была не задерживаться в Каменской и скорее вернуться для устройства наших дел. 6 часов туда и 6 обратно при ужасных ж.-д. условиях. Но, с Божьей помощью, я их преодолела. Дома я была поражена, с какой стойкостью мама выдержала полученное ею известие. Ни слез, ни ропота, ни жалобы… Только молча перекрестилась и промолвила: «Да будет воля Твоя». Нас несколько отвлекло то, что мы что-то должны были смастерить из имевшегося у нас скудного материала для предстоящих крестин новорожденной. Все заготовив, я еще сбегала к Варваре Федоровне, чтобы сообщить ей скорбную весть. Она обещала молиться за убиенных, а затем дала мне письмо к своей сестре в Новочеркасске с просьбой помочь мне в приискании нам квартиры. В вагоне я получила хорошее место во II классе и могла во время долгого пути предаться своим мыслям. Перечитывала захваченные мною из Каменской последние открытки от крестной от марта месяца. «Летают аэропланы, сбросили несколько бомб, но кто неизвестно»… «Наше семейное положение очень тяжко, при свидании поймете. Одно утешение для меня, что вас здесь нет»… «Единственное утешение и поддержка — это непоколебимая уверенность, что все это ниспослано нам свыше, Пошли нам Господь возможность всем свидеться и пожить в радостной тишине». А мой дядя Александр, старший брат матери, писал: «Как много пережито, выстрадано нами за эту долгую зиму. Трудно описать то, что мы испытали и продолжаем испытывать! Теперь стало как-то радостнее на душе при появлении более теплых, солнечных дней. Наша страдалица сестра Вера проявляет изумительную энергию и заботливость о нас. Она сильно изнурена и исхудала. Не знаем, как встретим и проведем Пасху»… Читая его слова, относившиеся к моей крестной, я вспомнила не то сон, не то явь, как однажды ночью (возможно, что это была та самая трагическая ночь их убийства) крестная вошла ко мне, села на мою кровать и, взяв мою руку, сказала тихо: «Отпусти меня!» «Нет, не отпущу!» — воскликнула я в предчувствии разлуки. Тогда она положила мою руку себе на грудь: «Видишь, как я исхудала, мне нечем больше жить». И я молча ее отпустила… навсегда.
С дядей Сашей я тоже очень была дружна. Он был поэт, и мы с ним часто обменивались стихами, которые он вписывал в мой альбом. Человек глубоко религиозный, он был мистиком и иногда поверял мне из своего духовного опыта некоторые необыкновенные случаи. В одном из своих стихотворений он писал: «Кто-то светлый, белокрылый посетил меня…». После нашего посещения Серафимо-Дивеевской обители, он тоже ездил туда, побывал и у блаженной Паши, которая, как он рассказывал, необычайно ласково приняла его, поила чаем, накладывая сахар кусок за куском и приговаривая: «Пей, пей, голубок!» Нам рассказывали в Дивееве, что Государя, посетившего ее во время торжеств при канонизации пр. Серафима, Паша тоже принимала очень ласково и поила чаем с сахаром. Такой прием, как говорили, Паша оказывала тем, чью она прозревала горькую участь. Дяде она еще сказала: «А ты, вот, положи рубль за всех твоих!» Он один из нашей семьи, из всех семерых, побывавших у Паши, был достоин принести этот жертвенный дар, оказавшийся столь символичным. Все это проносилось у меня в голове, пока поезд медленно тащился к Новочеркасску. По приезде туда и после крестьян, я немедленно начала поиски квартиры, Адреса, данные сестрой Варвары Федоровны, не подошли. Одно из помещений занимали «корниловцы», другое было слишком дорогое. Но и тут Господь не оставил нас, «странников и пришельцев», как раз освободилась квартира в 3 комнаты в нижнем этаже дома, в котором жила семья приезжавшего за отцом в Петроград одного чиновника «Мелкого Кредита». Снова съездила я в Каменскую, помогла нашим в укладке вещей, и все вместе мы приехали в Новочеркасск, соединились с отцом и начали новый этап нашей жизни. Осенью мы неожиданно получили прошедшую через все наши прежние адреса в Каменской открытку от дяди Саши от 12 апреля со словами: «Христос Воскресе! Поздравляю вас с великим Праздником, заочно христосуюсь и желаю всего радостного и светлого». Это была как бы весть из горнего мира, встреча с «потусторонним». Трагическая кончина самых нам близких людей отразилась, в духовном отношении, на всей нашей семье. Стали казаться ничтожными все наши лишения, впадение в нужду, даже разлука с родиной, хотя тогда она казалась нам временной. Той же осенью дошел до нас слух, не менее нас потрясший, о гибели всей царской семьи в Екатеринбурге и Константиновичей в Алапаевске. Отец был более всех нас подавлен. Он поседел и сильно постарел, но приходилось, милостью Божией, держаться. Тогда еще не знали мы и о будущей беженской жизни в лагере на острове Лемнос и довольно длительном пребывании в Константинополе, перед переездом в Париж.
Какой образ дореволюционной России Вы хотели бы передать тем, кто ее не знал и кто имеет часто неправильное о ней представление?
Дать всеобъемлющий, единообразный образ России очень трудно. Она многообразна и многолика.
«Неправильное» представление о дореволюционной России двояко: одни ее чрезмерно идеализируют, другие, наоборот, видят в ней только одни дурные стороны. На то и другое представление можно противопоставить обратное, смотря под каким углом смотреть на это.
Я мало знала Россию, мало по ней путешествовала. Групповых поездок тогда, в моем окружении, не устраивали, а одну меня не пускали. Отец, в своих многочисленных командировках, меня с собой никогда не брал. Летом, с матерью, мы ездили или в Финляндию, или в прибалтийские провинции — Эстляндию и Латвию. Два раза ездили в Крым. По дороге туда останавливались в Москве, которая поразила меня своим совершенно отличным от Петербурга характером. Ее старинные церкви, Кремль, который мы осматривали, ее кривые улочки и затрапезные извозчики… И я тогда всей душой полюбила Москву. Еще один образ старинного русского города представился мне, когда мама ездила с нами в Старую Руссу брать лечебные ванны. Мне было тогда 12 лет, но мне хорошо запомнился один крестный ход, во время которого «поднимали» огромную чудотворную икону Божьей Матери и обносили ее по городу. Это было незабываемое торжественное зрелище, которое поразило мое воображение. Царица Небесная точно «плыла» по воздуху в облаках кадильного дыма, и встречные прохожие падали перед Ней на колени. Это была моя первая встреча с «православной Русью».
Незадолго до революции мы дважды ездили с сестрой погостить в двух знакомых семьях в Тверской губ., и я немного познакомилась с жизнью местных крестьян, даже ходила с ними сгребать сено на лугах, слушала их разговоры. Речь почти всегда шла о недостатке земельного надела. Высказывали и некоторое неудовольствие помещиками. Заходила я и в некоторые избы, и у одного старика заметила лежащую на аналое Библию, которую он любил читать.
Перед началом войны 14 г. я ездила гостить к дяде в Чернигов и тогда побывала в Киеве, где посетила Лавру и пещеры.
Если Чернигов еще сохранял характер старинного русского города, хотя и с некоторым малороссийским налетом, то Киев был уже сильно европеизирован, с многоэтажными зданиями, вроде дома Городецкого.
Проводя детство и молодость свою то в Петербурге, то в Царском Селе, то снова в Петербурге, я видела огромную разницу между этими двумя городами. Царское Село было царской резиденцией и строго охранялось и городской, и тайной полицией, теми «гороховыми пальто», которых мы знали почти в лицо. В Царском был большой порядок, не видно было пьяных, и нищих я почта не встречала. Приходили только иногда за подаянием из других губерний «погорельцы», т. к. во время 1905 г. случалось, что «пускали красного петуха», и горели окрестные леса, зажигая пожары и в деревнях.
Жизнь, которую я знала в Царском, носила очень светский характер, и мне запомнилась «боярская свадьба», организованная отцом моей гимназической, подруги. Все участвующие должны были быть в боярских костюмах, и я тоже была в сарафане, расшитом жемчугом, и кокошнике. Не помню, было ли это на святках или на масляной, но было много снега. К подъезду дома моей подруги, в котором мы собрались, подъехали тройки, мы все расселись и стали разъезжать по знакомым и «разыгрывать свадьбу». Помню, что было много военных, а в одном доме мы встретили князей Андрея и Бориса Владимировичей (они потом оказались в Париже). Были танцы, ужин. Но мне было скучно из-за светской болтовни.
В Петербурге моя жизнь сложилась иначе. Я была поглощена занятиями на курсах и имела только время иногда посещать концерты и бывать в театре. Каждое утро, идя на курсы, я проходила мимо ночлежного дома, из которого выходили заспанные, изможденные трудом и алкоголем люди. Неподалеку находилась и питейная лавка, как ее называли, — «казенка», потому что доход от продажи водки был обложен казенным налогом, шедшим в пользу государства. С утра уже стояла очередь, и водка тут же, на улице, распивалась. Пили прямо из горлышка.
Проходила я и мимо подвальных помещений, где ютились мастеровые и беднота. Однажды, на Рождество, в первый год нашего переезда в Петербург, когда меня впервые поразили эти картины нищеты, мы с братом захотели устроить ребятишкам, выбегавшим полураздетыми на улицу, какой-нибудь праздник, накупили игрушек и разносили их по подвалам.
Отец, возвращаясь из своих поездок, рассказывал нам о своих впечатлениях. Однажды ездил он от Государственного Банка на золотые прииски в Бодайбо, в Сибири. Поднимался на пароме по Лене, шел часть дороги пешком и с великим трудом добрался до места. Там он был потрясен условиями работы промывальщиков золота, которые должны были исполнять это, стоя по колено в воде в неприспособленной к подобной работе одежде. Впоследствии, когда все нарушения гигиенических условий рабочих приисков дошли до сведения Государя, он велел послать туда следственную комиссию для расследования, и, по-видимому, соответствующие меры были приняты.
Готовились тогда и земельные реформы, подготовку которых вел Столыпин, но убийство ero в Киеве остановило все дело. Мой дядя (третий брат матери) был тогда директором Государственного Банка в Киеве и рассказывал нам потом об этом, потрясшем его и всех нас, событии. Тогда же приезжал в Киев и Государь, и дядя был ему представлен. Простота и обаятельность Государя его очаровали. «Ведь мы с вами земляки», — сказал Государь дяде. Дядя, как и мы, был царскосельским домовладельцем, и Государю, вероятно, об этом доложили, подготовляя список лиц, ему представлявшихся. Но память Государя и простота его обращения были исключительны.
Заканчивался период русской рыцарской эпохи.
Перед самым отъездом из Петербурга, в 17-м году, я видела «вещий» сон. Будто стою я на улице перед нашим домом и на меня вдруг надвигается огромная, туманная ropa co страшным человеческим ликом. Отступления назад не было, и я, перекрестясь, пошла прямо к ней напролом и… как туманное облако, гора раздвинулась, и я прошла сквозь нее.
Пусть так будет и с русским народом, пусть пройдет он сквозь все искушения и соблазны, и возродится духом, как сказочный богатырь.
В эмиграции Вы были тесно связаны с PCX Движением. Что оно Вам дало, в чем была ero особенность и недостаточность?
С Русским Студенческим Христианским Движением я познакомилась с первых же дней моего приезда в Париж. Перед своим отъездом из Константинополя я получила от американского Красного Креста, где я работала, ряд рекомендательных писем, в разные парижские учреждения. Одно из них было адресовано на общежитие для молодых девиц на Бульваре Сэн-Мишель. По приезде, я отправилась туда, где меня очень любезно приняла директриса, милейшая Мисс Уатсон, и предложила познакомиться с несколькими русскими пансионерками. Среди них была Милица Лаврова (в будущем жена Николая Михайловича Зернова). Встреча с ней была для меня знаменательной. Узнав, что я дочь священника и интересуюсь церковной жизнью, она посоветовала мне пойти 14 ноября на доклад проф. Карташева, который должен был состояться в зале русского посольства, на улице Гренель. Темой его доклада будет сообщение о состоявшемся с 1-го по 8-е октября съезде молодежи в Пшерове, близ Праги. Милица сказала, что она была послана туда делегаткой от парижского студенческого кружка, существующего с благословения владыки Евлогия с 1921 года. Съезд этот произвел на нее огромное впечатление. Я заинтересовалась ее словами и вместе с отцом отправилась на доклад. Зал посольства был переполнен. Были и старые, и молодые. В яркой и образной речи, иногда, в минуты особого вдохновения, закрывая глаза, Карташев рисовал картину будущего воссоздания русской общественности на основе вживания в церковную жизнь, ее традиции и устои. Для этого, говорил он, необходимо, прежде всего, создание заграницей русской богословской школы, о чем уже ведутся серьезные разговоры. Необходимо также образование разного рода приходских организаций и небольших православных ячеек, которые могли бы впоследствии сплотиться в единое православное братство, освящающее все уголки общественной жизни. С особым пафосом Карташев обрисовал происшедшую на Пшеровском съезде встречу и объединение старшего и младшего поколений русской эмиграции. Объединение это, по его словам, произошло на почве совместного желания поставить в основу своей жизни служение православной Церкви.
Перечисляя участников съезда, Карташев особо отметил имена недавно высланных из России философов: о. Сергая Булгакова, Η. А. Бердяева, C.J1. Франка, Н.О. Лосского, П.И. Новгородцева, Б.П. Вышеславцева. Съезд был организован на средства Всемирной Студенческой Христианской Федерации, представители которой также присутствовали. Деятельное участие в организации съезда приняли бывшие члены христианских кружков в России, Л.Н. Липеровский (будущий прот. Лев) и А.И. Никитин. Они оба участвовали в съезде ВСХ Федерации (апрель 1922 г.) в Пекине. По словам Карташева, съезд в Пекине оказался провиденциальным для русской эмиграции в Европе: на съезде присутствовал председатель Федерации, д-р Джон Мотт, которому, по инициативе русской группы участников съезда, была подана докладная записка с просьбой о финансовой поддержке для организации богословского образовательного центра в Европе. Как владеющий английским языком, записку подал доцент Владивостокского университета Зандер и получил от д-ра Мотта обещание в содействии этому делу. Карташев отметил энергию Зандера, недавно приехавшего с Дальнего Востока в Прагу, назвав его «христианским подвижником». Относительно предполагаемой богословской школы Карташев добавил, что д-р Мотт, возвращаясь с Пекинской конференции в Америку, был проездом в Праге, и Карташеву удалось с ним встретиться и передать ему, совместно с П.Б. Струве, аналогичную пекинской записку о необходимости создания богословской академии для подготовки будущего духовенства за рубежом.
Заканчивая свой доклад, Карташев горячо призывал присутствующих к созиданию пути христианского делания, т.к., говорил он, «мы Церковь воинствующая и призваны к строительству «града Божия» на земле и к преображению всей нашей жизни». Примером для этого могут служить те православные юго-западные братства, которые в продолжение 300 лет охраняли Православие в Лихве, Польше и на Украине, во время гонений на него со стороны католиков. Дело созидания братств может стать делом всей русской молодежи, не подверженной, «как мы, старики», сказал он улыбаясь, политическим страстям и разным расхождениям и более способной к взаимному объединению.
Все слушали оратора затаив дыхание, меня тоже речь его глубоко захватила, а упомянутое Карташевым имя «Зандер» меня сильно взволновало. «Неужели это Лева?» думала я, и, по окончании доклада, подошла к Карташеву и спросила его, не есть ли упомянутый им в докладе Зандер тот Лев Александрович, бывший гейдельбергский студент и лицеист, уехавший в 1918 г. из Петрограда в Пермь для чтения лекций по философии в университете? Карташев ответил утвердительно и удивился, что я его знаю. «Мы друзья с ним с юных лет», – сказала я и попросила дать мне его адрес. Карташев дал мне адрес проф. Зеньковского и сказал, что тот письмо ему передаст. Я тотчас написала по данному адресу и вскоре получила ответ от Левы с сообщением, что он, вероятно, скоро приедет в Париж и что парижские студенты (он упомянул и имя Милицы) хлопочут о визе для него.
В январе 1924 г., за всенощной в храме на улице Дарю, где я стояла перед иконой Казанской Божьей Матери, кто-то позади тихо окликнул меня по имени. Я оглянулась. Эхо был Лева Зандер.
Вместе с ним приехал из Праги, тоже выехавший с Дальнего Востока, доктор медицины Лев Николаевич Липеровский, секретарь пражского студенческого христианского объединения. Они оба с энергией взялись за собирание в Париже русской молодежи для посильного ее ознакомления с Православием. Зандер пробыл в Париже весь январь 24 г. и прочел ряд докладов в зале посольства («Заветы Достоевского», «Путь к Церкви», «Бог и Мир»), читал у студентов об-ва изучения славянских культур, на университетском празднике св. Татьяны и, по-французски, в помещении Франц. Студ. Федерации на улице Жан де Бовэ, «О русской идее у Достоевского» и «О Православии».
Вот впечатление одной из слушательниц о лекциях Л.А. Зандера: «При первом взгляде он на меня особого впечатления не произвел. Но вот он заговорил о Достоевском… До него я ничего никогда подобного не слышала. Впечатление было потрясающим. Впервые в жизни я поняла силу человеческого слова». Я была счастлива за своего друга.
Я тогда работала в бюро одного французского журнала мод. Был тогда 8-часовой рабочий день, с 9-ти утра до 7-ми вечера, даже по субботам, но полагалось 2 часа перерыва занятий на время завтрака. Тогда Лева заходил за мной, по дороге мы где-нибудь спешно закусывали и шли осматривать Париж, пользуясь этим временем для беседы.
Лева сообщил мне многое из своей дальневосточной жизни, о поездках в Пекин и о своей работе с университетской молодежью. А я рассказала ему о всех переживаниях за 6 лет нашей разлуки. Не преминула я и сводить его к св. Женевьеве, прославленной до разделения православной Церкви и католической. Знакомство мое с св. Женевьевой, покровительницей Парижа, произошло таким образом. В один из первых дней моего приезда в Париж поиски работы завели меня в ту часть города, где стоит посвященная ей церковь Сент-Этьен-дю Монт, вблизи Пантеона. Молитвенная атмосфера, царившая в церкви, с множеством свечей у ее саркофага (из которого во время французской революции были выброшены в Сену ее мощи), произвело на меня неизгладимое впечатление. Камень, на котором она молилась, сохраняется в раке, а частица мощей хранится в кивории и, как мне сказали, выносится в день ее памяти для поклонения. Она является покровительницей Парижа и своими молитвами охраняла его от нашествия варваров. Горячо помолившись там, я в скором времени устроилась на работу и с тех пор стала считать ее и своей покровительницей.
«И ходим с тобой по церквам»… — читал мне по дороге Лева стихи Марины Цветаевой…
Приезд в Париж Зандера и Липеровского привлек новых лиц в студенческий кружок, спорадически собиравшийся с 1921 г. В кружке деятельное участие принимал, кроме медички Милицы Лавровой, студент-филолог Петр Евгр. Ковалевский. Кружок являлся стержнем, вокруг которого собирались студенты для собеседований на религиозные темы. Но по причине загруженности университетской работой деятельность кружка не могла быть систематической. Приезд моего отца разрешил многие трудности. Еще на докладе Карташева, на котором он присутствовал, сидя где-то в задних рядах, некоторые молодые люди обратили на него внимание по его виду, несколько отличавшему его от местных священников. Ряса, стихая из американского одеяла, придавала ему захолустный вид. Широким, благоговейным жестом благословлял он к нему подходивших, и я слышала, что некоторые спрашивали друг друга: «Не из России ли приехал этот незнакомый батюшка?» Милица Лаврова, познакомившись с моим отцом, стала просить ero посещать студенческий кружок. Но в эхо время отец был назначен разъездным священником для обслуживания разных провинциальных заводских центров, где русские рабочие начали организовывать православные церкви.
Отец попросил о. Леонида Колчева помочь в эхом деле, и о. Леонид провел несколько собеседований на тему о символике православного богослужения с небольшой группой молодежи, собиравшейся в мансарде многоэтажного дома вблизи храма на улице Дарю. Эти собеседования вскоре должны были кончиться, т.к. о. Леонид в скором времени отбыл с семьей в Копенгаген, по приглашению имп. Марти Федоровны, знавшей его по Крыму. Тогда человек семь из кружка стали собираться в нашей гостиничной мансарде, где руководство беседами взял на себя мой отец. Несмотря на тесноту помещения, недостаток стульев, места всем хватало. Сидели на полу, на кроватях. Вот что пишет об этих собраниях Милица: «Большим счастьем для нас было присутствие и благословение священника. Отец Александр Калашников любовно и горячо, кротко и смиренно освещал и укреплял наши стремления. Атмосфера домашнего уюта, несмотря на скудость гостиничной обстановки, теплющаяся перед иконами лампадка, ласка матушки Евгении Константиновны помогали взаимному общению, сплачивали нас в одну семью».
Еженедельные собрания, начинавшиеся в 8.30 вечера, посвящались изучению богослужения. После молитвы о. Александр читал по-славянски Евангелие. Читал он просто, благоговейно, вникая в каждое прочитанное слово. Запомнилось два Евангелия ох Иоанна о явлениях Христа по воскресении. «Сущу поздне… и дверем затворенным, явился Господь собранным ученикам и глагола им: «Мир вам!» (Ио.20:19). Быть может, впервые касался этот «мир Христов» сердец здесь присутствовавших, т.к. были среди членов кружка пришедшие ох атеизма и с детских лет не подходившие к Чаше. Ярко запомнилось также другое явление Христа ученикам при море Тивериадском (Ио.21:1–5), когда Он спросил их: «Дети, имате ли что снедное?» И ученики отвечали Ему: «Ни». Евангельская картина передана здесь с изумительной реальностью, в ярких деталях. И эхо «ни» воспринималось, как наше собственное оскудение и духовное обнищание. А последующие слова Христа: «Приидите, обедуйте», — радостно звучали как призыв к Евхаристическому единению.
Среди новых членов кружка оказался особенно активным Павел Николаевич Евдокимов. Вместе с ним мы начали разрабатывать программу нашей будущей работы. Он считал нужным расширение нашего маленького кружка, вел переговоры с представителями Французской Христианской Федерации и с их секретарем Абелем Альфонсовичем Мироглио, говорившим по-русски, с Сюзан де Дитриш и с Наташей Брюнель (будущей женой Евдокимова), с помощью которых нам была предоставлена для наших расширенных собраний зала Федерации, на улице Жан де Бовэ. Но наш маленький первоначальный кружок продолжал собираться в нашей мансарде.
О. Александр мудро руководил нами. Говоря о христианском делании, он сравнивал нашу жизнь со «ступеньками», по которым христианин поднимается к созиданию в своем сердце Царства Божия. «Пусть малой будет вначале эта ступенька, но это будет уже ступенька перехода от слов к делу»,:говорил он. «Отец Александр был не столько «руководителем», сколько любящим отцом нашей небольшой группы ищущих православных студентов», — вспоминает о нем Петр Ковалевский. «Уверенность о. Александра в необходимости нашего делания поддерживала его вера в то, что настало время воскрешения русских исторических братств, и он часто подчеркивал нашу преемственность от них. Все наши житейские недоразумения, — пишет Ковалевский, — решались о. Александром в свете христианской любви. От всего ero облика веяло духовным спокойствием и миром, сглаживавшим наши страсти и недоумения». «Лицо батюшки, — вспоминает другой его духовный сын, — всегда приветливо, беседа его всегда проста, как с близким человеком. Забота его никогда не навязчива, смирение его не знало границ, а святое благодушие, поистине Серафимово, не покидало его и при перенесении неприятностей. Он никогда не искал себе чести и славы и никогда не настаивал на своем. В беседе или на исповеди, он оставался как бы в тени, становясь лишь только свидетелем, отдавая все в руки Божии, «Помолимся», — говорил он, когда приходили к нему для разрешения жизненных вопросов, и, уходя после беседы с ним, мы уносили в душе мир и успокоение. Своих духовных чад он вел незаметно для них самих». По приезде в Париж о. Александр был причислен к причту кафедрального собора св. Троицы и св. Александра Невского на улице Дарю. И мы часто собирались в нижней церкви, где о. Александр служил или молебен, или акафист св. Троице.
«На огонек не зовут, а на огонек приходят, — говорил нам перед своим отъездом о. Леонид Колчев, — не смущайтесь вашими слабыми силами, и Господь вам поможет». И действительно, «на огонек» зажженной нами малой свечи начали приходить: на организуемые нами воскресные собрания в зале Французской Федерации. У нас завязались дружеские отношения и с членами Федерации, перед которыми приходилось защищать и отстаивать Православие, а не интерконфессиоиальное ведение собраний, как эхо было заведено у них в их кружках и на съездах. Особенно помню мои споры с Сюзанн де Дитриш, потом согласившейся с нашей точкой зрения, и с мадемуазель Бидгрэн. Сторонниками нашими среди французов бьши А. Мироглио и Наташа Брюнель, с которой я очень подружилась.
Ho на личные разговоры приходилось, поздно вечером, урывать время в метро или на улице, после церкви, или провожая друг друга после собрания, В малом нашем кружке, собиравшемся по четвергам, после обычных наших занятий по изучению Евангелия и богослужения, мы подготовляли программу для воскресных собраний, а иногда возникали и другие вопросы. Особенно волновали нас вопросы аскетического характера: о том, допустимо ли стремление к личному счастью, о том, возможно ли сочетание браком со служением Христу, оправдано ли светское искусство перед ликом красоты духовной, а также — не является ли искусительным изучение философии. Некоторые члены нашего кружка настроены были максималистически и, со всей пылкостью и целостностью юношеской настроенности, отстаивали точку зрения полного отрешения от всего личного и житейского. Двое из представителей этого направления через некоторое время приняли постриг, один уехал на Афон, а другой, постриженный в Париже владыкой Евлогием, спустя несколько лет, после настоятельства в одном храме в провинции, уехал миссионером в Индию. Но оба продолжали поддерживать с нами письменную связь. Время от времени Антон Влад. Карташев приглашал нас к себе (жил он тогда недалеко от русского посольства, на улице Гренель) и за чайным столом беседовал с нами о нашей работе и наших запросах. «Нет вам визы на затвор», — говорил он и продолжал развивать свою теорию маленьких братств. «Были бы братья, а братство будет», — предрекал он с вдохновением. Я начала изучать литературу по истории юго-западных братств и составила небольшую компилятивную работу на эту тему.
Мы долго и многосторонне обсуждали в нашем кружке вопрос о том, сможем ли мы, ничтожные и слабые, в какой-то мере воплотить в жизни идею православного братства, и пришли к заключению, что, с Божьею помощью и совместными усилиями, мы должны последовать примеру исторических русских братств, посвящавших свою деятельность трем целям: соблюдению евангельских заповедей, сохранению православных догматов, традиций и предания и посильному «братотворению». Мой отец не только сочувствовал нашим стремлениям, но считал, что будущую роль создающегося братства нельзя ограничивать духовным созреванием отдельных его членов, а стараться сделать его той ответственной ячейкой Русского Христианского Движения, которая должна сохранять в нем православные традиции. После усердной молитвы, мы решили посвятить наше зарождающееся братство имени Пресвятой Живоначальной Троицы.
Но пока наше решение было негласным и обсуждалось только в нашем маленьком кружке. Но мы не забывали и нашей ответственности за открытые собрания расширенного кружка. Во время пребывания двух Львов в Париже, нам пришла мысль устроить совместное собрание обоих кружков за городом, и, в одно из воскресений, после обедни, захватив еды, отправились вместе с о. Александром в Шавильский лес… «Никогда не забуду этого воскресного дня», — писала нам Наташа Брюнель, которая была приглашена нами вместе с А. Мироглио. «Эти переживания во время молитвы в лесу были некими символами ожидаемого нами будущего». И, как пишет Наташа, чтение акафиста Воскресению Христову под серым, пасмурным, дождливым небом и внезапно прорвавшийся сквозь тучи солнечный луч, осветивший окруженную березами небольшую поляну, на которой мы собрались, были какими-то символами, данными нам в этот день воскресения. Этот день был неким поворотным моментом в жизни обоих кружков. Уже трудно стало проводить воскресные дни, не собравшись вместе: или в нижней церкви в 5 часов пополудни на улице Дарю, где о. Александр обычно читал акафист, а мы все пели, или в зале Федерации на вечернем собрании открытого кружка, где бывали приглашенные и по своему почину приходившие гости.
Львы уехали в начале февраля 1924г., а через две недели мы получили извещение, что в Праге, под председательством Василия Васильевича Зеньковского, должен состояться съезд Бюро объединенных Русских Студенческих кружков, организуемый после конференции в Пшерове, и нам предлагали послать на него двух представителей. Мы единогласно выбрали Милицу Лаврову и Петра Ковалевского. Они привезли нам сведения о выработанных Бюро задачах, возлагавшихся на местные кружки. Пшеровский съезд, по словам Зеньковского, был поворотным пунктом, повернувшим Движение к Православной Церкви и к задачам сохранения и воплощения в жизнь ее заветов. Бюро наметило устройство следующего общего съезда Движения снова в Пшерове, а подготовку местного съезда во Франции возлагало на нас. По возвращении в Париж, Петр Ковалевский совместно с А. Мироглио и Наташей Брюнель принялись за приискание соответствующего для съезда помещения, каковое нашлось в Нормандии, где графиня де Монмор предоставила для этого свой старинный замок в Аржероне. Вся разработка программы, приглашение лекторов и остальные заботы легли на плечи парижского православного кружка.
Приближался праздник Пасхи, и владыка Евлогий, ввиду невозможности вместить в храме на улице Дарю всех собирающихся к Пасхальной заутрени, возложил на нас задачу составления хора для проведения службы в палатке, в саду храма. Мы пригласили помочь нам в этом членов константинопольского Харбийского хора, с которыми мы с сестрой продолжали иметь связь. Заутреня прошла с большим вдохновением и еще больше нас сплотила.
Перед праздником Троицы 8 человек нашего маленького кружка, после совместного Причащения, принесли обет молитвы друг за друга и посильного служения Православной Церкви. Так совершилось в жизни кружка то событие, которое определило его существование на всю жизнь, претворив ero в Братство.[4]
К этому времени (весне 1924 г.) наша семья переехала в Кламар (парижское предместье), где мой отец, по предложению кн. Гр. Ник. Трубецкого, с которым он был знаком еще в России, и с благословения владыки Евлогия, стал настоятелем сооруженной в усадьбе князя маленькой церкви во имя равноап. Константина и Елены. Я оставила свою утомительную работу в бюро французского журнала дамских мод и стала учительницей в одном русском доме. Братство стало собираться у нас, в кламарской квартире. В Кламаре же организовался и не вошедший в Движение так наз. «Кламарский кружок» (будущее Фотиевское братство), с которым мы иногда устраивали совместные собрания.
С 26-го по 31-е июля состоялся столь ожидаемый нами Аржеронский съезд, первый православный съезд парижского Русского Христианского Студенческого Движения. В работе съезда приняли участие о. Александр Калашников, о. Сергий Булгаков, Н.А. Бердяев, А.В. Карташев, Б.П. Вышеславцев, В.В. Зеньковский, А.В. Ельчанинов, Л.А. Зандер, Л.H.Липеровский и, в качестве гостей, Г.Г. Кульман (представитель YMCA), кн. Г.Н. Трубецкой, М.А. Каллаш и Т.В. Никаноров. Председателем съезда был П.Н. Евдокимов (секретарь парижских кружков), а секретарем съезда — приехавший из Праги Л.А. Зандер. В одной из зал замка был сооружен походный храм с престолом, жертвенником и раздвигавшимся на шнурках матерчатым иконостасом. О. Александром был отслужен молебен и окроплены святой водой все жилые комнаты замка. После приветственного слова П. Евдокимова, открывшего съезд, был заслушан доклад о. Александра на тему: «Как мы пришли к идее Братства?» «Перед всеми членами нашего малого кружка вставал тот же вопрос, — говорил о. Александр, — который кающиеся и ищущие правого пути люди задавали Иоанну Крестителю: «Что же нам делать?» После нескольких собраний, евангельских чтений, совместной молитвы мы осознали, что единственный ответ, который может удовлетворить наши стремления, мы можем почерпнуть только из православной Церкви. Здесь мы находим неиссякаемое богатство духовного знания и опыта, запечатленных как в святоотеческой литературе, так и в практике Церкви. Но путь оправославления, своей строгостью, может вначале отпугнуть неподготовленного современного человека. Ибо наша современная жизнь настолько не совпадает с церковным идеалом, что осуществление его кажется не только трудным, но невозможным. Поэтому перед нами встает вопрос о христианстве как проблеме, о формах его воплощения в жизнь, доступных нашим слабым силам и возможностям. Между «миром сим» и миром горним нет компромисса, однако, резкое их разграничение можно видеть только в моменты обостренной борьбы этих двух начал, или окончательной дифференциации мировых сил. В обычное время в церковной практике мы встречаемся с началом постепенности, т. к. идеал сразу недостижим, и только последовательное восхождение по ступеням совершенствования приближает к нему. Самым главным является стяжание любви Христовой и благодати Духа Святого, а остальное только средства, изменяющиеся в зависимости от человека и обстоятельств. Поэтому перед нашим кружком стоял совершенно конкретный вопрос о том, как нам сочетать нашу земную жизнь с учением Христовым. Христианство непознаваемо вне опыта жизни, а жизнь наша по необходимости связана со стихиями мира сего. Одинокий человек с трудом противостоит им, но насколько сильнее становится он, когда он связывает свои стремления вместе с другими в единстве веры, дисциплины и церковной практики. Этим именно целям и призваны служить братства. Братство является школой, с определенной последовательностью проводящей принцип «могий вместити да вместит». Обязанности, взятые нами на себя по обету, являются очень скромными, однако и первый шаг имеет значение, и он есть вступление на первую ступеньку той лестницы, которая ведет в горнее. Пока наше Братство во имя Живоначальной Троицы и Ее тройческого единства не имеет еще утвержденного устава и представляет из себя только зачинающийся организм. Принятие обета является внешним выражением и внутренним укреплением своего решения жить в братстве и с братством. В связи с этим Братство выработало некоторые правила для вступающих в Братство и молебный чин при вступлении в него. А цель его ясна: оно существует для того, чтобы помогать своим членам в осуществлении ими практического христианства».
Доклад вызвал оживленный обмен мнениями, причем центральной темой обсуждений был самый факт возникновения и существования Братства. А. В.Ельчанинов сказал, что мы не можем сравнивать себя с первохристианами, на которых изливались потоки благодати, но проблема перед нами та же, хотя мы к ней и не подготовлены и духовно распаяны, и та форма, в которую естественно должна была бы укладываться христианская жизнь и работа приход фактически отсутствует. Поэтому особенно значительным является возникновение подобного братства.
Но оказалось, что отношение к Братству было далеко не единомысленное. Критические замечания исходили, главным образом, от Кламарского кружка, члены которого находили, что нельзя начинать с организации готовой формы братства, нельзя также связывать ero членов обетом, т.к. в деле братского общения не должно быть принуждения, и что если братство ставит себе только цель, не выходящую за пределы нашей обычной церковной жизни, то оно бесполезно. И когда на вечернем заседании были заслушаны сообщения с мест, то представитель Кламарского кружка сказал, что члены его ставят себе целью как изучение богословских вопросов, догматики и учения святых отцов, так и борьбу с уклонениями веры и мысли и критическое к ним отношение.
Резюмируя все высказывания, В.В. Зеньковский указал на то, что кружковая работа не может быть шаблоном для религиозного развития всех и каждого, что необходима величайшая индивидуализация и полная свобода.
Следующий день начался с литургии, совершенной прибытием накануне на съезд владыкой Евлогием в сослужении о. Сергия Булгакова и о. Александра, а после литургии был отслужен молебен св. Живоначальной Троице.
Вечернее собрание того же дня, 27-го июля, было посвящено слушанию и обсуждению моего (В.А. Калашниковой) доклада «Об исторических юго-западных братствах XVI, XVII и XVIII вв.». (Этот доклад был потом напечатан в 1925 г. в журнале «Духовный Мир Студенчества» и издан отдельной брошюрой). В своей рецензии на брошюру Константин Струве (сын Петра Бернгардовича, впоследствии ставший монахом, архим. Саввой) пишет: «Эта небольшая, хорошо и любовно написанная брошюра освещает идею православного братства в историческом аспекте». К.С. пишет далее, что у многих русских людей существовало недоверие к самой идее братства, но что «В.А. Калашникова ее восстановляет, приоткрывая ее в ее конкретном проявлении. Появление братских союзов в России автор относит к 1159 г., но выступление «церковных братств» на поприще истории заметно лишь с 1439 г. Процветали они, главным образом, в юго-западном крае, где шла упорная борьба православных с поляками-католиками и униатами. Констатирование этого должно вести к заключению, что для организации братства мало одних добрых намерений, а потребно живое, религиозно воспринимаемое делание во Христе». «Мы можем предполагать, что немалую роль в успехе этих братств брали на себя их организаторы», — заключает К. С.
После доклада В. А. один из членов Кламарского кружка признал, что его слова о бесполезности Братства были ошибкой и что доклад вполне убедил его, что братская работа является наисущественнейшей задачей нашего времени.
При обсуждении доклада (в заключительных словах которого я высказывала убеждение, что не погасли в душах русских молодых людей юные религиозные порывы, и все вместе они, по примеру древних братств, могли бы засветить общую свечу перед престолом Божиим) А.В. Карташев сказал, что братства должны быть осуществлением и исполнением прихода, который для многих задач слишком объемист. «Форма братства абсолютно канонична, и в этом отношении надо отбросить всякие сомнения, но пользоваться этой формой надо сообразно ее природе. Братство есть духовная семья и строится поэтому на основании семейных связей. Поэтому чем теснее и интимнее братство и, следовательно, чем больше отдельных братств, тем лучше. Братство должно быть маленьким, смиренным, домашним духовной конуркой, постелькой, в которой можно согреться».
О. Сергий Булгаков подтвердил, что не надо смущаться небольшими масштабами работы. «У каждого из нас, — говорил он, имеется целый мир — его собственная душа, которая отдана ему в его бесконтрольную свободу для созидания самого себя. Здесь ответ на вопрос: «Что нам делать?» Удаляясь в свою внутреннюю келью, человек видит в ней жизнь иную, чем мир, и в этом смысле каждый христианин есть инок, и это иночество объединяет нас в некий общий монастырь, членами которого являются наши домашние местные церкви. Срастание наших домашних братств уже рождает в нас мощь христианского мироощущения».
31 июля, после накануне отслуженной всенощной и исповеди, мы совместно приступили к Причащению, и эхо вкушение ох Евхаристической Чаши дало нам, для некоторых, может быть, впервые, наше соборное церковное единство.
На заключительном собрании о. Александр сказал: «Мы работали каждый над своей маленькой задачей, и вот, эта работа стала предметом столь глубокого, вдумчивого и серьезного обсуждения. Во время этих 4-х дней мне неожиданно вспомнилось хо впечатление, которое я испытывал во время своей недавней жизни на Лемносе. Мы жили в палатках и сидели ночью в темноте, как кроты. Но иногда на нас наводил свой прожектор проходящий корабль, и мы внезапно оказывались облитыми лучами яркого света, и тогда с какой яркостью и отчетливостью выступала вся убогость нашей жизни! На этом съезде, — говорил о. Александр, — наше Братство явилось на суд своих братьев. Инстинктивно мы поставили более значительные и важные вопросы, чем думали. Однако все выслушанные доклады выросли из наших конкретных нужд, и ответы на них жизненны и применимы к нашей работе. Многие сомнения разрушились, и было высказано, что братство, как живая форма церковной жизни, — своевременно и нужно, и что мы не имеем права пренебрегать миром, который ждет от нас нашей работы. Поистине, мы пережили светлый праздник. Понесем же зажженными наши свечки после этой Христовой заутрени».
Пение «Христос Воскресе» явилось естественным выражением общего переживания всей радости съезда.
В последующие годы нас ожидали, как в Братстве, так и в Движении, многие трудности, разногласия и расхождения, но память о том, что Евхаристическая Чаша является для нас единственной возможностью нашего спасения, поддерживала и укрепляла нас в жизни.
Первый Аржеронский съезд явился для меня как бы прототипом остальных движенских съездов, наводящих, по словам о. Александра, лучи прожектора на наши слабости, недостатки и ошибки, а также указывающих нам путь, по которому следует идти. Как Аржерон, так и остальные движенские съезды, дали мне почувствовать радость общения с другими людьми, даже не всегда сходными со мной по своей психологии, но солидарными в главном. Но эхо не всегда чувствовалось всеми движенцами, особенно живущими вдалеке ох Парижа. И эхо заметил приехавший в 1926 г. в Париж и принявший на себя духовное руководительство, как «священник Движения», о. Сергий Четвериков. Он разослал всем кружкам, и нашему Братству в частности, свое послание, датированное 10-м октября 1928 г. Он пишет в нем: «Ох многих членов Движения мне приходится слышать, что они нередко чувствуют себя очень одинокими, не получают необходимой нравственной и религиозной поддержки ох других членов Движения, ох других кружков, ох всего Движения вообще и ох центра Движения в частности. Они не видят в Движении живого чувства единства, которое бы одушевляло и ободряло их. За краткими одушевленными моментами общих Съездов следуют долгие промежутки Духовного ослабления и одиночества. От этого они падают духом, опускаются. Чувствуется необходимость принятия на себя обязательных правил, некоторого обета, который укрепил бы волю и регулировал бы духовную жизнь. Одной из важнейших причин такого положения дела является, без сомнения, отсутствие в нашем Движении связующего элемента постоянной друг за друга молитвы. Если бы каждый член Движения знал, что в центре Движения совершается постоянная молитва, как о всем Движении, так и о членах его, то это воспринималось бы членами Движения как огромная и радостная поддержка». И о. Сергий предложил всем членам Движения взять на себя добровольно исполнение полагаемого Церковью утреннего и вечернего правила, которое, однажды на себя принятое, становится обетом. Затем о.Сергий предложил желающим образовать Содружество, в которое и вступили многие члены Движения, особенно многочисленные в Прибалтике. Связь, скрепившая вместе членов Содружества, оказалась настолько прочной, что существует она до настоящего дня между разбросанными по белу свету содружниками, как существует она и в нашем Братстве. Особенно дала она себя почувствовать, когда была устроена на бульваре Монпарнасс № 10 своя движенская церковь во имя Введения во храм Пресв. Богородицы. В Духов день 1926 г. она была освящена, а в 1935 г. была перенесена на ул. Оливье де Серр. От братства была в эту церковь написана мной икона Живоначальной Троицы, которая до сих пор висит в алтаре над престолом.
В.В. Зеньковский («бессменный» председатель Движения и будущий отец Василий) писал: «Хочется от всей души поблагодарить Вас, что Вы содействовали моему вступлению в Братство. Каждый день я ощущаю себя в новой семье, и мне так хорошо на душе, ибо и без особенной психологической близости уже дана иная, прочная, крепкая близость. И как я жалею, отчего я так поздно вступил в Братство, — (Он пишет это в 1926 г. из Праги, через два года после первого Аржеронского съезда). — И есть особое утешение и питание, есть особая тайна и милость Божия, что наше Братство — во имя св. Троицы. Когда я входил в него, я об этом не думал, но войдя в него, не раз думаю об этом. Тайна св. Троицы — тайна единосущия, — и нам дано частичное единосущие, заложенное в человеке (софийность его), в Церкви раскрывающаяся. И я особенно радуюсь, что наше Братство связало себя именно с тайной единосущия — самым основным и важным для нас откровением. Думаю, что хорошо, что «романтика» братской идеи, первые восторга отошли, ибо нужно, чтобы на место ее пришла спокойная, ничем не смущающаяся, трезвая любовь. Братство имеет неоцененные заслуги перед всем Движением. Первый шаг сделан, и мысль наша «движенская» встала на рельсы «братства». Реальность Братства, сила и значение братского общения в молитве так ясна, что хотелось бы сообщить тем, кто этого не чувствует, именно это сознание. И в той форме, в какой Братство живет, оно есть огромный и ценный факт. Я люблю Братство как-то особенно свежо — это ведь новая страница в моем «движении» в Движении, это моя первая любовь на пути к «братству», но сверх любви я «объективно» ощущаю «капитал» братства, и так хотелось бы, чтобы он рос!» В письме от 1927 г. из Америки он пишет моему отцу: «Может быть я утопист, но новая моя «утопия» покоится на создании небольших братств и на их объединении в некую общину». В этом высказывании он был единомыслен с А.В. Карташевым.
Эха мысль в Движении не нашла себе отклика. Движение живет разрозненно, не скоординировано, и в этом я нахожу его недостаток.
Особый этап в нашей с мужем движенской жизни составляет трехлетнее пребывание в Прибалтике, где в Латвии и Эстонии муж состоял секретарем РСХД (с конца 1929 до осени 1931г.)· Там нам открылось широкое поле деятельности, и там особенно чувствовалась близость России. Живя в Печорах, мы иногда подходили к границе между Эстонией и СССР, и нам удавалось разговаривать с работавшими в поле крестьянами, но потом там были поставлены вышки с охранниками и крестьянам было запрещено подходить близко к границе. Ездили мы в Изборск, где сохранилась замечательная старая церковь с псковского стиля колокольней. Ходили и на «Труворову» могилу. Это был край, где «зачалась русская земля». Перед Пасхой говели мы в Псково-Печерском монастыре или в женском Пюхтинском, основанном о. Иоанном Кронштадтским. В обоих монастырях были нами организованы Съезды РСХД. Мы образовали также кружок по изучению иконописи, преподавать которую был приглашен из деревни Раюши старообрядческий иконописец Пимен Максимович Софронов. Иконописные кружки работали и в Риге, и в Юрьеве. Были организованы воскресные школы, педагогические кружки, кружки по изучению Евангелия и богослужения. В Риге вспоминается Московский Форштадт, где главным образом жило русское население, из которого многие работали на местном фарфоровом заводе Кузнецова. С Московским Форштадтом соприкасалась улица Тургенева, где было снято помещение Рижского студенческого объединения. Там устраивались елки, пасхальные розговни, подготовлялись финансовые кампании. В Эстонии вспоминаются Черный Посад на Чудском озере, со старинными избами, деревня Тайлово и село Калуегино, где была устроена летняя колония. Нам приходилось перекочевывать из Латвии в Эстонию, из города в город, из одной комнаты в другую. С благодарностью вспоминаю семью Белоцветовых в Риге, оказавшую нам особое внимание и заботу в первое время нашего пребывания в Латвии. Вспоминается также и добрейший Елпидифор Михайлович Тихоницкий, брат митрополита Владимира, к которому он ездил в Ниццу, чтобы испросить благословения на вступление в брак, а меня просил благословить его иконой. Он был убит при вступлении в Ригу большевиков. Вечная ему память! В Ревеле (Таллине) кружок собирался под собором; в Юрьеве (Тарху) в жизни Движения принимал деятельное участие о, Анатолий Остроумов и Клавдия Николаевна Бежоницкая; в Нарве однажды, после собрания Движения, мы провели с некоторыми его членами чудесную майскую ночь, гуляя по городу и слушая пение соловьев, Любовались и древними башнями Иван-Городаи Германом по обеим сторонам реки Наровы.
В Латвии, кроме рижских движенцев, помню еще некоторых из Режицы, Двинска, Валка. Некоторым движенцам после занятия Прибалтики Советами удалось уехать в разные страны, включая Америку, а другие были арестованы, и некоторые из них погибли. В числе последних был заменивший мужа по секретарству в Прибалтике Иван Аркадьевич Лаговский, преподававший раньше в Париже в Богословском Институте. Он был отправлен в Ленинградскую тюрьму, и были получены сведения о его кончине. Убиты были Татьяна Дезен и Николай Пенькин из Ревеля, Алеша Буковский и Исаевич из Риги — особенно активные члены Движения, о. Кирилл Зайц. Вечная память всем этим пострадавшим за веру движенцам!
Со многими движенцами из Прибалхики, частично хам оставшимися, частично рассеянными по белу свету, я продолжаю быть в дружеской переписке до сих пор.
До нашего пребывания в Прибалтике большим событием в жизни Движения был организованный осенью 1925 г. съезд в Югославии, в женском Хоповском монастыре,ѵ куда насельницы Леснинского монастыря принуждены были перебраться во время первой мировой войны. Игуменьей монастыря была матушка Екатерина (граф. Ефимовская), светильник веры, большая молитвенница. Из-за несчастного случая у нее была ампутирована нога, но она сохранила и духовную бодрость, и свежесть мысли. Она была богословски образована и в Лесне вела большую педагогическую работу. Ее заветной мыслью было восстановление чина диаконисс, и на подготовительном съезде к собору 1917 г. она подала докладную записку по этому вопросу.
Написала также на эту тему несколько статей. Вопрос вызвал интерес и обсуждался членами собора, но революция прекратила дальнейшее его обсуждение. На Хоповском съезде она собрала у себя женщин участниц съезда и беседовала с ними о важности женского церковно-служения. На этой беседе присутствовал о. Сергий Булгаков и выразил несколько слов сочувствия по этому вопросу.
Тема эта меня живо затронула, и я несколько раз поднимала ее и в Париже, и в Прибалтике. В конце 40-х годов у меня появилась мысль организовать девичье общежитие в окрестностях Парижа для предварительной подготовки девушек к прислуживанию в церкви и сообщения им некоторых богословских знаний. Мы образовали комитет для осуществления этого предприятия, начали собирать средства для будущего «Дома русской девушки», но встретили много трудностей. Я обратилась за советом к о. Василию Зеньковскому, и мы вместе наметили другой план: устройство Женских Богословских Курсов. План этот встретил сочувствие у профессоров Парижского Богословского Института, и средства, собранные на «Дом девушки», были употреблены на открытие Женских Богословских Курсов. Они открылись в 1950г. и просуществовали 20 лет. К этому времени начали принимать вольнослушательниц в Богословский Институт, где женщины имеют возможность получать богословское образование, и необходимость самостоятельного существования богословских курсов для женщин отпала. А изданными нами на ротаторе лекциями по богословию студенты Богословского Института пользуются до сих пор.
А то, что Движение мне в жизни дало, вытекает из вышеизложенного. Подтвержу еще, что оно дало мне много светлых моментов и радостных переживаний в связи с новыми встречами, с особым ощущением церковного и братского единения. А помимо всего остального, благодаря ему, я имела возможность встретиться с моим будущим мужем, Львом Александровичем Зандером, и вместе решить заключить нашу многолетнюю дружбу бракосочетанием. Свадьба наша состоялась вскоре после Аржеронского съезда, и венчал нас в Кламарской деркви о. Сергий Булгаков.
Как для Вас, так и для Вашего мужа, о, Сергий Булгаков был главной встречей в жизни. Могли бы Вы что-нибудь высказать о его значении в Вашей жизни?
Прежде всего должна сказать, что при первом же разговоре с о. Сергием на исповеди по время Аржеронского съезда, когда я сообщила ему о нашем с Л. А. решении вступить е брак, о. Сергий начал меня усиленно отговаривать от этого, говоря, что и без этого можно сохранять взаимные дружеские отношения, как это было в жизни многих святых, как, например, у св. Иоанна Златоуста и св. диакониссы Олимпиады. Также отговаривал он и Л. А., который весь предыдущий год, в Праге, был его верным учеником и секретарем, составлявшим протоколы семинара о. Сергия о притчах евангельских о Царстве Божием. Несмотря на все уговоры о. Сергия, наше решение осталось непоколебимым. Срок визы у Л. А. кончался, и вскоре после Аржеронского съезда он вернулся в Прагу. Я тоже через некоторое время, получив чешскую визу, покинула Париж. Разлука с родителями была довольно тяжелой. Отец сказал: «А мы думали, что ты всегда будешь оставаться с нами». Впоследствии они с моим браком примирились, когда Л. А. своим к ним отношением заменил им навсегда потерянного сына. Особенно, когда мы переехали в Париж.
В Праге я сразу же столкнулась с фактом существования братства св. Софии Премудрости Божией, участниками которого были, кроме о. Сергия, П.Б. Струве, Н.О. Лосский, Н.А. Бердяев, A.В. Карташев и некоторые другие. Принимал в нем участие и мой муж, братство иногда собиралось у нас на квартире, но, приготовив чай, я должна была уходить, т.к. женщин в братство не принимали. Я как-то высказала о. Сергию мое сожаление по этому поводу, и он несколько смущенно ответил, что это в братстве как-то не предвиделось, но что может быть в будущем этот вопрос и будет поднят. «Братство Софии Премудрости Божией» было задумано о. Сергием вместе с о. Павлом Флоренским еще в России, как научно-богословское сотрудничество, главным образом в области софиологической. Этому сочувствовал и А.В. Карташев и П.Б. Струве. Но братство св. Софии недолго просуществовало и уже в конце 20-х годов, по приезде ero участников в Париж, распалось. Сначала из него вышел П.Б. Струве, а потом и Н.А. Бердяев. Вот как об этом пишет моему мужу 27-го февраля 1964 г. сын П. Б., Глеб Струве: «Для истории должен отметить, что отношение моего отца к братству св. Софии изменилось в результате позиции, занятой в конце 20-х годов Η.А. Бердяевым. У меня в архиве есть письмо П.Б. к A.В. Карташеву, в котором он пишет, что вынужден будет выйти из братства из-за позиции Бердяева и отношения к ней со стороны других членов братства. Этот эпизод, кажется, нигде в печати освещен не был». Помню какое-то решительное по этому вопросу собрание братства, происшедшее зимой 1927 г., в Париже, у нас на квартире в St. Mande. Когда я вошла в комнату, где было собрание, с приготовленным чаем, то увидела, что П.Б. Струве, очень взволнованный, взад и вперед ходил по комнате и что-то громко и горячо доказывал. Так как я должна была сразу же уйти, то я не могла вникнуть, в чем было дело, но только поняла, что оно касалось не столько понимания идеи Софии, сколько отношения Н.А. Бердяева к революции. Это было, кажется, последнее заседание братства.
На следующий год, с октября 1928 г. по январь 1929-го, о. Сергий провел 10 еженедельных собраний, посвященных изучению вопроса о св. Софии Премудрости Божией, на которых могли присутствовать и женщины (м. Мария, м. Евдокия, Ася Оболенская, тогда еще не м. Бландина, сестра И. Рейтлингер). Я вела протокол этих собраний, который у меня сохранился. В своем семинаре о. Сергий проводил анализ как библейских текстов о Премудрости Божией, так и святоотеческих толкований Ее, а кроме того излагал целую систему софиологии. Все богословие о. Сергия построено на софиологии. Соответственно его учению, св.София Премудрость Божия не есть Божественная Ипостась, но откровение, жизнь, действие, или, по св. Григорию Паламе, «энергия» всей Единосущной, Животворящей и Нераздельной Троицы. Поэтому Премудрость Божия в св.Писании является то как действие Сына или как Сын в Своем Боговоплощении — «А мы проповедуем Христа распятого… Божию силу и Божию премудрость» (1Кор.1:24), то как Дух Святой «И почиет на нем (корне Иессеевом) Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости» (Ис.11:2). Имя св.Софии Премудрости Божией приложимо и к явлениям тварного бытия, особенно к совершеннейшей из всех творений Божиих, Богоизбранной Отроковице, Приснодеве Марии через Которую Бог-Слово приобщился человечеству, а Богоматерь через Него Божеству и Его Премудрости. Она есть храм Божества, Церковь, и о. Сергий считал, что, прикладываясь к св. Чаше, после принятия св. Даров, мы лобызаем Богоматеринство Пресвятой Богородицы. Существует взаимная связь и взаимопроникновение между воплотившимся Словом и Приснодевой Марией. И, по св. Афанасию Великому, на этом зиждется православное учение об обожении человека. («Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом», писал св. Афанасий). Св. Афанасий различал Премудрость Единородную Богу и «Премудрость, отпечатлевшуюся в мире», и отсюда заключал, что Божия Матерь, в акте Своего Материнства причастившаяся Единородной Премудрости, является носительницей имени Софии не по природе, а по благодати. В соборах на Руси, посвященных св. Софии Премудрости Божией, храмовые праздники были приурочены к праздникам Богородичным: в Киеве — на Рождество Божией Матери, в Софийском соборе в Новгороде — на Ее Успение. Св. Афанасий Великий считает, что не только Божия Матерь, но и мир весь есть открывающаяся Премудрость Божия, как самооткровение Божества, что и святые, и души человеческие, поскольку они проникнуты Духом Божественной Премудрости, носят Ее отпечаток. «Вся Премудростью сотворил еси», и в Ней, по учению о. Сергия, отражается и Божественная Любовь и Слава и Красота.
Понятие о софийности мира стало очень близко моей душе, открыло новые горизонты, дало ключ ко многим духовным вещам.
К сожалению, софиологическая проблематика о. Сергия не была воспринята его современниками, за исключением нескольких его близких друзей и духовных чад. О. Сергий писал несколько тяжеловесным философским языком, выработавшимся у него под влиянием долгого изучения германской философии, и поэтому его терминология часто понималась превратно и смысл ее искажался читателями. В Париже главными обвинителями о. Сергия в ереси были представители Фотиевского братства, составившие докладную записку о богословии о. Сергия, адресованную митрополиту Сергию в Москву. От митрополита пришел тогда указ ох 7 сентября 1935 г., запрещающий о. Сергию его писания о софиологии. О. Сертий ответил на него докладной запиской в октябре 1935 г. на имя митрополита Евлогия, в которой подробно излагал свою софиологическую систему, Он писал, что проблема Софии является наиважнейшим и неустранимым фактором православной богословской мысли, поскольку она касается вопроса о взаимоотношении Бога и мира, Творца и творения. Он указывал, что этой проблемы касались и св. Афанасий Великий, и св. Григорий Богослов, и св. Иоанн Дамаскин. Но о. Сергий подчеркивал, что сам он никогда не возводил своего личного богословского убеждения в общеобязательный догмат, а считал ero лишь «мнением», теологуменой, нуждающейся во всестороннем обсуждении и разработке. Он напоминал, что проблема софиологии ставилась в трудах целого ряда русских писателей, как братья Е. и С. Трубецкие, Владимир Соловьев, о. Павел Флоренский.
Кроме обвинений, исходивших от Московской Патриархии, еще за несколько лет до этого, в марте 1927 г., подобного же рода обвинения были получены митрополитом Евлогием от Архиерейского Синода в Карловцах. И владыка Евлогий предложил о.Сергию дать обстоятельное объяснение в оправдание своего софиологического учения, которое воспринималось Синодом как введение в православную Церковь некоего модернизма. В своей докладной записке 1927 г. о. Сергий представил объяснение Софии, аналогичное тому, которое он позднее давал в ответ на указ Московской Патриархии. В конце записки 1927 г. о. Сергий писал: «На основании неодобрения одного из моих богословских мнений, в послании (Архиерейского Синода) ныне произносится суждение, бросающее тень на всю мою научно-богословскую и пастырскую работу».
«Тень», о которой он писал, преследовала его до конца жизни. Он не имел последователей и действительных учеников и был одиноким в своей исследовательской научно-богословской работе, что он переживал с большой горечью. Мы с мужем очень скорбели за него и окружали его любовью и заботой. Эти переживания нас сблизили. Раньше о. Сергий казался мне строгим и недоступным, а по мере того, как я его ближе узнавала, я увидела, что под часто на вид суровой внешностью кроется чуткое и любящее сердце. Его внимание ко мне я неоднократно чувствовала. Он уже ничего не имел против моего брака и включил нас обоих в свое сердце, стал даже называть меня «Львицей» — как жену Льва. Это прозвище еще потому привилось, что квартиру, в которой мы жили вместе с Львом Николаевичем Липеровским, студенты прозвали «львиным рвом». После всенощной, по субботам, пражские студенты, участвовавшие в Движении, собирались у нас, пили чай, декламировали стихи, музицировали. До сих пор я еще сохраняю контакт с бывшим посетителем «львиного рва», живущим теперь в Америке. Иногда бывал у нас в Праге, как потом в Париже, о. Сергий. После холодной зимы 1924-1925 гг. в Праге, из-за новых неладов с моими легкими, доктор посоветовал нам уехать в деревню. Мы сняли комнату в местечке Мокроисы. Там я целые дни проводила в одиночестве, очень тосковала и по родителям, и по братству и была очень тронута, когда в день моих именин, в феврале, приехала одна из духовных дочерей о. Сергия и привезла мне от него горшок гиацинтов. В 1925 г., когда был образован Богословский Институт имени преп. Сергия, о. Сергий был приглашен занять в нем кафедру догматики и к 1926 г. переехал с семьей в Париж, поселясь в квартире Сергиевского Подворья при Институте, Тогда же переехали в Париж и мы с мужем и поселились сначала за городом, а потом недалеко от Подворья. Связь с о. Сергием у меня все больше и больше укреплялась, и можно сказать, что он стал не только моим духовником, но и другом, делился со мной своими переживаниями и трудностями, которых с годами становилось все больше и больше из-за нареканий и обвинений, сыпавшихся на него со стороны некоторых иерархов. В 1939 г. он подвергся и другого рода испытаньям из-за рака горла и последовавшей операции. По этому поводу митрополит Евлогий писал моему мужу (5-го марта 1939 г.): «И грустно и вместе радостно мне читать Ваше сообщение о болезни о. Сергия Булгакова. По-человечески прискорбно слышать о столь тяжелой и опасной болезни, но радостно слышать, на какой духовной высоте он держится во время своего недуга. Этот высокий христианский подъем духа в столь трагический момент лучший и убежденнейший ответ всем его хулителям и обвинителям. Скажите ему, пожалуйста, и о моей неизменной любви к нему, м о моих горячих молитвах об исцелении его от тяжкого недуга. Конечно, я согласен взять на себя почетное председательство в Комитете по изданию его нового труда. («Невеста Агнца», изданная уже после смерти о. Сергия в 1945 г.). Тогда, по завершении его богословия, можно будет правильнее судить о нем в его целом. Я продолжаю думать, несмотря на все нападки на него, что труды его очень денный вклад в наше небогатое русское богословие».
Время болезни о. Сергия совпало с периодом войны, всеми тяжело переживаемой. Мой муж в 1941 г. сидел в концентрационном немецком лагере Компьень из-за того, что, будучи финансовым секретарем Богословского Института и PCX Движения, имел постоянные сношения с Англией и Америкой. Он вспоминал потом: «Это были годы невыразимого духовного гнета, безнадежности, почти отчаяния». Будучи освобожден, он начал писать свой труд об о. Сергии («Бог и Мир», в двух томах). В процессе писания он часто виделся с о. Сергием, давал ему на просмотр написанное и изумлялся тому, что ‘чем безотраднее становилась жизнь, тем радостнее становился о. Сергий, чем темнее было окружающее, тем радостнее была его улыбка, ero взгляд, он сам». «Бывало, придешь к нему измученный, отчаявшийся, — писал Л. А., — не успеешь даже ничего сказать ему, а он только подымет свой взгляд — и словно крылья вырастают в душе, и уходишь от него с радостью, с миром и надеждой». Меня с о. Сергием связывали, еще ранее его болезни, общие воспоминания и переживания: Сикстинская Мадонна в Дрездене и, еще более, храмы Айа-София, Влахернский храм в Константинополе и храм св. Софии в Киеве, где о. Сергий жил с 1901 по 1906 г. и был избран профессором киевского Политехникума и приват-доцентом киевского университета. В апсиде киевского Софийского храма Божия Матерь изображена в мозаичном исполнении, как Оранта, с воздетыми ко Христу-Вседержителю руками. В той же апсиде под изображением Оранты изображено причащение Христом апостолов под обоими видами, а ниже святительский ряд. В вершине восточной арки помещен восьмиконечный крест, как в константинопольской Софии он помещался в куполе. Вся композиция свидетельствует о придаваемом ей смысле искупительного значения нашего спасения. По определению о. Сергия, в Богоматери сосредотачивается «церковность» Церкви. «Ее молитва есть молитва всей твари. Она дает крылья для этой молитвы, вознося ее к Престолу Божию». «Она есть сама молящаяся Церковь». И в службе Успения Богоматери, отнесенной, вместе с тем, и к Софии преименитой, в ряде песнопений выражается, согласно о. Сергию, сближение Софии с Богоматерью. «Эту мысль о софийном почитании Богоматери, увенчивающую собой как куполом православное о Ней богословствование, утвердила русская православная Церковь, литургически связав празднование Софии с памятованием о Богоматери — в отличие от византийской Церкви, где был выделен христологический аспект в софиологии и софийные праздники соединялись с господскими». То и другое, по мысли о.Сергия, имеет свое непререкаемое основание, иногда то и другое сливается до неразличимости. «Боговоплощение неразрывно связано с богоматеринством, одно подразумевает другое, а посему праздники господские скрыто подразумевают или открыто предполагают и богородичные». («Купина Неопалимая»). Однажды о. Сергий спросил меня: «Молишься ли ты св. Софии Премудрости Божией?» И на мой вопрос, как Ей нужно молиться, ответил: «А так же, как мы молимся Кресту Господню, взывая: «Непобедимая и непостижимая сила Честного и Животворящего Креста Господня, не остави нас грешных». «Крестная сила, — продолжал он далее, — есть софийная сила». И я вспомнила тут, как в России русский человек, чего-нибудь испугавшись, восклицает крестясь: «С нами крестная сила!» Этот возглас, иногда почти машинально, вырывается у него из глубин подсознания, но очень характерен для русской души. И мне лично крестное знамение не раз помогало отгонять вражеские приражения.
А что касается киевской Оранты, мне вспоминается, как во время немецких бомбардировок начала 40-х годов, и, точнее, весной 1943г., когда из жильцов нашего дома мы остались одни и даже вся наша улица опустела, мы решили с мужем обойти наш квартал, неся в руках небольшую икону киевской Богоматери, называемую «Нерушимая Стена», и, при пении некоторых стихов из молебного канона Пресвятой Богородице, обнести эту икону вокруг всего участка, окружающего наш дом, со словами песнопения: «Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко мы усердно к Тебе прибегаем, яко нерушимой стене и предстательству». Через несколько дней, в воскресенье 4-го апреля, когда, после литургии в бианкурской церкви, мы, после завтрака, сидели у окна, я предложила JI. А. пойти погулять в Булонский лес, и в этот миг, без предупреждения, без сирены, началась, почти около нашего дома, сильная бомбардировка. Наш дом весь задрожал, и я подумала, что сейчас потолок и стены нас погребут под собой. Мы стали спускаться вниз по лестнице, где оконное стекло разбилось вдребезги и осколки осыпали ступеньки. Бомбардировка длилась лишь 5 минут, но оказалось, что 5-этажный дом, невдалеке от нашего, был совершенно разрушен и в нем погибла целая семья. Наша улица была вся покрыта щебнем, кусками кирпича… Через три дня было Благовещение, и мы направились, с трудом пробираясь сквозь развалины, в бианкурскую церковь, но от нее остался только фундамент, крыша и стены были сорваны. Но, перед этим под влиянием какого-то предчувствия, о. Александр Чекан успел из нее вынести антиминс и сосуды. Так охраняла нас «Заступница усердная рода христианского». Это была самая страшная бомбардировка Булонь-Бианкура, во время которой многие погибли. Благоволив, молитвами Богородицы, сохранить еще нам эту жизнь, Господь призвал к Себе других. Неисследимы пути Его.
В разговорах с о. Сергием я постоянно убеждалась, что все вопросы, не только богословские, но и жизненные, он воспринимал софиологически. Так относился и к вопросу об Имени или именах, как Божеских, так и человеческих. Особенно он настаивал на призывании Имени Иисусова, на «умной молитве». Но однажды, в день моих именин, он меня озадачил вопросом: «Как хы воспринимаешь свою «Валентинность»? Я сначала не поняла его вопроса и сказала, что я всегда огорчаюсь, что так мало известно о моей святой, известно только, что она в начале IV в. пострадала за веру в Палестине. «Вот видишь, — сказал улыбаясь о. Сергий, — какая она была смиренная, не дала много о себе знать, это тебе пример для твоего смирения. Но я не об этом тебя спрашиваю, a о внутреннем, духовном значении этого имени для тебя?» Тут я вспомнила тот пасхальный день 1917 г., когда я внезапно и неожиданно, на улице Петербурга, почувствовала вдруг охватившую меня радость, легкость и силу, ощутила себя «сильной» каким-то непонятным мне, внутренним образом, оправдывающим доселе нелюбимое мною имя «Валентина». Об этом «событии» моей жизни я уже раньше говорила о. Сергию. «Ну да, — сказал он, — имя есть «сила», сила софийная, выражающая собой духовный «тип» человека, софийная энергия, определяющая его идею. Можно даже сказать, что не человек носит свое имя, а оно его носит. Второстепенно то, кто дает имя новорожденному и соответствует ли оно ему телесно. Примером может служить имя «Льва», с одной стороны именующее животное, а с другой — являющееся собственным именем человека». Говоря это, о. Сергий с улыбкой посмотрел на меня, вероятно вспомнил моего мужа, который был невысокого роста, худой и несколько сгорбленный, но сильный духом и выносливый. «В каком-то смысле имя определяет характер человека, указывает его духовный склад. В основе этого лежит Премудрость Божия, софийная тайна и сила, которые смогут открыться только в жизни будущего века».
«Философии Имени» о. Сергий посвятил труд под тем же заглавием, изданный уже после ero кончины, в 1953 г. Тогда я была с выраженными в этом труде мыслями незнакома и сказанные мне слова явились для меня откровением.
Подобного рода беседы с о. Сергием происходили у меня иногда (до ero болезни и операции горла) в поезде между Парижем и Сент-Женевьев де Буа, где настоятелем церкви Русского Дома после церкви в Кламаре стал мой отец, которого о. Сергий избрал своим духовником, каким был и о. Сергий для моего отца. Из-за того, что о. Сергий плохо ориентировался в дороге, мне и приходилось сопровождать его туда. Разговоры у нас велись на разные темы, как богословского содержания, так и касавшиеся нашей личной жизни. О. Сергия очень всегда беспокоила забота о семье, о неустроенности сына и болезненности жены, и мои слова как-то утешали его. Но до самой смерти беспокойство о будущем семьи не оставляло его. После ero кончины среди его бумаг была найдена записка, написанная во время войны. Он пишет в ней: «Эта война никого не оставляет равнодушным, но каждого затрагивает, потрясает, общечеловечески, лично, апокалиптически, А при этом остается тот же тон личной жизни с ее неустроенностью, с вечной заботой о семье, о ее будущем, если есть какая-нибудь будущность у кого бы то ни было из нас… Все темно и неизвестно, все требует веры и преданности воле Божией»…
В нашей семье война отразилась арестом Льва Александровича и сидением его в лагере Компьень, где мне с Машей удалось ero навестить два раза. Сохранилось и письмо к нему о. Сергия в лагерь (Фронтсталаг 122), на немецком языке. О. Сергий очень переживал арест мужа, который удручающе подействовал на здоровье моего отца, 10 сентября 1941 г. скончавшегося от кровоизлияния в мозг. О. Сергий, несмотря на перенесенную в 1939 г. операцию горла и еще не окрепшие силы, приехал на его погребение, совершенное 10 священниками с митрополитом Евлогием во главе. Это был последний выезд о. Сергия в Сент-Женевьев. Через два года, 28 декабря 1943 г., на похороны моей матери он уже не имел сил приехать.
С большой скорбью я переживала кончину своих родителей, и слова утешения о. Сергия были для меня большой опорой. В день моего Ангела он прислал мне несколько ласковых слов. «Молился о тебе за литургией, благодаря Бога за радость и утешение от общения с тобой». В то время у него уже несколько восстановилась возможность говорить и он служил ранние литургии в Успенском левом приделе Сергиевского Подворья, где в алтаре имелась икона Софии Премудрости Божией. В 1942 и 1943 гг. стояли снежные зимы, но улиц не расчищали, снег не выгребали, и в темные зимние утра приходилось от нас до парижского метро пробираться пешком сквозь сугробы, т.к. автобусы не ходили. Но я радостно преодолевала трудности этих путешествий и любила причащаться во время служения о. Сергия. По дороге вспоминаются отрывки из его писем, в которых он часто меня переоценивал. Раз он писал: «Поздравляю тебя с днем твоей свадьбы. Вспоминаю, по этому случаю, все наше знакомство, перешедшее в столь прочную дружбу, и все «up and down» твоей жизни… (но) лучше лишний раз объясниться в своей любви к тебе, которая не умаляется, но, м.б., увеличивается твоими бунтами против моей малости. Главное, что ты находишься в любви у Премудрости Божией, и, стало быть, мы находимся в родстве в этом служении». В свою любовь ко мне о. Сергий включал и моего мужа: «Не могу тебе сказать, насколько я благодарю и трогаюсь верной, внимательной и неутомимой любовью Л. ко мне и его терпением (что есть, конечно, мера любви) к моему рамолисменту». (Т.е., вероятно, к ero рассеянности). Это крайнее смирение о. Сергия особенно вспоминалось мне перед тем, как, идя снежной дорогой и собирая мысли перед исповедью, я горько каялась в своем собственном малом смирении.
С самого начала нашей дружбы с о. Сергием у меня часто заходили с ним беседы о св.Троице. Я рассказывала ему о том, как в ранней юности я однажды почувствовала близость к нам и любовь Христа, Сына Божия, 2-го Лида св.Троицы, как потом, через несколько лет, имела опыт внезапного откровения любви Духа Святого, как это определял имевший тогда на меня духовное влияние Орбели.
Готовясь к причащению и читая Последование к нему, я всегда останавливалась вниманием на словах канона и молитв: «Душою и телом да просвещуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных Тайн, ЖИВУЩАГО ТЯ ИМЕЯ СО ОТЦЕМ И ДУХОМ, Благодетелю Многомилостиве». (Песнь 9-ая Канона). И на тожественных этому словах молитвы св. Василия Великого: «…и научи мя совершати святыню во страте Твоем, яко да чистым сведением совести моея, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому Телу и Крови и ИМЕЮ ТЕБЕ ВО МНЕ ЖИВУЩА И ПРЕБЫВАЮЩА СО ОТЦЕМ И СВЯТЫМ ТВОИМ ДУХОМ». Здесь мысль еще усилена словом «пребывающа». Я сказала об этом о. Сергиго. Он немного помолчал и сказал: «Отчая ипостась не только Отцовство, но и Начало, которое в Себе не открывается, но лишь в Сыне и Духе Святом, оставаясь трансцендентным. Однако есть и Отец; прежде всего, Единородного Сына, а затем и всякого блудного сына, к Нему приходящего. Для меня всегда бывает некоторое торжество при возглашении, пред «Отче наш», «небесного Бога Отца и прочих слов молитвы Господней». «Нельзя отожествлять ипостасей Отца и Сына, продолжал о.Сергий, — но, в хо же время, надо помнить слова: «так возлюбил Бог (Отец) мир, что отдал Сына Своего единородного» (Ио.3:16). Посылание и отдача на жертву есть жертва любви Отчей. Сын не Отец, но Отец не только раскрывается в Сыне, («Я и Отец — одно» — Ио.10:30; «Я знаю Его, потому что Я ох Него и Он послал Меня» 7,29), но и присутствует в Нем или с Ним силою Своей Любви, т.к. «Бог есть Любовь» всех трех Лиц св. Троицы. («Я не один, ибо Отец Мой со Мною» — Ио.16:32). И как Дух Святой, так и Отец соучаствует в деле Сына. Нет и не может быть ничего сладостнее этого богооткровения, что Бог наш есть наш ОТЕЦ». Говоря эхо, о. Сергий точно созерцал какие-то горние выси, и, когда он опустил взор на меня, я прочла в нем такую неземную прозрачность, что в ней как бы отражался потусторонний мир. В нем как бы замыкался для меня тот Троичный круг, которым вел Господь мое ничтожество. О. Сергий смотрел на меня с такой пастырски-отеческой нежностью, что я не могла удержаться ох слез. Эхо было какое-то незабываемое мгновение, посланное от «ОТЦА светов».
В последний год жизни о.Сергия зашел у нас с ним разговор о смерти, которую он уже предчувствовал. Он говорил, что смерть имеет два лика: один темный и страшный, это есть умирание, и ради его жертвенного приятия Христос пришел в мир. Умирание есть единственный путь окончательного преодоления первородного греха, путь к свету, в той мере, в какой человек сам осуществил своею жизнью такую возможность. Другой лик смерти светлый, мирный и радостный, ведущий к божественному откровению, воскресению и воцарению со Христом. В этом раскрывается софийность смерти, т.е. преуготованного Премудростью Божией преображения человека. Сам о. Сергий дважды пережил состояние умирания, о чем написал в своих «Автобиографических заметках» и в статье «Софиология смерти» (Вестник РХД, №№ 127,128). Первое «умирание» он пережил в январе 1926 г. во время перенесения охватившей его, как тогда говорили, «горячки», сильно страдая от высокой температуры, как в «огненной пещи». Вместе с этим горением, он мучился и от сознания своей греховности. «И вдруг, — пишет он, — после этого горения — прохлада и утешение проникли в огненную пещь моего сердца», и он почувствовал, что получил прощение от Господа. «Я двинулся, словно по какому-то внутреннему велению, вперед из этого мира суда — к Богу. Я несся с быстротой и свободой, лишенный всякой тяжести… Загорелись неизреченные светы приближения и присутствия Божия, свет становился все светлее, радость неизъяснимее… И в это время какой-то внутренний голос… то был Ангел-Хранитель, сказал мне, что мы ушли слишком вперед и нужно вернуться к жизни. И я понял … что я выздоравливаю… Каждый день моего бытия, каждое любимое лицо встречаю (теперь) новой радостью. Лишь бы Господь дал мне и им жить светом, Богом явленным…»
В марте 1939 г. у о.Сергия обнаружилась раковая опухоль в горле и ему предстояла серьезная операция, перед которой он записал 6-го марта: «Сегодня глянула в лицо мне смерть… Я смиренно и покорно … принимаю волю Божию… Стараюсь обдумать, как и с кем надо примириться, кого утешить и обласкать… Стараюсь всех вспомнить и никого не забыть… хотел бы всех возлюбить». После операции о. Сергий страдал сильными припадками удушья. За все время своей болезни я не переживал ничего, по силе мучительности равного этому, — писал он. — Это было умирание… Я погружен был в какую-то тьму, с потерей сознания пространства и времени… В дни былые мне дано было изведать смерть с ее радостью и освобождением, здесь же тяготели только ее оковы и мрак… Однако, наряду с этим, еще одно, чего я не ведал и что явилось для меня настоящим событием, которое останется навсегда откровением — не о смерти, но об умирании, с Богом и в Боге. То было мое умирание — со Христом и во Христе»… И как «какое-то последнее чудо в страждущей душе моей — оставалась любовь… Я перебирал мыслью… как любимых, так и тех, кого любить мне было трудно. Но я только любил … Не знаю, была ли это любовь в Боге. Кажется, да, и, вероятно, да — как же бы иначе мог я любить… Никто не мог нарушить гармонию любви, которая как-то прорывалась через диссонанс моего смертного дня».
Из клиники, где он лежал, о. Сергий прислал нам две коротенькие записки, отражающие его любовь. «Дорогие мои Львица и Лев, salut et fraternité из ложа скорби и озлобления. Слава Господу! … Благословляю и целую всех. Ваш наказуемый o. С.» В другой записке, с надписью «Вале и Леве Зандер»: «Благодарю Господа моего милующего и спасающего. Благо мне, яко смирил мя еси. Милые мои, любимые друзья и чада, каким светом в глубокой тьме были мысли о вас, когда они проникали в затемненное сознание. Какой радостью благодатной были мне твои письма, Лева, как свет с неба, мне давал Господь такие светы. Какой опорой для меня в трудном моем положении является ваша верность и помощь. Какой лаской приносится твоя, Валя, любовь и молитва. Отдаю себя в руки Божии и уповаю на Него. Слава Всевышнему, Слава!»
Постепенно голос у о.Сергия восстанавливался. «Как будто небесный свет прорвался через мрак моего существа», пишет он в своих «Автобиографических записках». «Бог явил мне Свою милость». В день Пятидесятницы он был в храме, а в день Св. Духа (день его рукоположения) он исповедался и у себя на дому причастился. «Умирание не разрешилось в смерть, но осталось откровением о смертном пути, который предлежит всякому человеку вслед за Христовым».
Можно было бы еще много рассказывать об о. Сергии, о наших встречах с ним на съездах РСХД и в Англии на собраниях Содружества св. Албания и св. Сергия, из которых каждая встреча приносила новую радость и откровение. Это было до его операции. После нее он начал служить, и в Духов день, 5 июня 1944 г., совершил последнюю свою литургию. Ночью с ним случился удар, он потерял сознание и несколько дней не открывал глаз. В это время я жила в Сент-Женевьев де Буа, где шли ежедневные вокруг нас бомбардировки, железнодорожный путь к Парижу был отрезан, т.к. ближайшие станции были разрушены. Я глубоко скорбела, что не могу попасть к о.Сергию, которого мой муж эти дни навещал, совершая путь на велосипеде. В субботу 10 июня я ясно почувствовала, что о. Сергий меня зовет, и я решила каким-либо путем добраться до Парижа, но этот день была опять сильная бомбардировка, и я не смогла это сделать. На следующий день, после литургии в Русском Доме (это было воскресенье), я решила идти пешком. Пошла по железнодорожному полотну, которое все было изрыто бомбами, всюду зияли воронки. Добралась благополучно до станции Жювизи, на полпути от Парижа, где оказался отходивший в Париж поезд. В метро доехала до Сергиевского Подворья. В квартире о. Сергия дверь в его комнату была слегка приоткрыта, о. Сергий открыл глаза, увидел меня и поманил к себе пальцем. Я с трепетом подошла к его постели, он меня благословил, хотел что-то сказать, но язык не повиновался, и он закрыл глаза. На всю жизнь храню я воспоминание об этом последнем общении с о. Сергием. В 4 часа дня его соборовали о. Киприан, о.Василий Зеньковский и о. Стефан. На другой день, переночевав дома в Булони, я снова приехала к о. Сергию, но он глаз не открыл. Бывшая в это время тух мать Бландина рассказала мне, что произошло с о. Сергием в прошлую субботу, когда я почувствовала его зов. Утром дежурили около него, из-за необходимости перекладывания, все четыре ухаживавшие за ним: мать Бландина, мать Феодосия, сестра Иоанна и Елена Ник. Осоргина. И они заметили, как неожиданно лицо о. Сергия стало, по выражению Е.Н.Осоргиной, «предстоящим» и несколько раз менялось, становясь все значительнее и торжественнее, пока не «воссиял свет». Это длилось с часу до 3-х часов пополудни. Все четверо были свидетельницами этому явлению света и каждая сделала об эхом запись. У меня хранится запись матери Феодосии, сделанная ею в 2.30 ночи 28 июня у постели о. Сергия. Она пишет: «Эхо было в субботу 10 июня 1944г…. В эти дни, следовавшие за ударом о. Сергия, все мы, ero окружавшие, с трепетом внимали тайне, открывавшейся нам в эхом новом его бытии. Мы были перенесены в иной, дотоле нам неведомый план. Неподвижное тело о. Сергия, лежащее перед нами, было как бы мостом, соединявшим два мира — «этот» и «тот». И «тот» открывался нам с такой реальностью, что «этот» начинал казаться призрачным. Земная жизнь о. Сергия, так гармонично завершенная последней литургией Духова дня, переходила в иную фазу. И нам дано было увидать тот свет, который уготовал Господь любящим Его». Эха запись, под заглавием «О последних днях отца Сергия», как «Запись очевидца», была помещена в №101-102 Вестника РСХД, схр.86, и здесь я привожу ее в сокращении. Из нее видно, что душа о. Сергия проходила какие-то таинственные пути, как во время болезни 1926 г., освобожденная ох земного притяжения и телесной тяжести, но на этот раз и лидо ero озарялось каким-то нездешним светом. Как мне говорили другие очевидицы, он как будто куда-то несся вперед, так что даже волосы ero развевались, точно по ветру. Возможно, что на своем пути душа его невидимо касалась и тех, кого он помнил и любил. Иначе чем объяснить, что одна из духовных чад его, жившая далеко от Франции и из-за войны не имевшая никаких сведений об о. Сергии, в это время ощутила его невидимое присутствие так реально, что ее охватила несказанная радость ох духовного общения с ним. Об этом она сообщила мне много позднее.
До удара, во время одной из последних моих исповедей у о. Сергия в Великом Посту, он стал мне говорить о скорой своей смерти и о предстоящем своем погребении, о котором он не сделал никакого завещания. «Мне все равно, где меня положат, — сказал он, — только я хочу, чтобы Елена Ивановна, в положенный ей срок, покоилась вместе со мной». Переборов подступавшие к горлу рыдания, я сказала, что у нас есть в Сент-Женевьев три места, одно из которых свободно, так что, в будущем, он может лежать около моего отца, которого он так любил. О. Сергий ничего на эхо не ответил, видимо, тоже испытывая волнение. В Прощеное воскресенье мы «прощались» с о. Сергием в Сергиевском Подворье и хам же были за ранней пасхальной литургией, после которой пили чай у о. Сергия. Он был радостен и казался бодрым. С ласковой улыбкой он дал мне большое гусиное яйцо, что в те времена было жертвенным даром, вероятно полученным им ох кого-нибудь из его духовных детей. Все эхо ярко в памяти, как вчерашний день.
О. Сергий скончался в четверг 13-го июля в 13 ч. 15мин. в день Собора 12 Апостолов. В субботу 15-го (40-й день после удара), гроб перенесли в подворскую церковь, где отпевание совершал митрополит Евлогий в сослужении 18 священников. Муж мой успел вовремя добраться из Сент-Женевьев до Парижа (поезд тянулся 2 часа), чтобы предупредить в Подворье о нашем предложении похоронить о. Сергия на кладбище Сент-Женевьев вместо кладбища в Панхэн, с которым уже велись переговоры. Я не имела сил поехать на положение в гроб и отпевание и встретила траурную колесницу у ворот сент-женевьевского кладбища, около церкви Успения Божьей Матери, вблизи которой о. Сергий и был погребен. Елена Ивановна не долго прожила без него, и ее положили в его могилу, как хотел о. Сергий.
А через 20 тех в соседнюю с ними могилу был положен мой муж, легший рядом со своим любимым учителем.
Преследование христиан в СССР
Прошло всего несколько лет, как власти устроили гонения в Почаевской Лавре, на время как будто все стихло, но на самом деле это только видимость и гонения продолжаются, многих монахов не прописывают на территории Лавры, кельи стоят пустыми и сама Почаевская Лавра ныне находится на грани закрытия.
В этом году, как и каждый свой отпуск, мы решили отправиться в паломничество по святым местам России. Посетив такие места, как Псково-Печерский монастырь, одесский Св.-Успенский монастырь, мы по старой традиции направились в Св.-Успенскую Почаевскую Лавру, находящуюся в Тернопольской области. Мы ежегодно посещаем эту обитель, и то, что мы здесь увидели, не может оставить нас равнодушными. Из рассказов местного населения мы узнали, что с конца 1983 г. на Лавру обрушился натиск властей (милиции, органов КГБ). Этот натиск выражается не только по отношению к монахам, но и по отношению к паломникам-богомольцам, в чем мы сами вскоре убедились. Так, во время вечернего богослужения под праздник св. Николая 20 мая 1984 г. в Успенский собор обители зашли сотрудники милиции, переодетые в гражданское, и стали у богомольцев проверять документы. Многие из милиционеров были нетрезвы. Особенно старался лейтенант Морозовский Иван Степанович, назначенный в конце 1983 г. начальником паспортного стола Почаевского ОВД. Он требовал документы не только у молодежи, но и у старушек, а по окончании богослужения в Троицком соборе били ногами людей и выгоняли из храма.
Такой был случай. Скотник Почаевской Лавры был остановлен Морозовским, который потребовал от него, чтобы тот уехал, хотя скотник пенсионного возраста. После сего Морозовский отправил его в психиатрическую больницу, где тот пробыл две недели. Во второй раз он был схвачен вечером в Лавре, ему заломили руки и насильно оттащили в милицию. Здесь Морозовский бил его, требуя, чтобы тот уехал из Почаева. В частности, Морозовский ударил его головой об стол, отчего тот потерял сознание, очнулся уже в психиатрической больнице. В третий раз, увидя Морозовского, он был вынужден бежать. Был случай, когда богомольца пенсионного возраста милиция схватила в храме и отправила в психбольницу.
На Пасху 1984 г. Морозовский с милиционерами перед пасхальной полунощницей ходили по Успенскому собору и проверяли документы у богомольцев.
С 1984 г. от всех устраивающихся на работу электриками, сторожами и подобн. стали требовать, чтобы они предоставили разрешение от уполномоченного, хотя никакого разрешения для устройства на эти работы по закону не требуется.
От монахов Лавры стало известно, что милиция ходит по корпусу в 12 часов ночи и позже в нетрезвом состоянии, иногда требуя, чтобы открыли кельи.
Не дают строиться. Например, в Почаев был привезен кирпич и за ночь растащен.
Впрочем, нам стало известно, что, например, в Ровенской области люди, посланные властями, за ночь растащили целый храм.
***
В Новосибирске с 9 по 17 августа 1983 г. проходил суд над о. Александром Пивоваровым, обвинявшимся по статьям 17 (соучастие), 154 ч. 2 (спекуляция) и 162 ч. 2 (занятие запрещенным промыслом) УК РСФСР. Арестовали его в апреле.
Аресту предшествовала серия обысков. На первом обыске в Новосибирске по делу Игнатия Лапкина изъято 24 Библии издания Евангельских христиан-баптистов. В апреле по «делу печатников» проведено три обыска. В Енисейске в доме о. Александра изъяты Молитвословы, Евангелия, 2 400 рублей денег; в Новосибирске в квартире Ольги Старостиной было изъято 14 тысяч нательных крестиков, около тысячи свечей и три тысячи рублей денег.
По окончании предварительного следствия о. Александр заявил ходатайство прокурору области: «Меня взяли под стражу, чтобы я не мешал ходу следствия. Поскольку оно закончено, я не могу ему мешать и прошу меня отпустить для того, чтобы я мог исповедаться и причаститься. Если вы отпустить меня не можете, прошу позвать священника в тюрьму». Ходатайство осталось без ответа.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что при первом обыске изъяты Библии, привезенные Геннадием Яковлевым по просьбе о. Александра. Всего было тридцать Библий. Две из них получил в подарок брат подсудимого о.Борис Пивоваров, одну — Ольга Старостина, две — Наталия Герасимчук.
Какая-то верующая показала, что о. Александр, снабдив ее пустыми чемоданами, отправил в Москву и встретил назад с полными. Содержимое чемоданов было изъято на обыске (Молитвословы, Новый Завет).
Ольга Старостина показала, что ездила неоднократно в Москву по просьбе о. Александра и встречалась там с Виктором Бурдюком (привезенным на суд из лагеря под Читой). По словам свидетельницы, она знает, что именно она возила.
О. Григорий, священник из г. Камска, передал в церковную лавку 20 Молитвословов, 30 Новых Заветов, житие Марии Египетской и две пачки крестиков, купленных у о. Александра по номиналу. Все это продавалось в храме г. Камска по ценам, установленным церковным советом.
Бухгалтер епархиального управления была допрошена судом о порядке назначения цен на изделия, продающиеся в храме.
Допрошен был о. Александр Ремеров, которому ставилось в вину изготовление и продажа церковных календарей, но выяснилось, что он раздавал их прихожанам бесплатно.
Были допрошены о.Алексей Костриков и о. Григорий Персиянов.
Брат обвиняемого, о. Борис Пивоваров, допрошенный в самом начале судебного разбирательства, отозвавшись о подсудимом положительно, просил суд быть объективным.
Главным свидетелем обвинения стала Наталия Герасимчук. Ей о. Александр подарил Библию, и впоследствии, по ее просьбе, еще одну ее знакомой Шараповой. Первую Библию Герасимчук продала за 70 р., а вторую за 85 р. Денег о. Александру она не передавала. Судом установлено, что Герасимчук дарила о. Александру художественную литературу. Общая стоимость всех подарков составила 30 рублей. Герасимчук была задержана на барахолке. При обыске из ее сумки были изъяты житие Марии Египетской, художественная литература.
Адвокат в своей защитной речи, опровергнув все пункты обвинения, просила освободить подсудимого за отсутствием состава преступления.
Приговор — 4 года лагерей строгого режима с конфискацией имущества.
Суд был открытым. Присутствовали прихожане храмов, где служил о. Александр, друзья, родственники. О. Александр входил в зал заседания с пасхальным приветствием «Христос Воскресе». Зал отвечал: «Воистину Воскресе».
Подсудимый передал во время процесса записку, в которой писал, что если его все-таки осудят ни за что, то он просит помочь ему после вынесения приговора.
По окончании чтения приговора о. Александр, встав на колени, поклонился всем в ноги и благословил присутствующих.
Памяти о. Всеволода Рошко
13 декабря 1984 года в Иерусалиме умер иеромонах Всеволод Рошко. 1 7 декабря его похоронили на кладбище монастыря Mater Misericordia, в котором жил последние годы. Отпевание совершалось по-французски и по-итальянски. Когда служба кончилась и гроб был уже опущен в могилу, о. Илья Шмаин, присутствовавший на погребении, попросил подойти к нему всех, кто понимает по-русски, и сказал о новопреставленном протоиерее Всеволоде надгробное слово, которое мы приводим здесь.
Вот мы собрались здесь — люди разных наций, разных культур, разных вероисповеданий или вовсе неверующие, малознакомые и совсем незнакомые между собой, что нас собрало сейчас, что нас объединило? Личность о. Всеволода.
Так это произошло при его кончине, но так это было и при жизни его, и вся его жизнь была посвящена объединению в духе Христовой любви тех людей, с которыми он встречался. Как же это удавалось ему? Ведь так много разделений в нашем падшем мире. Людей разделяют национальные предрассудки, а людей одной нации разделяют воспитание и социальное положение, людей, сходных в этом, разделяют вера и неверие. А верующих уводят друг от друга различные вероисповедания, людей одной религии различные конфессии, а внутри одной конфессии — различия юрисдикций. И вот о. Всеволод умел все это преодолеть. Не с помощью каких-то церковных реформ и экуменических замыслов — по своему смирению (а у о, Всеволода было настоящее смирение, о котором мы так много говорим и думаем, но так мало кто его имеет), он никогда не высказывался о преобразованиях в Церкви и верил просто, как все, как подобало ему в его положении. И не благодаря каким-то особенным ухищрениям ума, хотя о. Всеволод был умен и оригинален, но не этим объединял всех. Потому он объединял всех и снимал все противоречия, разъединяющие нас, что был всегда готов всей душой откликнуться на любой призыв, помочь всем, чем только мог, и через силу, каждому человеку которого он встречал, будь он русский или еврей, мусульманин или христианин, католик или православный, приверженец Синодальной церкви или Московской патриархии. Это горение души, пламень истинной Христовой любви и освещал и собирал вокруг него всех, кто знал о. Всеволода. Это и делало его таким исключительным. Ведь о. Всеволод был единственным человеком в Иерусалиме, а значит и во всем мире, которого можно было увидеть в один день и в католическом монастыре, и в греческой патриархии, и на неве-яковской кухне у неверующего еврея-художника, и всюду ему были рады. Он даже обладал, при всей его нищете, непрактичности, слабости, неким могуществом благодаря способности всех объединять, всем быть нужным. Если вам нужно было познакомиться с католическим священником, евреем, говорящим на иврите и служащим в арабской галилейской деревушке, — только о. Всеволод мог вас к нему отвести. Только имя о. Всеволода с одинаковой легкостью распахивало всегда закрытые для посторонних ворота Русского сада при Московской патриархии, или синодального Елеонского монастыря, или Тантурского экуменического центра. И одно упоминание об о. Всеволоде вызывало одну и ту же веселую и нежную улыбку и на суровом иконописном лике аляскинского старообрядца, и на непроницаемом лице иезуита, прибывшего из Рима с важным поручением. И не потому имя о. Всеволода было магическим ключом, открывавшим все двери, что он был каким-то хамелеоном, даже в хорошем смысле, умеющим с каждым согласиться, к каждому подойти по-своему. Напротив, он был простодушно прям, даже резок в высказывании своих взглядов, ни к какой обстановке не умел и не мог приспособиться и никогда не менялся, был всегда самим собой. Но именно то, что он был самим собой, и составляло секрет его могущества или, точнее, очарования. Это было очарование искренности и поистине детской чистоты каждого помысла, каждого поступка, каждого душевного движения о. Всеволода. В точности как ребенок, не понимая умом всех хитростей запутанных людских отношений, о. Всеволод все понимал интуитивно и, как ребенок, в чистоте сердца, умел любить и примирять в себе непримиримых врагов, никого не судя и никому не отдавая предпочтения. Недаром он так любил детей, искал детского общества и расцветал и отдыхал в нем, недаром он так замечательно умел обращаться с маленькими детьми — он близко, изнутри понимал их, он сам был в чем-то таким, как они.
И недаром его так любили дети. Он не только был похож на ребенка — он был похож и на любимых героев детских книг: на старого (хотя к нему не идет это слово) мушкетера, д’Артаньяна, и особенно — на Дон-Кихоха, Рыцаря Печального Образа.
В самом деле, хотя он был умен и начихан, превосходно разбирался в искусствах и в истории, выглядел за рулем автомашины, как рыцарь в седле, и был отлично светски воспитан, все-хаки в любой житейской обстановке он казался намного больше и выше ее, и поэтому был немножко смешон, именно как Дон-Кихот, И это тоже привлекало к нему и детские сердца, и то детское, что живет в каждом из нас, в сердце взрослого человека. Было в нем и настоящее сочетание мудрости и безумия, и отважная готовность придти на помощь каждому, кто позовет. И всегда о. Всеволод действовал, как настоящий Дон-Кихот, во имя самых высоких идеалов, и, конечно — опять-таки, как хо бывало с добрым идальго, — иногда предприятия о. Всеволода не увенчивались успехом на этой земле, но неудачи не уменьшали ни веры его, ни обаяния.
Для нас же, русских, особое еще его обаяние состояло в том, что эхо был русский Дон-Кихот, тот, чей образ для русского человека неразрывно связан с образом князя Мышкина. И несмотря на хо, что по своей трагической церковной судьбе о. Всеволод был отделен ох нас, х.к. был священником римско-католической церкви, и несмотря на то, что ero служение людям, как я уже говорил, включало в себя все нации, все конфессии, — сердце о. Всеволода принадлежало русскому Православию и самому русскому, что есть в нашей традиции. Как любил он русские жития, особенно жития юродивых! Как тщательно и с какой любовью изучал он все относящееся к житию преп. Серафима Саровского и сколько сделал для исследования жизни этого русского святого! Здесь не место, да и я не подготовлен к тому, говорить о научных заслугах о. Всеволода, о его вкладе в историю русской святости, Я говорю только o ero любви к России и ко всем русским традициям в Православии — в церковной службе, в обычаях, в агиографии.
Очень мало я сказал об о. Всеволоде. Многие, наверно, те, кто знал ero дольше, могли бы рассказать o его подвигах во спасение наших соотечественников во время Второй мировой войны или о его подвижнической и миссионерской жизни на Аляске и в Африке, и о многом, многом другом. Я же хотел только отметить, что в его лице мы потеряли того, кто был живым примером, живым доказательством возможности объединения церквей в нашей жизни — через Христову любовь, живущую в душе человека, если человек этот был так чист и так полон любви, веры и надежды, как был о. Всеволод.
Ты ушел от нас, о. Всеволод, к Богу, которого верно любил, честно искал всю жизнь. Я вспоминаю, как в Страстную пятницу, встретив тебя в Старом городе, я звал тебя к нам помолиться, но, всегда так охотно откликавшийся на любой зов, ты отвечал, застенчиво улыбнувшись: «Сегодня я буду искать Христа в Иерусалиме».
И вот ты ушел от нас ко Христу, о. Всеволод, но здесь нам некем тебя заменить, и пока мы живы, нам будет так не хватать тебя!
[1] В 1983 г. Валентине Александровне Зандер, старейшему и активнейшему члену PCX Движения, автору ряда небольших книг по литургике и агиологии, исполнилось 90 лет. По случаю этого знаменательного юбилея В. А. Зандер согласилась ответить письменно на поставленные ей вопросы.
[2] ‘Русское Возрождение», № 22 и 23 за 1983 г.
[3] «Русская Мысль», № 3070 за 1975 г.
[4] Из 40 человек, составлявших в продолжение нескольких лет, до смерти в 1941г. о. Александра, Братство св. Троицы, осталось в живых к 1983 г. еще 15 человек. Братство дало Православной Церкви 10 пастырей, дьякона, нескольких чтецов и одного богослова, окончившего Богословский Институт в Париже. Многие его члены активно работали в PCX Движении и были его секретарями.
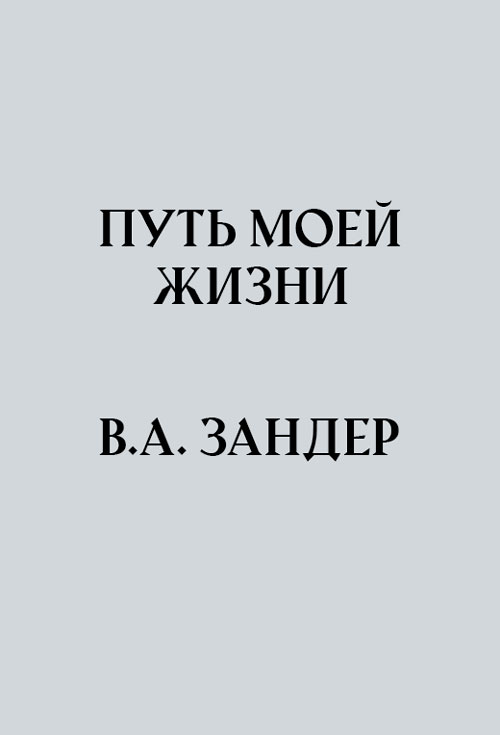
Комментировать