- Введение
- Вопросы и задания
- О генетических корнях классической русской литературы XIX века
- Вопросы и задания
- Николай Михайлович Карамзин (1766–1826)
- Карамзин и европейский сентиментализм
- Детство и юность Карамзина
- «Письма русского путешественника»
- Повесть «Бедная Лиза»
- Карамзин-журналист
- Карамзинская реформа русского литературного языка
- Спор «карамзинистов» с «шишковистами»
- Карамзин-историк
- Вопросы и задания
- Становление и развитие русского романтизма первой четверти XIX века
- Вопросы и задания
- Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)
- Романтический мир Жуковского
- Детство Жуковского
- Годы учения
- Элегии Жуковского-романтика
- «Теон и Эсхин» (1814)
- Любовь в жизни и поэзии Жуковского
- Жуковский гражданин и патриот
- Балладное творчество Жуковского
- Воспитатель наследника
- Поэмы Жуковского
- Вопросы и задания
- Иван Иванович Козлов (1779–1840)
- Детские и юношеские годы
- Стихотворные послания И. И. Козлова
- Лирика И. И. Козлова
- Гражданская лирика И. И. Козлова
- Поэмы И. И. Козлова
- Уход И. И. Козлова
- Вопросы и задания
- Константин Николаевич Батюшков (1787–1855)
- О своеобразии художественного мира Батюшкова
- Становление Батюшкова-поэта
- Первый период творчества
- Второй период творчества
- Вопросы и задания
- Иван Андреевич Крылов (1769–1844)
- Художественный мир Крылова
- Жизнь и творческий путь Крылова
- Мировоззренческие истоки реализма Крылова
- Поэтика крыловской басни
- Общенациональное содержание басен Крылова
- Вопросы и задания
- Пётр Павлович Ершов (1815–1869)
- Вопросы и задания
- Александр Сергеевич Грибоедов (1795–1829)
- Детство и юность Грибоедова
- Ссылка в Персию. Служба на Кавказе
- Успех «Горя от ума». Грибоедов и декабристы
- А. С. Пушкин о главном конфликте комедии и об уме Чацкого
- Фамусовский мир
- Драма Чацкого
- Драма Софьи
- Поэтика комедии «Горе от ума»
- Гибель Грибоедова
- Вопросы и задания
- Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837)
- Художественный мир Пушкина
- Детство
- Отрочество. Лицей
- Юность. Петербургский период
- Молодость. Южный период
- Элегия «Погасло дневное светило…»
- Поэма «Кавказский пленник»
- Поэма «Бахчисарайский фонтан»
- Лирика южного периода. Пушкин и декабристы
- Элегия «К морю»
- Пушкин в Михайловском. Творческая зрелость
- Поэтический цикл «Подражания Корану»
- Трагедия «Борис Годунов»
- Пушкин о назначении поэта и поэзии
- Освобождение. Поэт и царь
- Историческая основа поэмы «Полтава»
- Философские мотивы в лирике Пушкина
- Любовная лирика Пушкина
- Болдинская осень 1830 года. Роман «Евгений Онегин»
- Творческая история романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
- Историзм и энциклопедизм романа
- Онегинская строфа
- Реализм романа. Индивидуальное и типическое в характере Евгения Онегина
- Онегин и Ленский
- Онегин и Татьяна
- «Маленькие трагедии». «Повести Белкина»
- Историческая тема в творчестве Пушкина 1830-х годов
- Исторический роман «Капитанская дочка»
- Патриотические стихи «Клеветникам России»
- Лирика Пушкина 1830-х годов
- Дуэль и смерть Пушкина
- Вопросы и задания
- Поэты пушкинской поры
- Антон Антонович Дельвиг (1798–1831)
- Вопросы и задания
- Пётр Андреевич Вяземский (1792–1878)
- Вопросы и задания
- Николай Михайлович Языков (1803–1846)
- Вопросы и задания
- Евгений Абрамович Баратынский (1800–1844)
- Вопросы и задания
- Алексей Васильевич Кольцов (1809–1842)
- Судьба Кольцова
- «Русские песни» Кольцова
- Кольцов в истории русской литературы, критики, музыки
- Вопросы и задания
- Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841)
- О своеобразии художественного мироощущения Лермонтова
- Детские годы Лермонтова
- Годы учения в Московском благородном пансионе. Юношеская лирика
- Московский университет
- Петербургский период жизни и творчества Лермонтова 1830-х годов
- «Смерть Поэта» и первая ссылка Лермонтова на Кавказ
- Лирика Лермонтова 1838–1840 годов
- Дуэль и вторая ссылка на Кавказ
- Поэмы Лермонтова «Демон» и «Мцыри»
- Лирика Лермонтова 1840–1841 годов
- Творческая история романа «Герой нашего времени»
- Композиция романа и её содержательный смысл
- Повесть «Бэла»
- Повесть «Тамань»
- «Фаталист»
- Максим Максимыч
- Лирическое завещание Лермонтова
- Значение творчества Лермонтова в истории русской литературы
- Вопросы и задания
- Николай Васильевич Гоголь (1809–1852)
- Призвание Гоголя-писателя
- Детство и юность Гоголя
- Начало творческого пути. «Вечера на хуторе близ Диканьки»
- Сборник повестей «Миргород»
- Гоголь-историк
- Петербургские повести Гоголя
- Творческая история поэмы Гоголя «Мёртвые души»
- Тема дороги и её символический смысл
- Манилов и Чичиков
- Коробочка и Чичиков
- Ноздрёв и Чичиков
- Собакевич и Чичиков
- Плюшкин и Чичиков
- Путь Павла Ивановича Чичикова
- «Мёртвые души» в русской критике
- Повесть «Шинель»
- «Выбранные места из переписки с друзьями»
- Письмо Белинского к Гоголю
- Ответ Гоголя Белинскому
- Второй том «Мёртвых душ». Творческая драма Гоголя
- Вопросы и задания
- Иван Александрович Гончаров (1812–1891)
- О своеобразии художественного таланта И. А. Гончарова
- Роман «Обыкновенная история»
- Цикл очерков «Фрегат “Паллада”»
- Роман «Обломов»
- Н. А. Добролюбов о романе
- А. В. Дружинин о романе
- Полнота и сложность характера Обломова
- Андрей Штольц как антипод Обломова
- Обломов и Ольга Ильинская
- Историко-философский смысл романа
- Творческая история романа «Обрыв»
- Райский
- Бабушка
- Марфенька
- Вера
- «Просветитель» Веры – нигилист Марк Волохов
- Грехопадение Веры
- Выход из «обрыва»
- «Обрыв» в оценке русской критики
- Вопросы и задания
- Федор Иванович Тютчев (1803–1873)
- Малая родина Тютчева
- Тютчев и поколение «любомудров»
- Мир природы в поэзии Тютчева
- Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития
- Хаос и космос в лирике Тютчева
- Любовь в лирике Тютчева
- Тютчев о причинах духовного кризиса современного человека
- Поэтическое открытие русского космоса
- Вопросы и задания
- Алексей Константинович Толстой (1817–1875)
- О своеобразии художественного мироощущения А. К. Толстого
- Жизненный путь А. К. Толстого
- Лирика А. К. Толстого
- Баллады и былины А. К. Толстого
- Бесстрашный сказатель правды
- Вопросы и задания
- Александр Иванович Герцен (1812–1870)
- А. И. Герцен и «люди сороковых годов»
- Детство и юность А. И. Герцена
- А. И. Герцен и утопический социализм. Начало творческого пути
- Духовная драма Герцена
- Книга «Былое и думы»
- Общественная деятельность Герцена в эпоху 1860-х годов
- Вопросы и задания
- Алексей Феофилактович Писемский (1821–1881)
- Детские и юношеские годы
- Костромской период жизни и творчества
- Петербургский период жизни и творчества
- Московский период жизни и творчества
- Вопросы и задания
- Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889)
- Мастер сатиры
- Детство, отрочество, юность Салтыкова-Щедрина
- Вятский плен
- Проблематика и поэтика сатиры «История одного города»
- «Общественный роман» «Господа Головлёвы»
- «Сказки»
- Вопросы и задания
Алексей Васильевич Кольцов (1809–1842)
Судьба Кольцова
Колыбелью поэтического таланта Кольцова стал Воронежский край, где лес сходится со степью, где некогда было порубежье Российского государства, собиравшего для охраны своих границ от набегов степных кочевников лучшие силы народные со всех концов страны. Вместе с разноголосьем народных говоров переселенцы принесли в воронежскую степь всё богатство устного народного творчества: песен, сказок, обычаев и поверий. Волею судьбы Кольцов всю жизнь провёл в странствиях по сёлам, деревням и слободушкам Воронежского края, впитывая восприимчивой душой поэзию народной жизни.
Алексей Васильевич Кольцов родился 3 (15) октября 1809 года в Воронеже, в зажиточной мещанской семье Василия Петровича Кольцова, прасола – скупщика и торговца скотом, слывшего по всей округе честным партнёром и строгим домохозяином. Не ограничиваясь прасольством, он арендовал земли для посева хлебов, скупал леса на сруб, торговал дровами, занимался садоводством. И в торговых делах, и в домашнем быту Василий Петрович оправдывал известную пословицу «Прасол – поясом опоясан, сердце пламенное, а грудь каменная». С детских лет он определил сыну торговое поприще: Кольцов служил при отце сначала мальцом, потом молодцом, а в зрелые годы – приказчиком и помощником.
Летом они отправлялись в степь для надзора за скотом, зимой – для забора и продажи товара. Неделями приходилось скакать на коне, ночевать под открытым небом, коротать досуг в деревнях, толкаться среди народа в праздничной ярмарочной толпе. Прасольское ремесло воспитывало в человеке умение легко и свободно общаться с разными людьми, входить в чужие заботы и интересы, прислушиваться к противоречивым голосам крестьянской молодежи, проникаться мотивами русских песен. Воронежская природа, где лесной север переходил в южную степь, щедро наградила будущего поэта полнотою впечатлений, остротою восприятий. Не только крестьянский мир, но и сам ландшафт воронежской земли собирал, как в фокусе, всё богатство и разнообразие наших национальных природных стихий. Русь виделась далеко во все стороны: от сурового лесного севера до привольного степного юга, вплоть до Чёрного моря. Приходилось Кольцову вникать изнутри в самые разные хозяйственные заботы сельского жителя: садоводство и хлебопашество, скотоводство и лесные промыслы. В одарённой, переимчивой натуре мальчика такая жизнь воспитала широту души и многосторонность интересов, непосредственное знание деревенского быта, крестьянского труда и народной культуры.
С девяти лет Кольцов учился грамоте на дому и проявил столь незаурядные способности, что в 1820 году смог поступить в уездное училище, минуя приходское. Проучился он в нём один год и четыре месяца: из второго класса отец взял его в помощники. Но страсть к чтению, любовь к книге уже проснулась в мальчике: сначала это были сказки и лубочные издания, покупаемые у коробейников, потом – библиотечка в 70 книг у приятеля по училищу, сына воронежского купца, – арабские сказки, книги русских писателей XVIII века.
В 1825 году Кольцов купил на базаре сборник стихов И. И. Дмитриева и пережил глубокое потрясение, познакомившись с его русскими песнями: «Стонет сизый голубочек», «Ах, когда б я прежде знала». Он убежал в сад и стал распевать в одиночестве эти стихи, уверенный в том, что все стихи – песни, что все они поются, а не читаются.
К этому времени судьба свела его с воронежским книготорговцем Д. А. Кашкиным, человеком образованным и умным, любящим русскую словесность. Кашкин поощряет юного поэта, снабжает его руководством по составлению стихов «Русская просодия», даёт советы, правит его поэтические опыты, но главное – разрешает пользоваться своей библиотекой. В лавке Кашкина Кольцов знакомится с поэзией Ломоносова, Державина, Мерзлякова, Дельвига и Пушкина.
Юношеские опыты Кольцова еще очень литературны и вторичны, написаны в подражание популярной тогда сентиментально-романтической поэзии. Однако проблески самобытного дарования уже ощутимы в «Путнике» и особенно в «Ночлеге чумаков».
К началу 1830-х годов Кольцов становится известным в культурном кругу провинциального Воронежа «поэтом-прасолом», «самоучкой», «стихотворцем-мещанином». Он сближается с Андреем Порфирьевичем Серебрянским, сыном сельского священника, студентом Воронежской семинарии, поэтом, талантливым исполнителем своих и чужих стихов, автором популярной некогда студенческой песни «Быстры, как волны, дни нашей жизни».
Серебрянский относится к другу серьёзно, помогает ему словом и делом. «Вместе мы с ним росли, вместе читали Шекспира, думали, спорили», – вспоминал Кольцов. Серебрянский прививает Кольцову вкус к философии, знакомит с профессорами семинарии. Появляются стихи – наброски будущих «дум»: «Великая тайна», «Божий мир», «Молитва».
В 1827 году, «на заре туманной юности», Кольцов переживает тяжёлую сердечную драму. В доме отца жила крепостная прислуга Дуняша, девушка редкой красоты и душевной кротости. Кольцов очень полюбил её, но отец счёл унизительным родство со служанкой и во время отъезда сына в степь продал Дуняшу в отдалённую казацкую станицу. Кольцов слёг в горячке и едва не умер. Оправившись от болезни, он пустился в степь на поиски невесты, оказавшиеся безрезультатными. Неутешное своё горе Кольцов выплакал в стихах «Первая любовь», «Измена суженой», «Последняя борьба» и особенно в проникновенной «Разлуке», положенной на музыку А. Гурилевым и ставшей популярным романсом:
Не забыть мне, как в последний раз
Я сказал ей: «Прости, милая!
Так, знать, Бог велел – расстанемся,
Но когда-нибудь увидимся…»
Вмиг огнём лицо всё вспыхнуло,
Белым снегом перекрылося, —
И, рыдая, как безумная,
На груди моей повиснула.
«Не ходи, постой! дай время мне
Задушить грусть, печаль выплакать,
На тебя, на ясна сокола…»
Занялся дух – слово замерло…
В 1831 году Кольцов выходит в большую литературу с помощью друга Белинского и Тургенева Н. В. Станкевича, который встретился с поэтом в Воронеже и обратил внимание на его незаурядное дарование. По рекомендации Станкевича в «Литературной газете» (1831, № 34) была опубликована «русская песня» «Кольцо», а в 1835 году на собранные по подписке среди московских друзей деньги Станкевич издает первый поэтический сборник «Стихотворения Алексея Кольцова», принёсший поэту славу в среде столичных литераторов.
Знакомство со Станкевичем открыло Кольцову доступ в московские и петербургские литературные салоны. В 1831 году он приезжает в Москву по торговым делам отца и сходится с членами философского кружка Станкевича, студентами Московского университета, в том числе с Белинским, а в Петербурге сближается с Жуковским, Вяземским, Крыловым. Особое впечатление на Кольцова производит знакомство с Пушкиным и беседы с ним на литературные темы.
Потрясённый безвременной кончиной поэта Кольцов посвящает его памяти стихотворение «Лес» (1837), в котором через эпический образ русской природы передаёт богатырскую мощь и национальное величие поэтического гения Пушкина.
Летом 1837 года Кольцова навещает в Воронеже Жуковский. Этот визит возвышает поэта в глазах отца, который к литературным трудам сына относится прохладно, однако ценит связи с высокопоставленными людьми, рекомендуя использовать их для продвижения торговых предприятий и успешного решения судебных дел.
В 1838 году он охотно отпускает сына в Петербург, где Кольцов посещает театры, увлекается музыкой и философией, тесно сходится с Белинским. Под влиянием критика он обращается к философской поэзии, создавая одну за другой свои «думы». В этот период происходит стремительный интеллектуальный рост Кольцова, достигает расцвета его поэтический талант.
В сентябре 1840 года Кольцов совершает последнюю поездку в столицу, чтобы закончить две тяжбы и продать в Москве два гурта быков. Но торговое усердие оставляет его: «нет голоса в душе быть купцом». В Петербурге он останавливается у Белинского, вызывая у великого критика искреннее восхищение глубиною таланта, острым умом и широтою натуры: «Кольцов живёт у меня – мои отношения к нему легки, я ожил немножко от его присутствия. Экая богатая и благородная натура!.. Я точно очутился в обществе нескольких чудеснейших людей».
Невыгодно завершив свои торговые дела, прожив вырученные деньги, Кольцов возвращается в Воронеж к разгневанному отцу. Охлаждение сына к хозяйственным хлопотам вызывает у отца упреки «грамотею» и «писаке». Начинаются ссоры. В семейный конфликт втягивается некогда близкая к поэту и любимая им сестра Анисья. Драму довершает скоротечная чахотка, которая сводит Кольцова в могилу 29 октября (10 ноября) 1842 года, 33-х лет от роду.
«Русские песни» Кольцова
В 1846 году выходит в свет подготовленное Белинским первое посмертное издание стихотворений Кольцова. В сопровождавшей его вступительной статье о жизни и сочинениях поэта Белинский разделяет его стихи на три разряда.
К первому относятся начальные поэтические опыты, ко второму – оригинальные «русские песни», которые и принесли поэту заслуженную славу, к третьему разряду – философская лирика, кольцовские «думы».
Поэтический феномен Кольцова Белинский объясняет особыми условиями жизни воронежского прасола. «Быт, среди которого он воспитался и вырос, был тот же крестьянский быт, хотя несколько и выше его. Кольцов вырос среди степей и мужиков. Он не для фразы, не для красного словца, не воображением, не мечтою, а душою, сердцем, кровью любил русскую природу и всё хорошее и прекрасное, что, как зародыш, как возможность, живёт в натуре русского селянина. Не на словах, а на деле сочувствовал он простому народу в его горестях, радостях и наслаждениях.
Он знал его быт, его нужды, его горе и радость, прозу и поэзию его жизни – знал их не понаслышке, не из книг, не через изучение, а потому что сам, и по своей натуре и по своему положению, был вполне русский человек».
«Русская песня» вынесла Кольцова на непревзойдённую высоту среди современных ему писателей. Жанр «русской песни» возник в конце XVIII века и получил особую популярность в 1820–1830-е годы XIX столетия, в эпоху исключительного подъёма русского национального самосознания после Отечественной войны 1812 года. Этот жанр родился на пересечении книжной поэзии и устного народного творчества. Но у современников Кольцова он не поднимался над уровнем более или менее удачной стилизации. Литературная поэзия в «русских песнях» Дмитриева, Мерзлякова, Глинки снисходила к фольклорным текстам, имитируя их образы, сюжеты. Кольцов шёл к литературной песне от «почвы», от устной народной поэзии, которую чувствовал более органично, непосредственно и глубоко, чем его собратья по перу, не исключая и Дельвига.
Песням Кольцова нельзя подобрать какой-нибудь «прототип» среди известных фольклорных текстов. Кольцов сам творил песни в народном духе, овладев им настолько, что в его поэзии воссоздается мир народной песни, сохраняющий все признаки фольклорного искусства, но уже и поднимающийся в область собственно литературного творчества.
В «русских песнях» Кольцова ощущается общенациональная основа. Добрые молодцы, красные девицы, пахари, косари, лихачи-кудрявичи – характеры общерусского масштаба, как в фольклоре. Но общенародное чувство передается Кольцовым с таким трепетом сиюминутности, с такой полнотою художественности, какая фольклору несвойственна. В «русской песне» ощутима душа творца, живущего с народом одной жизнью. Читая Кольцова, присутствуешь при таинстве приобщения «индивида» к «чувству общенародному». Кольцов проникает в самую суть, самую сердцевину народного духа, и прежде всего в поэзию земледельческого труда.
«Никто, не исключая и самого Пушкина, – писал Глеб Иванович Успенский, писатель-народник 1870-х годов, – не трогал таких поэтических струн народной души, народного миросозерцания, воспитанного исключительно в условиях земледельческого труда, как это мы находим у поэта-прасола. Спрашиваем, что могло бы вдохновить, хотя бы и Пушкина, при виде пашущего пашню мужика, его клячи и сохи? Пушкин, как человек иного круга, мог бы только скорбеть, как это и было, об этом труженике, “влачащемся по браздам”, об ярме, которое он несёт, и т. д. Придёт ли ему в голову, что этот кое-как в отрепья одетый раб, влачащийся по браздам, босиком бредущий за своей клячонкой, чтобы он мог чувствовать в минуту этого тяжкого труда что-либо, кроме сознания его тяжести? А мужик, изображаемый Кольцовым, хотя и влачится по браздам, хоть и босиком плетется за клячей, находит возможным говорить этой кляче такие речи: “Весело (!) на пашне, я сам-друг с тобою, слуга и хозяин. – Весело (!) я лажу борону и соху, телегу готовлю, зёрна насыпаю. Весело гляжу я на гумно (что ж тут может быть весёлого для нас с вами, читатель?), на скирды, молочу и вею. Ну, тащися, сивка!.. Пашенку мы рано с сивкою распашем, зернышку сготовим колыбель святую; его вспоит, вскормит мать-земля сырая. Выйдет в поле травка… Ну, тащися, сивка!.. Выйдет в поле травка, вырастет и колос, станет спеть, рядиться в золотые ткани” и т. д. Сколько тут разлито радости, любви, внимания, и к чему? К гумну, к колосу, к траве, к кляче, с которою человек разговаривает, как с понимающим существом, говоря “мы с сивкою”, “я сам-друг с тобою” и т. д. <…> Припомним ещё поистине великолепное стихотворение того же Кольцова “Урожай”, где и природа и миросозерцание человека, стоящего к ней лицом к лицу, до поразительной прелести неразрывно слиты в одно поэтическое целое».
Кольцов поэтизирует праздничные стороны трудовой жизни крестьянина, которые не только скрашивают и осмысливают тяжёлый его труд, но и придают особую силу, стойкость и выносливость, охраняют его душу от разрушительных воздействий действительности. «Народ, который мы любим, к которому идём за исцелением душевных мук, – до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит власть земли, покуда в самом корне его существования лежит невозможность ослушания её повелений, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют всё его существование», – заключает Успенский.
И действительно: мужик, кровно связанный с своей землей-кормилицей, неслучайно у Кольцова – цельный человек. Труд на земле удовлетворяет все стремления человеческого духа. Способствуя рождению живого организма, его росту и созреванию, проходя вместе с природой весь круг жизненного цикла, кольцовский пахарь радуется прорастанию зерна, ревниво следит за созреванием колоса, является сотворцом, соучастником великого таинства возникновения жизни.
В «Песне пахаря» «мать-сыра земля» воспринимается как живой организм; в согласии с духом народной песни здесь нет аналитической детализации и конкретизации: речь идёт не об узком крестьянском наделе, не о скудной полосоньке, а о «всей земле», о всём «белом свете». То же самое мы видим в «Урожае»:
Красным полымем
Заря вспыхнула;
По лицу земли
Туман стелется.
Родственная ещё не отделившемуся от природы крестьянскому миросозерцанию космичность восприятия «света белого», «земли-матушки» придаёт и самому пахарю вселенские былинные черты богатыря Микулы Селяниновича.
Замечательно и ещё одно обстоятельство. Д. С. Мережковский писал, что «в заботах о насущном хлебе, об урожае, о полных закромах у этого практического человека, настоящего прасола, изучившего будничную жизнь, точка зрения вовсе не утилитарная, экономическая, как у многих интеллигентных писателей, скорбящих о народе, а, напротив, самая возвышенная, идеальная, даже, если хотите, мистическая, что, кстати сказать, отнюдь не мешает практическому здравому смыслу. Когда поэт перечисляет мирные весенние думы сельских людей, третья дума оказывается такой священной, что он не решается говорить о ней. И только благоговейно замечает: «Третью думушку как задумали, Богу Господу помолилися».
Наше общество, по замечанию Мережковского, «слишком часто становилось на исключительно экономическую, мертвящую точку зрения». Но «горек будет хлеб, если мы дадим его только по утилитарному, статистическому расчёту, только в холодном разумном сознании экономической необходимости, без умиления, без сочувственной, братской веры в то, что у народа есть самого святого:
Видит солнышко —
Жатва кончена:
Холодней оно
Пошло к осени;
Но жарка свеча
Поселянина
Пред иконою
Божьей Матери.
Если в душе интеллигентных людей навеки потухнет мерцание этого Божественного света, то уже никакая статистика, никакая политическая экономия, никакие заботы о хлебе насущном не возвратят нас, холодных, безбожных и мёртвых, к живому сердцу народа. Только вернувшись к Богу, мы вернемся к своему народу, к своему великому христианскому народу. Другого пути нет».
Поэтическое восприятие природы и человека у Кольцова настолько целостно и так слито с народным миросозерцанием, что снимается типичная в литературной поэзии условность эпитетов, сравнений, уподоблений. Кольцов не стилизует свои «русские песни» под фольклор, а творит поэзию в духе народной песни, оживляет и воскрешает, творчески развёртывает застывшие в фольклоре традиционные образы, как, например, фразеологизм «кровь с молоком» в его «Косаре» (1836):
На лице моём
Кровь отцовская
В молоке зажгла
Зорю красную.
В «Тоске по воле» образ «сокола» теряет обычную в фольклоре аллегорическую условность, а превращается в целостный образ «человека-птицы»:
А теперь, как крылья быстрые
Судьба злая мне подрезала,
И друзья мои товарищи
Одного меня все кинули…
Гой ты, сила пододонная!
От тебя я службы требую —
Дай мне волю, волю прежнюю!
А душой тебе я кланяюсь…
Герой «русских песен» Кольцова наделён решительной волей, он идёт всегда прямым путём, без колебаний и рефлексии, «подсекая крылья дерзкому сомненью», предпочитая верить «силам души да могучим плечам». Кольцов поэтизирует смелого человека, полагающегося не только на судьбу, но и на свои возможности:
На заботы ж свои
Чуть заря поднимись,
И один во весь день
Что есть мочи трудись…
И так бейся, пока
Случай счастье найдёт
И на славу твою
Жить с тобою начнёт.
(«Товарищу»)
Герой Кольцова знает горе и неудачу, но относится к ним не с унынием. Хотя это горе у него из тех, что «горами качает», оно не повергает кольцовского молодца в смирение, а толкает к поиску разумного и смелого выхода:
Чтоб порой пред бедой
За себя постоять,
Под грозой роковой
Назад шагу не дать.
И чтоб с горем в пиру
Быть с весёлым лицом;
На погибель идти —
Песни петь соловьём!
(«Путь»)
В горе и в несчастье герои песен Кольцова сохраняют силу духа, торжествуя над судьбой. «Он, – писал Белинский, – носил в себе все элементы русского духа, в особенности – страшную силу в страдании и в наслаждении, способность бешено предаваться и печали, и веселию и, вместо того, чтобы падать под бременем самого отчаяния, способность находить в нём какое-то буйное, удалое, размашистое упоение».
Широта и масштабность природных образов в поэзии Кольцова слита с человеческой удалью и богатырством. Бескрайняя степь в «Косаре» является и определением широты человека, пришедшего в эту степь хозяином, пересекающего её «вдоль и поперёк». Природная сила, мощь и размах ощутимы как в самом герое, так и в поэтическом языке, исполненном динамизма и внутренней энергии: «расстилается», «пораскинулась», «понадвинулась».
И любовь у Кольцова – чувство цельное, сильное, свежее, без полутонов, без романтической изощрённости. Она преображает души любящих и мир вокруг так, что зима оборачивается летом, горе – не горем, а ночь – ясным днём:
Да как гляну, против зорюшки,
На её глаза – бровь чёрную,
На её лицо – грудь белую,
Всю монистами покрытую, —
Альни пот с лица посыпится,
Альни в грудь душа застукает,
Месяц в облака закроется,
Звёзды мелкие попрячутся…
(«Деревенская беда»)
Кольцов в истории русской литературы, критики, музыки
Современники видели в поэзии Кольцова что-то пророческое. В. Н. Майков писал: «Он был поэтом более возможного и будущего, чем поэтом действительного и настоящего». А Некрасов назвал песни Кольцова «вещими». Русская демократическая критика (Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский, М. Е. Салтыков-Щедрин) вслед за Белинским ценила в таланте Кольцова наиболее полное выражение таящихся в народе творческих сил, залога будущего свободного развития.
Поэзия Кольцова оказала большое влияние на русскую литературу. Под обаянием его «свежей», «не надломленной» песни находился в 1850-е годы А. А. Фет; демократические, народно-крестьянские и религиозные мотивы Кольцова развивали в своем творчестве Некрасов и поэты его школы; Г. И. Успенский вдохновлялся поэзией Кольцова, работая над очерками «Крестьянин и крестьянский труд» и «Власть земли».
Белинский считал, что «русские звуки поэзии Кольцова должны породить много новых мотивов национальной русской музыки». Так оно и случилось: русскими песнями и романсами Кольцова вдохновлялись А. С. Даргомыжский, и Н. А. Римский-Корсаков, М. П. Мусоргский и М. А. Балакирев.
Вопросы и задания
1. Какое влияние на талант Кольцова оказал Воронежский край и образ жизни поэта в семье?
2. В чём заключается своеобразие фольклорных начал в «русских песнях» Кольцова?
3. Как передаёт Кольцов в своих песнях поэзию земледельческого труда, духовный мир крестьянина-пахаря, особенности его религиозного мировосприятия?
4. Как относится герой Кольцова к трудностям и невзгодам на жизненном пути? Каковы народно-национальные черты его характера? В каком соотношении у Кольцова находится природный мир и человеческий характер?
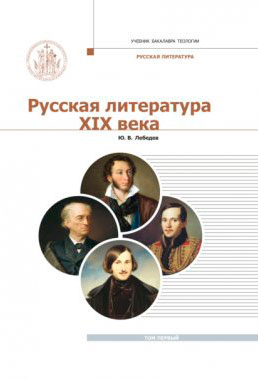
Комментировать