Рассказы

В вагоне железной дороги19
В июне 10-го числа, часу в шестом вечера, в Мценске я сел в вагон на пассажирском поезде, отправлявшемся в Тулу. В том отделении вагона II класса, в которое я вошел, было только два пассажира: студент Орловской духовной семинарии П. и его сестра, девушка лет 16. Молодые люди с почтительной вежливостью встретили меня, и между нами вскоре завязался разговор о современном положении детей духовенства. Разговор этот обещал быть интересным, потому что молодые люди относились к нему очень серьезно; но ему суждено было прерваться почти в самом же начале. Из соседнего отделения вагона к нам вдруг вбежал довольно безобразный молодой человек с длинными растрепанными волосами, в синих очках, очень небрежном костюме и с книгой под мышкой.
– Здесь, кажется, есть свободное место, – сказал он, вбегая в наше отделение вагона, и сейчас же небрежно растянулся на длинном диване у самой двери.
Мы все трое взглянули на своего нового соседа и невольно улыбнулись при виде той его небрежности, в костюме и лежании на диване, какой он видимо хотел показать, что он на всех и на все смотрит свысока.
– А, какая гадость! – вдруг вскричал он, вскакивая со своего дивана и бросая на меня какой-то яростный презрительный взгляд. – И здесь наткнулся на попа. Терпеть не могу этих жрецов суеверия и всяких предрассудков, и вдруг изволь с ними сидеть в одном вагоне.
– Молодому человеку всегда и везде следует быть вежливым, – заметила девушка как бы про себя, – невежливость есть признак глупости и невежества. Если кому не нравится сидеть в одном вагоне со священником, может найти себе место в другом вагоне, никого не оскорбляя своими выходками и никому не досаждая.
– Ах, сударыня, pardon!20 Я, кажется, Вам доставил неприятность. Честь имею кланяться – студент университета Николай Иванович Дубинин.
– Очень приятно слышать, что вы студент университета, но от этого тем становится прискорбнее видеть в вас неблаговоспитанного молодого человека, – сказала девушка довольно смело и, отвернувшись от Дубинина, стала смотреть в окно.
– Вот тебе и раз! – сказал Дубинин. – За попа да крылья мне ощипали. И все это от того, что эти дети природы не вкусили от плода истинной науки и в попах видят каких-то посредников между землей и небом.
– А разве истинная наука ведет к противному? – возразил студент П.
– Еще бы! Но вы тоже, как я вижу, дитя природы. Где вы воспитывались?
– В Орловской духовной семинарии в прошлом году окончил курс, а теперь хочу попробовать счастья поступить в духовную академию.
– Фи! Одно другого хуже, одно другого гаже. И что вам за охота обрекать себя на всегдашнее невежество и поклонение старинным предрассудкам, брататься с попами и монахами и губить себя? Идите в университет.
– А разве университет лучше академии?
– Еще бы! Все равно, что небо от земли, то и университет от загнившей академии, и тем более от вашей тухлой семинарии. Ну, посудите сами, чему вас учили в семинарии и чему будут учить в академии? Ведь пора бы вам, господа семинаристы, понять, что вас в семинариях и академиях не учат, а развращают, не просвещают, а намеренно держат в положительном невежестве. Семинария ваша есть школа классического невежества, академия тоже.
– Неправда. Вы, верно, не знакомы с этими заведениями.
– Нет, я прав. Я это сейчас вам докажу. Чему вас здесь учат? Здесь забивают ваши головы всякой чушью, проповедуют вам какое-то небо, когда земля наша и без того в небе; толкуют о бессмертии, когда каждый издохнет, как пес, и тем все кончается; учат верить в какое-то божество, когда божество это есть, по Фейербаху, ни более, ни менее, как олицетворенная сущность самого же человека; вбивают вам в голову учение о какой-то душе, которой никогда не бывало. Вы всему этому верите и не думаете о том, что все это иезуитская штука, чистейший русский кутеизм: наука все это давным-давно уже отвергла и над всем этим смеется как над классическим невежеством. Ведь вы потому только и верите во все эти бредни кутеизма, что вам с малолетства бабушки и тетушки на печи дома надули в уши весь этот вздор, в семинарии попы и монахи стояли над вами с палками в руках и заставляли вас верить в эти бредни как в какие-то догматы. Но познакомьтесь вы с успехами науки, почитайте Фейербаха, Бюхнера, Молешотта, Фохта, Дарвина, Каспари, Тэйло-ра и многих других светил науки, тогда в вашей голове все перевернется вверх дном. Это истинно так! До поступления своего в университет я сам был такой же невежда в науке, как и вы; а теперь проклинаю всех этих иезуитов – попов и законоучителей, вбивавших мне в голову все старинные предрассудки и бредни своего кутеизма.
– А что это значит кутеизм? – спросила девушка.
– Ах, сударыня, до чего вы наивны! – вскричал Дубинин. – Я не думал, чтобы вы даже этого не понимали. Кутеизм происходит от слова кутья, а вам, я полагаю, известно, что кутьею прокислою дразнят попов, семинаристов и всех вообще духовных. Отсюда кутеизм – все то, чему учат попы.
– Недалеко же вы ушли со своею наукою, если вы все то, чему чрез священников учит нас богооткровенная религия, называете бреднями измышленного вами кутеизма. После этого остается только пожалеть не только о вас с вашей наукой, но и о многих ваших товарищах, а всего более о том обществе, в среде которого вы впоследствии будете действовать как человек, получивший университетское образование и претендующий на звание ученого.
– Сударыня! Вы положительно меня удивляете. Я вижу, что вы довольно не глупы. Неужели вы не можете понять того, что наука непогрешима?
– Вероятно, так же непогрешима, как нынешний папа, дошедший до такого безумия, чтобы благословлять турецких софт на избиение христиан?
– Папы вашего я знать не хочу, потому что он тоже служитель кутеизма, как и наши попы. А науку я знаю. Она, например, говорит, что никакой души у человека нет, и это верно, как дважды два четыре.
– Вот как! У человека нет души? В уме ли вы со своею наукою? Человек тем и отличается от животных, что у него есть душа.
– Ни-ни! Это только ханжи, попы, иезуиты придумали душу. Но эти люди чистейшие невежды: они не умеют отличить ноги от руки, мозга от крови. Воображаемая ими душа есть ни более, ни менее, как функция головного мозга: физиология это давно уже доказала так же несомненно, как 2x2 = 4.
– Однако же, – возразил П., – понятие о душе существовало еще прежде, чем появились на свет ваши иезуиты и кутеизм: еще Моисей писал о душе...
– Да! Но иезуиты заимствовали свои сказки у древних египетских жрецов, и даже Моисей все свои басни заимствовал у жрецов, у которых он учился египетской магии. А жрецам непременно нужно было придумать учение о душе для того, чтобы стращать всех ужасами ада, держать в повиновении себе и жить на счет невежественного народа. Им нужно было чем-нибудь застращать народ, ну и придумали навязать человеку какую-то душу невещественную и будто бы бессмертную.
– Странно! Как же можно было навязать ее, если бы люди не были от начала мира уверены в бытии у них души?
– А это случилось очень просто. Да неужели вы не читали «Первобытной культуры» Тэйлора, где этот вопрос решен самым положительным образом? О, несчастные кутейники! Как вас попы и монахи уродуют? Вы даже и этой теории не знаете? А Дарвина, а Каспари вы читали и хорошо усвоили?
– Нет, я их не читал.
– Вот от этого-то вы и выходите такими фанатиками, как и все попы и иезуиты. Когда не читали Тэйлора, так слушайте же, я вам расскажу, как он объясняет происхождение учения о душе.
– Слушаю и, если сочту нужным, буду отвечать.
– Страшась своих предводителей, учит Тэйлор, и притом предводителей не простых, а иногда слишком деспотичных, иногда же очень благотворно управлявших ими и любя своих родичей, люди мало-помалу научились почитать и даже боготворить их при жизни. Когда же эти предводители или родичи умирали, люди жалели о потере их, думали о них и чтили их память. Постоянно думая о них, люди естественно видели их во сне и наяву в галлюцинациях. Так как тела этих умерших не могли им являться ни во сне, ни наяву в галлюцинациях, то люди начали думать, что они видят тени своих умерших предводителей или родичей, а как тени можно видеть только от действительных предметов при свете солнца или огня, а тела умерших лежали в земле или на деревьях или же были сожжены и не могли давать такой тени, то люди и стали думать, что у них в естестве есть что-то противоположное мертвому телу, и назвали эти являющиеся им тени душою. Вот как появилось понятие о душе. Жрецы этим-то и воспользовались для своих целей и навязали всем людям понятие о душе как необходимой части их существа. И видите, как все это просто объяснено у Тэйлора! Это не то, что бредни вашего кутеизма. А вы даже и этого не знаете? Как вы жалки!
– Прекрасно, – прервал Дубинина П. – Вы хотите мне доказать, что люди пришли к понятию о душе чрез противоположение ее телу? Но я полагаю, что к этому могло привести людей не появление каких-то теней, а наблюдение над явлениями духовной жизни, проявление в человеке таких стремлений, которые нельзя объяснить действиями тела как материи, если мы даже допустим, что человеку Самим же Творцом его не было сообщено понятие о душе как о главной составной части его человеческого естества, т. е. если мы допустим, что люди первоначально были лишь стадом диких зверей, которые потом стали постепенно развиваться. Но мы знаем, что человек был создан совершеннейшим как венец всех творений.
– Ха, ха, ха! – разразился Дубинин самым неистовым смехом. – Какое же вы дитя природы! Вы даже самых простых истин науки не знаете. Ведь оно так и было, что люди первоначально были стадом диких зверей: Каспари в своей теории происхождения первобытной религии доказал это самым положительным образом, так что теория Дарвина21 о происхождении человека от обезьяны теперь есть уже несомненная истина.
– Не вам смеяться нужно над нами, как над мнимыми невеждами, а нам над вами и вашими Дарвинами и Каспари как над самыми несчастными людьми нужно плакать, – сказала девушка. – Вы отвергаете присутствие в себе образа Божия и считаете себя потомком обезьяны.
– Да это, сударыня, так и есть. Наука самым положительным образом дознала и доказала, что человек не сотворен, как утверждают ваши попы, а произошел от обезьяны. А вы ничего этого не знаете? Вы ничего не читаете, вы только слушаете своих попов, которые городят вам всякий вздор ради своих корыстных целей? Но они сущие невежды.
Дубинин при этом взглянул на меня так злобно, что казалось, будто он хотел на меня броситься, чтобы растерзать меня.
– Ведь вон, сударыня, сидит здесь поп, – сказал Дубинин девушке, – разве он больше вашего смыслит? Даю вам свою голову на отсечение сейчас же в том, что он не только не читал Тэйлора и Каспари, Дарвина, Фейербаха и других светил науки, но даже и о том не слыхивал, что человек не сотворен, а произошел от обезьяны.
Вызов был сделан так дерзко, самоуверенно и прямо, что при всем моем желании не вступать в спор с людьми, подобными Дубинину, в таком месте, как вагон железной дороги, я не мог долее молчать и решился вступиться не за свою только честь, но за честь всех своих собратий, которых очень часто господа Дубинины клеймят титлами дураков и невежд.
– Господин Дубинин! – сказал я. – Напрасно вы так дерзко и самоуверенно отдаете свою голову на отсечение. Я, может быть, побольше вашего читал.
– Ты? – вскричал Дубинин. – Да ты, наверное, и азбуки-то научной не знаешь.
– Посмотрим, кто больше знает. Вы говорите, что человек произошел обезьяны, и это есть последнее слово науки, а оказывается, что вы не знаете того, до чего дошла теперь ваша наука в своих выводах.
– До чего же она дошла? Человек произошел от обезьяны – это последний вывод Дарвина в его теории происхождения видов, это последнее слово науки.
– Неправда. У Дарвина есть еще другая книга о «происхождении человека», и последний вывод его исследований тот, что «человек произошел от четвероногого, покрытого волосами, снабженного хвостом и остроконечными ушами, который (зверь), по всем вероятностям, жил на деревьях и был обитателем старого света»22. Эту книгу перевел на русский язык ваш же идол науки, профессор Сеченов, который вместе с другими выдумал рефлексы и вашу фикцию головного мозга. И я спрошу вас в свою очередь: неужели вы, жрец вашей науки, не читали этой книги Дарвина и не знаете последнего слова вашей науки.
– Да когда же эта книга вышла в свет? Разве только на этих днях?
– Вот видите, как вы попали впросак. Я-то читал и вашего Фейербаха, Дарвина, Каспари и Тэйлора и свое христианское учение знаю, а вы и своего-то не знаете, а о христианском учении только, должно быть, слыхали.
– Быть не может этого! Ну, где ты мог читать теории Тэйлора и Каспари?
– Они были изложены в «Русском вестнике». А вы этого и не знаете, и воображаете, что только вы один знаете свои ученые бредни. Нет, ныне такое время, когда нам именно нужно читать теории ваших ученых, у которых, как говорится, зашел ум за разум; читать для того, чтобы при случае вас же и вам подобных обуздывать.
– Так человек произошел от четвероногого зверя? – сказал Дубинин задумчиво, и значительно сбавив спеси. – И это последнее слово науки?
– Да. А вы этого и не знали?
– Нет, pardon! Я это слышал, но теория эта еще не всеми принята. Тут именно становишься в тупик, чьим потомком себя считать: потомком обезьяны? Это почтеннее, но зато это учение старо, это не последнее слово науки. Потомком четвероногого? Это довольно унизительно, зато это последнее слово науки. Поэтому между последователями Дарвина необходимо должно произойти временное разделение: одни будут стоять за происхождение от зверя, а другие за происхождение от обезьяны.
– И между теми и другими, вероятно, произойдет борьба за существование? – сказал я нарочно, видя, как Дубинин серьезно задумался.
– Непременно. Это общий закон развития; но, прежде всего, нужно самой новой теории получить право научной истины.
– И эта борьба, конечно, должна будет привести к тому, что сторонники одной теории истребят сторонников другой?
– Непременно. Это общий закон: но, прежде всего, мы все соединимся воедино для того, чтобы с вами, жрецами всякой старинной лжи и заблуждений, вступить в борьбу за существование, и истребим вас.
– Хорошо. А потом, вероятно, вы произведете какой-нибудь новый род существ высших, с крыльями и плавниками, чтобы они были обладателями не земли только, но и воздуха и воды?
– Непременно. Таков закон развития. Теперь уже стали делать воздухоплавательные машины; скоро начнут делать снаряды для летания по воздуху. Когда человек привыкнет к жизни в верхних слоях воздуха, тогда непременно явится новый род людей, которые будут иметь способность летать по воздуху. Таков общий закон. Все в развитии человека шло порядком постепенности, все так и пойдет. Человек совершенным никогда не был. Совершенство это есть выдумка жрецов и иезуитов, бредни вашего кутеизма. Наукой дознано положительно, ею доказано несомненно, что человек первоначально был в диком состоянии и не имел понятия ни о Боге, ни о своей душе.
– Лучше сказать, что некоторая часть человечества пришла в дикое состояние, долго находилась в таком состоянии и доселе не вся еще вышла из него. Это верно. Это так и быть должно. Человек был создан совершенным, но вскоре пал и утратил совершенство своей нравственно-разумной природы, однако же не настолько, чтобы о нем можно было сказать, что он одичал. Впоследствии же, когда некоторая часть человечества совершенно удалилась от Бога, впала в нечестие и стала жить только для удовлетворения своим чувственным страстям, естественно должны были появиться такие племена, которые утратили понятие и о самой своей душе, и о ее бессмертии, погрузились во мрак невежества и с каждым новым поколением все более и более стали уподобляться скотам бессмысленным: они постепенно от состояния совершенства умственного и нравственного переходили к состоянию дикости. Но и о них нельзя сказать, чтобы они были стадом зверей, а тем более нельзя сказать того, чтобы они, начав отличать себя от стада действительных зверей, стали мало-помалу додумываться до понятий о Боге, человеке и своей душе и до взаимных отношений между Богом и человеком, как думает ваш Каспари. Они не додумывались до этих понятий сами собою, а, напротив, утрачивали эти понятия и извращали их: они не доходили до понятия о душе посредством теней умерших, как учит ваш Тэйлор, а, напротив, постепенно затемняли, извращали и утрачивали истинное понятие о своей душе: самые древнейшие законодательства некоторых народов, например, китайцев, весьма ясно подтверждают ту мысль, что первоначально эти народы более правильное имели понятие о Боге, человеке и природе, а следовательно и о своей душе, чем впоследствии; стало быть, они шли в своей исторической жизни не от состояния звериной дикости к совершенству, а, напротив, от состояния совершенства к состоянию дикости. Это и естественно. Примеры такого одичания мы видим и теперь: все люди безнравственные с каждым годом все более и более падают, тупеют, теряют понятие о Боге и своей душе и, наконец, доходят до состояния скотоподобия, по своей жизни уподобляются неразумным животным. Вот для этих-то людей оскотинившихся, сделавшихся звероподобными и утративших понятие о Боге и своей душе возможен при каких-нибудь чрезвычайных обстоятельствах поворот к постепенному усовершенствованию и переходу из состояния одичалости в состояние возможного для них совершенства, даже путем естественным через размышление, сравнение себя с другими существами и рассматривание видимой природы. Вот они-то и не могут не прийти к тому заключению, что в естестве человеческом есть кроме тела другая составная часть – душа; тому же, кто до такого стояния дикости вовсе и не доходил, нет и нужды постепенно додумываться до понятия о своей душе: понятие о ней ему всегда присуще и без того. Он знает, что у него в естестве есть еще душа – не воображаемая им, а действительная часть его существа, дух разумно-нравственный и свободный.
– В том-то и штука вся, что этой воображаемой ханжами составной части нашего существа на самом деле вовсе нет. То, что Вы называете душою, есть только функция головного мозга. Наука это дознала и доказала; это ее последнее слово.
– А что такое функция головного мозга? – спросила девушка.
– Функция? – сказал Дубинин нерешительно. – Функция... Функция... Функция... Ну, как бы это вам сказать? Функция есть функция. Это и так понятно.
– Прекрасно! – сказал я. – Функция есть функция, человек есть человек, собака есть собака, Дубинин есть Дубинин: вот так хорошо! Вы не умеете составить определения своей функции, а еще суетесь учить других и клеймите других невеждами, не умеющими отличить руки от ноги, мозга от крови. Да учили ли вы логику? Знакомы ли вы с психологией для того, чтобы вам говорить о душе как предмете научных исследований?
– Гм! – сказал Дубинин, растерявшись и пожимая плечами. – Функция... Что такое функция? Вот задача-то!
Дубинин на минуту задумался, видимо, стараясь припомнить, что такое функция головного мозга. И нужно было видеть, как он неистово потирал свой лоб, кусал свои губы и краснел от стыда за свое незнание, чтобы понять, как ему трудно было припомнить объяснение слова «функция».
– Так! – вскричал он наконец. – Я забыл, а ларчик-то просто открывается. Функция есть отправление головного мозга. Это так, это верно; это дознано опытами физиологии; это доказано наукою.
– Прекрасно! – сказал я. – Стало быть, все высшие стремления человеческого духа, по-вашему, суть отправления или действия головного мозга?
– Да. Это доказано, это наукою дознано... Все основано на научных опытах.
– А знает ли ваша наука, из каких составных частей состоит мозг самого развитого человека, самого даровитого, самого нравственного, и мозг человека полудикого? Знает ли она, каких частей не достает в мозгу дикаря для того, чтобы отправления его головного мозга были таковы же, как и у человека самого развитого?
– Еще бы нет! Она это дознала самым положительным образом.
– В таком случае отчего же ваша наука для доказательства истинности ее положения и для большего торжества своего не сделает наглядного опыта превращения дикаря в высокообразованного человека? Отчего она доселе не дошла еще до того, чтобы мозг дикаря привести в одинаковое состояние с мозгом развитого человека? Если у дикаря в мозгу не достает нескольких доз какого-нибудь калия, натрия или там еще чего.
– Не калия, натрия, а фосфора.
– Хорошо. Если не достает у него нескольких доз фосфора в мозгу, пусть бы она восполнила этот недостаток и таким образом из дикаря при помощи своих специй сделала бы развитого человека. Или вот еще бы лучше было, если бы ваша наука занялась обезьяной. Ведь обезьяна есть вам прародитель, она самое близкое к человеку животное по строению своего тела и по своей смышлености. Чего бы стоило вашим ученым напичкать обезьяну теми составными частями материи, каких недостает в ее мозгу сравнительно с мозгом человека, и сообщить ей способность говорить, разумно мыслить и нравственно свободно действовать? Вот если бы она это сделала, преобразила обезьяну в человека, тогда она доказала бы, что у человека души нет, а есть только мозг с его функциями и рефлексами, вот тогда бы можно было сказать, что наукой дознано, что душа есть функция головного мозга или что наука сказала свое последнее слово о душе.
– Но со временем это непременно будет: наука до этого еще дойдет.
– Дойдет? Стало быть, она теперь еще не дошла до конца своих исследований? Стало быть, она еще и не сказала своего последнего слова и может еще повернуть в противоположную сторону. А вы уже выдаете свою функцию головного мозга за последнее слово науки!
– Но наука не может повернуть в противоположную сторону.
– Нет, может. И она непременно повернет, когда в своем стремлении объяснить все проявления души по-своему дойдет до пес plus ultra23, делая в своих выводах страшные скачки. В конце концов, в своих исследованиях она должна будет и в своем учении о душе дойти до совершенного согласия с Библией, как она дошла уже до согласия с ней в учении о потопе, единстве человеческого рода, порядке мироздания и многом другом, над чем прежде подобные вам жрецы науки смеялись, как над мнимыми баснями и нелепостями.
– Да все это наукою отвергается и теперь... Все это басни, сказки.
– Отлично! Значит, вы только знаете свою функцию головного мозга; а вовсе ничего не знаете относительно того, до чего дошла геология в своих выводах или к чему привели исследования палеонтологов?
– Да когда же все это было? Разве так недавно, что это не всем еще известно?
– Это было не вчера и не сегодня, а уже несколько лет тому назад. А вы этого не знаете и все кричите, что наука все это признает за басни, сказки и выдумки иезуитов, жрецов и попов или за бредни русского кутеизма.
– Может быть, и так, но до меня это не касается. Я утверждаю одно, что в своем учении о душе наука назад не может повернуть. Она положительно дознала, она доказала, что душа есть функция головного мозга, мысль есть движение или изменение мозга, самосознание есть свойство мозга, словом, в своем последнем выводе пришла к тому заключению, что души у человека вовсе нет, а есть у него головной мозг, который отправляет все то, что вы приписываете душе.
– Значит, по вашим словам, наука окончательно отвергла, или лучше сказать, люди мнимо ученые прокричали на весь свет от имени науки, что у человека нет души как духа бессмертного, разумно-нравственного и свободного. Что ж? Для нас это вовсе не новость. Мы знаем, что еще в древнем мире были люди, которые отвергали бытие души человеческой. А вы приписываете это последнему слову вашей науки. Значит, вы не знаете ни истории философии, ни истории всемирной.
– А разве в истории философии и истории всемирной об этом говорится?
– Да, а вы и не читали ни той, ни другой...
– Что за гадость! Опять попался. Но тогда, вероятно, это учение существовало в другом виде: те отвергали бытие души бессознательно, а мы это утверждаем сознательно как научную истину.
– Нет. И тогда были философы, которые сознательно отвергали бытие души. Но ведь те были язычники, люди, погрязшие в чувственности, думавшие только о том, чтобы софизмами своей философии заглушить в себе голос разума и совести, и низводившие себя в ряд животных. Они, конечно, очень жалки для здравой мысли христианина. Но еще жальче вы и ваши ученые, потому что вы живете в XIX веке не до Рождества Христова, а после Рождества Христова; вы ведь родились и воспитались при свете христианства, но добровольно отвергли этот небесный свет, погрузились во тьму языческого невежества и хотите из человека сделаться скотом.
– Милостивый государь! Говоря так, вы оскорбляете меня.
– Оскорбляю?! Но чувствовать оскорбление может лишь разумно-свободное существо, имеющее душу, а вы признаете себя выродком из обезьяны и отвергаете бытие души самосознательной. Скажите же, как вы поняли, что мои слова оскорбительны для вас? Обезьяна ими не оскорбилась бы. Этим пониманием оскорбления вы уже не говорите ли сами против себя и своей науки? Не доказываете ли того, что в вас есть что-то повыше материи, поважнее вашего тела? Тело чувствует боль, когда его поражают, бьют, действуют на него физическою силою, а я этой силы не употреблял в действие, не бил вас и не причинял вам боли в теле, а лишь сказал вам правду, которою вы не имеете права оскорбляться, потому что вы сами же признаете себя выродком обезьяны и отвергаете существование в вас души, без чего вы сами себя выводите из ряда людей и поставляете себя в ряд зверей.
– Милостивый государь! Еще раз говорю вам, что мою личность...
– Личность?! Откуда же в вас сознание этой личности, когда все существо ваше – плоть и материя? Сознание личности свойственно только существу разумно мыслящему и свободному, одаренному душою и способному отличать себя даже от своего мозга.
– Но во мне есть сознание моего Я.
– Откуда же оно у вас? Как вы его выведете из функции головного мозга?
– Сущность самосознания, или моего я, обусловливается устройством мозга, который дает материи то направление, в коем находится сущность самосознания.
– Признаюсь, вы сказали нечто такое, что и понять мудрено. Но я еще спрошу вас: откуда у вас свобода действий, по которой вы часто делаете не то, к чему влекут вас ваши чувства и движения вашего мозга? Откуда в вас совесть, одно одобряющая, а другое порицающая? Откуда в вас закон нравственный? Как вы все это объясните движениями вашего головного мозга и отнесете к вашей функции мозга?
– Наука до этого еще не дошла, но непременно дойдет.
– Опять выходит, что она и последнего своего слова о душе еще не сказала. А я вам скажу, что она со своею функцией и не дойдет до этого. Если бы в нас не было начала высшего, духовного, самостоятельного, совершенно отличного от материи, и мы управлялись только движениями мозга, в нас не было бы ни самосознания, ни свободы действий, ни совести, ни закона нравственного, как ничего этого нет у обезьяны, животного самого близкого к человеку и вашего прародителя.
– Это все зависит от количества мозга и порядка движения фосфора.
– Хорошо, приведите же вы в движение этот фосфор у обезьяны, а если у нее немного не достает его, сообщите ей недостающее и заставьте ее сознавать свое я, быть свободной в своих действиях, руководиться совестью и подчиняться предписаниям закона нравственного, – тогда и утверждайте, что все это зависит от количества мозга и движения фосфора. А теперь ваши слова один пустой набор их.
– Но я же сказал, что наука до этого дойдет.
– Но ведь она, по-вашему, сказала последнее слово о душе? Подайте же нам доказательство верности ее выводов, подтвердите их опытами, без которых ваша наука ничего не принимает за истину.
– Опыты уже были сделаны: мозг человеческий взвешен, исследован, сравнен с мозгом животных, и из этого сравнения выведено понятие о функции и вашей душе.
– Да, вы резали лягушек, кошек, собак и трупы людей, разбирали по атомам мозг умерших людей и отсюда-то выводили свое последнее слово о душе. Но в том-то и беда, что вы взвешивали, рассматривали, исследовали, сравнивали материю, из которой ничего не выходит самосознательного, разумного и свободного; вы рассматривали мозг трупа, и не мудрено, что в трупе не нашли никакой души, потому что ее в нем действительно нет. Поэтому вы и толковали бы о своих трупах, а не о душе, которая вовсе не может подлежать ни рассматриванию ее в микроскоп, ни действию ваших анатомических ножей: она не материальна.
– Ты, я вижу, большой фанатик, педант, обскурант, кутеист... Сам же всем навязываешь свое учение о душе на веру, а от науки требуешь опытов.
– Да. И это потому, что ваши Молешотты, Фохты, Дарвины, Сеченовы и прочая братия сами же о себе трубят, что они всё основывают на опытах анатомии и физиологии, а между тем берутся решать вопрос о существе души, которая вовсе не может подлежать ни рассматриванию ее в микроскоп, подобно атому головного мозга, ни действию анатомического ножа или химического реагента.
– Тьфу! – вскричал Дубинин, вскакивая со своего места. – С тобою, фанатик, говорить нельзя: ты опять взялся за опыты микроскопа и анатомического ножа.
– А вы постоянно угощаете нас функцией головного мозга, да «это наукою дознано, доказано... Наука сказала об этом свое последнее слово». Докажите же, что вы правы, – сказала девушка довольно смело.
– Тьфу! Тьфу! Все вы буквоеды! – вскричал Дубинин, и как мы в эту пору приблизились к вокзалу на станции «Скуратово», бросил свою книгу на диван и чуть не опрометью бросился из вагона и пошел в вокзал.
– Братец! – сказала девушка П. – Неужели Дубинин в самом деле студент университета? Мне кажется, это беглец из сумасшедшего дома. Неужели и ты в академии наберешься таких же глупостей, как и он в университете? Ах, в таком случае, пожалуйста, не ходи в академию. Ни я, ни все наши родные не захотим тебя видеть выводком из обезьяны.
– Не бойся, – ответил П. – Я им никогда не буду.
Прошло с четверть часа, и Дубинин вернулся в вагон со свирепым видом, красно-багровым лицом, взъерошенными волосами и куском колбасы в руках. По всему видно было, что он был не в духе. Дав время ему успокоиться, я снова обратился к нему вопросом о доказательствах, что душа есть функция мозга.

– Господин Дубинин! – сказал я. – вы говорите, что душа есть функция головного мозга.
– Да, наука это дознала опытом, доказала это несомненно.
– Я это уже слышал. Теперь позвольте вас спросить вот о чем: от чего и как именно происходит у нас мысль как проявление разумности нашей души, если самая душа, по мнению ваших ученых, есть только функция головного мозга?
– Молешотт говорит, что «мысль происходит от движения, перестановки и выделения мозговой материи; она обусловливается переменою материи в тканях; но, пройдя сквозь мозг и кровь, она сама сожигается, превращаясь в простые соединения, из которых возобновляет свою жизнь распускающееся растение».
– У, какое здесь хитросплетение! – заметил П.
– Да, это не вашим головам понимать, – ответил Дубинин. – Это поймет один только физиолог.
– Оставим эти препирательства, – сказал я. – Ваши ученые всё основывают на опытах. Позвольте же спросить: ваш Молешотт видел своими очами, как во время нашего мышления мозговая материя в нашей голове двигается, переставляется и выделяется вследствие перемены материи в тканях тела и потом обращается в мысль как бы нечто материальное? Он видел и то, как сама эта мысль проходит сквозь мозг и кровь, сожигается и превращается в какие-то простые соединения, из которых возобновляет свою жизнь распускающееся растение? Т. е. он видел, как ваш фосфор головного мозга превращается в бесплотную мысль, а потом эта бесплотная, невещественная мысль проходит через мозг и кровь и вдруг превращается в горючий материал фосфор же, сгорает и превращается в какой-нибудь йодий, калий, натрий или кислород, водород, азот, из которых возобновляют свою жизнь распускающиеся растения?
– Ну, опять пошло в ход «видел»!
– Да. И это опять потому, что вы ведь толкуете о душе как о материи и хотите опираться на опыты. Скажите же, кто делал эти опыты и как?
– Но опытов произведено было бесчисленное множество; ими-то положительно доказано, что тело наше, а следовательно и мозг, постоянно изменяется: по наблюдению физиологов, ни одна частица в нашем живом организме не остается на месте долгое время, все они последовательно входят в состав тела и выходят из него, так что через несколько лет все они заменяются новыми.
– Прекрасно! Ваши ученые делали эти опыты над телом, над материей. Как же вы с ними переносите эти опыты на душу-то, не состоящую из материи? Если бы, по-вашему, душа была лишь функцией головного мозга, то и она должна бы была так же изменяться, как и тело. А тогда как же не изменилось бы в нас и наше самосознание? Как тогда осталось бы в нас наше сознание самих себя тем же Я, каким мы были за несколько лет прежде? Как тогда остался бы в нас неизменяемым закон нравственный? Как наши разум и совесть остались бы теми же судиями наших поступков, какими и прежде были? Как возможна бы была самая память, не механическая только, но разумная, сознательная и долговременная, если бы она была лишь простым, случайным действием постоянно изменяющейся и как бы текучей горючей материи? С изменением, а тем более с совершенным уничтожением материи естественно должны бы были исчезнуть и все напечатленные на ней образы; все прежнее невозвратно тогда исчезало бы вместе с исчезновением самой материи.
– Тут ничего нет мудреного. Исчезающие частицы нашего мозга все полученные ими впечатления передают тем новым частицам, которые заменяют их.
– Как же это возможно? Вот у нас сделан на пальце случайный надрез; больное место заживает, старые частицы тела здесь заменяются новыми: могут ли отживающие частицы передать сделанный на них надрез новым частицам? Или вот еще: с дерева спадает лист и заменяется новым, или у птицы выпадает перо и заменяется новым; может ли этот спадающий лист или выпавшее перо сообщить сделанный на них случайный надрез другому листу или перу?
– Но впечатления эти передаются точно так же, как от одного зеркала передаются другому видимые в них образы.
– Пожалуй бы и так, с первого взгляда на это, но: во-первых, в зеркале образы предметов отпечатлеваются в ту пору, как сами предметы находятся перед зеркалом; отымите от зеркала изображаемый в нем предмет, и образ его исчезнет; во-вторых, в зеркале предметы и отпечатлеваются и исчезают сразу: разбейте зеркало, и виденный в нем образ предмета сейчас же исчезнет; в-третьих, от зеркала к зеркалу передача образов может быть тогда только, когда перед одним зеркалом будет находиться самый предмет таким образом, что в другом может быть видим не он сам, а отражение его образа от первого зеркала: отымите этот предмет, тогда ни образа его в первом зеркале, ни отражения во втором не будет; или разбейте первое зеркало, и во втором пропадет отражение образа этого предмета.
– А на негативе в фотографии и в глазу убитого отражаются же образы?
– Да. Но как? Не так же ли, как в зеркале? Ведь и тут возможно отпечатление одного предмета в известном пространстве и в известный момент: поместите сюда еще другой, третий образ, и ни одного не будет видно. Итак, если предположить, что в мозгу нашем предметы нашего мышления отпечатлеваются, как в зеркале, или в глазу, или на негативе, – то как тогда было бы возможно долговременное и очень многостороннее знание и памятование многих предметов наших познаний? Тогда все должно было бы или слишком скоро вылетать из нашей памяти и исчезать навсегда, или же ваше зеркальное отпечатление мыслей, понятий и многоразличных предметов знания на нашем мозге, и притом каждой мысли в отдельности, совсем не вместилось бы в нашем мозгу: ведь есть люди, знающие десятки томов истории, словесности и многих других наук.
– Как именно эти впечатления сохраняются и передаются, наука пока еще не решила этого окончательно; но со временем решит.
– Опять не решила! Да что же она у вас решила-то, чтобы доказать, что душа есть функция головного мозга? Если она даже этого не решила, то тем более она не может решить того, как и отчего происходят наши мысли. Если бы душа наша была только функцией головного мозга, тогда ни обилие мыслей, ни многосторонняя память вовсе не были бы возможны; между тем, как мы знаем людей, которые в короткое время пишут объемистые тома сочинений или заучивают их: в первом случае весь ваш головной мозг должен бы был сгореть, истощиться, и человек вдруг отупел бы и лишился способности мыслить, а во втором он был бы так обременен отпечатками впечатлений, что не в состоянии бы был запомнить еще что-нибудь. А мы этого никогда не видим, напротив же усматриваем, что чем больше человек упражняется в мышлении и изощрении своей памяти, тем большее обилие мыслей является у него и тем скорее он все запоминает. Притом, обратите свое внимание на самое появление у нас мыслей. Откуда у нас иногда появляется такое обилие их, что не успеваем записывать их? Откуда у нас являются мысли о предметах самых возвышенных, и притом внезапно, когда мы прежде о них и не думали? Неужели их производит само собой движение вашего «мозга, все отправляющего», эта бездушная, не самопроизвольно движущаяся материя? Неужели все это есть только проявление функции головного мозга? Откуда у нас понятия о таких предметах, образы которых не могут входить в наш мозг чрез чувства внешние и которые, как бесформенные, не могут отпечатлеваться на нашем мозге, т. е. понятия о предметах духовных, отвлеченных, не подлежащих нашим чувствам?

Откуда в нас некоторое предчувствие будущего? Как в нас возможны мысли о собственном же нашем мышлении и оценка своих же собственных мыслей, намерений, чувствований, желаний и действий? Неужели все это творит, воплощает, производит мертвая сама в себе, бездумная материя – головной мозг? От материи может ли произойти что-нибудь не материальное? Нет! Подобное производит только подобное: материя производит только материю силами природы, а дух производит духовное, не материальное, силою данных ему способностей и законов духовных. Процессы питания тела, возрастания, пищеварения и других органических отправлений тела – вот это дело материи, приводимой в движение, и соединение ее частиц силами физической природы, вот это подлежит опытам вашей науки – физиологии. Но высшие проявления человеческого духа: разумность, свобода, мышление, самосознание, самоопределение, стремление к богоподобной святости, – отнюдь не подлежат опытам физиологии или анатомии, как бы нечто материальное. Они принадлежат к области разумного духа, самостоятельного, самодеятельного, или личной субстанции, которую мы называем душою.
– Итак, что же такое, по-вашему, душа?
– Душа есть дух богоподобный, или существо, совершенно отличное от тела, невещественное, свободное, разумное и бессмертное. Такое понятие о душе не выработано людьми при помощи галлюцинаций или видения теней, как думает ваш Тэйлор, а было сообщено человеку Самим же Творцом его и прошло чрез все времена и чрез все периоды истории человечества.
– Это каким же образом?
– Очень просто. Первый человек, Адам, был создан существом богоподобным, совершенным, но в то же время и свободным. Совершенство своего разума он выразил в названии животных свойственными им именами, а свободу своей воли в нарушении данной ему Богом заповеди. Грех растлил его существо и затмил в нем его совершеннейшие понятия о Боге, мире и человеке, но не уничтожил их совсем: Адам и после своего падения и изгнания из рая имел правильное понятие о Боге, как Творце мира, и своей душе, потому что Бог не оставил его Своею милостью и направлял его на путь истины. Без сомнения, Адам сообщил свое понятие о душе всем детям своим. Но вот в этой же первой семье человеческого рода совершается ужасное преступление: брат убивает брата по зависти и досаде. Впавший в отчаяние, мучимый своею совестью и преследуемый мыслью об убитом брате Каин, думая укрыться от лица Божия и гнева своих родителей, берет свою жену и бежит с нею далеко от местожительства родителей. От него происходит нечестивое племя, которое ни Бога не знает, ни о душе своей не думает и живет, подобно бессловесным, для своего только удовольствия. Зато под руководством самого же Адама, а потом Сифа и других патриархов распространяется другое на земле племя, которое и в Бога верует, и о душе своей печется. Развращается потом и это племя, но не всё: остается праведным Ной, который спасается от потопа и делается родоначальником всего человечества послепотопного. Развращаются люди и после потопа, но Господь воздвигает патриархов, которые сохраняют истинную веру в Бога и истинное понятие о душе до самых времен Моисея, а потом Господь дает людям закон чрез Моисея, и истинная вера в Бога и истинное понятие о душе начинают переходить из рода в род, из века в век уже не по преданию, а по учению закона письменного, и доходят до нашего времени, сохраняясь в Церкви Божией неизменно, несмотря на тысячи философских систем, старавшихся по-своему изложить все учение о Боге, мире и человеке. Все эти системы пали, а библейская истина стоит и никогда не падет.
– Нет! – вскричал Дубинин. – Если бы это говорил какой-нибудь Сеченов или Дарвин, я бы им поверил, но раз это говорит поп, не верю ничему. Я нигилист, не верю ни в Бога, ни в дьявола, ни в свою душу. Ну, если есть Бог и чудеса, пусть я сейчас же провалюсь сквозь пол этого вагона, тогда, может быть, и поверю.
– Господин Дубинин! Не кощунствуйте, – сказал я, – Бог всегда силен поразить вас, но Он по Своему милосердию ничьей не хочет погибели, а ждет покаяния и обращения на путь истины.
Тут я рассказал Дубинину один случай, как у нас в городе Господь за подобное же кощунство наказал одного мещанского сына И..., который и доселе еще страждет под испытующею его десницею Вышнего, во всем цвете своих лет лишившись разума, дара слова и воли и, подобно бессловесному, лежа нагим в своей постели, как в логовище.
– Опять скажу то же, – вскричал Дубинин, – расскажи это Дарвин, я поверил бы; даже расскажи вот эта прекрасная соседка, я поверю; а попу никогда, никогда и никогда.
– Если хотите, – сказала девушка, – я расскажу вам то, что слышала или где-то читала, не помню. Один священник имел разговор с неверующим в загробную жизнь. После множества доказательств истины бессмертия души, которые все безусловно, впрочем и голословно, были отвергнуты неверующим, священник наконец обращается к нему с таким вопросом: ну, что если вы ошибаетесь, отвергая загробную жизнь? Что если она есть? Мы ничего не потеряем, если будем веровать в нее, а ее не будет. Но чем вознаградите вы свою потерю, если она будет, а вы в нее теперь не веруете?
Собеседник наш погрузился в невольное раздумье, которое вскоре прервано было свистком, возвестившим наше приближение к станции, где мы с ним и расстались.

На возвратном пути*
I
В половине июня я возвращался из Тулы домой с почтовым поездом, вышедшим из Тулы в двенадцатом часу ночи. Пользуясь свободным местом в отделении вагона для не курящих, я прилег и немного вздремнул. Вдруг слышу на станции «Лазареве» кто-то с шумом и хохотом проходит мимо меня и садится за спинкой того дивана, на котором я лежал. Любопытство подстрекнуло меня взглянуть, кто это вошел в наше отделение вагона так шумно, что всех почти заставил проснуться. Оказалось, что это был тот же самый студент университета Дубинин, с которым я столкнулся на пути в Тулу, и с ним еще довольно приличный молодой человек и какая-то девушка в синих очках, с остриженными волосами и в полумужском костюме.
Тульские епархиальные ведомости. 1877. № 19. С. 245–261; № 20. С. 289–308; №22. С. 391–410.
– Вообрази, – сказал вскоре Дубинин, обращаясь к девушке, – какая ныне задалась мне поездка: везде я наталкиваюсь на попов... Вот и тут позади нас какой-то поп лежит, завернувшись в свое веретье.
– Фи! – процедила девушка сквозь зубы. – Охота тебе говорить об этом. Ты испортил мне впечатление вечера, говоря о попе.
– А вы разве их боитесь? – спросил ее молодой человек.
– Ах, monsieur Александровский! Полноте вам дурить. Вы меня и удивляете и оскорбляете, а всего больше смешите, говоря так.
– Так в чем же дело?
– Я не боюсь их, а терпеть не могу. Меня всегда от одной встречи с ними претит, потому что они собою напоминают что-то такое, чего давно бы не должно быть на лице земли. А заговорят они, так просто ужас! Заткни уши да беги от них подальше. Они в миллион раз хуже мужиков.
– Напрасно! А я так напротив нахожу большое удовольствие встречаться с ними да ставить их в тупик или подпускать им шпильки, когда зайдет речь о науке. Ведь они в науке полнейшие профаны, да и говорить-то вовсе не умеют, потому что только и знают, что ходят по крестинам и поминкам, а читать ничего и не думают.
– Ну, нет, – сказал Дубинин, – ныне и из них иные стали почитывать наших светил науки да вступать с нашим братом в споры. Я вот, ехавши сюда, завел с одним попом речь о том, что «душа есть функция головного мозга», да и спасовал: он довел меня до того, что я должен был замолчать.
– Николашка! – вскричала девушка. – Неужели это правда? После этого прямой ты осел, дубина. Если ты не мог устоять на том, что доказано наукою, как дважды два четыре, то чего же от тебя можно ожидать в споре о таких вопросах, которые только еще являются на свет в виде научной истины, а еще не доказаны положительно?
– Оно, видишь ли, Кропоткина, в чем дело: я должен был замолчать не столько потому, что поп меня допек, сколько потому, что с ним ехала одна прехорошенькая и очень умненькая девушка, которая задала мне, в конце концов, такой вопрос, что нельзя было не задуматься.
– А! – вскричала Кропоткина, точно ужаленная змеей, вскакивая со своего места. – Ты растаял пред смазливою девчонкой! Прямая ты дубина. С этой минуты я тебя презираю, как осла. На тебя надежды нельзя полагать никакой: тебя нужно исключить из числа своих друзей.
Наступило минутное молчание.
– А вы, Александровский, не из таких, как Дубинин? – спросила Кропоткина.
– Надеюсь, что за себя всегда постою.
– Я вас принимаю в число своих друзей. Смотрите же, перед попами не смейте никогда пасовать, а тем более перед смазливыми девчонками. Мы на то и на свет произведены, чтобы вести борьбу за свое существование.
– О, что до этого, надеюсь себя не посрамить! Я очень люблю издеваться над попами и всегда имею с собою в запасе записную книжку, где у меня сделаны выдержки из сочинений разных светил науки. Вот недавно я прочел в «Русском вестнике» 73 года статью Буслаева «Догадки и мечтания о первобытном человечестве». Статья эта, в сущности, направлена против теории Каспари, но написана так глупо, что не поймешь хорошо, порицает ли ее Буслаев или защищает... Вернее, кажется, то, что он старался в ней угодить и нашим и вашим. Но для меня там важны выдержки из Каспари, которыми я и воспользовался: я их целиком вписал в свою книжку. Это я приготовил гостинец своему патросу, или, говоря попросту, своему падру. Он у меня ужасный фанатик и прежде страшно мучил меня своими домашними экзаменами, а теперь я смеюсь над его отсталостью и глупостью.
– А кто ваш падер?
– Стыдно даже сказать... Сельский поп самого старого закала.
– Фи! Какая гадость! Вам нужно от него отречься.
– Давно бы это сделал, да пока нельзя: нуждаюсь в деньгах. Как только окончу курс в университете, глаза мои больше не увидят его. Ведь вы не можете себе представить, что это за глупое ремесло – поповство. Вся цель жизни сосредоточена в опиваньи и объеданьи мужиков.
– Такого, батюшка, цинизма можно, кажется, ожидать от одних только питомцев ваших семинарий, – сказал мне сидевший против меня господин средних лет из помещиков Курской губернии. Почти то же сказали и другие.
– Может быть, – ответил я, – этого в наше время можно ожидать и от других. Но, во всяком случае, такой цинизм, как господина Александровского, стыд и позор для наших учебных заведений, если от них сколько-нибудь зависело не воспитать его не только в страхе Божьем, но даже в простых правилах благодарности к благодетелям, вежливости и приличия.
– А вас это удивляет? – насмешливо спросил меня Александровский.
– Это, – ответил я, – не только удивляет меня, но и поражает ужасом. Вы сын священника и вдруг дошли до такого цинизма, чтобы издеваться над своим отцом священником и публично хвалиться этим, как бы подвигом, если только вы это сделали не для того, чтобы показать себя пред госпожою Кропоткиной именно таким современным учеником, какие ей нравятся.
– Тут ничего нет удивительного, если поповство действительно есть самое постыдное ремесло, рассчитанное на глупость и невежество нашего народа, и если отец мой действительно глуп, как пробка.
– Если бы даже и так было в действительности, и тогда вы как сколько-нибудь благовоспитанный человек должны бы были удержать свой язык ради того, что ваш отец священник есть вам родитель, воспитатель и попечитель, быть может, положивший на вас все свои силы. Но вы этого ничем мне не можете доказать. Ведь ваш поступок подобен поступку Хама. И вам не стыдно публично показывать себя Хамом современного человечества? Знаете ли вы историю Хама?
– Слыхал. Но все это ерунда. Каждый говорит, что мыслит.
– Конечно, хоть и не всегда; зато каждый и отвечает за каждое свое слово еще в этой же жизни, а в будущей тем больше будет отвечать. Ведь и Хам, подобно вам, и говорил, что мыслил, и делал, что хотел, и однако же вы знаете, что его слова и поступки были достойны проклятия, перешедшего даже на самое отдаленное его потомство.
– Это старинная сказка. Мой отец ничего для меня не сделал, и я ничем ему не обязан, кроме денежных счетов.
– Как ничем не обязаны? Вы обязаны ему жизнью, воспитанием и попечением о вас.
– Это вовсе с его стороны не заслуга. Это самое обыкновенное дело... Воспитать меня и заботиться обо мне он обязан, потому что он произвел меня на свет. И каждый сапожник сделал бы то же для своего сына.
– Каждое животное делает то же самое, – ввернула Кропоткина очень нахально.
– Положим, – сказал я, не обращая внимания на выходку Кропоткиной, – ваш отец только исполнил свой долг. Но позвольте вас спросить, не в его ли воле состояло воспитать вас, как сына сапожника, не давши вам научного образования, или отдать вас в пастухи при первом же проявлении в вас непочтения к нему? А он этого не сделал: и в этом его заслуга. Он вел и ведет вас к окончанию курса в высшем учебном заведении, быть может, всем жертвуя для вас, но не на радость себе.
– Это ничего не значит.
– Для вас, может быть, и ничего не значит, как для человека, явно неблаговоспитанного в настоящем значении этого слова; но на взгляд каждого благовоспитанного человека это много значит.
– Благовоспитанность и неблаговоспитанность понятия условные, каждый волен их понимать по-своему.
– Конечно, но дело в том, что воля-то наша в понимании вещей должна сообразоваться со здравым человеческим смыслом, а здравый человеческий смысл говорит за обязанность детей почитать своих родителей... Более же всего воля наша должна подчиняться требованиям воли Божественной, а вы, конечно, знаете, что от вас требует Бог в пятой заповеди.
– Это все давно известная всем песня... Старинная сказка... Басня.
– Гм, – сказал я в недоумении при виде такого отношения Александровского к закону Божию. – Может быть, вы, начитавшись статьи Буслаева и сделав выписки из Каспари, прямо причисляете себя к выродкам из звериного стада и потому не хотите знать ни здравого человеческого смысла, ни требований воли Божественной?
– Конечно, это так: человек не сотворен, а выродился из стада зверей.
– Прекрасно. Позвольте же узнать, из стада каких зверей вы выродились?
– Ну, уж я этого не знаю; из стада ли ослов или из стада свиней.
– Отлично. И то и другое хорошо, но последнее вернее, потому что и вол познает стяжавшаго его и осел ясли господина своего (Ис.1:3).
– Какой варварский язык! – вскрикнула Кропоткина, прерывая меня.
– А вы, – продолжал я, не обращая внимания на восклицание Кропоткиной, – не познали родившего и воспитавшего вас, а чрез то, без сомнения, не познали и Создавшего вас Бога, заповеди Которого называете баснями и старыми песнями. Так поступать свойственно только считающим себя выродком из породы свиней, топчущих бисер под своими ногами и разрывающих бросившего его пред ними, с чем и имею честь поздравить вас.
Последовал почти общий смех; даже и Дубинин усмехнулся, вероятно, радуясь тому, что его соперник сам попался в силок, а Кропоткина не нашлась, как выручить его из беды.
– Александровский! – сказала Кропоткина после минутного молчания. – Неужели и ты, как и Дубинин, не можешь постоять за себя и доказать попу, что ты действительно ничем не обязан своему отцу? Это срам!..
– Госпожа Кропоткина! – сказал я. – Вы девушка и, во всяком случае, должны иметь менее грубые чувства, чем господин Александровский. Неужели вы находите цинизм вашего нового друга заслуживающим хоть малейшего извинения или оправдания? Вы когда-нибудь выйдете замуж и будете иметь своих детей: приятно ли будет вам иметь у себя такого же сына?
– Я замуж никогда не выйду: ныне время браков прошло, настало время свободного сожития по влечению друг к другу, а детей я буду бросать.
– Прекрасно! Это, вероятно, вам делает большую честь. Но ведь дело в том, что последнего и животные не делают.
– Животные не делают, а мы, нигилистки, делаем.
– Этому можно поверить, потому что от выродков из стада зверей этого вполне можно ожидать. Но позвольте же вас просить сделать нам такую честь, чтобы доказать нам, что человек есть действительный выродок из стада зверей, так как мы все-таки не можем вас не считать за человека, отличающегося от животных тем, что у него есть душа как дух разумно-нравственный и свободный, а не как та жизненная сила, которая оживляет животных.
– Этого нечего доказывать: наука это давно доказала.
– Я это уже имел удовольствие слышать от господина Дубинина, встретившись с ним на пути в Тулу, и он не сумел мне доказать того, что наука это действительно доказала самым положительным образом, утверждая, что душа есть функции головного мозга. Вы господина Дубинина назвали за это ослом и дубиною; позвольте же теперь вас просить доказать мне верность теорий каспари и дарвина, которым вы безусловно верите, считая себя выродками из стада зверей и собираясь бросать своих детей, чего даже и звери не делают.
– Дарвин несомненно доказал в последнем своем сочинении, что человек произошел от четвероногого зверя, а Каспари доказал, что люди первоначально были стадом диких зверей, и я им верю.
– Но для меня это не убедительно. Вы им верите, а я не верю, потому что не только безусловно во всем верю слову Божию, но и здравый человеческий смысл имею и по этому смыслу нахожу теории Дарвина и Каспари одними только мечтаниями и догадками, не оправдываемыми ни действительною историей человечества, ни здравым человеческим смыслом, ни теми науками, которые могут нечто истинное сказать о первобытном человечестве, или, лучше сказать, о доисторических временах человечества, какова, например, лингвистика. И если уж нужно было Дарвину и Каспари строить теории о происхождении и первобытном состоянии человека, основываясь на догадках и мечтаниях, то всего бы лучше было им сочинить историю происхождения человека не от обезьяны или от четвероногого зверя, породившего двойни – человека и обезьяну – и исчезнувшего с лица земли, так что и представителя его рода не осталось, а от лягушки, которая и в воде плавает и ныряет очень сходно с тем, как это делает и человек, и лапы имеет похожие несколько на человеческие руки, и на земле живет, и для опытов нашими физиологами употребляется, и надуваться может так же, как иногда надувается какой-нибудь ученый, анатомировавший лягушку, доказать, что «у человека нет души как духа бессмертного, а есть только мозг с его рефлексами и функциями, который отправляет все то, что мы приписываем душе». В таком случае вся теория вышла бы коротка и ясна в следующей форме дарвиновского развития и дарвиновской борьбы за свое существование: «Лягушка, раз случайно вынырнув из воды на берег, увидела быка, который хотел раздавить ее своим копытом; желая постоять за себя, она вступила с ним в борьбу за свое существование, но, так как была мала ростом, то и стала надуваться, и надувалась до тех пор, пока не лопнула и из нее не выскочил человек, который сейчас же и поймал вола за рога да и сделал его и весь его род ручным домашним животным». Этот новопоявившийся человек сначала выкрикнул по-лягушачьи «уа! уа!», как и доселе выкрикивают новорожденные младенцы (заметьте, что это тоже доказывает верность новой теории о происхождении человека от лягушки, как и у Дарвина с Каспари всякий случайный признак сходства всегда служит для них доказательством их теории!), а потом как схватил вола за рога и подчинил его себе, случайно выкрикнув вместо «уа!» целое слово «ура!», а потом выучился выкрикивать своему волу «дурак! дурак» и таким образом случайно приобрел способность говорить.
– Браво! – сказал курский помещик. – Остается только сказать, как у этого человека выработались понятия о жизни государственной и религии, – вот и новая теория во вкусе Дарвина и Каспари будет готова.
– Не трудно и это сделать, – сказал я. – Стоит только прибавить, что, подобно самой первой лягушке, и другие лягушки, увидев, как та выпрыгнула на землю, раздулась с вола и произвела на свет человека, сами сделали то же самое. Так явилось целое общество людей, над которыми первый человек, как более опытный и более хитрый, скоро приобрел такую власть, что сделался их предводителем в борьбе со зверями за свое существование, заставил их подчиняться ему во всем, как царю, и чтить его выше всего; когда же этот человек стал умирать, то сначала кричал от боли «ох! ох!», а потом один раз крикнул «бог» и испустил свой дух. Люди, видевшие его смерть, долго не могли догадаться, что он умер, думали, что он только спит, по-прежнему приходили к нему и кланялись ему, и так как не знали, что такое с ним случилось, то и стали, кланяясь ему, повторять «бог», думая, что он услышит их и проснется: так мало-помалу они научились боготворить его.
– Ах ты негодный попишко! – вскрикнула Кропоткина. – Чтобы насмеяться над наукою, ты осмелился сочинить такую ерунду!?
– Да, я сочинил опыт новой теории, но не для того, чтобы посмеяться над наукою, а для того, чтобы показать вам, что такую теорию, как Дарвина или Каспари, всякому не трудно сочинить, и чтобы показать вам, что и ваши пресловутые теории Дарвина и Каспари не более этой утверждаются на некоторой тени правдоподобия.
– Нет, ты врешь! Теории Дарвина и Каспари – непреложная истина.
– Точь-в-точь такой же вымысел, как и мною сейчас сочиненная теория. А если это не так, то позвольте вас просить изложить пред нами ваши излюбленные теории Дарвина и Каспари, выдаваемые вами за истину.
– Я этого не могу сделать, а вот Дубинин или Александровский сейчас же сделают это и посрамят тебя.
– А-а, сударыня. А вы-то, верно, не изволите знать своих теорий настолько, чтобы изложить их перед нами? А еще Дубинина называли ослом и дубиною. Видно, и сами от него далеко не ушли.
– Ну, Дубинин! – сказала Кропоткина. – Не посрами себя и меня.
– Я не чувствую себя способным сейчас говорить, – ответил Дубинин. – Пусть лучше говорит Александровский, а я после скажу что-нибудь.
– Конечно, – сказал я, – лучше всего господину Александровскому прочесть нам свои выдержки из Каспари: это и легче, и вернее для нас и нашей цели. Я мог бы и сам передать вам эту теорию, но вы могли бы меня заподозрить в искажении ее; поэтому лучше всего прочесть подлинные слова Каспари.
– Конечно, – подтвердил Александровский и достал из кармана свою записную книжку, о которой он прежде говорил Кропоткиной.
– Ну, – сказала Кропоткина, – читай да повнимательнее.
– Прежде всего, – сказал я Александровскому, – извольте нам сказать название того замечательного сочинения Каспари, сущность содержания коего вы хотите передать нам как научную истину.
– Сочинение это называется так: «Первобытная история человечества с точки зрения естественного развития самой ранней его духовной жизни».
– Прекрасно, – сказал курский помещик. – Судя по такому заглавию сочинения, мы будем иметь удовольствие слышать от вас изложение первобытной истории человечества.
– Да, – сказал я в свою очередь. – Только дело в том, что всякая история должна быть точным изображением действительной жизни человечества и для того должна непременно основываться на исторических данных, а отнюдь не на фантазии автора. Посмотрим же, насколько история Каспари подходит под это условие.
– Уж, без всякого сомнения, «история» Каспари не то, что ваши сказки о первобытном человечестве, – сказала Кропоткина, – она есть последнее слово науки. Ну, Александровский, читай же! – крикнула она, строго взглянув на своего нового друга.
Александровский подошел ближе к фонарю, поправил свои очки и начал читать: «Из собственной выгоды, ради защиты от врагов и для добывания пищи животные собираются в целые общины, как муравьи и пчелы, в стада и стаи, как звери и птицы, и совокупными силами противостоят гибели в борьбе за бытие. Человеческая природа, в которой соединяется общительность обезьяны с жестокостью хищного зверя, следует тому же закону. В такой же борьбе за существование образовалось людское племя, которое страшным физическим средствам своих врагов должно было противопоставить ловкость, хитрость и уменье, послужившие зерном для дальнейшего развития этой породы. Зародыши общественной и как бы государственной жизни, к которой инстинктивно стремятся животные в своих стадах и стаях, открываются в замечательном развитии подробностей еще на низшей ступени животной жизни, в так называемом плавучем государстве гидромедузы, где рабочий, воинский, владетельный или владеющий и другие классы и сословия гармонически слагаются в одно целое, в причудливой форме простой гирлянды из цветов, бутонов и листьев»24.
– Это, господа, так сказать, предисловие к истории, – пояснил Александровский.
– Прекрасно, – сказал я, – но уже и из этого предисловия видно, что автор хочет нам предложить не действительную историю, а попытку объяснить проявления исторической жизни в стаде диких зверей или полузверей, происшедших от первого человека, порожденного дарвиновским четвероногим зверем. Ведь это, как хотите, пахнет не действительностью, а фантазией автора. Скажите, кто открыл вашему Каспари, что человеческая природа следовала в своем развитии тому же закону, какому следуют животные? Разве может духовная природа человека следовать тому же закону, которому следует природа животных, не одаренных душою? Дух человеческий всегда имел, имеет и будет иметь свои собственные законы, ему только одному свойственные, и потому история человечества есть история проявления законов человеческого духа в жизни, а не история животной жизни, подчиненной физиологическим законам питания, пищеварения, возрастания, размножения, увядания и т. п. или инстинкту самосохранения. Она есть изложение событий, пережитых и совершенных человечеством, а не вымышленных фантазией автора.
– Но «история» Каспари вся основана на самых последних выводах «народной психологии с точки зрения позитивной философии», она «пролегает новые пути для познания как духа человеческого вообще, так и исторического развития его проявлений в религии, поэзии, искусстве, нравах и обычаях».
– Посмотрим, так ли это. Продолжайте свое чтение.
– «В борьбе за существование против свирепства диких зверей люди очень рано должны были образовать между собою самый тесный семейный союз, послуживший зерном для первоначальной государственной формы, в которую немедленно должен был сложиться этот союз ради общей пользы как для своего прокормления и вообще благосостояния, так и для охранения от врагов и напастей. С одной стороны, беззащитность человеческого детства, значительно более продолжительного, нежели детство прочих животных, должна была развить в человеке чувство зависимости и влечения к ближнему, а с другой, борьба за существование естественно послужила к развитию мужества, отваги и стойкости, к качествам, которыми должны были некоторые избранные выступить из среды своей братии. Так образовалась в некотором смысле аристократия мускульной силы, что в свою очередь должно было повести к соперничеству между силачами, и междоусобие должно было довершиться победой одной богатырской личности над всеми другими. Вожаки – это уже в самой природе животных инстинктов, и как мирные стада овец послушно идут за передовым бараном, так и толпа людей скрепляет свой союз новыми узами в безусловной покорности вождю, соединившей в себе рабское подданство с чествованием выше всякой меры, доходившим до обожания своего вождя».
– Отлично, – вскричал Дубинин. – Это так правдоподобно; так ясно, что лучшего и желать нельзя, чтобы доказать возможность зарождения в зверином стаде начал семейной и государственной жизни.
– Действительно, – сказал я, – только дело в том, что прежде всего нужно бы было доказать историческими данными, что человек был когда-то действительно зверем и этим именно путем выбивался из звериного стада на свет Божий как разумно-нравственное и свободное существо; а автор этого-то именно и не сделал, да и не мог сделать, потому что говорит не о действительной исторической жизни человечества, а об измышленной его фантазией. Притом, позвольте вас спросить: если человек в своем развитии следовал общему с животными закону развития, то почему же животные-то, явившиеся на свет гораздо раньше человека и послужившие для него образцом союза семейного и государственного, не только потом в течение многих тысячелетий не образовали из себя действительного союза семейного и государственного с рабским подданством своим вожакам стад и чествованием выше всякой меры, доходившим до обожания своих вожаков, но даже и тени этих союзов не имеют? Если закон развития один и тот же, то и следствие должно бы быть одно и то же. Между тем, мы видим, что человек-то действительно идет вперед в своем развитии, а животные не только не идут, но даже и неспособны идти. Наконец, все то, что Каспари приписывает звериному стаду людей, как-то: образование тесного семейного союза, развитие чувства зависимости от родителей и вождей и любви к ближнему, покорности вождю с чествованием его выше всякой меры, даже до обожания, и образование союза государственного, – само собою уже предполагает то, что люди в это время не были стадом зверей, а были именно людьми, как и мы с вами, потому что для образования семейного и государственного союзов нужно было обладать разумностью и нравственностью, а их-то именно и нет ни у одного зверя, а следовательно, не могло бы быть и у человека, если бы он в ту пору был вашим дарвинским выродком четвероногого зверя и членом измышленного вашим Каспари звериного стада людей. Стало быть, высказанная Каспари теория не только не доказывает возможности зарождения в зверином стаде начал семейной и государственной жизни, но и, напротив, опровергает ее самым положительным образом.
– Гм! Уж я и не знаю, чем же еще можно доказать.
– Врешь, – вскричала Кропоткина, обращаясь ко мне. – Теория Каспари верна, как дважды два четыре. Дикари и доселе не что иное, как стадо зверей с вожаком, почитаемым ими за божество.
– Неправда, сударыня, – ответил я, – дикари действительно не развиты так, как мы с вами, но все же они не стадо зверей: их неразвитость зависит от того, что они не получают воспитания такого, как мы; но возьмите вы к себе младенца дикаря и воспитайте его, тогда и увидите, что он такой же человек, как и вы. Зато возьмите вы маленького своего сородича – обезьянку, вскормите его своею грудью и держите вместе с вашими детьми, как бы их брата или сестру, и увидите, что обезьяна останется такою же обезьяною, как и весь ее род. У дикаря есть разумность, нравственность и свобода, не говоря уже о даре слова, а у обезьяны их нет, и вы их ничем не привьете к ней. Ведь вот многие из ваших барынь уж как, кажется, не ухаживают за собачками: иная барынька своего ребенка тотчас же по рождении бросит на руки кормилицы и никогда не видит его, с собачкою же занимается так, что и кормит ее из своих рук, и целует, и учит разным правилам собачьего приличия, а все в десятки поколений не сделает из нее существа разумно-нравственного и свободного: собачка все остается собачкою, не имеющей ни разумности, ни нравственности, ни свободы, ни личности, как и весь собачий род.
– Кропоткина! – сказал Дубинин. – Довольно об этом. Разве ты не видишь, что пред тобою стоит самый ужасный фанатик и буквоед, которого ничем не сломишь? Лучше послушаем дальше.
– И то правда, – сказал Александровский и, кашлянув, принялся за чтение.
– «Само собою понятно, – начал он читать, – что люди, соединяясь в одну семью, не могли обойтись без способа выражения своих мыслей и чувствований. Но первобытному человеку не было дела ни до неба со светилами, ни до грозы с бурею, ни до дневного света и ночной темноты, поскольку все это не касалось его животной жизни. Животный инстинкт – вот точка отправления всей его деятельности! С этой только стороны природа могла производить толчки на его нервы. Поэтому в языке первобытного человека не было выражения его воззрений на природу, не было и звукоподражательных слов, соответствующих грому, ветру и другим явлениям природы. Первобытный человек выражался или жестами и междометиями или, будучи окружен зверями и в их сожительстве, подражая им, кричал по-звериному. Начальные звуки человеческой речи были не слова, означающие тот или другой предмет, то или другое действие, а вскрикиванья, которыми он сопровождал свои ощущения и движения. Однако по особенностям своего организма человек рано должен был превзойти прочих животных в зверообразных начатках своего языка. Недостаток в пророжденных орудиях для борьбы с дикими зверями должен был вывести человека очень рано из четвероногого состояния и развить в нем цепкость, ловкость и силу рук для подъема тяжестей в борьбе за существование. Выпрямившись таким образом, он облегчил себе более свободное и тонкое дыхание и получил способность к членораздельным звукам человеческой речи, дополняемым жестикуляцией рук, освободившихся наконец от своего первоначального назначения передних ног. Все же сначала люди пробавлялись только междометиями да звериным криком, пока под главенством своего вождя не стали послушно усваивать себе именно его собственные вскрикиванья и, примечая, к чему он их относит, и сами стали выражать ими то же самое. Таким образом, известные звуки были просто соединены с теми предметами и действиями, которые по привычке стали означать ими. Безусловный авторитет вождя и главы первоначального людского племени наложил авторитетную силу и на единство людского говора в общем признании и принятии его всеми и каждым. В отношении государственном язык послужил новою связью для тесного союза первобытной общины; с точки же зрения духовного развития он воспитал и укрепил память, приучил называть теми же звуками те же предметы и проложил путь к общим понятиям. Впрочем, так как животная жизнь первобытного человека ограничивалась самым тесным кругом потребностей семейного и общественного быта, то и запас первоначальных слов не мог быть многочислен».
– Каково объяснено происхождение языка! – вскричал Александровский, видимо очень довольный своим чтением.
– Лихо, брат, лихо! – вскричал Дубинин.
– Действительно лихо, – сказал я, – такое объяснение как раз подтверждает теорию происхождения человека от лягушки и начал речи этого человека, кричавшего сначала по-лягушачьи «уа! уа!», а потом выкрикнувшего «ура!» и наконец «дурак! дурак». Однако же, позвольте вас спросить, почему это ваш Каспари знает, что язык первобытного человека был именно таков, каким ему вздумалось представить его, и так именно произошел, как он утверждает? Разве дошли до нас исторические о том свидетельства первобытной древности, или ему известен самый первобытный, звероподражательный язык первой семьи человеческого рода? На чем он основывает свою теорию первоначального языка? Не на вымысле ли своей собственной фантазии? Разве обезьяна не вскрикивает по-своему? Разве она не приобрела себе цепкость, ловкость и силу рук для подъема тяжестей в борьбе за существование, не выпрямилась и не освободила своего дыхания еще прежде появления человека и не имеет у себя вожаков? Отчего же она доселе не научилась говорить, и даже сам ваш Дарвин с Каспари не могут ее научить говорить? Ведь для того, чтобы придать вид правдоподобия такой нелепой теории происхождения языка, как теория Каспари, нужно бы прежде всего сделать опыты с обезьяною, самим близким вам сородичем, и научить ее говорить, а тогда и сочинять бы такую теорию. Ведь даже смешно слышать такую теорию, которая ни на чем, кроме вымысла собственной фантазии автора, не основана и ничем не может быть подтверждена. Ведь вы все основываете на опытах и наблюдениях: отчего же вы тут не прибегаете к опытам и наблюдениям?
– Какие же тут могут быть сделаны наблюдения?
– А над развитием языка у дитяти. Посмотрите: когда дитя начинает говорить, разве вы ему вбиваете в голову каждое слово со всеми его изменениями по всем его грамматическим формам? Ведь на это потребовались бы годы и годы, а дитя выучивается совершенно правильно, сознательно и разумно говорить чуть не после самых первых затверженных им слов, так что в какой-нибудь месяц от начала произношения им слов он уже сам собою составляет целые осмысленные предложения в виде вопросов или ответов или простой передачи виденного или слышанного им, или желательного для него. А отсюда не следует ли, что в самом существе человека лежит способность к выражению своих мыслей и чувствований не в виде вскрикиваний по-звериному с жестикуляцией рук, а в форме правильного человеческого языка или что у него есть врожденная способность или дар слова, которого нет ни у одного животного.
– А у попугая?
– Эка хватили! Разве у попугая есть дар слова? У него есть только способность произносить по подражанию некоторые членораздельные звуки человеческого голоса и отдельные слова, а отнюдь не дар слова, как способ выражения своих мыслей и чувствований.
– Гм! Это еще вопрос не решенный. Посмотрим дальше.
– «Первоначальное племя, – начал снова Александровский, – жило на одной общей родине, откуда по размножении вследствие борьбы за существование слабейшие породы, будучи прогоняемы, должны были выселяться в новые страны, преимущественно на восток, причем в главном становище первобытного развития особенно упорна была борьба племен кавказских с африканскими, древнейшим же поприщем доисторических событий и центральным пунктом в истории психологического развития народов должны быть признаны Южная Азия и Восточная Африка. С отвагою физической силы человек рано соединил способность к рукоделию, которое столько же ему помогло в борьбе с врагами, усовершенствуя орудия для битвы и защиты, сколько вместе с даром слова служило к дальнейшему развитию, ранние следы которого открываются уже в раскопках каменного века, когда люди селились в пещерах и в свойных постройках. Могилы, относящиеся к эпохе мамонта, свидетельствуют, что люди этого века уже чтили своих покойников погребением, вероятно, в сидячем положении, кладя в могилу пищу для покойника, а также его оружие и украшения. Сверх того, они знали уже употребление огня».
– Слава Богу, – сказал я, – наконец-то ваш автор добрался до действительной жизни человечества, да и то еще бродит в ужасных потемках. Как все здесь перепутано, непоследовательно, неясно! Судите сами, можно ли отгадать, о каких именно временах человечества говорится здесь? – спросил я Александровского.
– Кажется, как день ясно, что говорится здесь о первоначальном племени: значит, о самых первых, о самых начальных временах человечества.
– Казалось бы, так; но смотрите, тут же говорится, что «в главном становище первобытного развития особенно упорна была борьба племен кавказских с африканскими». Можно ли, в самом деле, от истории как науки, а не пародии на науку ожидать такого незнания исторических периодов жизни человечества? Можно ли допустить, чтобы историк мог смешать первобытную семью человеческого рода или первобытные племена с племенами кавказскими и африканскими, когда одни от других отделены на самом деле не только огромным периодом времени, но и страшным физическим переворотом, известным под именем Всемирного потопа? А ваш Каспари это сделал, не сумев из звериного стада вывести людей на поприще истории хорошо уже известным истории путем действительной жизни человечества. Можно ли после этого его «историю» принимать за серьезное сочинение?
– Но Каспари совершенно прав, – сказала Кропоткина, – никакого Всемирного потопа никогда не бывало: это теперь положительно доказано наукою.
– Сударыня! – сказал я. – Прежде чем такую нелепость, какую вы сейчас сказали, выдавать за положительную научную истину, я посоветовал бы вам справиться с наукою. Что Всемирный потоп был, это теперь несомненно доказано наукою: и предание всех народов, и геология, и палеонтология согласно с Библией свидетельствуют о том, что потоп был. Если хотите увериться в этом, то потрудитесь справиться с наукою, когда это были упоминаемые вашим Каспари «каменный век» и «эпоха мамонта», до потопа или после потопа.
– А что из того, если потоп этот и был действительно? – возразил Александровский. – Существование человека в древнейших формациях ничем не доказано. Животные могли существовать до потопа, а человек выродился из самого совершеннейшего четвероного зверя вместе с обезьяною не до потопа, а после потопа, когда жизнь на земле снова начала развиваться.
– А тогда, – ответил я, – вот бы что было: на новое развитие всей флоры и фауны потребовались бы новые дарвиновские миллионы лет, так как тогда снова всё по его теории должно бы было начать свое развитие с первичной клеточки и посредством бесконечных метаморфоз доходить до такого совершенства, чтобы сначала явился ваш прародитель, дарвиновский «четвероногий зверь, покрытый волосами, снабженный хвостом и остроконечными ушами и живший на деревьях», а потом породил двойни – человека и обезьяну – и сам исчез с лица земли, так что и представителя его рода не осталось.
– Так что ж? Эти миллионы лет и прошли.
– Нет, не прошли: по самым точным исследованиям геологов оказывается, что от потопа прошло не менее пяти и никак не более шести тысяч лет, что почти согласно с библейским летосчислением, считающим от потопа до нашего времени около пяти тысяч ста двадцати лет. Но главная суть дела тогда заключалась бы вот в чем: если бы до потопа человека не было на земле, если он не спасся бы от потопа, почему бы тогда человечество знало о потопе? Откуда тогда явилось бы всеобщее предание всех народов как о самом потопе, так и о способе сохранения от потопа одной только семьи с представителями всех родов и видов животных и птиц? Ведь древние народы геологии не знали. Ясно, что люди до потопа существовали, и если, выражаясь словами вашего Каспари, в главном «становище» первобытного развития их была упорная борьба племен за существование, то где же ваш Каспари нашел следы или памятники этой ужасной борьбы и почему человечество доселе ничего не знает об этой борьбе? Если же эта борьба относится ко временам послепотопным, то где же опять памятники этой борьбы племен кавказских с африканскими и почему всемирная история опять ничего не знает о ней? История, согласно со сказанием Библии, знает то, что после потопа все люди жили в одном месте и по мере размножения своего расходились понемногу в разные стороны не вследствие ужасной борьбы за существование, а вследствие естественной невозможности жить в одном месте и необходимости отделяться друг от друга племенами и занимать новые места, подобно тому как и теперь у нас разделяются семьи на несколько домов или части селений переходят на другие привольные места. Самое же главное общее рассеяние народов последовало уже после известного столпотворения вавилонского по особому определению Божию. Вот с этого-то времени все племена стали как бы чужими друг другу и стали вступать друг с другом в борьбу, но не за существование, а ради наживы и желания первенства или господства над другими, а иногда по особому определению Божию: тут действовал не закон необходимости, не дарвиновский «закон естественного подбора», ведущий к борьбе за существование, вымиранию одних видов и родов как несовершенных и происхождению других, более совершенных, а Промысл Божий, управляющий всею вселенною, который нередко воздвигал один народ против другого, употребляя его как живое орудие свое для наказания его за его нечестие, превысившее меру долготерпения Божия. Так, например, все жители земли Ханаанской при вступлении евреев в землю обетованную были осуждены Богом на совершенное истребление за их нечестие. Так потом и сами израильтяне были изгнаны из той же самой земли обетованной и частью истреблены, а частью рассеяны по всем странам мира за нечестие же.
– Вот, сударыня, – обратился я к Кропоткиной, – если бы вы познакомились с видимою природою при посредстве естественных наук, а с жизнью человечества при посредстве всемирной истории не как с простыми предметами наших знаний, а как с великими книгами Творца и Промыслителя вселенной, заключающими в себе весьма явственное изображение следов всемогущества, премудрости и благости Божией, тогда вы, наверное, не стали бы принимать за научную истину всякий бред ученого, гоняться за новомодными теориями и говорить, что ныне прошло время браков и настало время свободного сожития по влечению друг к другу, а тем более не стали бы собираться бросать своих детей. Тогда вы ясно уразумели бы, что вы не потомок четвероногого дарвиновского зверя и не выродок из звериного стада Каспари, а человек, созданный по образу и подобию Божию и предназначенный к вечной жизни.
– Merci! Предоставляю вам этим заниматься: я имею свои собственные убеждения, которыми и руководствуюсь?
– Это так, но ведь и убеждение-то наше не всегда бывает согласно с истиной. Оно иногда может быть положительно ложно и пагубно для нас.
– Я поповских проповедей слушать не люблю.
– Это не проповедь, а дружеский вам совет.
– Pardon! Это настоящая поповская проповедь, потому что давать мне совет никто не имеет права, кроме того, у кого я сама его попрошу.
Последовал общий смех трех друзей-приятелей: вероятно, все были рады тому, что Кропоткина так «хорошо отделала» меня, как потом выразился Александровский, сказав Кропоткиной несколько несвязных фраз по-французски с сильным латинским акцентом.
– Вот наткнулись на фанатика-то, – сказал он.
– Да, – ответила Кропоткина, – таких дьяволов я еще не видывала.
– А хорошо вы его отделали!
– Небось, еще не сунется со своими советами.
– А сунется, так мы его еще не так отделаем.
Раздались один за другим свистки, возвестившие наше прибытие на станцию Скуратово. Кропоткина со своими приятелями вышла вон из вагона, чтобы в вокзале напиться чаю и закусить.
– А интересный экземпляр этот фанатик, – сказал про меня Александровский, сходя на платформу.
– Да, – сказал Дубинин, – интересно было бы знать, откуда он выскочил, из семинарии или из академии, и чей он такой.
– Без сомнения, из академии: иначе как бы он мог познакомиться чуть не со всеми на свете науками?
– А что если из семинарии? Вот нам будет позор-то! Ведь мы пока его ни на чём не срезали. И что, если таких-то теперь много развелось в среде попов даже и в селах? Тогда придется помалкивать.
– Не бойся. Я еще его подпеку на вопросе о происхождении гербов, чем у меня заканчиваются выписки из Каспари.
– А ты думаешь, он тебе ничего не ответит? Разве ты не видишь, что он знаком с теорией Каспари? Уж он, наверное, заранее обдумал, что ему сказать против этого, и, поверь, скажет.
– Удивительная вещь, – сказал между тем курский помещик, – более или менее развитые люди эта молодежь, и так они невежливы, дерзки, нахальны, циничны. Вот вам совершенная противоположность недавнему времени, когда несмелость была отличительною чертою молодежи.
– Действительно, – ответил я, – явление очень странное: чуть только иной перешагнет порог высшего учебного заведения, сейчас же воображает себя каким-то гением, и надменность, дерзость, невежливость делаются его отличительными недостатками; когда бы нужно было ему сознавать себя и свои отношения к людям как образованному человеку, благовоспитанному юноше, тут-то он начинает себя показывать сорванцом и невеждою. И, к великому прискорбию, такие артисты, как Кропоткина и ее друзья, вовсе не единственные представители молодежи такого рода. Нигилизм ныне в моде, и заражающаяся им молодежь никогда не показывает себя более дерзкою, нахальною и невежливою, как при встрече со священником, особенно на железной дороге.

II
Раздался второй свисток после третьего звонка, поезд начал двигаться вперед, и в вагон к нам снова вскочили Кропоткина и ее друзья с шумом, смехом и гримасами. Сначала они все бросились к одному и тому же окну, а потом, когда мы миновали скуратовский вокзал, начали садиться по местам и бросать на меня насмешливые взгляды.
– Ну-те, господин Александровский, – сказал я, – мы остановились на самом интересном месте теории Каспари, именно дошли до того, как он будет объяснять происхождение религии в зверином стаде дарвиновских выродков из четвероногого зверя. Давайте же продолжать.
– Конечно, продолжим, – сказал Александровский очень самоуверенно. – Но прежде всего я должен сказать несколько слов об этом предмете.
– Сделайте одолжение.
– Известно, – начал Александровский, – что теория Каспари есть не что иное, как продолжение и дополнение теории Дарвина. Эта последняя теория при всем ее громадном значении для ученого мира оказалась в самом главном недоконченною, несовершенною: она не объяснила всего того, что относится к человеку в собственном значении этого слова в настоящее время. Теория же Каспари дополняет ее и восполняет пробелы дарвиновской теории. Однако же нужно сказать правду, что дарвиновская теория сделала свое дело: она положила первичные слои для религиозной основы в доисторической глубине совокупного сожительства звериной и человеческой пород; но, исполнив свою специальную задачу по части зоологической, покончив с человеком как со зверем, она в недоумении остановилась пред разумными, психическими явлениями человеческой жизни; как справедливо замечено у Буслаева, она не могла объяснить происхождение религии и запуталась в противоречиях. Но что не удалось Дарвину, то решено Каспари самым положительным образом. У него все объяснено путем естественного развития в человеке религиозного чувства. Это развитие отнюдь не схоже с библейским – понимаете? Оно даже стоит в разрез с этим последним; зато оно вполне естественно и потому верно до непреложности.
– Вот это интересно будет проверить. Почитайте.
– «Выродившись из зверя, человек продолжал жить одною только животною жизнью очень долгое время: кроме своих животных потребностей, он ничем не интересовался и не мог обращать никакого внимания ни на солнце или месяц, ни на грозу и другие явления природы; как зверь он безучастно относился к природе; поклоняться природе и ее явлениям, величественным или грозным, он не умел, потому что этой способности у зверей мы не находим, а человек и зверь в этом отношении стояли на одинаковой ступени. Сам ужас пред всесокрушающей силой грома и молнии не мог пробудить первобытного человека из его звериной спячки и внушить ему какое-либо человеческое ощущение, которое могло бы воплотиться в представлении, подходящем хоть сколько-нибудь к религиозному чувству, подобно тому, как обезьяна, более человека подвергающаяся смертной опасности от грозы на высоких деревьях, остается к ней безучастна. Итак, круг предметов, пробудивших самые ранние изъявления религиозного чувства, должен был быть самый тесный. Это та же семейная жизнь, та же община, та же звериная среда, в которой везде проявляются звериные зародыши религии в глубоких чувствах привязанности, заботливости, сочувствия, попечения, а также боязливого участия и любви некоторых из зверей к своим детенышам, в нежной семейной привязанности этих последних друг к другу и в страхе пред родителями, так что уже в недрах звериной семьи зачинается акт воспитания, основанного на любви и страхе и раскрывающего в зверях чувства привязанности и сочувственной благодарности или страха в любви, в чем, собственно, и состоит вся религия. Здесь, в кругу тесной семейной жизни, под влиянием попечения и любви к детям образуется та религиозная привязанность и та любовь к ближнему между отдельными личностями, которая зарождается из тысячи нравственных чувствований и угодливых отношений; здесь залагаются первые основы глубокого религиозного благочестия, а уже при первых начатках детского разумения пробуждается тот возвышенный страх в любви, и боязливое религиозное благоговение, и чувство зависимости, которые так естественно ощущаем мы к разумному старцу, к отцу и к общему верховному покровителю того замкнутого круга, который их объемлет своим общинным порядком. Чувства эти, которые в самом тесном кругу, так сказать, всасываем мы вместе с молоком матери, возбуждают вместе с тем мысль о чествовании, с которым мы, уже как люди, относимся к старцу, родоначальнику, герою, князю или начальнику. Словом, узкая семейная жизнь с ее глубоко-нравственными семейными отношениями и воспитательною взаимностью есть первичный зародыш и неистощимый источник глубоких ощущений, на основе которых могла возникнуть религия как страх в любви и вместе с тем чувство высокого. А так как в самой наклонности к искренней семейной жизни и к миролюбивому общению в стадах уже звери являют нам со всех сторон следы и начатки глубоких ощущений и душевных движений, то мы видим, как на этой звериной, конечно, еще не развитой основе, возрастает и углубляется духовная натура человека.
Впоследствии же к этому первоначальному зародышу страха в любви люди присоединили измышления своей фантазии и старались украшать свою первобытную религию поэтическими вымыслами по мере того, как они сами развивались».
– Великолепно! – вскричала Кропоткина. – Вот так Каспари! Как он мило, как глубокомысленно, как ясно и вполне верно очертил весь механизм зарождения и развития в человеке того, что мы называем религией!
– Еще бы, – подтвердил Александровский. – Против этой теории возможности зарождения и развития в зверином стаде людей того, что мы называем религией, самый даже ярый фанатик ничего не может сказать.
– Господин Александровский! – сказал я, обращаясь к новому другу Кропоткиной. – Что ваша приятельница восхищается такою теорией Каспари, меня это нисколько не удивляет, потому что она ни с логикой, ни с психологией, ни тем более со Священным Писанием, конечно, не знакома; но что вы, без сомнения, прошедшие если не все, то хоть четыре класса семинарии и теперь учащиеся в университете, восхищаетесь этою теорией, меня крайне удивляет. Неужели у вас нет настолько смысла, чтобы всю нелепость такой теории, когда вы знакомы и с логикой, и с психологией, и со Священным Писанием? Но, думаю, Вы просто не хотите этого сообразить.
– А что же в этой теории есть нелепого?
– Все нелепо, от начала и до конца, потому что вся эта теория построена на ложном начале и наполнена несообразностями. Начнем с того, на что уже указал в своей статье господин Буслаев: Каспари в своей теории хотел показать нам первобытную человеческую семью в зверином стаде людей, а вместо того показал нам только звериную обстановку и вывел на сцену, как, помнится, выразился господин Буслаев, благоустроенную «немецкую семью» и «во фламандском вкусе» нарисовал пред нами картину семейной жизни первобытного человека. Судите сами: если первобытные люди были лишь стадом зверей, то какая у них могла быть семья с попечительностью родителей о детях и с почтительностью детей к родителям, с любовью друг к другу, угодливостью, уважением и даже благоговением? Разве всё это свойственно стаду зверей? Где это ваш Каспари нашел у зверей подобного рода семью? Есть ли она у обезьян – ваших сородичей?
– Но ведь ясно, кажется, что люди в эту пору представляются уже не зверями, а людьми, выродившимися из стада зверей. У них семья образовалась уже тогда, когда они перестали быть зверями.
– А, вот оно что! А кто же это открыл вашему Каспари, что люди-то сначала были зверями, а потом вдруг стали людьми? Его собственная фантазия? Но для здравомыслящего человека измышление фантазии так и останется им, а не научною истиною. Нет, первобытная семья не оттого стала семьей людей, что перестала быть стадом зверей, а оттого, что она всегда ею и была и человек никогда зверем не был. Между зверем и человеком такое громадное различие, что ни человек зверем, ни зверь человеком сделаться никогда не могут.
– Это почему? – возразил Дубинин.
– Потому, что человек есть верх творений Премудрого Творца всей вселенной: он один только одарен такими силами и способностями, которые делают его образом и подобием Божиим; он один только имеет в своем существе то, чего не имеет весь видимый мир; он один носит в себе образ целого мира и называется малым миром. Весь видимый мир перед ним ничто, потому что человек есть господин всей твари и возносится своею мыслью превыше видимого мира. Вот вы стоите теперь у окна. Взгляните на небо. Не правда ли, как оно необъятно и величественно? А человек своим разумом дошел до того, что он проникает и в самые тайны этого видимого необъятного неба, определяет время течения светил небесных, измеряет их расстояние, пользуется светом солнечного луча по своей воле, как бы какою-нибудь вещью. Неужели зверю это свойственно? Не правда ли еще и то, как стройно, в каком порядке, с какою точностью и с какою быстротой катятся по своду небесному все эти «светящиеся громады»? Но – увы! – ни одна из этих громад не может пяди сделать по своей воле и каждая них слепо повинуется одному общему закону природы. А человек хоть и малое создание, да может по своей воле делать то, что захочет. Быстро несется корабль по морю, еще быстрее летит поезд железной дороги; но ими управляет человек, и по его воле они понесутся с тою или другою скоростью в ту или другую сторону. Человек все подчинил себе и над всем на земле господствует как царь природы: ему повинуются и ветер, и огонь, и вода, и земли, и животные, и растения; он и в воздушные высоты летит на аэростате как на крыльях ветра, быстрее орла, и в недра земли проникает, извлекая оттуда драгоценнейшие металлы; для него и дно морское открыто. Скажите же, каким это талисманом, если можно так выразиться, запасся человек, что на всё может наложить свою руку и всем завладеть? Этот талисман его есть не что иное, как его разум. А есть ли он у зверей? Нет, он есть у одного только человека. И если человек по-вашему был зверем когда-то, в давно прошедшие века, то откуда же явился у него этот великий дар, которого нет в существе или природе зверей? Не ясно ли, что он присущ человеку, есть не случайная способность, а прирожденная сила, свойственная его существу. А если так, то человек и не мог быть зверем, а всегда был человеком, существом разумно нравственным и свободным. Недаром Державин в своей оде «Бог» сказал:
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.
Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества,
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества:
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю.
– Однако же было время, когда тот же самый повелитель громов не имел дела ни до неба со светилами, ни до грозы с громом и молнией, ни до всех прочих явлений мира и жил как зверь.
– Это кто же вам сказал? Ваш Каспари? Но он клевещет здесь на человека. Говоря так о человеке потому только, что зверю и теперь нет дела ни до чего этого, ваш Каспари сам от себя отрекается как от человека. Что человек всегда разумными очами, а не бессознательно взирал на природу, в этом убеждает нас то, что человек с ранних дней младенчества смотрит на всё не как зверь, а по-человечески. Посмотрите, как взятый вами на руки однодневный младенец уже таращит свои глазенки вечером на свечку, от которой на него льется свет, а днем – на окно, откуда проникает в комнату луч солнца. В этом взоре ребенка уже начинает проглядывать его духовная деятельность, и чем больше он растет, тем больше начинает в нем развиваться эта деятельность. Неужели же можно после этого поверить вашему Каспари, чтобы первобытной семье человеческаго рода, где уже нашли себе место и попечение о детях, и почтительность к родителям, и любовь друг к другу, и благоговение, и «чувство глубокого», действительно не было дела ни до неба со светилами, ни до грозы с громом и молнией, и человек, как зверь, нисколько ими не интересовался и относился к ним безучастно, по-звериному? Не явная ли это несообразность в его теории, которую вы защищаете? Не нелепость ли это?
– Вы кончили? – спросил меня Александровский, готовясь читать дальше.
– Нет еще: теперь на очереди самое главное, самое существенное, что можно и непременно должно сказать против теории вашего Каспари.
– А, это должно быть очень интересно. Послушаем.
– Ваш Каспари говорит, что сама религия есть не что иное, как «страх в любви», так ли это? Госпожа Кропоткина и ее прежний друг, Дубинин, без сомнения, не в состоянии на этот вопрос ответить сознательно, но вы можете и должны.
– Без сомнения, так: Каспари говорит совершенно верно. Мы Бога любим и боимся, отсюда вытекают и все наши религиозные обязанности, в этом-то страхе в любви и состоит вся наша религия. Зародыши этого страха в любви Каспари и видит в стадах зверей... Собака, например, и любит своего хозяина, и боится его, видя при нем палку.
– Нет, вы со своим Каспари ошибаетесь: религия состоит не в этом.
– А в чем же?
– Она состоит, с одной стороны, в выражении нашей веры в Бога и чувства зависимости от Него посредством благоговейного почитания Бога как Существа высшего и совершеннейшего, Творца всей вселенной и Промыслителя, а с другой – в сознании нашей великой виновности пред Ним, желании удовлетворить за грех Его вечной правде и примириться с Ним для того, чтобы наследовать вечное блаженство.
– Такое понятие о религии есть позднейшая выдумка жрецов, иезуитов, фанатиков и наших русских попов, – сказал Дубинин.
– Истинно так, – подтвердила Кропоткина.
– И я с этим вполне согласен, – сказал в свою очередь Александровский, – первоначально человек не думал ни о какой виновности своей пред Богом и ни о каком примирении с Ним; он чтил Его как своего Благодетеля и боялся Его как Карателя.
– Значит, все вы нисколько не знакомы ни с историей древних религий, ни со свойствами природы человеческой. Проследите историю древнейших религий и увидите, что у всех народов и племен осталось древнейшее предание о том, что человек когда-то находился в блаженном, невинном состоянии, а потом пал, лишился блаженства и подвергся всякого рода скорбям и напастям, подпал под гнев Божий, но не навсегда удалился от Бога, потому что ему обещаны лучшие времена, когда добро восторжествует над злом, господствующим в мире со времени поселения человека на земле. Откуда бы такое предание явилось у всего человечества, если бы человек никогда не наслаждался райским блаженством и жил как дарвиновский зверь только «для своих животных потребностей»? Что породило в людях надежду на избавление от всех зол? С какой целью у всех народов существовало приношение в жертву животных как средство умилостивления Бога и выражение своей любви к Богу? Неужели все это выдумки жрецов, иезуитов, фанатиков и русских попов? Неужели все это насильно навязано человечеству? А в таком случае скажите, как возможно было бы навязать человечеству идею о Боге как Существе высочайшем и совершеннейшем, Творце и Промыслителе мира, если бы в самом же существе человека не лежало стремление приблизиться к Бесконечному, если бы разум не приводил его к понятию о Боге и познанию Его из Его дел во вселенной и если бы совесть его не говорила ему того, что в нем самом есть зло, которое, однако, противно его природе и мешает ему быть на земле счастливым, не доводила его до сознания нужды в обновлении всего его естества, возрождении и спасении и не заставляла его искать средства к примирению с Богом и возвращению себе потерянного блаженства?
– Но все это, – сказал Александровский, – очень просто объясняется воспоминанием о том, как люди прежде в одной общей звериной семье жили беспечально, потому что не умели еще отличать себя от зверей и чувствовать какое-нибудь горе, да и земля, вследствие более высокой температуры своего развития, была более плодородна и доставляла им всего в большем изобилии.
– А, вот оно что! Это выходит, по-вашему, что люди сожалели о том, что они стали людьми, существами разумно-нравственными и свободными, желали снова возвратиться в состояние зверей и искали к тому средства в почитании Бога и умилостивлении Его приношениями Ему в жертву животных и молитвами. Прекрасно! Стало быть, и вы теперь сожалеете о том, что вы теперь не младенец, лелеянный на руках матери, а совершенный юноша, и желаете возвратиться в первобытное состояние младенчества, и об этом просите Бога, когда молитесь, если уже не разучились это делать!
– Да я и не молюсь никогда.
– Стало быть, вы вполне признаете себя выродком из зверей! Что ж? Не вы первый, не вы последний такого рода человек: все нигилисты таковы же, как вы. Однако же я вам могу сказать, что все вы, господа, до тех пор таковы, пока не грянет над вами гром гнева Божия прежде, чем вы лишитесь разума и совести совершенно; но когда постигнет вас гнев Божий, тогда вы невольно прибегаете к Богу. Что же это значит? Подумайте, не носит ли человек в самом существе своем потребности обращения к Богу как к своему милосердному Отцу?
– Нет. Со мною этого не будет: я скорее себе пущу пулю в лоб, чем вздумаю молиться... ведь все равно, как ни издохнуть.
– А что если у вас руки-то отнимутся, и вы не в силах будете исполнить своего намерения, и пролежите на одре десяток лет? Тогда вы обратитесь к Богу с молитвою?
– Нет, я тогда, подобно дьяволу, буду изрыгать свои хулы, чтобы Он поскорее поразил меня и отправил ad patres25.
– Ага! Стало быть, вы сознаете, что Бог-то есть: не как вымышленное существо, а как личная Субстанция? К вымышленному существу вы не задумали бы обращаться с изрыганием своих хулений для того, чтобы поскорее прекратилось ваше бытие. А если так, то скажите, откуда же в вас-то, не верующих ни во что, есть сознание того, что Бог действительно существует и силен вас поразить смертью? Не в самом ли оно существе вашем лежит как прирожденная идея?
– Ну, положим, и так, что ж из этого? Что Бог есть, я этого не могу отвергнуть, потому что мой разум говорит мне, что если я существую, а сам собою быть не мог, то есть же Существо, Которое произвело меня на свет, и что если мир существует, есть же Существо, Которое создало его.
– Александровский! – вскрикнула Кропоткина. – Ты с ума сошел. Этот фанатик свел тебя с ума и заставил признать бытие Бога: что с тобой?
– Ничего. Что Бог есть, я этому верю, а что не Он создал человека человеком, а человек сам выродился чрез бесчисленные превращения первичной клеточки из дарвиновского зверя, этому я тоже верю, потому что это доказано наукою, это ее последнее слово.
– Нет, – сказал я. – Это не доказано наукою и не последнее слово науки. Это выдумка ваших Дарвинов, Бюхнеров и Каспари, которые, однако, ничем не доказали самой даже возможности вырождения человека из четвероногого зверя или из обезьяны, лягушки, слизняка и т. д. до какой-то первичной клеточки. Мало того, даже сама гипотеза их о таком происхождении человека есть верх бессмыслия, безумия и всякого рода несообразностей. Вы сами вот видите, как, например, теория вашего Каспари не выдерживает ни малейшей критики, а ведь она, по вашим словам, дополняет и объясняет теорию Дарвина, и притом так, что будто бы после нее теория Дарвина становится несомненною истиною. А ведь мы еще не ставили этой теории пред судом Священного Писания как самого важного критерия в суждении о происхождении и первобытной истории человечества и как самого древнейшего письменного памятника.
– Но мы еще не кончили теории Каспари, а потому и не можем сказать, какова она.
– Хорошо. Продолжим ее.
– «Отец семейства, – начал Александровский читать, – а потом родоначальник держит в своих руках всякую власть, и духовную, и светскую: это и жрец, и князь. Он же пользуется и религиозным чествованием. Дикари и доселе почитают своих начальников за богов. Чтобы дойти до обоготворения своих отцов семейств и начальников, первобытный человек, конечно, должен был пройти целый ряд последовательных моментов в развитии своего смысла, которые должны были его привести к идее о духовном и бессмертии. Как человек дозрел до мысли отделить свое духовное существо от телесной его оболочки, душу от ее физических проявлений, некоторые психологи, а в числе их и Тэйлор, указывают на сновидения; но Каспари с этим не согласен. По его мнению, сновидение представляет только то, что человек видит в действительности, и если он опытом не дошел до понятия об отделении тела от духа, то и во сне этого не могло ему грезиться».
– Ну вот вам и знаменитая теория Тэйлора о душе, которую вы нам недавно выдавали за последнее слово науки и несомненную истину! – сказал я, обращаясь к Дубинину. – Слышите теперь, ваш же новый идол науки, Каспари, отвергает ее и, конечно, предложит нам свою теорию, которая будет для вас таким же последним словом науки, как и Тэйлорова, дотоле, пока кто-нибудь не выдумает новой теории – поглупее своего предшественника.
– А леший их разберет-то! – сказал Дубинин, махнув рукою. – Один одно выдает за последнее слово науки, а другой – другое: не знаешь, кому верить.
– В том-то и дело, что сколько голов, столько и умов, столько и новых сумасбродных теорий может быть составлено. А вы всем им верьте и представляйте из себя обезьян, всё бессмысленно перенимающих у людей, но не могущих ничего обсудить и потому смешащих нас своими кривляньями.
– «Первобытный человек, – продолжал Александровский, – подобно зверям, первоначально не только не имел понятия о существе бестелесном, но и не умел отличить живого от мертвого: мертвеца считал только спящим, и лишь впоследствии научился его хоронить или на деревьях, или в земле в сидячем положении, чтобы предохранить его от зверей и гниения; и если умирал отец семьи или начальник, то люди, естественно, ту любовь и то уважение и страх, какие питали к нему при жизни, переносили и на умершего, или усопшего; но так как с течением времени его самого уже не было между ними, то воспоминание о нем мало-помалу стало осеняться ореолом бесплотной божественности, что, между прочим, видно из преданий о том, будто бы то там, то сям погребены боги. Таким образом, первоначальный род религии был обожание человека – родоначальников и князей. Это, между прочим, подтверждается чествованием, которое люди впоследствии стали воздавать зверям, поедавшим людей: зверей они потому и почитали за богов, что думали, будто вместе с тем, как зверь съел человека, в него переселилось само существо человека; поэтому, почитая зверя, первобытный человек, собственно, боготворил не зверя, но съеденного им человека, которого он почитал и при жизни».
– Вот вам и самая суть теории Каспари о происхождении религии, – обратился ко мне Александровский. – Видите, как все это естественно и правдоподобно.
– Казалось бы, так, – ответил я, – но тут дело в том, что все это ни на чем, кроме вымысла собственной фантазии, не основано и стоит в явном противоречии со сказаниями истории. Скажите, в самом деле, откуда это ваш Каспари взял, будто первобытный человек первоначально, подобно зверям, не только не имел никакого понятия о существе духовном, но и не умел отличить живого от умершего? Объяснил ли он, как человеку пришло на мысль выдумать идею о Боге, духовности и бессмертии? И если человек действительно выдумал эти идеи, то отчего же сородич-то его обезьяна не могла додуматься до того же, когда и она живет в стадах и имеет своих «умерших вожаков»? Где ваш Каспари нашел свидетельство о том, будто первобытный род религии был обоготворение человека, родоначальников и князей? Ведь все это есть плод измышлений собственной его фантазии. Исторические памятники говорят нам совсем не то.
– А что же они нам говорят?
– Они нам говорят, что первобытный человек был существом совершеннейшим, почитал не родоначальников и князей, а единого Бога, верховного Владыку неба и земли, и потому первоначальный род религии был не боготворение человека, а почитание единого истинного Бога, Творца, Владыки и Промыслителя всей вселенной. Потрудитесь познакомиться с древнейшими законодательствами китайцев, индусов и других народов, с их преданиями и мифологией и увидите, что первоначально даже в основе языческих религий лежала мысль о едином Боге, Владыке неба и земли; в религии же откровенной точно так же, как и в первобытной естественной религии мысль эта всецело сохранилась до нашего времени. Обожание тварей вместо Бога было произведением мысли самого падшего человека и явилось в позднейшие времена, уже после рассеяния народов по всему лицу земли в наказание за столпотворение вавилонское. Но и тут первый вид религии был не тот, какой указывает ваш Каспари. История свидетельствует, что древнейший род нечестия у народов, удалившихся от общения с патриархами, был именно сабеизм, или почитание светил небесных; затем явились фетишизм, или обожание стихий природы и произведений земли; zoolatria, или обожание животных, зверей и даже гадов, и daemonolatria, или обожание добрых и злых духов, и, наконец-то, уже ваша anthropolatria, или обожание людей, знаменитых делами или умом, благодеяниями или злодеяниями. А ваш Каспари, видно, истории-то древних народов не знает, или злонамеренно ее игнорирует, или ее ставит ни во что? А свидетельство Священного Писания о происхождении и распространении на земле язычества известно ли ему? Вероятно, он как безбожник не придает ему никакой цены. В таком случае он обратился бы к нему как к древнейшему письменному историческому памятнику и тогда нашел бы в нем многое для того, чтобы иметь правильное понятие о человечестве и происхождении на земле разных видов языческой религии. Он увидел бы, например, что боготворение людей явилось уже в ту пору, как появился и самый нелепый вид нечестия – идолопоклонство.
– Где же бы он это увидел?
– А вот у меня здесь есть священные книги в русском переводе, которые я купил в Туле. Не хотите ли, я вам прочту одно место из книги Премудрости Соломона?
– Да ведь эта книга подложная.
– Не подложная, а неканоническая. Но это тем лучше для вас: она может быть принята вами как памятник древней письменности.
– Хорошо. Прочтите.
Я достал из чемодана третью часть священных книг Ветхого Завета в русском переводе и прочел следующее место из XIV главы книги Премудрости Соломона. Идолы вошли в мир по человеческому тщеславию. Отец, терзающийся горькою скорбью о рано умершем сыне, сделав изображение его как уже мертвого человека, затем стал почитать его как бога, и передал подвластным тайны и жертвоприношения. Потом утвердившийся временем этот нечестивый обычай соблюдаем был как закон и по повелениям властей изваяние почитаемо было как божество. Кого в лицо люди не могли почитать по отдаленности жительства, того отдаленное лицо они изображали: делали видимый образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему, как бы присутствующему. К усилению же почитания и от незнающих поощряло тщание художника, ибо он, желая, может быть, угодить властителю, постарался искусством сделать подобие покрасивее; а народ, увлеченный красотою отделки, незадолго пред тем почитаемого как человека признал теперь божеством.
– Прекрасно! – сказал Дубинин. – Здесь происхождение обожания людей гораздо лучше объяснено, чем у Каспари: это объяснение гораздо естественнее и правдоподобнее.
–Да, – ответил я.–А вы воображали, что ваш Каспари первый объяснил это как неведомую никому истину? Нет, мир уже тысячелетия знает, как могло появиться обожание людей.
– Тысячелетия?! – вскричала Кропоткина.
– Да, – сказал я. – А вы, сударыня, не изволите знать, что священные книги Ветхого Завета написаны не вчера, а тысячи лет тому назад?
– Этого не могло быть: наука тогда была еще в младенчестве и пропитывалась сказками и химерами. Это нарочная подделка под Каспари: какой-нибудь иезуит или русский поп нарочно сделал эту подделку. Я решительно стою за это.
– Конечно. Когда не можете чего-нибудь опровергнуть, лучше всего заподозрить подлинность исторического свидетельства: это гораздо легче. Но не угодно ли Вам обратить свое внимание на то, что книга Каспари явилась на свет в 1873 году, а третья часть священных книг Ветхого Завета, которая у меня в руках, напечатана в русском переводе в 1872 году. Если же вы этому переводу не верите, не угодно ли справиться со славянским переводом Библии или с греческою Библией.
– А если так, то, значит, Каспари говорит непреложную для вас истину.
– Отнюдь не значит. Каспари ваш утверждает, что человек сам додумался до понятия о божестве и выдумал себе религию, а мы знаем, что это было не так: не человек додумался до понятия о Боге, а Сам Бог открыл Себя человеку, сообщил ему совершеннейшие понятия о Своем существе, свойствах и действиях, требованиях Своей воли и назначении человека. В раю Бог беседовал с человеком как отец с детьми, а после падения первозданного человека Он наказал его тем, что лишил его того света и блаженства, каким он наслаждался в раю, определил ему труды и скорби в жизни, болезни и смерть, борьбу с дьявольскими кознями и избавление в будущем от всех последствий греха.
– А тогда каким же образом человек мог бы забыть Бога и дойти до обожания тварей и идолов? – возразил мне Дубинин.
– Очень просто. После потопа размножившись, люди стали мало-помалу удаляться от истинных учителей закона Божия – послепотопных патриархов, чрез которых Бог открывал Свою волю людям, и, живя в свое удовольствие, подобно вам, стали мало-помалу забывать Бога; рассеявшись же по всему лицу земли после столпотворения вавилонского, многие племена совсем прервали связь не только с патриархами, но и с тем племенем, которое жило под управлением патриархов, и совсем утратили истинное учение о Боге. Однако же могли ли они впасть в совершенное безбожие? Нет. Они только забыли истинного Бога, утратили истинные о Нем понятия; но что Он есть, этого забыть они не могли. Они не забыли даже и того, что Бог есть и что для благоугождения Ему и умилостивления Его люди от начала века приносили Ему в жертву животных. Не зная, кто Бог, но желая познать Его, они стали искать Его в природе видимой, потому что привязанность к чувственности и привычка обращать внимание только на то, что ими, подобно тому, как и вы с вашими учеными думаете26, может быть видимо и осязаемо, мало-помалу привели их к забвению того, что Бог есть дух, следовательно, Существо невидимое и неосязаемое. Чувство зависимости от окружающих тварей, испытанная польза от одних и опасние вреда от других, величественность одних явлений природы и грозность других внушили человеку мысль о том, что всеми этими тварями и явлениями природы управляют особые боги и в них являют свое присутствие и, следовательно, этим тварям и явлениям природы нужно кланяться как богам. Так появилось почитание тварей сначала как только символов божества, а потом и как богов. Тут нашли себе место и сабеизм, и фетишизм, и зоолатрия, и демонолатрия. Предание же о существах невидимых, высших человека, и сказания о героях, завоевателях и благодетелях не только поддерживали почитание гениев, или духов, но и привели к обожанию великих людей, статуи которых люди делали сначала только для того, чтобы иметь пред собою изображение их лица, подобно тому как и у нас теперь есть бюсты Крылова, Пушкина и других великих людей, а потом стали делать для того, чтобы кланяться им. Вот тут-то семья и государство и имели важное значение для религиозных понятий людей и привели язычников к идолопоклонству. Но как сами вы видите, это далеко не то же, что происхождение антрополатрии у Каспари: у последнего она является самым первым видом религии, а по свидетельству слова Божия она является позднейшим видом нечестия. То же самое говорят нам и история древних религий, и предания всех народов, и лингвистика.
– Что-то мудрено, – сказал Дубинин, – древние науки говорят одно, а новые – другое; кто прав, кто виноват, не разберешь. Одни ученые были, может быть, глупее, зато жили ближе к тем векам, предания о которых записывали; а другие, хоть и умнее, зато живут в такое время, когда и сами древние предания утратились, и обо всем приходится говорить только по догадкам. Однако же, несомненно, преимущество должно отдавать последним, потому что они умнее, а следовательно, и ближе к истине; их слово и должно быть последним словом науки, или самою истиной.
– Хотя бы то было и самою очевидною нелепостью, вроде теории Каспари?
– Да хоть и нелепость, да новость, последнее слово науки. Новое всегда лучше старого потому именно, что оно есть для нас новинка.
– Уж ты, Дубинин, заврался, – сказала Кропоткина, – городишь что-то такое, чего и не поймешь хорошенько. Лучше замолчи. Пусть Александровский еще почитает нам: может быть, тогда и окажется, что твоя старина никуда не годится совсем.
– Хорошо, – сказал Александровский, – теперь следует самый интересный вопрос о том, как человек додумался до понятия о своей душе.
– И это помогло ему выбиться из стада зверей? Хорошо... Хорошо... Читайте же... Это должно быть очень интересно и все нам объяснит, – сказала Кропоткина. И нужно было видеть, как она вдруг оживилась и повеселела, вероятно, ублажая себя надеждою, что теория Каспари о душе в самом деле все ей объяснит и очень интересна сама по себе. Но она жестоко в том ошиблась и должна была разочароваться.
– «Человек, – начал читать Александровский, – оставался полузверем до самых тех пор, пока не дошел до способа, как добывать огонь; и как скоро сделал он это открытие, его умственные очи отверзлись и он не только разумно взглянул на небо и его светила, но и в самом себе прозрел душу и связанные с нею жизненные силы. И только тогда стала возможна настоящая мифология, которая до тех пор прозябала в смутном зародыше религиозного чествования мертвецов и животных, так что человек мог впервые взглянуть на себя не как на зверя, а как на человека не иначе, как при боготворном освещении земного огня, который он сам своими руками сумел извлечь из окружающей его материи. Извлеченную таким образом искру он отличил от вещества, признав ее за его душу и жизнь, и такою же искрою представил и свою собственную душу, и свою жизнь, объяснив себе этим представлением теплоту своего тела и дыхания. Такое великое открытие, как добывать огонь, было сделано в незапамятную эпоху, вероятно, в конце каменного периода, каким-то хромым».
– Тут немножко не досказано, – сказал Александровский, окончив свое чтение. – Когда люди изобрели искусство добывать огонь, то, ощутив в себе самих то же тепло и дыхание, которое происходит от огня, они сейчас же пришли к тому убеждению, что и в них есть такая же искра, которую и назвали душою, или жизнью, потому именно, что со смертью человека тепла в его теле уже не ощущается. Отсюда первобытный человек легко мог дойти до того убеждения, что и в человеке есть такая же душа, которая и после выхода своего из тела живет своей особенною жизнью, подобно огню.
– Истинно так! – вскричал Дубинин. – Это последнее слово науки; это теперь есть непреложная истина. Это так могло быть, так и было.
– Да так ли? – сказал я. – Кто это сообщил вашему Каспари и вам, что это действительно так и было, как вы с ним воображаете? А если бы это было так, то вашему Каспари следовало бы это подтвердить опытом.
– Опытом?! Как же это?
– Очень просто. Известно, что сородич ваш или прародитель, обезьяна перенимает у человека всякие хитрости. Чего бы стоило вашему Каспари приняться за нее да и сделать бы ее разумным существом, заставив сверлить дерево и вытереть из него огонь? Ведь она бы это непременно сделала, и тогда-то можно бы было наглядно видеть, может ли зверь посредством изобретения искусства добывать огонь, «прозреть в себе душу» и «впервые разумно взглянуть на небо со светилами и на себя не как на зверя, а как на человека». Вот бы тогда было торжество-то науки!
– Ах, это отлично! И я это непременно сделаю.
– Дурак! – сказала Кропоткина. – Неужели ты не видишь, что поп над тобою смеется? Неужели не можешь понять, что обезьяна, и вытерши огонь, останется обезьяною и не прозрит в себе душу?
– Гм. Может быть, это и верно, а все-таки добуду себе обезьяну и обучу ее добывать из дерева огонь посредством сверления дерева, – сказал Дубинин очень серьезно и задумался.
– Ах, вы, господа молодые ученые, – сказал я, – как вы падки на всякие новые теории, но вместе с тем и как легкомысленны! Неужели вы не можете сообразить того, что теория Каспари о том, как человек додумался до понятия о присутствии в нем души, или жизни, сама себе противоречит? Если человек, добыв огонь из дерева чрез сверление его, пришел к тому заключению, что огонь этот есть сама душа, или жизнь, дерева, то ясно, что он уже имел понятие о том, что у него-то самого есть душа как существо, совершено отличное от его тела. А иначе как бы он мог составить понятие о том, что огонь есть душа дерева? И если он, вытерши огонь из дерева, удивился этому и призадумался над этим явлением, так что огонь этот счел за душу дерена, то не скорее ли могло случиться то, что он вообразил, будто и дерево, подобно всем одушевленным предметам, имеет свой собственный способ выражения своих внутренних ощущений? Не скорее ли он мог после того вообразить, что тот таинственный шелест листов и тот шум деревьев в лесу, которые наводят на него ночью какой-то невольный суеверный страх и трепет, есть не что иное, как выражение мыслей и чувствований деревьев, или их таинственный язык? Не отсюда ли у нас доселе существует в простом народе суеверное мнение, будто бы деревья переговариваются между собою своим собственным языком? Не отсюда ли ведут свое начало и все древние суеверные гадания оракулов по шелесту листов в священных рощах языческих богов? Ведь это будет гораздо естественнее, чем додуматься до понятия о своей душе чрез предположение, что огонь есть душа дерева: не имея понятия о присутствии в себе души, человек не мог бы додуматься и до понятия о присутствии души в дереве.
– Да ведь и огонь-то был же как-нибудь изобретен? – сказал Александровский.
– Что же из того? Он мог быть изобретен именно чрез сверление дерева, но это ничего особенного в себе не заключает. Вопреки мнению ваших Дарвинов и Каспари, мы знаем, что человек очень рано прославился своими изобретениями. Библия рассказывает, что один из самых ближайших потомков Каина Тувал был изобретателем музыки, а брат его Фовел был кузнецом, изобрел искусство производить работы из меди и железа, а так как медь и железо могут быть мягкими и годными для работы после предварительного раскаливания их в огне, то ясно, что употребление огня уже в ту пору было людям известно. Очень могло быть, что огонь в ту пору добывался каким-нибудь иным образом, а не через сверление дерева; но что он был у людей в употреблении от начала века, это едва ли может подлежать сомнению. Прародители наши еще в раю были научены жертвоприношению, как думают некоторые, и должны были знать употребление огня, чтобы приносить жертву посредством сжигания ее на жертвеннике.
– Ну, еще что Каспари говорит о душе? – спросила Кропоткина у Александровского с явным нетерпением. – Что у вас еще выписано?
– Ничего, – сказал Александровский, – в этом состоит вся его теория о душе.
– Дурак! – сказала Кропоткина с явным огорчением, но так двусмысленно, что это можно было относить и к Александровскому, и к Каспари, не удовлетворившим ее любознательности.
– Итак, – сказал я, обращаясь к Александровскому, – вы вкратце изложили нам всю суть «Первобытной истории человечества с точки зрения естественного развития самой ранней его духовной жизни». Но скажите ради Бога, где же тут первобытная история человечества? Здесь, кроме вымыслов праздной фантазии или «догадок и мечтаний» о первобытном человечестве, мы ничего не видим. И если подобные «истории» принимать за действительные истории первобытного человечества, то после этого каждый сумасброд может нам сочинить свою «историю» человечества, и по-вашему все это будет истиною, последним словом науки и даже аксиомою? Опомнитесь, господа! Прежде чем поверить на слово таким историкам, как ваш Каспари, вы потрудитесь выслушать, что говорят о человечестве действительная история и слово Божие и что говорят противники таких историков.
– Александровский! – сказал Дубинин. – Мы подъезжаем к станции «Чернь»; пойдем для веселости хватим рюмочки по две коньяку.
– Пожалуй.
– А ты, Кропоткина, хочешь? – спросил Дубинин.
– Пожалуй, и я выйду с вами.
Когда поезд стал подходить к станции, все трое вышли на платформочку вагона.
– Проклятие, – вскрикнула Кропоткина, едва они вышли за дверь вагона, и топнула ногою о платформочку. – Этот фанатик совсем нас забил. А вы, господа, оба чистейшие ослы, дураки: не зная хорошо теории Каспари и не ознакомившись с мнениями о ней противников ее, вздумали о ней завести речь, и лишь меня осрамили, и саму науку отдали этому иезуиту на посмеяние.
– Кума, умойся сама! – сказал Дубинин. – Погляди-ка на себя, и у тебя рыльце-то не в той же ли грязи испачкано, в какую нас суешь?
– Но мне простительно: я женщина и не училась столько, как вы; я пробивалась только чтением тех книжек, какими ваша же братия меня снабжала, а вы проглотили всю людскую премудрость.
– А, вот оно что! Видно по пословице: «У бабы волос длинен, да ум короток», а у тебя наоборот – ум долог, да волосы коротки?
– Ага! – вскричала Кропоткина, прыгая на платформу. – Ты еще вздумал надо мной издеваться? Это тебе не пройдет даром. Я с тобою вступлю в борьбу за свое существование на жизнь или смерть.
III
Прошло минуты три-четыре, и Кропоткина одна вошла вагон с довольно угрюмым видом: по всему видно было, что она не в духе. Подойдя к своему окну, она сунулась в него и, покачивая головою, начала твердить про себя: «Дураки... Дураки... Чистейшие ослы... По всему видно, что наша сестра им нужна только для потехи... Так я же им докажу, что они негодяи, нахалы, невежи. Я еще не совсем сошла с ума, могу еще стать на истинный путь в жизни и постоять за себя». Из этого отрывочного монолога видно было, что между Кропоткиной и ее друзьями вышла какая-то крупная размолвка, но что именно случилось, отгадать было невозможно. Еще яснее стало это видно с того времени, как друзья ее вернулись в вагон с таким же нахальством, как и на скуратовской станции: при входе их в вагон она перешла на другое место и отвернулась от них, явно давая им знать, что сердится на них. Дубинин и Александровский взглянули на нее, поморщились и, захохотав во все горло, сели на свои прежние места.
– Ну, господин велемудрый русский попик, покончили мы с вами речь о теории Каспари или еще нет? – сказал Александровский, насмешливо и вместе довольно нахально обращаясь ко мне.
– Это, – ответил я, – зависит от вас... Если хотите, поговорим еще. У Каспари, помнится мне, есть еще кое-какие доказательства того, будто человек действительно выродился из стада зверей.
– Ну уж этого я не знаю хорошо. А вот в статье Буслаева действительно есть одно очень сильное доказательство того, что человек выродился из стада зверей или произошел от зверя по теории Дарвина чрез естественный подбор и в борьбе за существование. Это «повсеместно распространенное верование о происхождении того или другого племени или семьи от какого-нибудь животного».
– Позвольте узнать, где же именно существует такое верование?
– Положительно везде, у всех народов и у всех племен. Вот что об этом сказано у Буслаева: «Между дикарями старого и нового света ведется обычай называть именами зверей не только отдельные личности, но и целые семьи и племена. Гуроны делятся на три племени, на медведей, волков и черепах; бегуаны в Южной Африке – на племя крокодилово, рыбье, обезьянье, буйволово и т. д.» Понимаете? Ведь это есть и сейчас, а прежде это было всеобщим убеждением.
– Да ведь дикари не составляют всего человечества. У них это могло войти в обычай, а у образованных народов нет.
– Вот в том-то и дело, что это почти и у нас в обычае. Вот что дальше говорится у Буслаева: «От этих первобытных представлений ведут свое начало знаки или знамения, то есть гербы, которыми отличаются между собою племена и фамилии. Так, у израильтян лев принадлежит колену Иудину, змея – Данилову (sic!), волк – Вениаминову и т. д.». На это весьма ясно указывают Леббок в своем «Начале цивилизации», Бастиан и даже Тэйлор в своей «Первобытной культуре».
– Ох, вы, господа дарвинисты! В своем желании во что бы то ни стало доказать, будто человек был прежде зверем, вы просто-напросто хватаетесь, как утопающие, за каждую соломинку, а если и соломинки не попадется вам, то, как дети шалуны, всем пускаете в глаза мыльные пузыри, выдавая соломинку за бревно, а мыльный пузырь – за горный хрусталь. Гербы у вас служат указанием на верование наше в свое происхождение от какого-нибудь зверя! Что вы! Образумьтесь! Всмотритесь в это хорошенько. У нас, например, герб двуглавого орла: неужели это служит выражением нашего верования в то, будто весь русский народ произошел от какого-то орла с двумя головами? В Липецке, в частности, герб – улей с летающими вокруг него пчелами. Неужели это выражает верование жителей Липецка в то, что они сверх своего происхождения от двуглавого орла ведут свой род еще от пчелы? Напротив, такой герб не есть ли символ пчеловодства, процветающего или когда-то процветавшего в Липецке, а вместе и трудолюбия его жителей?
– А это ничего не значит: тут никакого противоречия нет... Ведь Дарвин доказал, что всё произошло от одной только первичной клеточки; стало быть, и орел, и пчела, и человек – все произошло от нее.
– Вы еще указываете в пример на гербы колен Иудина, Даниилова и Вениаминова. Позвольте вас спросить, откуда вы взяли колено Даниилово?
– А это, должно быть, колено пророка Даниила.
– Прекрасно! Вы даже и того не знаете, что было колено Даново, а не Даниилово! Но суть дела не в этом, а в гербах этих колен. Неужели, по вашему мнению, гербы этих колен в самом деле указывают на веру евреев в то, что колено Иудино произошло от льва, Даново – от змеи, а Вениаминово – от волка?
– Да, так думают Леббок, Бастиан, Тэйлор, Каспари и даже Буслаев.
– Помилуйте! Что за нелепость вы с вашими учеными городите? Все двенадцать колен считали своим родоначальником Иакова и в то же время, по словами вашим и ваших ученых, верили, будто каждое из этих колен в частности произошло не от одного из сыновей Иакова, а от льва, змеи, волка и т. д.? Стало быть, Иаков-то, по их понятию, родил двенадцать не сыновей, а зверей и гадов?
– Нет. Это вообще указывает на веру евреев в первоначальное происхождение их самих и всего человечества от зверей. А если не так, то как же объяснить происхождение таких гербов?
– Вы, господа дарвинисты, или намеренно игнорируете всё несомненно известное, или действительно ничего не знаете и лишь хватаете всё с чужих слов, или же насмехаетесь над самою наукою, которую хотите разработать, и морочите людей своим напускным, взятым у других напрокат философствованием. Неужели вы в самом деле воображаете, что говорите истину, указывая на гербы израильского народа? Читали ли вы когда-нибудь пророческое благословение Иаковом своих двенадцати сыновей? Нет? Это очень понятно. Зачем читать то, что вы почитаете за сказки и басни и считаете достоянием младенчествовавшего рода человеческого?! Это для вас и унизительно, и скучно! А между тем, когда бы вы, если не для своего назидания, то хоть для того, чтобы проверить, справедливо ли говорят ваши ученые о веровании израильтян в их мнимое происхождение от зверей, прочли в Библии это пророческое благословение, без сомнения, сейчас же поняли бы, почему то или другое колено Израильское имело тот или другой герб.
– Если наши ученые ошибаются, то что же, по-вашему-то, значат эти гербы?
– А вот лучше всего послушайте, что говорил Иаков Иуде, Дану и Вениамину, когда пред смертью своею благословлял всех своих сыновей.
Я достал из чемодана первую часть Библии в русском переводе и в 49 главе Бытия прочел следующие места: «Иуда! Тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих; поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и жезл от чресл его, пока не приидет Примиритель, и Ему покорность народов. Дан будет судить народ свой как одно из колен Израиля. Он будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву, и вечером будет делить добычу».
– Ну что ж? – сказал Александровский. – Я тут ничего не вижу.
– Как же вы тут ничего не видите? Иаков предсказывал Иуде, что он будет предметом похвалы и уважения братьев своих; во время войны его колено всегда будет одерживать победу над врагами; во время мира оно успокоится, как лев после ловитвы, и никто не осмелится нарушить его покоя или напасть на него; из его колена будут происходить цари и вожди дотоле, пока не настанет время прийти Спасителю мира. Стало быть, этому колену предсказывалось, что оно будет коленом сильнейшим в Израиле и царственным. А по общепринятому убеждению лев не служит ли символом обладания царскою властью, крепостью и могуществом? Равным образом Дану предсказывалось, что его колено будет иметь своих собственных судей и будет опасно своею хитростью и коварством. А змея не есть ли символ мудрости, требуемой от судей, хитрости и коварства, опасных для каждого? Наконец, Вениамину предсказывалось, что его колено будет похищать добычу, и богатеть от войны, и уподобится хищному волку. Волк не есть ли символ хищничества и ненасытной жадности жить добычею от войны? Теперь вы можете видеть, что гербы эти были символическими знаками, указывавшими на те отличительные свойства каждого колена, какие должны были характеризовать его по пророчеству Иакова. И если вы с вашими учеными так исказили эти исторические факты, вполне известные каждому, кто знаком с ветхозаветною историей, то какой же добросовестности и истинности можно после этого ждать от вас и ваших Леббоков, Бастианов и Тэйлоров там, где дело касается времени доисторических или диких племен, доселе живущих, но малоизвестных нам? Там вы еще бессовестнее будете лгать, все искажать и подводить под свой лад, выдавая эту наглую и преднамеренную ложь за самую несомненную истину. В какой-нибудь нелепой сказке о нашем русском Соловье-разбойнике, гнездившемся на девяти дубах, ваши ученые видят много поучительного и интересного для науки: тут они находят и указание на верование в то, будто души умерших, по мнению древних наших предков, местопребывание свое ограничивают теми местами, где протекала их земная жизнь, и свидетельство о том, что древние люди имели обычай селиться на деревьях и даже хоронить умерших на тех же деревьях, и наконец подтверждение своего мнения о том, будто высокие деревья, привлекающие на себя громовые удары, должны были естественно стать у многих народов первоначальным местом для жертвоприношений, как это сделали Тэйлор, Либрехт, Каспари и даже наш Буслаев. Зато в то же самое время в библейских сказаниях ваши ученые не видят ничего истинного, поучительного, достоверного, считают их за басни, извращают их смысл и подтверждают этими искажениями свои лживые мысли, как бы прикрываясь авторитетом Священного Писания пред теми, кто в него верует. Как после этого можно на слово поверить вашим ученым в том, будто дикари потому и называют себя именами зверей, что веруют в свое первоначальное происхождение от зверей?
– Но ведь не подлежит же сомнению, что дикари и доселе величают себя звериными именами.
– Что же из того? И у нас один прозывается Волковым, другой Львовым, третий Коровиным, иной Щегловым, иной Карасевым, а иной Дубининым: неужели, по-вашему, все это указывает на верование и происхождение этих личностей и их родов от волка, льва, коровы, щегла, карася, дубины и т. д.? Мы с Вами знаем наверное, что все эти фамилии совершенно случайно имеют происхождение свое от того, что одного в насмешку прозвали Дубиною, другого Коровою, третьего Щеглом и т. д., а потом перенесли эти прозвища и на их детей с прибавлением «сын Дубинин, сын Щеглов!» и т. д. В писцовых книгах 1630 г. мне не раз приходилось встречать такие имена: «Архипко Иванов, а прозвище Волк; Трофимко Семенов, а прозвище Карась; Федька Архипов, а прозвище сын Волков; Петрушко Трофимов, а прозвище сын Карасев» и т. п. Не то же ли самое встречается и у ваших дикарей? Вникали ли вы с вашими учеными в суть самих названий, какими величают себя дикари? Разузнали ли вы точно, почему то или другое племя называется так, а не иначе? Не суть ли и тут эти названия только лишь символы отличительных свойств целого племени или его предводителя? Не даются ли у них эти названия иногда совершенно случайно, как и у нас иные прозвища? Не указывают ли иногда эти названия на образ жизни или занятий дикарей, или на местность, среди коей они обитают в соседстве с разными зверями, преимущественно водящимися в той местности?
– Конечно, нет. Ученые исследовали этот вопрос и пришли к тому заключению, что в этом обычае есть прямое указание на верование всех народов и всех племен в их первоначальное происхождение от зверей.
– А я вам, в свою очередь, скажу: совсем это не указывает ни на какое верование. Читали ли вы сочинение капитана Марриэта «Канадские поселенцы»?
– Ну? Что же в этом сочинении?
– Там есть нечто пригодное для нашего предмета. Там, например, вы встречаете название Мартына Сопера Пантерою, одной молодой индианки – Земляникою, а предводителя одной индейской шайки – Разгневанным змеем.
– Так вот вам и подтверждение моих слов.
– Совсем нет. Там же мы находим самое отчетливое объяснение того, почему эти личности носили такие именно названия. Мартын, например, был между всеми звероловами известен под именем Пантеры и вместо печати под своею подписью всегда рисовал фигуру пантеры потому именно, что он однажды убил на ловле за раз двух пантер, что между звероловами считается величайшим счастьем и большою радостью. Молодая индианка одна названа была Земляникою потому, что зверолов Малахия нашел ее под кустом среди цветущей земляники. Предводитель одной шайки гуронов назывался Разгневанным змеем, и вся шайка называлась змеиною по той хитрости и коварству, какими отличался этот предводитель. Итак, не ясно ли отсюда, что все эти названия или чисто случайные, или символические? Таковы и все ваши доказательства.
– О нет, за нас стоит вся позитивная философия!
– Философия? А философия-то сама никогда не заблуждалась? Еще Цицерон говорил: «Нет ни одной нелепости, которой бы не учили философы», и история философии решительно подтверждает справедливость этих слов. Чему-чему не учили ваши философы? Каких систем они не строили? Все они разлетались в прах, лопались, как мыльные пузыри, если сами философы не были проникнуты мыслью о Боге, своей душе и предназначении к вечному блаженству. Вы воображаете, что наука непременно должна вести нас к нигилизму, отрицанию бытия Божия, духовности и бессмертия нашей души и воздаяния по смерти. Какое жалкое заблуждение! Истинная наука, напротив, непременно должна человека приводить к познанию Бога, человека и природы чрез рассматривание всего сотворенного. Кто были Иустин Философ, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст? Они были весьма ученые люди и, однако же, не шли вашими стопами. Кто были Коперник, Ньютон, Галилей, Кювье, Марсель-де-Серрез? Какою славою покрылись их имена в науке! И однако же, они не только не были, по-вашему, нигилистами или безбожниками, но об одном из них, Ньютоне, рассказывают, что он всегда произносил имя Божие, не иначе как снимая фуражку и осеняя себя знамением креста; и во всем, что приходилось ему открыть, признавал помощь Творца – Источника всякой истины. Вот истинная ученость! А вы, господа, со своими учеными мните быть мудрыми, а сделались даже хуже древних язычников.
– Как же так?
– Очень просто. Язычники, что можно было им знать о Боге, познали, полагал апостол Павел, но не прославили Его как Бога и не возблагодарили Его, а осуетились помышлениями своими, изменили славу нетленного Бога в подобие образа тленного человека, заменили истину ложью и служили твари вместо Творца. А вы совсем не хотите познать Бога, своего Творца, Промыслителя и Спасителя, не признаете себя творением Его всемогущей десницы, считаете выродками из стада зверей, случайно явившимися в мире, случайно имеющими и погибнуть. Чем же вы лучше язычников? Если и те были безответны пред Богом, то вы еще безответнее, потому что вы имели возможность познать Бога не из рассмотрения только видимой природы, но и из Его откровения; но не хотели и не хотите по ожесточенности и нераскаянности вашего сердца. Вы думаете, что все то, чему учит вас Церковь и слово Божие, басни, сказки, старинные средневековые предрассудки и суеверие. Но что если вы в этом ошибаетесь? Подумали ли вы об этом хоть раз? Ведь если бы мы ошибались, что мы от того теряем, будучи спокойнее вас совестью, лучше вас нравственностью, довольнее вас своею жизнью? А вы что приобретаете от того, что делаетесь безбожниками, нахалами, бесчестными, раздражительными, ничем не довольными? Ваша участь и здесь хуже нашей: а что же будет там, где вы ничего не думаете получить, но, несомненно, получите в возмездие за дела ваши?..
Наступило общее молчание. Дубинин сидел, хмурил свое лицо и ерошил себе волосы. Александровский и краснел, и бледнел, вероятно, от досады, что не нашелся, что мне сказать на последние мои слова, поправлял очки и кусал свои губы. Кропоткина сидела неподвижно, как статуя, бледная и угрюмая. Спустя минуты две-три она обернулась ко мне лицом, и я заметил на ее ресницах маленькие слезы. Что значили эти слезы, были ли они выражением злости и досады на свое бессилие отвечать мне или же слезами близкого раскаяния в своем прежнем заблуждении, ни по чему нельзя было отгадать, тем более что слезы эти как будто замерли.
– Позвольте вас спросить: с кем я имел удовольствие так долго беседовать? – спросил меня Александровский, прерывая общее молчание.
Я ответил, и вновь наступило то же молчание, но молчание не естественное, а напряженное, потому что ясно было видно, что Александровскому хотелось еще о чем-то меня спросить, да он не решался на это.
– Позвольте также спросить: где вы получили свое воспитание? – наконец спросил он меня не без некоторого усилия.
– В Тульской духовной семинарии, – ответил я с особым ударением на слове «семинария», зная уже заранее, что это для всех них будет неожиданностью.
Александровский и Дубинин многозначительно переглянулись между собою и потом взглянули вместе на Кропоткину. И каково же было наше общее удивление! В этот самый момент Кропоткина вскрикивает радостно: «Браво! Браво!», поднимается и подходит ко мне.
– Благодарю вас, батюшка! – говорит она мне, протягивая свою руку. – Я от души рада тому, что вы не академист, а семинарист по своему воспитанию. Вы так отлично отшлепали этих господ университантов, а вместе с ними и меня, что и все выписки Александровского, и наше нахальство, и самохвальство моего нового друга не помогли нам отстоять того, будто мы выродились из зверей. Я вас оскорбила дерзким обращением с вами, и в этом сознаюсь, и прошу вас простить мне эту дерзость. Дерзость и нахальство – это общая тактика нигилистов, чтобы поскорее сбить с толку своего противника и заставить замолчать, и я ее держалась как нигилистка.
– Кропоткина! Ты с ума сошла или шутишь? – вскричал Дубинин.
– Да, и шучу, и с ума сошла; а вы смотрите на меня да дивитесь этому. Какой срам! Я, женщина с «долгим умом да короткими волосами», и то оказываюсь рассудительнее и умнее вас, а вы и университанты, да глупее меня: вы потерпели такое фиаско и не сознаетесь в том, что ведь вам линии отступления нет... Остается непременно сознаться в том, что вы побеждены, а вы этого и понять не хотите. Вы меня оскорбили, вы задели мою честь, и вот вам отмщение!
Наступило новое молчание. Мы все были этими словами Кропоткиной и удивлены, и поражены, не зная, как их понять: за выражение ли ее раскаяния в нигилизме или за желание отомстить своим друзьям за оскорбление.
– Благословите меня, батюшка! – сказала снова Кропоткина. – Я хочу вступить на возвратный путь и расквитаться с нигилизмом. Сознаться в своем заблуждении я не считаю за стыд. Я дочь подполковника, получила дома воспитание такое же, как и все мы получаем под влиянием гувернанток, француженок, самое поверхностное, но была не глупа от природы, скромна и всеми уважаема. Я была уже шестнадцати лет и сосватана за прекрасного молодого человека, как судьбе угодно было разлучить меня с ним. Тогда я подпала под влияние молодых людей вроде Дубинина. Они оторвали меня от семьи, два года возили по Швейцарии, Франции и Италии, набили мне в голову всякого вздору, напитали учениями Фейербаха, Бюхнера, Писарева, Белинского, Добролюбова, Фогта, Дарвина, Каспари, Гартмана и т. п., потом привезли меня в Петербург, таскали по петербургским подвалам и сделали меня героиней петербургского трущобного мира, наконец, кинули, и я сошлась с Дубининым. Несмотря на то, что мне теперь 19 лет, я столько пережила, столько передумала, перечувствовала, что, право, и не знаю, как я давно не пустила себе пулю в лоб. Но – благодарение Богу! – видно, по молитвам моей матери я осталась честною девушкою.
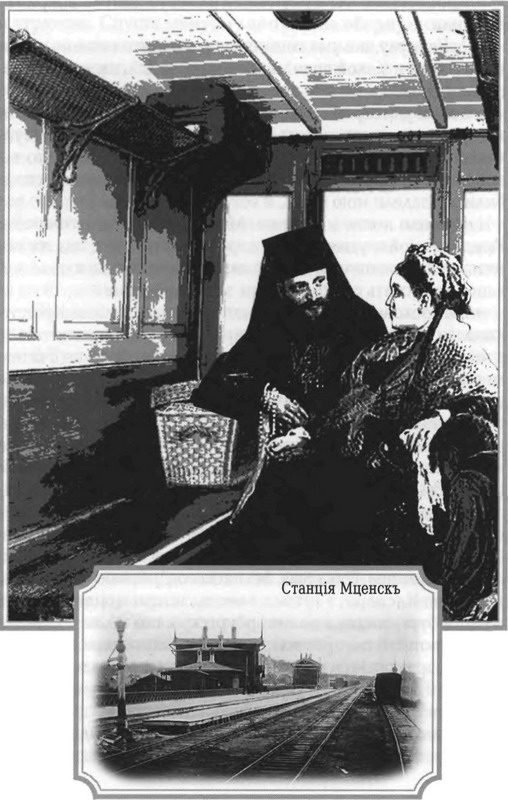
А эти господа сейчас на станции Чернь нагло оскорбили меня, задели мою честь, обозвали студенческою камелией, когда я ею вовсе не была, и это так подействовало на меня, что я живо представила себе, как я низко пала даже в глазах этих негодяев. Прежде ко мне всякий относился с уважением, а теперь первый же встречный смеет меня называть камелией! Этого одного было довольно для меня, чтобы я опомнилась. Ваша же победа окончательно отрезвила меня, и я всё покидаю. И вот вам доказательства: свои синие очки и полумужскую шапочку я бросаю за окно. Благословите же меня.
Кропоткина в самом деле выбросила за окно вагона свои очки и шапочку и покрылась платочком. Я благословил ее на новый путь жизни и подарил ей Ветхий Завет в русском переводе, но, пораженный такою неожиданностью, не нашелся, что ей сказать в виде совета.
На станции Мценск я сошел с поезда. Смотрю: вслед за мной сошла с поезда и Кропоткина со своим чемоданчиком, между тем как у нее билет был взят до Курска. Я спросил ее о причине остановки во Мценске.
– Я, батюшка, – ответила она, – люблю все делать, не останавливаясь на полпути: задумала быть нигилисткой и была ею вполне; теперь решилась быть христианкой, почтительной дочерью своей матери и сделаю это. Я здесь, во Мценске, куплю себе обыкновенный костюм и с вечерним поездом отправлюсь назад, домой, к своей престарелой матери с раскаянием и намерением быть ее почтительной дочерью и успокоить ее старость. Пора, пора на возвратный путь!

У Елагиных27
I
В июне 1874 года покойный Михаил Петрович Погодин проездом в Киев заезжал к Авдотье Петровне Елагиной, известной подруге юности поэта В. А. Жуковского, в Уткино, а оттуда ездил в Оптину пустынь. Так как я в ту пору уже состоял в переписке с Михаилом Петровичем, то по пути в Оптину пустынь через Белев он посетил меня, чтобы лично выразить мне свою благодарность за то мое первое к нему письмо, которое им было напечатано во втором издании его «Простой речи о мудреных вещах». К сожалению, я в эту пору был в Туле на епархиальном съезде, и потому Михаил Петрович не мог меня застать дома и поручил сыну А. П. Елагиной, известному составителю «Белевской Вивлиофики» Николаю Алексеевичу Елагину лично передать мне его благодарность за письмо. Это обстоятельство доставило мне случай близко познакомиться не только с Николаем Алексеевичем, но и с его матерью, женщиною очень умною и религиозною. Когда осенью Елагины переехали на жительство в Белев28, я часто бывал у них. Старушка так полюбила меня, что иногда в неделю раза по два присылала за мною, чтобы вместе что-нибудь почитать или о чем-нибудь новеньком в литературе побеседовать. Раз как-то Николай Алексеевич прямо из монастыря после царского молебна увез меня к себе обедать. Первым предметом разговора со мною Авдотьи Петровны на этот раз был упадок Белева в последние годы и воспоминание ее о том, что такое был Белев в конце прошлого столетия и в первой половине нынешнего. Мало-помалу речь у нас склонилась к тому, как бы хорошо было написать историю Белева в связи с отечественною историей для преподавания ее в училищах г. Белева и сельских школах Белевского уезда. Тогда Николай Алексеевич предложил мне взять на себя труд составить такую историю для своего училища имени поэта Жуковского, обещаясь летом передать мне весь «белевский отдел» собранных им старинных рукописей и актов, относящихся до истории Белева и Тульской губернии, и взять на себя все хлопоты по изданию такой истории. Авдотья Петровна со своей стороны обещала сообщить мне все, что только ей известно из истории Белева, и просила меня заняться составлением первого опыта местной истории для преподавания ее в училище Жуковского. Я с удовольствием выразил свое на это согласие, и мы сообща начали обдумывать план нового учебника по русской истории в связи с историей местною29. Вдруг раздался звонок, и через минуту в гостиную вошел довольно молодой человек с обычными манерами самого изысканного салонного кавалера и отрекомендовался помещиком Жиздринского уезда Владимиром Павловичем Скавронским30.
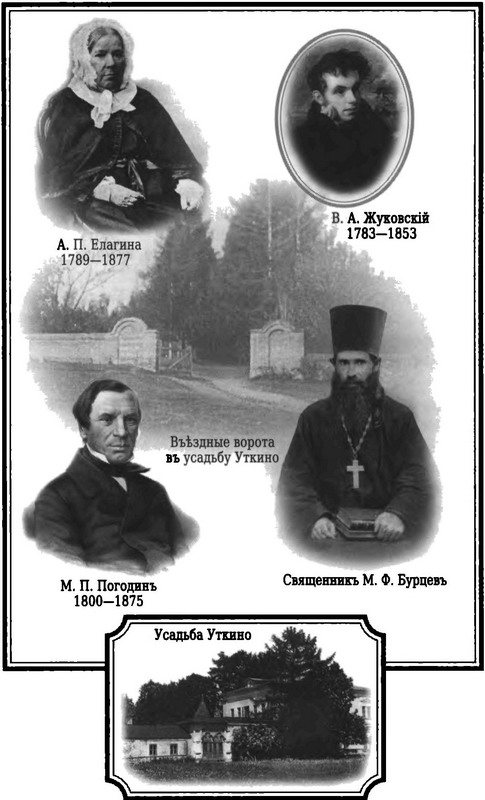
С каким-то особым подобострастием поцеловав руку у Авдотьи Петровны и почтительно раскланявшись с Николаем Алексеевичем, В. П. Скавронский даже и простым наклонением головы не ответил мне на мой ему поклон и преспокойно сел на мое место у стола.
– Рекомендую вам, – сказала Авдотья Петровна Скавронскому, указывая на меня, – это мой почти всегдашний собеседник.
Скавронский, взглянув на меня, слегка качнулся всем корпусом в своем кресле, как бы в знак своего согласия со словами Авдотьи Петровны или поклона мне.
– Это, – продолжала Авдотья Петровна, – тот самый городской священник, письмо которого М. П. Погодин напечатал во втором издании своей «Простой речи о мудреных вещах».
Скавронский снова качнулся в своем кресле.
– Вы читали это сочинение Михаила Петровича? – спросила его Авдотья Петровна.
– Да, имел несчастие и ужасное терпение прочесть его.
– Несчастие!? Стало быть, оно вам не понравилось?
– Помилуйте, Авдотья Петровна! Кому же такая чушь может понравиться? Погодин при старости лет уронил себя пред глазами всего мыслящего мира, издав такую нелепую книгу.
– Но чем же она нелепа?
– Помилуйте! В ней он проводит ужасные идеи, проповедует средневековые заблуждения, старается утвердить в народе веру во все предрассудки. Можно ли это делать в наш философский век? Христианство ныне уже отживает свои последние годы, а он старается его поддержать. Философия проводит в жизнь новые, благодетельные для человечества идеи равенства и свободы, а он стоит за христианство, не допускающее ни того, ни другой. Естественные науки открывают одну истину за другой, а он плюет на Дарвина – этого величайшего ученого нашего времени. Напиши такую книгу какой-нибудь иезуит или вот этот батька, это было бы делом обыкновенным, но раз ее написал Погодин, имеющий европейскую известность, ученый и публицист, это скандал в ученом мире.
– Напротив, это есть великая заслуга.
– Ах! Ради Бога пощадите! Ныне век просвещения. Философия ныне для человечества всё. Она его первый друг. Она уже оказала ему неоцененные услуги и еще окажет. Она первая возвысила свой голос против всех средневековых предрассудков и суеверий, лжи и заблуждений, коренившихся в народе под именем религиозных обычаев, верований и убеждений. Она облагородила, возвысила и просветила человечество. И кто смеет ныне бросать в нее комами грязи безнаказанно?
– Но ведь всему есть свое место и своя цена: философия имеет свое значение и свою область, а богословие – свое, более важное значение и свою, не менее обширную область знания. Бог, человек и природа – вот три главнейших предмета наших познаний! Ими-то и занимаются как богословие, так и философия как науки, каждая своей собственной области, но притом так, что обе эти науки должны приводить нас к познанию истины и Самого Виновника всякой истины.
– Разумеется. Но богословие уже отжило свой век. Пора религиозного миросозерцания давно уже прошла, и настала пора мировоззрения нового, более светлого и более разумного, философского. Ныне всякое благо для человечества исходит не от религии, а от философии. Религия, напротив, ныне тормозит всякое благо человечества. Да она и всегда была такова, а в особенности христианство, своею неподвижностью освятившее на все времена обычаи варварства и порядки древнего, римского мира, вовсе не знакомого с философией. Оно, например, освятило рабство женщины, оно же освятило и рабство невольников. Философия же против всего этого восстала как против зла, как против препятствия человечеству достигнуть совершенства и возможного на земле счастья. Не будь Гегеля и других, равных ему великих мыслителей, никогда не было бы на свете ни освобождения крестьян и негров-невольников, ни вопроса о равноправности женщин. Все эти вопросы были возвещены человечеству именно философией как доселе неведомые истины, как величайшие блага для человечества.
– Батюшка! – обращаясь ко мне, сказал Николай Алексеевич. – Это по вашей части. Владимир Павлович нападает на христианство, а вы служитель Церкви Христовой и должны защитить свою веру.
– Конечно, – ответил я, – на мне лежит обязанность защищать веру Христову от нападений неправомыслящих, и если бы Владимир Павлович сделал мне честь выслушать меня, я постараюсь доказать, что он не прав.
– Ах, это было бы очень интересно! – с каким-то пафосом вскрикнул Скавронский. – Слышать, как русский батька будет отстаивать христианство, отживающее свой век, и отвергать великое значение философии для современного человечества, это неожиданная новость: известно, что все наши батьки, как батьки, умеют только крестить, хоронить, венчать да обирать прихожан и более ничего не делать.
– Вы ошибаетесь, – сказала Авдотья Петровна, – я вам гожусь уже в прабабушки и потому больше вас всего видела на свете: я встречала на своем веку много ученых и дельных священников и могу сказать смело, что они подчас знают больше нашего и лучше нашего понимают вещи, но по смирению своему больше молчат, чем говорят.
– Может быть, я ошибаюсь, только мне нигде не пришлось видеть таких священников, которые бы кроме своего богословия знали что-нибудь другое. Поэтому мне приятно будет видеть хоть один экземпляр иного рода. Но мне, Авдотья Петровна, пора с вами проститься. Я только явился к вам засвидетельствовать мое высокое вам уважение и передать поклон моей матушки, которая лично вас знает, более же не смею вас отрывать от ваших постоянных занятий.
– Нет! – сказала Авдотья Петровна. – Это значит, вы не хотите нас удостоить чести доказать батюшке правоту ваших мнений или же бросаете перед ним pas. Вы останетесь у нас кушать и побеседуете с нами. Мне очень приятно вас видеть, а еще приятнее будет послушать вашу беседу с батюшкою. Я подобные беседы вообще очень люблю.
– Очень вам благодарен. Отказываться не смею. Наступило минутное молчание.
– Ну-с, – сказал Скавронский, прерывая это молчание, – я утверждаю, что философия первая возвестила миру устами Гегеля и других философов нынешнего века, что все люди равны между собою по человеческому естеству, а потому никакое рабство ни в жизни общественной, ни в жизни частной, семейной не должно быть терпимо как несогласное с требованиями здравого человеческого смысла. Отсюда у нас вопросы крестьянский, негрский и женский. Я положительно утверждаю, что христианство своим появлением во времена римского всемирного владычества освятило рабство и возвело его в положительный закон, а философия возвестила миру свержение этого ига. А вы находите это суждение мое неправильным?
– Да, – отвечал я, – прежде всего, вы здесь не стоите на поприще исторической правды даже относительно самого появления в свет вопросов об освобождении крестьян, прекращении невольничества негров, эмансипации женщин.
– Это как же так?
– Очень просто. Вопросы эти существовали еще до Гегеля. Мы имеем ясное свидетельство истории о том, что еще Екатерина II в начале своего царствования думала уничтожить или, по крайней мере, ослабить крепостное право как противное духу христианской религии; при Павле же I мы уже встречаемся с законоположением о днях рабочих на помещиков и нерабочих, вытекшим из вопроса об освобождении крестьян. С другой же стороны, история литературы свидетельствует, что в начале нынешнего столетия у нас уже существовал целый отдел литературы, поставивший своею задачею провести в жизнь вопрос об эмансипации женщин.
– Где же вы это нашли?
– Это так, – сказала Авдотья Петровна, – батюшка говорит верно; я сама переживала в ту пору те же тревоги женщин из-за ничего, какие переживают нынешние женщины, добивающиеся эмансипации.
– Ах, да! – сказал Скавронский, смешавшись. – Я смешал: все эти вопросы принадлежат не Гегелю, а философам прошлого столетия.
– Уж не тем ли самым, которые своими учениями породили ужасную революцию, обагрившую кровью невинных всю Европу? – сказал я.
– А хоть бы и тем же самым.
– Но ведь вопрос о равноправности женщин, как известно, был поднят еще греческим философом Платоном; стало быть, почин в этом вопросе не принадлежит философам прошлого века.
– Это вы откуда же выписали? – вскричал Скавронский.
– А вы разве не читали древних классиков? – спросил его Николай Алексеевич.
– Нет, не читал. Но если у Платона и был такой вопрос, то, вероятно, он поднят был на иных началах.
– Конечно, – сказал я, – вопрос этот тогда основывался не на равенстве человеческого естества мужчины и женщины и не на признании за женщиною тех же самых сил умственных и нравственных, какими обладает и мужчина, а на весьма странном обстоятельстве: Платон в своем учении об уравнении прав обоих полов указывал на тот факт, что собаки обоих полов одинаково пригодны к охранению стад и охоте. Все же вопрос этот был поднят, и он в ту пору был очень естествен. И Платону такое приравнение человека к собакам было простительно: он ратовал за такую республику, в которой не было ни семейства, ни собственности, но все было общее, в которой дитя принадлежало не родителям, а республике, стоявшей на военном положении и всегда нуждавшейся в людях сильных, храбрых и закаленных в трудах и бою; он имел в виду Спарту, по своему устройству походившую на знаменитую нашу Запорожскую сечу, где тоже из женщины казаки сделали бы не мать семейства и хозяйку дома, а воина или судью, если бы она там была, потому что они думали не о доме и семействе, а о войне и добыче.
– Вот вы и говорите сами же против себя: сами же доказываете, что при Платоне не могло быть мысли о признании за женщиною одинаковых с мужчиною сил умственных и нравственных, а лишь была мысль о силе физической, развитие которой и в женщине нужно было для республики. Стало быть, вопрос о равноправности женщины всецело принадлежит прошедшему и настоящему векам как вопрос новый, дотоле никому неведомый.
– Вопрос о равноправности служебной все-таки принадлежит Платону, хотя бы и на ложном начале он был им основан; вопрос же о равноправности семейной, следовательно, более нравственной, чем гражданской, всецело принадлежит христианству, а не философии. Не эта последняя, а христианство первое возвестило миру нравственную равноправность женщины, поставив жену-христианку в такое положение, какое ей и должно было принадлежать от первых дней мира, как помощнице мужа, а не рабе, созданной по подобию мужа. Философия лишь сделала то, что извратила смысл христианского учения о равноправности нравственной, сделав из женщины не помощницу мужа и мать семейства, а слабого публичного деятеля, не блюстительницу семейного счастья, а разрушительницу его. Прогрессисты же нынешнего века, прицепившись к кликам философии, протрубили на весь мир, что им вместе с философами принадлежит честь первой в мире проповеди об освобождении женщины от рабства. Но жена-христианка никогда и не была рабою по учению христианскому, а всегда была помощницею своего мужа, блюстительницею семейного счастья и нравственно-свободным существом, составляющим единую плоть с мужем.
– Позвольте! Позвольте! – вскричал мой собеседник. – Как в наш век прогресса и просвещения вы можете приписывать христианству такой взгляд на женщину, когда само ваше христианство едва-едва держится в мире в той форме, в какой оно существовало в первые века нашей эры? Нравственное учение его, пожалуй, еще может быть терпимо, но догматы и обряды отнюдь нет и скоро уничтожатся, расшатанные Фейербахом, Ренаном, Бауэром и другими величайшими мыслителями нашего века. Вообще можно сказать, что мы теперь живем накануне похорон христианства.
– Ах, Владимир Павлович, – сказала Елагина, покачав головой. – Да уж христианин ли вы? Право, мне на старости лет позволительно в этом усумниться.
– Христианин, Авдотья Петровна, и притом христианин самый искренний, – ответил Скавронский очень спокойно. – Я верую во Христа по Ренану и Фейербаху в одно и то же время и нахожу, что такая вера самая лучшая в настоящее время. Что христианство в смысле православия устарело, и мы вообще живем накануне похорон христианства, это несомненная истина, признанная всем мыслящим миром. Теперь выступает на сцену новая религия, более совершенная, чем христианство: это религия разума и чувства, свободы и самоуслаждения, или религия самопочитания не в виде фейербаховской «олицетворенной сущности» человека, а в виде своего собственного я. Да-с, это, верно, так будет.
– Хорошо, – сказал Николай Алексеевич, – мы будем готовиться к встрече проповедников такой совершеннейшей религии, а теперь пока послушаем, что нам батюшка скажет относительно того, живем ли мы накануне похорон христианства или нет. Ему это вернее известно, чем нам с вами.
– Конечно, – подтвердил Скавронский. – Если он хоть сколько-нибудь развитой человек, ему должно быть известно, что христианство с каждым днем все более и более ветшает, стареет и близится к смерти. Этого в наше время один только слепой фанатик может не видеть.
– Положим, – сказал я в ответ, – не вы только один так ныне мыслите о христианстве, но и все прогрессисты наши давно уже от имени какой-то одним только им ведомой науки прокричали на весь мир, будто философия, геология и естествознание пришли в совершенный разрез с христианством в своих изысканиях истины, так что будто бы мы, как выразился Владимир Павлович, находимся накануне похорон христианства, которое будто бы обветшало, как и все в мире ветшает с веками, и будто уже близко то время, когда христианство будет существовать лишь в воспоминании и принадлежать истории заблуждений человеческого рода. Но прогрессисты ваши зашли слишком далеко и злоупотребляют именем науки.
– Прогресс идет вместе с наукою вперед шаг за шагом.
– Вся суть дела в том, что геология находится еще в младенчестве; поэтому то, что ныне отвергает в богооткровенном учении как мнимую выдумку, то завтра признает за истину; что ныне считает последним своим словом, то завтра отвергнет как несостоятельную гипотезу. Возьмите в пример сказание Моисея о единстве происхождения человеческого рода и о всемирном потопе. Давно ли геологи над этим смеялись как над мифом и сказкою? А ныне они сами говорят об этих истинах как о несомненных. Естествознание часто вторгается в чуждую область, вовсе для него непонятную, старается все объяснить одними законами естественными, и оттого впадает в ошибки и заблуждения. Что же касается до философии, то и она напрасно в наше время так высоко поднимает свою голову, возвышает свой голос против христианства и стремится к тому, чтобы похоронить христианство, отнеся его к истории заблуждений человеческого рода. Христианство не устарело и не устареет никогда, потому что оно есть сама истина, свет и сила, дух и жизнь; оно возносит нас на истинную высоту знания и совершенства, так что всякий честный христианский мыслитель есть уже истинный философ, потому что ему уже известны ответы на все вопросы нашего духа, занимающие мудрствующих сынов века сего, философов и прогрессистов. Сами даже современные философы, несмотря на свою войну с христианством, многое похищают у христианства и выдают за свое, разумеется, чаще всего в искаженном виде.

– Помилуйте! Кто же это вам сказал? Московский батька Ключарев в своей нелепейшей проповеди, хотя и очень витиеватой?
– Да, именно он, если это вам угодно. Но протоиерей Ключарев не вашим прогрессистам – покойному Писареву, Цебриковой и подобным – чета: он высокообразованный человек и служитель Церкви Христовой, пользующийся общим уважением, можно сказать, целой России. Что он говорил о философии с церковной кафедры, то говорил верно. Так действительно и есть на деле. Страдая собственною пустотою идей, не умея ничего доказать, а лишь во всем сомневаясь, все отрицая и разрушая, современная философия похищает у христианства всю нравственную часть его учения и тем придает своим системам некоторую благовидность, соблазняющую христиан, мало знакомых или вовсе не знакомых со Священным Писанием и учением Церкви и не могущих понять лживость этих систем. Отсюда же выходит и ваше выражение «нравственное учение христианства, пожалуй, еще терпимо». Почему терпимо? – Потому, что им не брезгают излюбленные ваши философы.
– Но о философах нельзя сказать, чтобы они признавали за истину даже нравственное учение христианства: они и в этом учении много находят несовершенств и стараются очистить его и просветлить.
– То есть попросту, а вместе с тем и по правде говоря, они стараются по-своему его объяснить, чтобы потом выдать его за свое и не сознаться в том, что они целиком берут его из христианства? Это верно.
– Это каким же манером?
– Очень просто. Философам, например, нравится учение христианское о человеке как о существе разумно-свободном и о бесконечном правосудии Божием, но в то же время им не нравится догмат о вечном мучении и Страшном суде, и вот они, с одной стороны, свободу нравственную развивают односторонне до своеволия и независимости от властей, а с другой – стараются все действия человека подвести под закон какой-то необходимости, совершения действий в состоянии невменяемости и неответственности за свободу совести и действий и в то же время придумывают особый на земле «закон возмездия» за добро и зло, носимый человеком в самом существе его, непреложно, всегда помимо нашей на то воли исполняющийся над нами, но будто бы часто ничуть нами не замечаемый. И выходит в их учении путаница.
– Но здесь немногое можно понять.
– Действительно, немногое, но ведь ложь никогда не ходит прямым путем и во свете, а всегда любит ходить закоулками и в полумраке, чтобы не быть узнанною и уличенною в принятой ею на себя личине истины. Однако пойдемте дальше. Философам нравится счастливая жизнь христианских супругов, полная любви друг к другу и ко всем и попечения друг о друге, но в то же время им не нравится заповедь о целомудрии, ненарушении супружеских обязанностей и нерасторгаемости брака, и вот они счастье супружеской жизни хотят видеть лишь в чувстве взаимной склонности и привязанности друг к другу и проповедуют необходимость так называемого гражданского брака; чтобы каждому легче можно было нарушать безнаказанно обеты супружеской верности тем, кто состоит в христианском браке, или без стеснения совести переменять предметы своей страсти, кто не состоит в христианском браке. Нравится им и совершенная нравственная равноправность христианских супругов, но не нравится точное исполнение взаимных обязанностей супружеских, упрочивающее эту равноправность, – и вот они хотят добиться этой равноправности иным путем: они проповедуют равноправность гражданскую, служебную, в силу которой женщина была бы не матерью семейства и блюстительницею семейного счастья, а деятелем общественным и личностью ни от кого независимою.
– Так. Позвольте же теперь спросить: где же у вас в христианстве нравственная равноправность супругов, когда христианство своим учением о нерасторгаемости брака навсегда сделало женщину рабою ее мужа, когда прямо сказано: жены, во всем повинуйтесь своим мужьям, потому что муж есть глава жены, а жена да боится своего мужа? Таким учением христианство закрепило навсегда, освятило законом рабство жены и убило в ней свободу чувства, свободу воли, свободу совести, в особенности же когда еще к этому прибавило, что жена законом навсегда привязана к своему мужу, доколе он жив. Что вы на это скажете? Ведь все это сказано у апостола и читается в церкви при венчании, чтобы жена тверже это знала и не смела помышлять о своей личности.
– Да, сказано. Но отсюда ничуть не следует того, будто христианство освятило законом и навсегда закрепило рабство жены. Если жена законом привязана к мужу, доколе он жив, то из этого следует, что жена не может посягнуть на другого при жизни первого мужа; но это отнюдь не дает права мужу жениться на другой жене при существовании первой, а, напротив, и его, как имеющего уже жену, обязывает не думать о другой. Стало быть, в этом отношении равенство их обоих не подлежит сомнению. Что же касается до того, что муж, по учению апостола, есть глава жены, то отсюда отнюдь не вытекает того, будто жена есть раба мужа. Там же, где сказано: жены, своим мужем повинуйтесь, якоже Господу: зане муж глава есть жены, пояснено, какой именно он глава, не деспот и не тиран, а такой же, якоже и Христос глава Церкви. Там же пояснено и то, как жены должны повиноваться своим мужьям во всем: не рабски, не из страха наказания, но так, якоже Церковь повинуется Христу. Там же сказано еще и то, что любящий свою жену любит самого себя, так как муж и жена составляют плоть едину, а плоть свою никто никогда не ненавидит; поэтому и заповедано каждому любить свою жену, как и себя самого каждый любит. Чего же лучше! Мужу заповедуется не притеснять жену, не властвовать над нею, а любить ее, как свою собственную плоть. Возможно ли тут ваше законом закрепленное и освященное рабство жены?
– Однако же мужу заповедано любить свою жену, а жене заповедано лишь бояться своего мужа. Стало быть, жена не смей даже любить своего мужа и тем более не смей думать о своей личной самостоятельности? Я полагаю, что ведь боязнь, заповеданная апостолом, и любовь жены к мужу вовсе не одно и то же. И выходит: жена, страшись мужа и будь его рабою.
– Отнюдь не выходит! Если бы сказано было «да страшится своего мужа», тогда было бы иное дело. Боязнь и страх совсем не одно и то же: боязнь есть следствие искренней любви, а страх есть следствие сознания своего рабства или заслуженного неминуемого наказания.
– Боязнь, по-вашему, есть следствие искренней любви?
– Да. Если я искренно, от всей души всегда люблю вас, то, конечно, я побоюсь сделать что-нибудь такое, что может вас огорчить, оскорбить, доставить вам хоть малейшее неудовольствие и изменить ваши ко мне отношения. Здесь есть боязнь, но нет рабского страха, потому что совершенная любовь изгоняет страх. Примените же теперь эту боязнь к христианскому супружеству. Муж искренно, всею душою любит свою жену, по заповеди апостола, так же, как и самого себя: неужели же жена, чтобы быть достойною такой любви, по-вашему, не должна заботиться о том, как бы ей каким-нибудь неисполнением своих супружеских обязанностей не оскорбить своего мужа и не охладить в нем чувства искренней его любви к ней? Или, по вашему мнению, она при виде такой любви мужа к ней может страшиться его как своего тирана, деспота или делать, что захочет, нарушая свои супружеские обязанности и беспрестанно оскорбляя мужа? Отсюда, кажется, ясно можно видеть, что вся суть дела заключается в искренней взаимной любви супругов друг к другу, и притом любви не временной, не в порыве только первой страсти, а всегдашней, питаемой ими друг к другу до самой смерти, и в вытекающем отсюда взаимном исполнении супружеских обязанностей. И жена тут вовсе не раба, а такое же точно существо, как и муж: они нравственно свободны и равноправны; чего муж имеет право требовать от жены, того же и жена имеет право требовать от мужа для охранения семейного счастья, и никто не нарушит этой их равноправности, если только они сами не разрушат своего семейного счастья нарушением своих супружеских обязанностей.
– Положим, так. Но все же муж есть глава жены; для чего это он глава?
– А вам бы, вероятно, хотелось, чтобы жена была главою мужа? Попробуйте это сделать! У нас ведь есть женщины, которые, как говорится, держат своих мужей у себя «под башмаком»: лучше ли это? Процветает ли то семейство, в котором жена сделалась главою мужа? Нет. Там непременный разлад во всем: там нет ни любви, ни даже уважения друг к другу; там есть только своеволие, каприз, брань и деспотизм жены; там и дети своему отцу не дети, а пасынки или посторонние, зато и к матери они не имеют должного отношения. Если муж, злоупотребляя своим правом, может сделаться деспотом и тираном своей жены и детей, то жена, злоупотребляя своими обязанностями и подчинив своей власти мужа, делается еще злейшим врагом семейного счастья. Это мы видим на опыте. Но, очевидно, вам бы хотелось, чтобы ни муж не был главою жены, ни жена главою мужа.
– Именно так, потому что где равноправность, там нет ни большего, ни меньшего, а лишь равные; иначе же равноправность немыслима.
– Стало быть, по-вашему, равноправность немыслима и в дворянском сословии, потому что у вас есть предводитель дворянства, и в городском обществе, потому что там есть градский голова? Дело в том, что вы, милостивый государь, сами, кажется, не даете себе отчета в том, какой именно равноправности вы требуете, высказывая ваше желание, чтобы в брачном союзе не было ни большего, ни меньшего. В самом деле, чего вы желаете от супругов, требуя их равноправности? Взаимной любви друг к другу, взаимной верности, взаимного попечения друг о друге, взаимного снисхождения друг к другу, взаимной кротости; словом, того, чтобы один не только не мешал супружескому счастью другого, но и старался всеми силами о поддержании его для общего семейного счастья? Если этого именно, то в этом случае оба они равны, потому что оба они имеют на то одинаковое право и оба в то же время одинаково обязаны заботиться об этом.
– В теории, а не на практике.
– Ну, уж в этом они сами виноваты, если на самом деле у них все выходит не так, как следует по закону. Теперь обратите же вы свое внимание на то, что ведь человек создан не для одинокой, а для семейной жизни и вместе с тем общественной: он трудом должен снискивать себе пропитание; ему необходимо заботиться о воспитании своих детей, иметь дом и при нем хозяйство, входить в сношение с другими людьми и жить не только для себя, но и для блага общественного. Не будь у человека забот ни о чем, живи он, подобно птицам небесным или зверям полевым, которые ни сеют, ни жнут, не заботятся ни о пище, ни об одежде, ни о жилище, ни о воспитании своих детенышей, – тогда было бы иное дело: тогда не было бы семьи, а вследствие того не было бы между людьми ни старших, ни младших, ни большего, ни меньшего. А теперь по необходимости у супругов являются обязанности трудиться для семьи и заботиться о семье и семейном счастье, а вместе с тем и о благе общественном: Вот тут-то и является между супругами различие: труды и заботы их здесь не могут быть безразлично возложены на мужа и жену, но необходимо должны быть разграничены так, чтобы у каждого были своя забота и свой труд для общего блага; различие полов здесь требует различия и занятий, и обязанностей.
– Так что ж из того?
– То, что здесь должен же быть кто-нибудь поставлен во главе исполнения обязанностей и наблюдения за исполнением их членами целой семьи. И кому же поручить это главенство, как не мужу, когда жена есть немощнейший сосуд и не может понести на себе всех тяжестей этого главенства? Естественно, чтобы от него как от сильнейшего и жена и дети ожидали и охранения их от обид и притеснений, и попечения об их жизни и счастье, и соблюдения порядка во всем. Отсюда-то сама собою вытекает некоторая зависимость жены от мужа и необходимость повиновения ему там, где дело касается исполнения ее обязанностей по отношению к детям и хозяйству в доме и благоразумного пользования трудами мужа.
– Но тут муж является лишь попечителем жены и детей, защитником их прав и личной безопасности, блюстителем порядка в семье, а не главою жены, т. е. не повелителем, не господином ее. А ведь сказано: муж есть глава жены.
– Да, сказано, но я уже говорил вам, что там же и пояснено, какой именно он глава: не деспот и тиран, а такой же, якоже и Христос есть глава Церкви. А разве Христос есть глава Церкви в том смысле, в каком вы понимаете это слово? Разве Церковь есть раба Иисуса Христа, а не духовное Тело Его? Откуда же ваши господа философы и прогрессисты выдумали, будто бы христианство закрепило законом и освятило рабство жены, а они первые возвестили миру уничтожение этого рабства? Жена-христианка, как вы сами видите, есть помощница мужа, состоит под его о ней постоянным попечением и охранением, всецело пользуется его к ней любовью и нравственно равноправна с ним. Живи же каждый из супругов по-христиански, и тогда эта равноправность ничем не нарушится и счастье их будет полно. В случае же злоупотреблений одного из супругов своим правом и гражданский ваш брак не сделает женщину счастливою. Даже напротив, в гражданском браке для мужчины и женщины нет счастья: там есть лишь временное увлечение безумною страстью и потом непременная гибель одного из вступивших в этот брак, и этим одним всегда будет женщина. Там она даже ниже рабы, игрушка, не более, а игрушка известно, какой имеет конец: не ныне, так завтра наскучит, и ее бросят или разобьют.
Скавронский в это время молча взглянул на Авдотью Петровну, как бы прося ее высказать свое мнение по этому предмету.
– Батюшка совершенно верно судит о христианском супружестве, – сказала Авдотья Петровна, поняв взгляд на нее Скавронского за его желание знать ее личное мнение. – Только лишь тот не согласится с его суждением, кто не всматривался в истинно счастливую жизнь христианских супругов и не видел жизни людей, состоящих в гражданском браке. Я же на своем веку имела множество случаев убедиться в том, что ваш гражданский брак есть совершенная гибель для обеих половин, особенно же для женской.
– Но у нас гражданский брак еще не допущен, – возразил Скавронский.
– Да, не допущен законный, зато в тысячах случаев явно для всех существует незаконный, а ведь и ваш законный будет не лучше незаконного.
– Положим, Авдотья Петровна, батька верно судит о браке со своей точки зрения, а все же для счастья женщины нельзя не желать важных перемен в ее теперешнем положении. Ну, теперь первое дело – равноправность гражданская, служебная для нее совершенно необходима, чтобы она лучше могла располагать собою. Но батька стоит даже против такой, совершенно законной уступки женщине.
– А для чего женщине нужна общественная служба? – возразил я. – Разве у нашей женщины нет никакого сродного ей важного занятия, которое ничуть не ниже службы общественной и исполнение которого имеет важное значение для общества?
– Конечно, у нашей женщины, кроме приемов и визитов, никакого занятия нет.
– Да это даже не занятие, а так себе, что-то вроде безделья и напрасной траты времени. Но у женщины есть и дело очень серьезное.
– Какое же именно? Неужели хозяйство? Положим, и этим она должна заниматься, но уж это слишком обыденно и не всякая женщина к тому способна.
– А воспитание детей? Неужели это несерьезное занятие?
– Но для этого у нас есть гувернеры и гувернантки.
– Да! Есть наемники и наемницы в большинстве случаев? Но ведь наемник не пастырь, гувернер не отец и гувернантка не мать; им ваши дети не так дороги, как вам и вашей жене, а их матери: каковы бы они ни вышли из их рук, плохи ли, хороши ли, для большинства из них это безразлично, лишь бы вы исправно платили им жалованье. И неужели на них можно положиться вполне, без оглядки назад и без обращения своего внимательного взгляда вперед? Даже если вы точно найдете прекрасных гувернера и гувернантку, неужели это слагает с матери ее обязанность заботиться о воспитании детей?
– Конечно, она может быть покойна на этот счет и предоставить детей полному попечению о них гувернантки.
– Нет! Она этого не должна делать. Воспитание детей и заботы о них со дня рождения их и до поступления в школу всецело должны принадлежать самим родителям, и матери по преимуществу пред отцом, потому что лишь она одна способна к тому, чтобы своею нежностью и любовью к детям в самом еще раннем их возрасте развить их ум и сердце и положить прочное основание дальнейшему их воспитанию. Правильное домашнее воспитание дело очень серьезное, стоящее особого внимания родителей и имеющее влияние на всю последующую жизнь детей. Оно и самой школе дает возможность дать детям такое воспитание, которое сделает их истинными сынами или дочерями Православной Церкви и Отечества, добрыми семьянинами и честными гражданами. И неужели, по-вашему, такое занятие для матери низко или слишком обыденно? Неужели обязанность дать Церкви и Отечеству истинно полезных членов в лице своих детей ниже службы общественной, хуже какой-нибудь должности секретаря или судьи? Неужели такую мать, которая сама занимается воспитанием своих детей, кто-нибудь посмеет попрекнуть куском хлеба, когда она чрез то сбережет в доме те сотни рублей, который бы пошли на наем и содержание гувернеров или гувернанток? Напрасно же многие женщины желают себе общественной службы под тем предлогом, будто бы им хочется иметь не мужнин, а свой, трудовой, беспопречный хлеб. Они из рук выпускают этот хлеб, не занимаясь воспитанием своих детей и тратя время на визиты, приемы и погоню за призраками в роде общественной службы.
– Положим, так: у жены тогда будет свой, трудовой, беспопречный хлеб, но ведь не всякая мать способна сама заниматься воспитанием своих детей: у нас доселе и самим матерям-то не давали достаточного образования.
– А! Вот это совсем иное дело. Так не лучше ли бы сделали ваши господа философы и прогрессисты, если бы провели в современную жизнь идею о необходимости хорошего научного и нравственно-религиозного воспитания женщины не для того, чтобы ей выступить на поприще гражданской общественной деятельности, а для того, чтобы она была способна воспитать своих детей в духе веры и благочестия и сделать из них людей честных и полезных для Церкви и общества? Но ведь и сейчас мать напрасно хочет оправдать себя своею мнимою неспособностью заняться воспитанием своих детей.
– Как же напрасно?
– Да так. Если она не может заняться научным воспитанием, то нравственным всегда может и должна заниматься, не полагаясь в том на людей; равным образом и наблюдать за занятием с детьми учителя ли домашнего или гувернантки она всегда может. Без ее здесь участия и помощи дело обходиться не должно, особенно если учитель или гувернантка таковы, каких есть большинство, т. е. ведут свое дело так себе, лишь бы день прошел да жалованье получалось; если гувернантка заботится больше о том, чтобы в детях побольше было светского лоску, а учитель о том, чтобы дети потверже готовили ему уроки.
– Да ведь об этом им нельзя же не заботиться.
– Нельзя? Но ведь это мишура, а не золото, это не воспитание детей, а уродование их, если при этом не обращается почти никакого внимания на их нравственное воспитание и им не дается, правда, первоначального, но, тем не менее, прочного и основательного понятия о самых необходимых для каждого предметах знания, т. е. не дается им ясного и правильного понятия о Боге как Творце и Промыслителе мира и человека, Спасителе и Судии нашем, о человеке как существе богоподобном и его назначении и обязанностях по отношению к Богу, ближним и самому себе и о природе видимой как великой книге Творца, в которой всюду весьма явственно видны следы премудрости, всемогущества и благости Божией. Впрочем, я должен вам сказать, что звание гувернантки – вообще весьма почтенное и очень приличное для женщины. Желательно бы лишь было то, чтобы эти воспитательницы молодого поколения всегда с любовью относились к своему делу и вышли из той обычной колеи, в которой большинство их вращается, смотря на свое дело не как на призвание, а как на ремесло.
– Так вы решительно стоите против служебной равноправности женщины?
– Этого я вам не скажу. Если она хочет, пусть несет и общественную службу, но такую, которая бы была ей свойственна.
– Например, какую бы? Телеграфистки, доктора, поверенного?
– Женщине по преимуществу принадлежит воспитательное служение обществу: пусть она и служит усерднее всего на этом поприще, в звании ли гувернантки, или в звании начальницы женского учебного заведения, или только воспитательницы, или в качестве писательницы, или даже в качестве только матери семейства. Если ей нужен почет, нужны чины и ордена, пусть ей дадут их... Пусть и для женщин будут установлены какие-нибудь знаки отличия для поощрения ее служения обществу.
– Я нахожу, что это даже необходимо, – сказала Авдотья Петровна, – и, по моему мнению, великую награду нужно бы было выдавать той матери, которая воспитает своих детей в духе веры и благочестия и даст Отечеству истинно полезных членов на том или другом поприще службы. Вот, например, матерям таких людей, как протоиерей А. О. Ключарев, или как М. П. Погодин, Ю. Ф. Самарин и т. п., непременно следовало дать орден первой степени, если бы у нас существовали ордена для женщин. Такие люди краса целой России, гордость Москвы, радость всякого истинно русского человека: неужели же матери, родившие и воспитавшие таких детей, меньшую сослужили службу обществу, чем любая нигилистка, взявшаяся за то, чтобы быть доктором, или телеграфисткой, или литераторшей, для которой, пожалуй, наши прогрессисты были бы готовы учредить не один, а целые десятки знаков отличия как для деятеля общественного?
– Ну-ну! – сказал Скавронский. – С такими тенденциями далеко не уйдешь. Замужняя женщина, пожалуй, еще хорошо проживет свой век, если и она сама и муж ее будут жить в мире и согласии и довольстве во всем; но что прикажете делать девицам, страдающим под гнетом деспотизма родителей, часто ввиду пьянства, буйства и распутства отца или матери? Или что прикажете делать тем несчастным девицам, которые ныне служат горничными и швеями из-за рубля в месяц и терпят притеснения от хозяев?
–Так что же? – возразил я. – Неужели, по-вашему, и тут опять всему виною христианство? От чего происходит гибель этих девиц? Не от того ли, что родители злоупотребляют своею властью, а разные господа и госпожи эксплуатируют труд бедной прислуги и смотрят на нее как на рабочее животное? Так станьте же вы тут со своими философами и прогрессистами на помощь христианству: проведите в жизнь сознание того, что ни родители, ни дети, ни господа, ни слуги не должны нарушать своих христианских обязанностей по отношению друг к другу; позаботьтесь о том, чтобы родители не злоупотребляли своею властью и не раздражали своих детей, а дети не ослушались родителей и не убегали от них, чтобы господа и хозяева не пользовались напрасно чужим трудом, не притесняли прислугу и не заводили у себя гаремов, а слуги честно исполняли свои обязанности службы и заботились об охранении своей нравственности. Тогда вы увидите не то, что часто теперь приходится видеть. Что же касается до вашего гражданского брака или служебной равноправности, то они этой беде ничуть помочь не могут.
– Однако же! Тогда многие девицы, живущие под игом родительского деспотизма или эксплуатируемые хозяевами, лучше могли бы упрочить свою независимость. Одни из них могли бы поступить на гражданскую службу.
– Но для этого им нужно быть более или менее образованными, а образованные девушки и теперь, во всяком случае, лучше могут себя обеспечить, чем при поступлении на службу прямо с должности писца за пять или десять рублей жалованья в месяц. Сверх того, если вы хотите допустить их до совместной с мужчинами службы в каком-нибудь присутственном месте, позаботьтесь прежде о том, чтобы в тех и других убить естественное чувство любви и желание нравиться друг другу, иначе же ваша девушка-писец или сделается страшною интриганкой, если какой-нибудь начальник обратит на нее свое внимание, или же совсем потеряет себя.
– Нет! Вот тут-то именно и поможет ей гражданский брак. Он вообще великое благо для человечества. Если бы он был у нас дозволен, им многие пользовались бы. Чуть только отец вздумал бы жестоко обращаться со своею дочерью, она сейчас же бы вступила с кем-нибудь в гражданский брак хотя бы на один день, чтобы выйти из-под власти отца. Чуть какой-нибудь начальник вздумал обратить свое внимание на подчиненную, она сейчас же потребовала бы заключения брачного контракта и обеспечила бы свою участь. Вообще, тогда девушка заключила бы с кем сама захотела брачный контракт, пожила бы со своим мужем, сколько ей ложилось, или пока устроила бы свою судьбу приисканием хорошего места, да и раскланялась бы с ним. Она была бы госпожа своей свободы и личности. Тогда и горничные наши не вдавались бы в обман. Чуть какой-нибудь барин или барчук, хозяин или его сынок вздумал бы обратить на нее свое внимание, она тогда преспокойно потребовала бы брачного контракта и сама сделалась бы госпожою или хозяйкою. Уж тогда никто не посмел бы заклеймить ее позором или обозвать падшею и содержанкою. – Ну-ну! Если бы это было именно так, вы скоро весь мир заселили бы существами, ничем по своей жизни не отличающими себя от животных. Но ведь человек не животное неразумное: в нем есть чувство совести, сознание долга и отвращение от такой необузданности, какая необходимо появилась бы при подобном заключении брачных контрактов. Зачем же вы хотите убить в нем все благородные чувства и стремления? Зачем из человека вы хотите сделать скота бессмысленного? Такой гнусной распущенности нравов, какая водворилась бы у нас с вашим гражданским браком, нет даже у дикарей, а ведь их обыкновенно называют детьми природы! Не ясно ли из этого последнего факта, что такого скотоподобного сожития гнушается сама природа человеческая? А вы его проповедуете как великое благо для современного человечества! Это не благо, а величайшее для нашего времени зло: оно поведет не к возвышению и облагораживанию человечества, а, напротив, к нравственному и физическому его растлению и разложению. Взгляните вы на древний языческий мир: в Греции и Риме не процветало ли развращение нравов при конце языческого мира, и что сталось с этим миром? Не одряхлел ли он и не дошел ли до разложения как нравственного, так и физического? Вам хочется, чтобы и с нашим современным миром случилось то же, т. е. чтобы он начал быстро разлагаться и устремился к погибели? Потерпите! Это время придет само собою, и зачем его ускорять? Лучше предоставьте все естественному ходу событий и действию в мире того беззаконника, которого христианство ожидает в мире в свое время, а не становитесь заранее в ряды его служителей. Почитайте-ка Апокалипсис и увидите, каково будет время господства в мире этого беззаконника и чем все кончится.
– Однако! Вы уже заговорили тоном проповедника.
– Может быть. Только подумайте, каким лучше быть проповедником: проповедником ли строгой христианской нравственности супружества или же проповедником распущенности и растления нравов?
– По-моему, лучше быть человеком передовым, чем отсталым.
– Пожалуй, и, по-моему, так. Только вот в чем вопрос-то: где истинная отсталость? Ведь в христианском учении ее, в действительности, нет. Христианство постоянно ведет нас вперед по пути нравственного усовершенствования, оно возводит нас от совершенства к совершенству и никогда не состарится как истина непреложная. И самый прогресс, но прогресс не мнимый, а истинный, должен состоять не в стремлении к разрушению основ христианства, а в проведении в современную жизнь идеи всецелого повиновения всех и каждого христианскому учению как истине. Только лишь в точном, неуклонном, сознательном и искреннем исполнении требований христианства все народы найдут мир и благоденствие, истинную свободу и равенство всех пред законом Божиим и человеческим, счастье и блаженство.
– Правда ваша, – сказала Авдотья Петровна, – насколько я знакома с христианским учением, настолько же и убеждена в том, что христианство есть религия мира и любви. Стало быть, стоит только всем и каждому в точности исполнять ее требования, и тогда все будет хорошо. Незачем поэтому и нападать кому бы то ни было на христианство, умышленно ли или по незнакомству с его учением приписывая ему то, чего оно не проповедовало, не освящало и не возводило в закон.
– Но если христианство не освятило рабства женщины прямо, – сказал Скавронский, – то оно подало повод к установлению этого рабства своим законом о нерасторгаемости брачного союза.
– Извините! – ответил я. – Расторгаемость брачного союза допущена, только не по всякой вине, по какой бы кому вздумалось разойтись друг с другом, а лишь по одной, совершенно законной причине.
– Да! Но даже и в этом случае дело развода сопряжено с большою проволочкою времени и непременным обвинением одного из супругов. Положим, что эти затруднения дело администраций, но почему бы не допустить свободного развода вообще по нежеланию одного из супругов жить с другим лицом супружеского союза? Это было бы лучше. Не захотел муж жить со своею женою, не нравится она ему, полюбил другую, ну и конец бы всему! Сейчас же разводную, да вновь жениться, а жена выходи за другого. Равным образом и жена не захотела жить с мужем, и опять конец брачному союзу!
– Одним словом, почему бы не сделать так, как будет в вашем гражданском браке? Конечно, это было бы хорошо для людей, не чтущих целомудрие, но ведь христианская религия есть проповедница святости и чистоты, а не скотоподобного сожития, да и для самого счастья-то человека на земле проповедуемое вами и вашими философами и прогрессистами своеволие пагубно, а христианство печется даже и о земном счастье человека.
– Нет! Одним словом, это ужасное учение: не хочешь да живи до конца жизни с существом, вовсе тобою не любимым.
– Ив этом виноваты вы сами со своею нелюбовью, а не христианство, заповедавшее нам любить всех, даже и врагов наших, и терпеть до конца.
Подали обед, и мы прекратили свою беседу.
II
– Надеюсь, Владимир Павлович, вы еще не кончили своего разговора с батюшкою, – обратилась Авдотья Петровна к Скавронскому, когда мы вышли из-за стола.
– Конечно, не кончили, – ответил Скавронский, – мы еще не касались вопросов крестьянского и негрского, или рабства в собственном смысле слова. И я надеюсь доказать батьке, что христианство здесь было причиною этого величайшего в мире зла, освятив рабство, а философия восстала против этого зла и вообще против христианства в защиту истинных прав человечества.
– А батюшка так будет добр, что не откажется принять ваш вызов на состязание, – сказал Николай Алексеевич с особым ударением на слове «батюшка», как бы в явный укор Скавронскому, всегда мне говорившему «батька», и притом непременно с гримасою, точно он произносил самое неприятное для него слово.
– Разумеется, – ответил я, – мне будет приятно доказать Владимиру Павловичу противное.
– Посмотрим, – сказал Скавронский. – Вот же вам мое положение, которое вы должны опровергнуть: христианство, появившись в мире во времена римского владычества, когда рабство было всеобщим явлением в мире, не только не свергло с человечества такого ига, но еще освятило его как явление вполне естественное и сообщило ему новую жизненную силу, приведшую христиан последующего времени к постыдной торговле неграми-невольниками; философия же, как истинный друг человечества, первая восстала против этого зла, возвестив миру совершенно новую, дотоле неведомую истину, именно ту, что и крестьянин, и раб восточного деспота, и негр-невольник суть такие же существа, как и все люди, и что поэтому и эти несчастные должны пользоваться такою же свободою, как и все прочие люди.
– Неправда! Еще первая из священных книг, книга Бытия, возвестила нам, что весь род человеческий произошел от одной только первозданной четы, созданной Богом по образу Божию и по подобию, и что поэтому все люди имеют одинаковое богоподобное естество по своей душе, а по телу тленные. Стало быть, та истина, что все люди суть люди, была известна еще ветхозаветному человечеству. Христианство же не только не затмило этой истины, но, напротив, вполне развило ее до совершенства. Самим же Спасителем нашим было возвещено, что все люди не только одинаковые с нами существа, но и суть ближние наши, и что со всеми мы должны обходиться так же кротко, справедливо и милостиво, как бы мы хотели, чтобы и все другие с нами поступали; мало того, Он даже заповедал нам любить самих врагов наших, а рабы еще не враги владельцев, и следовательно по Его учению должны были считаться такими же ближними, как и свободные люди. Затем апостол Павел, будучи приведен в афинский ареопаг, говорил там членам ареопага: «Бог, сотворивший мир, от одной крови произвел весь род человеческий, для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Стало быть, он весьма ясно здесь высказал учение о единстве человеческого рода. В посланиях же своих к Римлянам и Галатам он писал: «Нет лицеприятия у Бога. Все, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного: ибо все одно во Христе Иисусе». Стало быть, он здесь ясно возвещал, что пред лицом Правосудного Бога и пред лицом общей нашей Матери – Церкви Христовой – все люди равны, если они веруют во Христа. А так как весь закон основывается на заповедях о любви к Богу и ближнему, и ближнего мы должны любить, как самих себя, и так как, с другой стороны, мы должны быть ко всем без различия милосердны так же, как и Отец наш Небесный милосерд к нам, – то не вытекает ли отсюда то, что христианство освятило не рабство, а свободу во всяком звании и состоянии, в каком бы кто ни был, что оно первое возвестило миру ту истину, что и раб и невольник, будучи таким же нашим ближним, как и свободный гражданин и господин, суть такие же наследники вечного Царствия, как и все, и что поэтому с ними все должны обращаться с такою же кротостью и любовью и с таким же уважением к их личности, с какими мы относимся к людям свободным и господам?
– Положим, что все это было сказано, но сказано так общо, что истина оставалась непонятою и рабство осталось в прежнем виде.
– То есть вы хотите сказать, что мир чуть не две тысячи лет был глух к этой истине, а потом вдруг внял ее голосу? Это верно.
– Да нет же! Истина эта доселе не была подтверждена наукою, не была наглядна. Только лишь новейшие исследования ученых доказали единство происхождения человеческого рода и единство сил душевных у всех народов, племен, сословий и полов. Философия раскрыла эту истину, уяснила ее и возвестила миру во всеуслышание, что все люди суть люди, равные между собою по естеству. И она возвестила это миру, настоятельно требуя признания за всеми людьми одинаковых прав на уважение их личного достоинства и неприкосновенность их труда. Мир внял этому голосу философии, и все пошло понову! На бедных крестьян и невольников начали смотреть не как на какое-нибудь рабочее животное, одаренное даром слова, а как на существо мыслящее, достойное любви и пользования свободою.
– То есть, философия давно известную всему христианскому миру истину выдала за свое собственное произведение? Не спорю.
– Да нет же! Она совсем иначе поставила вопрос. Она прямо возвестила миру уничтожение рабства и невольничества, как великих зол, несообразных с достоинством человека. А ведь христианство-то этого не сделало. Оно даже закрепило рабство. Ведь вы не можете отвергнуть того, что у апостола Павла не раз говорится в посланиях: «Рабы! Повинуйтесь своим господам»? Что это, как не освящение рабства, закрепление его на целые тысячелетия и признание его господства в мире?
– Да, это, точно, сказано у апостола Павла. Но зачем же вы, останавливаясь только этих словах апостола, не берете во внимание других, рядом же с ними стоящих?
– Каких же это?
– А вот каких: «И вы, господа, поступайте с ними так же», т.е. как рабы Христовы, «оказывая им должное и справедливое, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия. Каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный». (Еф.6:8 и 9), и еще: «Любовь не делает ближнему зла; она есть исполнение закона» (Рим.13:10). Не ясно ли отсюда, что и самим господам предписаны были обязанности по отношению к служащим у них под одинаковою ответственностью пред Богом за нарушение их? Как же вы говорите, что христианство было причиною великих зол: хотите ему приписать освящение, узаконение, оправдание тех жестокостей и притеснений, какие наши крестьяне и негры-невольники терпели от своих владельцев? Ведь все это происходило не от того, чтоб господа наши и торговцы невольниками следовали предписаниям закона Божия, а, напротив, оттого, что они вовсе не слушали голоса христианского учения в этом случае и поступали вопреки этому учению по своему произволу.
– А все ж таки сказано ведь: «Рабы! Повинуйтесь своим господам». Отчего бы апостолу не сказать, как сказала наша философия: «Рабы! Нет над вами властителей. Вы больше не рабы, а свободные граждане. И вы, господа, отпустите своих рабов на волю: они такие же точно люди и такие же граждане, как и вы сами, и не должны вам повиноваться»?
– Казалось бы, так. Но вы забываете слова Спасителя: «Царство Мое не от мира сего». Христианство никогда не касалось политики и не вмешивалось в чуждую ему область, во внешнее устройство гражданских обществ, не изменяло насильственно существовавших в государствах порядков и не производило переворотов или революций. Оно появилось в мире в ту пору, когда рабство существовало; проповедано же оно было не мечом и огнем, подобно магометанству, а простой устной речью, дышавшею кротостью и любовью ко всем и пронесенною по вселенной людьми самыми бедными, отрекшимися от мирских почестей и земной славы. И возвещаемо оно было этими людьми не как законоположение гражданское и политическое, а как закон нравственный. Не касаясь порядков благоустройства гражданского, не производя никаких политических переворотов и изменений во внешнем строе гражданских обществ, оно лишь возвещало миру спасение и заботилось о насаждении мира и любви в сердцах всех людей, начиная от государей и господ и до последнего раба, осужденного на смерть от руки палача или на съедение зверям, и всех равно призывало в благодатное Царствие Божие, в каком бы кто звании и состоянии ни был. Оно каждому предписывало такие обязанности его звания, исполняя которые, он мог быть и истинным членом Церкви, и наследником Царствия Небесного, и честным, полезным, мирным гражданином. При этом оно явно стремилось к водворению в обществе мира и спокойствия, когда притеснителям грозило судом Божиим, а притесняемых утешало обещанием награды за терпение. И мы видим в истории, что в первых христианских обществах господствовали мир и любовь ко всем, благотворительность и взаимное попечение друг о друге, общительность и равноправность: там и раб и свободный, господин и слуга были равны пред лицом Церкви и церковного суда, каждому воздавалось должное и справедливое.
– Да, это было только вначале, а потом что вышло из всего этого, в конце концов? Угнетение рабов и торговля невольниками?
– Впоследствии многие уклонились от точного исполнения своих обязанностей, стали больше заботиться о своих прихотях, и вышло нестроение: господа и владельцы стали смотреть на слуг и рабов как на полную свою, неотъемлемую собственность, которою они могут распоряжаться, как только им вздумается, и завладели не только гражданскою, но и нравственною их свободою. Но кто же в этом виноват? Неужели христианство? Нет, не оно, – а законы гражданские, не предупреждавшие и не пресекавшие своеволия владельцев и господ. Церковь всегда вопияла против нарушения и попрания человеческих прав и человеческого достоинства несчастных рабов и против жестокого с ними обращения; но ее обличений и увещаний не слушали. Здесь нужна была власть гражданская для прекращения своеволия, но и эта власть скорее потворствовала ему, чем заботилась о его прекращении: крестьянин и негр-невольник, можно сказать, были безответны пред судом представителей этой власти и в недавние времена, а властелин всегда был прав, как бы жестоко ни обращался он со своими подвластными. Сами законы-то гражданские в этом отношении были источниками зла, потому что они не стремились к прекращению этого зла и не сообразовались с духом любви христианской: они не были для всех равно одинаковы и не подвергали справедливой каре тех, кто на своих подвластных смотрел как на рабочих животных и ценную собственность, и в полном смысле слова испивал их пот и кровь, и заставлял их проливать горючие слезы, стеная под игом рабства. Можно было ожидать помощи от философии, но и она сама целые тысячелетия смотрела на человека слепыми очами духа времени и не заботилась о том, чтобы идти рука об руку с христианским учением о личности и нравах каждого человека. Наконец, она, как бы очнувшись от долгого и непробудного сна, вступилась за права несчастных, но не как провозвестница чистой истины, а как хитрая лицемерка: она прибегла к явной лжи, всю тяжесть зол в мире, происшедших от рабства и невольничества, возлагая на ответственность христианства, а себя выставляя первою проповедницею в мире тех высоких идей человеколюбия и равноправности, которые давно уже были возвещены христианством и не могли не быть известными как самой философии, так и всем миру.
– Так вы решительно никакой заслуги в этом великом деле не признаете за философией? Это немыслимая вещь.
– Я признаю за нею, а равно и за прогрессом и цивилизацией, ту именно услугу человечеству, что они провели в жизнь и убеждения современного человечества необходимость уничтожения рабства и невольничества, но не признаю за ними имени первых провозвестников истинных понятий о личности и правах каждого человека и равенстве всех по своему естеству и пред законом: имя это им не принадлежит. Напрасно и вообще ваши философы и прогрессисты имеют притязание на славное имя провозвестников всех вообще светлых и высоких идей и величают себя друзьями человечества: все, что только есть истинного и великого, возвещено нам в Откровении Божественном, в христианстве вы найдете все истинное и великое, доставляющее человеку истинное счастье на земле и блаженство на небе. Систем философских о мире и человеке было множество, и что с ними сталось? Все они в свое время падали одна за другою и одна перед другою: один философ учил так, а другой иначе, друг друга опровергали, друг над другом торжествовали и друг за другом сошли со сцены, и системы их пали и сделались достоянием истории заблуждений человеческого ума. А откровение все себе стоит, и стоит непоколебимо, и будет стоять до конца века, потому что оно есть сама истина, вещание Самого Духа Божия, говорившего чрез пророков и апостолов, а не произведение ограниченного ума человеческого.
– Итак, все, что только есть истинного, вы приписываете христианству?
– Да. Только в христианстве чистая, совершеннейшая истина.
– В христианстве?! А само христианство-то откуда все заимствовало?
– Оно все черпало из одного только источника всякой истины.
– Из какого же?
– Из откровения Божественного. Сам Сын Божий воплотившийся принес его на землю, согласно вещаниям пророков, а осененные Духом Святым апостолы пронесли его по всей вселенной и заключили в свои писания.
– Неправда. Уже давно доказано, что сам Иисус Христос многое-многое заимствовал из учений восточных мудрецов, законодателей и философов.
– Нет, не доказано и никогда не может быть доказано, потому что между учением христианским и учениями современных Иисусу Христу философских школ языческих ничего нет общего.
– А вы всмотритесь-ка в истории древних религий и увидите, что и там есть много такого, что, как вы говорите, впервые возвестило миру христианство. Прочтите-ка вы учения основателей восточных религий, особенно китайских и индийских, и увидите, что христианство многое у них заимствовало.
– Я уже их читал и потому могу не стать пред вами в тупик на этом пункте. Вы совершенно неправы. Всмотритесь хорошенько в учения языческих религий и восточных мудрецов и легко заметите, что если и есть в них нечто согласное с христианским учением о божественном мироправлении, добродетели, любви к людям и т. п., то это есть ничто иное в этих учениях, как блестки золота среди целых гор мусора и всякой нечистоты, и притом блестки, еще неочищенные от разных наростов или нарочно закопченные дымом языческого суеверия и нечестия, а ведь в христианстве-то мы видим совсем не то: в нем всё одно только чистое золото, т. е. одна только чистая истина; все истины христианского вероучения сказаны не мимоходом, не бессознательно, а нарочито, все развиты до совершенства и возведены на степень основных, непреложных истин.
– Что же отсюда выходит?
– То именно, что эти истины не заимствованы у языческих законодателей и философов, а суть истины богооткровенные; они не обыкновенным человеческим разумом постигнуты, а открыты человеку свыше: одни из них были принесены на землю Самим Сыном Божиим, а другие были открыты Духом Святым пророкам и апостолам, а ими возвещены миру и заключены в Писания, а иные еще первоначальные времена мира были Богом открыты патриархам и по преданию сохранились в народе Божием до времен Моисея, а им внесены в Писания.
– А тогда каким же образом мы могли бы находить у языческих законодателей некоторые нравственные правила жизни, не противные учению христианскому? Неужели и язычникам Бог открывал свою волю? А если так, то почему же и язычество не признать за истинную религию для младенчествовавшего рода человеческого, как и христианство для более развитых рас? Или почему и христианство наравне с языческими религиями не признать за произведение человеческого ума, если вы скажете, что язычникам Бог не открывал Своей воли, а у них все-таки, как мы видим, есть некоторые истинные правила вероучения и нравственности?
– Для решения этого вопроса я, прежде всего, обращу ваше внимание на то, что больше всего согласных с истиною нравственных правил мы встречаем в самых древнейших законодательствах, а отнюдь не в современных Иисусу Христу языческих системах законодателей и философов; там же мы встречаем и некоторые истинные понятия о едином Боге, Владыке неба и земли, и о том, что человек первоначально был невинен и блажен, а потом пал и лишился блаженства и что настанет такое время, когда зло, вошедшее в мир чрез грех человека, будет побеждено добром.
– Что же из того? Откуда самые древние законодатели черпали эти истины, если не Бог им открыл или не сами они вымыслили их?
– То, что принадлежит собственно язычеству, они черпали из своего естественного разума, зараженного языческим суеверием.
– А что не принадлежит язычеству, откуда взяли?
– Из трех источников: 1) из древнейших преданий человечества, сохранивших остаток истинных понятий о Боге и человеке и о жизни, согласной с требованиями воли Божественной, 2) из закона естественного, не совсем еще изгладившегося из сердец лучших людей в среде язычников после рассеяния народов и смешения языков, и наконец, 3) из голоса природы видимой, вещавшей им о Боге. Указание на эти источники истины в древнейших языческих религиях мы находим в Священном Писании. В этом отношении я укажу вам на тот факт, что, по свидетельству книги Бытия, род человеческий после потопа около пятисот лет жил вместе под управлением патриархов Ноя, Сима, Арфаксада, Каинана, Салы и Евера и от них получал наставление в истинах веры и благочестия, а патриархам Сам Бог открывал Свою волю. Потом последовало разделение и рассеяние народов после столпотворения вавилонского и, наконец уже, появилось язычество и идолопоклонство, которое при патриархе Фаре распространилось даже в потомстве Симовом, так что Господь благоизволил в это время из среды всех прочих людей для сохранения своей веры и Церкви на земле отделить Авраама. Это, как видно из нашей библейской хронологии, случилось за две тысячи тридцать девять лет до Рождества Христова, следовательно, спустя около семисот лет от столпотворения вавилонского, смешения языков и рассеяния народов. Обращаясь отсюда к хронологии всеобщей истории, мы находим ясное указание на то, что первые прочные, благоустроенные государства образовались на земле около 2500 лет до Рождества Христова, следовательно, спустя около 200 лет от столпотворения вавилонского или даже и того менее, и образовались они под управлением ближайших потомков Ноя, именно его внуков и правнуков как родоначальников тех племен, которые поселились в той или другой стране, и, может быть, как предводителей их во время рассеяния. К этому же времени относятся и самые первые законодательства императоров Фо-хи, Ю и Яо, которые своими законами утвердили основания семейных и общественных добродетелей, установили законные браки, определили обязанности детей к родителям, младших к старшим, а всего народа к императорам и поставленным ими властям и сами приносили жертвы всевышнему Владыке неба31. О других божествах в древнейшей истории Китая вовсе не упоминается.
– Что же отсюда выходит?
– Отсюда очевидно выходит то, что во времена самых первых государственных законодательств истинные понятия о едином Боге, Творце вселенной и верховном Мироправителе, а равно и правила чистой нравственности не были еще совсем утрачены теми народами, которые отделились от племени патриарха Евера, рассеялись по разным странам и образовали древнейшие на земле государства. Лучшие люди в среде этих народов еще сохраняли остатки благочестивых преданий, дошедших к ним от Ноя и его сыновей, и правила чистой нравственности и своими законами старались поддержать в своих народах эти предания и правила и сохранить их для позднейших времен. Но время брало свое: законы изменялись сообразно с требованиями времени и жизни народов, а с ними постепенно утрачивались в законах и сами свидетельства о едином Боге и чистой нравственности, когда народы стали жить по своим похотям, не слушая предписаний прежних законов и голоса своего разума и совести; место их постепенно заступали суеверия и предрассудки и целая тьма заблуждений по мере того, как ум человеческий уклонялся от истины и добра и обращался ко лжи и злу. Однако же нужно заметить, что вместе с утратою и искажением древнейших преданий не совсем еще угасло свидетельство о Боге и добродетели. Закон естественный, написанный в сердцах всех людей, всегда напоминал язычникам о Боге и стремлении к святости и благоугождении Богу. В сердцах язычников, как говорит апостол Павел, всегда оставалось написанным дело законное, т. е. голос разума и совести, и им так же, как и нам теперь, внушались нравственные законы, Самим Богом начертанные в сердце каждого человека; совесть всегда была в них судиею их поступков, дурное осуждала, а хорошее одобряла. Таков непреложный закон правды Божией для всех! Мы в самих себе носим закон нравственный, а письменный закон и побуждает к исполнению его, и дан людям вследствие того, что они не стали слушаться закона естественного, заглушая в себе голос разума и совести.
– Гм! Что-то мудрено. Не верится тому, чтобы в каждом человеке был закон естественный: скорее, это есть следствие воспитания в преданиях старины, чем природное свойство.
– Апостол Павел, как вы, конечно, знаете, весьма ясно говорит об этом внутреннем законе, да и по опыту вы можете убедиться в том, что в нас этот закон действительно есть. Вот вы, например, требуете гражданского брака и не признаете святости и необходимости нашего православного брака. Стало быть, для вас совершенно безразлично, будут ли супруги жить в мире и согласии или же постоянно будут ссориться и добровольно разойдутся друг с другом. Однако же, представьте себе такой случай: молодая чета ваших ближайших родственников или знакомых, жившая несколько лет в мире и любви друг к другу, вдруг на ваших же глазах из-за какого-нибудь недоразумения начинает между собою ссору и несогласие; находятся люди, которые стараются подстрекать ту или другую сторону к неуступчивости и совершенному разладу семейному; вы все это хорошо видите и понимаете, что все дело у них вышло из-за недоразумения; улучаете удобную минуту, объясняетесь с тою и другою стороною, улаживаете дело, и они снова начинают жить в мире и любви, благословляя вас за оказанную им услугу. Скажите же, неужели вам не будет отрадно видеть их новую, счастливую семейную жизнь? Неужели ваша совесть не будет вам говорить, что вы совершили доброе дело, примирив эту чету?
– О, конечно, это будет доброе дело.
– Теперь представьте же себе другой случай. Та же самая молодая чета жила вполне счастливо, но вот стали между ними вы со своими претензиями на права гражданского брака, расстроили их счастье, расторгли их брачный союз и довели их до того, что они оба сделались погибшими людьми и стали день и ночь проклинать ваше с ними знакомство. Неужели вы отнесетесь к этому печальному событию совершенно хладнокровно? Неужели будете думать, что вы сделали для них не величайшее зло, а добро, погубив их? Неужели совесть ваша ни разу не упрекнет вас в том, что вы погубили два существа, бывших вполне счастливыми до вашего знакомства с ними? Нет! Этого не может быть: всякий раз, как только вы увидите несчастье этих людей или вспомните о нем, совесть ваша будет укорять вас в преступлении против них. И неужели это будет следствием вашего воспитания в преданиях старины, когда вы сами перевоспитали себя в понятиях, совершенно противных этим преданиям?
– Итак, остаток первобытных преданий и закон внутренний были причиною того, что и у язычников были в законах некоторые истины?
– Да. Но не одни только они, а и голос природы видимой. Этот голос всегда так ясно свидетельствовал людям о Боге, что и язычники чрез рассматривание сотворенных Им вещей, по словам апостола Павла, могли постигнуть присносущную силу Божию и иметь истинное понятие о Боге; и если они не вняли этому голосу, то они весьма виновны в том пред судом Божиим. Не забудем при этом и того, что хотя Господь и попустил язычникам, по непреложному закону правды Своей, ходить по путям неведения за то, что они оставили Его, но не предал их вечной погибели: по бесконечной благости Своей Он и их мало-помалу с течением веков приготовил к познанию Его и принятию спасения. Не только закон естественный, голос природы и остатки первобытного откровения приводили лучших из язычников – законодателей и философов – к мысли о едином Боге, Творце и Промыслителе вселенной и необходимости возрождения человеческого естества, но и сама судьба всех народов, рассеяние народа Божия по странам языческим за несколько столетий (израильтян за 723 и иудеев за 607 лет) до Рождества Христова, а еще прежде того жизнь евреев в Египте, сношение их с соседними народами, затем перевод Священного Писания за триста лет до начала проповеди евангельской, сделавший священные книги евреев доступными для ученых язычников всего тогдашнего мира, – все это вместе настолько могло подготовить язычников к принятию Евангелия, что первая евангельская проповедь, пронесенная апостолами по всей вселенной, везде находила людей, ожидавших спасения и с радостью принимавших христианское вероучение. Невозможно допустить того, чтобы это постепенное подготовление человечества к принятию христианства не отразилось отчасти и в учениях философов и законодателей: вот откуда и явились у них некоторые проблески истины, сказанные как бы мимоходом. Можно даже думать, что путем сношений иудеев с другими народами, особенно же при Соломоне, когда корабли его вместе с финикийскими совершали такие далекие плавания, что возвращались назад с огромными богатствами только чрез три года и, вероятно, доходили до Индии, а, может быть, даже и до Китая, – истина ожидания Мессии из Иудеи, согласно обетованиям Божиим, распространилась далеко за пределами Иудеи еще прежде рассеяния иудеев. По крайней мере, мы видим, что в Китае уже Конфуций, признавший себя учеником древнейших законодателей и восстановителем их законов, часто говорил своим ученикам, что «Святой пребывает на западе»32. Известно также и то, что в китайских гинах, или священных их книгах, ожидаемый всеми Избавитель и Примиритель изображается великим святым, который все знает и все видит и весь как небесный чуден, беспредельно мудр, един с Богом и один только может принести Богу достойную жертву, обновить мир, загладить грехи мира, умрет в болезнях и поношениях и отверзет небеса, есть человек божественный и сын неба33. И учение это было столь известно, что, как говорят китайские летописи, через 65 лет по Рождестве Христовом император китайский Мин-ти I, увидев во сне исполинского вида человека, припомнил слова Конфуция «Святой пребывает на Западе», отправил послов в Палестину, чтобы узнать, точно ли явился миру великий посланник неба34, а также и в Индию, чтобы принести оттуда учение, там преподававшееся в ту пору, по всей вероятности, христианское, занесенное туда апостолом Фомой; но посланные нашли в одном месте истукан Фоя, или Будды, бывший в великом почитании у индусов, взяли с собою бонз и принесли в Китай вместо христианства буддизм, который все китайские историки называли проклятым, порицая императора за принятие его35. Отсюда ясно можно заключить, что хотя у китайцев и сохранилось первобытное предание о примирителе человека с Богом, но более точные познания о Его пришествии на землю они получали именно от народа Божия при своих сношениях с ним и именно из среды этого народа ожидали явления примирителя, откуда Его ожидали и волхвы персидские, приходившие Ему поклониться и принести дары.
– Итак, вы решительно стоите за христианство, когда сами же хорошо знаете, что и у других народов была в учениях часть истины?
– Уж, конечно, так. Да иначе и быть не должно. Только одно христианство есть религия истинная. Не быть уверенным в этом может разве тот, кто или не знаком хорошо с христианским вероучением и другими религиями, или, хотя и знаком, но предубежден против христианства как против религии, проповедующей чистейшую нравственность, когда ему хочется вести жизнь безнравственную, – и притом еще вечную жизнь с воздаянием по смерти каждому по делам его, когда ему хотелось бы, напротив, по смерти превратиться в ничтожество как потомку обезьяны или дарвиновского четвероногого зверя. А я, по милости Божией, до такого безумия никогда не доходил и, надеюсь, не дойду.
– Вот вам, Авдотья Петровна, явное доказательство того, насколько наши русские батьки отстали от современного понимания вещей! – вскричал Скавронский, обращаясь к Елагиной. – Подите после этого толкуйте с ними о светлых идеях цивилизаций. Неудивительно, что с такими батьками во главе ве наш русский народ отстал от всех европейских народов в своем развитии и коснеет в грубости и невежестве, предрассудках и суевериях. Судите сами, чему такие батьки научат народ и куда они заведут его.
– Вы, Владимир Павлович, совершенно неправы, – сказала Авдотья Петровна очень серьезно, – русскому священнику нужно быть тверду в своих религиозных убеждениях и стоять за христианство, потому что он есть православный священник, на то и поставленный, чтобы охранять христианство от примеси к нему всяких неправильных мнений католицизма, лютеранизма, материализма, нигилизма и проч.
– Нет, одним словом, это ужасно. Наши русские батьки совершенно отсталые люди. Вот за границей – так совсем иное дело немецкие пасторы. Вот, я вам доложу, люди так люди! Как они образованны, как современны, предупредительны, услужливы, снисходительны к мнениям каждого! Ну, просто прелесть. Бывши прошлый год за границею, я имел случай познакомиться со многими пасторами, и что это за милые люди! Они просто очаровали меня своим умом и обходительностью. Я с ними входил в откровенные беседы, и двое из них прямо мне признались, что они несомненно убеждены в том, что Иисус Христос был человек такой же, как и мы, а не Сын Божий, и что всякий волен веровать в Него по-своему, потому что это для человека вовсе не важно36, лишь бы он веровал, что Христос есть основатель новой религии, которой держимся и мы. Оттого там и народ вообще образован и современен, что имеет таких прекрасных руководителей в лице образованных пасторов. Пасторы там стоят во главе умственного движения и весь народ ведут за собою, а наши батьки стоят во главе отсталости и невежества и весь народ ведут за собою ко мраку.
– Владимир Павлович! Ради Бога успокойтесь, – сказала Авдотья Петровна очень спокойно. – Я не меньше вас жила на свете и знакома как с состоянием образованности у нас и за границею, так и с религиозным настроением наших русских священников и немецких пасторов. Очарованные обворожительным обращением с вами немецких пасторов, вы совершенно не заметили в них тех недостатков, каких не имеют наши священники, и в особенности их нехристианской настроенности душевной и того, что они считают себя не служителями Церкви Христовой и руководителями людей ко спасению, а простыми гражданскими чиновниками37.
– Да это, – заметил я, – и резонно, потому что они, в сущности, миряне, а не священники: у них не сохранилось апостольского преемства и не может быть законного священства.
– Пусть так, – сказал Скавронский, прерывая меня, – а все же они образованнейшие люди. А ведь наши батьки чистейшие невежды и суеверы.
– Вы, Владимир Павлович, слишком несправедливы, – сказала Авдотья Петровна, – и притом неосторожны в выражениях. Пред вами – батюшка, смею думать, доказавший вам, что он не менее вас образован, а вы при нем же всех наших священников обзываете невеждами и суеверами.
– Чего же вам? – возразил Скавронский. – У меня есть факты налицо для доказательства того, что я прав. Я, например, ныне под Светлый день посылаю к своему батьке управляющего просить его с вечера отслужить у меня утреню – понимаете? – чтобы не вставать рано и не ехать в грязь и дождь за три версты. А он что же ответил управляющему: «Что ваш барин-то немец или жид? Не знает того, что под Светлый день утрени в домах не служат, и не хочет приехать в церковь». Ну, помилуйте, разве это не невежество? Я местный помещик, и он смеет мне так отвечать?! Нет, одним словом, это ужасное дело! Наши батьки хуже мужиков. Они только распространяют в народе суеверие и предрассудки и проповедуют какую-то гниль, старину, отсталость во всем. Например, представьте себе, мужикам нужно ехать в поле сеять или пахать, а мой батька тут сбивает народ и устраивает какое-то богомолье на полях, чтобы лучше хлеб родился. Ну, разве это не заблуждение, не распространение предрассудков в среде крестьян, бьющее на их невежественную доверчивость к попам? Я вот собираюсь в Калугу с жалобой на своего батьку за это устраивание богомолий: он у меня отбивает этим рабочие дни, и я попрошу архиерея перевести его от меня в другое село или наказать за распространение в народе суеверий.
– А я на месте преосвященного Григория38, выслушав вашу жалобу, подвергла бы вас епитимии, а священника наградила бы за его усердие к прохождению своих пастырских обязанностей, – сказала Авдотья Петровна таким тоном, который, видимо, очень не понравился Скавронскому.
– Честь имею кланяться, – сказал он, вставая со своего места и целуя руку Авдотье Петровне, но уже не с тем раболепством, как в первый раз.
Раскланявшись с Николаем Алексеевичем, Скавронский мне опять на прощанье головою не кивнул в ответ на мой ему поклон. Вот и образованность!

Две сестры39
I
Было чудное летнее утро, тихое, ясное и не очень жаркое, такое именно, когда сельскому жителю неохотно сидится в комнатах и хочется непременно подышать в свободную минуту на свежем воздухе, особенно в саду или в лесу. В доме помещика А., в селе Никольском ...ского уезда, в эту пору готовился утренний чай на довольно обширном балконе, выходившем в сад. Две дочери помещика в ожидании чая расхаживали по балкону и, казалось, с жадностью вдыхали в себя свежий воздух, наполненный благоуханием резеды, левкоя, розы и множества всякого рода цветов, росших перед самым балконом. Одна из них была девушка лет 20, когда-то учившаяся в одной из петербургских гимназий, но давно уже забывшая все, чему ее там учили, и предавшаяся светским удовольствиям, а другая лет 17, только что за год пред тем вышедшая из института, но доселе еще бредившая институтскою жизнью и постоянно занимавшаяся чтением серьезных сочинений. Вечером под этот день их отец праздновал день своего рождения и в его доме был большой съезд гостей. Между прочими на этом семейном празднике был некто баронет Скородумов, очень богатый матушкин сынок, выдававший себя за представителя уездной интеллигенции, везде распускавший слух о том, что он женится на старшей из дочерей А., но на этом вечере ведший себя так двусмысленно, что можно было подумать, будто он хочет жениться не на старшей, а на младшей. Естественно, это не могло ускользнуть от внимания старшей сестры и она теперь желала знать, какое именно он произвел впечатление на ее младшую сестру.
– Как тебе, Катя, понравился наш вчерашний вечер? – спросила она у сестры, прерывая молчание.
–Да как, тебе, Нина, сказать? – проговорила та неохотно. – Вечер этот мне не особенно понравился.
– Почему же? Гостей у нас было довольно, да и в веселии и во внимании всех к тебе недостатка не было.
– Все это так. Но все это как-то обыденно, мелочно. Тут не было живой, смыслящей души. Если тут и был кто такой, кого с интересом можно было послушать, так это именно всегдашний папашин собеседник, наш батюшка отец Алексей, да вот разве еще этот баронет Скородумов, очень интересный субъект, которого я, кажется, долго не могу забыть.
– Чем же он тебя так заинтересовал? Он произвел на тебя впечатление? – испуганно спросила Нина.
– Разумеется, он произвел впечатление, только отнюдь не хорошее, а очень дурное. Извини, ma soeur40, что я так говорю о твоем будущем женихе. Он меня заинтересовал своею пошлостью: кроме спеси, самохвальства, вольнодумства и желания казаться великим умником, я в нем ничего не нашла.
– А разве он плохо спорил с батюшкой?
– Из рук вон нехорошо. Вся суть его доказательств при его нападках на христианство вообще, и в особенности на православие, состояла во фразах: «ныне так все об этом думают... ныне это доказано наукою... так говорят величайшие авторитеты науки». Он постоянно сыплет заученными, вовсе для него самого непонятными фразами, указывает на ученые сочинения и перечисляет имена ученых. Но если бы ты прислушалась к его словам, поняла бы сразу, что все это говорит он для того, чтобы не дать возможности своему противнику говорить против него. И чего только он вчера не наврал? Кювье у него астроном, Галилей геолог, Коперник географ, Моисей волхв.
– Что же из того? Все-таки он очень умен.
– Не только не умен, но даже положительно глуп. Иначе я не могу себе объяснить того, как он мог себе позволить во всеуслышание толковать о том, будто гражданский брак есть единственное, величайшее и весьма желательное ныне благо.
– Да, может быть, он об этом говорил так себе, шутя.
– Нет, воля твоя, я этого не понимаю и вижу в этом положительное его шалопайство и глупость. Он толкует об этом гражданском браке, а между тем – кому это не известно? – хочет в самом скором времени сделать тебе предложение.
– Мне хочет сделать предложение, а за тобою ухаживает. Ты меня, Катя, порочишь. Он тебе нравится, и ты не откажешься принять его предложение, которое он скоро тебе сделает.
– Избави Бог. От такого человека можно ли ожидать добра? Я бы тебе, Нина, от души советовала отказать ему. Если он теперь так говорить о браке, то что же будет после?.. Если он наш церковный брак считает какою-то «очень смешною комедией», то что же для него значит оставить тебя или даже прогнать от себя. Поверь, ma soeur, ему не ты нужна при женитьбе, а те десятки тысяч, какие он получит вместе с твоею рукою. Он их проживет, а тебя оставит ни с чем.
– Ты, Катя, до того неискренняя, что даже мне совестно за твое притворство предо мною. Разве я вчера не видела всего? Разве я не могла понять того, что ты ему нравишься больше, чем я, потому что ты и покрасивее, и помоложе, и поумнее меня? Для тебя он все вчера делал: и спор с батюшкою завел, и ко мне был холоден.
– Это верно. Зато он и узнал от меня, как я о нем думаю и какое он произвел на меня впечатление своим спором с батюшкою. «Не правда ли, – сказал он мне, – какой интересный спор я сейчас вел, чтобы угодить вам, и как я осадил попа? » «Папу?» – спросила я, как будто не поняв его. «Не папу, – сказал он мне, – а попа... Вот того самого», – добавил он, указав мне на батюшку. «А! – сказала я, – батюшку нашего, священника?.. Ну, извините, я не поняла вас. Если вы о нем мне говорили, будто вы осадили его, позвольте с вами в этом не согласиться... Вы положительно себя осрамили и уронили в глазах всех сколько-нибудь смыслящих людей». «Даже и в ваших» ? – спросил он. «Да, – ответила я, – даже и в моих. Я о вас прежде слышала как об умном человеке, но теперь я вижу, что вы далеко не таковы: вы говорили много, но дельного ничего не сказали. Прошу извинить меня за эту откровенность. Я люблю говорить правду».
– Если это верно так было, то ты сама глупа, ma soeur: Скородумов говорил очень дельно, потому что на его стороне правда, наука и прогресс, а ты этого не могла оценить.
– А вот сейчас придет papa41, и мы тогда узнаем, кто из нас прав, я ли или же твой Скородумов. Он больше нас с тобою смыслит в науке, слышал вчерашний спор Скородумова с батюшкою и может дать свой о нем отзыв.
Вскоре на балкон вместе с матерью вошел отец, человек лет 55, очень умный и высокообразованный, принадлежавший к числу тех старинных помещиков, представителей истинно русских людей, какие ныне сделались большою редкостью, получивший солидное образование в Московском университете, усовершенствовавший его своими путешествиями по Европе и постоянно в последние годы сидевший дома за книгами. Не было сколько-нибудь замечательного сочинения, которого бы он не приобрел для своей домашней библиотеки и не прочел со вниманием, но самый обширный отдел его библиотеки был богословский, потому что он был вполне религиозный человек и считал за обязанность для себя иметь в своей библиотеке все лучшие сочинения богословского содержания.
– Papa! – сказала ему Катя, как только он вошел на балкон. – Скажите, пожалуйста, как вам понравился вчерашний спор Скородумова с батюшкою?
– Ты меня удивляешь, – ответил отец, – разве Скородумов мог что-нибудь сказать серьезное или вообще такое, что могло бы мне понравиться, или чего бы я прежде него не слыхал уже сотни раз от нынешних умников? Сам по себе он, как ты, вероятно, и сама заметила, довольно глупенький человек и от себя собственно ничего не мог сказать. Он в своем споре с батюшкою повторял лишь чужие мысли. Подобного рода людей ныне очень много, потому что вольнодумство ныне в моде и каждый недоучка как бы считает своею обязанностью показать себя перед людьми человеком передовым именно тем, что он знаком со всеми мнениями вольнодумцев и сам держится их. Они выдают себя за умников, а между тем в их вольнодумстве видна положительная их неспособность отличать истину от лжи, нежелание познать истину от тех людей, которые служат ее проповедниками и стремление заглушить в себе голос разума и совести пустыми софизмами; словом, в их вольнодумстве обнаруживается их глупость.
– Ты, друг мой, несправедливо судишь о таких людях, – возразила ему жена. – Вольнодумство не есть еще признак глупости. Мы знаем, что в числе вольнодумцев есть много людей очень умных и ученых, которые своими учеными сочинениями известны всему свету.
– Так; но эти люди сами старались открыть истину, занимались исследованиями научными и впали в крайности, в заблуждения; а те, о коих я говорил, никогда и не думали о том, чтобы найти истину, а с ветру набрались разных новомодных теорий и вольнодумных мнений, не потрудившись выслушать противную сторону и даже не ощущая в себе потребности выслушать ее. Это есть признак глупости. Однако же и те ученые вольнодумцы, которые сами дошли до вольнодумных мыслей и составления нелепых теорий, не слишком-то умны в истинном значении этого слова, если впали в крайности и заблуждения и упорно отстаивали их, не желая выслушать истину или злонамеренно извращая ее действительный смысл. Они даже не могут быть названы и учеными людьми в истинном значении этого слова, если они своими измышлениями силились затмить свет истины, вооружались против христианства или старались извратить его смысл и при этом всё сваливали на науку, злоупотребляя ее именем. Истинная наука никогда не может стоять и действительно не стоит в явном противоречии с христианством, ясно решающим все великие вопросы мыслящего духа нашего. Они бессовестно лгут, в своей борьбе с христианством ссылаясь на науку.
– Отчего же, papa, происходит то, что современные представители науки или люди, так себя величающие, восстают против христианства? – спросила Катя.
– Оттого, моя милая, что они или вовсе никогда не брали Библию в руки, или же набегом вырывали из нее несколько строк без всякой связи с предыдущими и последующими мыслями и без снесения их с другими местами Священного Писания, и эти-то строки начинали перетолковывать по своему собственному измышлению; но никогда не давали себе труда основательно изучить Библию и вникнуть в сущность христианского учения. В противном же случае с ними было бы не то. Вот, например, хочешь, я тебе прочту письмо Иоанна Мюллера, швейцарского историка, к другу его Карлу Боннэту, писанное им под влиянием обширнейших исторических исследований в 1782 году, когда он с предубеждением взялся за чтение Нового Завета, но скоро понял, в чем заключается сущность евангельского учения?
– Ах, papa, пожалуйста, прочтите.
Отец сейчас же сходил в свою библиотеку и отыскал там письмо Иоанна Мюллера, напечатанное в книге «Вечная жизнь» Эрнеста Навиля.
– Ну, вот, слушай, что Мюллер писал Боннэту, – сказал он, по возвращении на балкон садясь на свое место:
«С тех пор, как я нахожусь в Касселе, я читаю древних, не исключая ни одного, в порядке времени, как они жили, и о каждом замечательном факте делаю извлечения из них. Месяца два тому назад, не знаю, как-то мне пришло на мысль посмотреть в Новый Завет прежде, чем в порядке моих чтений я дошел до той эпохи, когда он был писан. Как мне выразить вам то, что я нашел в нем! Уж сколько лет я совсем не читал Евангелия и теперь приступил к чтению его с предубеждением против него. Свет, осиявший Павла во время его путешествия в Дамаск, был не более чудесен, не более неожидан для него, чем как чудесно и неожиданно для меня было то, что я вдруг открыл в Евангелии: здесь я нашел исполнение всех надежд, завершительную точку всей философии, объяснение всех переворотов в мире, ключ ко всем кажущимся противоречиям физического и нравственного мира, жизнь и бессмертие. Я увидел необычайное дело, совершенное ничтожными средствами. Я понял отношение всех переворотов Азии и Европы к тому несчастному народу, который хранил залог святых обетовании. Я увидел религию, явившуюся в самое благоприятное время для ее утверждения и при условиях самых неблагоприятных для ее усвоения. Очевидно, мир был приготовляем единственно для принятия религии Спасителя, и я решительно тут ничего не понимаю, если эта религия не есть Божественная. Я не читал ни одной Книги возвышеннее этой. Но, изучая историю до этой эпохи, я всегда находил, что в ней недостает чего-то, а с тех пор, как я узнал нашего Спасителя, всё стало ясно в моих очах; нет ничего, чего бы я с Ним не мог разрешить».
– Видишь, – обратился отец к Кате, прочитав это письмо, – видишь, что говорит этот историк, приступивший к чтению Евангелия как самой обыкновенной книги исторической и даже с предубеждением против него? Вот что значит ознакомиться со Священным Писанием основательно! Представь же себе теперь, что сказал бы о Новом Завете тот же самый Мюллер, если бы он и не ознакомился с ним основательно, а остался бы с тем поверхностным понятием о нем, какое он имел до этого случая? Ведь он, подобно нынешним крикунам, мнимоученым и недоучкам или подобно тогдашним философам, не задумался бы толковать о нем и вкривь и вкось: ссылаясь на свои исторические исследования и знакомство с древними языческими, философскими и религиозными системами, он тоже крикнул бы во всеуслышание, что, дескать, и в творениях древних философов и законодателей есть много таких истин, которые христианство приписывает себе, а потому-де христианство не есть религия откровенная, а есть произведение обыкновенного человеческого ума, заимствованное у древних философов и законодателей.
– Конечно, это могло бы с ним случиться. Но ведь дело вот в чем, papa: Мюллер писал это еще в 1782 году, когда геология и естествоведение не были так развиты, как теперь. А новейшие противники христианства на них-то и ссылаются в своей борьбе с христианством. Быть может, эти-то науки состоят в действительном противоречии с откровением?
– Отнюдь нет! Возьми-ка ты прочти сочинение Огюста Николя «Философские размышления о божественности христианской религии» и увидишь ясно, к каким заключениям приходят истинно ученые люди, геологи и естествоиспытатели. В своих ученых исследованиях они приходят к таким заключениям, которые как нельзя больше доказывают, что христианство есть религия истинная и богооткровенная, а не произведение человеческого ума.
– А у нас эта книга есть?
– Еще бы ее не было?! Ведь это нынешние умники набивают свои домашние библиотеки романами да разными противорелигиозными и противоправительственными сочинениями, а мы, люди старого доброго времени, всегда старались приобретать для своих библиотек сочинения серьезные и не обходить своим вниманием ни одной книги, замечательной в каком бы то ни было отношении. Ты эту книгу отыщешь у меня в отделе богословском. Прочти ее со вниманием и познакомься чрез нее с выводами истинно ученых людей.
– Хорошо, papa! Но если так, почему же нынешние умники-то ссылаются на выводы геологии, палеонтологии и других естественных наук в своей борьбе с христианством? Неужели им неизвестны выводы тех ученых, на которых ссылается Огюст Николя в своем сочинении?
– Одним из них совсем неизвестны, а другим хотя и известны, но не настолько, чтобы они могли принять их за несомненную истину; большинство же ученых, восстающих против христианства, игнорирует их или же заподозривает самих исследователей в их мнимом пристрастии к христианству и потому не хочет верить их доводам и открытиям. Притом нужно еще обратить свое внимание и на то, каким образом обыкновенно добывают нынешние умники те фразы исследователей, на которые они ссылаются в своих собственных сочинениях, желая прикрыться авторитетом науки.
– Конечно, papa, они должны быть специально знакомы с теми учеными сочинениями, на которые они ссылаются в своих собственных сочинениях или при своих спорах с защитниками христианства.
– В том-то и дело, что многие из них толкуют, например, об исследованиях Кювье, Гумбольдта и других ученых, а и в глаза не видали их ученых сочинений.
– Как же так? После этого как же возможно на них ссылаться?
– Очень просто. Ты спроси у отца Алексея, как он в семинарии приискивал тексты для своих сочинений? Читал ли он тогда основательно ту или другую книгу Священного Писания, из которой приводил тексты?
– Конечно, papa, читал. У них специально изучают Священное Писание.
– Да, изучают, и это изучение растянуто на весь семинарский курс, а между тем, как мне известно, сочинения писать семинаристы начинают с низшего класса семинарии и тогда же начинают наполнять их текстами Священного Писания. Не будучи хорошо знакомы ни с одною еще книгою Священного Писания, они в своих хриях и рассуждениях приводят тексты изо всех книг Ветхого и Нового Заветов. Спрашивается: каким образом это возможно? А секрет тут очень простой. Зная, например, что известный текст им уже попадался в катехизисе или какой-нибудь другой книге, они находят его там и преспокойно выписывают, не заботясь о том, каков истинный смысл этого текста; или же берут Евангелие, например, и начинают его перелистывать, не читая его, а лишь глазами пробегая начало стихов дотоле, пока не нападут на отыскиваемый ими текст, и как только отыщут его, сейчас же выпишут, не прочитав даже той главы, где нашли его. То же самое бывает и со многими учеными. Нужно им какую-нибудь свою мысль подтвердить ссылкой на известный авторитет в науке, они делают выдержки из какого-нибудь имеющегося у них под руками сочинения, заключающего в себе выписку из сочинения этого авторитета науки, или же берут его сочинение, если оно у них есть, и, не читая его, подобно семинаристам, перелистывают дотоле, пока не нападут на подходящую их мнениям мысль, потом преспокойно цитируют этого автора и начинают толковать по-своему.
– Есть же, papa, и такие ученые, которые, принимаясь за свои сочинения, внимательно читают сочинения прежних ученых по тому же предмету, и изучают их специально, и потому приводят из них выдержки основательно.
– Конечно, есть. Но и в числе их немало есть таких, которые знакомятся с учеными исследованиями своих предшественников не так, как бы следовало. Многие из них знакомятся с этими исследованиями уже с предвзятыми заранее мыслями, т. е. с целью или найти в них подтверждение своих собственных мыслей относительно того или другого предмета, или отыскать в них противоречия самим себе, или же доказать неправильность их воззрений на интересующий их вопрос. Отсюда само собою вытекает то, что, читая известное ученое сочинение, они всё свое внимание обращают на те именно мысли, которые им нужно было отыскать, отмечают их, подобно тому, как и мы это часто делаем при чтении книг, потом выписывают и начинают о них трактовать в своих собственных сочинениях, не заботясь много о том, так ли понимал эти места сам автор, как они их понимают; всё же прочее, ненужное для них в эту пору, они совершенно оставляют без внимания, как будто они совсем этого и не читали. Все это, конечно, очень естественно. Но отсюда же естественно вытекает и то, что господа ученые, трактуя христианские истины, но не будучи специально знакомы с ними по богооткровенным источникам и обращая свое внимание лишь на такие выводы науки и открытия, которые явно противоречат христианскому учению, не в состоянии бывают примирить кажущиеся им противоречия, легко впадают в погрешности и тем еще легче вводят неопытных юношей в заблуждение. Между тем внимательное чтение или изучение как Священного Писания, так и исследований геологов и естествоиспытателей непременно каждого приведет к тому заключению, что истинная наука не только не противоречит откровению, но состоит в согласии с ним. Этого-то и достиг Огюст Николя: в своем сочинении «Философские размышления о божественности христианской религии» он при помощи научных исследований доказал, что христианство есть религия богооткровенная, а не произведение человеческого разума, и потому одна только она есть религия истинная, дающая истинные ответы на все вопросы нашего мыслящего духа; языческие же религии были не что иное, как искажение первобытной религии человечества, имевшей целью приготовить людей к принятию и усвоению совершеннейшей и спасительной религии христианской.
– Хорошо. Я, papa, непременно прочту со всем вниманием это замечательное сочинение, чтобы хорошенько ознакомиться с теми спорными пунктами религии и науки, какие ныне в ходу.
– Особенно я тебе советую повнимательнее прочесть во второй его книге отдел «об отношении священных книг Моисея к наукам». Там ты увидишь, насколько несостоятельны все возражения ученых против Моисеевой хронологии, шестидневного порядка творения мира, действительности всемирного потопа и единства происхождения и первоначального языка человеческого рода: в последних своих выводах после долгих колебаний наука говорит не против сказаний Моисея, а за них.
– Хорошо, papa, этот отдел, должно быть, особенно интересен, и я непременно прочу его с особенным вниманием.
II
Прошло с четверть часа. Чай уже кончался. Мать толковала со старшею дочерью о том, как накануне Скородумов двусмысленно вел себя по отношению к ней, и высказывала ту мысль, что ему больше нравится Катя и что сам спор свой с отцом Алексеем он затеял с тою целью, чтобы обратить на себя внимание Кати, более интересующейся учеными прениями, чем обычными со стороны кавалеров комплиментами ей и пустыми толками о разных разностях. Катя все еще разговаривала с отцом о сочинении Огюста Николя и удивлялась тому, как она доселе не знала о существовании в его библиотеке этого сочинения, столь интересного. Вдруг Нина вздумала вмешаться в их разговор со своим возражением против надобности светской девушке читать подобные сочинения.

– А для чего, papa, Кате нужно читать такие сочинения? – сказала она, обращаясь к отцу. – Что, она у нас в богословы, что ли, готовится? Она светская девушка, и ей это вовсе не нужно.
– Для чего?! – возразила ей Катя. – А хоть бы для того только, чтобы, когда какой-нибудь шалопай-недоучка вроде баронета Скородумова вздумает выдать себя за великого умника, в своих бреднях кивая головой на истинно ученых людей, мне не хлопать ушами, слушая его бредни, и не вообразить, будто этот недоучка действительный умник.
– Читать, – сказал отец, обращаясь к старшей дочери и сделав довольно суровую мину, – читать можно всё, и за и против, только не без толку, а со вниманием и рассуждением, не веря слепо ученому, а анализируя его мнения. Разумное чтение всегда каждому благоразумному человеку будет полезно. Ты знаешь, с чего пчела собирает мед? Она собирает его и с красивых, душистых, полезных цветков, и с ядовитых растений, и, однако же, делает ли она когда-нибудь ядовитый мед? Так и ты, и Катя, и я, и каждый из читаемого должны извлекать одно только истинное, доброе и полезное для нашей души. Но заметь: быть знакомым с возражениями против христианства и опровержениями этих возражений в наше время не лишне ни одному мыслящему христианину для того, чтобы не попасть легко в сети нигилизма, материализма, спиритизма и множества других заблуждений, рассеиваемых ныне в мире, преимущественно же между молодым поколением, и не принять наглой лжи за истину, под личиною которой ныне всюду проповедуются эти заблуждения, прикрываясь мнимым авторитетом науки.
– А какое, papa, мне или ей дело до того, что ученые и попы о чем-то спорят между собою? – снова возразила Нина. – Пусть их, спорят да спорят.
– Как! – в свою очередь возразил отец. – Разве это не заслуживает нашего внимания? Разве христианам до этого нет дела?
– Да ведь они спорят между собою. А нам что за дело до того?..
– Да! Если бы они только между собою спорили, их можно было бы оставить в покое с их спорами, а то в том и беда, что эти господа ученые, а всего более недоучки, своими ложными суждениями о христианской религии стараются развращать молодое поколение, подрывают в нем веру во всё священное, глумятся над святынею и убивают в неопытных юношах, особенно же в неопытных девушках, все самые лучшие и дорогие для человека мысли и чувства... Словом, стараются низвести их со степени богоподобных существ на степень животных, проповедуя им совершенное уничтожение после смерти.
– Да если они будут мне говорить ложь, так я им и не поверю.
– Не поверишь?! Но ведь секрет-то здесь в том, как ты отличишь ложь от истины, когда эти господа постоянно будут тебе указывать на научные исследования в подтверждение своих мнений, а ты об этих исследованиях и понятия никакого не имеешь? Например, если какой-нибудь нигилист тебе скажет так: «Моисей говорит неправду, будто мир существует только семь тысяч триста восемьдесят пять лет, не говоря уже о том, что каждая геологическая эпоха, по вычислениям ученых, требовала нескольких миллионов лет для своего образования; в недавнее время открыты такие факты, которые как нельзя лучше изобличают Моисея во лжи. В Индии, например, недавно найдены астрономические таблицы, составленные за несколько десятков тысячелетий, а в Египте во время наполеоновской экспедиции в храмах Дендераха и Есны открыты были изображения знаков зодиака, которые по самому точному вычислению Дюпюи имеют более двадцати пяти тысяч лет своего существования. Из этого-де ясно видно, что мир существует никак не менее двадцати пяти тысяч лет». Не зная ничего ни о шуме, наделанном пресловутыми индийскими таблицами и открытием изображения знаков зодиака в храмах Дендераха и Есны, ни о посрамлении ученых, создавших целые системы для изобличения Моисея во лжи на мнимой баснословной давности этих таблиц и изображений знаков зодиака, что скажешь ему в ответ на это и как ты тут отличишь ложь от истины?..
– Если мне нечего на это сказать, то я и промолчу.
– Молчание твое в этом случае возможно, если ты ничего прежде не слыхивала об астрономических занятиях древних китайцах и индийцах. Если же ты когда-нибудь слыхала от людей или же узнала из всеобщей истории, что древние вавилоняне, индусы, китайцы и египтяне с незапамятных времен занимались астрономией, то, услышав об этих таблицах и изображениях знаков зодиака, не подумаешь ли ты, что нигилист говорит тебе сущую правду, не усомнишься ли в небольшой отдаленности от нас начала мира и не вступишь ли ты с нигилистом в разговор по этому предмету? Тем более еще, что подумаешь ты о сказаниях Моисея, если нигилист даст тебе прочесть и ты действительно прочтешь теорию какого-нибудь мнимоученого о происхождении и образовании геологических эпох в течение десятков и даже сотен миллионов лет? Не вообразишь ли ты тогда, будто этою теорией Моисей действительно изобличен во лжи и мир существует миллионы лет?
– А что же, papa, на самом деле оказалось по случаю отыскания индийских таблиц и изображения знаков зодиака? – спросила Катя.
– На деле оказалось, что противники Моисея в своей слепой ненависти к его сказаниям о миробытии хватались за соломинку, как утопающие, чтобы хоть каким-нибудь образом поддержать свою борьбу с христианством. На деле оказалось, что пресловутые индийские таблицы, по самым точным исследованиям Макселина и Клапрота, составлены были в седьмом веке нашей эры42, а с изображениями знаков зодиака просто случился казус.
– Что же именно случилось?
– Дело, как ты увидишь из книги Огюста Николя, было так. Во время наполеоновской экспедиции в Египет в храмах Ден-дераха и Эсны в Верхнем Египте были открыты изображения знаков зодиака, писанные красками и резные, представлявшие фигуры зодиакальных созвездий, какие и доселе в употреблении, но расположенные особенным порядком. Изображения эти были подвергнуты и вычислениям ученых, и в результате на первый раз оказалось, будто эти храмы существовали до того времени, как найдены эти изображения, не менее семи тысяч лет. Тогда Дюпюи сделал свои вычисления и заявил, будто эти знаки зодиака имеют более 25 000 лет своего существования, и поднял шум: ссылаясь на эти изображения знаков зодиака, он даже написал сочинение о происхождении религии, где старался уничтожить сказания Моисея и божественность христианской религии. Между тем круговидная планисфера была доставлена в Париж, и Био, основываясь на самых точных измерениях и вычислениях, первый решился выступить против Дюпюи и его сторонников: он высказал ту мысль, что в этой планисфере можно видеть состояние неба только такое, какое имело место за 700 лет до Р. Хр., и этим ясно намекал на то, что сами храмы могли быть построены еще позднее. Мнение его в самом деле скоро вполне оправдалось. После долгих споров и шума из-за этих изображений знаков зодиака ученые наконец обратились к тому, с чего и нужно бы было начать: они списали греческие надписи и иероглифы в этих храмах, и тогда-то оказалось, что эти храмы построены при римских императорах Тиверии и Антонине. Потом в Фивах найдена была гробница времен Траяна, как значилось в греческой надписи на этой гробнице, и на ней-то найдено было точно такое же изображение знака зодиака, как и в храмах Дендераха и Эсны. Тогда и ясно стало, что эти знаки зодиака действительно могли изображать собою состояние неба в том виде, в каком оно было за 700 лет до Р. Хр., и тогда же в первый раз были где-нибудь изображены каким-нибудь астрономом, а потом живописцы только лишь списывали их с этого оригинала или копий с него и даже могли прямо писать по памяти и привычке, нисколько не заботясь об астрономических наблюдениях и не справляясь с ними. Вот ты и верь после этого Циммерману и прочей братии, не скупящимся не только на десятки тысяч, но даже на десятки и сотни миллионов лет в своих теориях о происхождении мира и образовании земли!
– А что за беда, papa, если я и поверю им? – возразила Нина. – Не всё ли равно для меня и для всякого, существует ли мир семь тысяч или семь миллионов лет? Какая в том опасность для религии?
– Вот в том-то и заключается вся суть дела, что подобными бреднями постепенно и для тебя самой незаметно тебя вовлекут в нигилизм. Сначала тебе скажут и даже в случае надобности постараются доказать, извращая все факты и указывая на поддельные исторические свидетельства и мнимые выводы современной науки, будто Моисей допускает несправедливость, приписывая начало миру, произошедшему, по его словам, из ничего по какой-то всесильной воле Творца, и относя это начало только за 7 385 лет от нашего времени; будто он оскорбляет здравый человеческий смысл, утверждая, что свет сотворен прежде солнца, луны и звезд, что солнце и луна – самые большие светила, что все расы и племена человеческого рода происходят от одной только первозданной четы Адама и Евы или от Ноя и трех его сыновей, что допотопные патриархи жили по девятьсот лет и более, что был всемирный потоп, во время которого Ной со своим семейством и представителями всех родов и видов животных спасся от него в каком-то ничтожном ковчеге, что все люди первоначально говорили одним языком, а потом Бог смешал их языки за построение какой-то башни и рассеял их по всей земле. Потом они зададут тебе такого рода вопрос: «Если Моисей здесь лжет в своей истории, то можно ли ему верить и в том, будто Бог сотворил человека по образу и по подобию Своему и поселил его в каком-то, нигде геологами не отысканном раю, а потом изгнал его оттуда за вкушение какого-то яблочка с древа познания добра и зла, какого древа тоже нигде доселе ни один геолог, ни путешественник, ни ботаник не нашел; и даже будто бы проклял саму землю за такое ничтожное преступление Адама и Евы, и будто потом Бог дал этой первозданной чете обетование об имеющем прийти Спасителе мира? Не есть ли всё это сказание восточный миф ? А все эти мифы имеют ли смысл для нашего времени, когда современные народы давно уже вышли из состояния младенчества?» «Ясно, – ответят они сами же за тебя и для тебя, – ясно, что учение о падении наших прародителей и обетование пришествия Мессии теперь должно быть отнесено к истории заблуждений человеческого рода. А так как на этих двух догматах основывается вся религия христианская, то и ясно-де, что она есть не что иное, как обыкновенное произведение человеческого разума, выдумка иудейских древоделей и рыбаков и христианских попов, и потому для человека всё равно, содержит ли он ее или нет, так ли он ее содержит или иначе; ответа за то не придется давать никакого и ни перед кем».
– Да пусть говорят! От этого я еще не буду нигилистскою.
– Разумеется, еще нет. Но разве они остановятся на этом, чтобы сделать тебя нигилистскою? Будь покойна, что нет: они пойдут далее шаг за шагом. Отсюда, от общей мысли о происхождении христианства и его значении для нас они перейдут к частностям. Они мало-помалу начнут тебе по-своему объяснять все догматы христианские и таинства, низводя их на степень древних суеверий, будто бы прикрывающихся символами; пожалуй, дадут тебе прочесть Фейербаха, всё объясняющего в христианстве по своему собственному измышлению, начнут кощунственно отзываться обо всём священном и безумно смеяться, как бы над большою нелепостью, над учением о нетлении мощей, будущем воскресении мертвых и вечной жизни, силясь тебе доказать, будто всё это есть нелепость и суеверие, потому что, дескать, наукою дознано и положительно доказано, что тело человеческое состоит из разных солей, газов и минералов, а вместо какой-то воображаемой ханжами души у него есть мозг с его функциями и рефлексами и нервы, сосредоточивающие свою чувствительность в различных оконечностях тела, воспринимаемую головным мозгом. Тут пущены будут в ход и анатомия, и физиология, и химия, и прочее, прочее, лишь бы только убедить тебя в том, что человек не Богом создан, а сам выродился из обезьяны или из четвероногого дарвиновского зверя и в своем первоначальном диком состоянии ничем не отличался от зверей и был сам зверем, потом мало-помалу создал для себя язык, состоявший из односложных слов или звукоподражаний звериному крику, особенно же членораздельному выкрикиванию попугая, научился у бобров искусству строить хижины, у пауков – вязанию сетей для ловли птиц и деланию тканей для защиты своего тела от зноя, и холода, и укусов насекомых, потом выдумал себе душу при помощи изобретения искусства добывать себе огонь чрез сверление дерева и составил религию, украсив ее своими поэтическими вымыслами и придумав обряды и таинства.
– И всему этому, что они мне наговорили бы при этом, я имею право не поверить, потому что от одних только от них это услышала бы.
– Конечно, имеешь не только право, но и прямую обязанность не поверить всему этому. Однако не скорее ли может случиться то, что ты поверишь им? Не будучи хорошо знакома с христианским вероучением, а тем более с опровержениями всех этих нелепых мнений, ты не в состояния будешь отличить эту ложь от истины. Ко всем их россказням ты сначала будешь относиться с сомнением и недоверием, а потом мало-помалу начнешь находить, что они для тебя понятнее, чем догматы и таинства веры. Отсюда ты перейдешь к сомнению в истинах веры, начнешь легко к ним относиться, при случае, как бы в шутку или в угоду своим новым просветителям твоего ума, ввернешь в разговор словцо-другое против догматов веры и таинств, а там дойдешь и до того, что поставишь себя в выродки из обезьяны или четвероногого дарвиновского зверя, отвергнешь в себе бытие души как духа разумно-нравственного и свободного, начнешь кощунственно отзываться о вечной жизни и бессмертии и будешь иметь в виду только прах и ничтожество, лаская себя личным уничтожением после смерти. Вот ты и истая нигилистка! Но этого с тобою не случится, если ты хорошо ознакомишься с действительными научными выводами, разбивающими в прах все возражения противников Моисеева бытописания и христианского вероучения. Тогда ты будешь иметь в виду и даже противопоставишь их возражениям против христианства свои основоположения, которые еще более утвердят тебя в истинности и богооткровенности христианской религии.
– А мне всё-таки, papa, кажется, что нашей сестре, светской барышне, совсем не стоит знакомиться с этими учеными прениями богословов с неправомыслящими: если мне сделаться нигилистскою, то всё равно, я и тогда могу ею сделаться, и даже более отчаянною.
– Нет, тебя нелегко будет сделать нигилистскою, если ты, например, из сочинения Огюста Николя ясно увидишь, как трудами и исследованиями истинно ученых людей несомненно доказано, что Моисей – первый, древнейший из всех историков и законодателей, книги которых дошли до нас во всей их целости, – есть самый правдивый повествователь и необыкновенный тайноведец, который говорит чистейшую истину о всех тех предметах, относительно которых он заподозрен во лжи самохвальными учеными и будто бы уличен наукою в оскорблении здравого человеческого смысла, и что он оказывается человеком сверхъестественной мудрости, почти за три тысячи пятьсот лет до нашего времени знавшим настолько сокровенные от человеческой науки тайны мироздания, что наука в лице многих своих представителей последнего времени только начинает сближать свои исследования о мироздании и о первобытной истории человеческого рода со священными сказаниями Моисея. Тогда ты будешь иметь в виду то, что, если Моисей почти за три с половиною тысячи лет до нашего времени с удивительной точностью говорил о порядке мироздания, единстве происхождения и первоначального языка человеческого рода, всемирном потопе, смешении языков и рассеянии людей, в чём наука только теперь убедилась, то, конечно, совершенно справедливо он повествует и о самом главном, существеннейшем предмете своего бытописания, т. е. падении человека и обетовании Божием о пришествии Спасителя мира, и даже не мог сказать неправды относительно этого самого главного предмета своего повествования.
– Почему же не мог?
– Потому, что он писал свою книгу Бытия в такое время, когда, благодаря долголетней жизни патриархов, предания об этом предмете, самые верные и точные, живо еще сохранялись у евреев, а отчасти и у других народов, когда отцы многих из современников Моисея могли видеть не только Иосифа и братьев его, но и самого Иакова, который видел самого Авраама, избранного Богом для сохранения на земле истинной веры в Бога и истинных преданий рода человеческого, и от него самого мог получить все эти заветные предания. Тогда ты поймешь, что непостижимость для нашего разума тайны падения и искупления человека отнюдь не может служить основанием тому, чтобы позволительно было нам не верить в эту тайну: правдивость Моисея относительно некоторых других предметов, одинаково представляющихся непостижимыми для нашего разума, однако же теперь признанных наукою за вполне достоверные, укрепит твою веру в эту тайну. Тогда ты первые основания христианства найдешь в древней иудейской религии, имевшей целью подготовить людей к принятию обетованного Спасителя мира и действительно подготовившей к тому тех, кто с верою ожидал Его пришествия, и, несомненно, убедишься в истинности и богооткровенности христианской религии. А при таком твоем убеждении и записному нигилисту трудно будет сбить тебя с толку и сделать нигилистскою.
– А можно ли, papa, ручаться за то, что первобытные предания человечества дошли до времен Моисея в их первоначальном, чистом и неповрежденном виде, как они вышли из уст самого Адама и других патриархов? – возразила Катя. – Ведь от сотворения мира до исхода евреев из Египта прошло около четырех тысяч лет: это слишком большой период для того, чтобы от первобытных преданий не осталось и следа истины.
– Хвалю тебя, моя милая Катенька, хвалю, – сказал отец, – я ждал от тебя такого возражения не из желания заподозрить истину, а из любознательности и готов удовлетворить твоей любознательности. Поди-ка принеси мне сюда Библию, бумаги и карандаш. Мы сейчас справимся с библейскою хронологией и до очевидности убедимся в том, что, несмотря на столь длинный период времени, предания эти могли сохраниться до времен Моисея во всей их первоначальной чистоте и неповрежденности.
III
Спустя несколько минут Катя принесла отцу Библию, лист бумаги и карандаш, и он тотчас же принялся за составление библейской хронологической таблицы от сотворения мира и до законодательства синайского. Катя с живейшим интересом следила за составлением этой таблицы, между тем как Нина ушла в свою комнату, совершенно не интересуясь тем, каков будет результат этой таблицы.
– Вот видишь ли теперь, – сказал отец, окончив свою работу, – от сотворения мира и до синайского законодательства прошло три тысячи девятьсот лет, период действительно очень длинный; но такая отдаленность времени не могла вредно влиять на рассказы Адама своим потомкам о своей блаженной жизни в раю, грехопадении, обетовании Спасителя, изгнании из рая и жизни на земле, по преданию переходившие из рода в род, от предков к потомкам, сначала в племени Сифа, а потом в племени Арфаксада, внука Ноева: благодаря долголетию патриархов, первобытная история мира и человека настолько сближается с временами Моисея, что при обыкновенной нашей жизни все события первобытного мира кажутся совершившимися за два или за три века до Моисея, так что Моисей мог получить эти священные, заветные для еврейского народа предания не далее, как из десятых уст от первого их источника.
– Каким же образом?
– А вот смотри, какие результаты дала нам эта таблица. От сотворения мира и до смерти патриарха Евера, давшего евреям свое имя, прошло три тысячи сто шестьдесят три года, и, однако же, Евер мог передать все дошедшие до него сказания Адама о своей жизни столетнему правнуку своему (Еверову) патриарху Серуху не далее, как из четвертых уст.
– А именно?
– Евер видел патриархов: отца своего Салу, деда Каинана, прадеда Арфаксада и прапрадеда Сима, – а они все четверо видели самого Ноя. Сим же сверх того видел допотопных патриархов: деда своего Ламеха и прадеда Мафусаила, который видел внука Адамова – патриарха Еноса. Ной видел не только Ламеха и Мафусаила, но и прадеда своего Еноха, прапрадеда Иареда и даже пращура своего Малелеила, а Малелеил видел Каинана, Еноса, Сифа и самого Адама. Таким образом, сам Адам, потом Малелеил, Ной и Сала, или же: Адам, Енос, Мафусаил и Сим – вот патриархи, чрез которых вся первобытная история дошла до патриарха Евера! Стало быть, Евер потом мог передать эту историю правнуку своему Серуху, как бы рассказы самого Адама, дошедшие до него из четвертых уст, или как бы рассказы своего прапрадеда. Серух же сообщил эти предания Нахору, умершему всего только за один год до рождения избранного Богом Авраама, и Фаре, отцу Авраама. Тут мы в первый раз встречаемся в библейской (патриархальной) истории с тем обстоятельством, что один только отец Фара должен быть передать своему сыну Аврааму все древние священные заветные предания, но ни деда, ни прадеда своего Авраам уже не мог слышать. И так как Фара под конец своей жизни начал снисходительно смотреть на повсюду распространявшееся тогда идолопоклонство, то очень могло бы случиться то, что первоначальные предания, дошедшие до самого Фары во всей их первоначальной чистоте и неповрежденности, могли утратить эту чистоту, если бы жизнь Фары продлилась и он сам впал в идолопоклонство наравне с другими людьми. Отсюда становится понятным то, почему нужно было в эту именно пору отделить Авраама от среды всех прочих людей и избрать его для сохранения в роде человеческом истинных преданий Церкви первобытной и патриархальной. Нужно было именно поставить его в такое положение, чтобы эти предания не могли подвергнуться искажению и утратить характер чистой истины.
– А сам Авраам-то, papa, мог ли получить их в неповрежденном виде?
– Без сомнения. Фара только под конец своей жизни сделался слаб в вере и стал снисходительно смотреть на идолопоклонство, а Авраам родился за семьдесят пять лет до его смерти и мог поверять рассказы отца о первобытных и патриархальных временах рассказами матери, брата своего Арана, видевшего патриархов Нахора и Серуха, и позднейших из сыновей этих двух патриархов, тех именно сыновей, которые сохраняли все древние предания как священный залог их веры. По крайней мере мы видим из истории, что Лот, сын, Аррана, хранил эти предания, так что вместе с Авраамом мог идти в землю Ханаанскую из земли Халдейской.
– Итак, papa, Авраам мог получить все священные предания в первоначальной их чистоте и не далее, как из седьмых уст?
– Да. Моисей же и его современники могли получить их от своих отцов и дедов, видевших самого Иакова, а Иаков видел самого Авраама, которому вверено было охранение этих преданий, важнейшими из коих, конечно, были предания о жизни прародителей в раю, падении их и данном им обетовании Божием о пришествии Спасителя.
– Теперь, papa, для меня вполне понятно то, что Моисей не мог сказать неправды в своем бытописании, потому что первобытная история, по преданию, в его время была еще настолько известна народу еврейскому, что, если бы он в своей книге Бытия позволил себе какие-нибудь вымыслы или мифы выдать за чистую истину, народ не принял бы его книги и не поверил бы тому, что он писал это по внушению Духа Божия. Зато я совсем не могу себе взять в толк того, каким образом наши ученые не могли понять этой истины и все его сказания считают за миф?
– Очень просто. Они никогда не давали себе труда внимательно проследить библейскую хронологию и вникнуть в самую суть дела. Они всегда обращали и обращают свое внимание лишь на то, о чем Моисей менее всего говорит в своей истории, именно на сказание его о происхождении тварей видимого мира и самом порядке мироздания, и в его повествовании об этом думали найти оружие против него, хотели обличить его в несогласии с изысканиями науки. Но и тут они совершенно не правы. Они совершенно не обращали при этом своего внимания на то, что Моисей главным и как бы единственным предметом своего повествования имел человека и то, что касалось человека; о других же предметах мироздания он говорил настолько, насколько они были важны по своему отношению к религии. Они забывали или даже вовсе не думали о том, что Моисей при написании своей книги Бытия вовсе не думал быть ни геологом, ни физиком, ни астрономом, ни математиком, но лишь хотел быть историком Божественной религии и Церкви Божией на земле. А так как в ту пору геологии еще и не существовало, а другие науки, естественные и математические, тогда еще не достигли той степени совершенства, на которой они стоят теперь, и так как, с другой стороны, Моисей не мог за целые тысячелетия вперед обладать теми научными сведениями, которые только в недавнее время явились как результат долговременных исследований ученых, то, естественно, от него можно бы было ожидать того, что он необходимо впадет в погрешности по геологии, физике и астрономии в своем повествовании. И однако же вышло совсем напротив: под влиянием своего просветительного вдохновения свыше он почти за три с половиною тысячи лет до нашего времени в нескольких только словах, посвященных им для обозначения природы вещей, говорит о порядке мироздания и природе вещей с такою точностью и ясностью, что и наши теперешние ученые так не выразились бы точно и ясно в немногих словах. Удивительное согласие его повествования о мироздании с новейшими изысканиями науки и превосходство его повествования пред всеми известными теориями миробытия ясно засвидетельствованы такими великими авторитетами науки, как Бюффон, Линней, Кювье, Ампер, Ферюссак, Бальби, Манпелль, Бедан, Марсель-де-Серрез, Шамполион, Бурдон и многие другие истинно ученые люди: все они преклонялись пред величием Моисея и признавали его вдохновение от Бога. И ныне одно лишь религиозное невежество, соединенное с развращенностью сердца и предубеждением против истины, заставляет мнимо-ученых глумиться над Моисеем, подобно Вольтеру, который в своей слепой ненависти к Моисею дошел до такого, можно сказать, безумия, что осмелился сказать, будто история потопа есть лишь басня, изображающая не что иное, как «страшное бедствие, испытываемое во все времена при засухе земли, которая долгое время по лености людей оставалась без орошения», а огромные осадки морских раковин на высоких горах, и в особенности в Альпах, будто бы есть следствие того, что «бесчисленные толпы пилигримов, наполнив свои шляпы и колпаки раковинами, отправлялись через горы в Рим в путешествие и оставляли на горах эти раковины».
– Да неужели, papa, Вольтер, договорился до подобных нелепостей? Ведь сказать подобные нелепости простительно только умопомешанному, но никак не ученому и не философу XVIII века.
– Да, договорился, и притом еще в одном из лучших своих сочинений. А ты разве думаешь, что нынешние умники не договариваются до подобных нелепостей, силясь доказать, будто книга Бытия есть сказка, написанная для забавы младенчествовавшего тогда народа еврейского? Конечно, теперь уже никто из них не позволит себе утверждать, будто потопа не было вовсе или он не был всемирным; зато теперь новые диковинки у них в большом ходу.
– Какие же именно?
– Теперь ты можешь услышать, будто всемирный потоп не был единственным в своем роде, ниспосланным от Бога на землю в наказание развратившегося первобытного мира, но был одним из множества подобных ему потопов естественных, периодически повторяющихся через каждые 10 000 лет и происходящих от чрезмерного скопления ледников попеременно то у одного, то у другого полюса земного шара. Теперь ты услышишь, что человек не есть непосредственное творение Божие, созданное по образу Божию и по подобию, а есть естественное произведение природы, выродившееся из первичной клеточки, в течение многих миллионов лет переходившей от одного вида бытия к другому; что ближайший прародитель человека есть обезьяна, а отдаленнейший – слизняк, полип и т. д. И мало ли чего ты теперь не услышишь от теперешних умников! Вот недавно в Германии появилось еще новое сочинение Геккеля, доказывающее происхождение человека от какого-то несуществующего и никогда не существовавшего монера, рассчитанное на недоучек: там выведено на сцену целое генеалогическое дерево вырождения человека из этого монера и даже приложены рисунки всех наших quasi43-пpapoдитeлeй, а равно и рисунки тех метаморфоз, которые будто бы человек проходит в утробе своей матери прежде, чем примет на себя образ человека. Вся его теория, как это теперь уже положительно доказано учеными, есть величайшая ложь, состоит из подделок и измышлений Геккелевой фантазии, выдаваемых за действительность. Но вздумай какой-нибудь нигилист перевести эту ерунду на русский язык и назначить книге дешевую цену, посмотри, какого она у нас в России наделает шуму и скольких нигилистов наплодит в самое короткое время! Вся нынешняя недоученная молодежь станет в ряды потомков Геккелевского монера и готова будет с оружием в руках отстаивать свое происхождение от этого вымышленного Геккелем существа.
– Но ведь найдутся же, papa, люди благомыслящие, которые постараются написать опровержение на такую нелепую теорию.
– Без сомнения, найдутся. Но что же из этого выйдет? Опровержения эти напечатаются в каком-нибудь ученом, а всего скорее, в каком-нибудь духовном журнале, и голоса авторов останутся таким же гласом вопиющего в пустыне, какими доселе оставались все возражения и опровержения, направленные против теории Дарвина: их прочтут лишь очень немногие, а учащаяся молодежь и знать о том не будет, да если и узнает, не поинтересуется прочесть по предубеждению в том, что от людей отсталых, за каких они считают всех восстающих против новомодных теорий, будто бы нечего ожидать дельного и нового.
– Как же так, papa? Неужели молодым людям, с такою жадностью хватающим на веру всякую новую теорию, направленную против христианства, и в голову не приходит мысли выслушать противную сторону, справиться с тем, что против этих теорий говорят люди, специально знакомые с теми истинами, к разрушению которых направлены эти теории. По-моему, это неестественно.
– Конечно, неестественно; но на деле это так и есть.
– От чего же это зависит?
– От того, что первоначальное их воспитание не посеяло в них добрых начал нравственности, не направило их способностей на путь истины и добра, не укоренило в них веры в Бога и Его откровение, а лишь поверхностно, как бы мимоходом дало им понятие о Боге, мире и человеке, приурочило их к одному только наружному выполнению некоторых христианских обязанностей из-за страха подвергнуться взысканию родителей или начальников за невыполнение их. Понятно, что при таком неосновательном нравственном воспитании молодому человеку нужно только раз вкусить запрещенного плода тайком, а потом захочется и в другой, и в третий раз сделать то же, а потом обратится в привычку вкушать лишь эти плоды и не знать вкуса в плодах истины. Так как при самом первом своем знакомстве с какою-нибудь ложною теорией молодой человек остался чужд возможности выслушать противную сторону и всё вычитанное принял на веру, то и впоследствии он остается таким же и не чувствует в себе необходимой потребности выслушивать противную сторону, а там мало-помалу голос его разума и совести настолько подчинится влиянию новых ложных учений, что в нём уже явится желание противостоять истине. Прибавь к этому еще и то, что нигилизм ныне в моде: многие молодые люди заражаются разными антихристианскими идеями из-за желания не казаться человеком отсталым, фанатиком и ханжою, как ныне величают прогрессисты всякого истинно верующего; потом мало-помалу они так привыкают к новомодным идеям, что делаются их жаркими защитниками или по крайней мере их закоренелыми приверженцами, если гром небесного правосудия не побудит их когда-нибудь чудесным образом сознать свои заблуждения и раскаяться в них, и уже тогда-то пожелать познакомиться с истинным учением веры.
– Это очень нерадостно.
– Да. Подражание моде в деле религиозных мнений делает человека нравственно несвободным и даже рабом новомодных лжеучений и антихристианских мнений. Поэтому не следует слепо принимать всякую новую теорию и даже всякое новое мнение, противоречащие учению христианскому, и притом еще принимать потому именно, что они вошли в современную моду убеждений или только разглагольствований.
– Конечно, papa, лучше казаться человеку отсталым в глазах нынешних умников да иметь спокойную совесть в сознании правоты своих религиозных убеждений, чем щеголять новомодными идеями и громкими, нарочно для показа другим заученными фразами ученых и утешать себя тем, что ныне все прогрессисты держатся вольнодумства. Однако, papa, не пора ли нам прекратить свой разговор? Вам время ехать к князю П ... Вы вчера дали ему слово быть у него сегодня.
– Успею, моя милая, успею и к нему съездить, и к его соседу. Для меня было очень приятно поговорить с тобою о таких важных предметах. Ведь у князя ни о чем подобном мне не придется поговорить: там лишь будешь слушать его россказни о рысаках, гончих собаках, актрисах и т. п. Ни князь, ни княгиня, ни княжны П. ничуть не интересуются ничем серьезным: для них всякий серьезный разговор едва ли не хуже горькой редьки. Для меня каждый час, в их доме проведенный, есть потерянный час. С тобою я уж никогда не потеряю времени даром: с тобою я всегда говорю с особенным удовольствием.
– Merci, papa! Нынешний наш разговор для меня в особенности приятен: я даже постараюсь записать его. А теперь дайте мне книгу Огюста Николя.
– Хорошо. Пойдем со мною в библиотеку.
Катя сейчас же вслед за отцом пошла в библиотеку и там получила сочинение Огюста Николя в переводе с французского на русский язык преосвященного Феофана, епископа Тамбовского. Тотчас же после этого она ушла в свою комнату и принялась за чтение отдела «Об отношении священных книг Моисея к наукам». С каким вниманием и с каким удовольствием она прочла этот отдел! Тут она ясно увидела, как ум человеческий хватался за призраки прежде, чем находил истину, как невежество и заблуждение находили себе обильную пищу в предубеждениях против истины и религии и породили множество нелепых систем, которые во имя науки и от имени науки с постыдным ребячеством направлены были составителями их против религии, и как в то же самое время истинная наука и вера, восстав против составителей таких систем, пришли в совершенное между собою согласие относительно тех вопросов миробытия, которые верою были почерпнуты из бытописания Моисеева, а в науке явились плодом долговременных исследований и ниспровергли системы вольнодумцев. Тут она поняла, что в настоящее время только лишь совершенное незнакомство с Библией и результатами исследований истинно ученых людей служит причиною тому, что молодежь наша жадно бросается на всякую новую систему, противоречащую сказаниям Моисея о миробытии, и что, с другой стороны, только лишь злонамеренность и незнакомство же с Библией могут в настоящее время порождать новые нелепые теории вроде вырождения человека из обезьяны или из дарвиновского четвероногого зверя. Тут она поняла и то, как в наше время необходимо прочное, истинно религиозное образование и знакомство с такими сочинениями, как «Философские размышления о божественности христианской религии» Огюста Николя, для того, чтобы нигилизм не прививался легко к современной молодежи, по большей части в самих же учебных заведениях набирающейся разных ходячих противохристианских идей, благодаря подпольной литературе, читаемой ею тайком от начальников и наставников этих заведений, и тем благоприятелям, которые снабжают ее этой литературой.
IV
Вечером в тот же день на балконе опять был приготовлен чай, и собралось всё семейство А. К этому чаю пришел и местный священник отец Алексей, который вообще жил очень дружно со своим помещиком, был первым наставником Кати до самого поступления ее в институт и теперь очень часто беседовал или с ее отцом при ней, или же с нею самою о разных религиозно-нравственных предметах, как бы продолжая усовершенствовать ее научное образование и желая подготовить ее к истинно христианской жизни в той среде, в какой ей суждено жить и действовать.
– Merci, papa! – сказала Катя, обратившись к отцу после того, как получила благословение от отца Алексея. – Книга Огюста Николя мне так понравилась, что я до самого вечера сидела за нею. Мне кажется, что интереснее этой книги я ни одной еще не читала.
– Очень рад, моя милая, что она тебе так поправилась, – ответил отец. – Теперь ты имела случай убедиться в том, что истинная наука устами своих великих исследователей говорит за Моисея и христианство и обличает неверие во лжи, безумии и клевете на науку, во имя которой оно ратует против религии44.
– Да иначе и быть не может, – сказал отец Алексей, – истинная наука непременно должна преклониться пред откровением и воздать ему подобающую честь. Неверие напрасно силится низвести христианство на степень естественного произведения человеческого ума. Это усилие есть не более как пустая мечта, обличающая безумие неверия. Христианство совсем не то, что религии Конфуция, Будды или Зороастра или что учения Пифагора, Сократа, Платона и других философов. Одно только оно вполне ясно решает все вопросы мыслящего человеческого духа и открывает нам тайны настоящего, прошедшего и будущего, непостижимые для нашего ограниченного ума. Его догматы решают ясно те естественные религиозные вопросы, которые присущи человеческой природе: так, догмат о творении мира свидетельствует о бытии Бога, Творца и Промыслителя вселенной, и о той связи, которая соединяет человека с Богом и мир видимый с невидимым; догмат о промышлении о мире и человеке изъясняет нам инстинктивное обращение человека, даже и самого неверующего, в минуты опасности к Богу Живому, к той именно Верховной Силе, Которая способствует нашей жизни и действует на нашу участь. Догмат о первородном грехе объясняет причину и возможность присутствия зла в мире и человеке; догмат о воплощении Сына Божия свидетельствует о бесконечной любви Божией к человеку и о той цене, какую имеет человек в очах Божиих; догмат о совершении Сыном Божиим всего дела нашего искупления свидетельствует о спасении человека от всех последствий греха и о надежде на полное восстановление порядка в мире нравственном и физическом с открытием вечного славного Царствия Божия, в котором искупленный ценою крови Сына Божия человек получит полное, совершеннейшее воздаяние по делам своим.

– Ах, батюшка, – сказала Катя, обращаясь к отцу Алексею, – чем больше я слушаю вас или папашу, когда вы рассуждаете об истинах нашей веры, тем больше я проникаюсь всегда сознанием той истины, что христианство имеет поистине могущественнейшее действие на сердца людей: и это испытываю сама на себе... На душе у меня в эту пору всегда бывает так легко, так отрадно, что точно предощущаешь то блаженство, какое обещано нам в Евангелии, и все земное, временное в эту пору забываешь.
– Да, сага mea discipula45, – сказал отец Алексей, всегда так величавший свою бывшую ученицу, – иначе и быть не может с тем, кто всегда со всем усердием слушает откровенное слово Божие или беседует о предметах христианской веры. Христианство действительно имеет могущественнейшее влияние на сердца людей: оно изменило нравственное и общественное состояние всего древнего мира, внесло в души человеческие свет и новые силы, привело свободу человеческую к согласию с законами Божественными, принесло исцеление от зла, тяготевшего над родом человеческим, и открыло путь к вечному блаженству, тогда как другие религии не в состоянии были этого сделать и своим бессилием ясно указывали на необходимость появления религии новой, богооткровенной и совершеннейшей. И в этом могущественнейшем действии христианской религии на сердца людей заключается один из главных признаков ее несомненной истинности и богооткровенности. В самом деле, всмотритесь в учения Конфуция, Будды, Зороастра, Платона, Сократа и других философов и законодателей: в состоянии ли они были решать все важнейшие вопросы мыслящего человеческого духа, успокоить сердце человеческое и так могущественно повлиять на него, как христианство повлияло? Обновили ли они мир? Нет. Несмотря на славу, какою и современники, и потомки этих великих людей почтили их, и на произведенное ими влияние на людей, их учения не произвели истинного и плодотворного возрождения человечества: они не обновили человеческого естества, и не избавили человека от зол, и даже не могли этого сделать, потому что учения эти были произведением их человеческого ума, утверждавшимся на древних преданиях, а не откровением Божественным и лишены были силы могущественно и благотворно влиять на сердца людей современного им мира.
– Да. И если таковы были учения этих людей, то что же после этого сказать об учениях всех наших новейших умников – нигилистов, материалистов, спиритов, атеистов и прочей братии? Те по крайней мере стремились к познанию истины, искали ее и желали наставить своих слушателей или последователей на путь истины, и не могли этого достигнуть, потому что не там искали истины, где должно было ее искать; а эти силятся затмить истину, отвратить от нее людей и даже, если бы то оказалось для них возможным, совсем уничтожить существование истины в мире.
– Ясно, что они также могут иметь могущественнейшее, но не благодетельное, а зловредное влияние на сердца людей: они доведут людей до состояния скотоподобия и низринут их в бездну зол и погибели вечной. Вы сами посудите, можно ли от этих умников ожидать благотворного влияния на человечество, когда они ненавидят добро, отрицают бытие человеческой души как духа разумно-нравственного и свободного и даже бытие Самого Бога и проповедуют своим последователям личное ничтожество или совершенное уничтожение после смерти? Можно ли удивляться тому, что они находят себе хоть каких-нибудь последователей, когда всякий мыслящий человек должен бы был бежать от их учения, как от чумы и призыва к погибели? В самом деле, взгляните повнимательнее на всех новейших лжеучителей: что это за люди? Они величают себя учеными и философами, вооружают свое зрение микроскопами и телескопами для рассматривания бесчисленных творений Божиих – от инфузорий до необъятных светил небесных, от малейшего атома в нашем теле и до головного мозга; в одной капле мутной воды насчитывают миллионы живых существ или же в одном туманном пятне на небе усматривают целые солнечные системы; всё измеряют, взвешивают и исчисляют, всё определяют и всё и везде видят; и в то же самое время ничего не только не знают, но и не хотят знать о Боге – Разумной Причине всего существующего, всё приписывая или слепому случаю, или какому-то, для них самих непонятному сцеплению атомов материи и самозарождению. Кто эти, именующие себя мудрецами, как не нравственные невежды, как не уроды, сами искалечившие свою человеческую природу, как не безумцы, трактующие о мозге и нервах, атомах, силе и материн, инфузориях и отдаленнейших светилах и целых мирах и в то же время не знающие ни своей собственной природы, ни природы рассматриваемых ими тварей? Такие люди достойны не похвалы и признания за ними имени ученых, а сожаления о них как о безумцах, но безумцах не от природы, а от излишнего мудрствования и извращения смысла тех сил, законов и явлений природы, которые они хотят постигнуть своим ограниченным умом, не признавая Верховной Причины всех существующих в мире вещей, воззвавшей мир от небытия к бытию, всему начертавшей свои законы и указавшей цель и предел бытия, начиная от человека и до высшего из ангелов, от инфузории и до громаднейшего из светил небесных.
– Кстати о светилах небесных, – перервала Катя. – Стараясь доказать, будто мир существует уже целые миллионы лет, наши умники указывают на то, будто бы некоторые, видимые нами звезды так от нас удалены, что свет от них достигает до земли в целые сотни тысяч и даже миллионы лет и что там, где мы видим их теперь на своде небесном, они были миллионы лет тому назад. Принято ли это в науке за положительную истину?
– Дело вот в чем, – сказал отец Кате, – то, что свет для достижения от своего источника до земли требует времени, это в физике признается за аксиому; а так ли он распространяется в бесконечном пространстве небесном, с такою ли же скоростью, как в ближайших в земле пространствах неба, это еще вопрос неразрешимый; поэтому и все теории о потухших целые миллионы лет светилах, доселе еще видимых нами, и о вновь воссиявших на тверди небесной, но еще недославших до нас своего луча света в целые миллионы лет, а равно и о том, что мы теперь видим на небе вместо подлинных звезд только миражи их, не зная того, где в самом деле теперь эти звезды блуждают в пространстве небесном, суть только гипотезы, а не истины доказанные. Очень может быть, что свет самых отдаленнейших звезд достигает нашей планеты гораздо скорее, чем свет солнца планет.
– Нет, – сказал отец Алексей. – Вся суть дела здесь заключается не в этом именно, а в том, что солнце, луна и звезды созданы Богом в один только четвертый день. Всесильный, создавший сам свет в первый день мира, прежде чем сотворил твердь небесную, неужели не мог сделать того, чтобы в четвертый день в одно мгновение ока все звезды вместе с солнцем и луной воссияли на тверди небесной? К чему же тут миллионы лет, когда всё зависело от воли Творца, который всё привел от небытия к бытию, всему дал свои силы и законы и всё создал премудро? Если само вещество света было каким-то, непостижимым для ученых образом разлито по вселенной прежде образования самих небесных тел, на которых оно потом было сосредоточено и с которых должно было проливаться на другие небесный тела, что же мудреного в том, что с самого же момента творения светил небесных проливаемый ими свет стал видим на земле? Для Бога всё возможно. Он сказал: «Да будет свет», – и стал свет. Он же сказал: «Да будут светила на тверди небесной, чтобы светить на землю», – и стало так; свет сосредоточился на светилах, и они воссияли на тверди небесной, освещая землю и служа ей для определения времен, дней и годов, украшая собою небо и свидетельствуя о величайшей премудрости и всемогуществе Творца. Той рече и быша, повеле и создашася: здесь для нас открыто всё, здесь же должен быть и предел всякому нашему мудрованию. Отсюда же должно быть для нас ясно и то, что, если нам что кажется невероятным или совсем невозможным, мы не дошли еще до того, чтобы понять это, ошибаемся в своих соображениях и не так смотрим на вещи, как бы следовало смотреть на них для того, чтобы познать их и отыскать истину.
– Все это так, но все это убедительно только для того, кто верует в откровение, для неверия же это ничуть не убедительно. Теперь, батюшка, прошло то время, когда вам, служителям Церкви, можно было довольствоваться одним только богословием и его доводами поражать неправомыслящих. Теперь настала другая пора: теперь неправомыслящих надобно поражать их же собственным оружием, потому что богословия они и знать не хотят. Они всё основывают на своих собственных измышлениях и на выводах естественных наук; поэтому теперь священнику необходимо знакомство с истинными выводами естественных наук и исследованиями ученых, чтобы всегда иметь в своих руках верное оружие против неверия и его оружием побивать его. Поэтому и в вопросе о миллионах лет нужно обратить свое внимание на то, что учеными отнюдь еще не доказано того, будто свет в отдаленнейших пространствах неба распространяется с тою же скоростью, как и в ближайших к нашей планете или как в нашей солнечной системе, а потому и заключение о миллионах лет, основанное на скорости распространения света и известных науке пространствах неба по меньшей мере преждевременно и похоже на заключение о существовании храмов Эсны и Дендераха за целые десятки тысяч лет до сотворения мира по нашему летосчислению.
– Согласен, что для неверующих доводы богословские неубедительны и что при случае нам нужно пользоваться их же собственным оружием, обращая его против них. Но, судите же милостиво, не следует ли и им принять во внимание то, что и все их измышления для нас, верующих, нисколько не убедительны и что для того, чтобы судить о Библии, в которой они хотят найти оружие против нас, им необходимо повнимательнее заглядывать в Библию да исправить свое сердце и мысль, потому что иначе им не понять истинного смысла Писания, по слову Премудрого, который говорит: в злохудожную душу не внидет премудрость! Они восстают против библейских сказаний о Боге, мире и человеке; нужно же, чтобы они знали, что именно говорят эти сказания. Поэтому мне кажется, что при всяком случае спора с неверующими о каком-либо библейском сказании непременно нужно поставлять их в такое положение, чтобы они волею или неволею выслушали, что в самом деле говорится в Библии о спорном предмете и как ею решается спорный вопрос. Изложение пред неверующим положительного учения веры о данном предмете и решение спорного вопроса с богословской точки зрения будут важны уже сами по себе, потому что они заставят неверующих возражать против изложенной пред ними истины не общими местами и не заученными фразами, а более обстоятельно и своими собственными возражениями, несостоятельность которых всегда легче доказать, чем убедить в ложности заученных фраз; но они будут еще большую иметь важность, когда мы собственное же их оружие направим против них. Обезоруженное и со всех сторон атакованное неверие должно будет поневоле задуматься и уступить нам. Но вы обратите свое внимание еще и на то, что ведь большая часть нашей молодежи потому именно в настоящее время заражается неверием, что она не знакома хорошо с положительным учением веры. Стало быть, в споре с нашею молодежью даже необходимо излагать пред ними положительное учение веры о данном предмете, чтобы ознакомить их с христианским взглядом на этот предмет и заставить призадуматься над тем, где в самом деле лучше решается спорный вопрос, в учении ли христианском или софизмах неверия, и, может быть, и побудить их к тому, чтобы они хоть раз в жизни прочли Библию и ознакомились с богословием. Наконец, судите сами, уместно ли, прилично ли будет нам, служителям Церкви, рассуждать о предметах богословских, держась одной только философской или естественно-исторической точки зрения на них во время своих споров с неверующими? Чрез это не унизим ли мы богословия даже в глазах самих неверующих и не поставим ли богословские истины в ряд с теми умствованиями философов и неверующих, против которых (умствований) мы восстаем? Полагаю, что пастырю Церкви всегда нужно помнить, что он не философ, а богослов, и больше стараться действовать на сердца людей, чем удовлетворять пытливости их ума.
– Papa! – сказала Катя, обращаясь к отцу с какою-то особенною живостью. – Мне кажется, что батюшка судит совершенно верно.
– Разумеется, моя милая, верно, – ответил отец, – против этого я ничего не могу сказать. Я только хотел обратить внимание отца Алексея на то, что одних богословских доказательств недостаточно для убеждения неверующих и вольномыслящих в том, что они заблуждаются, восставая против сказаний Моисея о миробытии, и что при этом непременно нужно пользоваться каждым удобным случаем обратить против них их же собственное оружие.
Долго еще отец Алексей сидел на балконе и беседовал с А. о разных предметах. Катя сидела тут же и все внимательно слушала; зато Нина на всё махнула рукою и сейчас же после чая ушла в свою комнату, проговорив про себя: «Чего сидят, толкуют о пустяках! Как ни толкуй они, а Скородумов всех их поставит в тупик своим даром слова. Хоть Катя и говорит, будто он глуповат, но – нет! – это неправда: он очень умен, великодушен и благороден».
«Жалкая девушка, – подумал отец Алексей о Нине, когда она уходила с балкона, – этот шалопай Скородумов непременно собьет ее с толку и обманет».

И он не ошибся! Скородумов, испытав после того еще раз полную неудачу произвести своею личностью благоприятное впечатление на Катю, всецело обратил свое внимание на Нину, сосватался за нее и получил пять тысяч денег в счет ее приданого, ездил к ней положительно каждый день и почти с утра до ночи проводил время в разговорах с нею и гулянье по саду, но свадьбу свою отлагал с недели на неделю то под тем предлогом, то под другим. Катя чуяла в этом что-то недоброе, но ни отец, ни мать не могли в этом видеть ничего иного, кроме желания Скородумова побыть подольше женихом. Однако же Скородумов со своей стороны думал вовсе не об этом. После формального предложения своей руки Нине и получения пяти тысяч рублей он с усердием принялся за то, чтобы развить Нину и мало-помалу, совершенно для нее самой незаметно расположил ее к тому, что она, наконец, охотно выслушала его рассуждения о браке христианском и о браке гражданском и какую-то писаную «лекцию по физиологии брака» неизвестно чьего изделия. А потом – увы! – она решилась вступить с ним в гражданский брак, и в одно прекрасное утро, когда в доме А. все еще спали, она, взяв с собою свой гимназический диплом, ушла тайком из родительского дома и укатила со Скородумовым в Петербург, оставив после себя письмо к отцу такого содержания: «Церковный брак есть только глупая комедия, и потому я не признаю его. Я хочу быть всегда свободною и вступаю со Скородумовым в гражданский брак. Куда мы уедем, я сама не знаю». Само собою понятно, что таким поступком она повергла родителей в великое горе.
* * *
Прошло после того немного больше полугода. Катя, вскоре после бегства Нины вышедшая замуж за прекрасного молодого человека князя Т., счастливая, веселая и здоровая приехала с мужем навестить отца своего и мать. В то же время какой-то крестьянин из Тулы на простых деревенских санях привез домой и Нину, оборванную, больную и озлобленную против всего света. Да. С нею случилось то же, что и со многими подобными ей случалось: Скородумов, пока еще она не сделалась его гражданскою женою, ухаживал за нею, потом выдал ее за свою содержанку, обобрал кругом и стал бить, а когда она от побоев заболела, бросил ее без куска хлеба в Туле и уехал в Курск с какою-то новою гражданскою женою: вот тебе и гражданский брак!

Под началом побывал46
I
Было 18 апреля 1865 года. Чудный, тихий и теплый, первый еще в том году весенний погожий вечер после праздника Пасхи вызывал на улицу всех жителей небольшого села Покровского ...ского уезда. Молодые поселянки водили хороводы и пели весенние песни, приветствуя золотое время года. Старички, их отцы и деды, сидели у своих домов, слушали веселые песни, вспоминали старину, судили и рядили о новых своих крестьянских порядках и благодарили Царя-батюшку за то, что он избавил их от вековой неволи. Подчас они в своих разговорах касались и своего будущего и говорили меж собой о том, что их время уже ушло и пора им собираться туда, где вечная свобода и вечный покой. Старушки и пожилые женщины, не участвовавшие в общем веселье, собирались в кружки и толковали о разных разностях, а больше всего горевали о том, что их мужья и дети много за святую неделю пропили денег в кабаке. Молодые ребята то вертелись около хороводов и высматривали себе невест, то собирались в кружки, играли на жалейках и рожках – этих доморощенных деревенских музыкальных инструментах, плясали, кричали и гамели. Куда ни взгляни, везде на селе шум, крик и веселье. Только лишь на одной поповской слободе близ самой церкви все было тихо, и скромно, и безлюдно вокруг. Священника не было дома: он повез в Тулу двух своих сыновей и еще не возвращался оттуда, а жена его сидела у колыбели, убаюкивала малютку-дочь и раздумывала о том, как-то ее муж и дети доехали до Тулы в холодную, ненастную погоду и здоровы ли они; когда-то ее старший сын, Бог даст, окончит курс и пристроится к месту и где-то ему придется найти себе хорошую невесту, которая бы стоила его. Мысли далеко заносили бедную матушку, не видавшую в своей жизни счастливых дней и ждавшую себе покоя в старости, когда старшие дети ее пристроятся к месту и будут помогать своим родителям в воспитании младших своих братьев и сестер.
Дьякон-старичок лет восьмидесяти сидел на своем пчельнике с пономарем и толковал о том, что воля крестьянская, скорее, ухудшила, чем улучшила положение сельского духовенства в бывших помещичьих имениях, и перечислял, какие в четырехлетний период произошли у них в селе перемены к худшему в отношении экономического положения местного причта. Пономарь только лишь поддакивал дьякону, да качал своею головою, представляя себе, что в последующие годы причту еще будет тяжелее жить в Покровском. В доме вдовой дьячихи в это самое время решалась участь единственного ее сына, студента семинарии Павла Петровича Тихонравова. Вся семья, состоявшая из матери, сына и двух дочерей-невест, сидела за столом и совершала свой поздний, самый скудный ужин. Мать долго сидела, посматривала на сына, собираясь с духом заговорить с ним о его судьбе; сын был задумчив и очень невесел; дочери поочередно переносили свой взор с матери на брата и, зная, что брату их теперь вовсе не до того, чтобы разговаривать с ними, не смели ни о чем заговорить с ним и лишь между собою изредка тихо перекидывались словами.
– Что ж ты, Паша, так задумался сильно и ничего мне до сих пор не скажешь о том, как тебя сегодня приняли у благочинного Малинина и понравилась ли тебе невеста? – обратилась, наконец, мать к сыну, прерывая это тягостное для всех молчание.
– Поневоле задумаешься, когда не знаешь, как быть и что делать, – сухо ответил сын. – У Малинина меня, конечно, отец и мать невесты приняли как желанного гостя и жениха, выставили мне все напоказ и высулили мне большое приданое – две тысячи деньгами, да разного платья и тряпья обещали дать за дочерью на столько же. Да что в этом толку? Жить ведь придется не с деньгами и вашим женским тряпьем, а с женою. Вот тут-то и выходит запятая.
– Что же тут выходит? Разве невеста нехороша?
– Да она и собою-то некрасива, но это бы еще не велика беда. Хуже всего то, что она двумя годами старше меня, белоручка, модница, гордячка, кичится своим богатством и родством так, что на меня смотрит свысока, с какою-то манерою покровительницы, при мне же позволяет себе говорить про моего бывшего товарища Остроумова, что он чистая «дьячковщина» или «дьячков сын невежа». Ну, да что там много говорить. Одним словом, она мне не по сердцу. Мне, как говорится, нужно рубить дерево по себе. Я дьячков сын, сирота, бедняк, труженик, а она мне не пара. Я желаю всею душою предаться пастырскому служению, трудиться, вести скромную жизнь и благодетельствовать своим прихожанам, а она не так смотрит на вещи. Нет, я чувствую, что я с нею не могу быть счастлив в жизни.
– Ну, а место где же?
– Места еще нигде в виду не имеется. Однако, почтенный отец благочинный так уверен в том, что ради его личных заслуг и знакомства с консисторской канцелярией мне дадут первое же хорошее праздное место, что надеется и свадебку сыграть после Троицы.
– Так значит, ты уже изъявил свое согласие взять его дочь?
– О, нет. Я не сказал ему ни да, ни нет. Я сказал, что подумаю дома. Посоветуюсь с вами, побываю в Туле, а тогда и пришлю ему свой письменный ответ о согласии или несогласии взять его дочь. Тем не менее, он снабдил меня письмом к какому-то Юсу47, который будто бы его друг и приятель и ради него все сделает для меня, возьмет на себя все хлопоты по моему делу и как раз доставит мне самое лучшее место. Волей-неволей приходится ехать теперь в Тулу и там позаботиться о самом себе. Так или иначе, а нужно же мне определяться к месту.
– Да и пора уже. Не все же тебе есть мой хлеб, пора меня кормить. И я очень бы желала, чтобы ты покончил с Малининым, потому что место тебе тогда дадут праздное, да и денег-то возьмешь две тысячи... При таких обстоятельствах ты в силах будешь и мне помочь в нужде, и сестер выдать замуж.
– Вам, матушка, я и без того, Бог даст, помогу. Себе во всем откажу, а вас в нужде не оставлю, где бы я ни был и как бы ни жил. Сестер тоже не забуду, обеих пристрою к месту. Но воля ваша, чтобы согласиться с Малиниными, об этом мне нужно хорошенько подумать. Я завтра же отправлюсь в Тулу и там поразведаю, где есть места и какие. Если придется, проеду куда-нибудь и невесту еще посмотреть. Только вы, матушка, пожалуйста, меня не стесняйте. Не настаивайте на том, чтобы я гнался за приданым. Лишь бы мне понравилась невеста, а то я и без денег возьму ее. Не все же с деньгами берут, а ведь иные из таких по милости Божией живут еще лучше тех, которые берут приданое.
– Как знаешь, по мне было бы приятнее, если бы ты согласился с Малиниными. Невеста немного нехороша, старенька и горда, что за беда? Как женишься, все у вас пойдет понову. Тогда смилится-слюбится. Она единственная дочь: умрет отец, все тебе достанется. Ты будешь жить в достатке и почете, а ныне тот и хорош, кто богат и знатен.
– Вы, матушка, забываете, что я хочу быть священником в истинном значении этого слова, хочу служить добром от чистого сердца всем и каждому, а для этого не нужно ни богатства, ни знатности. Нужно только иметь усердие к своему делу да трудиться честно.
– Ошибаешься, Пашенька! Если ты хочешь от души предаться исполнению своих обязанностей, для этого тебе, прежде всего, нужно иметь обеспечение в жизни, иначе же ежедневные житейские заботы о куске насущного хлеба совсем собьют тебя с толку и отобьют у тебя усердие честно и неустанно трудиться по долгу священства. Поверь мне, что это так. Ты еще молод и неопытен, судишь обо всем по своим семинарским книжкам, а я уже состарилась в трудах и невзгодах и много видела священников, которые когда-то, подобно тебе, мечтали всею душою предаться исполнению своих обязанностей, а ныне преданы изысканно куска насущного хлеба. Пойдут у тебя дети, потребуют воспитания, тогда узнаешь, что значит иметь у себя лишний грош в кармане.
Последние слова матери невольно заставили Тихонравова призадуматься.
– Не знаю, матушка! – сказал он наконец. – Поеду в Тулу, подумаю, посмотрю. Если нигде не придется найти невесту такую, чтобы не было обязательств содержать ее родных, тогда, может быть, и с Малининым сойдусь. Благо место мне будет дано праздное. Имея деньги, я, в самом деле, свободнее смогу тогда располагать своим временем и трудами и больше буду иметь возможности помогать не только вам, но и своим бедным прихожанам. А все же, матушка, я опять вам скажу: если мне где-нибудь понравится хотя бы и самая бедная невеста, я не задумаюсь за нее сосвататься. Лучше жить в бедности, да с любимою женою, чем в богатстве, да без любви к жене.
– Это так; но ведь ты еще дочери Малинина хорошо не знаешь, судишь о ней по первой встрече. Узнай ее получше и, может быть, увидишь, что она очень хорошая девушка и может составить истинное твое счастье. Упускать ее из виду я тебе не советую.
– Да ты, Паша, обрати свое внимание на то, ты-то сам что за важная птица, – сказала старшая сестра. – Вы, господа женихи, любите все разбирать невест, а и не думаете о том, что ведь и вас тоже невесты могут разбирать по-своему. Может быть, и ты невесте вовсе не нравишься, и она вовсе бы не хотела за тебя идти. Кто ты таков? Ненаглядный красавец, редкий умник, знаменитость какая-нибудь? Полунищий, забитый семинарист, не смеющий сказать слова, а иногда и не умеющий его сказать порядочно. Кто за тобою погонится? Нам ли с тобою разбирать людей да расценивать их, когда мы сами хуже людей? Слушайся лучше старших: что матушка тебе говорит, да как преосвященный благословит, так пусть и будет. Ведь если Богом не суждено тебе жениться на Малининой, так этого и не случится. Чего же много толковать об этом? Ступай завтра в Тулу и конец: там видно будет, на ком тебе нужно жениться и где твое место.
– Вот это резонно, – ответил брат. – Нужно во всем положиться на волю Божию: что Бог мне пошлет, то пусть и будет, а судить о людях прежде времени да загадывать в даль нечего.
Целую ночь потом бедняга не мог заснуть в своем шалаше в саду, ворочался с боку на бок и раздумывал, что ему делать и как быть.

II
На следующий день Тихонравов часов в шесть утра собрался ехать в Тулу с одним из крестьян, который ехал туда же хлопотать о дозволении повенчать его сына за месяц ранее 18 лет.
– Благословите меня, матушка, на добрый путь, – сказал он, помолившись Богу и подойдя проститься с матерью.
– Дай Бог тебе, Пашенька, счастливого пути и полного успеха в твоем начинании, – сказала мать и осенила его крестным знамением.
– Помни, Паша, – сказала ему старшая сестра при прощании, – все зависит от Бога, на Него и надейся. Тем, что ты студент, не гордись. Отец благочинный, желая тебя принять в зятья, делает этим честь и тебе и нам. Он и помимо тебя найдет жениха своей дочери, а ты нескоро найдешь себе хорошую невесту и праздное место. Не раздумывая долго, подай прошение на то место, какое тебе укажет родственник благочинного, а там, что будет угодно Богу и преосвященному.
Тихонравов ничего не ответил на замечание сестры, молча вышел из дому, помолился на церковь и сел на плохенькую тележонку. Весь день он был не в духе, все раздумывал и не знал, что делать: начинать ли дело с отцом Малининым или поискать себе другую невесту. Наконец, порешил он начать дело с Малининым и сейчас же по приезде в Тулу обратиться к Юсу за советом и помощью.
Под вечер приехал он в село Д... и остановился на постоялом дворе для ночлега. Когда он вошел в большую, светлую и довольно чистую избу, там сидели у стола старушка лет восьмидесяти, довольно еще бодрая, но невесело смотревшая на Божий свет, и девушка лет восемнадцати, очень хорошенькая собою. Они были там одни и тихо разговаривали между собою. Помолившись Богу, Тихонравов поклонился старушке и девушке и, отошедши в сторону, сел у окна.
– Прабабушка! – сказала в это время девушка. – Как вы хотите, так и делайте, а я советовала бы вам вернуться домой. Вы и до Тулы не дойдете, а оттуда тем более вам не дойти до двора, нанять же нам не на что.
– Нельзя, Юленька, надо идти. Что будет, то будет; а я все-таки пойду и явлюсь сама к преосвященному просить его к нам милости. Нельзя же нам с тобою так жить, как жили эти два года. Либо какую-нибудь часть из доходов нам должно дать, либо позволить мне приискать тебе жениха. Ведь ты уже невеста.
– Право, напрасно вы обо мне хлопочете, да и о себе тоже. Ведь жили же мы эти два года безо всего и нужды особой не терпели. Бог даст, и в следующие годы проживем хорошо, прокормимся трудами своих рук: вы опять будете вязать чулки и продавать их, а я буду учить детей. Пойдемте лучше домой. Я боюсь, что вы дорогою заболеете. Что я тогда буду с вами делать? Не бросить же мне вас.
– Ничего, Юленька! Я, Бог даст, дойду. Ведь за нами не гонятся, будем идти верст по десяти в день, если я буду уставать. Я хочу при жизни своей пристроить тебя к месту, и пристрою. Хоть за какого-нибудь дьячка тебя выдам замуж, все будет лучше, чем век сидеть в девушках. Не в горничные же ты пойдешь.
– Я буду учить детей и жить своим трудом.
– Пустая затея. Ты еще очень молода и не знаешь жизни, потому и смотришь на все так легко, по-детски. Ныне не то время, чтобы девушка могла спокойно прожить свой век. Ныне везде царствуют обман, неправда, соблазны. Не успеешь и одуматься, как тебя обманут, собьют с толку и сделают несчастною.
– Я не маленькая. Сбить с толку меня нелегко, но, главное, вы знаете, я хочу идти в монастырь. Как только вас не станет на свете, и меня не будет в «миру». Я уйду в монастырь.
– И не думай об этом. Я тебя не благословляю. Я была в монастыре у своей двоюродной сестры и видела, как там живут. Там тоже тревожная жизнь, что и у нас в миру, те же заботы о куске насущного хлеба, те же пересуды, сплетни, раздоры, что и у нас. Если хочешь спасаться, то и здесь можешь спастись: трудись честно, молись больше и усерднее, люби всех по-христиански и делай каждому добро от души – вот тебе и путь ко спасению в мире. Ты так еще молода, что с тобою все еще может быть. Ты так хороша собою, что тебя каждый может заметить. Поселившись в монастырь, укроешься ли ты от мирских соблазнов? Нет, там враг скорее тебя осетит, и что, если ты потом уйдешь из монастыря? Таких примеров бывало немало с теми, кто, подобно тебе, шел в монастырь в самом цвете лет. Ты лучше послушайся меня, иди замуж.
– Что Богу будет угодно, – сказала девушка, – а я все-таки еще раз напомню вам, что вы стали слабы и до Тулы не дойдете. Если вы любите меня и желаете мне истинного добра и спокойствия, вернемся домой, пока еще время не ушло, а за чем вы идете в Тулу, о том вы можете завтра же по почте послать прошение владыке.
Как ни тихо разговаривали между собою старушка и ее правнучка, а Тихонравов весь их разговор слышал и живо заинтересовался им. Миловидное личико девушки привлекло к себе его внимание, и он почти не спускал с нее глаз. «Какая прелестная девушка! – думал, он, смотря на Юленьку. – Что, если бы Малинина была так же хороша? Я не расстался бы с нею ни за что на свете. Нужно, однако, узнать, кто такая эта интересная личность и откуда она».
– Позвольте, бабушка, знать, кто вы и откуда? – спросил он, подойдя к столу.
– Я, милый мой, священническая вдова, проживаю в селе Троицком здешнего уезда в доме своего умершего внука-пономаря; а это моя правнучка. Она дочь священника, сирота, живет со мною, занимается обучением крестьянских мальчиков грамоте.
– Очень приятно слышать, что вы подвизаетесь на поприще народного образования, – сказал Тихонравов, обращаясь к Юленьке. – Позвольте узнать, где вы сами-то получили воспитание?
– Я воспитывалась дома, – кротко ответила девушка.
– Вероятно, с вами сам ваш батюшка занимался науками?
– Да, и он занимался, но больше всего я обязана своим развитием двоюродному своему брату, который по окончании курса семинарии жил в нашем селе на кондиции и уделял по нескольку часов в день на занятия со мною русским языком, арифметикой, географией, историей и вообще всем, что ему казалось возможным преподать мне. Закон Божий я и без него хорошо знала.
– Отлично. Он сделал для вас очень много. Дал вам возможность заниматься обучением детей и иметь всегда верный кусок хлеба в своих руках.
– Да, вот я это и говорила не раз своей прабабушке, а она и слушать меня не хочет. Все думает меня выдать за муж за дьячка. Посудите сами, сделавшись дьячихою, смогу ли я продолжать теперешнее свое занятие? Тогда будет не до того. Дом, хозяйство, дети будут на уме. Тут не до обучения детей грамоте, а я так привыкла к этому занятию.
– Замужество вам не помешает продолжать свои прежние занятия. Вы в состоянии будете учить и своих детей, и чужих. Но дело вот в чем: вы дочь священника, и вам вовсе не к лицу быть женой дьячка. Вы так хороши собою и так, надеюсь умны, что вам следует быть за священником, а иначе лучше и не ходить замуж. Дьячковская доля самая плохая, и не дай Бог, чтобы она досталась вам.
– Благодарю вас за участие. Я и сама так думаю, но больше всего надеюсь на Бога и жду Его распоряжения моею судьбою. Ему лучше видно, что для меня нужно и полезно в жизни. Да будет же Его святая воля! Я безропотно перенесу все в жизни, что бы со мною ни случилось. Я с малолетства приучена к терпению.
Начавшийся таким образом живой разговор продолжался целый вечер. Тихонравов так заинтересовался личностью Юленьки, что мысли его начали уже двоиться. Он ясно видел, что эта девушка далеко не то, что дочка благочинного Малинина: она и собою хороша, и умна, она и не горда, и не белоручка; она и бедность видела, и судит обо всем вернее, чем та, воспитанная в неге и роскоши. Он понимал, что Юленька могла составить истинное его счастье, если бы он женился на ней: она совершенно ему по характеру и по сердцу. Он чувствовал, что в такое короткое время успел уже привязаться к ней всею душою. Ему очень хотелось отказаться от Малининой и сосвататься за Юленьку. Но тут являлось ему большое препятствие. Где и как он тогда найдет себе праздное священническое место, когда праздные места весьма редки? – вот задача, разрешить которую он никак не мог, сколько ни ломал свою голову над нею! «Не во дьячки же мне идти или во дьяконы, – думал он, – священническое же место, если и будет где совершенно праздно, как раз достанется жениху дочери Малинина или какого-нибудь другого заслуженного, и богатого батюшки. Разве жениться на ней да махнуть на Кавказ или в Сибирь? Это возможно бы было устроить, но опять беда: у нее прабабушка, а у меня мать и сестры. Нельзя же их одних оставить здесь». Поневоле приходилось ему расстаться с мыслью о сватовстве за эту девушку. А между тем, мысль эта начинала уже неотвязчиво преследовать его и чем дальше, тем все сильнее и сильнее. Целую ночь продумал он об этом, и ничего из того не вышло.
На следующее утро, отправляясь в дальнейший путь, он устроил дело так, что крестьянин согласился за 50 копеек довезти до Тулы и Юленьку с ее прабабушкою. Дорогою он постоянно разговаривал со своею спутницею и еще более убедился в том, что она отличная девушка и совершенная ему пара. Однажды, когда они вместе сходили под одну крутую гору, он хотел было сказать ей: «Если я где-нибудь найду праздное священническое место, могу ли я надеяться на то, что вы согласитесь быть моею спутницею в жизни?» – да потом раздумал, опасаясь, что в случае неотыскания такого места он лишь понапрасну смутит покой ее души. «Верно, – решил он, – не судьба мне жениться на ней. Дай только Бог, чтобы она была счастлива в жизни».
III
Тула. Тихонравов сряду два дня ходил в консисторию наведываться, нет ли где хоть какого-нибудь праздного местечка, но ничего там не узнал: чиновники консистории оказываются настолько занятыми своим делом и несговорчивыми, что даже и ответа ему не дают на вопрос, есть ли где в епархии праздные места? А лишь измеряют его своим взглядом, посматривая, нет ли у него в руках «приложеньица», да отвечают: «Мне некогда с тобою толковать... Не мешай заниматься делом». Отыскивать друга и приятеля отца благочинного Малинина ему пока не хотелось, потому что это значило бы прямо начинать дело о женитьбе на дочери Малинина, а ему бы хотелось прежде попробовать счастья найти совершенно праздное место и жениться на Юленьке. Так целых два дня у него прошли ни с чем. На третий день он решился дать рубль одному из писцов «за услугу» и узнал от него, что праздное место есть одно в селе Архангельском ...ского уезда, но это место прочится кое-кем для жениха дочери благочинного Малинина и никакая сила не вырвет этого места из рук того, кому оно прочится. И то было хорошо: по крайней мере, он теперь узнал, что праздное место есть всего только одно в епархии и кандидат на него уже имеется в виду, а этим кандидатом именно должен был явиться он, предъявив Юсу письмо Малинина. Делать было нечего, оставалось спросить Юса и передать ему письмо Малинина. Он так и сделал.
– Отлично, – сказал Юс, взяв письмо. – Так это ты и есть Тихонравов? Чего же ты тут целых два дня болтался без дела? Я тебя ждал и уже все подготовил, что нужно, потому что Малинин уже писал мне о тебе и просил похлопотать об определении тебя на хорошенькое местечко. Только вот, брат, в чем дело: «сухая ложка рот дерет». Хоть я и приятель Малинину, а без того, чтобы ты не поплатился нам, обойтись нельзя. Я должен буду за тебя тут хлопотать, просить секретаря, столоначальника, присутствующих, ну, одним словом, выдам тебя за своего родственника и буду хлопотать о тебе. Хоть я и свой здесь человек, а дать кое-кому должен, чтобы тебе не подставили ноги. Понимаешь?
– Отец благочинный сказал и даже написал вам вот в этом же письме, что он за все вам ответит сам.
– Он сам по себе, а ты сам по себе. Понимаешь? С ним мне толковать об этом совестно, а с тобою и можно, и следует. Мы ведь тем и живем, что от вашего брата получим, потому что жалованьишко наше так ничтожно, что и на квартиру его не достает, а ведь нам нужно что-нибудь и пить, и есть, и прилично одеваться.
– Конечно... Я против этого ни слова. Только у меня решительно ничего нет у самого. Я еще не решил дела совсем и ничего поэтому от отца благочинного не получал.
– Ничего! С этим делом мы справимся. Мы на тебе подождем, пока ты получишь денежки с тестя, а потом и возьмем с тебя да еще «с походцем» за обождание. Понимаешь? Ты деньги мне отдашь после, а теперь мы только с тобою столкуемся насчет того, сколько ты мне дашь за все хлопоты о тебе и на расходы за тебя. Счет, говорят, дружбы не теряет. Ну, пятьдесят ты даешь мне? То есть, ты того не подумай, что я хочу эту сумму прямо взять с тебя. Нет, ты мне ее только пообещай, а заплатит ее Малинин. Уж за это я берусь. Это я легко устрою.
– Зачем же так делать? Если я должен вам дать за хлопоты, то я дам вам из своих, помимо тестя.
– Тем лучше. Сейчас мы с тобою и покончим это дельце. Вот тебе бумага и перо, садись и напиши, что отдашь мне обещаемое.

Тихонравов сел и написал, что по определении в село Архангельское обещает уплатить Юсу за хлопоты 50 рублей.
– Это, дружище, не так, – сказал ему Юс, – это значит, я с тебя взятку беру. Ты сядь и напиши, что занял у меня сегодня пятьдесят рублей на разные расходы и по поступлении в село Архангельское немедленно обязуешься мне уплатить их. Это будет лучше.
Тихонравов сел и снова написал требуемую от него расписку.
– Вот теперь и ладно, – сказал Юс, свертывая расписку и пряча в карман, – теперь наше не пропадет. Так или иначе, а свое возьмем. Садись и пиши прошение. Напиши его в таком смысле: известился-де я, что в селе Архангельском ...ского уезда умер священник N. N., у которого в семействе осталась одна только жена, вдова Р. Р., а потому-де место это теперь праздно. Покорнейше прошу определить меня на это место со взятием за себя дочери благочинного Малинина, девицы М. М., которая-де доводится покойному N. N. недальняя родственница. На обеспечение же вдовы Р. Р. я обязуюсь ежегодно выдавать восьмую часть из всех своих доходов денежных и хлебных и из земли.
В этом именно смысле Тихонравов и написал свое прошение, мысленно в то же самое время моля Бога о том, чтобы преосвященный нашел какое-нибудь препятствие к определению его на это место со взятием дочери Малинина и тем дал ему возможность проситься на это место со взятием за себя Юленьки. «В случае чего, – думал он, – я даже прямо скажу владыке, что дочь Малинина мне не по сердцу и что я более желал бы взять за себя бедную, но умную и нравящуюся мне девушку, и буду просить его позволения жениться на Юленьке». С замиранием сердца свернул он потом свое прошение и пошел в архиерейский дом, чтобы войти к преосвященному со своею просьбою. Между тем, Господь уже услышал его мысленную молитву и все к этому времени устроил так, что желание сердца его должно было исполниться. И вот как все это неожиданно случилось на моих же глазах.
Решившись поступить в Белев, я в то же самое утро 23 апреля, часов около 10, пришел в архиерейский дом, чтобы подать свое прошение. Проводив свою нареченную тещу наверх, я сошел вниз, чтобы там посмотреть, нет ли кого-нибудь из товарищей или из знакомых. Ни тех, ни других, однако, не оказалось там, хотя я слышал уже, что в Тулу приехали некоторые из товарищей. Тем не менее, я остался внизу и прохаживался сбоку лестницы. Вдруг мое внимание обратили на себя две только что вошедшие личности, которые впоследствии оказались именно теми самыми, о которых и Тихонравов больше всего думал, т. е. Юленькою и ее прабабушкою. Обе они только что вошли в архиерейский дом. Старушка плакала и едва тащилась, а девушка поддерживала ее и уговаривала не плакать и ждать себе милости от владыки.
– Сядьте здесь, прабабушка, и отдохните, – сказала Юленька, указывая на скамью.
Старушка села и продолжала плакать. Больно было мне видеть ее слезы, и я решился спросить ее, кто она и о чем плачет.
– Как же мне, милый человек, не плакать? – сказала старушка. – Мне уже более восьмидесяти лет от роду, а я вот сама пришла сюда за сто верст. Только по дороге от Д... проехала с одним добрым человеком. Ни у кого я здесь не найду себе ни помощи, ни защиты. Куда ни обратишься, везде одно только и слышишь: дай денег. Вот пошла сегодня к N. N., стала просить его помощи. Он взял с меня последние два рубля, а ничего путем мне не сказал. «Пришли, говорит, еще три рубля, тогда мы делу твоему дадим надлежащий ход». А где же я возьму эти три рубля, когда мне сегодня и хлеба купить не на что, если мой благодетель студент Тихонравов не даст мне взаймы несколько копеек? Суди их Бог всех за то, что они бедных вдов и сирот обижают. Теперь я решилась взойти ко владыке и просить его отеческой милости, да боюсь, что меня и не пустят к нему.
Около старушки собралось несколько человек и стали расспрашивать ее о том, кто она такая и откуда. Я и некоторые другие оказали ей помощь небольшую.
– Знаете ли, что, – сказал мне довольно прилично одетый молодой господин, – я сейчас хочу сделать одно доброе дело. Бывши недавно в консистории, я видел там, как тот самый студент Тихонравов, о котором упоминала эта старушка, сговаривался с одним из канцеляристов насчет своего поступления в село Архангельское ...ского уезда, со взятием за себя дочери какого-то благочинного Малинина, а между тем я сам же от него слышал, что эта невеста ему вовсе не нравится и он с удовольствием женился бы на одной бедной девушке, сиротке, которую он встретил на пути в Тулу. Без сомнения, вот эта девушка и есть та самая, которая ему нравится. Хотите, я устрою дело так, что он получит место в Архангельском и женится на этой любимой им девушке? Я сделаю это назло самонадеянному канцеляристу, который или уже взял с Малинина значительный куш, или только надеется взять. Я недалеко живу от Архангельского и знаю это село, как свое собственное. Сейчас я взойду ко владыке по своему делу, и между прочим заведу речь о селе Архангельском, и обращу внимание владыки на то, что в этом селе была прекрасная школа, и, чтобы она не покончила совсем свое существование, следует туда определить во священники такого человека, который бы в состоянии был ее поддержать, а такими, дескать, людьми я знаю студента Тихонравова и сиротку Юлию Спасскую, занимающуюся обучением детей в селе Троицком ... ского уезда и очень нравящуюся ему. Думаю, что, если после этого Тихонравов явится ко владыке с прошением, будет определен на это место помимо желаний консисторских служак.
– Отлично сделали бы, – сказал я в ответ своему собеседнику и вызвался отыскать Тихонравова и переговорить с ним.
Началась подача. Молодой господин первым вошел ко владыке и довольно долго беседовал с ним.
– Поздравьте, – сказал он, вышедши от владыки, – владыка сказал мне, что, если Тихонравов достоин такого хорошего места, он с удовольствием произведет его в Архангельское и будет рад наградить бедную сироту, три года почти безмездно трудившуюся на поприще народного образования.
Тихонравов, между тем, сидел уже в канцелярии владыки и благодаря любезности и добродушию письмоводителя переписывал свое прошение об определении его в село Архангельское со взятием за себя сироты – Юлии Спасской. Как только он вошел после того в приемную, я сейчас же передал ему радостное известие, и он, переговорив предварительно с Юленькой и ее прабабушкой, пошел ко владыке попробовать своего счастья. Успех был полный: владыка пересмотрел его аттестат и обещал произвести в село Архангельское, а намерение его жениться на бедной сироте одобрил и благословил.
IV
– Что же это ты, любезный, разделываешь с нами? – сказал Тихонравову нареченный его благодетель Юс при первом же его появлении в консисторию затем, чтобы справиться о своем деле.
– Я ничего не сделал, – ответил ему Тихонравов, – так угодно было владыке.
– Владыке было бы угодно принять от тебя прежнее прошение и определить тебя в Архангельское на изложенных в нем условиях, а ты переписал свое прошение. Ты нас чрез это лишил хорошего вознаграждения, и это тебе так не пройдет: мы свое найдем и возьмем. Мы тебя, любезного дружка, приждем, и ты поплатишься нам. Вот мы прежде всего дело твое здесь протянем целые месяцы, а потом ввернем в дело какую-нибудь закорючку, и тебе откажут.
Говоря это, Юс не шутил. Закорючки-то ни он, ни его товарищи никакой не придумали и в дело не ввернули, а дело-то его, в самом деле, протянули производством целых полтора месяца. Тихонравов, бедняга, истомился, изо дня в день обивая пороги консистории, торча там, точно спица в глазу, у всех служак и чуть не за ради Христа пробиваясь содержанием около семинаристов: у кого ночует, у кого пообедает, кому от нечего делать задачу напишет, а кому еще чем-нибудь поможет, лишь бы только не стыдно было прожить на квартире день-другой. Но все-таки он терпел, ждал и надеялся, и надежда не обманула его: он получил билет жениться на излюбленной им невесте. С восторгом полетел он домой с билетом в кармане и одною палкою в руках. И не думал он, что дома может теперь встретить вместо общей семейной радости горе, слезы и укоризны. А все это уже ждало его там. Обманутая в своих надеждах мать его с нетерпением ожидала его возвращения из Тулы, чтобы сейчас же излить на него всю свою злость.
– Что это ты там наделал? – сказала она, едва только он вошел в свою родную избенку. – Как это ты там обманул и меня, и благочинного, и его друга, и даже самого нашего владыку? Какую такую невесту ты подцепил себе на постоялом дворе. Что это за позор ты мне наделал?
– Вы матушка, ошибаетесь, – кротко ответил Тихонравов. – Я с радостью бежал домой с одним куском черствого семинарского хлеба, думая в вас встретить истинную мать, а вы вместо того встречаете меня, как злая мачеха. Я думал разделить с вами свою радость, а вы встречаете меня укоризнами, совершенно мною незаслуженными. Вам, вероятно, кто-нибудь накляузничал на меня и сбил вас с толку.
– Никто не накляузничал, а ты сам же мне писал, как со своею невестою встретился в Д..., да и отец благочинный сам нарочно приезжал сюда и порассказал мне, как ты всех обманул.
– Это ложь, я никого не обманывал. Я только желал жениться на девушке, сиротке, которая мне понравилась, а больше я ни в чем не повинен ни перед вами, ни перед отцом благочинным. Все устроилось само собою совершенно неожиданно в ту самую пору, как я с прошением в руках был уже в приемной преосвященного. Так было угодно Богу.
– И не говори ты мне. Не говори! Ты все лжешь. Ты сам все устроил, чтобы всем отвести глаза. Ах, я горькая, несчастная! Я из последних жил тянулась, содержала тебя, думая, что ты выйдешь в хорошие люди и успокоишь мою старость, а ты одно только горе принес мне. И зачем только я на свет тебя родила?! Другие матери радуются, определяя сына, а я плачу.
– Вольно же вам не слушать меня и самим для себя измышлять страдания. Чего вам от меня нужно? Обеспечения вашей жизни в старости? Так я вам его доставлю: я себе во всем откажу, а вам аккуратно каждый месяц буду высылать по 10 рублей. Вы должны радоваться тому, что я нашел себе невесту по сердцу своему, поступаю в хорошее село и не буду иметь обязательства содержать родных своей жены, кроме одной ее прабабушки, а вы злитесь на меня и прогневляете Господа Бога, Который распоряжается нашею судьбою. Невесты моей вы еще не видали и не знаете ее. Вот, Бог даст, увидите ее и останетесь ею довольны.
– Поди-ка, сокровище какое ненаглядное нашел! Какую-то голь, оборвашку, бесстыдную девчонку, которая сама ходила в Тулу отыскивать себе жениха и забрала в свои руки тебя, дурака. Я и видеть-то ее не хочу. Ни на свадьбе у тебя не буду, ни в дом тебя с нею не приму.
– Вот это хорошо... Благодарю вас... Вы добрая мать, – сказал сын и от досады залился слезами.
– Матушка! – сказала старшая дочь. – Ведь Паша уже получил билет, дело теперь кончено, без воли Божией оно не могло совершиться. Зачем же вы и себя, и нас понапрасну мучаете и Бога прогневляете. Вы поверили во всем отцу благочинному; но вы забываете, что он теперь не друг наш и в сердцах мог вам наговорить на брата то, чего брату и на ум никогда не всходило.
– И ты туда же? – закричала мать на старшую дочь. – Вот погоди ты, я умру, увидишь виду, натерпишься горя. И ему, любезному дружку, не миновать беды: отец благочинный-то уж говорил, что и года не пройдет, как консистория упечет его под начал, а там доберется до того, что и во дьячки его куда-нибудь сопрет. Вот тогда и порадуйся его житью-бытью.
Тихонравов во всю свою жизнь никогда не видывал своей матери такою злою и, не желая ее еще более раздражать, ушел в свой шалаш отдыхать от трудов далекого путешествия. Сестры украдкой от матери принесли ему туда хлеба и зеленого луку, чтобы он мог подкрепить себя пищею. Но ему теперь и на ум не шла никакая еда. Ему больно было встретить такое несочувствие к его благому делу в той, от кого он более всего ожидал одобрения своему поступку, советов на предстоящий путь жизни и самых искренних благопожеланий. Он не знал, что и подумать о своей матери, в самом ли деле она была такая злая женщина или недобрые люди сбили ее с толку и вооружили против него. Целых три дня потом он скорбел, томился, не спал, не пил, не ел и так изменился в лице, что даже сама мать испугалась за него, опасаясь, как бы он не заболел. Тут материнское сердце взяло свое: гнев ее и злость исчезли, и явилось прежнее расположение к сыну. Она сама же предложила ему поехать вместе с нею к невесте и навестить ее, а вместе с тем и сговориться насчет дня свадьбы. Следует ли даже говорить о том, как этому обрадовался Тихонравов и как вдруг оживился, увидав, что, мать опомнилась и сделалась такою же, какою он знал ее всегда прежде этого печального случая размолвки с ним? Он расцеловал у матери руки и упросил ее взять с собою и обеих сестер, чтобы и они познакомились с его невестою и потом полюбили ее, как свою сестру. Мать на это согласилась. Поехали все вместе, и все уладилось само собою, как нельзя лучше. Юленька так понравилась матери своего жениха и сестрам его, так ухаживала за ними и старалась им услужить, что все они были очарованы ею и с гордостью потом хвалились ею перед всеми своими родными и знакомыми. А с прабабушкою невесты мать Тихонравова так в короткое время сошлась, что вместе и радовались тому, что Бог устроил судьбу молодых людей, вместе и плакали, вспоминая про то, сколько им пришлось на своем веку видеть всякого рода неприятностей и горя. Три дня прожили они в Троицком и не видели, как прошло это время, а потом чрез две недели после того и свадебку сыграли тихо и скромно, без пиров и балов да без родственных визитов и молодых честь честью отправили в Тулу с тем, чтобы оттуда потом прямо им можно было отправиться в Архангельское на место своего нового жительства.
V
Тихонравов принадлежал к тому товарищескому кружку нашего богословского курса, во главе которого стояли такие светлые в семинарии личности, как М. Д. Златоверховников и Д. М. Глаголев. Кроткий, великодушный, всем и каждому услужливый и необыкновенно добрый, он о том только и думал в семинарии в последний год своего учения, чтобы с первых же дней своего будущего пастырского служения посвятить себя религиозно-нравственному воспитанию своих пасомых, самому точному исполнению всех своих пастырских обязанностей, пособию им во всякой нужде и содействию им своими советами в их сельскохозяйственных занятиях. Он был глубоко проникнут любовью к бедному крестьянскому сословию и мечтал облагородить его в своем приходе, возвысить его нравственность и поднять его упавший в крепостное время дух. Мечты эти и намерения не оставили его и по выходе из семинарии. Живя восемь месяцев дома, он весьма часто думал о том, что и как именно сделает он в своем приходе, как будет везде вести себя так, чтобы заслужить общее уважение и приобрести возможность благодетельно влиять на свою паству, и в какие отношения поставит себя к своему ближайшему начальству, причту и прихожанам. Ему отрадно было об этом думать, и он очень часто беседовал об этом со своею матерью и сестрами, которые, хотя и не получили хорошего воспитания, но, видя в жизни своей много горького, по опыту жизни о многом судили очень здраво. А еще ему отрадно было делиться всеми своими задушевными мыслями и чувствами с умною и кроткою Юленькою: в ней он нашел себе не только личность, сочувствовавшую ему во всем, но и готовую помощницу в деле исполнения многих его желаний и намерений. Беседуя с нею, он постоянно выражал свое желание сейчас же по приезде в Архангельское заняться приведением в исполнение всех своих планов и потому не чаял, когда-то он, наконец, получит свою ставленую грамоту и примется за свое дело, развернет все свои силы и способности и начнет жить не для себя только, а для целой тысячи своих пасомых. Наконец, он получил свою грамоту и явился к преосвященному за получением от него благословения на новый путь своей жизни и деятельности. Преосвященный дал ему нужные наставления, благословил и отпустил. Теперь, думалось ему, настала пора показать себя, каков он есть, воплотить свои идеи, привести в исполнение свои заветные мечты и начать трудиться на ниве духовной всеми силами своей души. Поспешно отправился он к месту своего служения в село Архангельское и с часу на час, с минуты на минуту на следующий затем день ожидал, когда-то он доедет до своего нового места жительства и служения и лицом к лицу встретится с жизнью.
С вершины одной возвышенности показалось, наконец, большое село Архангельское, довольно живописно раскинувшееся по обоим берегам небольшой, но глубокой речки Н... Тревожно забилось сердце Тихонравова при виде того самого села, к которому устремлены были все его мысли и желания. Осенив себя несколько раз крестным знамением, он с замиранием сердца подъезжал к селу. «Ах, что-то здесь встретит меня? Как-то я устроюсь здесь?..» – невольно в первый раз мелькнуло у него в голове, когда они подъехали к околице села. Но вот и само село. Оно очень велико. Но куда ехать? Ни сам он, ни жена, ни даже извозчик его ни разу здесь не бывали. Готовых домов для причта тут не было: стало быть, нужно было заботиться о приискании себе квартиры; но у кого нанять квартиру? Вот вопрос, который теперь невольно смутил его и заставил на время забыть все то, о чем он столько думал незадолго пред тем!
– Куда, батюшка, прикажете ехать? – спросил его извозчик.
– Я, любезный, никогда здесь не бывал и никого не знаю здесь. Полагаю, что можно будет остановиться или у вдовой матушки, или у кого-нибудь из причетников.
– Стало быть, нужно ехать к церкви?
– Полагаю, что так. Там мы у сторожа все расспросим и узнаем, у кого можно будет остановиться, хоть на короткое время, до приискания квартиры.
Подъехали к церкви. Тихонравов с женою слезли с повозки, подошли ко входу в церковь и в благоговении положили здесь по нескольку земных поклонов, усердно прося Господа направить их на истинный путь жизни, дать им силу усердно, добросовестно и с любовью всегда выполнять обязанности своего звания и тем благоугождать Ему, сохранить их от всех бед и напастей и послать им Свое благословение на все их благие начинания. Между тем, к церкви успел уже прибежать один из причетников с пакетом в руках. Получив благословение от нового своего настоятеля церкви, он униженно поклонился ему и жене его чуть не до земли и подал ему запечатанный пакет.
– От кого это? – спросил отец Павел, принимая пакет.
– От нашего отца благочинного. Сегодня прислан с нарочным. Приказано ждать вас и передать его вам сейчас же, как только вы приедете.
Отец Павел распечатал пакет. Оказалось, что это было предписание к нему благочинного. Что же он прочитал в этой первой к нему бумаге? Пожалуй, можно и не поверить, чтобы это было так. Но если принять во внимание, что это было пятнадцать лет тому назад, когда совсем не то было время, что теперь, удивительного в том ничего не будет. Вот что было там написано: «Предписывается тебе, молодой иерей, немедленно по приезде своем в Архангельское, под опасением строгой ответственности за неисполнение сего, учинить следующее: 1) ни у вдовой попадьи, ни у дьякона, ни у причетников ни на квартиру, ни даже для ночлега только не останавливаться, 2) явиться ко мне со своею грамотою в самый же день своего приезда для подписания ее и сделания тебе должных внушений и 3) привести с собою 50 рублей, которые ты взял заимообразно у чиновника консистории пред определением своим на место по данной тобою в той расписке от 23 апреля сего года и обязался возвратить сейчас же по приезде в Архангельское. Сверх того, я известился из Тулы от того же чиновника, что ты человек вздорный, лживый и во всех отношениях опасный, за которым нужно иметь особенный надзор, поэтому предупреждаю тебя ни с кем из подведомого мне духовенства братского общения не иметь и семейного знакомства не заводить». Под этою, недостойною звания благочинного бумагою подписана была фамилия местного благочинного; но сама бумага была написана собственною, хорошо известною отцу Павлу рукою Юса. Этим Тихонравову уже давалось знать, что он уже находится под опаскою одного, хотя и второстепенного, чина консисторской канцелярии и что его сопротивление такому незаконному предписанию благочинного будет впоследствии дорого ему стоить и к добру не поведет.
– Далеко ли отсюда до отца благочинного? – грустно спросил отец Павел.
– Верст около тридцати, – ответил причетник.
– В таком случае сегодня же я не могу к нему ехать, потому что теперь скоро вечер. Не можете ли вы мне сказать, где мне можно здесь остановиться на квартиру или хоть только для ночлега?
– Уж, право, не знаю. Нам всем приказано не пускать вас к себе, потому что могут выйти какие-то от того неприятности.
– Да я желаю остановиться на селе. Есть ли тут у кого-нибудь порядочная избеночка, чтобы нанять мне квартиру?
– Есть у Кузнецова и у Акулова хорошие, первые в селе избы, да только там Вам будет неспокойно: Кузнецов – пьяница и буян, а Акулов – вор, держит(у себя притон конокрадов. Вам лучше будет поместиться, у Левонова: у него избеночка-то плоха и мала, зато будет в ней спокойно.
– Хорошо. Благодарю вас. Где же эта изба? Проводите меня туда.
Отправились к Левонову, и там отец Павел нашел себе квартиру в тесной, темной и грязной избенке за 2 рубля в месяц с хозяйскою топкою. Ни самовара с его принадлежностями, ни ложки, ни чашки, ни вилки, ни постели, ни подушки, словом, ничего у молодой четы не было. И извозчику-то заплатить отец Павел в Туле занял 5 рублей у известного в Туле ростовщика Г. Н., к которому семинаристы в былое время носили «под науку» разные свои вещи в заклад и у которого брали под них по нескольку рублей за жидовские 10 процентов в месяц. А на прожитие у него теперь ровно ничего не было. Чтобы не сидеть с голоду, пришлось на первое время кланяться тому же самому причетнику, который и квартиру ему отыскал. И он, действительно, выручил отца Павла из нужды: он и хлеба ему дал, и денег рубля три ссудил. О постели и чае молодая чета не заботилась: для постели была солома, а вместо чая с удовольствием и в этот вечер, и после того долгое время пили так называемую «богородицкую траву», которой много было набрано у хозяина для продажи в аптеку. Вот оно начало жизни-то!
Невесело стало на душе о. Павла, когда он вечером остался наедине со своею Юленькою да теми новыми думами, которые доселе и в голову ему не приходили, а теперь, вследствие упомянутого предписания благочинного, каковое, конечно, заранее было рассчитано на то, чтобы смутить его на самом же первом шагу его жизни, одна за другою неотвязчиво лезли в его голову и приводили его в уныние и раздражение.
– Вот мы и к месту приехали, – невольно вырвалось у о. Павла, – а как невесело на душе! Как неприветливо нас встречает та самая жизнь, о которой мы с тобою так много мечтали! Что же будет дальше? Неужели впоследствии будет еще не отраднее?
– Зачем же, друг мой, так падать духом? – возразила Юлия Ивановна. – Разве мы с тобою прежде-то не были знакомы с горем и всякого рода нуждами и невзгодами? Разве бедность для нас страшна?
– Разумеется, нет. Я скорблю не о том, что бедно устроились здесь: Бог даст, поживем и устроимся, как следует. Но вот что истинно неприятно и весьма прискорбно: с первого же дня нашей жизни здесь уже являются у нас с тобою люди, которым мы никакого зла не сделали, но которые уже заявляют нам о своем существовании в роли наших недоброжелателей и даже наших врагов. Когда более всего мне нужно было сосредоточить свое внимание на том, чтобы направить свою деятельность на путь истинного пастырства, тут-то именно они злонамеренно подставляют мне свою ногу, чтобы я споткнулся на первом же шагу. Как это низко с их стороны! Как жестоко и бессердечно!
– Что делать? Съездишь завтра к благочинному и объяснишь ему все дело, как оно было. Может быть, и уладится все хорошо. Не может же быть того, чтобы кто-нибудь нам теперь же сделал зло, когда мы сами никому и не думали еще делать что-либо неприятное. Просто-напросто Юс хочет нас постращать и подшутить над нами.
Молодой матушке не верилось, чтобы Юс серьезно ни за что, ни про что по той расписке, какую когда-то дал ему отец Павел как нареченный жених Малининой и которую Юс клялся ему уничтожить, когда отец Павел требовал ее от него обратно, вздумал требовать с них 50 рублей. Она полагала и даже вполне надеялась, что это одна только шутка. Но она еще в своей жизни не встречала таких бессердечных личностей, каким был Юс, готовый на все лишь бы взять то, что задумал получить. А отец Павел хорошо уже знал, что эти Юсы шутить не любят, и если уж раз погрозят кому пальцем, берегись, как бы не достали и всею пятерней, и что эти, хотя и немногие, остатки старинной ябеды умели подыскивать случаи, как бы кого притянуть к суду или подвести под следствие. А если уж раз попал под суд или следствие, пиши: все пропало! Они умели всё обделать по-своему. Поэтому-то отец Павел невольно сгрустнул и призадумался. Думы далеко-далеко заносили его теперь. И как некрасиво рисовалось перед ним его будущее под влиянием этих дум! Какою неприглядною казалась ему теперь та самая «обетованная земля», о которой он так еще недавно и в семинарии и дома так много мечтал! Какою незавидною казалась ему теперь его новая доля! Ему казалось теперь, что прежняя его горемычная семинарская жизнь, когда он ходил в худом пальтишке, с обнаженными пальцами на ногах, при 25 градусах мороза, терпел и холод, и голод, была в сотни раз отраднее, чем теперешняя самостоятельная жизнь, когда он на первом же шагу должен был или уступить явному злу и дать ему восторжествовать над добром, или же вступить в непосильную борьбу с виновником этого зла, изнемочь в этой борьбе и пасть благодаря тому, что противная сторона имела обыкновение вести войну с не нравящимися ей личностями не открыто и честно, а подпольными путями, которые в ту пору характеристично назывались «крючкотворством» и состояли в том, что в первом случае канцелярские служаки, как крючки, цеплялись нарочно ко всякой мелочи, а в последнем сами навязывали другим в вину свои собственные проделки: у кого, например, страницы две-три зальют чернилами в метриках, у кого печать сломают, а у кого шнур оборвут и за все это потом подводят под штраф.
VI
Тревожно провел отец Павел первую ночь на месте своего нового жительства. Не чаял он, когда-то она кончится, и чуть только стало светать, он отправился к благочинному, чтобы к вечеру можно было возвратиться назад. По счастью, благочинного он застал еще дома во время самых сборов его в Тулу по каким-то служебным надобностям.
– А, отец молодой иерей! Здравствуй! – сказал благочинный, когда отец Павел вошел к нему после довольно долгого, церемонного доклада ему о приезде. – Что новенького привез нам из Тулы? Когда приехал?
– Вчера вечером.
– А на квартиру где остановился?
– У крестьянина.
– Так.
– А грамоту свою привез с собою?
– Привез.
– А деньги?
– Нет.
– Почему же?
– Потому, во-первых, что у меня гроша нет за душою, а во-вторых, я ни у Юса, ни у кого-либо другого в консистории ни гроша не занимал.
– А расписка?
– Расписка дана была мною на известный случай; и когда дело пошло совершенно иначе, Юс клялся мне, что уничтожил ее.
– Что-то мудрено.
– Расскажи-ка мне, как это было?
Отец Павел рассказал все, как в самом деле было.
– Я этого не знаю ничего. Так ли все действительно было или совершенно иначе, мне до того дела нет. Я должен исполнять волю тех людей, от которых я зависим по должности своей. Мне велено взыскать с тебя 50 рублей, и я их взыщу с тебя. Если ты не представишь их мне добровольно, я вычту из твоих доходов, а Юса во всяком случае удовлетворю, потому что он всегда для меня нужный и вместе опасный человек. Не входить же мне с ним в неприятности из-за тебя. Не исполнить его требования значит для меня приобрести себе всегдашнего врага в его лице, а это равносильно будет тому, чтобы я потерял все то, что я приобрел на службе. Консистория, молодой иерей, совсем не то, что ваше бывшее семинарское правление: она всесильна, что захочет, то и сделает с нами. Я тридцать лет состою на службе: ни судим, ни штрафован никогда не был, но если только консистория, т. е. даже канцелярия, захочет мне подставить свою ногу, завтра же к чему-нибудь придерется да так, что как раз и под суд отдаст. Что же касается до вашего брата, молодых иереев, то не смейте и рта своего раскрыть пред нею: завтра же сгибнете навеки. Итак, и вввиду моих собственных интересов, и для избавления тебя от беды я не только советую тебе, но даже приказываю уплатить эти деньги.
– Это значило бы дать повод беззаконию восторжествовать над неповинностью. Я на это никогда не согласен: и собственная моя честь и долг пастыря требуют от меня того, чтобы я противостоял злу.
– Этого нельзя сделать. Я дам тебе предписание представлять мне в месяц по пять рублей от всех твоих доходов.
– Я полагаю, что вы могли бы это сделать лишь в том случае, если бы вам самим было предписано указом консистории дать мне такое предписание; а как этого не было, да и не может быть, то вы и не в праве давать мне такого рода предписание, и я не считаю себя обязанным принять его.
– Рано пташечка запела. Смотри, как бы кошечка не съела. И я тебе тоже могу наделать много зла. Не доводи меня до того, чтобы я стал тебе отплачивать за подобные дерзости. Дай сюда свою грамоту: я сделаю на ней надпись о том, что она мне явлена.
Отец Павел подал благочинному свою грамоту. Тот повертел ее в руках, как бы придумывая, что с нею делать, потом сделал на ней надпись, но ни числа, ни номера не выставил, и положил ее в письменный стол.
– Указа о твоем определении в Архангельское я еще не имею и потому не могу тебя теперь же ввести в служение в нем; а чтобы ты сам не вздумал служить, я оставляю у себя твою грамоту. По получении указа консистории и приезде из Тулы я сам приеду в Архангельское и тогда введу тебя в служение и сдам тебе церковь.
– Я не знаю, как это бывает везде, но полагаю, что вы не вправе отбирать у меня грамоту и не дозволять мне совершать треб и службы.
– Да, до моего приезда в Архангельское ты не должен совершать их, и грамоту я у себя удерживаю по праву твоего начальника.
– В таком случае пожалуйте мне расписку в отобрании ее у меня.
– Начальники не дают расписок, а лишь приказывают и получают.
– В таком случае извольте же дать мне предписание выдать вам свою грамоту и не служить до вашего приезда в Архангельское.
– Такое предписание я тебе даю.
Благочинный сел и сейчас же написал предписание.
– А деньги все-таки ты не думаешь отдать?
– Ни в коем случае, потому что требование их есть беззаконие и подлость.
– Все молодо да зелено. Помни пословицу: с богатым не судись, а с сильным не борись. Лучше отдай денежки – будет и полезнее для тебя, и безопаснее.
Перекинувшись еще несколькими с несколькими словами, благочинный и отец Павел расстались недовольные друг другом. Проходит после того не день, и не два, а больше недели; благочинный не едет в Архангельское, и отец Павел не служит. Молодой священник, столь много мечтавший о всецелом посвящении себя делу пастырского служения с первых же дней своего приезда в Архангельское, наконец, уже и ждать соскучился, и совершенно истомился. По селу стали уже ходить разные, неблагоприятные для него слухи; прихожане роптали на него за то, что не является к исправлению треб и не служит; соседние священники отказывались за него исправлять требы. Что тут делать? Собрался отец Павел и опять поехал к благочинному.
– А деньги привез? – спросил благочинный, едва только отец Павел показался к нему. – Я был в Туле, и мне приказано непременно взыскать их.
– Относительно денег я объясню все самому владыке; а теперь я приехал просить вас ввести меня в отправление моих обязанностей немедленно. Если же вам не угодно будет этого сделать, пожалуйте мне вид на проезд в Тулу. Я все объясню владыке. В крайнем случае, я сегодня же уеду туда без всякого вида. Я непременно решился на это.
– Если ты поедешь, будешь за то оштрафован.
– Я у Вас прошу вида на проезд, и вы не в праве мне отказать в том.
– Это мы увидим. Отдай прежде деньги по расписке.
– Отец благочинный! Вы, наконец, и бессердечны, и настолько трусливы перед последним чиновником, которого, кажется, боитесь пуще Бога, что забываете суд и милость, не показываете в себе ни справедливости, ни благоразумия; не хотите понять, что Вы служите орудием совершающегося надо мной беззакония, и что, если бы я даже был обязан уплатить эти деньги, не имея у себя куска насущного хлеба, не могу их уплатить.
Отцу Павлу так при этом стало прискорбно, что он даже заплакал.
В эту минуту в комнату вошла матушка, жена благочинного.
– Что тут у вас за спор? – обратилась она к мужу. – Что значат эти слезы молодого священника? Ты, С. И., с ума сошел на старости лет: слушаешь какого-то дьявола и понапрасну гонишь своего же собрата, которому был бы обязан заступить на первых порах место отца. Прошу все сейчас же кончить. Вы, молодой батюшка, благословите меня и извольте сейчас же ехать домой и готовиться к службе. Будьте покойны, что ваш благочинный завтра же явится к вам.
– Благодарю вас, матушка, за ваше искреннее участие ко мне, – сказал отец Павел, благословив матушку и низко кланяясь ей от души.
Отец благочинный хотел было что-то сказать, но матушка постаралась поскорее выпроводить отца Павла, чтобы потом потолковать о нем с мужем и урезонить его. Что и как у них потом произошло, это дело их. Только наутро, в самом деле, часам к семи отец благочинный прибыл в Архангельское и приказал благовестить к утрени. Прихожане еще с вечера услышали о том, что наутро приедет благочинный и введет молодого их священника в отправление своих обязанностей, и так как день тот был неурочный, то никто на работы не отправлялся и по первому же удару в колокола все, от мала до велика потянулись в церковь. Явился и отец благочинный в церковь, но уже под конец обедни, а до того времени просидел в гостях у местного управляющего, с которым давно уже был знаком. В обычное время, после заамвонной молитвы он надел на себя епитрахиль и прочел с амвона ставленую грамоту отца Павла.
– Теперь он вам настоящий священник, – сказал потом отец благочинный к народу. – Почитайте его, да смотрите, чтобы он не пил да не опускал своих служб, а в случае чего, жалуйтесь мне.
Такая выходка благочинного в ту пору, как служба еще не была кончена, весьма неприятно подействовала на отца Павла, да и крестьяне отнеслись к ней с недоумением. «К чему, мол, он это сказал?» – подумали они.
– Теперь скажи им приличное слово, – отнесся потом благочинный к отцу Павлу.
Отец Павел давно уже обдумал, что ему сказать на первый раз. Без всякого смущения взошел он на амвон и вместо слова сказал вступительную речь, в которой, преподав своей пастве мир и благословение от Господа, высказал, с какими отрадными чувствами и мыслями ехал он к своим будущим духовным детям, как он искренне желал тотчас же по приезде в свое село всею душою предаться исполнению своих пастырских обязанностей, но сверх всякого ожидания встретил к тому такие препятствия, которые способны были совершенно охладить его ревность к службе, если бы он всем сердцем не надеялся на помощь Божию. Затем он обещал быть во всех отношениях добрым пастырем и примером для них в исполнении общих христианских обязанностей, а в заключение всего просил их всех любить его, относиться к нему, как к своему отцу, во всех случаях своей жизни и содействовать ему в исполнении его благих намерений относительно благоустройства храма и приходской школы.
– Какой цензор просматривал твою речь? – спросил его благочинный.
– Никакой. И я полагаю, что никто не ограничивал моего права сказать своим прихожанам вступительную речь, совершенно согласную с теми обстоятельствами, при которых она произнесена мною.
– Дай мне ее сюда.
– Я ее не писал и сказал импровизацией.
– Ты еще для этого слишком молод. Вперед представляй мне на просмотр все свои проповеди и речи.
Кончилась служба. Благочинный приказал отцу Павлу принять все церковное имущество и расписаться в книгах в принятии его. Само собою понятно, что ему следовало бы при этом приказе дьякону и старосте сдать новому священнику все имущество по описи и по книгам, а благочинный вместо того велел им только подать описи и книги для одной лишь расписки в них в мнимом принятии всего. Между тем, в числе церковных документов не доставало копий с метрик за целых два десятка лет, потому что эти копии сгорели года три тому назад во время пожара, бывшего в доме прежнего священника, а в ящике церковном не было и двадцати рублей налицо, тогда как по книгам их значилось до двухсот рублей. Отец Павел, не зная надлежащего порядка принятия церковного имущества, слепо подчинился приказанию своего благочинного и расписался в принятии всего, а впоследствии, когда это дело оказалось неладным, пришлось ему много об этом промахе пожалеть и понести на себе незаслуженную кару разных статей закона.
Окончив все формальности вступления своего в должность, отец Павел счел своим долгом пригласить к себе на чай и закуску благочинного и свой причт с церковным старостою. Но отец благочинный настолько был нетактичен и неделикатен, что не только сам отказался от этого приглашения, но и другим воспретил иметь с ним братское общение под тем предлогом, будто молодому священнику неприлично заводить у себя компании, а старикам несвойственно брататься с молодежью, не умеющею ценить старших.
VII
Тяжело было бедному молодому священнику на первых же порах своего служения вместо поддержки, руководства и братского общения встретить неприязнь к себе и неделикатное обращение с ним ближайшего его начальника. И если он теперь в своем благочинном встретил недруга себе, то чего же еще можно было ему ожидать впереди от такого начальника? Как много следовало ему опасаться за отметку своего поведения в клировых ведомостях! Каких придирок ко всему можно было ожидать при ревизии церкви и сдаче церковных книг! Надеяться на перемену к нему отношения благочинного было невозможно. Невольно отец Павел обратил свое внимание на то, как еще в недавнюю пору служения его отца были всесильны и бесконтрольны наши отцы благочинные, властвовавшие над духовенством по десяткам лет бессменно, безапелляционно и иногда уж слишком жестоко, как много во всем полагалось на них начальство и как легко им было сделать всякое зло тому, на кого они имели какое-нибудь неудовольствие.
А тут еще мысль об этой проклятой расписке, об этом проклятом иудином окаянстве сребролюбца Юса и о других, подобных Юсу, крючкодеях – постоянно вертелась в его голове. И скольких, скольких мучительных минут, часов и дней и бессонных ночей стоили ему эти думы о его явных недоброжелателях! Напрасно Юлия Ивановна уговаривала его не думать о них; напрасно она упрашивала его лучше дать благочинному обещание со временем уплатить Юсу по расписке 50 рублей. Он никак не мог забыть своих врагов потому, что они на самых же первых порах его жизни и пастырской службы извратили нормальный порядок его деятельности, убили в нем энергию и спокойствие душевное, поселили в нем опасение за свое хорошее будущее и уронили его достоинство в глазах его причта и прихожан: он от души прощал им все, но позабыть их самих и их действия не мог, ему больно было за себя и за свое служение видеть своих врагов в лице благочинного и чиновника консистории, которые оба, казалось ему, могли его задавить своею над ним властью.
Он никак не мог решиться и на то, чтобы ни за что, ни про что, благодаря только одной скаредности и бесчестности Юса уплатить по расписке 50 рублей ради своего спокойствия: пастырская совесть его возмущалась против такого поступка; он считал это трусостью, недостойною его высокого сана, победою зла над добром, беззакония над неповинностью. Да и помимо такого взгляда на это дело, как ему возможно было дать согласие на то, чтобы ради одного только своего собственного спокойствия уплатить по незаконной расписке 50 рублей, когда жизнь уже начала в это же самое время упорно предъявлять свои требования расходов и на то, и на другое, и на третье по содержанию самих себя и своих родных? Приближалась осень, а за нею и зима уже смотрела ему в глаза; ему необходимо было и платье теплое приготовить, и провизией запастись, и всякую домашнюю утварь приобрести, чтобы не быть полным бездомником и не кланяться соседям из-за всякой безделицы; а там еще нужно было матери с сестрами послать на пропитание, да и прабабушку Юлии Ивановны не забыть своею помощью. На все это нужны были деньги, а у него ничего не было: доходов в июле, августе и даже в сентябре едва приходилось получать рубля по три в месяц; где ни случилась бы какая треба, только и видит он, что мужичок стоит, почесывает свой затылок, вздыхает да кланяется ему в ноги вместо платы за требоисправление, только и слышит от крестьянина, чтобы он с причтом немного обождал на нем за требоисправление: «Родимый ты мой батюшка! Кормилец ты наш желанный! Уж пообожди ты на мне деньжонки-то. Запиши их за мною. Придет Михайлов день, тогда пойдешь с образами, за все расплачусь, а теперь, кормилец, гроша за душою нет; время страдное, работа одолела да и продать-то нечего. Хлеба, родимый, нет, не токмо, что денег. Вот отработаемся, обмолотим хлеб, продадим и с деньгами будем». Нелегко было отцу Павлу видеть эти почесывания затылков, вздохи и поклоны; нелегко было слышать и эти мольбы об обождании вознаграждения за требы; легче бы было ему сейчас же по совершении требы уйти от крестьянина, без ожидания получить вознаграждение за свой труд и без всех этих треб. Но что же делать? Он был не один, а с причтом, да и без хлеба и денег нельзя же было ему сидеть. Волей-неволей нужно было поступать так, как и до него все поступали в Архангельском и как велось во всех прочих селах в подобных случаях: нужно было брать с собою в приход долговую тетрадь и записывать в ней, за каким крестьянином и за что именно остался долг деньгами или хлебом, а впоследствии по этой тетради собирать долги и недоимки.
И вот наш отец Павел, помимо собственной своей воли и помимо своих убеждений, заводит приходскую долговую тетрадь и начинает в ней записывать долги за требоисправления, а крестьяне смотрят на это да думают: «Ну, и этот батька такой же алтынник, как и прежний был. И что, если он будет так же нас стеснять долгами, как Ивановский: умри да отдай? Вот будет беда-то. Иную пору осень-то стоит непогожая, ни обмолотить, ни свезти продать нельзя, а он тебя тут будет долгами допекать. Не отдашь, он тебя потом и прижмет, как случится свадьба али какая нужда». И в головах крестьян уже начинается мало-помалу слагаться то убеждение, будто «новый-то батька не лучше старого»; и они уже задумываются, как бы уменьшить ему разные подаяния хлебом, льном и т. п., чтобы не избаловать его на свою голову щедрыми подаяниями во время его хождений по сборам.
Да и сам отец Павел ужасно был недоволен собою за то, что, уступая обстоятельствам обыденной жизни, взялся за эту долговую тетрадь: он ясно видел, что записывание за крестьянами грошей, пирогов и прочего на первых же порах роняет его достоинство в глазах прихожан и поставляет его в ненормальные, отдаленные, стеснительные отношения к прихожанам. Конечно, всего этого он мог бы как-нибудь избежать хоть на первое-то время, если бы он женился на Малининой и взял за нею тысячи в приданое, но лучше слезы и кусок черствого хлеба да с любимою женою, рассуждал он, чем нега и роскошь да с такою, которая ему вовсе была не по сердцу. Отец Павел терпел, ждал и надеялся, что обстоятельства скоро переменятся, придет осень, пойдут доходы, и тогда само собою все пойдет так, как ему когда-то мечталось. Но он еще не знал хорошо жизни и потому надеялся на такую скорую перемену обстоятельств. Сладить с печальными обстоятельствами жизни и поставить себя в совершенно правильные, нормальные, отеческие отношения к своим прихожанам было весьма нелегко и требовало много для этого времени и сил.
VIII
Пришла осень, а с нею пришла и та пора, когда по заведенному веками обычаю отцу Павлу со всем своим причтом нужно было отправиться в приход по сбору «новины». Не хотелось ему ехать по сбору этого нищенского подаяния причту овсом, гречихой, картофелем и разными другими разностями: он хорошо понимал, насколько этот нищенский сбор унижает достоинство пастыря Церкви и служит поводом к разным сценам, завязывающим ненормальные отношения прихожан к причту. Но эта «новина» была общим достоянием причта, и потому волей-неволей нужно было ехать собирать ее. Поехали каждый на своей подводе, с веретьями и мешками для разных сортов и родов зернового хлеба и других продуктов. По селу сейчас же стало известно, как только показались на одной слободе известные всему селу пегие лошаденки обоих причетников. Никто, однако, не позаботился заранее о том, чтобы приготовить причту посильное от себя подаяние и не задерживать, не унижать пред собою служителей своей церкви. Нет! Тут каждый крестьянин как будто даже хотел нарочно доказать причту, что тот находится в полной зависимости от прихожан в отношении своего обеспечения куском насущного хлеба; каждый не прочь был при этом поломаться пред причтом и выместить ему за то, что при свадьбах он взыскивал с прихожан все долги и недоимки за требоисправления. И сколько тут унижений для причта! Сколько сцен! Представьте себе такую картину сбора новины. Вот по селу идут вместе все члены причта, за ними тянутся их подводы: подходят они к дому крестьянина, подводы останавливаются. Один из причетников подходит к окну и кричит: «Хозяин! Приготовил, что ли, новинки-то нам? Выноси скорее». Хозяин по обычаю не скоро тронется с места и не скоро выйдет из дома, с непременным почесыванием своего затылка.
– Здравствуй, бачка! – говорит он, кланяясь священнику и никакого внимания не обращая на прочих членов причта. – Что, кормилец, жалуешь к нам?
– Разве не видишь, зачем? – возражает дьячок. – Новину собираем.
– Погоди-ка, Михалыч! – останавливает его крестьянин. – Я с тобою вовсе и не говорю. Мне бачка и сам скажет, что ему нужно. Ведь у него, поди, небось язык-то есть. Да и мы, значит, тоже люди. Сами хозяева.
– Все равно, любезный, – отвечает ему отец Павел, – что он тебе сказал, то и я скажу. Ты и сам знаешь, что по обычаю собираем новину.
– Знамо так: сами эвто знаем. Не первый год живем на веку. Да вот и хозяйствуем тоже не первый год. Да чего же дьячок-то лезет вперед? У него, видно, язык-то длиннее всех, али ему больше всех нужно. Ты и сам бы мне сказал, что нужно. А че-го-де тебе дать?
– Чего Господь послал тебе больше, того и дай.
– Знамо дело, этому так и след быть, потому Бог и на нищую братию, и на вас нам посылает. Да вот что: у меня ничего для вас не припасено. Рожь всю помолол, овес не молочен, гречиха плоха уродилась, проса ноне не сеял, коноплю продал. Не знаю, что и дать.
– Зерна нет, давай муки; мы и ее возьмем, – вмешивается отец диакон.
– Ты, отец диакон, погоди, – останавливает его крестьянин. – Эвто дело не твое, чего мы дадим, а наше. Твоя череда была: вот у меня прошлый год по осени была, значит, свадьба в доме, племяша женил. Ты, небось, кругом тогда обобрал меня, все долги припомнил. И что десять-то лет было за мною записано, и то все содрал. Ну, тогда было время, была нужда в вас, я и дал вам новину меру гречихи, а теперь-то, погоди! Меня, значит, не запряжешь теперь в оглобли, да не поедешь. Не много с меня возьмешь. Муки-то мне и самому нужно. Было бы чем год целый прожить с семьей и скотину прокормить весною, да подати все оплатить, да пастушные отдать, да в церковь Божию от своих праведных трудов подать, да и в праздник выпить за свое здоровье и за свои труды. Мука-то мне нужна на продажу зимой и на посылку корма.
– Ну, давай меру овса, – говорит дьячок.
– Погоди-ка ты какой! Меру овса! А картох не хочешь?
– Ну, давай картофелю, все равно.
– Вот этак-то лучше. Мера картох-то стоит пятачок, а мука-то сорок копеек. Вот ты и утрись с этим. Дам вам меру этого добра.
– Как же меру? Давай хоть три. Ну, по крайней мере, две.
– Нет, не балуйся. Они мне годятся свиней кормить. Меру – и конец. Хочешь бери, а не хочешь, свиньи поедят. Все едино.
– Да ведь мне из твоей меры-то достанется одна только восьмушка. Служил-служил я целый год, звонил-звонил, да и выслужил осьмушку картофелю от тебя.
– А чего же тебе? День будешь ими сыт. Да ты сам-то чего же не припас для себя всякой всячины? Чего шляешься по нас, собак слободских дразнишь? Поди-ка, земли-то у тебя больше, чем у меня: чего ты лето-летское-то не займешься ею? Вспахал бы ее получше да унавозил, она бы тебе и дала пропитание на целый год; а ты тогда по нас бы не таскался, и нам не надоедал бы, и собак-то наших не дразнил бы. А то вон, вишь, гам какой они от вас подняли по всей слободе и пойдут теперь вякать на целый день, пока вы на другую слободу не перевалите. Дудки! Больше меры не дам. Не стоите. Вот, к примеру сказать, бачка тут человек новый. Он не пахал, не сеял. Ему, поди, есть нечего сердечному. Ну, ему я посверх того, на новое место, дам полмеры муки, что ни есть лучшей, на пироги. Ему надоть дать, потому он к нам только что пришел.
– Все равно, друг мой! Это дело общее, – заметил отец Павел, которому давно уже наскучила все эта сцена и хотелось поскорее покончить с нею.
– Нет, ты бачка, погоди. Ты ничего в наших делах не смыслишь. Я, значит, даю тебе одному по своему усердствию на новое место, а они, оглашенные, чтоб до эвтого и не касались. А коли они хоть одну возьмут себе из этой муки, будь они от меня прокляты.
– Ах, любезный! Зачем это ты говоришь?
– Чего зачем? Ты разве не хочешь себе взять моей муки? Ты брезгаешь нами?
– Нет, с меня довольно и того, что я получу из общего сбора.
– Эвтого ты мне и не говори. Уж эвто дело мое. Я, значит, хочу тебе сделать милость, потому ты тут новый человек.
– Ну, хорошо же, Пахомыч, – говорит дьячок, – вот жена у тебя родит, я тогда на крестины к тебе за это не пойду.
– Ой ли? Не пойдешь? А благочинный-то на что ж? Ты слыхал, как он наказывал нам на бачку жаловаться ему? А тебя-то мы достанем.
– Ну, хорошо, – говорит опять же дьячок, – мы тебя приждем.
– Держи! Когда-то ты меня приждешь; а я вас уже приждал.
– Да оставьте же, ради Бога, все эти споры, – сказал, наконец, отец Павел, выведенный из терпения. – Если дашь, Пахомыч, так дай; а то мы поедем дальше.
– Отчего же не дать? Мы сами тоже хозяева, авось не хуже людей.
Пахомыч, наконец, повертывается, идет в сарай, берет мерку, лезет в картофельную яму и достает оттуда картофелю; потом идет в избу, берет от амбара ключ, насыпает полмеры муки самой лучшей и приносит ее к отцу Павлу с самодовольным видом.
– Ну, вот тебе, бачка. Кушай во здравие и нас не поминай лихом.
– Благодарю, любезный, благодарю. Будь здоров и счастлив.
– Спасибо, бачка, на добром слове.
Причт отъезжает к следующему двору, а крестьянин стоит да, смотря на них, говорит им вслед: «Что? Много взяли? Небось, с нами тоже не мудруй много, а то нос-то утрем».
В следующем дворе происходит подобная же сцена, со своими, разумеется, особенностями. И так это идет из дома в дом, пока не объедут всей слободы. Каково же было отцу Павлу смотреть на все эти сцены и выносить их! Сердце его от этих сцен раздиралось, и слезы не раз выступали от горечи, с которою он выносил эти сцены; а делать было нечего, нужно было их выносить; и не чаял он, когда-то они кончат начатую слободу или день склонится к вечеру, чтобы можно было ему отдохнуть и душою, и телом после целодневных тревог и утомления.
– Отец диакон! Поезжайте, пожалуйста, одни по сбору, – сказал он на следующее утро, – я вчера до того измучился душевно и утомился, что сегодня не в силах ехать с вами. У меня голова ужасно болит.
– Одним нам меньше будут давать, – возразил диакон.
– Я охотно вам уступлю половину своей части, лишь бы мне не ехать.
Отцу Павлу хотелось отделаться от поездки по сбору, и он в этот день отделался от нее. Зато этот же день и принес ему много горя: дьякон и причетники хорошо поняли причину его утомления и нездоровья, и крайне недовольны были им, и постарались доставить ему новое горе.

Посылая их одних, отец Павел и не знал того, что отец диакон был весьма нехорош на язык, любил посевать в селе смуты между крестьянами и причтом, способен был на всякие сплетни и пересуды, подслуживался к тем, от кого что-нибудь надеялся получить в свою пользу, и пил водку, как воду, и что оба причетника не во многом отставали от диакона. Объезжая одну из самых больших слобод села, эти давнишние служаки, успевшие уже раза два побывать под началом в Жабыни и Новосильском Свято-Духовском монастыре, пред всеми в этот день заявили себя с самой нехорошей стороны. Они придирались к каждому крестьянину, у которого в семье были жених или невеста, выпрашивали у него того или другого хлебного зерна с нахальством, заводили ссоры, поднимали спор и шум и между собою, и с крестьянами, объясняли всем, что вот-де они только одни истинные служители церкви и приходу, а новый их священник слишком горд, считает за низкое для себя ходить по сбору новины, притворяется больным и никого не хочет уважать; распускали про него разные сплетни, подбивали деревенских «вожаков» составить на мирском сходе приговор не давать ему ничего за «христославление» и, в конце концов, у одного крестьянина, желавшего в эту осень жениться, так напились, что еле ноги волочили по селу. Обо всем этом отец Павел узнал еще прежде, чем они успели возвратиться домой.
– Вот горе-то! – сказал он жене. – Одно другого хуже: поехал вчера сам, все сердце мое изныло от тех сцен, свидетелем которых я был при выпрашивании нищенского подаяния нам на хлеб насущный. Отпустил их одних, вышло еще хуже того, наделал чрез то сраму на целое село. И когда только наше духовенство будет поставлено в такие условия жизни, чтобы свободно могло избавиться от этого нищенского скитания по дворам?
– Что делать? Нужно ждать, терпеть и надеяться, а вместе с тем нужно и самому тебе что-нибудь придумать для того, чтобы на будущий год не ездить по сбору новины, а заменить его чем-либо иным.
Не чаял отец Павел, когда-то пройдет день и сослужители его вернутся домой. Как томительно скучно было ему с часу на час, с минуты на минуту ждать их возвращения из прихода! Как больно было ему сознавать, что причиною всех неприятностей этого дня был именно он сам, оставшись дома! Как стыдно было ему и за себя самого, и за весь свой причт, и даже за все свое духовное звание оттого, что его сослужители в этот злосчастный день показали себя такими нахалами, поносителями его чести и поселителями раздоров между прихожанами и всем причтом! А тут еще, к довершению всего пьяные приятели вздумали сейчас же по возвращении своем из прихода делить собранное ими в этот день и перессорились между собою перед самою же его квартирою. Что тут было делать? Позор! Он вышел было сам к ним, чтобы примирить их и усмирить, но они и ему наделали неприятностей, наговорили дерзостей и даже стали грозить жалобою на него благочинному за то, что он, считая для себя низким ходить по сбору новины, чрез это самое лишает их некоторой части их годового дохода.
– Пропадайте вы совсем с этою новиною! – сказал он с досадою. – Возьмите себе все, что вы сегодня набрали.
Отец Павел думал этою жертвою всей своей части сбора успокоить их и усмирить, но они приняли это за признак его трусости, боязни, как бы они, в самом деле, не пожаловались на него благочинному: пуще прежнего подняли свои носы и еще сильнее перессорились. Тогда он, в свою очередь, нарочно пригрозил им подачей на них рапорта благочинному, но и это нисколько не подействовало.
– Сергеевич! – обратился, наконец, отец Павел к своему хозяину. – Пожалуйста, как-нибудь ухитрись их проводить отсюда до домов.
Хозяин долго не стал раздумывать, схватил кнут, выскочил на улицу, повернул подводы к дороге на поповскую слободу и давай хлестать кнутом раз по лошадям, а два по спинам пьяных причетников. Лошади бросились к своим домам, а за ними бросились бежать и их хозяева до самых своих домов, а там жены их сделали свое дело, приняли их в свои руки и отправили на покой. На следующее утро, когда хмель прошел, жены порассказали им, какого сраму наделали они по селу, и задали им за это хорошую гонку. А тут как раз в это именно время и отец Павел прислал за ними, чтобы они немедленно явились к нему для объяснений. Как приятели с вечера ни были храбры и дерзки, а теперь, когда отец Павел показал им рапорт, который он будто бы хочет послать благочинному, если они не дадут ему честного слова вперед так не позорить ни себя самих, ни его, ни все свое духовное звание, – и храбрость вся исчезла: они пали перед ним с повинною головою и просили прощения. Отец Павел, разумеется, этого только и желал и все им простил, но отпустить их одних в приход и на этот день никак не решился. Волей-неволей снова пришлось ему ездить по сбору новины и снова быть свидетелем разных сцен, ясно свидетельствовавших о том, как вообще много все эти сборы унижают духовенство в глазах прихожан, как нехорошо сами прихожане смотрят на это скитанье причта целым кагалом со двора на двор в сопровождении целой стаи собак, с вяканьем и гамом гоняющихся за их подводами от двора ко двору, и как это всем недоброжелателям духовенства и самим прихожанам подает повод сочинять про духовенство разные нелепые побасенки, прибаутки, насмешки и пасквили.
И сбор-то весь оказался ничтожным: на весь причт с 200 дворов прихода собрано было 50 мер ржи, 30 мер гречихи, 60 мер овса, 20 мер муки и 15 мер картофеля. Если все это переложить на существовавшие тогда цены на все это, оказывается, что всего собрано было на весь причт на 55 рублей. А между тем, сколько тревог, сколько унижений, сколько позора из-за этого сбора!
– Нет, – сказал себе отец Павел, окончив сбор, – этому больше не бывать! Во что бы то ни стало, а нужно уничтожить этот унизительный, позорный для нашего звания обычай собирать новину.
IX
Приближался Михайлов день, самый главный праздник села Архангельского. В селе стали заводиться свадьбенки. По обычаю один за другим крестьяне стали приходить к отцу Павлу для справки о летах жениха и невесты и приносить с собою баранины, курятины, поросятины, водки и разных сортов наливки для угощения всего причта. Такие приношения и угощения в ту пору в нашей епархии были самым обычным явлением и потому не могли удивить отца Павла. Но, видев раз ужасные безобразия своего причта от винопития, он не мог равнодушно смотреть на этот нелепый обычай и решился употребить все свои силы к тому, чтобы искоренить этот обычай и стоимость таких приношений при разных случаях переложить на деньги в виде добавления к плате за свадьбу. Как только появился к нему первый же крестьянин «с хлебом-солью», он сейчас же послал его за дьяконом и причетниками, чтобы вместе навести по книгам все справки и расспросить, нет ли какого-нибудь родства. В надежде хорошо выпить и закусить дьякон и причетники немедленно явились к отцу Павлу с веселыми лицами и принесли с собою духовные росписи и метрические книги для справок.
– Как, любезный, зовут твоего сына-жениха? – спросил отец Павел у свадебника.
– Да был, бачка, Листрать, – отвечал свадебник, – кажись, так.
– Был Листрать, а теперь разве Кодрат? – сострил дьячок.
– Был Листрат и теперь Листрат. Мы так его зовем, а там, Бог его знает, какое ему имя дал прежний поп. Наше дело темное.
– Листрат – что это за имя? Такого имени, кажется, нет, – обратился отец Павел к дьякону.
– Листрата нет, а Елистрат есть.
– Хорошо, – сказал отец Павел, – справимся с книгами. Справился он с духовными росписями, там было написано:
Елистрат, 20 лет. Справился с метрическими книгами: там записан был Каллистрат, и ему как раз насчитывалось 18 лет в сентябре.
– Вот вам Елистрат! – сказал отец Павел. – Видите, отец диакон, что по метрикам оказалось? Как же вы так неосновательно ведете духовные росписи?
– Да кто же их знает-то? Разве всех по справке записываешь.
– Это нехорошо. Нужно будет духовные росписи получше проверить. Ну, любезный, – обратился потом отец Павел к свадебнику, – чья у тебя невеста и как ее зовут?
– Да, надоть быть, она дочь Анора Иванова Гришина, зовут ее Питинья.
– Питинья – что это, отец дьякон, значит по-ихнему? Какое это имя?
– Да кто их знает. Они так коверкают имена, что и не поймешь.
Справился отец Павел по духовным росписям: там оказалось, что отца зовут Аарон, мать – Галадея, а невесту – Фетиния, и ей значится 15 лет. Справился потом по метрикам, и оказалось совсем не то: отец был Никанор, мать Голиндуха, а невеста Епистимия, и ей было уже 16 лет.
– Видите, отец диакон, как у вас духовные росписи неверны? – снова сказал отец Павел. – Крайне необходимо исправить их, как следует, по крайней мере, там, где есть сомнительные имена.
– Э! Да ведь прежде все сходило с рук. Стоит ли копаться в пыли?
– Стоит, отец диакон, потому что иначе мы можем попасть в беду.
– Мы уже по 25 лет служим и в беду за это не попадали.
– Что ж, кормилец, можно моего Листратку-то обвенчать с Питиньей? – спросил свадебник. – Года-то, родимый, им вышли?
– Года-то вышли, – ответил отец Павел, – а можно ли их повенчать или нет, этого я еще не знаю. Может быть, между вами есть родство.
– Как, родимый, без того! Родство есть, да только уже, значит, из роду вон.
– Какое же между вами есть родство?
– Да вот, видишь ли, родимый, какое эвто родство: Листратка-то у меня родился от первой моей жены Солохи, а родство, значит, по второй.
– Хорошо. Расскажи мне подробно, в каком родстве твоя жена с невестою.
– Да вот видишь ты какое: моя жена Ганька, а у ней мать была Анна, а у Анны отец был Пистей, а у Пистея брат был Федька, а у Федьки-то сын был Анор, а у Анора-то, значит, дочь Питинья. Она и есть невеста.
– Какая же тут родня? – сказал диакон. – Здесь родни никакой нет.
– Ну, вот, я так и баил своим бабам, – сказал крестьянин. – Вот спасибо тебе, отец дьякон. Значит, мы сейчас и хлеб-соль на стол.
– Позвольте, позвольте! – прервал их отец Павел. – Мне нужно хорошенько рассмотреть это родство: очень может быть, что венчать-то и нельзя.
Отец Павел взял бумагу и карандаш и начал чертить кружки и линии, чтобы лучше разобрать степени родства.
– Здесь семь степеней двуродного родства, – сказал он, окончив свое черчение. – Нужно справиться с церковными правилами.
Достал он «Записки по церковному законоведению» протоиерея Скворцова, преподававшиеся в нашей семинарии, отыскал отдел о родстве; читал-читал его, ничего не вышло, никакого ясного решения на данный случай он не нашел в «Записках». Он знал, что в подобных случаях духовенство руководствуется правилами Кормчей книги.
– Отец дьякон, есть у нас Кормчая? – спросил он.
– Какая Кормчая? Никакой у нас Кормчей нет.
– По чему же вы разбираете родство?
– А вот у меня тут есть тетрадочка, по которой мы разбираем.
Отец Павел взял какую-то старинную, истертую, испачканную тетрадку от дьякона, вертел-вертел ее в руках, читал, перечитывал, думал, разгадывал, ничего не вышло: такая там была путаница, что решительно ничего нельзя было понять; ни черчение кружков и линий, ни разного рода соображения, ни объяснения дьякона нисколько не помогли ему разобрать родство.
– Так, любезный, венчать твою свадьбу я не решусь. Я сейчас же съезжу в село Ильинское, спрошу у батюшки, взгляну у него в Кормчую книгу и тогда тебе скажу, можно ли венчать без разрешения. Приди завтра утром. Если окажется, что родство это не препятствует совершению брака и по оглашению никаких других препятствий заявлено не будет, то свадьба твоя будет повенчана. Иначе придется просить разрешения.
Дьякон и причетники при этом крякнули, как бы давая этим знать крестьянину, что священник затевает что-то недоброе.
– А за свадьбу сколько ты нам дашь? – сказал вдруг дьякон.
– Да как бывало допрежь, отец дьякон, два рубля.
– Теперь этого нельзя. Еще покойный отец Иван назначил три рубля. Да долгов за тобою по книжке записано четыре рубля.
– Долгов, отец дьякон, точно так за мною, значит, есть четыре рубля да еще с двугривенным. Я эвто, кормилец, знаю и уплачу. А уж за свадьбу-то помилосердствуйте, возьмите с меня два рубля. Не справлюсь.
– Три рубля, а то я и венчать не пойду.
– И я тоже, – сказал дьячок, – мы твоей свадьбы ждали 18 лет, мы жениха твоего писали в книгах 18 лет, а невесту 16 лет. И три рубля-то не взять?
– И я тоже не пойду, – сказал в свою очередь пономарь, – из двух рублей мне достанется только 25 копеек. Из чего тут, братец, служить вам? Это не похороны.
Крестьянин пал на колени и стал кланяться им в ноги, умоляя повенчать за 2 рубля. Дьякон и причетники пуще прежнего стали кричать, что не пойдут венчать, если не даст 3 рубля. Отец Павел все пока молчал и выжидал, что будет дальше; а крестьянин все кланялся да кланялся то дьякону, то причетникам; про него даже как будто и забыл, вероятно, полагая, что он тут ничего не значит. Наконец, крестьянин со слезами на глазах бросился к нему в ноги.
– Батюшка! Кормилец ты наш! Да рассуди же ты меня с этими оглашенными, вели им повенчать мою свадьбу за два-то рубля.
– Хорошо, хорошо; успокойся и встань, – сказал отец Павел.
– Что это значит? – вскричал дьякон. – Хочешь за два рубля повенчать?
– Потише, отец диакон! – сказал отец Павел. – Потише... Не забывайте того, что вы говорите со священником, и что я вас называю на вы. Будьте повежливее.
– Для меня все равно, что барин, что мужик, что поп, что дьявол.
– Вы слишком забылись. Говорите дерзости. Прошу вас замолчать или выйти вон.
– А какие же он говорил дерзости? – возразил дьячок.
– Вас, Михалыч, я не спрашивал. Прошу молчать. Не в свое дело не мешайтесь.
– Ну, мы будем молчать. Послушаем, что вы скажете. Действительно все замолчали.
– Свадьбу твою, – сказал отец Павел крестьянину, – мы повенчаем, если не окажется никаких препятствий, а относительно платы нечего много толковать: как у вас было заведено, так пусть пока и остается.
– Вот спасибо тебе, кормилец! – сказал крестьянин и поклонился ему в ноги.
Дьякон и причетники опять при этом крякнули и переглянулись.
– Так с Богом же, любезный! – сказал отец Павел крестьянину.
– Как с Богом? – возразил дьякон. – А хлеб-соль?
– Хлеб-соль я принес, – сказал крестьянин, – уж без эв-того нельзя обойтись.
– Принес, так давай уже сюда, – сказал дьякон.
Крестьянин сейчас же принес хлеб, три пирога, две вареных курицы, фунтов с десять баранины, штоф простой водки, штоф наливки и бутылку красного вина, – и все это хотел было расставлять на столе.
– Послушай-ка, любезный, – сказал ему отец Павел, – не трудись все это расставлять здесь. Вези все домой и кушай себе на здоровье с домашними. Нам этого не нужно.
– Как же так, кормилец? Эвто не нами заведено, не нами кончится.
– Знаю, что это давно заведено, но я хочу этому положить конец. Обычай этот безобразен и унизителен, позорен для нас. Притом же, ведь и дело твое еще не кончено. Очень может быть, что свадьбы твоей венчать нельзя.
– Это не за свадьбу, а за справку в книгах, – сказал дьякон.
– Все равно. Справка была нужна для нас самих.
– Мертвого с погоста не носят.
– Нет, отец дьякон! Случается, что и мертвого с погоста уносят, когда есть сомнение в действительности его смерти, и даже выкапывают из могилы, когда это оказывается нужным. И он должен все это увезти домой, во-первых, потому, что мы еще не собрали всех сведений, необходимых для обыска; во-вторых, потому что моя квартира не харчевня и я никогда не позволю себе того, чтобы кто-нибудь у меня здесь, как в харчевне, пил и упивался; а в-третьих, и потому, что этот обычай нелеп, безобразен, вреден, позорен для нас. Я его уничтожу.
– Как уничтожишь? Что ты за важный человек?! Я поеду к благочинному с жалобою.
– Сделайте одолжение. Я вас не удерживаю, хоть ступайте ко владыке. А я вот что сделаю: напишу об этом обычае докладную записку владыке.
Дьякон поневоле замолчал.
– Сколько, любезный, тебе стоит все то, что ты принес? – спросил отец Павел у крестьянина.
– Да рубля на три, кормилец, всего-то будет.
– Хорошо, вот и в другой раз ты придешь и привезешь на столько же.
– Нет, родимый! Тогда я приеду со сватами и кумовьями, тогда привезу всего в два раза больше, да вот и живности какой-нибудь тоже привезу. Уж так это у нас заведено испокон века нашими дедами, прадедами.
– Хорошо. Значит, всего ты истратишь рублей около десяти. Не лучше ли будет для тебя всего этого не возить к нам и не тратиться на это, а вместо всего этого прибавить рубля три за свадьбу.
– Знамо, кормилец, для меня эвто было бы сходнее, да ведь уж у нас так заведено испокон века. Нельзя же ж эвтого отменять.
– Не только можно, но и должно. Я это отменю непременно. Собери же все и вези домой, а в другой раз ничего и не привози, иначе я тебя не приму.
– Родимый! Не побрезгай, у нас так заведено. Не я первый, не я последний. Мне теперь и домой-то нельзя будет показаться. Бабы поедом съедят меня за эвто, да и всему селу-то я наделаю позору. За что ж такая напасть?
Крестьянин попробовал было пасть на колени и еще раз умолять отца Павла не побрезгать его хлебом-солью; дьякон и дьячки снова было возопили; но все было напрасно: отец Павел поставил на своем. Крестьянин собрал все и вышел. За ним поспешно вышли и дьякон с дьячками с явным выражением своего неудовольствия на священника. В сенях дьякон шепнул свадебнику: «Чего на него смотреть? Заезжай ко мне. Мы там все обделаем». И вот едва прошло после того каких-нибудь полчаса, по селу уже разнеслась весть, что свадебник был у дьякона и что там не только все перепились и перессорились, но и плюху дьякон поднес пономарю. Что тут было делать? Послал отец Павел за старшиною и начал уговаривать его сделать распоряжение, чтобы крестьяне не приносили при свадьбах хлеба-соли, а вместо того прибавили плату за свадьбу. Сколько толковал он со старшиною, никакая сила не берет. «У нас так заведено исстари... Не нами заведено, не нами кончится», – вот и все!
Отец Павел сел и написал благочинному докладную записку относительно нелепости и вреда приношения вина и всякой всячины при свадьбах к позору духовенства и относительно того, что он желал бы эти приносы заменить прибавкой платы за свадьбу; в заключение он просил наставления, как ему поступить, чтобы уничтожить этот обычай. На эту записку последовал ответ: «Ломать старые обычаи молодому священнику опасно и неудобно, лучше идти по пути предков». Отец Павел, однако, не унывал: и в церкви, и в домах он старался доказывать крестьянам нелепость этого обычая и уговаривал всех уничтожить его.
Но мы немного уклонились от нити нашего рассказа. Проводив от себя свадебника, отец Павел поехал тотчас же в село Ильинское и рассказал священнику о том родстве, которого он не разобрал дома, прося его разобрать это родство.
– Какое тут родство? – сказал батюшка-старичок. – Мы всегда таких венчаем.
– Очень верно, но все-таки мне хотелось бы узнать поосновательнее, дозволяют ли церковные правила венчать в седьмой степени двуродного родства.
– Дозволяют не только в седьмой, но и в шестой.
– Пожалуйста, покажите же мне, где эти правила. Старичок достал какую-то тетрадку, толковал, как узнавать
родство, чертил линии, писал на них «роди... роди... поемлет». Ничего отец Павел не понял ни из объяснений, ни из черчения.
– А есть у вас Кормчая? – спросил он, наконец.
– Нет. Куда нам покупать такие книги? Самим нечего есть и церковь не на что содержать; а Кормчая очень дорога, да и не по нас написана.
Потолковали-потолковали между собою два батюшки и порешили, что в седьмой степени вышеозначенного родства повенчать можно, между тем как, на самом деле, в данном случае и в седьмой степени венчать было нельзя. Но по чему это мог узнать отец Павел, который Кормчей книги никогда не видал и в «Записках по каноническому праву» толку не нашел?
– Это, однако, Бог весть, что такое! – сказал про себя отец Павел, возвращаясь из Ильинского. – Учили нас в семинарии алгебре, геометрии и разным разностям, заставляли составлять рогатые силлогизмы, дилеммы, трилеммы, пичкали нас латынью, а вот того, что для нас необходимо нужно в жизни, нам не разъяснили и не указали. Заставляли нас покупать Корнелия Непота, Лактанция, Цицерона, Кронеберга, платить за них рубли, а вот Кормчей книги даже и не показали. Мало того, у нас даже Библии не было своей в семинарии, перебивались казенною, целая квартира одною. А что такое святоотеческие творения или Четьи-Минеи? Где мы их читали или хоть только в глаза видели? Вот она чепуха-то в нашем воспитании! Не мудрено, что мы везде должны молчать и не знаем того, что знают простые раскольничьи начетники. Не умеем даже родства разобрать – что это такое? К чему нас готовили в семинарии? Мудрено ли после этого, что как раз и под суд угодишь за повенчание какой-нибудь свадьбенки вопреки церковным правилам?
На следующее утро свадебник чем свет прибежал к отцу Павлу узнать, можно ли венчать его свадьбу. Ответ, разумеется, последовал утвердительный. И вот дня через два, несмотря на запрещение отца Павла, свадебник жалует к нему со своими сватами и кумовьями и привозит новую хлеб-соль, по заведенному кумовьями обычаю. Отец Павел рассердился и прогнал свадебника, но дьякон опять-таки ухитрился зазвать к себе свадебника в дом и опять там все распили, а на священника написали кляузу, будто он притесняет прихожан и презирает их, и отправили ее к благочинному. Горе! Что прикажете делать с такими сослужителями? Или давай им пить, или же берегись их, как бы они тебя не подвели под суд или следствие.
Отцу Павлу, во всяком случае, хотелось действовать решительнее. Не довольствуясь тем, что и в церкви, и в домах убеждал всех уничтожить этот обычай, он еще сделал распоряжение, чтобы свадебники для справки о летах и для объяснений о родстве являлись к нему в церковь в воскресные и праздничные дни между утренею и обеднею. Он полагал, что этим он предупредит саму возможность приношения хлеба-соли и возлияний. Не тут-то было! Дьякон и причетники даже и в это время ухитрялись либо под колокольнею, либо в караулке принимать и прятать, а после обедни там же и распивать, а однажды даже пред обеднею разрешили на все. Тут уж отец Павел не вытерпел: он настоятельно потребовал от дьякона и причетников расписки в том, что они вперед не будут этого делать, а крестьянам объявил в церкви, что если только хоть один из них вздумает принести к церкви хлеб-соль свою, он до тех пор не будет венчать ни одной свадьбы в селе, пока крестьяне на сходке не составят ему мирского приговора об отмене этого обычая. Это последнее заявление для крестьян было действительнее всяких мирских приговоров, указов консистории или приказов начальства, потому что они всегда простодушно верили тому, что, если священник не захочет какой-нибудь свадьбы повенчать, никакая сила его не заставит венчать ее. Благодаря только этим двум обстоятельствам уже на другой год служения отца Павла приношение вина действительно прекратилось, но возвышение вместо того платы за свадьбу не состоялось. Попробовали было после того дьякон с дьячками делать свои набеги на свадебников в их же домах, но там им привета не делали большого и удачи не бывало: поднесут рюмочку-другую, да и не взыщи больше.
X
Уничтожение приношения хлеба-соли при свадьбах возбудило вообще большое неудовольствие в причте. Лишение обычных при этом возлияний в честь Бахуса побуждало дьякона и причетников хоть чем-нибудь отомстить за это отцу Павлу. И вот они начали везде поносить его и злословить, распускать про него сплетни и делать ябеды благочинному, представляя ему небылицы в лицах. Благочинный и без того уже слишком неблагосклонно относился к отцу Павлу и придирался ко всякой мелочи при сдаче книг и отчетов и при посещении церкви, а теперь, когда дьякон и дьячки чуть не каждую неделю стали ему делать кляузные доносы на своего священника, еще неблагосклоннее стал он относиться к отцу Павлу, начал строчить на него доносы, делать выговоры, замечания и внушения и составил о нем самое дурное мнение как о человеке вредном в благочинии, опасном и достойном того, чтобы его хорошенько проучили «под началом» в Жабыни или Свято-Духове.
И без того уже отца Павла в течение одного года службы два раза оштрафовали: один раз за то, что он сдал книги с будто бы изломанною печатью на метриках, когда сдал ее в целости и сам не мог понять того, когда, где и как она оказалось сломанною; а в другой раз за то, что он в духовных росписях поправил несколько номеров и не сделал в том оговорки в конце книг, а теперь ему нужно было со дня на день ожидать, что кто-нибудь – либо причт, либо благочинный, либо консисторские служаки – непременно подведет его под суд или следствие. Он вообще вел себя во всем чрезвычайно исправно, но ведь на всякий час не спасешься. Он старался выполнять все правила церковные и предписания начальства до точности; но разве мало существует таких статей, о которых наше духовенство даже до сего времени не имеет ни малейшего понятия и которые поэтому всегда очень легко может нарушать? А за это как раз и под суд угодишь на основании разных статей Устава консисторий, которого духовенство и в глаза никогда не видало, потому что его нет ни в церквах, ни в «Тульских епархиальных ведомостях» доселе почему-то не напечатали к сведению и руководству духовенства48.
Притом же, легко укрыться от суда или следствия за нарушение какой-либо статьи Устава ведомо или неведомо тогда, когда никто под тебя не подкапывается. Но если есть люди, желающие тебя «проучить», не спасешься от беды. Отца же Павла желал «проучить» сам отец благочинный, подстрекаемый к тому Юсом, не получившим доселе желанных 50 рублей по расписке. В силу этого отец благочинный с удовольствием принимал к сведению и сообщению куда следует всякого рода доносы и жалобы на отца Павла и поручил сослужителю последнего вести подробную ежедневную запись того, где был отец Павел, что делал и что говорил про него, благочинного, или про начальство вообще.
Мало того, тот же отец благочинный стал даже вооружать против отца Павла трех ближайших его соседей – священников сел Ивановского, Ильинского и Преображенского – и побуждать их к тому, чтобы они прекратили всякое с ним братское общение. А поводов к недовольству этих трех священников на о. Павла было вообще немало в его реформаторских стремлениях одни обычаи изменить, а другие совсем отменить как позорящие священнический сан, в чем с ним не были согласны три соседние священника, жившие по старине и действовавшие по заведенным исстари приходским обычаям. Так, например, эти батюшки принимали свадебников с хлебом-солью не только до свадьбы по два и по три раза, но и сейчас же после венчания и позволяли одевать молодую в поневу и убирать ее голову в кичку в самом же притворе церкви, пока причт и сваты выпивали за здоровье молодых в караулке. Все они позволяли себе на Святой неделе такую глупость, чтобы бабы после общего молебна в каждой деревне катали их и диаконов по полю в облачении для лучшего будто бы урожая льна и замашек, и потом осенью собирали для своих жен подаяния льном и замашками, а зимою созывали к себе всех сельских девушек-невест «на попрядухи» и дозволяли им свободно петь во время этих попрядухов всякого рода песни. Все они, ходя на Святой неделе по приходу, ночевывали с иконами в деревнях, а о службе церковной вовсе и не думали до самого вторника Фоминой, когда они оканчивали свое хождение по приходу. Все они несколько раз ходили по приходу с молитвою для сбора разного рода подаяний мукою, яйцами и т. п. Все они, наконец, позволяли своим женам ходить по крестинам, поминкам, свадьбам и богомольям. Все это делалось прежде и в селе Архангельском при прежних священниках, и никому это не казалось ни странным, ни унизительным для духовного звания. Отец же Павел не только не соблюдал всех этих обычаев в своем приходе, но и старался внушать всем, что обычаи эти отжили свой век, редко где соблюдаются и должны быть уничтожены. От его прихожан толки о непригодности этих обычаев заносились и в соседние села, порождали там много разговоров в среде поселян и приводили многих к сознанию необходимости некоторые из этих обычаев отменить, что вовсе не нравилось почтенным старичкам-священникам и заставляло их смотреть на отца Павла как на какого-то безумного новатора, выскочку, возмутителя их покоя и опасного человека.
Нужно, однако же, сказать, что отец Павел приступал в своем приходе к изменению одних обычаев и уничтожению других не вследствие каких-либо новомодных теорий, навязанных ему извне, а вследствие практического изучения всех сторон жизни сельского священника и глубокого убеждения во вреде, приносимом многими старинными обычаями самому делу пастырского служения. Поэтому он испытал все, что делалось другими, соседними с ним священниками. В первый год своего служения он, можно сказать, строго держался исполнения заведенных порядков, если они с первого же раза не казались ему безобразными, вроде, например, одеванья новобрачной и убирания ее головы в самом же притворе церкви или в трапезной. Пришло, например, время ехать по сбору подаяний льном, замашками и пенькой, – он поехал. Бабы ввиду того, что он новый в причте человек, на этот раз действительно с охотою подавали ему по нескольку горстей льна, замашек и пенька, и он набрал пуда с два льну и пуда по три замашек и пеньки. Зато он везде слышал от баб одно и то же: «Не взыщи, кормилец: ленок-то ноне у нас плох уродился. Видно, попа-то Ивановского мы плохо по полю катали, али поп-то у нас был чужой. Уж тебя-то, родимый, мы об Святой получше покатаем, чтоб ленок-то подлиннее уродился». И само собиранье этого «прядева» было похоже на «побирашничество», соединенное с унижением его священнического достоинства.
Пришло время собирать девушек-невест «на попрядух», он пошел по тем домам, где были девушки в возрасте свыше пятнадцати лет, звать их прясть лен и замашки, собранные им незадолго пред этим. Девушки с удовольствием пошли к нему и явились со своими донцами, гребнями и прялками.

Зато как это собиранье «на попрядух» показалось ему унизительным для его сана и неприличным! А как собравшиеся в его квартиру и в избу его хозяина невесты затянули свои веселья-песни да завели, ложась спать, нескромные разговоры о своем знакомстве с молодыми парнями, заткнули свои уши отец Павел и Юлия Ивановна и не чаяли, когда пройдет ночь, чтобы наутро скорее покончить с этим безобразием и распустить всех по домам.
– Боже мой! – невольно вырвалось тут у отца Павла. – Какое безобразие я позволил у себя в квартире с этим нелепым обычаем собиранья «на попрядух»!
– Гони! Гони их! Ради Бога гони! – сказала Юлия Ивановна. – Я сама, что мне нужно, отпряду, а остальное, когда будет возможно, найму отпрясть или же продам весною. Дома я такого безобразия никогда не видывала. Покойница мамаша отдавала прясть по домам и за это весною раздавала бабам пирожные сухари.
– Прогоню утром, и больше никогда мы с тобою не увидим этого безобразия. «Попрядухов» я больше не буду собирать и по сбору «прядева» на лето не пойду, чтобы легче искоренить нелепый обычай катать священника или диакона в облачении на Святой после так называемого общего молебна.
Настало утро, и Юлия Ивановна после завтрака всех распустила по домам, сказав, что у ней льна больше нет, а замашек она прясть не хочет.
– Экое горе! – сказали девушки. – А мы думали, что неделю али две у тебя, кормилица-матушка, поживем. У старого-то попа мы и по три живали. Вот бывало у нас там веселье-то! И сам-то покойник придет на нас поглядеть да винца нам по рюмочке поднесет.
Пришло время идти с молитвою пред Рождеством. Отец Павел пошел, но сейчас же увидел, что это хождение с молитвою есть только один предлог к сборам всякой всячины для праздника, потому что та самая молитва, которую при этом читают, назначена Церковью для чтения тем духовным детям, которые в Рождественский пост говеют и приступают к исповеди и святому Причащению. А сам сбор разного рода подаяний при этом молитвословии? – Как он показался отцу Павлу унизительным для его священнического достоинства! Вот входит он в дом и читает молитву. Все стоят, кто молится, кто нет. «С преддверием праздника поздравляю вас», – говорит он по прочтении. «Бабы! – говорит хозяин или хозяйка. – Подите там, дайте ему что-нибудь за работу». Какая-нибудь молодая бабенка бежит в клеть и выносит ему насыпку овса или муки, а сама тут же бормочет себе под нос: «Вот, пойдут теперь шляться по нас, только готовь им всего. То в Рождество пойдут поодиночке ходить, то в Крещенье целою гурьбою». Подвернется тут же какой-нибудь нищий-калека, в своей обычной будочке разъезжающий по селам и распевающий своего неизменного «Лазаря», та же бабенка вынесет и ему ту же самую насыпку муки, что и отцу Павлу дала; да только в том дело, что этому она дала с явным неудовольствием, а нищему с любовью и усердием, как просящему «ради Христа». Обошел он весь свой приход и набрал всего только мер 15 муки и разного зерна, да штук 20 свиных печенок, легкого и ножек для студня. А сколько унижения! Сколько недоброжелательства видел он при этом сборе! Сколько зависти со стороны дьякона и причетников, не участвующих в разделе этого сбора!
– Не стоит, друг мой, и срамиться, принимая такие подаяния, – сказала ему Юлия Ивановна. – Мы пока одни: и без этого проживем.
– В первый и последний раз, Юленька, принимаю эти подаяния. Меня ровняют с нищим. Пусть же это и пойдет на долю нищих. На будущий год я все это предоставлю в пользу бедных вдов и отставных солдат. Пусть все прямо к ним и относят, что дали бы мне.
– Вот это и хорошо. Они за нас будут Бога молить.
Приближалось Благовещение, а за ним шла и Пасха. По заведенному обычаю за две недели до Благовещения нужно было идти собирать муку на «просфоры», которые нарочно пеклись из ржаной муки и в этот праздник раздавались народу очень оригинальным способом: привозилось два или три воза таких просфор; в мешках их взносили на колокольню, а потом, по окончании обедни, оттуда их бросали прямо в народ, и каждый, таким образом, брал себе по одной просфоре.
На пятой неделе поста отец Павел пошел по сбору муки «на просфоры» и набрал ее около 120 мер, потому что все на это давали с большою охотою. Но вопрос о том, как напечь и вынуть на проскомидии более 1000 просфор и как возможно их бросать с колокольни прямо в народ, привел его в большое смущение. Думал-думал он об этом и, наконец, придумал: ржаных просфор совсем не печь, а вместо них испечь настоящие просфоры пшеничные, вынуть по одной просфоре за хозяев каждого дома с их домочадцами и потом раздать их по порядку домов, так чтобы каждому досталась именно та просфора, которая за него вынута на проскомидии; всем же вообще раздать антидор. Так потом и сделал он, и крестьяне этим остались очень довольны и, так как они об этом заранее еще услышали, запаслись лишними деньгами и набросали за просфоры при раздаче их рублей до пяти, которые и пошли в общую пользу причта.
Нужно было на шестой неделе пред Пасхою идти с молитвою; отец Павел пошел и набрал более 1000 яиц сырых. Зато он весь измок и измучился; зато слышал не раз, как бабы говорили про него: «Вот и эвтот поп-то такой же, видно, будет, как и старый. Вишь, ходит, яйцо сбирает к Святой, а там еще пойдет сбирать их к Петрову дню». Не рад он был и этой тысяче яиц, собранных им, когда он обратил свое внимание на ропот баб и, простудившись, чуть было не слег в постель в самое нужное время, и дал себе слово вперед перед Пасхою с молитвою не ходить, объявив крестьянам, что он будет молитвы читать в церкви на самый день праздника при освящении пасхальных хлебов, сыра и яиц.
Пришла Пасха. Стал отец Павел освящать так называемые пасхи; дьячки явились с ножами и начали у всех отрезать куличи и пасхи.
– Что вы такое делаете? – спросил их удивленный отец Павел.
– Как что? – возражает дьякон. – Это везде так водится.
– Не только не везде, но я даже и не слыхивал об этом.
– А у нас так это водится.
– Я этого не хочу видеть. Прошу вас больше не резать.
– Ты нас лишаешь куска хлеба.
– Я за это вам отдам с каждого двора по пирогу, который дается в каждом дворе на мою долю при всех богомольях.
– Это дело твое. Нам все равно.
– Мы, бачка, сами дадим вам лишний пирог со двора, чтобы только, значит, того, у нас пасхи не резали и мы принесли ее домой целую, как надо быть, – сказал один крестьянин, особенно оставшийся доволен тем, что отец Павел в Благовещение дал всем по настоящей просфоре. – Ты нам дал по просвирке; ну, значит, и мы не свиньи, тоже чувствуем эвто. А вот, если теперь не будут у нас резать пасхи, мы, значит, эвто возчувствуем и отплатим пирогом.
– Так, что ли, православные? – спросил всех другой крестьянин.
– Да надоть быть, что так, – ответили все, – дадим. Отправились в Светлый понедельник с иконами в деревню
верст за пять. В деревне этой было дворов сорок. В прежние годы всегда бывало так: в понедельник обхаживали дворов тридцать, оставались там ночевать, наутро доканчивали остальные десять дворов, служили общий молебен и потом уже к вечеру перебирались в другую деревню верст за семь от первой. Само собою понятно, что служба церковная на это время уже оставлялась. Отец Павел хотел поступить совершенно иначе. Зная жадность своего причта до выпивки, он без остановки прошел двадцать дворов, потом дал всем отдых и время для обеда, и сам закусил, и с полчаса отдохнул. Начиная вновь хождение, он дал приказ сельскому старосте оповестить всех жителей деревни, чтобы к последнему дому на выгон все собирались для общего молебна, и заявил ему, что он с иконами отправится домой к вечерне, а потому для него и причта должны быть приготовлены мирские подводы. Разумеется, эта небывальщина удивила всю деревню; но больше всех этому удивился причт.
– Что это значит: идти домой к вечерне? – сказал дьякон.
– Как же иначе? – возразил отец Павел. – Завтра должна быть служба. Нельзя же здесь ночевать, когда мне нужно служить.
– Какая завтра служба? Это еще что за новость! Ты хочешь церковь нашу разорить? Служба-то чего-нибудь стоит, а к ней никто не придет.
– Придет ли кто, это мы увидим. Но если бы и никто не пришел, неужели это слагает с нас обязанность служить завтра ради праздника?
– У нас этого никогда не бывало. Я домой не поеду.
– И мы тоже не поедем, – сказали причетники.
– Когда священник едет домой, – сказал строго отец Павел, – все обязаны за ним ехать. Оставаться здесь я вам не позволю.
Никто на это ничего не ответил. Прошли остальные двадцать дворов: никто ни слова не сказал отцу Павлу. В конце деревни на выгоне был по обычаю отслужен общий молебен. Отец Павел по просьбе жителей приказал обнести иконы вокруг всей деревни, а вместе с тем и пригласил всех жителей деревни проводить святые иконы до церкви, отстоять там вечерню, а наутро приходить к обедне. Тут дьякон снова стал было возражать, но отец Павел строго приказал ему ехать домой. Между тем, бабы приступали к отцу Павлу, видимо желая от него чего-то добиться.
– Что вам нужно? – спросил их отец Павел.
– Да вот, родимый, тебя нужно по полю покатать в ризах, чтобы ленок у нас ноне хорош уродился, долог и тонок в нитке, – ответили бабы.
– Что!? Вы, бабы, с ума сошли. Что это за безобразное суеверие среди вас водится? Разве священник шар какой, чтобы его можно было по полю катать?
– У нас так заведено. А за что же тебе по осени давали льну и замашек на пряжу? Ведь за то, чтобы теперь тебя по полю в ризах покатать.
– Идите от меня. Я этого никогда не позволю делать.
– Это так всегда было, – заметил дьякон.
– А вот мы его, дьякона-то и покатаем, коли бачка капризит, – сказали бабы и стали было приступать к дьякону.
Дьякон из желания досадить отцу Павлу не прочь был от того, чтобы бабы его покатали, и стал было с ними уговариваться.
– Отец дьякон! – сказал строго отец Павел. – Приказываю вам садиться ехать домой. Никаких безобразий я не потерплю. Если вы вздумаете сделать из себя шута, я не благословлю вам надевать стихарь. А на вас, бабы, я наложу епитимию за ваше суеверие, если вы сейчас же не разойдетесь.
Эта последняя угроза весьма подействовала на баб. Они сейчас же отступили назад и только лишь вполголоса заговорили между собой: «Вот придет осень, пойди по нас собирать «прядево», мы тебе ничего тогда не дадим».
Приехали домой часов около 6 вечера. Отец Павел сейчас же приказал благовестить к вечерне. Благовест этот, разумеется, всех в селе удивил; но так как народ весь был свободен, то и потянулись все к церкви, от мала и до велика, со всех концов села, точно в первый день Пасхи.
– Староста, – сказал отец Павел, входя в церковь, – пожалуйста, собери отдельно то, что сейчас выручишь за свечи и соберешь в кошелек. Если сбора будет меньше, чем на сколько погорит налепков, я недостающее доплачу.
Староста в точности исполнил приказание священника. Кончилась вечерня. Отец Павел при дьяконе и дьячках приказал сосчитать выручку за проданные свечи и сбор в кошелек. Оказалось, что свечей было продано на три рубля, а в кошелек подано около двух рублей.
– Ну, вот, – сказал отец Павел дьякону, – видите теперь, что я делаю, разоряю свою церковь или созидаю? Прошу вперед не ослушаться меня да не бегать от службы как бы от какой-либо беды. Мы затем и поставлены, чтобы служить, а не бражничать в приходе. Отныне знайте, что служба у нас будет во всю Святую неделю ежедневно. Куда бы мы ни отправились с иконами, а домой к вечерне непременно будем возвращаться всякий день.
На следующий день и на утрени, и на обедне народа было так же много, как и в первый день; в церкви всего собрано было около 12 рублей. Отец Павел снова указал на это своему причту и еще раз просил его не противоречить своему священнику. Вместе с тем, чтобы предупредить саму возможность повторения просьбы баб после общего молебна покатать его по полю, отец Павел в этот день сказал поучение против этого нелепого обычая, и оно так подействовало на народ, что бабы, выходя из церкви, говорили: «Бона, сваха, какое дело-то! Бачка в слове Божием вычитал, что катать попа по полю грех, и за это он будет на нас питинье на исповеди накладывать. Вот ты и поди!» После этого ни одна баба не посмела явиться к отцу Павлу со своею нелепою просьбою.
Случилось к тому же, что в тот год, как нарочно, в его приходе такой был урожай на лен и коноплю, какого и старожилы не помнили. Отец Павел воспользовался этим случаем и осенью еще раз сказал поучение о том же предмете, доказывая при этом, что за их суеверие и неуважение к священному сану Господь отнимает силу растительности, а не подает ее. И этот нелепый обычай уничтожился сам собою, а чтобы и память о нем совсем исчезла, отец Павел не стал осенью ходить по сбору «прядева». Но бабы сами давали ему обычное подаяние «оброшное», т. е. обреченное на поповскую долю, во время хождения его по приходу в праздник Рождества Христова; да только дело в том, что они стали теперь давать и льну, и замашек не ему самому, как бывало прежде, а матушке, «На-ка, батюшка родимый, – говорили они, – отвези эвто своей матушке-красавице в гостинчик от нас. Она сама голубушка нас привечает всегда: и сахарку больным дает, и мятки пришлет, и горчички. Дай Бог ей здравия на долгие веки».
Думал было отец Павел точно так же покончить и с обычными хождениями с молитвою для сбора подаяний, но это оказалось неудобным; поэтому он сделал так: с молитвою он ходил, а подаяний не принимал, прося крестьян то, что они хотели ему дать, отослать тем бедным вдовам и отставным солдатам, которых он сам им при этом указывал. Пожалуй, можно было сомневаться в том, что эти подаяния пойдут по назначению, но нет! Этого никогда не бывало: к бедным относилось всеми, и притом больше, чем сколько прежде давалось самому отцу Павлу. И имя отца Павла за это стало благословляться всеми приходскими бедными, и уважения ему все за это стали оказывать больше, и подаяния ему самому в праздник Рождества Христова сделались гораздо значительнее. «Кормилицу нашему нужно дать побольше, – говорили крестьяне, – он сам до всех милостив. Он бедных наших вдов и отставных солдатиков привечает, всю свою долюшку за молитву по нас им, сердечным, отдает. Дай Бог ему с матушкою доброго здоровья!»
Прихожане трех соседних сел видели все это и желали, чтобы и у них все так же делалось, как в Архангельском. Но увы! Не везде были отцы Тихонравовы: в тех трех селах батюшки смотрели на все нововведения отца Павла как на пустые затеи и всячески порицали их. Мало того, благодаря содействию в том отца благочинного они даже прекратили всякое братское общение с отцом Павлом. И вот, один за другам перестали они и сами обращаться к нему с разными просьбами об исправлении треб в ближайших к Архангельскому деревнях, и его просьбы исполнять относительно напутствования опасно больных в двух отдаленных от Архангельского деревнях. Больно было отцу Павлу видеть это, но, делать нечего, надо было терпеть и не унывать. И он, действительно, подвизался на поприще своей пастырской деятельности, терпел и не унывал. Но не знаешь, где споткнешься и упадешь! Когда казалось отцу Павлу, что он стал твердою ногою на пути к постоянному усовершенствованию в добре и себя самого, и своих прихожан, как нарочно, тут-то именно над ним стряслась первая неожиданная беда, тут-то он в первый раз споткнулся, а вслед затем и упал.
XI
Был зимний вечер. Погода была ужасная: буря завывала и такие снежные вихри крутила, что и свету Божьего не видно было. Отец Павел сидел за столом, читал Библию, а Юлия Ивановна слушала его чтение и в то же время размышляла о том, как вообще люди мало следуют предписаниям закона Божия, изложенного в Библии. Вдруг под окном раздался стук. Отец Павел вскочил, подошел к окну и спросил, кто там. Ответа не было слышно. Поневоле приходилось выходить на улицу и узнать, в чем дело. Отец Павел вышел в сени и отпер дверь. Боже мой, какая там курила вьюга! В двух-трех шагах ничего не видно было. Вскоре в комнату вошел крестьянин, весь в снегу с ног и до головы и сильно прозябший.
– Кормилец ты наш! – сказал крестьянин. – Поедем поскорее отца моего причастить. Богу душеньку свою отдает. Чемер вдруг так схватил его, что и дыхнет, и нет. Живому не быть.
– А доедем ли мы до вашей деревни в такую погоду? – заметил отец Павел. – Не лучше ли ночевать и завтра выехать пораньше?
– Нет, родимый, поедем теперь; а то Богу душу отдаст без покаяния.
– Я согласен ехать. Но дело в том, как бы нам не заплутаться в поле да не замерзнуть. Видишь, погода-то какая.
– Доедем, кормилец! Правое слово, доедем. Далеко ли тут? Всего ведь пять верст. Две версты рекою проехать – все равно, что рукою подать, а там на взволок, и деревня вот она. У меня и лошаденка-то хорошая, и солома есть в санях; и веретье, и войлок я захватил. Туда одни доедем, а оттуда я возьму на деревне провожатых. Былое дело, мы еще не в такую куру езжали, да и то Бог миловал.
– Хорошо, друг мой, поедем.
Отец Павел тотчас же собрался в путь, заехал в церковь, взял там дарохранительницу, приказал сторожу почаще ударять в большой колокол и потом отправился к больному. Чрез полчаса буря завыла пуще прежнего; дорогу так занесло, что и следа нельзя было отыскать. Путники наши сбились с дороги, заехали в какой-то овраг, выбились из сил, стараясь оттуда выбраться, но никак не могли ни из оврага выехать, ни угадать, куда они заехали.
– Ну, кормилец! – сказал крестьянин. – Видно, пришла наша с тобою пора: видно, мы с тобою тут душу Богу отдадим. Ни зги не видно: глаза слепит; лошадь из сил выбилась. На-доть тут остановиться до утра. Авось, утром-то и найдем след сами, али нас тут отыщут.
– Бог милостив, друг мой! Останемся здесь и будем ждать утра. Может быть, и вьюга перестанет, и следок тогда найдем.
– Да, кормилец, останемся. Ведь экая притча случилась! Ведь до нашей деревни от лога, как рукой подать, а вот-те и поди. Леший нас спутал. Видно, не в добрый час выехали.
– Леший твой тут не причем. Богу угодно нас испытать Своим посещением, вот мы и сбились с пути. Будем молиться Ему и ожидать Его милосердия. Он бесконечно милостив ко всякому Своему творению, не отвратит и от нас Своей великой милости, если мы с тобою все упование свое возложим на Его милосердие к нам.
– Ну, благослови Бог! Давай, родимый, сани опрокидывать к бугру да лошадь выпрягать. Авось, и продышем до утра.
Опрокинули они сани так, чтобы можно было свободно под них подлезть; поставили лошадь под ветер, дали ей соломы, укрыли ее веретьем; подлезли под сани, разостлали войлок и зарылись там в солому. Отец Павел, лежа там, читал акафист Спасителю, давно уже заученный им наизусть, и молитвы на сон грядущим, а вместе с тем и просил Господа Бога явить им Свое милосердие и спасти от явной погибели. А крестьянин то слушал чтение отца Павла, то призывал на помощь всех святых, а потом заснул самым крепким сном, так что отец Павел опасался, как бы он навеки не заснул. А вьюга все злилась да злилась и совсем засыпала их сани, так что, наконец, на виду остались одни только оглобли. Положение было отчаянное: была опасность навеки заснуть под снегом.
Между тем, бедная Юлия Ивановна сидела дома, слушала завыванье бури и все ждала мужа. Прошло два часа, прошло и три; пора бы было вернуться домой, а о них и слуху не было. Прошло и пять часов, прошла и вся ночь, а отца Павла нет. Какие в это время смертельные муки испытала она! Как она истомилась долгим ожиданием и чего-чего не передумала за это время! Ночь эта показалась ей целым веком тоски и томления. Было уже около 10 часов утра, а отца Павла все еще не было дома. Собралась бедная женщина и пошла сама мерять сугробы до дома сельского старосты, чтобы попросить его разослать людей для розыска ее мужа, живого или мертвого.
– Красавица ты наша! – сказал староста. – Что же ты, родимая, давно мне не сказала об этом? Сам поеду искать его, сердечного. Он за нас Богу душеньку свою готов был отдать, когда поехал в такую куру. Не горюй, родимая! Все село собью, а его найдем. Как Бог свят, найдем.
– Пожалуйста, голубчик, позаботься найти его. Всегда буду всем вам за это благодарна и все всегда сделаю для вас, что будет от меня зависеть. И он сам оценит вашу услугу.
– Много довольны твоею милостью и без того. Поедем и найдем.
Староста немедленно сел на лучшую свою лошадь и поехал по селу собирать людей на поиски. Собралось человек тридцать, пожелавших немедленно ехать на поиски; сели верхами и отправились в путь, держась друг от друга на таком расстоянии, чтобы можно было перекликаться и, смотря по обстоятельствам, принимать то или другое направление по указанию старосты. После долгих поисков они, наконец, увидели в овраге торчащие из-под снега оглобли.
– Стой! – крикнул староста. – Должно, здесь они. Принимайся, ребята, дружнее за работу. Их, сердечных, совсем здесь занесло.
Сию же минуту крестьяне окружили нанесенный за ночь большой холм снегу, из-под которого торчали оглобли. С лошадей – долой, лопаты – в руки, и живо за работу принялась вся партия. Через несколько минут холм был срыт, и сани перепрокинули на полозья.
– Кормилец наш! Жив ли ты себе? – спросил староста.
– Жив, – ответил отец Павел, которого незадолго пред тем одолела ужасная дремота. – Благодарю вас, други мои, за то, что вы нашли меня. Самим нам отсюда не выбраться бы. Слава Господу Богу, явившему нам Свою великую милость и спасение! Видно, чьи-нибудь усердные молитвы за нас грешных дошли до Него в это утро.
– Как, родимый наш, не дойти им? Ведь все село наше взвыло и всполошилось, как узнало от матушки, что тебя захватила в поле кура.
И это было верно. Весть об этом с быстротой молнии разнеслась по селу, и вслед за первою партией собралось еще человек пятьдесят и бросилось на поиски в разные стороны. Некоторые из охотников этой партии пристали потом к первой; другие же, взяв иное направление, объехали значительное пространство в окрестности села и нашли человек десять разного рода людей и своих, и чужих, совершенно уже замерзавших.
– Прежде всего, – сказал отец Павел, – мне нужно съездить причастить больного, если еще он жив, а потом я и домой возвращусь. Кто-нибудь из вас проводит нас до деревни, а оттуда до двора; остальных же прошу ехать домой и поскорее сказать моей Юленьке, что я жив и здоров, чтобы она не беспокоилась обо мне.
Съездил отец Павел в деревню и причастил больного, который оказался настолько еще крепок силами, что мог бы пролежать целые месяцы без особого опасения за его жизнь. К вечеру он с проводниками возвратился домой со слабыми силами, больною головою и такою наклонностью ко сну, что глаза его слипались и он даже не слышал, что ему дорогою говорили провожавшие его крестьяне. Едва успел он обогреться на простой деревенской печи и соснуть там минут с двадцать на соломе, как снова под окнами раздался большой стук, заставивший его вздрогнуть. У бедной Юлии Ивановны так при этом и екнуло сердечко.
– Опять, друг мой, кто-то за тобой приехал, – сказала она отцу Павлу.
– Отопри, – сказал отец Павел. – Нужда человека несет в такую погоду. Матушка отперла двери, и в комнату вскоре вошел крестьянин весь в снегу с ног и до головы, с обмороженною щекой и ознобленным носом.
– Кормилец мой! Мать у меня Богу душу отдает, – сказал крестьянин, приняв от отца Павла обычное благословение. – Причасти ее. Мы поедем верхами: я и лошадь с собою хорошую привел.
– Друг мой! Я сейчас только вернулся домой, едва не замерзши в эту ночь. И ты меня опять хочешь тащить в такую погоду? Я не в состоянии ехать: я сильно прозяб и истомился. Ты бы обратился к Ивановскому священнику: ведь до Ивановского-то от вас всего две версты ровной дороги, а до нас семь верст, с двумя оврагами и рекою на пути. Притом тогда и видно еще было.
– Я, кормилец, ездил к нему, Христом-Богом умолял его; не поехал. Говорит: «У вас свой поп есть. Ступай к нему. Он помоложе меня».
– А очень больна твоя мать? Как ты полагаешь, доживет она до утра?
– Да Господь ее знает, кормилец! Больна шибко. Боюсь, как бы Богу душу не отдала, потому уж старый человек. Годов больше ста ей будет. Удушье замучило, да еще, должно, лихоманка привязалась. Потому вчера вздумала свои старые кости попарить, залезла в печь, парилась-парилась да вдруг замолчала. Замертво ее вытащили из печи, да на дворе в такую-то куру она и пролежала у нас часа два али поболе, пока очнулась. Ну, ноне-то, значит, и того, лихоманка и трясет ее весь день. Надо полагать, что до завтра додышет, а там Бог ее знает. Может, уж и теперь умерла, потому шибко больна.
– Вот что, любезный: теперь уж ночь настала, вьюга бьет пуще вчерашнего. Мы не доедем, заплутаемся.
– Да, родимый, опасно ехать, ни зги Божией не видно, и пути нет.
– Вот то-то и дело. Недолго сбиться с настоящего направления пути. Помилуй Бог, если случится такая с нами беда: неминуемо мы с тобою замерзнем, потому что ехать верхом хуже, чем в санях. Давай лучше заночуем, а завтра пораньше поедем. Авось, Бог милостив, мать твоя до утра доживет. И я-то сам отдохну и немного поправлюсь здоровьем. Кстати же, она и причащалась недавно.
Крестьянин охотно согласился и ночевал. Утром еще до света они поехали, но больной в живых уже не застали.
– Давно ли она умерла? – спросил отец Павел.
– Да вчера, родимый, еще засветло, – ответили ему родственники старушки.
– Стало быть, если бы я и поехал, ее в живых не мог бы застать.
– Куда, родимый? Панька, поди, еще до Крутого верха не доехал, она умерла, потому, значить, человек она старый. Как закашлялась от удушья, так и дух вон, сейчас и Богу душеньку отдала.
Отец Павел успокоился и на следующий день похоронил покойницу. Диакон в тот же день дал знать благочинному, что священник-де по нерадению допустил больную умереть без покаяния и потом похоронил ее без судебно-медицинского осмотра. Благочинный в свою очередь донес о том кому следует, и дело пошло в ход. Самому же обвинителю – благочинному – поручено было произвести законное расследование этого дела. Вместе с указом о произведении законного исследования этого дела благочинный получил небольшую, вложенную в указ записочку следующего содержания: «Молодчик-то, кажется, попался ловко – поплатится за все; если же по исследованию окажется, что с его стороны упущения сделано не было, потрудитесь хорошенько просмотреть обыскную книгу. Там, по словам дьякона, кое-что есть такое, из чего можно разыграть хорошее дельце». Записка была писана Юсом и принята благочинным к сведению. Сейчас же по приезде в Архангельское благочинный потребовал к себе обыскную книгу и метрики. Дьякон сейчас же явился к нему с услугами и шепнул, что в одном месте есть важная вина священника, который будто бы в его отсутствие в город повенчал одну несовершеннолетнюю невесту.
– Ну-те-ка, – обратился благочинный к отцу Павлу, – отыщите мне метрическую запись о рождении невесты в пятом браке за этот год, дочери крестьянина Переселенкина.
Отец Павел сейчас же отыскал требуемую запись.
– Да эта дочь Переселенкина умерла, – сказал дьякон.
– Как умерла? – возразил отец Павел. – А венчали мы кого же?
– У него была другая с тем же именем.
– Посмотрим.
Отец Павел справился. Действительно, по метрикам оказалось, что у Переселенкина было две дочери с одним именем, и одна из них старше другой была всего только полутора годами, и что старшая записана умершею уже после рождения младшей месяца чрез полтора.
– По духовным росписям, – сказал отец Павел, – в семействе Переселенкина пишется та именно дочь, которая родилась 18 лет тому назад; отец говорил, что невеста у него была самою первою дочерью, а родилась перед Рождественским постом, тогда как младшая, как видно из метрик, родилась в мае. Неужели можно допустить то, чтобы крестьянин не знал, какая дочь у него умерла, старшая или младшая? Очевидно, здесь ошибка в метрической записи умерших. Не угодно ли спросить отца и мать, сколько времени от роду было той дочери их, которая умерла: полтора года или полтора месяца?
– Это даже необходимо, – сказал благочинный. Сейчас же послали за отцом и матерью невесты, и они явились.
– Какая у вас дочь Александра умерла? – спросил их благочинный.
– Вовсе, кормилец, махонькая, – ответила мать, – на сорок третьем денечку Богу душеньку свою отдала. Только что я взяла сороковую молитву и похоронила ее, родимый! Больно уж плоха была, все родимчик ее мучал, сердечную.
– Какая же она у вас была, старшая или младшая?
– А вот за тою, кормилец, родилась, что замуж я отдала. Благочинный удовлетворился этими ответами. Отец Павел
успокоился. Казалось бы, теперь и делу конец. Однако же нет: из этого возникло в консистории особое дело; полная сила доказательства отдана была одним только метрическим записям, и вот, на основании ст. 199 Устава духовных консисторий отца Павла упекли в Жабынь под начал на полтора месяца, а с ним и обоих причетников на половину этого времени. Один дьякон, кляузник, виновник неправильной метрической записи умершей дочери Переселенкина, остался вне преследования по закону и торжествовал. Торжествовал и Юс, отомстивший отцу Павлу за расписку, и Малинин, узнавший от своего знакомца о беде бывшего жениха его дочери. Рад был и местный благочинный тому, что «выскочку» Тихонравова проучили.
XII
Было 18-е июня 186... года. Я проживал в Белеве как раз 2 года. Жилось вообще за все это время весьма дурно: крайняя недостаточность средств к жизни, непосильное обязательство содержать осиротевшую семью своего тестя и в особенности семейные неприятности до того истомили меня в эти два года, что, как еще я совсем не сгиб и выдрался потом на свет Божий, считаю, право, чудом и особенным ко мне благодеянием Промысла Божия. Чтобы занять иногда рубль или два на крайние свои нужды, а больше всего для того, чтобы укрыться от печальной необходимости быть свидетелем неприятных семейных сцен, я часто в свободные минуты заходил к бывшему своему прихожанину В. А. А. Но чаще всего он сам присылал за мною или зазывал меня к себе, когда я проходил мимо его дома. Так это было и в тот день.
– Отец Михаил! Заверните на минутку, – крикнул мне А., когда я проходил мимо.
Я зашел.
– Бывали вы в Жабыни? – спросил он меня.
– Нет, хотя и давно желаю там побывать для того именно, чтобы исполнить волю своей матушки, просившей меня поклониться праху преосвященного Дамаскина, некогда оказавшего ей большое благодеяние.
– Вот и прекрасно! Поедемте туда сегодня. Мне нужно быть у барона Черкасова, а, кстати, и в Жабыни. Я вас туда свезу. Меня об этом просил один бывший ваш товарищ, живущий там под началом.
– Кто же это?
– Отец Павел, а фамилию его я забыл.
– С удовольствием воспользовался бы вашим приглашением, да не имею времени: у меня два урока сегодня.
– Бросьте их. Теперь лето. Вам необходимо побольше гулять, а вы все занимаетесь. Право, вы у нас замрете совсем.
– Как же иначе? Ведь нельзя же на 300 или 350 рублей годового дохода от церкви и прихода содержать дом и семью в девять душ.
– На это еще будет время. Поедемте. Я вас не пущу от себя.
Не столько ради своего собственного удовольствия или развлечения, сколько из желания видеть одного из своих бывших по семинарии товарищей, попавшего под начал, я согласился ехать с А. в Жабынь, а потом часов в 10 зашел к нему.
– Знаете ли, что, – сказал он мне, – я придумал прекрасную прогулку: мы поедем в Жабынь не на лошадях, а на лодке. С нами поедут туда отец Павел и бывший ваш товарищ, а теперь студент медицинской академии Д., который сейчас только был у меня и чрез полчаса опять приедет. Да вот я еще послал к Ф. и Б.: может быть, и они соберутся с нами. Подождем.
Сказано и сделано. Часов в 11 собралось нас человек восемь, взяли с собою самовар и все принадлежности чаепития и отправились на берег Оки. Там за весьма дешевую цену А. нанял лодку с одним только лодочником: мы сели в нее и отправились в Жабынь вниз но течению Оки. Плыть нужно было верст около десяти до Жабыни, но при быстроте течения Оки нужно было только дать ход лодке, и чрез полчаса можно было быть за Дураковым, а там как раз и пустынь. Впрочем, всем нам нарочно хотелось плыть помедленнее, чтобы подышать чистым свежим воздухом и полюбоваться видами нашей природы. С Оки открывался прекрасный вид во все стороны. Позади нас весь Белев был точно на ладоньке и представлял собою прекрасную панораму большого города, в то время утопавшего в зелени садов, за ним виднелись: Мишенское, Кализна и Темрянь; впереди пред нашими глазами были Дураково, Жабынь, Карманье, Володьково, Береговая, а там виднелись вдали Сныхово и Гостунь.
С правой стороны расстилались обширные заливные луга, на которых уже копошились сотни людей, одни с косами, другие с граблями и вилами, потому что была уже пора сенокоса в самом сильном разгаре: звон и свист кос и песни женщин, перетрясавших сено, далеко неслись по Оке. Запах от цветов, которыми усеян был весь луг, и от высыхавшего сена был самый приятный и, несмотря на то, что мы, жители Белева, и без того, можно сказать, избалованы чистым в городе воздухом, составлял для нас нечто вроде целительного бальзама. По местам, по отлогостям берегов Оки рос ивняк, в котором копошились пташки и журчали источники, носящие в своем русле ясные следы присутствия в них минералов. По Оке шли барки. Вода при песчаном русле реки и свете солнца настолько была прозрачна, что даже в самых глубоких местах видно было дно, покрытое песком и мелкими синеватого отлива раковинками. Можно ли было любителям картин природы не наслаждаться ими при плавании по Оке в такое время? А мы все были такими любителями и потому теперь с удовольствием рассматривали всю окрестность и вдыхали в себя свежесть воздуха и аромат скошенной на лугах травы.
Но вот и Жабынь! Мы вышли на берег при начале елового леса, чтобы пройтись им и подышать воздухом, пропитанным свежим смолистым запахом хвойных дерев. Вот и лес. Какое чудное благоухание сразу обдало нас тут.
– Как здесь хорошо! – невольно воскликнул я, войдя в рощу.
– Да, – сказал Д., и в семинарии еще отличавшийся вольномыслием, а в медицинской академии набравшийся общего с другими духа порицания всего, неверия во многое и недовольства всем, – здесь все хорошо, зато в самой пустыни, где томится наш с вами товарищ под началом, все гадко от начала и до конца. Если вы хотите, чтобы наша прогулка доставила вам полное удовольствие, не ходите туда совсем, гуляйте здесь.
– Извините, я не затем сюда пришел, чтобы гулять. Я хотел видеть своего товарища и пойду его отыскивать.
– Ну, как знаете. Идите, а моей и ноги там не будет.
Я вместе с А. отправился в пустынь. Когда мы приблизились к ней, с первого взгляда она показалась мне прекрасным уголком земли. Расположенная на довольно высоком берегу Оки, она казалась очень красивою. Вид от нее на Белев и всю окрестность великолепный.
– Как хотите, отец Михаил, – сказал мне А., – я решительно прихожу к тому заключению, что древние отшельники были большие любители величественных картин природы. Посмотрите, какую чудную местность занимает эта пустынь.
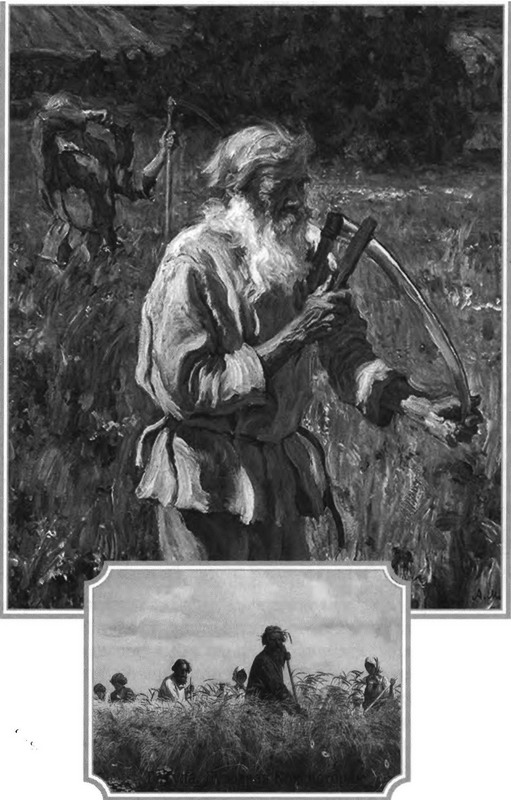
Какой отличный вид на город и всю окрестность! Какая должна быть здесь восхитительная картина природы ночью при ясном блеске луны и тишине воздуха! Мне кажется, что в такую ночь тут забудешь все и невольно устремишь свой взор на небо, невольно задумаешься над тем, что такое человек в этой необъятной вселенной и как он возвеличен своим Творцом, будучи Им поставлен господином всей твари. А представьте себе еще картину природы здесь во время сильной грозы ночью, когда молния разливается в пространстве воздушном то там, то сям.

Вид Жабынской пустыни с западной стороны. Рисунок А. Чуфрина. 1888 г.
Вошли мы, так сказать, в преддверие или предместье монастыря, за первую монастырскую стену. Тут был разбит небольшой садик с цветником, дорожки были усыпаны песком, в клумбах цвели розы и всяких сортов цветы. Все тут было чисто и в порядке.
– Как здесь все чисто и хорошо, – заметил я.
– Как вы неопытны во всем! – ответил мне А. – Неужели вы не замечаете того, что здесь, в этом предместье монастыря, на всем видна заботливая рука женщины? Посмотрите, каждый цветок подвязан к палочке розовою ленточкою, в беседке накрыт стол и кипит самовар затейливой формы, неужели все это дело монастырских рук?
– Я вас не понимаю.
– Не понимаете, так я вам объясню. Это предместье принадлежит не монастырю, а гостинице монастырской, в которой летом живут наши горожане, перебирающиеся сюда лечиться свежим воздухом. А в монастыре мы сейчас увидим другую картину!
Действительно, прошли мы вторую монастырскую стену и вступили в сам монастырь. Тут все было в ином виде: двор весь порос крапивою, лопушником, репейником и бурьяном; дорожки не только не выметены, но и не чищены; везде кучи мусора, щебня и щепы. Вообще, нечистота в ту пору в пустыни была ужасная.
– А вот и склеп, где погребен преосвященный Дамаскин, – сказал А., когда мы проходили мимо соборной церкви.
Мы вошли в склеп или небольшую пещеру. Там все было не только мрачно, но и неприглядно до крайности: надгробный памятник опустился, лампада лопнула и, должно быть, десять лет не зажигалась; образа полиняли до того, что и разобрать было трудно, что на них написано; митра архиерейская ободрана, все украшения с нее сняты, посох, дикирий и трикирий тоже тронуты чьею-то хищническою рукою; сырость в склепе была необыкновенная, нечистота – тоже: там были набросаны и стружки, и щебень, и глиняные черепки, и уголь, и окурки папирос; там же валялась и крыса, кем-то убитая. Вообще, видно было, что это место оставлено в большом пренебрежении.
Помолившись пред гробницею преосвященного Дамаскина, мы осмотрели соборную церковь, потом обошли весь монастырский двор и все осмотрели.
– Где же здесь найти отца Павла? – сказал я А.
– Погодите, – ответил мне А., – вы слишком нетрепливы. Мы прежде осмотрим жилище подначальных, а потом найдем и самого отца Павла. Я знаю, где его теперь найти.
Мы зашли в ту келью, где обыкновенно помещались подначальные. Теснота, темнота, недостаток свежего воздуха, сырость, отсутствие всякой мебели и крайнее неудобство помещения, скорее, давали ей вид собачьей конуры, чем жилой комнаты. И тут-то помещалось человек пять подначальных! Можно себе представить, каково было их положение и как тут было сберечь свое здоровье.
– Признаюсь, – сказал я, осмотрев эту конуру, – у нас в семинарии карцер был в сотни раз лучше этой кельи. И сюда-то ссылают под начал священнослужителей и студентов семинарии! Где же, однако, сами подначальные?
– Они теперь на монастырской работе, косят сено. Вот здесь, неподалеку от монастыря. Пойдемте к ним.
С грустным чувством пошел я вон из монастыря.
– Отдохнем немного здесь, – сказал мне А., когда мы выходили из ворот монастыря в предместье его.
Мы сели на первую же попавшуюся нам на глаза скамеечку, почти напротив самой беседки, не обратив никакого внимания на то, есть ли кто в беседке или нет. Прошло с минуту в молчании. Нечаянно взглянул я потом в беседку и глазам своим не поверил, увидев там вместе со знакомым мне городским нашим купеческим семейством отца Павла за чайным столом. Он был чрезвычайно бледен, худ до изнеможения и сидел неподвижно, устремив на меня свой взор, наполненный слезами. При большой окладистой бороде, с редкою сединою в волосах он был неузнаваем, и я сначала думал, что вижу личность, похожую на моего товарища Павла Тихонравова.
– Неужели это отец Павел, мой товарищ? – спросил я А.
– Да, это он. Пойдемте к нему.
– Я, любезнейший Михаил Феодорович, я тот самый ваш товарищ, которого вы во мне хотите узнать, – сказал отец Павел. – Я стал неузнаваем, потому что в своей молодости состарился, на 25 году жизни поседел; но все же это я – ваш бывший товарищ, Тихонравов, убитый людскою злобой.
Отец Павел хотел было встать, когда я к нему подошел, но залился слезами, зарыдал и опять опустился на свое место. Прошло несколько минут в невольном напряженном молчании прежде, чем он пришел в себя и был в состоянии говорить спокойно.
– Здравствуйте, Михаил Феодорович! – сказал он, наконец. – Вот при каком случае вам пришлось меня видеть. Думалось ли нам с вами, что мы когда-нибудь тут увидимся? Я слышал, что и вам в Белеве нелегко и невесело живется; но что видел я в своей короткой жизни, этого вы и представить себе не можете. И вот, в конце концов, попал сюда.
– Что делать? – отвечал я, поздоровавшись с ним. – В жизни нужно быть ко всему готовым – и к отрадному, и к печальному. Жизнь прожить, говорит наша русская пословица, не поле перейти. Всего увидишь много. По крайней мере, долго ли вам здесь осталось жить?
– К счастью, нет. Я уже прошел здесь чрез все роды мук и испытаний и кончаю свое подначальство: мне осталось здесь жить всего только неделю.
– Вот и прекрасно. А мне на Петров день хочется выбраться в далекий путь, проехать в Тулу, чтобы похлопотать там о перемене условий данного мною обязательства при поступлении на место, а отчасти и попробовать счастья, не удастся ли перейти в Тулу на какое-нибудь место. Нужно и на родине своей побывать, и в Свято-Духовский монастырь проехать, чтобы исполнить давнишнее свое обещание, отслужить там молебен пред иконою святителя Николая, а кстати и повидаться с нашим бывшим товарищем, а моим ближайшим другом В. Я. С, поступившим в Новосильское училище в учители. Как видите, мне придется сделать большой круг, нужно будет проезжать и мимо ваших мест. Я с удовольствием довезу вас до двора, взгляну на ваше житье-бытье и побеседую с вами на досуге о вашем горе.
– Ах, как я вам буду благодарен, но не столько за то, что вы довезете меня до двора, сколько за то, что вы посетите меня и своим появлением в нашем доме обрадуете Юленьку и утешите ее! Поверите ли, с самого времени поступления моего в Архангельское мы с нею не видели около себя ни одного человека, мало-мальски образованного и расположенного к нам. Мое импровизированное сватовство за Юленьку и поступление в Архангельское вооружило против меня Юса и с первого же раза поставило нашего благочинного в самые неприязненные ко мне отношения. А там недовольство на меня со стороны моих сослужителей и соседних священников за то, что я одни обычаи переменил, а другие совершенно отменил, подлило много масла в огонь, разложенный вокруг меня Юсом и благочинным. Сколько за эти два года я вынес горя! Сколько неприятностей пришлось мне вынести! И все из-за чего? Из-за того, что я честно относился к своему сану и к своим священным обязанностям. Если бы не Юленька моя поддерживала меня в моих напастях, я давно бы погиб.
– Очень рад, что могу вам доставить удовольствие своим посещением, – сказал я отцу Павлу. – Может быть, мы там придумаем что-нибудь к облегчению вашей участи и поправлению ваших отношений к благочинному.
– Нет; мне теперь, кажется, и думать уже нечего об улучшении своего положения. Коль скоро раз попал под начал, все пропало. Моя жизнь уже надломлена этим подначальством и скоро должна угаснуть: я чувствую, что незваная гостья – чахотка – уже пожаловала ко мне и скоро уложит меня в гроб. Вы видите, я уже наполовину поседел, и это когда же? На 25-м году своей жизни! Стало быть, мне легко было перенести подначальство ни за что, ни про что...
– Зачем же впадать в уныние? Бог даст, все исправится, и вы заживете счастливо. Не всё же зло и неправда будут иметь успех; настанет время, что и правда свое возьмет.
– О, если бы только это случилось когда-нибудь! Тогда я снова ожил бы. Знаете ли, как, вообще, правда и любовь действуют на меня? Точно живительный бальзам. Вот, например, здесь в последние три недели я чувствовала себя гораздо отраднее, потому что вот эти господа, мои благодетели, вошли в мое положение и своим ко мне вниманием и расположением много облегчили мою участь. Первые две недели своего здесь пребывания я совсем было упал духом, потому что здесь жизнь чистейший ад. Ни удобства помещения, ни покоя, ни йоты внимания на нас здесь нет. Обхождение с нами самое грубое, особенно со стороны послушников; обиды и поношения на каждом шагу. Кроме клички «подначальные, ссыльные и монастырские нахлебники», мы ни от кого здесь не слышали приветливого слова. Все на нас здесь указывают пальцами, все над нами издеваются, поневоле падешь духом.
– Действительно, – сказала госпожа У., в беседке у которой мы сидели, беседовали и пили чай, – положение этих несчастных здесь безотрадно. Без глубокой скорби я видеть их не могу. Отец настоятель здешний – человек добрый до бесконечности, но послушники молодые из рук вон плохи, никого и ничего не хотят слушать, От них-то здесь и терпят много все подначальные. О. Павла мне всегда в особенности было жаль, потому, что он сильно страдал и со дня на день, как воск, таял, бледнел, скучал и падал духом. Я с первого же дня обратила на него свое внимание, когда он так хорошо читал в церкви шестопсалмие, что и сам чуть не плакал и многих из нас прослезил, и сочла своим долгом познакомиться с ним, утешить его в скорби и дать ему занятие с моими детьми за приличное вознаграждение, от которого, однако, он отказался. Понятно, что после этого я делала все возможное, чтобы его участь не показалась ему безотрадною.
Мы довольно долго сидели в беседке и вели разные разговоры, но того, за что именно отец Павел угодил под начал, я еще не слышал. Спрашивать об этом при всех было не совсем удобно, а ему самому не хотелось касаться этого предмета, потому что он не мог даже вспомнить об этом равнодушно: в нем сейчас же закипала злоба, как только он начинал говорить о том, как все вообще следственное о нем дело неправильно было ведено благочинным с явным намерением сделать его безвинно виновным. У него не доставало духу за чаем же начать рассказ про свои беды и скорби в жизни; у него даже слезы на глазах выступали, когда он мысленно пробегал свой недолгий, но многотрудный и многоскорбный период священнической жизни.
– Пойдемте, Михаил Феодорович, – сказал, наконец, отец Павел, – погуляем с вами по роще. Я расскажу вам про свое житье-бытье горемычное, чтобы вы знали, каков я был на своем месте приходского священника, остался ли я верен тому товарищескому завету служить своему делу честно и свято, какой, помните, мы в семинарии заключили между собою, или же я изменил ему, а равно и то, за что и как я попал сюда под начал.
Мы пошли. Отец Павел немного помолчал, собрался с духом и потом начал мне рассказывать про свою жизнь и деятельность во всех подробностях. Мало-помалу он воодушевился так, что казалось, будто он совсем забыл о своем горе. Но в его рассказе была жизнь, а жизнь без радости и скорбей не проходит; поэтому и рассказ его необходимо доложен был приводить его то в одно настроение духа, то в другое. Под конец своего рассказа отец Павел заплакал. На меня его рассказ произвел глубокое впечатление. Я нескоро даже нашелся, что ему сказать в утешение.
– Знаете ли, что, – сказал он мне после довольно долгого молчания, – мне больше всего больно за то, что во мне этим подначальством убили энергию к делу; меня заставляют теперь принизиться и идти тою же самою тропою отсталости, забитости, равнодушия к своим обязанностям и ко всему, какою идут все мои соседние собраты по службе. К чему же я трудился доселе, желая все в своем приходе поставить на новый лад? И больно и обидно и за себя самого, и за само дело, которому я служил верою и правдою.
– Унывать, друг мой, не следует, и бросать начатое не должно, по крайней мере, я отнюдь не советую вам. Вы уже проложили себе путь к деятельности и идите им: так будет лучше. Страдания ваши, бесспорно, велики и тяжелы для вас; но это самое тем больше потом возвысит вас в глазах всех, когда невинность ваша откроется всем, кто знает вас, и нашему начальству. Рано или поздно истина и правда должны же будут восторжествовать, и победа останется, во всяком случае, за вами.
– Очень был бы рад идти прежним путем, но чувствую, что не в силах буду им идти, потому что у нас вообще сложился в обществе самый невыгодный взгляд на подначальных, а это обстоятельство слишком много будет вредить мне. Я теперь на всю жизнь опозоренный человек, и за что же? За то, что не хотел служить неправде, не хотел уплатить по незаконной расписке денег, не хотел кое-кому дать взятку во время производства надо мною следствия! Нет, уж это слишком! Я этого вовсе не заслужил, и перенести этот позор нелегко. Я мог бы быть полезным человеком и Церкви, и обществу, а меня этим позором заставляют теперь влачить жизнь паразита, прозябать, а не жить.
– Вы слишком мрачно смотрите на свое настоящее и будущее. Мужайтесь: авось, Бог даст, все перемелется и устроится. История ваша для меня вообще очень интересна и поучительна. Но что больше всего для меня кажется здесь неестественным, так это именно то, что ваш отец благочинный вместо того, чтобы подать вам собою хороший пример и образец честной деятельности, является интриганом, гонителем честной деятельности, сторонником неправды и примером постыдного шпионства и притеснения своих же собратов.
Долго после того вели мы разговор о горемычном житье-бытье нашего сельского духовенства и о притеснении его, с одной стороны, помещиками и разными сельскими властями, а с другой, своими же собственными собратами – благочинными. Наступавший вечер напомнил мне о времени возвращения домой, и мы расстались.
XIII
В последних числах июня отец Павел окончил срок своего подначальства, а я управился со своими приходскими делами по случаю храмового праздника Пресвятой Богородицы Тихвинской, и мы оба отправились прямо в Тулу. Там отец Павел, бывши в одном доме, случайно встретился с (ныне покойным) членом консистории Михаилом Ивановичем Троицким и, не зная того, что он именно член консистории, горько стал ему жаловаться на свое положение. Тот выслушал его совершенно спокойно, как будто дело вовсе его не касалось.
– Послушай, – сказал, наконец, отец Михаил, взяв отца Павла за руку, – ты правду говоришь?
– Конечно, совершенную правду. Священнику неприлично говорить неправду.
– А ты знаешь, кто я?
– В первый раз в жизни я имею честь видеть вас, и вы мне не сказали еще, кто вы. Мы с вами случайно здесь встретились и разговорились.
– Я член консистории Михаил Иванович Троицкий. Твое дело производилось у меня.
Отец Павел оторопел, потому что он много наговорил ему правды про своего благочинного и про саму консисторию.
– Что? Испугался? Вы все на меня смотрите как на деспота и боитесь меня больше, чем ребятишки боятся какого-то пугала.
– Да, признаться, так... Побаиваемся.
– Я это давно знаю. Однако, я вовсе не деспот. Я строг и суров на вид, но вместе с тем я честен и правдив. Взятки с тебя не возьму и, если увижу, что тебя у нас хотят прижать, в обиду понапрасну не дам. Точно так же, если я пойму, что с тебя взяли порядочный кушик и хотят тебя за это из черных сделать белым, я до этого не допущу. Я тогда сам найду в деле случай тебя очернить. Ты приехал бы сюда да пришел ко мне и рассказал бы все свое дело по совести или описал бы его мне, вот я и знал бы, что сделать. А то ведь ваша братия нас-то бегает, боится, как самых лютых врагов, а там дает взятки приказным, да дает им возможность тянуть дело целые годы и выжимать из вас весь сок. Ведь мы этого не можем знать и предупредить, когда вы сами от нас бегаете и даетесь в руки крючкодеям. Теперь ты прямо отсюда ступай к благочинному и скажи ему моим именем, чтобы он вперед этого Юса не слушался. Я этого бездельника прогоню.
Беседа их закончилась лобызанием и обещанием отца М. поправить дело впоследствии времени, если благочинный со своей стороны не будет делать новых на него доносов, а он сам будет во всем исправен и осторожен.
Из Тулы мне можно было попасть на родину двумя равными путями: по Киевскому шоссе с поворотом на Ефремовское и по Воронежской дороге. Желая скорее доставить отца Павла в село Архангельское, я избрал тот путь, который был ближе к Архангельскому. Так как отцу Павлу необходимо было, прежде всего, явиться к своему благочинному, то мы и заехали, прежде всего, к благочинному.
Было часов около пяти вечера, когда мы въехали в большое и богатое село N., где жил благочинный. Самого отца благочинного в эту пору не было дома: по своей священнической обязанности он незадолго до нашего приезда отлучился в приход. Тем не менее, нас приняли в доме и передали, что хозяин скоро возвратится из прихода. Когда мы вошли в комнаты, на столе уже кипел самовар, и дочь благочинного, девица лет шестнадцати, хлопотала около стола. За отсутствием отца и матери девушка эта в качестве хозяйки дома приняла нас, как гостей, и сейчас же предложила нам чаю. Из приличия мы отказались от этого предложения до приезда самого хозяина.
Скоро приехал и сам хозяин. Отец Павел представил ему свое свидетельство об окончании своего подначальства и сказал, что имеет нечто передать ему от имени отца Михаила Ивановича Троицкого. Благочинный с важностью взял бумагу, прочел и молча сделал на ней пометку числа и месяца; потом очень холодно обратился ко мне и поздоровался со мною. Узнав сейчас же, что я из Белева, он пожелал расспросить у меня о своих родных и знакомых в Белеве и потому пригласил меня к чайному столу, а за мною и отца Павла. Мы довольно долго вдвоем беседовали с ним, а потом дошла очередь и до отца Павла. Благочинный занялся с ним и стал читать ему свои нотации, от которых по временам и меня коробило; а я обратился к девушке с вопросами о ее воспитании и занятиях. Вскоре я увидел, что она была очень умна, благовоспитанна и вообще очень интересная особа, такая именно девушка развитая, каких в ту пору можно было встретить в среде сельского духовенства лишь там, где были братья семинаристы старше своих сестер и хорошо учились. Мне показалось, что лучше всего можно будет подействовать на отца благочинного, чтобы расположить его в пользу отца Павла, именно чрез нее, и потому я решился воспользоваться удобным случаем переговорить с нею об отце Павле и попросить ее после нашего отъезда расположить отца в его пользу. А случай к тому представился весьма удобный. С той стороны, куда нам нужно было ехать, заходила ужасная туча. Под предлогом, что я очень боюсь грозы, я попросил у отца благочинного позволения переночевать у него. Тот охотно на это согласился, и мы с отцом Павлом остались у него. Туча эта потом прошла стороною, но мы все-таки в путь не тронулись.
– Пойдемте, прогуляемся, – сказал отец благочинный. – У нас прекрасный господский сад, и для меня всегда открыт. Там теперь хорошо.
Сейчас же все мы собрались и пошли. Дорогою я нарочно присоединился к дочери отца благочинного и завел с нею разговор о Жабыни и о том, как я там встретился с отцом Павлом.
– А хорошо ли там живут подначальные? – спросила она. Я подробно рассказал ей, как там живут эти несчастные
и сколько они там терпят нужды, горя и поношений.
– Это ужасно! – сказала она. – И туда посылают священников?!
– Да, – ответил я. – И вы представьте себе, что если и каждому там трудно сжиться со своим положением и перенести все невзгоды, то во сколько же раз несноснее положение того, кто попадает туда совершенно безвинно, благодаря одной только людской злобе? Посмотрите вот на отца Павла: что сделалось с ним в этой неволе, в которую он попал без всякой вины? Он в 25 лет от роду наполовину там поседел, так что теперь и жена его не узнает.
– Да. Это ужасно. В такие лета – и поседеть! Признаюсь, для этого нужно испытать большое горе. И неужели он один из тех несчастных страдальцев, которые иногда попадают под начал без всякой, с их стороны, вины, по какому-нибудь недоразумению или по наветам сильных мира сего?
– К сожалению, да... Он туда попал без вины.
– Но как же это могло случиться? Ведь мой папаша дважды производил о нем следствие: неужели же он допустил какую-нибудь несправедливость?
– Я в настоящее время пользуюсь гостеприимством вашего батюшки и потому не могу что-либо говорить про его действия с нехорошей стороны, приличие этого не позволяет. Однако же, по русской пословице «хлеб-соль ешь, а правду режь», не могу не сказать вам, что все следственное дело им было ведено неправильно: оно направлено было так, что отец Павел должен был оказаться виновным в том, в чем другие во что бы то ни стало хотели его обвинить.
– Здесь вышло какое-нибудь недоразумение. Я не думаю, чтобы папаша намеренно допустил какую-нибудь несправедливость. Не потрудитесь ли вы рассказать всю суть этого дела.
– С удовольствием.
Я рассказал девушке историю поступления отца Павла на место в село Архангельское и то, что он там сделал, и как попал под суд, а потом рассказал и то, как ведено было следственное о нем дело.
– А! – сказала она, выслушав меня. – Теперь я все понимаю, теперь я знаю, что значат те записочки карандашом, которые влагались в указы по делу об отце Павле. Во всем этом деле видна рука Юса, руководившая действиями моего папаши, который вообще всякого подобного крючка боится пуще огня. И как жаль, что папаша благодаря этой боязни поневоле оказался сообщником Юса! Теперь я понимаю и то, как тяжело было отцу Павлу страдать невинно. Как мне его бедного жаль! Но отчего бы ему не решиться на то, чтобы ради своего собственного спокойствия бросить этому иуде пятьдесят рублей?
– Разумеется, их можно бы было бросить. Но дело вот в чем: отец Павел неподкупно честный человек, для него тяжело было бросить эти деньги из-за собственного спокойствия потому именно, что это значило бы дать возможность неправде легко восторжествовать над честностью, попрать истину и преклониться пред явным духом злобы.
– Действительно, так, и я за такое мужество истинно уважаю его и весьма сожалею о том, что он так пострадал.
Наступило минутное молчание. Я взглянул на свою спутницу и заметил, что на глазах у нее были слезы сострадания к несчастному.
– Нельзя ли как-нибудь теперь поправить эту беду? – спросила она, прерывая молчание.
– Разумеется, потерянного не вернешь, но все-таки облегчить дальнейшую участь его можно, если только ваш батюшка этого захочет.
– Ах, конечно, он этого пожелает, когда узнает, в чем тут суть дела! Ведь о нем только думают многие, будто он и горд, и не добр, а он, напротив, смиренный и очень добрый человек. Бестактен он немножко и вспыльчив, это правда, но намеренно, когда уверен в невинности человека и не предубежден против него, зла ему ни за что не сделает. Я попрошу его о том, чтобы он сделал все возможное для того, чтобы поддержать упавший дух отца Павла и объяснить нашему владыке, что ему пришлось пострадать невинно благодаря проделкам Юса и кляузам дьякона-сутяги, и он это сделает. Но мамаша моя еще добрее: я ей все расскажу, и она уговорит папашу загладить свою вину против отца Павла и сделаться его защитником и покровителем.
– А где же ваша мамаша?
– Она поехала в город и теперь скоро вернется домой. Она, я знаю, и прежде много сожалела об отце Павле, а теперь, увидев его столь сильно изменившимся и узнав о его невинности, она еще с большим сочувствием отнесется к нему.
Наступило минутное молчание. Я оглянулся назад и увидел, что мы во время своего разговора незаметно ушли далеко вперед. Я предложил немного подождать отца благочинного с отцом Павлом, и мы остановились.
XIV
Человек, говорят, предполагает, а Бог располагает. И действительно, очень часто случается многое, согласное или несогласное с нашими мыслями и желаниями, совершенно неожиданно, и притом не так, как нам думается. Так это случилось и теперь. Остановившись на несколько минут в ожидании, когда подойдут к нам отец благочинный с отцом Павлом, мы сговаривались между собою подействовать на благочинного именно чрез его жену: я хотел с нею переговорить об отце Павле вечером, а дочь думала на следующий день переговорить с нею о том же, но так, чтобы ни отцу, ни матери не показалось, что она действует по предварительному уговору со мною. На деле неожиданно случилось иначе, гораздо скорее, естественнее и лучше, чем как все могло бы быть сделано вследствие нашего о том уговора.
– Однако, – сказал отец благочинный, догнав нас, – мне, старику, невыгодно ходить с вами, за вами не угонишь.
– Разумеется, – сказали в ответ, – мы оба еще юны, а вы и отец Павел уже старцы почтенные: один старец по летам, а другой – по своим бедам.
– Да, да... Отец Павел очень постарел. Видно, плохо ему no-жилось в Жабыни-то на монастырских хлебцах. То-то бы молодому иерею поумерить свою юношескую прыть, быть бы покорнее своему начальству, повернее своему обязательству и слову и поосмотрительнее во всем. Не нужно было бы ни со служащими в консистории затевать раздор из-за каких-нибудь 50 рублей, ни от окончания дела с Малининым отказываться, ни со своим причтом входить в столкновение, ни стародавних порядков в приходе ломать, ни соседних священников восставлять против себя из-за желания показать себя передовым человеком, ни корреспонденции в газеты писать. Уж куда нам соваться вперед? «Трудно против рожна прать», как раз сотрут с лица земли. Все молодо да зелено. Выскочим из семинарии студентом и думаем о себе Бог весть что, воображаем себя реформаторами и литераторами. Вот тебе и реформаторство, и литераторство! Упекли в Жабынь на монастырские хлебцы да проучили там.
Отец благочинный разразился целым потоком выговоров и нравоучений нам обоим, молодым священникам. Я нарочно молчал, чтобы дать ему возможность излить весь поток своих слов и тем, может быть, вызвать его дочь на защиту отца Павла теперь же. Расчет мой оказался верен. Взглянув на свою спутницу, я увидел, что она весьма неравнодушно слушала своего отца и, казалось, только лишь ждала удобной минуты, чтобы вступить с ним в объяснение.
– А вы, папаша, вполне уверены в том, что все то, в чем обвиняли и старались некоторые обвинить батюшку, отца Павла, совершенно справедливо? – обратилась она к отцу, когда тот умолк.
– Ах, Сонечка! – ответил отец. – Неужели ты думаешь, что я сейчас все это говорил только лишь для красного словца, а не по убеждению в правоте своих слов и не по сочувствию к своему молодому собрату? Я уже довольно много пожил на свете и многое видел, я знаю хорошо и все дело о. Павла.
– Все это так, но ошибаться свойственно всякому.
– Так ты полагаешь, что я в чем-нибудь ошибаюсь?
– Да, потому что вы прежде сделали великую ошибку, непростительную и вовсе несвойственную вам, вследствие чего вам теперь и кажется, что вы сейчас говорили совершенную истину. Вы полагаете, что отец Павел действительно виновен во всем, в чем обвиняли его враги и недоброжелатели, а я теперь наверное знаю, что он ни в чем невинен: во всей его печальной истории нет ни йоты правды; напротив, в ней все есть самое дерзкое хитросплетение. Он пострадал невинно по интригам крючкодея Юса да дьякона – пьяницы и сутяги, а вы, став на их сторону и беспрекословно исполнив все то, что вам писалось злобною вражескою рукою на клочках бумаги, влагавшихся в указы, допустили совершиться явной несправедливости; когда совершенно от вас зависело раскрыть все подлости врагов отца Павла и оправдать его, вы так произвели следствие, что он должен был без вины сделаться виноватым и не миновал Жабыни.
– Сонечка, тебя ли я слышу?
– Меня, милый папашечка, меня. Я позволила себе говорить с вами немного резко, не так, как бы следовало дочери, но, поверьте, это произошло не от чего-либо другого, а от того именно, что мне очень жаль отца Павла и Юлию Ивановну, досадно на этого проклятого крючкодея, который строчил вам свои записочки чуть не при каждом указе консистории, обидно за вас и больно за саму себя, потому что я переписывала вам рапорты и разные другие бумаги по этому печальному делу, не зная того, что оно было нечисто. Простите меня за это. Но, что я права, в этом могут все удостоверить: и отец Михаил, хорошо знающий историю поступления отца Павла в село Архангельское, и сам отец Павел, за поступление на это место со взятием за себя бедной сиротки, а не дочери благочинного Малинина столь жестоко пострадавший. Не угодно ли вам выслушать всю эту печальную историю от начала до конца?
– Милая Сонечка! Ты знаешь, что я вовсе не злой человек и, если в чем неумышленно погрешил против отца Павла, охотно попрошу у него братского в том прощения.
– Действительно, – сказал я в эту пору, – во всей этой истории видна интрига Юса, озлобившегося на отца Павла за то, что он не женился на дочери благочинного отца Малинина, которую прочили за священника в Архангельское, и что он счел бесчестным и унизительным для себя уплатить ему по расписке те 50 рублей, которые обещал ему дать за хлопоты по его делу в консистории в случае своей женитьбы на Малининой. Рано или поздно, но дело это непременно вышло бы наружу само собою, но случай помог ему выйти в бытность нашу в Туле. Встретясь там с отцом Михаилом Ивановичем Троицким, отец Павел, не зная того, что он член консистории, рассказал ему все по совести.
– Признаюсь, я тут ничего не понимаю. Пожалуй, Юс в случае чего-нибудь недоброго для него на меня и свалит всю вину. Пожалуйста, расскажите мне всю эту историю, как она вам известна.
Мне то и нужно было. Я не поскупился на слова и рассказал благочинному все, что мне было известно об отце Павле, и постарался доказать ему, что все следственное дело об отце Павле им ведено было неправильно и что, если бы вести его как следует, отец Павел был бы оправдан.
– Так вы, в самом, деле, никогда у Юса 50 рублей не брали и не обещали ему дать за хлопоты после того, как решились взять за себя Юлию Ивановну, а не дочь Малинина? – спросил благочинный у отца Павла.
– Никогда, – ответил отец Павел.
– Простите же меня ради Бога по-братски, по-товарищески, – сказал снова благочинный и низко поклонился отцу Павлу. – Я ничего этого не знал. Я полагал, что вы обещали Юсу дать 50 рублей за ваше определение в Архангельское, а потом не захотели ему уплатить эту сумму. Я был только слепым орудием Юса по той печальной необходимости, что мы, благочинные, все до единого привыкли смотреть на людей, подобных Юсу, как на своих начальников: что нам прикажут и укажут, то мы и делаем беспрекословно. Вы видели, что самое первое мое предписание вам было написано рукою самого Юса. Точно так же и все следственное дело о вас мне продиктовано было им же. Теперь я понимаю, что вашей погибели искали и меня заставили толкать вас в пропасть. Еще раз прошу вас: простите меня. Даю вам честное слово, что отныне я сделаюсь вашим другом и братом и постараюсь загладить свою вину пред вами.
– Не только вам, но и самому Юсу я давно все простил, – сказал отец Павел.
Благочинный и отец Павел поцеловались в знак примирения. Я, между тем, поклоном поблагодарил дочь благочинного за то, что она так скоро сумела привести свое слово в исполнение.
– Благодарю Вас, отец Михаил, и тебя, Сонечка, – обратился к нам благочинный, – благодарю вас за то, что вы вывели меня из заблуждений насчет дела отца Павла.
– А какой, должно быть, нехороший человек этот благочинный Малинин, – сказала Сонечка. – Имея у себя одну только дочь, он не мог ее выдать замуж, как следует честному человеку, а вздумал прибегнуть к постыдному вымаливанию ей места у каких-то там служак, отбивая места у сирот. Смотрите, папаша: не вздумайте и вы когда-нибудь приискивать мне жениха и выпрашивать ему место ради меня. Как честный человек, говорю вам заранее, что я лучше век просижу в девицах, чем соглашусь на то, чтобы мой жених поступил на такое место, которое по праву должно принадлежать сиротам: по моему мнению, ничего не может быть постыднее, как отбить место у сирот при помощи затаривания Юса и подобных ему людей.
– Нет, дружок мой, – ответил ей отец, – я ручаюсь за себя, что до такой подлости я никогда не позволю себе дойти.
– Пример, папаша, заразителен. Ведь вот вы поддались же лжи и обману Юса. Что мудреного в том, что вас уговорят и место попросить.
– То правда, что я поддался обману в деле отца Павла; но это дело совершенно иное, чем просить место для твоего будущего жениха. То было дело моей службы. По службе мы невольно должны бываем делать то, что нам прикажут. Не сделай, как тебе приказывают или указывают, ну, и беда: сам смотри, как бы не подвели под штраф или выговор, а то и вовсе под суд. И когда только Бог даст, мы будем выведены из такого скверного положения – покорных слуг разных служак?!
– А вот теперь это скоро будет, – сказал я. – Слышно, что благочинные будут по выбору духовенства. Выборные благочинные, во всяком случае, будут ближе к духовенству, чем к консисторским служакам; больше будут служить делу и интересами духовенства, чем услуживать Юсу и подобным ему людям; скорее сделаются защитниками, чем невольными гонителями своих собратов.
– Это правда, но зато выборные благочинные скорее и сами будут попадать в беду, чем казенные.
В это время в стороне послышался звон бубенчиков, а через несколько минут мимо нас пронеслась лихая пара, на которой жена благочинного возвращалась домой. Не то с радостью, не то с трепетом почтеннейший отец благочинный сейчас же повернул назад, чтобы быть поскорее дома. За ним и мы все вернулись назад.
– Мамаша! – обратилась Сонечка к матери, едва успев с нею поздороваться.
– Знаете ли, какую новость я скажу Вам? Отец Павел ведь невинно пострадал по интригам Юса.
– А! Что, отец злочинный? – обратилась матушка к мужу. – Не говорила ли я тебе тысячу раз: не доверяйся ты слепо этому духу злобы, узнай хорошенько от самого отца Павла, что у него за счеты с Юсом, и не строчи своих доносов на молодого священника? Ты и слушать меня не хотел, все творил волю повелителя своего, а вместе и врага, при первом же удобном случае готового утопить тебя в грязи! Ну, и натворил!
Отец благочинный молчал. Такой тон речи для него не был новостью. Жена часто и во многом его сдерживала и даже нередко принимала его в свои руки, когда видела, что он затеял какое-нибудь дело не совсем добросовестно из-за одного только угождения кому-либо. Она была женщина прямая и очень добрая; она терпеть не могла ни ябедничества и унижения, ни начальнического форса; поэтому-то она часто поступала с мужем очень нецеремонно и заставляла его делать то, чего бы ему иногда не хотелось делать.
Наутро мы отправились в Архангельское и, разумеется, были встречены там с великою радостью со стороны Юлии Ивановны, которая уже истомилась долгим ожиданием возвращения своего мужа.
* * *
Прошло уже 12 лет с тех пор, как отец Павел вышел из-под начала. Благодаря вниманию покойного Михаила Ивановича Троицкого и бывшего его недруга – благочинного он ни разу после того не подвергался никаким особым нападками на него Юса или кого-либо из других подобных служак. Но позор, который на него был наложен подначальством, так и остался при нем, и, конечно, пятно этого бесчестия не смоется с него никогда. Хотя бы потом, по ходатайству епархиального начальства, высшим начальством и дозволено было подначальство его не считать препятствием к наградам, – это не много принесет ему пользы; в окружающих его людях всё себе будет жить кличка «под началом побывал!» Приятно ли целый век слышать эту кличку ни за что, ни про что? А вред от этого подначальства делу пастырского служения? Отец Павел, конечно, доселе еще трудится на поприще своего служения и трудится честно, усердно; но той энергии, с какою он прежде брался за всякое дело, той уверенности в себе и правоте своих действий, какие он имел прежде, – увы! – всего этого давно нет, все это погибло! Упавший дух его теперь ничто не поднимет, а это большая потеря для дела его служения.

* * *
Тульские епархиальные ведомости. 1877. № 14. С. 44–67.
Простите! (фр.)
Не один Дарвин, но и другие составляли подобные теории. Бюхнер, например, говорит: «Из первобытной тины вечных атомов материи частью случайно, частью по необходимости, чрез скучивание материи развилась первая органическая ячейка: из нее возникли сперва растительные, а потом животные формы, которые посредством бесконечных метаморфоз, развились наконец в обезьян: а от них произошел человек». (См. выписку из Бюхнера в III отд. «Простой речи о мудреных вещах» Погодина, стр. 178–179 по изд. 1875 г.) Более же известна теория Дарвина, который, однако, сам от нее отступился.
См. «Простая речь о мудреных вещах», III отд., с. 40 и «Происхождение человека» Дарвина, т. II, с. 434. Прежде Дарвин утверждал, что человек произошел от обезьяны и обезьяна есть его прародитель, а потом пришел к тому заключению, что обезьяна есть только сородич человека, потому что человек будто бы произошел от четвероногого зверя, который, по его словам, породил древнего человека и обезьяну и сам исчез с лица земли, так что и представителя его прежнего рода не осталось между животными.
Крайний предел (лат.)
Спешу оговориться, что читанные Александровским выдержки я подлинником привожу из самой статьи Буслаева, так как всего читанного запомнить буквально нельзя по самой бестолковости изложения «истории» Каспари.
К праотцам (лат.)
Молешотт, например, говорит: «Ничто не существует, кроме того, что может быть постигаемо телесными чувствами» {см. выписку из Молешотта у Погодина «Простая речь о мудреных вещах». Отд. III. С. 178).
Тульские епархиальные ведомости. 1878. № 3. С. 74–98; № 4. С. 109–127.
Николай Алексеевич Елагин был белевским предводителем дворянства и потому зимою жил в Белёве.
Предприятию нашему не суждено было осуществиться: Николай Алексеевич вскоре после того (11 февраля 1876 г.) неожиданно умер; Авдотья Петровна уехала в Дерпт к другому сыну (Василию) и там умерла (1 июня 1877 г.).
Псевдоним.
Имея в своей домашней библиотеке очень любопытную историю китайской империи Дюгальда 1774–1777 гг., приведу здесь некоторые свидетельства этой истории, составленной по китайским летописям, о первых императорах. О первом императоре Фо-хи говорится, между прочим, что он «научил своих подданных разводить домашний скот для употребления его в пищу и для заклания в жертву, повелел, чтобы женщины носили одежду, отличную от мужчин, и установил законы для брачного союза». О третьем императоре Хуань-тие говорится, что он «приказал построить дворец Хо-гунь, где Всевышнему Владыке неба принес жертву». О четвертом императоре Шой-Хоу сказано, что «в конце его царствования народ вздумал было вмешиваться в таинство священства: каждая семья хотела иметь собственных жертвоприносителей». Но пятый император Чу-Ань-Ю «отвратил это злоупотребление, узаконив, чтобы никто, кроме императора, не приносил торжественных жертв Господу неба». О шестом императоре Ти-Ко говорится, что он «Всевышнему небес Владыке поклонялся и служил с благоговением и ревностью», был очень добродетелен, но, нарушив закон Фо-хи, «первый ввел у китайцев многоженство, взяв за себя четырех жен». О сыне его, восьмом императоре Яо, говорится, что он «никогда не езжал по своей империи, не принеся прежде жертв Всевышнему Владыке неба». О десятом императоре Ю, вступившем на престол в 2217 г. до Р. Хр., говорится, что, издав закон о престолонаследии, он сделал и верховное священство наследственным в императорском доме: кроме императора, под опасением лишения жизни никому не позволялось исполнять должность верховного жреца (см. ч. 2. С. 2, 3, 8, 11, 13–15 и 22). О законоположениях Фо-хи, Ю и Яо см. у Голубинского «Умозрительное богословие». С. 228.
См.: «Китайская история» Дюгальда. Ч. 2. С. 125.
Голубинский Феодор, прот. Письмо о конечных причинах, в: Прибавления к творениям святых отцов. Ч. 5. М., 1847. С. 336.
См. «Китайская история» Дюгальда. Ч. 2. С. 125 и Голубинский Феодор, прот. Письмо о конечных причинах. С. 374.
«Китайская история» Дюгальда. Ч. 2. С. 125.
В справедливости этих слов я долго сомневался, однако же, это оказывается вполне верным: в июльской книжке «Душеполезного чтения» 1877 г. в статье «Поездка за границу» рассказывается еще не то: один, напр., пастор в Париже не счел нужным крестить своих детей, а лишь по достижении известного возраста ввел их в свою кирку вместо крещения.
Из вышеупомянутой статьи «Поездка за границу» видно, что бывшее в Париже в 1872 г. собрание представителей реформатской церкви в первом же своем заседании без возражения приняло то положение, что пастырство есть не священный сан, а просто должность (le pastoral est une fonction) и что поэтому как только пастор перестает исправлять свою должность, он не более как мирянин.
Архиепископ Калужский и Боровский Григорий (Миткевич; 1807 – † 1881).
Тульские епархиальные ведомости. 1878. № 10. С. 1 – 11; № 11. С. 341–351; № 13. С. 5–14; № 14. С. 49–54; № 15. С. 58–63.
Сестра (фр.)
Папа (фр.)
Недавно подобная же история случилась с ассирийским описанием потопа, найденном в Ниневии г. Смитом на 12 дощечках из обожженной глины, покрытых клинообразными письменами, относящимися к 660 г. до Р. Хр., и заключающих в себе копию с древнего вавилонского оригинала, сделанного в Эрехе около 1700 г. до Р. Хр. Как только были найдены эти дощечки, Генри Роулинсон заявил, что оригинал их писан около 6150 г. до Р. Хр., т. е. почти за 650 лет до сотворения мира по нашему летоисчислению, а Беросс составил хронологию, по которой оказалось, что оригинал был писан за 30 000 лет до Р. Хр., см.: Всемирная иллюстрация. 1873. № 212. С. 59 и 66.
Как бы; псевдо (лат.)
До чего иногда доходило неверие, особенно в лице философов XVIII века в их борьбе с христианством, трудно даже и поверить: были, например, философы, которые утверждали именем науки, будто «Христос не существовал исторически, а есть только астрономическое иносказание, равно и двенадцать апостолов обозначают лишь знаки зодиака» (см.: Домашняя беседа. 1873. Вып. 5. С. 143). Выступать на сцену с такого рода иносказаниями вопреки ясной исторической истине – что это, как не наглая ложь и самая постыдная клевета на ту самую науку, от имени которой провозглашаются за истину такие нелепости? Целый мир был свидетелем явления в Иудее Иисуса Христа и распространения Его учения апостолами; а тут вдруг от имени науки говорят, будто это астрономическое иносказание, а не историческая несомненная истина! Не ясное ли это безумие мнящих быть мудрыми?
Дорогая моя ученица (лат.).
Тульские епархиальные ведомости. 1880. № 1. С. 9–18; № 3. С. 65–74; № 4. С. 108–116; № 7. С. 219–230; № 10. С. 327–340; № 11. С. 355–366; № 13. С. 10–25; № 16. С. 98–113.
Под этим именем известен был один из второстепенных чиновников консистории, не пользовавшийся хорошей репутацией в среде духовенства.
Устав духовных консисторий существует в продаже в Москве, в синодальной книжной лавке; цена для всех доступная – не более 1 р. 50 к. с пересылкой. – Ред.
