- От составителя
- Из истории города Москвы
- I. Первое время Москвы
- 1. Начало Москвы. И. Забелин
- 2. Москва — этнографический центр Великороссии. В. Ключевский
- 3. Перенесение митрополичьей кафедры в Москву. В. Ключевский
- II. Архитектурное строительство старой Москвы
- 1. Каменные постройки. Ф. Горностаев
- 2. Храм Василия Блаженного. И. Забелин
- III. Жизнь старой Москвы по изображению иностранных путешественников. И. Забелин
- IV. 1812 год в Москве
- 1. Наполеон на Поклонной горе
- 2. Вступление французов в Москву
- 3. Наполеон в Москве
- 4. Бегство французов. Л. Толстой
- V. Московский университет
- 1. Значение Московского университета. П. Боборыкин
- 2. Историческая заметка. И. Машкова
- 3. Два профессора — Т.Н. Грановский (род. 1813 г., умер 1855 г.) и А.И. Чупров (род. 1842 г., умер 1908 г.). И. Тургенев, Кони и Амфитеатров
- 4. Из записок старого профессора. А. Чехов
- VI. Открытие памятника Пушкину (1880 г.)
- 1. Воспоминания участника торжеств. А. Кони
- 2. Речь Ф.М. Достоевского (в сокращении)
- VII. Московский Художественный театр
- 1. Театр правды. Т. Ардов
- 2. Чехов и Художественный театр. Н. Эфрос
- VII. Открытие памятника Гоголю
- 1. 26 апреля 1909 года. Р. М.
- 2. Речь кн.
- IX. Похороны С.А. Муромцева
- 1. Биография С.А. Муромцева
- 2. Отклик „Русских Ведомостей” на смерть Муромцева
- 3. Первоизбранник народа. Ф. Кошкин
- 4. Речь С.А. Муромцева при избрании председателем Думы
- 5. Похороны Муромцева
- X. „Русские Ведомости“
- 1. Историческая заметка
- 2. Легенды о „Русских Ведомостях“. Роман Кумов
- XI. Народный университет имени Шанявского
- 1. Исторический очерк. ”М. Г. Н. У. И. Ш.”
- 2. Необходимые сведения об университете имени Шанявского. Н. Здобонов
- Москва Белокаменная столица
- Москва. И. Забелин
- Москва. А. Пушкин
- Панорама Москвы. П. Бобрыкин
- Москва. Кн. Гамсун
- Московский Кремль ночью. Загоскин
- Быт Москвы
- Москва и Петербург. Н. Гоголь
- Нравится ли вам Москва? И. Щеглов
- Город. Р. Кумов
- На Трубной площади. А. Чехов
- Нравы московских девственных улиц. А. Левитов
- На Воробьевых горах. И. Щеглов
- Из жизни московского купечества. А. Чехов
- Пасхальная ночь в Москве. Р. С.
- Дитё. И. Щеглов
- Москва (Штрихи из студенческих воспоминаний). С. Пинус
От составителя
При составлении настоящего сборника составителя интересовала не та пестрая и неопределенная Москва, какая обычно выступает в справочниках и путеводителях, — Москва улиц, переулков, меблированных комнат, номеров трамвая, и т. д., а живая Москва — во всем ее народном своеобразии, как проявляется она в родной истории и современной жизни. В рамках, возможных для настоящего издания, составитель хотел отдельными штрихами из существующей литературы оживить перед читателями образ Москвы прежде всего, как воплотительницы высочайших русских общественных настроений и переживаний, начиная с глубокой старины, когда она собирала Русь и бережно сохраняла нежные зеленые ростки народного искусства, и кончая нашими днями, когда она избрала своим представителем в первую Государственную Думу С.А. Муромцева и через несколько лет поголовно шла за его гробом, как за гробом народного героя, открыла в своих стенах памятник великому скорбному изобразителю русской жизни Н.В. Гоголю, устроила знаменитый народный университет имени Шанявского, и т. д., и т. д. Это одинаково важно и для тех, кто имеет возможность лично осматривать Москву, и для тех, кто этой возможности не имеет, — так как это вводит читателя в ту единственную настоящую Москву, благодаря которой только и имеет значение географическая Москва, — в Москву духа, в Москву высокого идейного стремления и мужественного и стойкого его осуществления.
Составитель
Март 1914 года
С.-Петербург
Из истории города Москвы
I. Первое время Москвы
1. Начало Москвы. И. Забелин
„Приди ко мне, брате, в Москову!”…
„Буди, брате, ко мне на Москву!”
Таково первое и самое достопамятное летописное слово о Москве. С тем словом, Суздальский князь Юрий Владимирович Долгорукий посылал звать к себе на честный пир дорогого своего гостя и союзника, Северского князя Святослава Ольговича.
Достопамятный зов на честный пир в Москву, случайно записанный летописцами в повествовании о событиях 1147 года, служит в своих выражениях как бы провозвестником последующей истории, которая после бесконечных усобиц и всяческой земской розни только в Москве нашла себе доброе пристанище для устойчивого, сосредоточенного и могущественного развития русской народности.
„Приди ко мне в Москову! Буди ко мне на Москву!”
В этих немногих словах как бы пророчески обозначилась вся история Москвы, истинный смысл и существенный характер ее исторической заслуги. Москва тем и стала сильною и опередила других, что постоянно и неуклонно звала к себе разрозненные Русские земли на честный пир народного единства и крепкого государственного союза.
Итак, княжеская история Москвы начинается от первого упоминания о ней летописи в 1147 г. Но Московский и именно Кремлевский поселок существовал гораздо прежде появления в этих местах княжеского Рюрикова племени.
Глубокая древность здешнего поселенья утверждается больше всего случайно открытыми в 1847 году, при постройке здания Оружейной Палаты, и несколькими памятниками языческого времени. Это две большие серебряные шейные гривны или обручи, свитые в веревку, и две серебряные серьги-рясы, какие обыкновенно находят в древних курганах.
Эти находки должны относиться, по всему вероятию, к концу 9 или к началу 10-го столетия. Шейные гривны и серьги по достоинству металла и по своей величине и массивности выходят из ряда всех таких же предметов, какие доселе были открыты в курганах Московской области, что может указывать на особое богатство и знатность древних обитателей Кремлевской береговой горы.
Однако таких древнейших поселков, подобных Кремлевскому, в виде городищ, рассеяно по Русской земле и даже в Московской стороне великое множество. Все они исчезли и составляют теперь только предмет для археологических изысканий.
Почему же Кремлевский зародыш Москвы не только не исчез, но, несмотря на жестокие исторические напасти, разорения, опустошения огнем и мечом, остался на своем корню и развился не то что в большой город, а в могущественное государство.
Такие всемирно-исторические города, как Москва, зарождаются на своем месте не по прихоти какого-либо доброго и мудрого князя Юрья Владимировича, не по прихоти счастливого капризного случая, но силою причин и обстоятельств более высшего или более глубокого порядка, для очевидности всегда сокрытого в темной, мало еще разгаданной дали исторических народных связей и отношений, которые вынуждают и самих князей-строителей ставить именно здесь, на известном месте тот или другой город. Главным двигателем в создании таких городов является всегда народный промысл и торг, ищущий для своих целей добрых сподручных путей или доброго пристанища, и который, повинуясь естественным географическим путям и топографическим удобствам международного сообщения, всегда сам указывает, сам намечает, сам избирает место, где и устраивает узел своих работ и действий, именуемый городом.
Такой узел-город всегда существует до тех пор, пока существуют создавшие его потребности промысла и торга. Как скоро они исчезают или переменяют направление своих путей, так упадает, а иногда и совсем исчезает и созданный город.
Но если эти потребности остаются по-прежнему деятельными и живыми, то их узел-город, несмотря на жестокие исторические случайности, остается тоже всегда живым и деятельным. Разрушат, сожгут, истребят его, сотрут с лица земли, — он мало-помалу зарождается снова и опять живет и еще в большей красоте и славе. Истребят его на одном месте, он переносит свою жизнь на другое, но все в тех же окрестностях, где двигается создавший его промысл и торг.
Во всем мире все знаменитые и господствующие и до сих пор города нарождались и развивались силою указанных причин и обстоятельств. Наша русская страна, лежащая широкою равниною между северными и южными морями, с незапамятных для истории времен служила перекрестком в сношениях запада с востоком и севера с югом.
Естественно, что на торной и бойкой дороге сами собою в разных, наиболее удобных местах зарождались города, так сказать, станции и промышленные узлы, связывавшие в одно целое окрестные интересы и потребности.
Московское поселение гнездилось на перекрестном очень бойком пути всех внутренних, так сказать, серединных сношений древнего населения Русской Земли.
И. Забелин
2. Москва — этнографический центр Великороссии. В. Ключевский
Москву часто называют географическим центром Европейской России. Если взять Европейскую Россию в ее нынешних пределах, это название не окажется вполне точным ни в физическом, ни в этнографическом смысле: для того, чтобы быть действительным географическим центром Европейской России, Москве следовало бы стоять несколько восточнее и несколько южнее. Но надо представить себе, как размещена была масса русского населения, именно великорусского племени, в XIII и XIV вв. Колонизация скучивала это население в междуречье Оки и верхней Волги, и здесь население долго задерживалось насильственно, не имея возможности выходить отсюда ни в какую сторону. Расселению на север за Волгу мешало перерезывающее движение новгородской колонизации, пугавшей мирных переселенцев своими разбойничьими ватагами, которые распространяли новгородские пределы к востоку от Новгорода. Вольный город в те века высылал с Волхова разбойничьи шайки удальцов ушкуйников, которые на своих речных судах, ушкуях, грабили по верхней Волге и ее северным притокам, мешая своими разбоями свободному распространенно мирного населения в северном Заволжье. Паисий Ярославов в своей летописи Спасо-Каменного монастыря на Кубенском озере (XV в.) имел в виду именно эти XIII и XIV века, когда писал, что тогда еще не вся Заволжская земля была крещена и много было некрещенных людей: он хотел сказать, как скудно было там русское христианское население, с северо-востока, востока и юга скоплявшееся в междуречье русское население задерживалось господствовавшими там инородцами, мордвой и черемисой, а также разбойничавшими за Волгой вятчанами и, наконец, татарами; на запад и юго-запад русское население не могло распространяться, потому что с начала XIV в. там стояла уже объединившаяся Литва, готовясь к своему первому усиленному натиску на восточную Русь. Таким образом масса русского населения, скучившись в центральном междуречье, долго не имела выхода отсюда. Москва и возникла в средине пространства, на котором сосредоточивалось тогда наиболее густое русское население, т. е. в центре области тогдашнего распространения великорусского племени. Значит, Москву можно считать если не географическим, то этнографическим центром Руси, как эта Русь размещена была в XIV в. Это центральное положение Москвы прикрывало ее со всех сторон от внешних врагов; внешние удары падали на соседние княжества: Рязанское, Нижегородское, Ростовское, Ярославское, Смоленское, и очень редко достигали до Москвы. Благодаря такому прикрытию Московская область стала убежищем для окрайного русского населения, всюду страдавшего от внешних нападений. После татарского погрома более столетия, до первого Ольгердова нападения в 1368 г., Московская страна была, может быть, единственным краем северной Руси, не страдавшим или так мало страдавшим от вражеских опустошений; по крайней мере за все это время здесь, за исключением захватившего и Москву татарского нашествия 1293 г., не слышно по летописям о таких бедствиях. Столь редкий тогда покой вызвал даже обратное движение русской колонизации междуречья с В на З, из старых ростовских поселений в пустынные углы Московского княжества. Признаки этого поворота встречаем в житии пр. Сергия Радонежского. Отец его, богатый ростовский боярин Кирилл, обнищал от разорительных поездок со своим князем в Орду, от частых набегов татарских и других бедствий, бросил все и вместе с другими ростовцами переселился в глухой и мирный московский городок Радонеж. Около того же времени многие люди из ростовских городов и сел переселились в московские пределы. Сын Кирилла, решившись отречься от мира, уединился неподалеку от Радонежа в дремучем лесу скудоводного перевала с верхней Клязьмы в Дубну, Сестру и Волгу. Лет 15 прожил здесь преп. Сергий с немногими сподвижниками; но потом их лесное убежище быстро преобразилось: откуда-то нашло множество крестьян, исходили они те леса вдоль и поперек и начали садиться вокруг монастыря и невозбранно рубить леса, наставили починков, дворов и сел, устроили поля чистые и „исказили пустыню”, с грустью прибавляет биограф и сподвижник Сергия, описывая один из переливов сельского населения в Московскую область.

3. Перенесение митрополичьей кафедры в Москву. В. Ключевский
Самым важным успехом московского князя было то, что он приобрел своему стольному городу значение церковной столицы Руси. И в этом приобретении ему помогло географическое положение города Москвы. Татарским разгромом окончательно опустошена была старинная Киевская Русь, пустовавшая с половины XII в. Вслед за населением на север ушел и высший иерарх русской Церкви, киевский митрополит. Летописец рассказывает, что в 1299 г. митрополит Максим, не стерпев насилия татарского, собрался со всем своим клиросом и уехал из Киева во Владимир на Клязьму; тогда же и весь Киев город разбежался, добавляет летопись. Но остатки южнорусской паствы в то тяжелое время не менее, даже более прежнего нуждались в заботах высшего пастыря русской Церкви. Митрополит из Владимира должен был время от времени посещать южнорусские епархии. В эти поездки он останавливался на перепутье в городе Москве. Так, странствуя по Руси, проходя места и города, по выражению жития, часто бывал и подолгу живал в Москве преемник Максима митрополит Петр. Благодаря тому у него завязалась тесная дружба с князем Иваном Калитой, который правил Москвой еще при жизни старшего брата Юрия во время его частых отлучек. Оба они вместе заложили каменный соборный храм Успения в Москве. Может быть, святитель и не думал о перенесении митрополичьей кафедры с Клязьмы на берега Москвы. Город Москва принадлежал ко Владимирской епархии, архиереем которой был тот же митрополит со времени переселения на Клязьму. Бывая в Москве, митрополит Петр гостил у местного князя, жил в своем епархиальном городе, на старинном дворе кн. Юрия Долгорукого, откуда потом перешел на то место, где вскоре был заложен Успенский собор. Случилось так, что в этом городе владыку и застигла смерть (в 1326 г.). Но эта случайность стала заветом для дальнейших митрополитов. Преемник Петра Феогност уже не хотел жить во Владимире, поселился на новом митрополичьем подворье в Москве, у чудотворцева гроба в новопостроенном Успенском соборе. Так Москва стала церковной столицей Руси задолго прежде, чем сделалась столицей политической. Нити церковной жизни, далеко расходившиеся от митрополичьей кафедры по Русской земле, притягивали теперь ее части к Москве, а богатые материальные средства, которыми располагала тогда русская Церковь, стали стекаться в Москву, содействуя ее обогащению. Еще важнее было нравственное впечатление, произведенное этим перемещением митрополичьей кафедры на население северной Руси. Здесь с большим доверием стали относиться к московскому князю, полагая, что все его действия совершаются с благословения верховного святителя русской Церкви. След этого впечатления заметен в рассказе летописца. Повествуя о перенесении кафедры из Владимира в Москву, этот летописец замечает: „иным же князем многим немного сладостно бе, еже град Москва митрополита имяше в себе живуща”. Еще ярче выступает это нравственно-церковное впечатление в памятниках позднейшего времени. Митрополит Петр умер страдальцем за Русскую землю, путешествовал в Орду ходатайствовать за свою паству, много труда понес в своих заботах о пасомых. Церковь русская причислила его к сонму святых предстателей Русской земли, и русские люди клялись его именем уже в XIV в. Жизнь этого святителя описана его другом и современником, ростовским епископом Прохором. Этот биограф кратко и просто рассказывает о том, как скончался в Москве св. Петр в отсутствие кн. Ивана Калиты. В конце XIV или в начале XV в. один из преемников св. Петра серб Киприан написал более витиеватое жизнеописание святителя. Здесь встречаем уже другое описание его кончины: св. Петр умирает в присутствии Ивана Калиты, увещевает князя достроить основанный ими обоими соборный храм Успения Божией Матери и при этом святитель изрекает князю такое пророчество: „если, сын, меня послушаешь и храм Богородицы воздвигнешь и меня упокоишь в своем городе, то и сам прославишься более других князей, и прославятся сыны и внуки твои, и город этот славен будет среди всех городов русских, и святители станут жить в нем, и взойдут руки его на плеча врагов его, да и кости мои в нем положены будут“. Очевидно, Киприан заимствовал эту подробность, неизвестную Прохору, из народного сказания, успевшего сложиться под влиянием событий XIV в. Русское церковное общество стало сочувственно относиться к князю, действовавшему об руку с высшим пастырем русской Церкви. Это сочувствие церковного общества, может быть, всего более помогло московскому князю укрепить за собою национальное и нравственное значение в северной Руси.
II. Архитектурное строительство старой Москвы
1. Каменные постройки. Ф. Горностаев
(Сокращено)
„Яко аще мене, сыну, послушавши и храм Пречистыя Богородицы воздвигнеши во своем граде, и сам прославишися паче инех князей и сынове и внуцы твои в роды, и град сей славен будет во всех градех русских и святители поживут в нем и взыдут руки его на плеща врагов его и Бог прославится в нем, еще же и мои кости в нем положени будут”. Вот знаменательные слова св. Петра митрополита, сказанные им московскому удельному князю Ивану Даниловичу Калите в 1325 году. Эти слова предрекали князю и его роду великое княжение, а городу возвышение, как новой великокняжеской и митрополичьей столице.
Заложенный 4 августа 1326 года, московский Успенский собор был первым каменным храмом, как бы основным камнем для созидания могущества и величия мало заметного до того времени города.
Благоукрашение городов в древности составляли храмы и притом храмы каменные. — Вслед за сооружением и освящением 11 августа 1327 г. Успенского собора уже великокняжеская Москва украшается несколькими каменными храмами.
В каких-нибудь 18–19 лет бедная, „честная кротостию” Москва заботами великого князя и митрополита стала столичным городом, обладавшим видными произведениями монументального искусства.
Эта первоначальная Московская, еще областная, архитектура XIV и XV веков приближается к древней архитектуре Владимира и Суздаля.
Возможно, что тяготение Москвы к древним Владимиро-Суздальским формам обусловливалось, главным образом, стремлением подойти к церковным формам стольного города Владимира, в частности, к формам кафедральной митрополичьей церкви, — Владимирского Успенского собора. Видимо, Москва стремилась воссоздать облик прежней великокняжеской резиденции.
План ранних московских церквей очень прост. Это прямоугольник, почти квадрат, с четырьмя внутренними столбами и тремя примыкающими алтарными абсидами. Размер прямоугольника колеблется между 18–20 аршинами.
К сожалению, не осталось никаких сведений об архитектуре главнейшего московского собора, храма Успения, старейшего по времени, постройки 1326 года.
В 1470 году Московский Успенский собор погорел, один из его приделов от сильного огня совершенно рассыпался.
Филипп митрополит на личные свои средства, при помощи доброхотных дателей задумал выстроить новый собор, больше прежнего.
К постройке собора были приглашены московские мастера Кривцев и Мышкин, которые и заложили его весной 1472 года. Но, когда приступили к кладке верха, собор обрушился.
Разрушение Успенского собора произвело чрезвычайно тягостное впечатление на москвичей и опечалило всех. Надежда на московских мастеров исчезла. За дело постройки собора взялся сам князь, чем и положил начало огромной строительной деятельности, в которую внес переустройство чуть ли ни всех кремлевских церквей.
Время перестройки этих древнейших памятников совпало с появлением в Москве „фрязинов”, т. е. итальянцев, приглашенных Иваном III в конце XV века для исполнения задуманного им огромного переустройства столицы. Итальянцы произвели крупный переворот в московском строительном деле, образовав целую эпоху.
Неудача московских мастеров при сооружении Успенского собора, доведшая до катастрофы, заставила обратиться к более опытным мастерам, сначала к псковичам, как лучшим строителям на Руси в то время, а затем, за отказом последних, пришлось обратиться к иноземцам.
Посланный в Венецию дьяк, Семен Толбузин, встречается там с Аристотелем Фиоравенти (Фиоравенти 1415–1485 гг.), довольно известным итальянским строителем. Не без труда Толбузину удалось уговорить Фиоравенти ехать в далекую и малоизвестную Московию, куда он и приезжает вместе с сыном Андреем и с помощником Петром 26 апреля 1475 года.
С 1475 года в продолжение четырех лет Фиоравенти строит Московский собор.
Грандиозный и величественный Московский Успенский собор со времени своего сооружения до самого конца XVII века не переставал быть всюду предметом посильных подражаний.

Обширные работы фрязинов в Москве при Иоанне III, в эпоху возвышения ее на степень чуть не царственной столицы, привлекали волей или неволей чуть не всех мастеров России и являлись рассадником новых архитектурных пониманий.
Обветшавший каменный кремль, т. е. городовые стены, не годился для Москвы, как для оплота всей России от ослабевших, но еще грозных, татарских царств. Он должен был по воле Иоанна III превратиться в первоклассную европейски-оборудованную крепость, для сооружения которой были приглашены соотечественники Аристотеля Фиоравенти, так хорошо зарекомендовавшего себя постройкой Успенского собора.
Обширное городовое дело исподволь и осторожно было начато 19 июля 1485 года Антоном Фрязином.
Этот великолепный образчик итальянского крепостного зодчества в течение своего 400-летнего существования значительно видоизменен и утерял свойственный ему неприступный грозный боевой характер и итальянский стиль. Исчезли ров и река Неглинка, а с ними вместе исчезли все пруды, плотины и подъемные мосты. Каким-то чудом уцелел древнейший, самый первый московский каменный мост у Троицких ворот с отводной башней Кутафьей. Самый характер древних башен или стрельниц значительно видоизменен устройством над ними сложных каменных шатровых вышек, надстроенных над невысокими стрельницами в течение XVII века, с целью не укрепления, а украшения Кремля, как царской резиденции. Эти надстроенные башни и не видали неприятеля перед собой, если не считать Наполеона, велевшего взорвать их все.
Отбрасывая мысленно позднейшие добавки и восстановляя в воображении утраченные части, в Московском Кремле времени его сооружения мы встретим суровую твердыню, почти лишенную декоративных форм.
Походя внешностью на итальянский замок, Московский Кремль был переполнен множеством громоздящихся друг на друга, различных каменных и деревянных зданий с блестящими маковками и позлащенными главами церквей, что созидало чудную своеобразную картину русского города, не утерявшего ничуть своих типичных национальных черт от чужеземного характера ограды.
Вскоре, в виду условий климата и местных стратегических воззрений, Кремлевская ограда, это типичное итальянское сооружение, получает добавки в виде деревянных шатров над стрельницами и деревянных кровель над стенами, что придавало Московскому Кремлю, т. е. его ограде, типичный облик, свойственный тогдашним крепостям России.
Одновременно с сооружением стен и башен Московского Кремля, при Иоанне III началась замена деревянных дворцовых хором каменными палатами — парадными и „для житья”.
От перечисленных палатных дворцовых сооружений осталось очень немногое, но и сохранившееся значительно видоизменено.
Сооружением соборов, ограды Кремля и дворца не исчерпывается работа итальянцев в Москве. Растущий город со стороны посада потребовал сооружения новой, каменной ограды по границе Китай-города. Эту работу исполняет уже при юном Иоанне Грозном в 1534–1538 годах Фрязин Петрок Малый.
Тот же Петрок Малый в 1532 году строит огромную соборную звонницу в Московском Кремле для тысячепудового колокола. Эта звонница существует и поныне, но с очень большой переделкой.
С 1475 года по 1538 год, т. е. с Аристотеля Фиоравенти до Петрока Малого, включительно, в течение 63 лет не прерывалась работа итальянцев, много способствовавшая формированию московской архитектуры XVI и XVII века. Но и после Петрока Малого во многих зданиях видна еще работа безымянных итальянских мастеров, если не приписывать ее их ближайшим искусным подражателям из русских мастеров. При Иоанне Грозном в Москве, за Яузой уже существовала Новая Немецкая слобода. Надо думать, что среди населявших ее „немцев” немало было и итальянских мастеров, издавна знавших дорогу к богатой Московии.
Работы итальянцев в Москве производят целую эволюцию не только среди московских зодчих, но и на всей Руси. Москва была тем центром, где волей иль неволей сходились мастера со всей Руси для „Государева дела“. Здесь шла кипучая строительная деятельность. Каждый вносил свое и сам пользовался многим. Здесь созидались новые конструкции и новые строительные формы, дававшие возможность в „каменном деле“ выдвинуть новые комбинации храмовых форм.
Издревле на Руси наряду с освященными формами каменных храмов существовали в обширном поглощающем количестве деревянные храмы, в которых, как близких по технике к исконному строительному делу на Руси, рано проявились черты глубоко самобытных форм и взглядов, тесно связанных с привычными, веками выработанными, конструктивными приемами в зависимости от климатических условий. Несомненно, что даже первые деревянные храмы на Руси, несмотря на требуемую „освященность” типа, были далеки от первичных византийских форм каменного храма.
Древние деревянные храмы достигали гигантских размеров в высоту, — до 35 сажен.
В поисках новых форм для каменных храмов нужен был лишь толчок, направленный в сторону исконных деревянных форм, где свежесть неиспользованных бытовых мотивов давала большое поприще для новых каменных форм.
Таким толчком была постройка при царе Иоанне Грозном церкви Василия Блаженного.
Ф. Горностаев
2. Храм Василия Блаженного. И. Забелин
Соборный храм Покрова св. Богородицы (Василий Блаженный) служит как бы типическою чертою самой Москвы, особенною чертою самобытности и своеобразия, какими Москва, как старый русский город, вообще отличается от городов западной Европы. В своем роде это такое же, если еще не бо́льшее, московское старинное и притом народное диво, как Иван Великий, царь-колокол, царь-пушка. Западные путешественники и ученые исследователи истории зодчества, очень чуткие относительно всякой самобытности и оригинальности, давно уже оценили по достоинству этот замечательный памятник русского художества. Храм действительно производит впечатление особого дива и тем в большей степени, что вовсе не согласуется с установленными понятиями об архитектурных формах, какими обыкновенно воспитывается и развивается эстетически-образованный глаз: все в нем чудно, странно и на первый взгляд не совсем понятно.
Немецкий, например, путешественник Блозиус рассказывает, что храм Василия Блаженного, самый диковинный из всех (в России), для русского зодчества имеет почти такое же значение, как Кёльнский собор для древнегерманского.
„Все путешественники, — замечает он, — прямо или не прямо, но в один голос заявляют, что церковь производит впечатление изумительное, поражающее европейскую мысль. Когда я сам в первый раз неожиданно увидал это чудовище, то никак не мог опомниться и понять, что это такое: колоссальное растение, группа крутых скал или здание?… Рассмотревши, что действительно это церковь, и тут ничего не понимаешь, не видишь, сколько сторон у здания, где его лицо — фасад, сколько всех башен стоит в этой группе? Входишь, наконец, в храм (он вошел в боковой придел, где обыкновенно совершается богослужение), тесный, мрачный, в высшей степени неправильный, и окончательно теряешься в соображениях, каким образом ничтожное внутреннее пространство церкви вяжется с ее наружным объемом, на вид колоссальным и обширным. Чудище становится еще загадочнее!”
Присмотревшись к странным, своеобразным формам постройки и заметив во втором ярусе некоторую симметрию в расположении ее частей, путешественник все еще думал, что это настоящий лабиринт умышленного беспорядка. „Только взобравшись наверх, — говорит он, — начинаешь мало-помалу понимать, что все части храма расположены симметрично, что четыре большие башни стоят вокруг среднего, главного здания правильно, соответственно странам света: на восток и запад, на север и юг; что в их промежутках расположены меньшие башни; что четыре пирамидальные башенки на западной стороне точно также размещены симметрично и покрывают крылечные входы”. Вообще чертеж второго яруса, по словам автора, уже достаточно обнаруживает, что все первоначальные представления о недостатке симметрии и порядка в расположении частей оказываются преждевременными и напрасными. После подробного осмотра всей постройки, автор убедился, наконец, что это не один храм, не одна церковь, а собрание церквей, целая группа, в которой и все целое, и каждая часть в отдельности, устроены одинаково.

„Вместо запутанного, нестройного лабиринта, — оканчивает путешественник, — это ультра-национальное архитектурное произведение являет полный смысла образцовый порядок и правильность”.
Признав в устройстве храма строгую целесообразность и порядок, автор удивляется только странности замысла всей постройки, и удивляется потому, почему и мы, теперешние русские, удивляемся своеобразию этого памятника: мы вообще мало знаем свою старину и древность.
Храм Василия Блаженного может почитаться типом древнерусских крестчатых и круглых соборных деревянных церквей, форма которых, именно форма храмовой группы, в древности была любимым образцом и была выработана замыслом самого народа, его религиозными потребностями и своеобычными понятиями о красоте Божьего храма, без всякого посредника каких-либо иноземных руководительств и влияний.
И. Забелин
III. Жизнь старой Москвы по изображению иностранных путешественников. И. Забелин
В конце XV и в начале ХVI столетия, в Москву приезжали иностранцы, которые описывали свои путешествия и оставили несколько сведений и о самой Москве. Первые сведения, относящиеся к концу ХV века, весьма кратки. О Кремле-замке они говорят, что он расположен на холме и со всех сторон окружен рощами; стало быть, и вся Москва была расположена, так сказать, в лесу. Все строения в городе были деревянные, не исключая и крепости, говорит Контарини, бывший в Москве в 1473 г., когда еще Кремль стоял в старых, столетних каменных стенах, быть может от ветхости по местам обделанных деревянными. Посреди города, говорят путешественники, протекает река, через которую для сообщения построено несколько мостов. Все иностранцы удивлялись необыкновенному изобилию и дешевизне в Москве жизненных припасов, особенно так называемой живности, то есть мяса и птиц. Говядину продавали не на вес, а по глазомеру, и кусок в 3 фунта стоил не более деньги или полукопейки серебра. А золотник серебра равнялся с небольшим трем копейкам. Хлеб в зерне был также неимоверно дешев. Бочку зерна, которая именовалась оковом и заключала четыре четверти, покупали за гривну и дорого, если за 5 алтын, то есть 15 коп. Отношение московских цен к ценам других местностей можно видеть из того обстоятельства, что во время страшного голода по всей Московской области в 1423 г. в Москве продавали бочку-оков хлеба за 1 р., в Костроме за 2 р., в Нижнем за 6 р. Итальянцы особенно дивились нашей зиме. Стужа здесь так сильна, говорили они, что самые даже реки замерзают, что жителям приходится топить в своих домах целые девять месяцев в году. Hо они заметили, что в это именно время и поднимается особое движение русской жизни. Летние реки и речки без мостов; болота и лесные грязи зимою повсюду становились твердым и надежным мостом, который отовсюду же поднимал людей и вызывал предприимчивость торговую и промышленную. Тогда со всех сторон в Москву тянулись бесконечные обозы с запасами из деревень для вотчинников-бояр и других господ и с запасами крестьянскими на продажу. Московский торг в то время перебирался на Москву-реку, которая в те времена и замерзала раньше, чем теперь, обыкновенно в конце октября. На крепком льду купцы ставили свои лавки с разными товарами, и таким образом устраивался большой рынок или ярмарка, так что в городе торговля почти совсем прекращалась. Купцы объясняли, что торг на льду Москвы-реки был тем хорош, что место было защищено от особой стужи и от ветров высокими берегами и городским строением, а к тому же с навезенным зимним товаром негде было лучше и расположиться, как на этой обширной продольной площади, по самой средине города.
На этот рынок ежедневно в продолжение всей зимы привозили хлеб, мясо, свиней, дрова, сено, всякие огородные и садовые овощи и всякие надобные припасы. Мясо и разнородная живность больше всего привозились к Николину дню. В Москву во время зимы съезжалось также множество купцов из Германии и Польши для покупки различных мехов, так называемой мягкой рухляди, соболей, бобров, горностаев, белок, волков и пр. Торговля мягкою рухлядью тоже была торговля по преимуществу зимняя, и потому в это время в Москву же отовсюду, особенно с севера, тянулись длинные обозы и с этим дорогим товаром. Итальянцы обратили внимание и на тогдашние зимние повозки, крытые сани. С виду такая повозка походила на дом, запрягалась в одну лошадь и могла поместить лишь одного человека с необходимым количеством дорожного запаса. Езда была необычайно скорая.
Кроме того, на Москве-реке в зимнее время бывали конские ристания и другие увеселения (непременно кулачные бои); но нередко участвующие в сих игрищах, замечает Контарини, ломают себе шеи.
По отзывам иноземцев, москвитяне, как мужчины, так и женщины, вообще были красивы собою, но были весьма грубы и невежественны. Главнейшим их пороком было пьянство, которым они даже похвалялись и презирали трезвых. Виноградного вина у них не было, то есть не было его в народном употреблении. Вместо вина они пили мед и пиво. Мед в особенности нравился иноземцам, не хуже дорогого вина. С торговыми людьми всякие дела можно было делать только до полудня, когда они проводили свое время на рынке; потом они отправлялись в харчевни или домой есть и пить. После обеда, по обычаю, спали, и остальное время употребляли уже на домашние дела. Спать после обеда повелевал еще Владимир Мономах, говоря, что в это время и вся природа отдыхает. Это был всеобщий древний русский обычай. Движение в городах в это время прекращалось, и они становились мертвыми.
Спустя 50 лет, к этим сведениям иностранцы прибавляют новые и более подробные.
Прежде всего они замечают, что Москва находится, если не в Азии, то на самом краю Европы, очень близко от Азии. Город деревянный и очень обширный, а издали представляется еще пространнее от множества садов и огородов, которые находятся почти при каждом доме и служат для удовольствия хозяев, а вместе с тем доставляют потребное количество плодов и овощей. Хоромы бояр и знатных людей были обширны и высоки. Дома рядовичей не были столь огромны, но и не слишком малы и внутри довольно просторны; каждый разделялся на три комнаты: гостиную, спальную и кухню. Было множество и простых деревенских изб, даже курных. Каждый двор от соседей был огорожен забором. Вообще, все постройки сооружались из бревен чрезвычайно крепко, дешево и скоро. Число домов, по перечислению 1520 г., иностранцам казалось невероятным: их считалось 41.500.

Город был раскинут свободно и не имел еще определенной городской черты, то есть не был укреплен стенами, рвом и башнями. Стоявшие в окрестности монастыри издали сливались в одну общую массу с городскими постройками, так что обширность Москвы и в то время представлялась в тех же чертах, как она существует теперь.
Кремль, весьма красивый замок, в это время был уже обнесен кирпичными стенами с башнями и бойницами и защищен со стороны городского торга обширным рвом; с другой стороны — Москвою-рекою, а с третьей — Неглинною, которая у местности теперешней Иверской площади была запружена в целое озеро, наполнявшее водою и упомянутый ров. На ней по течению стояло множество мельниц. Сообщение по городу особенно осенью и весною очень затруднялось по случаю непроходимой грязи, почему улицы и площади были покрыты деревянными мостовыми. Улицы на ночь запирались решетками из бревен. Пропускали только знаемых и почтенных, которых даже провожали до дому, а неизвестных забирали под караул. Вообще, улиц было много, но они прерывались большими промежутками, открытыми полями. В каждом почти квартале или слободе существовала своя церковь.
В окрестных полях, принадлежавших городу, водилось необычайное множество диких коз и зайцев; охота на них была строго воспрещена, потому что составляла особую потеху самого государя и приближенных бояр.
Москвичи, главным образом торговцы, по отзыву Немецкого посла Герберштейна, почитались хитрее и лживее всех остальных русских. В особенности на них нельзя было полагаться в исполнении договоров и условий. Они сами знали за собою этот грех и, когда случились сделки с иностранцами, то для возбуждения к себе бо́льшего доверия, называли себя не москвичами, а иногородными, приезжими купцами. Уменье обыграть дурачка — вот в чем заключалось торговое искусство тогдашней Москвы, и вот где коренились все обманы и хитрости, о которых говорят иностранцы. Из числа обманов первое место и занимал запрос, или, так сказать, испытание покупателя в его опытности или знакомстве с предметом купли, а введение в торговый обычай запроса, по всему вероятию, зависело от свойств главнейшего в то время московского товара, именно дорогих мехов, достоинство которых было так различно, что надлежащая цена им могла установиться только по доброй, так сказать, охотничей воле покупателя и продавца. Произвол и своенравие в этом случае господствовали в полной силе. Так, например, собольи меха, продававшиеся обыкновенно сороками, ценились от 40 до 400 р. за сорок штук и выше. Такое распределение достоинства меха давало полную возможность и вовсе не обманное основание ставить запрос в этой торговле на первом месте, тем более, что и сам продавец в иных случаях никак не мог угадать настоящей цены такому своенравному товару, который и добывался не рукодельем, а только Божиею милостию и счастьем охотника. Это до чрезвычайности неуловимая цена меховому товару, доставлявшая широкую возможность вести торговую игру в дурачки, приносила Москве очень много выгод.
Случалось иногда, что иностранный купец, привезши в Москву товар и продавши его с выгодою, мог обратно купить тот же самый свой товар по такой пониженной цене, что охотно увозил его домой и продавал еще с большею выгодою.
Привозимый товар подвергался осмотру и оценке для взятия пошлин, но, кроме того, если вещи были очень дорогие, редкие или потребные для великого князя, продавать их воспрещалось до того времени, пока не будут показаны во дворце. По этому случаю происходила иногда долгая проволочка, очень стеснявшая купцов. Делалось это с тою целью, чтобы самые лучшие товары всегда находились только в государевой казне, потому что из казны товар шел в награды и подарки своим людям за службу, а также и в посольские дары. Великий князь имел обычай дарить только то, чего нельзя было достать на рынке ни за какие деньги.
Не всякий купец из иностранных мог приехать в Москву свободно, прямо от своего лица. Таким правом пользовались только поляки и литовцы. Шведам и немцам позволялось торговать только в Новгороде; туркам и татарам — только на ярмарке Холопьего городка, на устье Малаги, где собирались и все прочие иноземцы. Но иностранные купцы всех земель, принятые под покровительство какого-либо посольства, могли с тем посольством свободно и беспошлинно ехать в Москву и торговать от своего лица. Это был старый обычай, которым все и пользовались. Не зная хорошо страны, каждый иностранец, приезжая в Москву, прежде всего попадал в руки хитрых пройдох со стороны гостиного двора или великокняжеского дворянства, дьячества и подьячества. Поэтому все неодобрительные отзывы заезжих гостей о московских и вообще русских нравах нельзя принимать огульно в полной истине.
Многие из иностранных покупателей распространяли уверение, что все русские плуты, все коварны и лживы и не надежны ни в какой сделке. Приезжавший в Москву от римского императора посол Варкочь так говорит об этом: „Некоторые писатели изображают москвитян непостоянными и грубыми до варварства, а потому и советуют не вступать с ними ни в какие дела, но я должен заметить, что они имеют тонкий, сметливый ум и отличаются особенной приверженностью к христианской церкви, что доказывается уже тем, что клятвопреступничество нигде не наказывают так строго, как у них. По моему мнению, они могут быть для нас весьма полезными союзниками, хотя, с другой стороны, могут и причинить нам большой вред, если того захотят”.
Многие иностранцы почитали, и весьма справедливо, серединою или центром Москвы Китай-город, говоря, что подле него находится крепость или царский дворец, отделенный от него стенами и глубоким рвом.
Теперь послушаем, что рассказывает о нем очевидец, бывший в Москве в начале XVII столетия, еще до ее разорения в Смутное время.
„Трудно вообразить, какое множество там лавок, коих считается до 40.000; какой везде порядок, ибо для каждого рода товаров, для каждого ремесленника, самого ничтожного, есть особый ряд лавок; даже цирюльники бреют в своем ряду”… Петрей к этому прибавляет, что Китайский торг или рынок представлял четыреугольную площадь с выстроенными из кирпича лавками, которые были расположены улицами, рядами, по 20 с каждой стороны четыреугольника.
„На каждой улице встречаются особенные и разные товары, так что на одной из них совсем не те, какие на других. На одной можно покупать разные пряности, благовония; на другой — разное сукно и полотно всяких цветов и красок, какие только можно назвать; на третьей — разного рода бархат, камку, атлас и шелк; на четвертой — серебряные и золотые вещи; на пятой — жемчуг, драгоценные вещи и равные украшения, золотые и серебряные; также точно и дальше, так что на всякой улице особенный товар”.
Спустя лет 60 после московской разрухи, другой иностранец, Рейтенфельс, описывает московский торг следующим образом:
„Красная площадь перед Кремлем и другие места, поблизости к ней, целый день кишат народом. В торговых рядах каждый товар продается в особой лавке… Для каждого рода товаров назначено особое место, в том числе для продажи старого платья и для низеньких лавочек брадобреев. Все это устроено так умно, что покупщику, из множества однородных вещей, вместе расположенных, весьма легко выбирать самую лучшую”.
„На рынке стоят всегда до 200 извозчиков, то есть хлопцев с одинакими санями, запряженными в одну лошадь. Кто захочет быть в отдаленной части города, тому лучше нанять извозчика, чем идти пешком: за грош он скачет как бешеный, поминутно крича во все горло: гись, гись, гись (берегись), — и народ расступается в обе стороны. В известных местах извозчик останавливается и не везет далее, пока не получит другого гроша. Этим способом он снискивает себе пропитание и не мало платит своему государю. Все их имение — лошадь и повозка. В езде они так упрямы, что, встречаясь один с другим, скорее готовы сломать свои колеса, чем уступить один другому дорогу, если только в это дело не вмешаются седоки”.
Облик народной толпы на улицах относительно одежды в древней Москве отличался от нынешнего. Покрой одежды был одинаков и у богатых и у бедных — все отличие заключалось в достоинстве тканей. Богатые носили дорогое сукно и шелк, простой народ — сермягу, армячину и другие сукна деревенского изделия.
И. Забелин
IV. 1812 год в Москве
1. Наполеон на Поклонной горе
1-го сентября в ночь отдан приказ Кутузова об отступлении русских войск через Москву на Рязанскую дорогу.
Первые войска двинулись в ночь. Войска, шедшие ночью, не торопились и двигались медленно и степенно; но на рассвете двигавшиеся войска, подходя к Дорогомиловскому мосту, увидали впереди себя, на другой стороне, теснящиеся, спешащие по мосту и на той стороне поднимающиеся и запружающие улицы и переулки, а позади себя напирающие, бесконечные массы войск. И беспричинная поспешность и тревога овладели войсками. Все бросилось вперед к мосту, на мост, в броды и в лодки. Кутузов велел обвезти себя задними улицами на ту сторону Москвы.
К 10-ти часам утра 2-го сентября в дорогомиловском предместье оставались на просторе одни войска арьергарда. Армия была уже на той стороне Москвы и за Москвою.
В это же время, в 10 часов утра 2-го сентября, Наполеон стоял между своими войсками на Поклонной горе и смотрел на открывавшееся перед ним зрелище. Начиная с 26-го августа и по 2-е сентября, от Бородинского сражения и до вступления неприятеля в Москву, во все дни этой тревожной, этой памятной недели, стояла та необычайная, всегда удивляющая людей, осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит в редком, чистом воздухе, так что глаза режет; когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух; когда ночи даже бывают теплые, и когда в темных, теплых ночах этих с неба беспрестанно, пугая и радуя, сыплются золотые звезды.
1-го сентября в 10 часов утра была такая погода.
Блеск утра был волшебный. Москва с Поклонной горы расстилалась просторно с своей рекой, своими садами и церквами и, казалось, жила своею жизнью, трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца.
При виде странного города с невиданными формами необыкновенной архитектуры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное любопытство, которое испытывают люди при виде форм не знающей о них, чуждой жизни. Очевидно, город этот жил всеми силами своей жизни. По тем неопределимым признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно узнается живое тело от мертвого, Наполеон с Поклонной горы видел трепетание жизни в городе и чувствовал как бы дыхание этого большого и красивого тела.
Всякий русский человек, глядя на Москву, чувствует, что она мать; всякий иностранец, глядя на нее и не зная ее материнского значения, должен чувствовать женственный характер этого города; и Наполеон чувствовал его.
— Cette ville asiatique aux innombrables églises, Moscou la sainte. La voilà donc enfin, cette fameuse ville! Il était temps a[1] — сказал Наполеон и, слезши с лошади, велел разложить перед собою план этой Moscou и подозвал переводчика Lelorme d’Ideville. „Une ville occurée par l’ennemi ressemble à une fille qui a perdu son honneur”[2], думал он. И с этой точки зрения он смотрел на лежавшую перед ним, невиданную еще им, восточную красавицу. Ему странно было самому, что, наконец, свершилось его давнишнее, казавшееся ему невозможным, желание. В ясном утреннем свете он смотрел то на город, то на план, проверяя подробности этого города, и уверенность обладания волновала и ужасала его.
„Но разве могло быть иначе?” подумал он. „Вот она — эта столица — у моих ног, ожидая судьбы своей. Где теперь Александр, и что думает он? Странный, красивый, величественный город! И странная и величественная эта минута! В каком свете представляюсь я им?” думал он о своих войсках. „Вот она — награда — для всех этих маловерных (думал он, оглядываясь на приближенных и на подходившие и строившиеся войска). Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта древняя столица des Czars. Mais ma clémence est toujours prompte a descendre sur les vaincus[3]. Я должен быть великодушен и истинно велик… Но нет, это правда, что я в Москве (вдруг приходило ему в голову). Однако вот она лежит у моих ног, играя и дрожа золотыми куполами и крестами в лучах солнца. Но я пощажу ее. На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия… Александр больнее всего поймет именно это, я знаю его. (Наполеону казалось, что главное значение того, что совершалось, заключалось в личной борьбе его с Александром). С высот Кремля — да, это Кремль, да! — я дам им законы справедливости, я покажу им значение истинной цивилизации, я заставлю поколения бояр с любовью поминать имя своего завоевателя. Я скажу депутации, что я не хочу войны; что я вел войну только с ложной политикой их Двора; что я люблю и уважаю Александра, и что приму условия мира в Москве, достойные меня и моих народов. Я не хочу воспользоваться счастьем войны для унижения уважаемого государя. „Бояре!” скажу я им, „я не хочу войны, а хочу мира и благоденствия всех моих подданных”. Впрочем, я знаю, что присутствие их воодушевит меня, и я скажу им, как я всегда говорю: ясно, торжественно и велико. Но неужели это правда, что я в Москве? Да, вот она!”
— Qu’on m’amène les boyards[4], — обратился он к свите.
Генерал с блестящей свитой тотчас же поскакал за боярами.
Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте на Поклонной горе, ожидая депутации. Речь его к боярам уже ясно сложилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства и того величия, которое понимал Наполеон.
Тот тон великодушия, в котором намерен был действовать в Москве Наполеон, увлек его самого. Он в воображении своем назначил дни réunion dans le palais des Czars[5], где должны были сходиться русские вельможи с вельможами французского императора. Он назначал мысленно губернатора, такого, который бы сумел привлечь к себе население. Узнав о том, что в Москве много богоугодных заведений, он в воображении своем решал, что все эти заведения будут осыпаны его милостями. Он думал, что как в Африке надо было сидеть в бурнусе в мечети, так и в Москве надо было быть милостивым, как цари. И, чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз, не могущий себе вообразить ничего чувствительного без упоминания о та chère, та tendre, та pauvre mère[6], он решил, что на всех этих заведениях он велит написать большими буквами: „Etablissement dédié à ma chère Mère”. Нет, просто „Maison de ma Mère”[7], решил он сам с собой. „Но неужели я в Москве? Да, вот она передо мной; но что же так долго не является депутация города?” думал он.
Между тем в задах свиты императора происходило шепотом взволнованное совещание между его генералами и маршалами. Посланные за депутацией вернулись с известием, что Москва пуста, что все уехали и ушли из нее. Лица совещавшихся были бледны и взволнованны. Не то, что Москва была оставлена жителями (как ни важно казалось это событие) пугало их, но их пугало то, каким образом объявить о том императору, каким образом, не ставя его величество в то страшное, называемое французами ridicule[8], положение, объявить ему, что он напрасно ждал бояр так долго, что есть толпы пьяных, но никого больше. Одни говорили, что надо было во что бы то ни стало собрать хоть какую-нибудь депутацию; другие оспаривали это мнение и утверждали, что надо, осторожно и умно приготовив императора, объявить ему правду.
— Il faudra le lui dire tout de même…[9] — говорили господа свиты. — Mais, messieurs…
Положение было тем тяжелее, что император, обдумывая свои планы великодушия, терпеливо ходил взад и вперед перед планом, посматривая изредка из-под руки по дороге в Москву и весело и гордо улыбаясь.
— Mais c’est impossible…[10] — пожимая плечами, говорили господа свиты, не решаясь выговорить подразумеваемое страшное слово: le ridicule…
Между тем император, уставши от тщетного ожидания и своим актерским чутьем чувствуя, что величественная минута, продолжаясь слишком долго, начинает терять свою величественность, подал рукой знак. Раздался одинокий выстрел сигнальной пушки, и войска, с разных сторон обложившие Москву, двинулись в Москву — в Тверскую, Калужскую и Дорогомиловскую заставы. Быстрее и быстрее, перегоняя одни других, беглым шагом и рысью, двигались войска, скрываясь в поднимаемых ими облаках пыли и оглашая воздух сливающимися гулами криков.
Увлеченный движением войск, Наполеон доехал с войсками до Дорогомиловской заставы, но там опять остановился и, слезши с лошади, долго ходил у Камер-Коллежского вала, ожидая депутации.
Москва между тем была пуста. В ней были еще люди, в ней оставалась еще пятидесятая часть всех бывших прежде жителей, но она была пуста. Она была пуста, как бывает пуст домирающий, обезматочивший улей.
В разных углах Москвы только бессмысленно еще шевелились люди, соблюдая старые привычки и не понимая того, что они делали.
Когда Наполеону с должною осторожностью было объявлено, что Москва пуста, он сердито взглянул на доносившего об этом и, отвернувшись, продолжал ходить молча.
— Подать экипаж, — сказал он.
Он сел в карету рядом с дежурным адъютантом и поехал в предместье. „Moscou déserte! Quel événement invraisemblable”[11], говорил он сам с собой.
Он не поехал в город, а остановился на постоялом дворе дорогомиловского предместья.
Le coup de théâtre avait raté[12].
2. Вступление французов в Москву
В 4-м часу пополудни войска Мюрата вступали в Москву. Впереди ехал отряд виртембергских гусар, позади верхом, с большой свитой, ехал сам неаполитанский король.
Около середины Арбата, близ Николы Явленного, Мюрат остановился, ожидая известия от передового отряда о том, в каком положении находилась городская крепость — le Kremlin.
Вокруг Мюрата собралась небольшая кучка людей из остававшихся в Москве жителей. Все с робким недоумением смотрели на странного, изукрашенного перьями и золотом длинноволосого начальника.
— Что ж, это сам, что ли, царь ихний? Ничего! — слышались тихие голоса.
Переводчик подъехал к кучке народа.
— Шапку-то сними… шапку-то, — заговорили в толпе, обращаясь друг к другу.
Переводчик обратился к одному старому дворнику и спросил, далеко ли до Кремля. Дворник, прислушиваясь с недоумением к чуждому ему польскому акценту и не признавая звуки говора переводчика за русскую речь, не понимал, что ему говорили и прятался за других.
Мюрат подвинулся к переводчику и велел спросить, где русские войска. Один из русских людей понял, чего у него спрашивали, и несколько голосов вдруг стали отвечать переводчику. Французский офицер из передового отряда подъехал к Мюрату и доложил, что ворота в крепость заделаны и что, вероятно, там засада. „Хорошо”, сказал Мюрат и, обратившись к одному из господ своей свиты, приказал выдвинуть четыре легких орудия и обстрелять ворота.
Артиллерия на рысях выехала из-за колонны, шедшей за Мюратом, и поехала по Арбату. Спустившись до конца Воздвиженки, артиллерия остановилась и выстроилась на площади. Несколько французских офицеров распоряжались пушками, расстанавливая их, и смотрели в Кремль в зрительную трубу.
В Кремле раздавался благовест к вечерне, и этот звон смущал французов. Они предполагали, что это был призыв к оружию. Несколько человек пехотных солдат бежали к Кутафьевским воротам. В воротах лежали бревна и тесовые щиты. Два ружейные выстрела раздались из-под ворот, как только офицер с командой стал подбегать к ним. Генерал, стоявший у пушек, крикнул офицеру командные слова, и офицер с солдатом побежал назад.
Послышалось еще три выстрела из ворот.
Один выстрел задел в ногу французского солдата, и странный крик немногих голосов послышался из-за щитов. На лицах французских генерала, офицеров и солдат одновременно, как по команде, прежнее выражение веселости и спокойствия заменит упорным, сосредоточенным выражением готовности на борьбу и страдания. Для них всех, начиная от маршала и до последнего солдата, это место не было Воздвиженка, Моховая, Кутафья и Троицкие ворота, а это была новая местность нового поля, вероятно, кровопролитного сражения. И все приготовились к этому сражению. Крики из ворот затихли. Орудия были выдвинуты. Артиллеристы сдули нагоревшие пальники. Офицер скомандовал: feu[13], и два свистящие звука жестянок раздались один за другим. Картечные пули затрещали по камню ворот, бревнам и щитам, и два облака дыма заколебались на площади.
Несколько мгновений после того, как затихли перекаты выстрелов по каменному Кремлю, странный звук послышался над головами французов. Огромная стая галок поднялась над стенами и, каркая и шумя тысячами крыл, закружилась в воздухе. Вместе с этим звуком раздался человеческий одинокий крик в воротах, и из-за дыма появилась фигура человека без шапки и в кафтане. Держа ружье, он целился во французов. „Feu!” повторил артиллерийский офицер, и в одно и то же время раздались один ружейный и два орудийных выстрела. Дым опять закрыл ворота.
За щитами больше ничего не шевелилось, и пехотные французские солдаты с офицерами пошли к воротам. В воротах лежало три раненых и четыре убитых человека. Два человека в кафтанах убегали низом вдоль стен к Знаменке.
— Enlevez-moi ça[14], — сказал офицер, указывая на бревна и трупы, и французы, добив раненых, перебросили трупы вниз за ограду.
Кто были эти люди, никто не знал „Enlevez-moi ça”, только сказано было про них, и их выбросили и прибрали потом, чтобы они не воняли. Один Тьер посвятил их памяти несколько красноречивых строк: „Ces misérables avaient envahi la citadelle sacrée, s’étaient emparés des fusils de l’arsenal, et tiraient (ces misérables) sur les français. On en sabra quelquesuns et on purgea le Kremlin de leur présence”[15].
Мюрату было доложено, что путь расчищен. Французы вошли в ворота и стали размещаться лагерем на Сенатской площади. Солдаты выкидывали стулья из окон сената на площадь и раскладывали огни.
Другие отряды проходили через Кремль и размещались по Маросейке, Лубянке, Покровке. Третьи еще размещались по Воздвиженке, Знаменке, Никольской, Тверской. Везде, не находя хозяев, французы размещались не как в городе на квартирах, а как в лагере, который расположен в городе.
Хотя и оборванные, голодные, измученные и уменьшенные до 1/2 части своей прежней численности, французские солдаты вступили в Москву еще в стройном порядке. Это было измученное истощенное, но еще боевое и грозное войско. Но это было войско только до той минуты, пока солдаты этого войска не разошлись по квартирам. Как только люди полков стали расходиться по пустым и богатым домам, так навсегда уничтожилось войско, и образовались не жители и не солдаты, а что-то среднее, называемое мародерами. Когда, через пять недель, те же самые люди вышли из Москвы, они уже не составляли более войска. Это была толпа мародеров, из которых каждый вез или нес с собой кучу вещей, которые ему казались ценны и нужны. Цель каждого из этих людей при выходе из Москвы не состояла, как прежде, в том, чтобы завоевать, а только в том, чтобы удержать приобретенное. Подобно той обезьяне, которая, запустив руку в узкое горло кувшина и захватив горсть орехов, не разжимает кулака, чтобы не потерять схваченного, и этим губит себя, французы, при выходе из Москвы, очевидно, должны были погибнуть вследствие того, что они тащили с собой награбленное, но бросить это награбленное им было так же невозможно, как невозможно обезьяне разжать горсть с орехами. Через десять минут после вступления каждого французского полка в какой-нибудь квартал Москвы не оставалось ни одного солдата и офицера. В окнах домов видны были люди в шинелях и штиблетах, смеясь прохаживающиеся по комнатам; в погребах, в подвалах такие же люди хозяйничали с провизией; на дворах такие же люди отпирали или отбивали ворота сараев и конюшен; в кухнях раскладывали огни, с засученными рукавами пекли, месили и варили, пугали, смешили и ласкали женщин и детей. И этих людей везде, и по лавкам, и по домам, было много; но войска уже не было.
В тот же день приказ за приказом отдавались французскими начальниками о том, чтобы запретить войскам расходиться по городу, строго запретить насилие жителей и мародерство, о том, чтобы нынче же вечером сделать общую перекличку; но, несмотря ни на какие меры, люди, прежде составлявшие войско, расплывались по богатому, обильному удобствами и запасами, пустому городу. Как голодное стадо идет кучей по голому полю, но тотчас же неудержимо разбредается, как только нападет на богатые пастбища, так неудержимо разбредалось и войско по богатому городу.
Жителей в Москве не было, и солдаты, как вода в песок, всачивались в нее и неудержимой звездой расплывались во все стороны от Кремля, в который они вошли прежде всего. Солдаты-кавалеристы, входя в оставленный со всем добром купеческий дом и находя стойла не только для своих лошадей, но и лишние, все-таки шли рядом занимать другой дом, который им казался лучше. Многие занимали несколько домов, надписывая мелом, кем он занят, и спорили и даже дрались с другими командами. Не успев поместиться еще, солдаты бежали на улицу осматривать город и по слуху о том, что все брошено, стремились туда, где можно было забрать даром ценные вещи. Начальники ходили останавливать солдат и сами вовлекались невольно в те же действия. В Каретном ряду оставались лавки с экипажами, и генералы толпились там, выбирая коляски и кареты. Остававшиеся жители приглашали к себе начальников, надеясь тем обеспечиться от грабежа. Богатств было пропасть, и конца им не видно было; везде кругом того места, которое заняли французы, были еще неизведанные, незанятые места, в которых как казалось французам, было еще больше богатств. И Москва все дальше и дальше всасывала их в себя. Точно, как вследствие того, что нальется вода на сухую землю, исчезает вода и сухая земля: точно так же вследствие того, что голодное войско вошло в обильный пустой город, уничтожилось войско, и уничтожился обильный город; и сделалась грязь, сделались пожары и мародерство.
Французы приписывали пожар Москвы au patriotisme féroce de Rastopchine[16], русские — изуверству французов. В сущности же причин пожара Москвы в том смысле, чтобы отнести пожар этот на ответственность одного или несколько лиц, таких причин не было и не могло быть. Москва сгорела вследствие того, что она была поставлена в такие условия, при которых всякий деревянный город должен сгореть, независимо от того, имеются ли или не имеются в городе 130 плохих пожарных труб. Москва должна была сгореть вследствие того, что из нее выехали жители, и так же неизбежно, как должна загореться куча стружек, на которую в продолжение нескольких дней будут сыпаться искры огня. Деревянный город, в котором при жителях-владельцах домов и при полиции бывают почти каждый день пожары, не может не сгореть, когда в нем нет жителей, а живут войска, курящие трубки, раскладывающие костры на Сенатской площади из сенатских стульев и варящие себе есть два раза в день. Стоит в мирное время войскам расположиться на квартирах по деревням в известной местности, и количество пожаров в этой местности тотчас увеличивается. В какой же степени должна увеличиться вероятность пожаров в пустом деревянном городе, в котором расположится чужое войско? Le patriotisme féroce de Rastopchine и изуверство французов тут ни в чем не виноваты. Москва загорелась от трубок, от кухонь, от костров, от неряшливости неприятельских солдат, жителей-нехозяев домов. Ежели и были поджоги (что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а во всяком случае хлопотливо и опасно), то поджоги нельзя принять за причину, так как без поджогов было бы то же самое.
Как ни лестно было французам обвинять зверство Растопчина и русским обвинять злодея Бонапарта или потом влагать героический факел в руки своего народа, нельзя не видеть, что такой непосредственной причины пожара не могло быть, потому что Москва должна была сгореть, как должна сгореть каждая деревня, фабрика, всякий дом, из которого выйдут хозяева и в который пустят хозяйничать и варить себе кашу чужих людей. Москва сожжена жителями, это правда; но не теми жителями, которые оставались в ней, a теми, которые выехали из нее. Москва, занятая неприятелем, не осталась цела, как Берлин, Вена и другие города, только вследствие того, что жители ее не подносили хлеб-соль и ключи французам, a выехали из нее.
3. Наполеон в Москве
В военном отношении, тотчас по вступлении в Москву, Наполеон строго приказывает генералу Себастиани следить за движениями русской армии, рассылает корпуса по разным дорогам и Мюрату приказывает найти Кутузова. Потом он старательно распоряжается об укреплении Кремля; потом делает гениальный план будущей кампании по всей карте России.
В отношении дипломатическом, Наполеон призывает к себе ограбленного и оборванного капитана Яковлева, не знающего, как выбраться из Москвы, подробно излагает ему всю свою политику и свое великодушие и, написав письмо к императору Александру, в котором он считает своим долгом сообщить своему другу и брату, что Растопчин дурно распорядился в Москве, он отправляет Яковлева в Петербург. Изложив так же подробно свои виды и великодушие перед Тутоломиным, он и этого старичка отправляет в Петербург для переговоров.
В отношении юридическом, тотчас же после пожаров велено найти виновных и казнить их. И злодей Растопчин наказан тем, что велено сжечь его дома.
В отношении административном, Москве дарована конституция. Учрежден муниципалитет и обнародовано следующее:
„Жители Москвы!
„Несчастья ваши жестоки, но его величество император и король хочет прекратить течение оных. Страшные примеры вас научили, каким образом он наказывает непослушание и преступление. Строгие меры взяты, чтобы прекратить беспорядок и возвратить общую безопасность. Отеческая администрация, избранная из самих вас, составлять будет ваш муниципалитет, или градское правление. Оное будет пещись о вас, о ваших нуждах, о вашей пользе. Члены оного отличаются красною лентою, которую будут носить через плечо, а градской голова будет иметь сверх оного белый пояс. Но, исключая время должности их, они будут иметь только красную ленту вокруг левой руки.
„Городовая полиция учреждена по прежнему положению, а через ее деятельность уже лучше существует порядок. Правительство назначило двух генеральных комиссаров, или полицмейстеров, и 20 комиссаров, или частных приставов, поставленных во всех частях города. Вы их узнаете по белой ленте, которую будут они носить вокруг левой руки. Некоторые церкви разного исповедания открыты, и в них беспрепятственно отправляется божественная служба. Ваши сограждане возвращаются ежедневно в свои жилища, и даны приказы, чтобы они в них находили помощь и покровительство, следуемые несчастью. Сии суть средства, которые правительство употребило, чтобы возвратить порядок и облегчить ваше положение. Но чтобы достигнуть до того, нужно, чтобы вы с ним соединили ваши старания; чтобы забыли, ежели можно, ваши несчастья, которые претерпели; предались надежде не столь жестокой судьбы; были уверены, что неизбежимая и постыдная смерть ожидает тех, кои дерзнут на ваши особы и оставшиеся ваши имущества; а напоследок и не сомневались, что оные будут сохранены, — ибо такая есть воля величайшего и справедливейшего из всех монархов. Солдаты и жители, какой бы вы нации ни были! Восстановите публичное доверие, источник счастья государства; живите, как братья; дайте взаимно друг другу помощь и покровительство; соединитесь, чтоб опровергнуть намерения зломыслящих; повинуйтесь воинским и гражданским начальствам: и скоро ваши слезы течь перестанут”.
В отношении продовольствия войска, Наполеон предписал всем войскам поочередно ходить в Москву à la maraude для заготовления себе провианта, так чтобы, таким образом, армия была обеспечена на будущее время.
В отношении религиозном, Наполеон приказал ramener les popes[17] и возобновить служение в церквах.
В торговом отношении и для продовольствия армии, было развешено везде следующее:
Провозглашение.
„Вы, спокойные московские жители, мастеровые и рабочие люди, которых несчастья удалили из города, и вы, рассеянные земледельцы, которых неосновательный страх еще задерживает в полях, слушайте! Тишина возвращается в сию столицу, и порядок в ней восстановляется. Ваши земляки выходят смело из своих убежищ, видя, что их уважают. Всякое насильствие, учиненное против них и их собственности, немедленно наказывается. Е. в. император и король их покровительствует и между вами никого не почитает за своих неприятелей, кроме тех, кои ослушиваются его повелениям. Он хочет прекратить ваши несчастья и возвратить вас вашим дворам и вашим семействам. Соответствуйте же его благотворительным намерениям и приходите к нам без всякой опасности. Жители! возвращайтесь с доверием в ваши жилища: вы скоро найдете способы удовлетворить вашим нуждам! Ремесленники и трудолюбивые мастеровые! Приходите обратно к вашим рукоделиям: домы, лавки, охранительные караулы вас ожидают, а за вашу работу получите должную вам плату! И вы, наконец, крестьяне, выходите из лесов, где от ужаса скрылись, возвращайтесь без страха в ваши избы, в точном уверении, что найдете защищение. Лабазы учреждены в городе, куда крестьяне могут привозить излишние свои запасы и земельные растения. Правительство приняло следующие меры, чтоб обеспечить им свободную продажу: 1) Считая от сего числа, крестьяне, земледельцы и живущие в окрестностях Москвы могут без всякой опасности привозить в город свои припасы, какого бы рода они ни были, в двух назначенных лабазах, т. е. на Моховую и в Охотный ряд. 2) Оные продовольствия будут покупаться у них по такой цене, на какую покупатель и продавец согласятся между собою; но ежели продавец не получит требуемую им справедливую цену, то продавец волен будет повезти их обратно в свою деревню, в чем никто ему ни под каким видом препятствовать не может. 3) Каждое воскресенье и среда назначены еженедельно для больших торговых дней; почему достаточное число войск будет расставлено по вторникам и субботам на всех больших дорогах, в таком расстоянии от города, чтоб защищать те обозы. 4) Таковые же меры будут взяты, чтоб на возвратном пути крестьянам с их повозками и лошадьми не последовало препятствия. 5) Немедленно средства употреблены будут для восстановления обыкновенных торгов. Жители города и деревень, и вы, работники и мастеровые, какой бы вы нации ни были! Вас вызывают исполнять отеческие намерения е. в. императора и короля и способствовать с ним к общему благополучию. Несите к его стопам почтение и доверие и не медлите соединиться с нами!”
В отношении поднятия духа войска и народа, беспрестанно делались смотры, раздавались награды, Император разъезжал верхом по улицам и утешал жителей; и, несмотря на всю озабоченность государственными делами, сам посетил учрежденные по его приказанию театры.
В отношении благотворительности, лучшей доблести венценосцев, — Наполеон делал тоже все, что от него зависело. На богоугодных заведениях он велел надписать: “Maison de ma mère”, соединяя этим актом нежное сыновнее чувство с величием добродетели монарха. Он посетил воспитательный дом и, дав облобызать свои белые руки спасенным им сиротам, милостиво беседовал с Тутолминым. Потом, по красноречивому изложению Тьера, он велел раздать жалованье своим войскам русскими, сделанными им, фальшивыми деньгами. „Relevant l’emploi de ces moyenz par un acte digne de lui et de l’armée française, il fit distribuer des secours aux incendiés. Mais les vivres étant trop précieux pour être donnés à des étrangers, la plupart ennemis, Napoléon aima mieux leur fournir de l’argent à fin qu’ils se fournissent au dehors, et il leur fit distribuer des roubles papiers”[18].
В отношении дисциплины армии, беспрестанно выдавались приказы о строгих взысканиях за неисполнение долга службы и о прекращении грабежа.
Но, странное дело, все эти распоряжения, заботы и планы, бывшие вовсе не хуже других, издаваемых в подобных же случаях, не затрогивали сущности дела, а, как стрелки циферблата в часах, отделенного от механизма, вертелись произвольно и бесцельно, не захватывая колес.
В военном отношении, гениальный план кампании, про который Тьер говорит: „que son génie n’avait jamais rien imaginé de plus profond, de plus habile et de plus admirable”[19], и относительно которого Тьер, вступая в полемику с г-м Феном, доказывает, что составление этого гениального плана должно быть отнесено не к 4-му, а к 15-му октября, — план этот никогда не был и не мог быть исполнен, потому что ничего не имел близкого к действительности. Укрепление Кремля, для которого надо было срыть la Mosquée (так Наполеон назвал церковь Василия Блаженного), оказалось совершенно бесполезным. Подведение мин под Кремлем, только содействовало исполнению желания императора при выходе из Москвы, чтобы Кремль был взорван, т. е. чтобы был побит тот пол, о который убился ребенок. Преследование русской армии, которое так озабочивало Наполеона, представило неслыханное явление. Французские военачальники потеряли 60-тысячную русскую армию, и только, по словам Тьера, искусству и, кажется тоже, гениальности Мюрата удалось найти, как булавку, эту 60-тысячную русскую армию.
В дипломатическом отношении, все доводы Наполеона о своем великодушии и справедливости и перед Тутолминым, и перед Яковлевым, озабоченным преимущественно приобретением шинели и повозки, оказались бесполезны: Александр не принял этих послов и не отвечал на их посольство.
В отношении юридическом, после казни мнимых поджигателей сгорела другая половина Москвы.
В отношении административном, учреждение муниципалитета не остановило грабежа и принесло только пользу некоторым лицам, участвовавшим в этом муниципалитете и, под предлогом соблюдения порядка, грабившим Москву или сохранявшим свое от грабежа.
В отношении религиозном, так легко устроенное дело в Египте, посредством посещения мечети, здесь не принесло никаких результатов. Два или три священника, найденные в Москве, попробовали исполнить волю Наполеона, но одного из них по щекам прибил французский солдат во время службы, а про другого доносил следующее французский чиновник: „Le prêtre, que j’avais découvert et invité à recommencer à dire la messe, e nettoyé et fermé l’église. Cette nuit on est venu de nouveau enfoncer les portes, casser les cadenas, déchirer les livres et commettre d’autres désordres”[20].
В торговом отношении, на провозглашение трудолюбивым ремесленникам и всем крестьянам не последовало никакого ответа. Трудолюбивых ремесленников не было, а крестьяне ловили тех комиссаров, которые слишком далеко заезжали с этим провозглашением, и убивали их.
В отношении увеселений народа и войска театрами, дело точно также не удалось. Учрежденные в Кремле и в доме Познякова театры тотчас же закрылись, потому что ограбили актрис и актеров.
Благотворительность — и та не принесла желаемых результатов. Фальшивые ассигнации и нефальшивые наполняли Москву и не имели цены. Для французов, собиравших добычу, нужно было только золото. Не только фальшивые ассигнации, которые Наполеон так милостиво раздавал несчастным, не имели цены, но серебро отдавалось ниже своей стоимости за золото.
Но самое поразительное явление недействительности высших распоряжений в то время было старание Наполеона остановить грабежи и восстановить дисциплину.
Вот что доносили чины армии:
„Грабежи продолжаются в городе, несмотря на повеление прекратить их. Порядок еще не восстановлен, и нет ни одного купца, отправляющего торговлю законным образом. Только маркитанты позволяют себе продавать, да и то награбленные вещи”.
„La partie de mon arrondissement continue à être en proie au pillage des soldats du 3 corps, qui, non contents d’arracher aux malheureux réfugiés dans des souterrains le peu qui leur reste, ont même la férocité de les blesser à coups de sabre, comme j’en ai vu plusieurs exemples”[21].
„Rien de nouveau outre que les soldats se permettent de voler et de piller, le 9 octobre”.
„Le vol et le pillage continuent. II y a une bande de voleurs dans notre district qu’il faudra faire arrêter par de fortes gardes le 11 octobre”[22].
„Император чрезвычайно недоволен, что, несмотря на строгие повеления остановить грабеж, только и видны отряды гвардейских мародеров, возвращающиеся в Кремль. — В старой гвардии беспорядки и грабеж сильнее, нежели когда-либо, возобновились вчера, в последнюю ночь и сегодня. С соболезнованием видит император, что отборные солдаты, назначенные охранять его особу, долженствующие подавать пример подчиненности, до такой степени простирают ослушание, что разбивают погреба и магазины, заготовленные для армии. Другие унизились до того, что не слушали часовых и караульных офицеров, ругали их и били”.
„Le grand maréchal du palais se plaint vivement”, писал губернатор, „que malgré les défenses réitérées, les soldats continuent à faire leurs besoins dans toutes les cours et même jusque sous les fenêtres de l’Empereur”[23].
Войско это, как распущенное стадо, топча под ногами тот корм, который мог бы спасти его от голодной смерти, распадалось и гибло с каждым днем лишнего пребывания в Москве. Но оно не двигалось.
Оно побежало только тогда, когда его вдруг охватил панический страх, произведенный перехватами обозов по Смоленской дороге и Тарутинским сражением. Это же самое известие о Тарутинском сражении, неожиданно на смотру полученное Наполеоном, вызвало в нем желание наказать русских, как говорит Тьер, и он отдал приказание о выступлении, которого требовало все войско.
Убегая из Москвы, люди этого войска захватили с собой все, что было награблено. Наполеон тоже увозил с собой свой собственный trésor. Увидав обоз, загромождавший армию, Наполеон ужаснулся (как говорит Тьер). Но он, с своею опытностью войны, не велел сжечь все лишние повозки, как он это сделал с повозками маршала, подходя к Москве; он посмотрел на эти коляски и кареты, в которых ехали солдаты, и сказал, что это очень хорошо, что экипажи эти употребятся для провианта, больных и раненых.
Положение всего войска было подобно положению раненого животного, чувствующего свою погибель и не знающего, что оно делает. Изучать искусные маневры и цели Наполеона и его войска, со времени вступления в Москву и до уничтожения этого войска, все равно, что изучать значение предсмертных прыжков и судорог смертельно раненого животного. Очень часто раненое животное, заслышав шорох, бросается на выстрел охотника, бежит вперед, назад и само ускоряет свой конец. То же самое делал Наполеон под давлением всего его войска. Шорох Тарутинского сражения спугнул зверя, и он бросился вперед на выстрел, добежал до охотника, вернулся опять назад и наконец, как всякий зверь, побежал назад, по самому невыгодному, опасному пути, но по знакомому, старому следу.
4. Бегство французов. Л. Толстой
В ночь с 6-го на 7-е октября началось движение выступавших французов: ломались кухни, балаганы, укладывались повозки и двигались войска и обозы.
По переулкам Хамовников пленные шли одни с своим конвоем и повозками и фурами, принадлежавшими конвойным и ехавшими сзади; но, выйдя к провиантским магазинам, они попали в середину огромного, тесно двигавшегося артиллерийского обоза, перемешанного с частными повозками.
У самого моста все остановились, дожидаясь того, чтобы продвинулись ехавшие впереди. С моста пленным открылись сзади и впереди бесконечные ряды других двигавшихся обозов. Направо, там, где загибалась Калужская дорога мимо Нескучного, пропадая вдали, тянулись бесконечные ряды войск и обозов. Это были вышедшие прежде всех войска корпуса Богарне; назади, по Набережной и через Каменный мост, тянулись войска и обозы Нея.
Войска Даву, к которым принадлежали пленные, шли через Крымский Брод и уже отчасти вступали в Калужскую улицу. Но обозы так растянулись, что последние обозы Богарне еще не вышли из Москвы в Калужскую улицу, а голова войск Нея уже выходила из Большой Ордынки.
Пройдя Крымский Брод, пленные двигались по нескольку шагов и останавливались, и опять двигались, и со всех сторон экипажи и люди все больше и больше стеснялись. Пройдя более часа те несколько сот шагов, которые отделяют мост от Калужской улицы, и дойдя до площади, где сходятся замоскворецкие улицы с Калужской, пленные, сжатые в кучу, остановились и несколько часов простояли на этом перекрестке. Со всех сторон слышались неумолкаемый, как шум моря, грохот колес и топот ног и неумолкаемые сердитые крики и ругательства.
Несколько пленных офицеров, чтобы лучше видеть, взлезли на стену обгорелого дома.
— Народу-то! Эка народу!… И на пушках-то навалили! Смотри, меха… — говорили они. — Вишь, стервецы, награбили… Вот у того-то сзади, на телеге… Ведь это — с иконы, ей-Богу!.. Это немцы, должно быть. И наш мужик, ей-Богу!.. Ах, подлецы!.. Вишь, навьючился-то, насилу идет! Вот-те на, дрожки и те захватили!.. Вишь, уселся на сундуках-то. Батюшки!.. подрались!..
— Так его по морде-то, по морде! Этак до вечера не дождешься. Гляди, глядите… а это, верно, самого Наполеона. Видишь, лошади-то какие! в вензелях, с короной. Это дом складной. Уронил мешок, не видит. Опять подрались… Женщина с ребеночком, и не дурна. Да, как же; так тебя и пропустят… Смотрите и конца нет. Девки русские, ей-Богу, девки. В колясках ведь как покойно уселись.
Опять волна общего любопытства, как и около церкви в Хамовниках, надвинула всех пленных к дороге. В трех колясках, замешавшихся между зарядными ящиками, ехали, тесно сидя друг на друге, разряженные в ярких цветах, нарумяненные, что-то кричащие пискливыми голосами женщины.
Поезд женщин проехал. За ним тянулись опять телеги, солдаты, фуры; солдаты, палубы, кареты; солдаты, ящики, солдаты; изредка женщины.
Все эти люди, лошади как будто гнались какою-то невидимою силой. Все они выплывали из разных улиц с одним и тем же желанием скорее пройти; все они одинаково, сталкиваясь с другими, начинали сердиться, драться: оскаливались белые зубы, хмурились брови, перебрасывались все одни и те же ругательства, и на всех лицах было одно и то же молодечески-решительное и жестоко-холодное выражение.
Шли очень скоро, не отдыхая, и остановились только, когда уже солнце стало садиться. Обозы надвинулись одни на других, и люди стали готовиться к ночлегу. Все казались сердиты и недовольны. Долго с разных сторон слышались ругательства, злобные крики и драки. Карета, ехавшая сзади конвойных, надвинулась на повозку конвойных и пробила ее дышлом. Несколько солдат с разных сторон сбежались к повозке; одни били по головам лошадей, запряженных в карете, сворачивая их, другие дрались между собой.
Казалось, все эти люди испытывали теперь, когда остановились посреди поля в холодных сумерках осеннего вечера, одно и то же чувство неприятного пробуждения от охватившей всех при выходе поспешности и стремительного куда-то движения. Остановившись, все как будто поняли, что неизвестно еще куда идут и что на этом движении много будет тяжелого и трудного.
Лев Толстой
V. Московский университет
1. Значение Московского университета. П. Боборыкин
Ни в одном русском городе, не исключая и Петербурга, университет не играет такой роли, как в Москве. История московского университета, его славное прошлое, центральное положение Москвы, привлекающее каждый год толпы молодых людей, — все это делает университет местом, куда умственные интересы стягивают гораздо больше, чем в Петербурге, публику из всех слоев общества. В зданиях Московского университета помещается несколько ученых обществ, посещаемых всегда довольно усердно. Диспуты и торжественные акты, происходящие в аудиториях и в большой зале старого и нового университетских зданий, всегда делаются в Москве некоторого рода событиями. На актах, диспутах, пробных и публичных лекциях вы находите гораздо более разнообразную и оживленную публику, чем в Петербурге или губернских университетских городах. Несколько тысяч студентов населяют окрестные улицы и переулки и придают уличному движению своеобычный оттенок.
П. Боборыкин

2. Историческая заметка. И. Машкова
Университет основан в 1775 г. императрицею Елизаветою Петровною, по проекту графа И. И. Шувалова. В настоящее время он занимает несколько обширных зданий, выходящих на Моховую ул., по обеим сторонам Никитской ул.; так наз. „новый” университет находится против манежа. Первоначально университет помещался на месте нынешнего Исторического музея. В 1780 г. П.С. Сумароков подарил университету свой дом за Сухаревой башней, на месте которого теперь разведен ботанический сад. В 1785 году Екатерина II пожаловала университету место на Моховой улице, принадлежавшее прежде кн. Волконскому. Так наз. „новое” здание было приобретено впоследствии от г. Пашкова. В 1786 г. последовала закладка здания, по проекту архитектора М.Ф. Казакова („старый университет”); после пожара 1812 г. оно возобновлено в настоящем виде арх. Д.И. Жилярди.
Средина „старого” здания занята актовой залой, в которой замечателен мозаичный образ работы Ломоносова; в „новом” здании, кроме аудиторий, расположенных во всех трех этажах, помещается церковь св. Татианы, празднуемой 12 января, в день подписания, в 1755 г., Елизаветою Петровной Указа об учреждении университета. Церковь расписана в первоначальном виде архитектором Клауди; в ней две иконы — св. Николая Чудотворца и св. Елизаветы, писанные известным итальянским живописцем Рубио.
И. Машков
3. Два профессора — Т.Н. Грановский (род. 1813 г., умер 1855 г.) и А.И. Чупров (род. 1842 г., умер 1908 г.). И. Тургенев, Кони и Амфитеатров
Auch die Todten sollen leben. Шиллер
Вчера были похороны Грановского. Не буду говорить вам, как сильно поразила меня его смерть. Потеря его принадлежит к числу общественных потерь, и отзовется горьким недоумением и скорбью во многих сердцах по всей России. Похороны его были чем-то умилительным и глубоко-знаменательным; они останутся событием в памяти каждого участвовавшего в них. Никогда не забуду я этого длинного шествия, этого гроба, тихо колыхавшегося на плечах студентов, этих обнаженных голов и молодых лиц, облагороженных выражением честной и искренней печали, этого невольного замедления многих между разбросанными могилами кладбища, даже тогда, когда уже все было кончено, и последняя горсть земли упала на прах любимого учителя… Одни и те же ощущения наполняли всех, высказывались во всех устах, во всех взорах; всем хотелось продлить их в себе, и расходиться было жутко… Всякое общее чувство, даже скорбное, связуя людей, возвышает их. Каждый из пришедших на кладбище, к какому бы направлению ни принадлежал он, слишком хорошо знал, чего лишилась в Грановском русская жизнь и русская наука. Для душ молодых, еще не искушенных, не утомленных „плоской незначительностью” житейских дрязг, такие ощущения особенно благотворны; под наитием их сердце крепнет, и семена будущих добрых дел и доблестных поступков зреют в нем… Дай Бог, чтобы мы научились хотя эту пользу извлекать из наших утрат!
Вероятно, о Грановском будет написано много; на учениках его, на его товарищах лежит долг растолковать его значение, объяснить причины общего сочувствия к нему, оценить его влияние. Сообщу вам несколько моих воспоминаний о нем. Я познакомился с ним в 1835 году, в С.-Петербурге, в университете, в котором мы были оба студентами, хотя он был старше меня летами и во время моего поступления находился уже на последнем курсе. Он не занимался исключительно историей; он даже писал тогда стихи (кто их не писал в молодости?), и я смутно помню отрывок из драмы „Фауст”, прочитанный мне им в один темный зимний вечер в большой и пустой его комнате, за шатким столиком, на котором, вместо всякого угощения, стоял графин воды и банка варенья.
В отрывке этом Фауст был представлен (со слов одной старинной немецкой легенды) высоко поднявшимся на воздух, в стеклянном ящике, вместе с Мефистофелем; обозревая широко раскинувшуюся землю, реки, леса, поля, жилища людей, Фауст произносил задумчивый, полный грустного созерцания монолог, показавшийся мне тогда прекрасным… Мефистофель безмолвствовал; я впрочем, и теперь не могу себе представить, какие бы речи вложил Грановский в уста бесу… Ирония, особенно ирония едкая и безжалостная, была чужда его светлой душе. Помню я еще другой вечер и другое чтение: мы вместе с жадностью перелистывали только что вышедшее собрание стихотворений одного поэта, имя которого, теперь если не безызвестное, то уже отзвучавшее — прогремело тогда по всей России. С каким восторгом приветствовал Грановский новые надежды русской поэзии, как исполнялся весь благородной радостию сочувствия!

Я впрочем в Петербурге видал его редко, но каждое свидание с ним оставляло во мне глубокое впечатление.
Чуждый педантизма, исполненный пленительного добродушия, он уже тогда внушал то невольное уважение к себе, которое столь многие потом испытали. От него веяло чем-то возвышенно-чистым; ему было дано (редкое и благодатное свойство) не убеждениями, не доводами, а собственной душевной красотой возбуждать прекрасное в душе другого; он был идеалист в лучшем смысле этого слова, — идеалист не в одиночку. Он имел точно право сказать: „ничто человеческое мне не чуждо”, и потому и его не чуждалось ничто человеческое.
Несколько лет спустя, я встретился с ним в Берлине. Я почти не видался с ним тогда — и мы не сошлись… Говоря правду, я тогда не сто́ил того, чтобы сойтись с ним. Притом, он в то время подружился с Н. В. Станкевичем, человеком, о котором говорить мало нельзя, а много — теперь не место и не время. Станкевич имел величайшее влияние на Грановского и часть его духа перешла на него.
Познакомился я с Грановским окончательно в Москве; но другие гораздо чаще меня его видели, и могут сообщить нам более подробные сведения об его московском житье, об его университетской деятельности.
Ограничусь только двумя словами. Все единодушно согласны в том, что Грановский был профессор превосходный, что, несмотря на его несколько замедленную речь, он владел тайною истинного красноречия; но, все-таки, иные, судя о нем по литературным его трудам, зная также, что на звание специалиста, ученого в строгом смысле слова, он не имел притязания — дивятся как бы непонятной тайне, силе и обширности влияния его на людей.
Разгадка этой тайны весьма проста: она вся заключается в самой личности Грановского.
В природах гармонических, какова была его, самые недостатки необходимы; будь личность Грановского более своеобразна, более резко выражена — молодые его ученики не так бы доверчиво к нему обращались. Грановский был доступен во всякое время, не отталкивал никогда никого. Проникнутый весь наукой, посвятив себя всего делу просвещения и образования, — он считал самого себя как бы общественным достоянием, как бы принадлежностью всякого, кто хотел образоваться и просветиться… К нему, как к роднику близ дороги, всякий подходил свободно и черпал живительную влагу изучения, которая струилась тем чище, чем сам преподаватель меньше прибавлял в нее своего. Свое, оригинальное в его поучении было именно это благородное самоотречение — это отсутствие личных прихотей и умствований. — Он передавал науку, которую уважал глубоко и в которую честно верил, как сам принимал ее — не искажая ее, не силясь согнуть ее, если не в систему, так в дугу. Этой же добросовестностью в передавании науки объясняется изящная красота его речи; так свет, проходя через прозрачный кристалл, не изменяясь в существе своем, играет живыми красками.
Люди вообще настолько имеют значения и влияния, насколько нужны; а люди, подобные Грановскому, теперь нам крайне нужны. Время еще впереди, когда настанет для нас потребность в специалистах, в ученых; мы нуждаемся теперь в бескорыстных и неуклонных служителях науки, которые бы твердой рукою держали и высоко поднимали ее светоч, которые, говоря нам о доброте и нравственности — о человеческом достоинстве и чести, собственною жизнью подтверждали бы истину своих слов… Таков был Грановский — и вот отчего льются слезы о нем; вот отчего он, человек бессемейный, был окружен такой любовью и при жизни, и в смерти… Заменить его теперь не может ни один человек, но сам он будет еще действовать за гробом, — действовать долго и благотворно. Он жил не даром — он не умрет. Во всей его деятельности ничего не было такого, в чем бы не мог он громко и ясно признаться перед всеми; он сеял свои семена днем, при свете солнца, и когда они взойдут и принесут плоды — в них не будет ничего горького…
Выше этой похвалы и этой награды для человека нет.
И. Тургенев
В лице Чупрова ушел из жизни один из немногих оставшихся в живых „шестидесятников», — из тех людей, которые воспитались на началах, вложенных в великие реформы Александра II, и явились в своей деятельности их истолкователями, поборниками и защитниками в то печальное время, когда невежественная самоуверенность одних и услужливое предательство других стремились выветрить из этих начал „дух жив”. Талантливый работник, бесстрашная мысль которого умела облекаться в изящную и всем доступную форму, результат его глубоких и многосторонних знаний, — Чупров явил собою олицетворение профессора лучших времен московского университета.
Неизменное благородство взглядов и убеждений и нравственное влияние на слушателей давали основание сравнивать его с Грановским и торжественно поднести ему в подтверждение этого сравнения портрет Тимофея Николаевича с соответствующей надписью. Но в некоторых отношениях он даже превосходил последнего; число находившихся под его обаянием слушателей по условиям времени было несравненно многочисленнее, его печатные труды, составившие ему почетное имя среди европейских ученых, были значительно богаче качественно и количественно, а область деятельности разнообразнее. Он был не только профессором по кафедре политической экономии и статистики, но и учителем, организатором и насадителем такого сложного и обширного дела, как русская земская статистика, отцом которой его по справедливости можно считать. Наконец, возникала ли государственная потребность, где были нужны его знания и опыт, — как, например, в вопросе о выкупе железных дорог, об упорядочении тарифов и в исследовании железнодорожного дела в России или при переписи московского населения, — его приходилось призывать на плодотворную работу; постигало ли родину какое-либо общественное бедствие или являлась неотложная нужда в средствах для просвещения, — он приходил на помощь со своим спокойным по внешности, горячим по существу, красноречивым словом. И вместе с тем везде, где можно было делать дело и быть cheville ouvrière, оставаясь в тени, неся труд и отдавая „оказательство” его другим, он это делал со скромностью, ему свойственною.
Судя по воспоминаниям учеников, он в некоторых отношениях напоминал и другого выдающегося московского профессора, незабвенного Никиту Ивановича Крылова. Так же, как последний, он умел вносить жизнь в преподаваемые им предметы и с тонкостью психолога и искусством художника устанавливать между слушателями и собой духовную связь, из которой быстро вырастало благодарное с их стороны уважение. Подобно тому, как Крылов, разбирая и разъясняя институты римского права, делал из них выводы для критического освещения окружавшей действительности, так и Чупров несмотря на строго ученое изложение своего предмета, умел отзываться в нем на жизненные, жгучие и наболевшие вопросы современности. В его преподавании такая по внешности сухая наука, как статистика, оживала и являлась своего рода объединением не только социальных, но и естественно-исторических знаний и приобретала тот строгий характер, который делал невозможным дальнейший услужливый подбор цифровых выводов, благодаря которому к статистике в руках новейших законодательных дельцов применимо название шекспировской комедии: „Как кому угодно”. И это все делалось им со спокойным достоинством, без всякого искания популярности, которая тем не менее все росла в кругу чуткой молодежи. В эпоху поверхностного хватания верхов он ее учил учиться; в периоды явного эготизма и плохо прикрытого карьеризма, ждавших ее за порогом университета, он внушал ей сознание ее ответственности перед родиной за те сведения, которые она обязана вынести из высшей школы, и за умение полезно приложить их к делу. То же в свое время своеобразно и в более тесной обстановке делал и Крылов. Поэтому лучи ума и сердца их обоих долгие-долгие годы по оставлении их слушателями своей alma mater светили им и побуждали их, говоря словами Шиллера, “für die Träume seiner Jugend Achtung zu haben”. При введении судебной реформы в провинции приходилось ревизовать судебных следователей при судах старого устройства и встречать среди них людей достаточно опустившихся, увязнувших в бытовой тине уездного городка или большого села и тянувших свою служебную лямку лишь для того, чтобы иметь средства для бесцветного и беспросветного существования с многочисленной семьей. Но стоило такому человеку, если только он был воспитанником московского университета, напомнить про Крылова, и он преображался и в благодарных воспоминаниях о Никите (так звали студенты Крылова) поднимался хоть на время над прозой и пошлостью окружающей среды. Такое же впечатление, по-видимому, производило на бывших слушателей Чупрова воспоминание о нем. Об этом свидетельствует рассказ учительницы народного училища Болдыревой о том, что уезжая в захолустье, она взяла рекомендательное письмо от Чупрова и с ним пришла к инспектору народных училищ, старому и обрюзгшему человеку. Холодно взяв письменную рекомендацию, старик вдруг вскочил с места и воскликнул: „Господи! Александр Иванович Чупров! Да ведь я был его слушателем!” И он заходил по комнате взад и вперед, погрузившись весь в прошлое и забыв о присутствующих. Имя Чупрова и несколько строк, написанных его рукою, очевидно, всколыхнули все, что было лучшего в человеке, и озарили его тем светом, который был так присущ его старому профессору. После долгого молчания он вспомнил о пришедшей и, быстро подойдя к ней, сказал взволнованно: „Я сделаю для вас все, что могу”.

Вот почему, вспоминая преподавательскую деятельность Чупрова, приходится признать, что он имел бы основание обратиться к своим слушателям с теми же словами, которые высказал своим ученикам в Болонье знаменитый Кардуччи: „Не мне судить, многому ли я научил вас, но я всегда старался воспитать в вас два принципа: сбросив испорченные лохмотья, в которые часто облекается общество, уметь видеть в жизни не то, что кажется, а что есть в действительности, — ставить на первое место долг, а не удовольствие, — а в науке и искусстве любить простоту, а не придуманность, предпочитая силу помпе и ставя на первое место правду и справедливость, а не славу. Принимая от науки все то хорошее, что она дает, я всегда старался поднять вас к идеалу и возбуждать любовь к светлым традициям”.
A.Ф. Кони
Есть у Лонгфело стихотворение — „Excelsior”!.. В этом кличе — весь Александр Иванович Чупров: всегда ввысь! из мрака — к свету! из заболоченных отравами житейской пошлости долин — к вершинам, сияющим красотою и правдою немеркнущих исторических идеалов всечеловеческого единства — свободы, равенства, братства!
Excelsior!.. Девиз этот звучал мне из уст Чупрова, когда он был еще румяным и голубоглазым кандидатом прав, а я, мальчишкой, едва от земли, бегал за ним по горкам и лесам калужской глуши. Звучал он мне из тех же уст с кафедры, на которую, при громе аплодисментов, полной настолько, что некуда упасть яблоку, Большой Словесной аудитории, вошел Чупров, уже ординарный профессор, чтобы поздравить нас, первокурсников, с приобщением с alma mater и объяснить нам великое значение университетского периода в жизни русского человека.
Незабвенная лекция! Даже двадцать пять лет спустя, я не утратил ее волнующего впечатления. Она описана в моих „Восьмидесятниках”, и я позволю себе привести здесь эту цитату, чтобы дать понять, как брал нас Чупров в мягкую, любвеобильную власть свою, за что мы его обожали:
„Вместе с своим и старшим курсом, Володя горячо аплодировал любимцу московской молодежи, А. И. Чупрову, когда тот впервые показался пред аудиторией первокурсников и не успел произнести еще ни одного слова. Профессор — талантливый живой человек, из категории „мыслью честных, сердцем чистых либералов-идеалистов” — был тронут и, вместо лекции, сказал блестящую речь. Восторженно сверкая увлаженными глазами из-под золотых очков, он говорил — трепетным голосом радостно взволнованного, убежденно проникнутого идеей, человека — о светлом значении коротких студенческих годов для всей жизни русского интеллигента, о задачах и обязанностях образованного класса, о культурных результатах эпохи великих реформ, многими из которых Россия всецело обязана людям, воспитавшим свой образ мыслей в лоне московской alma mater.
— Господа! — звенел в ушах Володи и поднимал его, и тянул к себе порывистый, бодрый голос, — мы пережили период необычайного нравственного подъема, выраженный рядом великих преобразований, окруживших святое дело 19 февраля 1861 года, как самую яркую звезду блестящего созвездия. Я верю, я хочу и буду верить, что славный героический период не отбыл бессрочно в прошлое! Живой дух его веет над нами, тропа его не глохнет, — он ждет продолжения и развития своих начал от новых поколений, идущих на смену былым бойцам и деятелям. Старое старится, молодое растет. За юностью будущее. Господа! Стены этих аудиторий полтораста лет оглашаются заветами просвещения — во имя любви к человечеству! Лучшими и благороднейшими заветами нашей души! Господа! Наши аудитории еще помнят Тимофея Николаевича Грановского…
И профессор заговорил о Грановском, Рулье, Кудрявцеве, помянул Соловьева, Никиту Крылова и своего предшественника по кафедре, политико-эконома Ивана Кондратьевича Бабста. Володя слушал, очарованный, запетый, и очнулся он — от страшного, стихийного грохота, будто в аудитории рухнул потолок. Пятьсот человек хлопали ладонями, стучали ногами, кричали протяжно, громко, весело, бежали к кафедре, лезли через скамьи. От топота и суеты пыль повисла облаком и весело заплясала в солнечных столбах, прорезавших длинный, серо-голубой зал. Чупрова вынесли на руках — и Володя завидовал студенту, которого ученый невзначай задел каблуком по голове”.
А. Амфитеатров
4. Из записок старого профессора. А. Чехов
В без четверти десять нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию. Одеваюсь и иду по дороге, которая знакома мне уже 30 лет.
Вот мрачные, давно не ремонтированные университетские ворота; скучающий дворник в тулупе, метла, куча снега… На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, такие ворота не могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света, унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из первых мест наряду причин предрасполагающих… Вот и наш сад. С тех пор, как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнее, если бы вместо чахоточных лип, желтой акации и редкой, стриженой сирени росли тут высокие сосны и хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное и изящное… Храни его Бог от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой.
Когда подхожу я к своему крыльцу, дверь распахивается и меня встречает мой старый сослуживец, сверстник и тезка швейцар Николай. Впустив меня, он крякает и говорит:
— Мороз, ваше превосходительство!
Или же, если моя шуба мокрая, то:
— Дождик, ваше превосходительство!
Затем он бежит впереди меня и отворяет на моем пути все двери. В кабинете он бережно снимает с меня шубу и в это время успевает сообщить мне какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существует между всеми университетскими швейцарами и сторожами, ему известно все, что происходит на четырех факультетах, в канцелярии, в кабинете ректора, в библиотеке. Чего только он не знает? Когда у нас злобою дня бывает, например, отставка ректора или декана, то я слышу, как он, разговаривая с молодыми сторожами, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит министр, такой-то сам откажется, потом вдается в фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре, бывшем якобы у министра с попечителем и т. п. Если исключить эти подробности, то в общем он почти всегда оказывается правым. Характеристики, делаемые им каждому из кандидатов, своеобразны, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию, поступил на службу, вышел в отставку, или умер, то призовите к себе на помощь громадную память этого солдата, и он не только назовет вам год, месяц и число, но и сообщит также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Так помнить может только тот, кто любит.
Он хранитель университетских преданий. От своих предшественников-швейцаров он получил в наследство много легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству много своего добра, добытого за время службы, и если хотите, то он расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может рассказать о необыкновенных мудрецах, знавших все, о замечательных тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки; добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый глупого, скромный гордого, молодой старого… Нет надобности принимать все эти легенды и небылицы за чистую монету, но процедите их, и у вас на фильтре останется то, что нужно: наши хорошие традиции и имена истинных героев, признанных всеми.
В нашем обществе все сведения о мире ученых исчерпываются анекдотами о необыкновенной рассеянности старых профессоров и двумя-тремя остротами, которые приписываются то Груберу, то мне, то Бабухину. Для образованного общества этого мало. Если бы оно любило науку, ученых и студентов так, как Николай, то его литература давно бы уже имела целые эпопеи, сказания и жития, каких, к сожалению, она не имеет теперь.
Сообщив мне новость, Николай придает своему лицу строгое выражение, и у нас начинается деловой разговор. Если бы в это время кто-нибудь посторонний послушал, как Николай свободно обращается с терминологией, то, пожалуй, мог бы подумать, что это ученый, замаскированный солдатом. Кстати сказать, толки об учености университетских сторожей сильно преувеличены. Правда, Николай знает больше сотни латинских названий, умеет собрать скелет, иногда приготовить препарат, рассмешит студентов какой-нибудь длинной, ученой цитатой, но, например, незамысловатая теория кровообращения для него и теперь так же темна, как 20 лет назад.
За столом в кабинете, низко нагнувшись над книгой или препаратом, сидит мой прозектор Петр Игнатьевич, трудолюбивый, скромный, но бесталанный человек, лет 35, уже плешивый и с большим животом. Работает он от утра до ночи, читает массу, отлично помнит все прочитанное — и в этом отношении он не человек, а золото; в остальном же прочем — это ломовой конь, или, как иначе говорят, ученый тупица. Характерные черты ломового коня, отличающие его от таланта, таковы: кругозор его тесен и резко ограничен специальностью; вне своей специальности он наивен как ребенок. Помнится, как-то утром я вошел в кабинет и сказал:
— Представьте, какое несчастье! Говорят, Скобелев умер.
Николай перекрестился, и Петр Игнатьевич обернулся ко мне и спросил:
— Какой это Скобелев?
В другой раз — это было несколько раньше — я объявил, что умер профессор Перов. Милейший Петр Игнатьевич спросил:
— А что он читал?
Кажется, запой у него под самым ухом Патти, напади на Россию полчища китайцев, случись землетрясение, он не пошевельнется ни одним членом и преспокойно будет смотреть прищуренным глазом в свой микроскоп.
Другая черта: фанатическая вера в непогрешимость науки и главным образом всего того, что пишут немцы. Он уверен в самом себе, в своих препаратах, знает цель жизни и совершенно не знаком с сомнениями и разочарованиями, от которых седеют таланты. Рабское поклонение авторитетам и отсутствие потребности самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь трудно, спорить с ним невозможно. Извольте-ка поспорить с человеком, который глубоко убежден, что самая лучшая наука — медицина; самые лучшие люди — врачи, самые лучшие традиции — медицинские. От недоброго медицинского прошлого уцелела только одна традиция — белый галстук, который носят теперь доктора; для ученого же и вообще образованного человека могут существовать только традиции общеуниверситетские, без всякого деления их на медицинские, юридические и т. п., но Петру Игнатьевичу трудно согласиться с этим и он готов спорить с вами до страшного суда.
Будущность его представляется мне ясно. За всю свою жизнь он приготовит несколько сотен препаратов необыкновенной чистоты, напишет много сухих, очень приличных рефератов, сделает с десяток добросовестных переводов, но пороха не выдумает. Для пороха нужны фантазия, изобретательность, умение угадывать, а у Петра Игнатьевича нет ничего подобного. Короче говоря, это не хозяин в науке, а работник.
Я, Петр Игнатьевич и Николай говорим вполголоса. Нам немножко не по себе. Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория. За 30 лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждое утро. Я нервно застегиваю сюртук, задаю Николаю лишние вопросы, сержусь… Похоже на то, как будто я трушу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не в состоянии ни назвать, ни описать.
Без всякой надобности я смотрю на часы и говорю:
Что ж? Надо идти.
И мы шествуем в таком порядке: впереди идет Николай с препаратами или с атласами, за ним я, а за мною, скромно поникнув головою, шагает ломовой конь; или же, если нужно, впереди на носилках несут труп, за трупом идет Николай и т. д. При моем появлении студенты встают, потом садятся, и шум моря внезапно стихает. Наступает штиль.
Я знаю, о чем буду читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы. Но стоит мне только оглядеть аудиторию (она построена у меня амфитеатром) и произнести стереотипное „в прошлой лекции мы остановились на…“, как фразы длинной вереницей вылетают из моей души и — пошла писать губерния! Говорю я неудержимо быстро, страстно и, кажется, нет той силы, которая могла бы прервать течение моей речи. Чтобы читать хорошо, т. е. нескучно и с пользой для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь еще сноровку и опыт, нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи. Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрения.
Хороший дирижер, передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел: читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то волторны и проч. То же самое и я, когда читаю. Предо мною полтораста лиц непохожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя — победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разумения, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне самом. Это — бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное, и так же быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы ее внимание, причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива. Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только час и сорок минут. Одним словом, работы не мало. В одно и то же время приходится изображать из себя и ученого, и педагога, и оратора, и плохо дело, если оратор победит в вас педагога и ученого, или наоборот.
Читаешь четверть, полчаса и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать на потолок, на Петра Игнатьевича, один полезет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнется своим мыслям… Это значит, что внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, я говорю какой-нибудь каламбур. Все полтораста лиц широко улыбаются, глаза весело блестят, слышится ненадолго гул моря… Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, и я могу продолжать.
Никакой спорт, никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне такого наслаждения, как чтение лекции. Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле. И я думаю, Геркулес после самого пикантного из своих подвигов не чувствовал такого сладостного изнеможения, какое переживал я всякий раз после лекций.
После лекции я сижу у себя дома и работаю. Читаю журналы, диссертации, или готовлюсь к следующей лекции, иногда пишу что-нибудь. Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей.
Слышится звонок. Это товарищ пришел поговорить о деле. Он входит ко мне со шляпой, с палкой и, протягивая ко мне ту и другую, говорит:
— Я на минуту, на минуту! Сидите, collega! Только два слова!
Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня; при этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя не говорим ничего смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу головами и начинаем говорить вполголоса. Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем, чтобы не золотить нашей речи всякой китайщиной, вроде: „вы изволили справедливо заметить”, или „как я уже имел честь вам сказать”, не можем, чтобы не хохотать, если кто из нас сострит, хотя бы неудачно. Кончив говорить о деле, товарищ порывисто встает и, помахивая шляпой в сторону моей работы, начинает прощаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. Провожаю до передней; тут помогаю товарищу надеть шубу, но он всячески уклоняется от этой высокой чести. Затем, когда Егор отворяет дверь, товарищ уверяет меня, что я простужусь, а я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу. И когда, наконец, я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое все еще продолжает улыбаться, должно быть, по инерции.
Немного погодя, другой звонок. Кто-то входит в переднюю, долго раздевается и кашляет. Егор докладывает, что пришел студент. Я говорю: проси. Через минуту входит ко мне молодой человек приятной наружности. Вот уж год, как мы с ним находимся в натянутых отношениях; он отвратительно отвечает мне на экзаменах, а я ставлю ему единицы. Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человек семь. Те из них, которые не выдерживают экзамена по неспособности или по болезни, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со мной; торгуются же и ходят ко мне на дом только сангвиники, широкие натуры, которым проволочка на экзаменах портит аппетит и мешает аккуратно посещать оперу. Первым я мирволю, а вторых гоняю по целому году.
— Садитесь, — говорю я гостю. — Что скажете?
— Извините, профессор, за беспокойство… — начинает он, заикаясь и не глядя мне в лицо. — Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не… Я держал у вас экзамен уже пять раз и… и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне „удовлетворительно”, потому что…
Аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же: они прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моем, и это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его прекрасно; срезались же они, благодаря какому-то непонятному недоразумению.
— Извините, мой друг, — говорю я гостю, — поставить вам „удовлетворительно” я не могу. Подите еще почитайте лекции и приходите. Тогда увидим.
Пауза. Мне приходит охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу он любит больше, чем науку, и я говорю со вздохом:
— По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сделать, это — совсем оставить медицинский факультет. Если при ваших способностях вам никак не удается выдержать экзамена, то, очевидно, у вас нет ни желания, ни призвания быть врачом.
Лицо сангвиника вытягивается.
— Простите, профессор, — усмехается он, — но это было бы с моей стороны по меньшей мере странно. Проучиться пять лет и вдруг… уйти!
— Ну, да! Лучше потерять даром пять лет, чем потом всю жизнь заниматься делом, которого не любишь.
Но тотчас же мне становится жаль его и я спешу сказать:
— Впрочем, как знаете. Итак, почитайте еще немножко и приходите.
— Когда? — глухо спрашивает лентяй.
— Когда хотите. Хоть завтра.
И в его добрых глазах я читаю: „Придти-то можно, но ведь ты, скотина, опять меня прогонишь!”
— Конечно, — говорю я, — вы не станете ученее оттого, что будете у меня экзаменоваться еще пятнадцать раз, но это воспитает в вас характер. И на том спасибо.
Наступает молчание. Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость, а он стоит, смотрит на окно, теребит свою бородку и думает. Становится скучно.
Голос у сангвиника приятный, сочный, глаза умные, насмешливые, лицо благодушное, несколько помятое от частого употребления пива и долгого лежанья на диване; по-видимому, он мог бы рассказать мне много интересного про оперу, про свои любовные похождения, про товарищей, которых он любит, но, к сожалению, говорить об этом не принято. А я бы охотно послушал.
— Профессор! Даю вам честное слово, что если вы поставите мне „удовлетворительно”, то я…
Как только дело дошло до „честного слова”, я махаю руками и сажусь за стол. Студент думает еще минуту и говорит уныло:
— В таком случае прощайте… Извините.
— Прощайте, мой друг. Доброго здоровья.
Он нерешительно идет в переднюю, медленно одевается там и, выйдя на улицу, вероятно, опять долго думает; ничего не придумав, кроме „старого чорта” по моему адресу, он идет в плохой ресторан пить пиво и обедать, а потом к себе домой спать. Мир праху твоему, честный труженик!
Третий звонок. Входит молодой доктор в новой черной паре, в золотых очках и, конечно, в белом галстуке. Рекомендуется. Прошу садиться и спрашиваю, что угодно. Не без волнения молодой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдержал экзамен на докторанта и что ему остается теперь только написать диссертацию. Ему хотелось бы поработать у меня, под моим руководством, и я бы премного обязал его, если бы дал ему тему для диссертации.
— Очень рад быть полезным, коллега, — говорю я, — но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертация. Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества. Не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе…
Докторант молчит. Я вспыхиваю и вскакиваю с места.
— Что вы все ко мне ходите, не понимаю? — кричу я сердито. — Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами! В тысячу первый раз прошу вас всех оставить меня в покое! Извините за неделикатность, но мне, наконец, это надоело!
Докторант молчит и только около его скул выступает легкая краска. Лицо его выражает глубокое уважение к моему знаменитому имени и учености, а по глазам его я вижу, что он презирает и мой голос, и мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцию. В своем гневе я представляюсь ему чудаком.
— У меня не лавочка! — сержусь я. — И удивительное дело! Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вам так противна свобода?
Говорю я много, а он все молчит. В конце концов я мало-помалу стихаю и, разумеется, сдаюсь. Докторант получит от меня тему, которой грош цена, напишет под моим наблюдением никому ненужную диссертацию, с достоинством выдержит скучный диспут и получит ненужную ему ученую степень.
А. Чехов
VI. Открытие памятника Пушкину (1880 г.)
1. Воспоминания участника торжеств. А. Кони
Открытие памятника Пушкина было одним из незабвенных событий русской общественной жизни последней четверти прошлого столетия. Тот, кто в нем участвовал, конечно, навсегда сохранил о нем самое светлое воспоминание. После ряда удушливых в нравственном и политическом смысле лет, с начала 1880 года стало легче дышать, и общественная мысль и чувство начали принимать хотя и не вполне определенные, но во всяком случае более свободные формы. В затхлой атмосфере застоя, где все стало покрываться ржавчиной отсталости, вдруг пронеслись свежие струи чистого воздуха — и все постепенно стало оживать. Блестящим проявлением такого оживления был и Пушкинский праздник в Москве. Мне пришлось в нем участвовать в качестве представителя петербургского юридического общества и начать испытывать прекрасные впечатления, им вызванные, от самого момента выезда в Москву. Дело в том, что открытие памятника было первоначально назначено на 26-ое мая, но смерть императрицы Марии Александровны заставила отнести это открытие на 2-ое июня, а какое-то недоразумение при вторичном докладе о том председателя комиссии по сооружению памятника, принца Петра Георгиевича Ольденбургского, вызвало новую отсрочку до 6-го июня. Между тем, управление Николаевской железной дороги объявило об отправлении экстренного удешевленного поезда в Москву и обратно для желающих присутствовать при открытии памятника. К 24-му мая на поезд записалась масса народу. Когда последовала отсрочка, большинство тех, кого поездка интересовала исключительно, своею дешевизной, а в Москву привлекали личные дела, отказалось от взятия записанных на себя билетов, хотя все-таки осталось довольно много желавших ехать. Но после второй отсрочки записавшимися на поезд оказались ехавшие для участия в открытии памятника. Поэтому поезд, отправившийся из Петербурга 4-го июня в четыре часа, носил совершенно своеобразный характер. В его вагонах сошлись очень многие видные представители литературы и искусства и депутаты от различных обществ и учреждений. Общность цели скоро сблизила всех в одном радостном ощущении того, что впоследствии А. Н. Островский назвал в своей речи „праздником на нашей улице”. Хорошему настроению соответствовал прекрасный летний день, сменившийся теплым и ясным лунным вечером. В поезде оказался некто Мюнстер, знавший наизусть почти все стихотворения Пушкина и прекрасно их декламировавший. Когда смерклось, он согласился прочесть некоторые из них. Весть об этом облетела поезд, и вскоре в длинном вагоне первого класса на откинутых креслах и на полу разместились чуть не все ехавшие. Короткая летняя ночь прошла в благоговейном слушании „Фауста”, „Скупого рыцаря”, отрывков из „Медного всадника”, писем и объяснений Онегина и Татьяны, „Египетских ночей”, диалога между Моцартом и Сальери. Мюнстер так приподнял общее настроение, что, когда он окончил, на середину вагона выступил Яков Петрович Полонский и прочел свое прелестное стихотворение, предназначенное для будущих празднеств и начинавшееся словами: „Пушкин — это старой няни сказка”. За ним последовал Плещеев, тоже со стихотворением ad hoc, — и все мы встретили, после этого поэтического всенощного бдения, восходящее солнце растроганные и умиленные.

В день приезда в Москву последовал торжественный прием депутаций в зале Городской Думы и чтение адресов и присутствий, при чем вследствие того, что юридические общества прислали представителей, не озаботясь снабдить их адресами, я прочел петербургский адрес, как приветствие от всех русских юридических обществ, в группе представителей которых общее внимание привлекала доктор прав лейпцигского университета Анна Михайловна Евреинова. На другой день, с утра, Москва приняла праздничный вид, и у памятника, закутанного пеленой, собрались многочисленные депутации с венками и хоругвями трех цветов: белого, красного и синего — для правительственных учреждений, ученых и литературных обществ и редакций. Ко времени окончания литургии в Страстном монастыре яркие лучи солнца прорезали облачное небо, и, когда из монастырских ворот показалась официальная процессия, колокольный звон слился с звуками оркестров, исполнявших коронационный марш Мендельсона. На эстраду взошел принц Ольденбургский со свитком акта о передаче памятника городу. Наступила минута торжественного молчания: городской голова махнул свитком, пелена развернулась и упала, и, под восторженные крики „ура“ и пение хоров, запевших „Славься“ Глинки, предстала фигура Пушкина с задумчиво склоненной над толпою головой. Казалось, что в эту минуту великий поэт простил русскому обществу его старую вину перед собою и временное забвение. У многих на глазах заблистали слезы… Хоругви задвигались, поочередно склоняясь перед памятником, и у подножья его стала быстро расти гора венков.
Через час, в обширной актовой зале университета, наполненной так, что яблоку было негде упасть, состоялось торжественное заседание. На кафедру взошел ректор университета, Н. С. Тихонравов, и с обычным легким косноязычием объявил, что университет, по случаю великого праздника русского просвещения, избрал в свои почетные члены председателя комиссии по сооружению памятника, академика Якова Карловича Грота и Павла Васильевича Анненкова, так много содействовавшего распространению и критической разработке творений Пушкина. Единодушные рукоплескания приветствовали эти заявления. „Затем, — сказал Тихонравов, — университет счел своим долгом просить принять это почетное звание нашего знаме…“, но ему не дали договорить. Точно электрическая искра пробежала по зале, возбудив во всех одно и то же представление и заставив в сердце каждого прозвучать одно и то же имя. Неописуемый взрыв рукоплесканий и приветственных криков внезапно возник в обширном зале и бурными волнами стал носиться по ней. Тургенев встал, растерянно улыбаясь и низко наклоняя свою седую голову с падающею на лоб прядью волос. К нему теснились, жали ему руки, кричали ему ласковые слова, и, когда до него, наконец, добрался министр народного просвещения Сaбyров и обнял его, утихавший было шум поднялся с новой силой. В лице своих лучших представителей, русское мыслящее общество как бы венчало в нем достойнейшего из современных ему преемников Пушкина. Лишь появившийся на кафедре Ключевский, начавший свою замечательную речь о героях произведений Пушкина, заставил утихнуть общее восторженное волнение.
Несмотря на слабый голос, он быстро овладел присутствующими. В его манере говорить я почувствовал особое уменье насторожить и обострить внимание слушателей. Простое, без всяких вычур, слово его было так полновесно и с таким искусством соединяло в себе отвлеченные определения, широкие обобщения и жизненные образы, что слушающий очень скоро почувствовал себя вполне во власти лектора. В сжатое и точное его изложение по временам и совершенно неожиданно вправлялись афоризмы, в которых одновременно блистали яркая мысль и тонкое остроумие. Пушкин-поэт и Пушкин-историк предстали в речи Ключевского перед слушателями в своем взаимоотношении, освещенном ново и оригинально. Пушкин оказался всего менее историком в своих исторических сюжетах — в „Полтаве”, „Борисе Годунове” и др. и дал ценный материал для историка в повести, написанной между делом и без претензий на историческую доверенность. „Капитанская дочка”, по мнению Ключевского, представляла такое правдивое воспроизведение эпохи, такую выхваченную из подлинной жизни того времени картину, что специальное исследование Пушкина „История Пугачевского бунта” может быть рассматриваемо только, как подробное примечание к „Капитанской дочке”. A затем Ключевский представил последовательное развитие главнейших типов ХVIII и начала XIX столетий, закрепленных Пушкиным в различных его произведениях. Указывая на генетическую связь между ними, он в особенности остановился на одном зародившемся с лишком двести лет назад, в лице выдающегося исторического дельца — Ордина-Нащокина, и выраженном во времена Пушкина скучающим от безделья Евгением Онегиным. „Это русский человек, — говорил Ключевский, — который вырос в убеждении, что, хотя он и не родился европейцем, но обязан стать им. Без его биографии пустеет история нашего общества последних двух столетий. Около него сосредоточиваются, иногда от него исходят самые важные умственные, а подчас и политические движения”. В ряде почерпнутых у Пушкина, определенно и рельефно описанных образов прошли перед нами разнообразные виды этого типа, зависевшие от различных способов решения рокового вопроса о том, как сделаться европейцем, родившись русским, и решив, что русский — не европеец. Тут были и те, которые находили, что русское надо делать по-западноевропейски, и те, которые стремились переделать русское в западноевропейское, и те, которые думали стать европейцами, оставаясь русскими, и, наконец, те, которые находили, что необходимо перестать быть русскими. Между ними оказывались желающие заимствовать с Запада свет знания, но без огня, и желающие взять его целиком с тем, чтобы не подносить, однако, близко к глазам. Каждый из этих видов — арап Ибрагим, капитан Миронов, поручик Гринев, Дубровский и Троекуров — все эти типы, драгоценные для историка. Сами по себе будучи продуктом поэтического вымысла, они, однако, составляют существенное дополнение к историческим актам и мемуарам. Галерея заключалась историческим недорослем — не карикатурой, а простым и вседневным явлением, не лишенным довольно почтенных качеств. Это был самый обыкновенный русский дворянин средней руки, учившийся понемногу, сквозь слезы, при Петре, со скукой при Екатерине II, но сделавший нашу военную историю и протоптавший славный путь под руководством Румянцевых и Суворовых. К этой последней разновидности Пушкин относился с сочувствием, заставив капитанскую дочку предпочесть добродушного армейца Гринева блестящему гвардейцу Швабрину. „Историку восемнадцатого столетия, — заявил Ключевский, — остается одобрить и сочувствие Пушкина, и вкус капитанской дочки”. Свое чтение Ключевский закончил характеристикой Евгения Онегина и его ближайших потомков — Чацкого и Печорина и указанием, что заслуга Пушкина для истории в том, что он дал связную летопись нашего общества в лицах с лишком за целое столетие и как художник стал между составителем мемуаров и историком, к великой радости последнего.
Речь Ключевского, осветив творчество Пушкина с новой стороны, произвела глубокое впечатление и вызвала во многих местах шепот сочувствия, которое еще до конца ее выразилось в громких рукоплесканиях.
Вечером, в зале Дворянского Собрания, был первый из трех устроенных в память Пушкина концертов, с пением и чтением поэтических произведений. На устроенной в зале сцене стоял среди тропических растений большой бюст Пушкина, и на нее поочередно выходили представители громких литературных имен, и каждый читал что-либо из Пушкина или о Пушкине. Островский, Полонский, Плещеев, Чаев, вперемежку с артистами и певцами, прошли пред горячо настроенной публикой. Появился и грузный, с типическим лицом и выговором костромского крестьянина, всклокоченный и с большими глазами на выкате Писемский. Вышел и Тургенев. Приветствуемый особенно шумно, он подошел к рампе и стал декламировать на память, и нельзя сказать, чтобы особенно искусно. „Последнюю тучу рассеянной бури”, но на третьем стихе запнулся, очевидно его позабыв, и, беспомощно разведя руками, остановился. Тогда из публики, с разных концов, ему стали подсказывать все громче и громче. Он улыбнулся и сказал конец стихотворения вместе со всею залой. Этот милый эпизод еще более подогрел общее чувство к нему, и когда, в конце вечера, под звуки музыки все участники вышли на сцену с ним во главе, и он возложил на голову бюста лавровый венок, а Писемский затем, сняв этот венок, сделал вид, что кладет его на голову Тургенева, — весь зал огласился нескончаемыми рукоплесканиями и громкими криками „браво”. На следующий день, в торжественном заседании Общества любителей Российской Словесности в том же Дворянском Собрании, Иван Сергеевич читал свое слово о Пушкине с большим одушевлением и чувством, и заключительные слова его о том, что должно настать время, когда на вопрос, кому подставлен только что открытый накануне памятник, простой русский человек ответит: „учителю!” — снова вызвали бурную овацию.
Три дня продолжались празднества и растроганное настроение так или иначе причастных к ним, при чем главным живым героем этих торжеств являлся, по общему признанию, Тургенев. Но на третий день его заменил в этой роли Федор Михайлович Достоевский. Тому, кто слышал его известную речь в этот день, конечно, с полной ясностью представилось, какой громадной силой и влиянием может обладать человеческое слово, когда оно сказано с горячей искренностью среди назревшего душевного настроения слушателей. Сутуловатый, небольшого роста, обыкновенно со слегка опущенной головой и усталыми глазами, с нерешительным жестом и тихим голосом, Достоевский совершенно преобразился, произнося свою речь. Еще накануне, слушая его на вечере превосходно читающим „Как весенней раннею порою” и декламирующим Пушкинского „Пророка”, нельзя было предвидеть того полного преображения, которое с ним произошло во время его речи, хотя стихи были сказаны им прекрасно и производили сильное впечатление, особенно в том месте, где он, вытянув перед собою руку и как бы держа в ней что-то, сказал дрожащим голосом: „И сердце трепетное вынул!” — Речь Достоевского в чтении не производит и десятой доли того впечатления, которое она вызвала при произнесении. Содержание ее, в свое время, дало повод к ряду не лишенных основания возражений. Но тогда, в Пушкинские дни, с эстрады Дворянского Собрания, пред нервно-настроенной и восприимчивой публикой, она была совсем иною. Участники этих дней не только особенно горячо любили в это время Пушкина, но многие простаивали подолгу перед его памятником, как бы не в силах будучи наглядеться на бронзовое воплощение „властителя дум“ и виновника общего захватывающего одушевления. В мыслях о судьбе и творчестве безвременно погибшего поэта сливались скорбь и восторг, гнев и гордость истинною, непререкаемою славой русского народного гения. Эти чувства, без сомнения, глубоко влияли и на Достоевского, которому лишь в конце его „судьбой отсчитанных дней” пришлось испытать общее признание после долгих лет тяжелых страданий, материальной нужды, упорного труда и вольного и невольного непонимания со стороны литературных судей. На эстраде он вырос, гордо поднял голову, его глаза на бледном от волнения лице заблистали, голос окреп и зазвучал с особой силой, а жест стал энергическим и повелительным. С самого начала речи между ним и всею массой слушателей установилась та внутренняя духовная связь, сознание и ощущение которой всегда заставляют оратора почувствовать и расправить свои крылья. В зале началось сдержанное волнение, которое все росло, и когда Федор Михайлович окончил, то наступила минута молчания, а затем, как бурный поток, прорвался неслыханный и невиданный мною в жизни восторг. Рукоплескания, крики, стук стульями сливались воедино и, как говорится, потрясли стены зала. Многие плакали, обращались к незнакомым соседям с возгласами и приветствиями; многие бросились к эстраде, и какой-то молодой человек лишился чувств от охватившего его волнения. Почти все были в таком состоянии, что, казалось, пошли бы за оратором, по первому его призыву, куда угодно! Так, вероятно, в далекое время, умел подействовать на собравшуюся толпу Савонарола. После Достоевского должен был говорить Аксаков, но он вышел пред продолжавшею волноваться публикой и, назвав только что слышанную речь „событием”, заявил, что не в состоянии говорить после Федора Михайловича. Заседание было возобновлено лишь через полчаса. Речь Достоевского поразила даже и иностранцев, которые, однако, не могли чувствовать таинственных нитей, связывающих некоторые ее места и выражения с сердцем русских людей в его сокровенной глубине. Профессор русской литературы в парижском университете, Луи Лежэ, приехавший специально на Пушкинские празднества, говорил мне вечером в тот же день, что совершенно подавлен блеском и силой этой речи, весь находится под ее обаянием и желал бы передать свои впечатления во всем их объеме „au Maître”, т. е. Виктору Гюго, в таланте которого, по его мнению, так много общего с Достоевским.
А.Ф. Кони
2. Речь Ф.М. Достоевского (в сокращении)
Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание.
В европейских литературах были громадной величины художественные гении — Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть на одного из этих великих гениев, который бы обладал такою способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный поэт. Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себе с такой силой гений чужого, соседнего, может быть, с ними народа, дух его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призвания, как мог это проявлять Пушкин. Напротив, обращаясь к чужим народностям, европейские поэты чаще всего перевоплощали их в свою же национальность и понимали по-своему. Даже у Шекспира, его итальянцы, например, почти сплошь те же англичане. Пушкин лишь один изо всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность. Вот сцены из Фауста, вот Скупой Рыцарь и баллада Жил на свете рыцарь бедный. Перечтите Дон-Жуана, и если бы не было подписи Пушкина, вы бы никогда не узнали, что это написал не испанец. Какие глубокие, фантастические образы в поэме: Пир во время чумы! Но в этих фантастических образах слышен гений Англии; эта чудесная песня о чуме героя поэмы, эта песня Мери со стихами:
Наших деток в шумной школе
Раздавались голоса,
это английские песни, это тоска британского гения, его плач, его страдальческое предчувствие своего грядущего. Вспомните странные стихи:
Однажды странствуя среди долины дикой —
Это почти буквальное переложение первых трех страниц из странной мистической книги, написанной в прозе, одного древнего английского религиозного сектатора, — но разве это только переложение? В грустной и восторженной музыке этих стихов чувствуется самая душа северного протестантизма, английского ересиарха, безбрежного мистика, с его тупым, мрачным и непреоборимым стремлением и со всем безудержем мистического мечтания. Читая эти странные стихи, вам как бы слышится дух веков реформации; вам понятен становится этот воинственный огонь начинавшегося протестантизма, понятна становится наконец самая история, и не мыслью только, а как будто вы сами там были, прошли мимо вооруженного стана сектантов, пели с ними их гимны, плакали с ними в их мистических восторгах и веровали вместе с ними в то, во что они поверили. Кстати: вот рядом с этим религиозным мистицизмом, религиозные же строфы из Корана или „Подражания Корану”: разве тут не мусульманин, разве это не самый дух Корана и меч его, простодушная величавость веры и грозная кровавая сила ее? А вот и древний мир, вот Египетские Ночи, вот эти земные боги, севшие над народом своим богами, уже презирающие гений народный и стремления его, уже не верящие в него более, ставшие впрямь уединенными богами и обезумевшие в отъединении своем, в предсмертной скуке своей и тоске тешащие себя фанатическими зверствами, сладострастием насекомых, сладострастием пауковой самки, съедающей своего самца. Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирною отзывчивостью как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось. Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а, по-нашему, и пророческое, ибо… ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк.
В самом деле, что такое для нас Петровская реформа, и не в будущем только, а даже и в том, что уже было, произошло, что уже явилось воочию? Что означала для нас эта реформа? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки. Вникнем, как дело было, поглядим пристальнее. Да, очень может быть, что Петр первоначально только в этом смысле и начал производить ее, т. е. в смысле ближайше-утилитарном, но впоследствии, в дальнейшем развитии им своей идеи, Петр несомненно повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несомненно огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм. Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а несомненно уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель, чем ближайший утилитаризм, — ощутив эту цель, опять-таки, конечно, повторяю это, бессознательно, но однако же и непосредственно и вполне жизненно. Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно (как казалось должно бы было случиться), а дружественно, с полною любовию приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примерять различия, и тем уже выказали готовность и наклонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после Петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой? Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть конечно, не мы, a будущие грядущие русские люди, поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное Слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону! Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал. Этому надлежало быть высказанным, но особенно теперь, в минуту торжества нашего, в минуту чествования нашего великого гения, эту именно идею в художественной силе своей воплощавшего. Да и высказывалась уже эта мысль не раз, я ничуть не новое говорю. Главное, все это покажется самонадеянным: „это нам-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово?” Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, из всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю „в рабском виде исходил благословляя Христос”. Почему же нам не вместить последнего слова Его? Да и сам он не в яслях ли родился? Повторяю: по крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание. Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней мере, на чем этой фантазии основаться. Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе, чем теперь, может быть, успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас, чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят. Жил бы Пушкин долее так, и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем.
VII. Московский Художественный театр
1. Театр правды. Т. Ардов
Стриндберг в предисловии к своей „Графине Юлии“ пишет:
— Я ужасно рад, что уничтожил ужасные уходы в дверь, так как холщевые театральные двери шатаются от малейшего прикосновения, и ни одна из них не дает понятия о гневе отца семейства, когда он после плохого обеда выскакивает и хлопает дверью „так что весь дом дрожит“. На сцене он шатается…
Он возмущен и декорациями:
— Кажется, нет ничего труднее, чем сделать комнату, похожую на комнату: художнику гораздо легче изобразить вулкан или водопад. Пусть стены будут из холста, но пора уже перестать рисовать на полотне полки и кухонную утварь. И без того на сцене много всяких условностей, которым нужно в е р и т ь, и следовало бы избавить нас от труда верить в намалеванные кастрюли.
Зная традицию сцены — не поворачиваться к публике спиной — Стриндберг нарочно помещает заднюю стену и стол наискось, чтобы актерам, верным своем долгу, не приходилось изгибаться и садиться боком друг к другу, лишь бы быть к публике лицом.
Стриндберг требует упразднения рампы.
Разве свет снизу не скрадывает многих тонких черточек в нижней части лица, не искажает форму носа, не бросает тени на глаза? Актерам больно смотреть — и от этого теряется выразительная игра глаз, так как свет рампы попадает на такие части сетчатки, которые обычно защищены. Вот почему редко встречается иная игра глаз, кроме грубого вращения или закатывания вверх до такой степени, что видны лишь белки. И если актер хочет на сцене говорить глазами, то ему остается только один дурной прием: смотреть прямо в публику, с которою он вступает тогда в непосредственные сношения; эта некрасивая манера — справедливо или нет — называется „здороваться со знакомыми”.
— Я от души хотел бы, — робко заявляет Стриндберг, — чтобы решающие сцены не исполнялись у суфлерской будки, как оперные дуэты, с целью сорвать аплодисменты.
В области грима он не мечтает о многом, лишь бы актеры не придавали своим лицам характера масок, которые остаются неизменными и не дают возможности играть. Как может накладной лоб, гладкий, словно биллиардный шар, морщиться, когда старик сердится; как может улыбаться артист, у которого между глазами проведена углем гневная черта — этакий Сен-Бри из „Гугенот”!
Если бы, вдобавок, устранить видимый оркестр с его раздражающими лампами; если бы поднять партер настолько, чтобы глаз зрителя приходился выше колен актера; если бы убрать ложи авансцены с их ротозеями; если бы затемнить зал во время действия, а самое главное, если бы иметь маленькую сцену и маленький зрительный зал, то, быть может, — заканчивает Стриндберг, — возникла бы новая драма или, по крайней мере, театр опять стал бы источником наслаждения для людей образованных.
Так мечтал Стриндберг. Он не был в Москве, не посетил московского Художественного театра. Здесь он увидел бы осуществленными все мечты свои и многое другое, о чем не смел он и мечтать.

Он увидел бы наяву, а не в мечтах, этот „маленький театр, источник наслаждения для образованных людей”, способный претворять в таинство театральную пьесу.
С того дня, когда возник этот театр-храм, началась новая эра нашей театральной истории. Была, наконец, найдена сценическая правда, и новые горизонты, новые дали открылись перед театром. Мы увидели на сцене гармоническое сочетание искусств; сценическая драма слилась с жизнью и с силою самой жизни стала действовать на сердца.
Еще никогда не было переворота более решительного и, вместе с тем, более естественного в истории сцены, чем эта натуралистическая революция, названная Художественным театром.
Да будет слава этим людям, чья вся жизнь — один великий подвиг служения художественной правде!
Т. Ардов
2. Чехов и Художественный театр. Н. Эфрос
Сближение Чехова с Художественным театром началось с самого возникновения театра. Чехов был в числе первых пайщиков и отнесся к начинанию Немировича-Данченко и Станиславского с очень живым интересом и большой верой. Но интересоваться ему пришлось издали. Уже остро давала себя знать болезнь легких. Врачи снова услали Антона Павловича в Ялту, которую он не раз в письмах той поры к московским друзьям звал „своим „Чертовым островом”, а себя — „Дрейфусом”. Чехов часто писал то к тому, то к другому из близких к Художественному театру, расспрашивал о всех подробностях, особенно интересовался репертуаром.
Когда В.И. Немирович-Данченко, этот великий энтузиаст Чехова-драматурга, не желавший принять грибоедовскую премию за свою „Цену жизни”, потому что считал, что премия эта по праву принадлежит автору „Чайки”, завел с Чеховым речь о постановке его „Чайки”, А.П. запротестовал самым энергичным образом, уверял, что он — не драматург, что его играть не нужно.
Три крушения — „Иванова”, „Лешего” (в московском театре Абрамовой) и „Чайки” (в Александринском театре) — отбили охоту от новых опытов. Однако, Чехов не умел долго отказывать. И дал, наконец, согласие на постановку. Да и как было отказать тому театру, к которому он уже успел привязаться душой, успеху которого так радовался, потому что, писал он через неделю после открытия театра, — „этот ваш успех еще раз лишнее доказательство, что и публике, и актерам нужен интеллигентный театр”. „Чайка” была дана.
Над „Чайкой” работали много, в громадной тревоге. „Впервые были у нас тут, — говорил Станиславский, — живые переживания, близкие душе тогдашнего русского человека. Стал вырисовываться, хотя еще туманно, принцип держания публики на внутренних переживаниях”. И не было уверенности, что это осуществимо, что этого удалось достигнуть, что это „дойдет” до зрительной залы. Особенно не клеилась „Чайка” на генеральной репетиции. Настроение в театре на этой репетиции было тяжелое, унылое. Томили черные предчувствия. К концу репетиции такие настроения еще сгустились. В театр приехала сестра Чехова, Мария Павловна, и передала, что, судя по последнему письму из Ялты, А. П. плохо себя чувствует; она знает, догадывается, что причина тому — предстоящий спектакль „Чайки”. Первый провал „Чайки” был толчком к болезни. Сестра с острой тревогой думала, выдержит ли горячо любимый брат второй такой толчок. И она умоляла лучше отказаться от постановки, снять, пока не поздно, „Чайку”, не рисковать здоровьем Чехова… Художественный театр устроил тут же особое совещание, чтобы решить, как быть. Но все ясно понимали: отказаться от „Чайки” — почти то же это, что отказаться от театра, поставить на нем крест, что тут стоит вопрос, быть ему или не быть. Решили, что отменять спектакль нельзя. Спектакль состоялся. В какой мере Чехов-драматург интересовал тогда московскую публику, видно из цифры сбора на эту премьеру. В кассе было 600 рублей…
Думаю, у всех, кто был в тот вечер в театре Эрмитаж, навсегда неизгладимо сохранится воспоминание о первом спектакле „Чайки”, что живет оно в памяти, как один из самых ярких и самых дорогих следов. Прошло 14 лет, и таких богатых большими театральными впечатлениями и таких разнообразных. А когда начинаешь отдаваться мыслями о Художественном театре, впереди всего вырастает этот спектакль чеховской пьесы, первый чеховский вечер будущего „театра Чехова”. Но во сколько раз более ярко живет этот спектакль в памяти его участников, тех, которые тот вечер провели на подмостках и за кулисами.
— Как мы играли, что говорили, — рассказывал К. С. Станиславский, — никто из нас не помнит, потому что все мы едва стояли на ногах, каждый из нас только мучительно сознавал, что нужно иметь успех, так как от этого зависит, может быть, самая жизнь любимого поэта.
— Опустился занавес, — вспоминает он дальше, — при гробовом молчании. Мы все похолодели. С Книппер сделалось дурно, Роксанова, разразилась слезами. Как продолжительно было молчание публики, можно судить по тому, что мы уже ушли в уборные.
И вдруг зала закипела в восторгах. Грянул гром рукоплесканий. Публика пришла в себя от пережитого, от потрясших ее волнений — и затишье, так неверно истолкованное за сценой, сменилось бурей. Когда я теперь прослеживаю свои тогдашние впечатления от первого акта, мне становится ясно, что захват зрителя начался почти с первых же сцен акта. Но еще было какое-то внутреннее колебание. Было нужно что-то, что ударило бы с особенной силой, нужно было еще какое-то напряжение обаяния, чтобы впечатлениям была дана полная победа над душой. И этот последний удар был дан М. П. Лилиной, игравшей Машу, ее последними словами, ее слезами, с которыми рухнула она безнадежно на садовую скамейку. Этот момент решил сценическую судьбу „Чайки”, я рискну сказать даже — судьбу Чехова в театре. Чехов и Художественный театр победили. И надолго. Немирович-Данченко мечтал не напрасно; театр рисковал не напрасно, не пойдя следом за М. П. Чеховой.
— Помню, — рассказывал К. С. Станиславский, — как помощник режиссера подбежал ко мне и удивил меня той бесцеремонностью, с какой он толкнул меня на сцену. Там уже был раздвинут занавес. Публика повскакала с мест, аплодировала, шумела. Мы были растерянные, невменяемые. Мы стояли на вытяжку, никому и в голову не пришло поклониться публике. После первого акта нас вызвали 12 раз. Мы поняли, что это —успех.
— Стало как на пасхе, — рассказывал Вл. И. Немирович-Данченко.
Все целовались. Только кто-то, не выдержав такого крутого скачка, разрыдался. Все, что было как-нибудь близко театру: рабочие, портнихи, ученики, статисты — все высыпали на сцену. Все обнимались. Пришлось затянуть антракт. У всех от слез сошел грим, пришлось перегримироваться.
Второй акт прошел без особого успеха, в третьем повторилось почти то же, что было после первого акта. По окончании спектакля публика стала требовать, чтобы Чехову послали в Ялту телеграмму. Немирович-Данченко составил ее текст и прочел его со сцены. Новая шумная овация…
Н. Эфрос
VII. Открытие памятника Гоголю
1. 26 апреля 1909 года. Р. М.
Москве выпала завидная доля — воздвигнуть автору „Мертвых душ“ памятник, достойный его славы, через сто лет после его рождения.
В этом факте сказались не только центральное значение нашей древней столицы для всего хода русской культуры, но и то, что Гоголь любил Москву более всех великорусских мест, где ему приходилось проживать.
Соперничать в его чувстве к тому или иному городу с Москвой может только „вечный город” — Рим!
П. Боборыкин
Сырой холодный день; пронизывающий северный ветер и низко нависшие тучи, — угрюмые, лохматые. Но уже с 9 ч. утра и к храму Христа Спасителя и в особенности к Арбатской площади, где высится закрытый серым, холодным брезентом памятник, „великого художника и сатирика русской земли”, двигаются громадные толпы народа — всех сословий, званий и состояний.
Чем ближе к Арбатской пл. и к храму Спасителя, тем гуще, теснее толпа. На тротуарах стройные ряды училищ, гимназий, школ и приютов. Ученицы, несмотря на холодную погоду, в соломенных шляпках, летних кофточках, и белых передниках. Юные личики покраснели от холода.
Толпа прибывает все больше и больше — на площадке становится тесно. Свежий ветерок колышет покрывало над скрытой под ним согбенной фигурой.
Чуть слышно доносится откуда-то сбоку церковное пение, заглушаемое гулом толпы. Цепь прорвана. Толпа около памятника.
После молебна соединенные оркестры и хоры грянули народный гимн. Толпа обнажила головы.
При провозглашении открытия с Высочайшего соизволения в Москве памятника Н. В. Гоголю, — серая пелена упала с памятника и десятки тысяч глаз устремились на понуро сидящую на гранитном пьедестале статую задумчивого, сосредоточенного Гоголя.
Среди наступившей тишины началась речь председателя общества любителей российской словесности А.Е. Грузинского:
„Миг вожделенный настал”, — миг, завершающий давно предпринятое дело: завеса спала и, пред нами увековеченный образ одного из сильнейших сынов России. Памятник есть не только торжественное признание гения благодарным потомством, он есть вместе и начало его второй, новой известности. Этот образ отныне становится крупным реальным фактом нашей жизни, он будет влиять на всех самым существованием своим и непрестанно будить новые мысли и чувства, как в людях, давно любящих и ценящих Гоголя, так и в тех, кому его имя еще не говорит ничего.

Всякий памятник есть триумф великого человека; и Гоголь вступает сегодня в русскую жизнь тоже триумфатором, но лишь на свой особый лад. Перед нами не светлое, гордо поднятое, увенчанное лаврами чело победителя, не повелительный жест и упоение торжеством славы… Надо хорошо всмотреться в эту скромную, простую позу человека, который одновременно и наблюдает, и глубоко ушел в себя, надо сочувственно вникнуть во всю напряженность внутренних его переживаний, — только эта скорбно поникшая голова, грустный, внимательный взгляд, озирающий всю громадно несущуюся жизнь, этот инстинктивный жест руки, ведающий скрытую силу чувств — все эти неяркие черты выступят пред нами во всей значительности, властно вызовут отклик грусти и восторга, и победитель Гоголь вонзит в наши сердца благотворное жало своей победы.
Долгим и трудным путем завоевывается такая победа, — своеобразная, единственная, не унижающая, а возвышающая побежденного.
О такой победе, о такой славе Гоголь мечтал всю жизнь…
„Сегодня исполнилась заветная мечта бескорыстного славолюбца Гоголя, и мы счастливы, что на нашу долю выпала честь быть теми потомками, о которых мечтал он, и этим памятником засвидетельствовать полную и окончательную победу его над нами.
Слава Гоголю-победителю”.
Р. М.
2. Речь кн. Е.Н. Трубецкого[24]
В „Переписке с друзьями” Гоголя есть замечательные слова, которые проникают в самую глубь наших современных дум.
„Вот уже почти полтораста лет протекло с тех пор, как Государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещения европейского, дал в руки нам все средства и орудия для дела. И до сих пор остаются так же пустынны, грустны и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо все вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, не под родной нашей крышею, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге; и дышит нам от России не радушным, родным приемом братьев, но какою-то холодною, занесенною вьюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный почтовый смотритель с черствым ответом: „Нет лошадей”.
Когда читаешь эти слова, кажется, точно они написаны вчера, до того они полны современного значения. Все так же теперь мы в России, словно чужие: все так же ищем и не находим родину. Все так же давит нас беспредельное пространство, не одухотворенное нашей культурной работой. По-прежнему тоскливо чувство неисполненного долга перед родной землей: бессильно движение вперед и безнадежно-холоден ответ смотрителя:
„Нет лошадей”.
Не те или другие преходящие черты эпохи, а сверхвременная сущность нашего народного характера выразилась в произведениях Гоголя; поэтому в них до сих пор мы можем читать печальную повесть не только о нашем прошлом, но и о настоящем России. В них все полно неумирающего значения.
Что же поведал нам Гоголь о России? Прежде всего она для него — синоним чего-то необъятного, беспредельного, „неизмеримая русская земля”. Но беспредельное — не содержание, а форма национального существования. Чтобы найти Россию, надо „преодолеть пространство, наполнить творческой деятельностью ее безграничный простор. В поэзии Гоголя мы находим человека в борьбе с пространством. В этом — основная ее стихия, глубоко национальный ее источник.
С этим связаны у Гоголя все его радости и печали. Беспредельное, когда оно является нам в образе пустыни, гнетет и давит: ибо оно вызывает тоску по содержанию, которое бы его наполнило. Но в этом же созерцании беспредельного есть неиссякающий источник подъема и воодушевления, потому что оно открывает безграничный простор для жизни, движения и подвигов.
Безграничная тоска и беспредельное воодушевление, — вот те противоположные настроения, которые, в связи с созерцанием русской равнины, окрашивают лирику Гоголя. Гоголь признает, что это — те самые черты, которые составляют своеобразную особенность русской песни.
Особенность эта выражается в том, что русская народная песнь не знает пределов ни в тоске, ни в разгуле. „В русской песне, — говорит Гоголь, — мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению унестись куда-то вместе со звуками”. „Еще доселе загадка, — читаем мы в другом месте, — этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куда-то мимо жизни и самой песни, как бы сгорая желанием лучшей отчизны, по которой тоскует со дня создания человек”.
С этими особенностями русской песни тесно связана другая черта народного характера, которая также отражается в жизни и в творчестве Гоголя. Я говорю о наклонности к странствованиям. В той бесконечной равнине, среди которой протекает наша жизнь, ничто не приковывает к себе человека. Благодаря самому однообразию окружающей природы, он не чувствует себя прикрепленным к какому-либо определенному месту. Отсюда, в связи с бедностью жизни, — необыкновенная подвижность русского человека: чем меньше удовлетворяет его окружающая действительность, тем сильнее в нем влечение к беспредельному, тем больше манит его дальняя дорога.
Отсюда у нас — народный тип странника, с которым так часто сочетается тип богоискателя. Сочетание это — вполне естественно. Странствования нашего народа связываются с исканием лучшей отчизны, во-первых, потому, что они чаще всего вызываются тоской, страданием, горем народным, словом — разочарованием в отчизне здешней. Во-вторых, влечение к беспредельному, хотя оно и возбуждается созерцанием бесконечного пространства, однако, не находит себе удовлетворения в мире земном, где человек ежеминутно натыкается на положенные ему тесные границы. Неудивительно поэтому, что среди русского простонародья странник считается и божьим человеком, при чем самое хождение по земле признается делом спасительным, богоугодным.
В жизни и деятельности Гоголя мы находим эти самые черты народного типа. Он — по существу писатель-странник и богоискатель. Почти вся его литературная деятельность протекла среди беспрерывных странствований; и эти странствования теснейшим образом связаны с самой сущностью его творчества, с основным делом его жизни, которое для него было делом по существу религиозным. Он странствовал, во-первых, потому, что всем существом своим испытывал тоску о России здешней, действительной исторической и, во-вторых, потому, что всем сердцем жаждал „Руси святой”, соответствующей его религиозному идеалу.
Эти странствования были для него одновременно исканием Бога и исканием России. В „Переписке с друзьями” он объясняет, что то и другое — для него одно и то же. Любовь к Богу без любви к человеку мертва: „Как полюбить Того, Кого никто не видал? ” „Не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу”. С этим Гоголь связывает мысль о паломничестве по России; нужно „проездиться по России”, чтобы ее полюбить, узнать и деятельно послужить ей. Напрасно было бы думать, что такой взгляд на религиозное значение путешествий возник у Гоголя в эпоху „Переписки с друзьями”. С мыслью о его религиозном служении для него связывались все его странствования уже в конце двадцатых и в тридцатых годах. Уже в 1829 году он пишет матери, что Бог указал ему путь в землю чужую. Так же в 1836 году он объясняет свое заграничное путешествие предначертанием свыше. В письмах своих он вообще упоминает о своих странствованиях рядом с „уединением”, „отлучением от мира”, самоуглублением, молитвами.
Чтобы написать „Мертвые души”, Гоголю нужно было сесть в бричку вместе с Чичиковым; уже это одно достаточно освещает необходимую связь между творчеством Гоголя и его странствованиями по России. Но какое значение могли иметь для этого по существу национального писателя его заграничные путешествия?
Тут открывается перед нами самая парадоксальная, и вместе чрезвычайно интересная черта деятельности Гоголя: искание России составляло цель его жизни, всю задачу его творчества. Но найти Россию он мог только за границей.
В известном лирическом месте I тома „Мертвых душ” он говорит: „Русь, Русь, вижу тебя; из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу”. Чтобы увидеть Россию, Гоголь должен был отъехать от нее на расстояние: вблизи мелочные подробности будничной жизни заполняют собою все поле зрения и мешают рассмотреть целое. Они давят на душу и задерживают ее полет. Гоголь вряд ли мог бы вынести созерцание этой серой, неприглядной России, если бы темно-синее небо Италии не бодрило его надеждой на миры иные. Неудивительно, что впоследствии, в „Авторской исповеди” Гоголь жалуется, что среди России он почти не увидал России: тут действительная Россия заслонялась множеством разнообразных и противоречивых о ней мнений. „Во все пребывание мое в России, — говорит он, — Россия у меня в голове рассеивалась и разлеталась. Я не мог никак ее собрать в одно целое; дух мой упадал, и самое желание знать ее ослабевало. Но как только я выезжал из нее, она совокуплялась вновь в моих мыслях целой”.
Замечательно, что образ России, как целого, для Гоголя не отделялся от странствования, дороги. Известно, что она являлась ему в образе бешено скачущей тройки, которая „мчится вся вдохновенная Богом”. Он видел ее в общем порыве, в общем движении. Движение и есть то, что объединяет Русь в одно целое.
В этом образе обращает на себя внимание его незаконченность. Гоголь ясно видел, как и откуда скачет тройка; но он не отдавал себе отчета, куда она несется. С этим связано то роковое противоречие лирических мест I тома „Мертвых душ“, в котором выражается вся безысходная драма последующего периода литературной деятельности Гоголя. С одной стороны, художник чувствует, что „все в России обратило на него полные ожидания очи“. Родина жаждет узнать от него разгадку смысла своего существования: она ждет от него откровения нового жизненного пути. Но вместо ответа у него у самого вопрос шевелится на устах: „Русь, куда же несешься ты! Дай ответ! Не дает ответа!”
Ясно, что основная задача остается здесь неразрешенною. Сказать, что национальное существование есть быстрое движение, странствование, скачка, — значит ничего не сказать: ибо сущность движения народа, значение этой вековой борьбы его с пространством определяется ее целью. Вместо ответа на вопрос о цели Гоголь дает только изображение самого стремления к ней.
Мы хорошо знаем отношение этого движения к прошедшему русской жизни, от которого удаляется наша тройка. Позади остаются пустынные пространства и ничтожные люди —Маниловы, Плюшкины, Собакевичи, Коробочки. Изо всего этого нам ничего не жаль; и мы с радостью повторяем за Гоголем: „Черт побери все”. Но настроение наше в корне меняется, когда мы задумываемся о том, что ждет нас впереди. Точно ли эта скачка в неизвестное должна освободить нас от гнетущих впечатлений? Не суждено ли нам впоследствии бесконечное число раз встречать в дороге все те же безобразия и натыкаться на тех же знакомых нам чудовищ?
Неудивительно, что этот вопрос оказался роковым для Гоголя: чтобы творить, ему надо было ясно видеть путь свой перед собой и знать, куда ведет он своего читателя. В молодости он, по собственному признанию, творил беззаботно и безотчетно: когда его давила грусть, он освобождался от нее смехом. Но с годами это соловьиное пение стало для него невозможным: под влиянием Пушкина он взглянул на дело серьезнее и относительно каждого своего произведения стал ставить вопросы — „зачем” и „для чего”; он понял, что раньше он смеялся даром. Ему стало ясно, что не себя самого надо освобождать смехом от печали: надо делать им живое общественное дело, — освобождать Россию от чудовищ, изгонять из нее бесов. Ибо смех — могущественное орудие борьбы, „насмешки боится даже тот, кто больше ничего на свете не боится”.
В „Ревизоре” наш автор задался задачей „собрать в одну кучу” все дурное, что только есть в России, все неправды, которые там творятся, чтобы одним разом посмеяться надо всем. Но на том пути, который избрал Гоголь, нельзя было ограничиться одной этой отрицательной задачей „очистки мусора”. Надо было разрешить задачу положительную — найти путь правды. Вот почему после „Ревизора” он почувствовал потребность в сочинении более полном, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. Вся Россия должна была предстать здесь во всей полноте своих определений — тех высших ее свойств, которые должно ценить, и тех низших, которые заслуживают осуждения.
Так ставилась задача „Мертвых душ”; но первоначально Гоголь приступил к работе без обстоятельно продуманного плана. Он думал, что путешествие Чичикова само наведет его на разнообразные характеры и положения, где смешное само собою перемешается с трогательным. Иначе говоря, Гоголь поступил, как те странники из народа, которые, пускаясь в дорогу, слепо верят, что она сама приведет их в обитель, где правда живет. Но осквернены все земные обители. И без конца будет продолжаться странствование от монастыря к монастырю, пока странник не поймет, что искомой им обители на земле нет вовсе, что она еще только должна быть выстроена.
Это самое и случилось с Гоголем. Вместо „святых мест”, коих он искал, бричка Чичикова заезжала в одни только „опозоренные святыни и места”. Вместо „живых душ“ попадались по дороге только „мертвые”. Обманула его дальняя дорога, и тревога наполнила душу художника: он стал себя спрашивать: „зачем? к чему это? Что должен сказать такой-то характер? Что должно выразить такое-то явление?”
Прав или неправ был Гоголь в такой постановке задачи? Мог ли он продолжать творить без ясно сознанной цели и без плана? Так творил впоследствии Чехов, который воспроизвел также без определенного плана великое множество хмурых, бессодержательных и ничтожных человеческих типов. Но тут-то и сказывается различие между талантом и гением. В отличие от Чехова Гоголю было недостаточно копировать жизнь: ему нужно было вскрывать ее смысл и двигать ее вперед. Он требовал, чтобы в каждом его создании жизнь сделала новый шаг и потому не повторялся. Чехов довольствовался изображением эфемерных созданий, которые рождаются, прозябают и исчезают, как мыльные пузыри, не оставляя заметного следа на земле. Напротив, Гоголь, как он сам говорит о себе, — хотел творить существенное; своим искусством он желал принести осязательную пользу себе и другим: оно связывалось у него „с делом души”, с „прочным делом жизни”. Поэтому он не считает себя вправе возвращать жизни людей такими, какими он их взял. И в этом его взгляд на искусство — неизмеримо глубже чеховского.
Что же помешало Гоголю в исполнении задачи, столь ясно поставленной и столь глубоко сознанной? Почему не удалось ему сознательное искусство? Иные критики объясняют это падение таланта Гоголя „религиозностью” его последнего периода. Однако, новейшие исследования неопровержимо доказали, что эта религиозность была изначальным свойством его душевного склада: религиозное искание было вообще основным мотивом его творчества; и из биографии его не видно, чтобы его религиозные воззрения менялись. Странности последних произведений нашего писателя нисколько не коренятся в его религиозности; напротив, они связываются с некоторыми причудливыми отступлениями от нее. „Христианство” добродеятельного помещика Костанжогло не мешает ему погружаться в материальную жизнь с головы до пят. Эго — „туз хозяин”, который от своего христианства богатеет, как Крез, и обогащает своих мужиков. Не менее странная фигура —откупщик Муразов, который наживает миллионы на народном пьянстве и проповедывает Чичикову покаяние.
Но всего поразительнее здесь односторонность взгляда на религиозный идеал; в „Переписке” он понимается исключительно как норма для индивидуальной, личной жизни; к жизни общественной Гоголь не предъявляет никаких требований. Он мирится с существующим строем до крепостного права включительно и ждет спасения общества от личных добродетелей помещиков, чиновников и в особенности генерал-губернаторов.
Словом, Гоголь не знает христианства, как живого общественного дела. И в этом нельзя не видеть победы старой Руси над художником. Для изображения правды в общественных отношениях тогдашняя государственная и общественная жизнь России просто-напросто не давала ему образов. Он мог наблюдать сколько угодно частных добродетелей, но он не мог изображать ни общественного дела, ни общественных деятелей, потому что ничего подобного в России в то время не было.
Отсюда — бьющее в глаза противоречие деятельности Гоголя последнего периода; с одной стороны, он раскрыл в своих произведениях ужасающее общественное зло; с другой стороны — от этого зла у него спасают не общественные силы, а изолированные лица. В этом, а вовсе не в религиозности Гоголя заключается фальшь всех его добродетельных чиновничьих и помещичьих типов: неудивительно, что среди крепостного права их бледная, бескровная праведность оторвана от жизни. Гоголь очутился перед заметенной снегом станцией и услышал известный нам окрик смотрителя вовсе не потому, что он руководствовался своим религиозным идеалом, а наоборот, потому что он отступил от него, — попытался совместить его с чудовищными, антихристианскими порядками дореформенной России.
Необходимым условием воплощения правды в общественных отношениях является всеобщее раскрепощение, осуществление частной и общественной свободы; крупная ошибка Гоголя заключалась в том, что он этого не понимал.
Но еще ошибочнее распространенное в наше время мнение, которое, наоборот, ждет спасения общества исключительно от внешних преобразований. Именно это заблуждение составляет главное препятствие к разрешению поставленного нами вопроса, — почему Россия до сих пор не вышла из того тупика, на который наткнулся Гоголь.
Со дня смерти Гоголя прошло более полустолетия; с тех пор мы избавились от крепостного права и получили зачатки конституционных учреждений. Три года тому назад, казалось, от России зависело стать совсем свободной и осуществить всякую, даже самую дерзновенную мечту. Немало было в то время порывов высокого идеализма. Лучшая часть русского общества жаждала правды. И вдруг все рухнуло.
Опять мы видим Россию во власти темных сил. Разоблачения последнего времени обнажили ужасы не меньше тех, что были в сороковых годах. „Мертвые души” все еще не пережиты нами: в новых формах нашей жизни таится старая гоголевская сущность.
Чем же обусловливается столь печальный исход нашей борьбы за достойные человека условия существования? Объяснение мы найдем опять-таки у Гоголя, который, помимо способности наблюдать настоящее, обладал несомненным даром провидеть будущее. Среди полного затишья сороковых годов он видел бешеную скачку русской тройки. Ничего подобного в то время не происходило и, конечно, тогда Россия никого не обгоняла. Тут Гоголь, очевидно, не наблюдал, a предвидел, ибо чуял народный характер. Живая душа писателя почувствовала в себе крылья, которые уносили ее от „мертвых душ“; он верил, что эти крылья рано или поздно вырастут у России.
В 1905 году пророчество как будто бы сбылось. Тогда действительно тройка закусила удила, подхватила экипаж, сбивала с ног прохожих и наводила ужас на соседей своим молниеносным движением. До сих пор с подлинным верно; и только окончание внесло в гоголевский текст кое-какие дополнения.
Верные национальному инстинкту, кони мчались без возницы, не зная ни дисциплины, ни удержу. Не чувствуя вожжей, освободившись от всякого управления, они подчинялись только стихийному стремлению к безграничному простору и к дикой воле. Но недолговечен был порыв и скоро сменился общим утомлением. Беспорядочная скачка кого потоптала, кого устрашила. Тут, к великой радости испуганных обывателей, тройку поймала твердая, но грубая рука. С тех пор она покорно возит казенную корреспонденцию. А обывателям скорая езда воспрещена надолго.
Отчего это случилось? Прежде всего от той экстенсивности национального характера, которая воспиталась в борьбе с пространством, от нашей ненависти ко всему, что носит на себе печать какого-либо предела, от нашей неспособности в чем-либо себя обуздать и ограничить. Мы захотели одним взмахом перелететь безграничное пространство; когда это не удалось, у нас разом опустились руки. Русскому нужно или все, или ничего: все относительное его не интересует. Все ограниченное разрушается его тоской по беспредельному.
Другая причина неудачи в том, что недостаточно сильна была наша вера в Россию; не было и прозрения в смысл ее исторического существования. Рабский образ России для многих заслонял ту внутреннюю духовную Россию, то лучшее народное „я“, которое оправдывает все наши жертвы. Тут опять, как и в поэтическом видении Гоголя, было видно, откуда скачет тройка, но не было вполне ясно, — куда она несется. Перед нашим духовным взором было обнажено все то, что мы ненавидим; но предмет нашей любви оставался скрытым в туманном отдалении. Некоторые из нас сомневались в России, другие ее отрицали; иные отожествляли ее с тем игом, от которого надлежит освободиться. Но без веры невозможно гор передвигать. Когда ее нет, во имя чего же бороться, ради чего жертвовать собой! Вот почему так скоро уныние овладело нами и наше беспредельное пространство теперь нас не радует, а давит своей пустотой.
Все те же тревоги преследуют нас, как и в дни Гоголя; все тот же неотвязчивый вопрос стоит перед нами. Отчего мы до сих пор будто не у себя дома? Отчего, несмотря на многовековые усилия, русскому народу до сих пор не удалось обеспечить себе не только благоустройство, но даже сколько-нибудь сносное существование? Почему в этом отношении мы тоже далеко отстали не только от западных, но и от восточных наших соседей? Превосходят ли они нас дарованиями. Являются ли они по отношению к нам высшими расами? Нет, но они превосходят нас своим реализмом: они ценят относительное, осуществимое и в достижении ограниченных результатов проявляют огромное упорство. Народ, родивший Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, — конечно, не обделен даром гения. До сих пор нас губит скорее отсутствие даров меньших.
Те недостатки, которые всего больше нам вредят, тесно связаны с нашими положительными качествами. Они составляют как бы оборотную сторону медали. Говоря о нашей житейской беспомощности, как не вспомнить замечание Гоголя о том, что русская песнь идет мимо жизни и не обнаруживает к ней привязанности!.. Все, что было в России творчества, всегда устремлялось к безусловному, безотносительному, горнему. В нас есть глубокий идеализм, который не мирится с духовным мещанством, с мелкими заботами о филистерском, буржуазном благополучии, и в этом — ценное качество нашего народного характера. Но этот идеализм утрачивает свою жизненную силу, когда он впадает в крайность отрицания относительного: этим он лишает себя возможности проникнуть в нашу земную жизнь, где безусловное Добро еще не совершилось, а только совершается. Кто хочет цели, тот должен хотеть и средства; поэтому с точки зрения идеала безусловного совершенства следует приветствовать всякое приближение к добру, всякое относительное усовершенствование. Иначе самый идеализм превращается в карикатуру, становится маской для лени, удобным предлогом, чтобы ничего не делать! Если добыть себе полную свободу — не в нашей власти, то следует ли отсюда, что мы должны мириться с рабством? Если мы не в состоянии одним скачком достигнуть царства правды, то может ли это послужить оправданием той безграничной неправды, которая царит в русской земле? Если мы не в состоянии превратить Россию в царство небесное, то неужели на этом основании мы должны прекратить борьбу против надвигающегося ада?
Максимализм может быть не созидательным, а только разрушительным началом. Творчество выражается не в прямолинейном отрицании всяких границ, не в утверждении той отвлеченной беспредельности, которая превращает жизнь в пустыню. Напротив, оно вносит предел в беспредельное. Надо раз навсегда покончить с правилом: „или все, или ничего”; — иначе из нас ничего и не выйдет. Можно так или иначе объяснять нашу житейскую неумелость и беспомощность, но мириться с ней — преступно. Ибо это равносильно отказу от того живого дела, которого прежде всего требует от нас правда. Идеалу изменяет не тот, кто совершает к нему трудный, долгий путь восхождения, а именно тот, кто отвергает ведущие к нему ступени и, гнушаясь труда, складывает руки.
Рано или поздно в нашем общественном сознании утвердится та истина, которая в последние дни его жизни была заветной мыслью Гоголя, что путь к идеалу есть лестница. Как бы долог и труден ни был этот путь, он должен быть пройден до конца. Но, чтобы найти в себе потребные для этого силы, нам нужно всем сердцем верить в ту цель, к которой мы идем. Надо никогда не ослабевать в искании России и сквозь бедность окружающей жизни уметь различать ее идеальный, духовный облик. Когда-нибудь она победит и наполнит содержанием то беспредельное пространство, с которым она ныне борется: оно перестанет быть пустым и бесприютным. В этом порукой нам наше великое искусство, которое заселяет пустыню образами, — тот гениальный творческий дар, который явился в произведениях наших художников. Любовь к России родила эти чудные образы и звуки, и творческая сила этой любви доказывает, что жива Россия. По слову Достоевского красота спасет мир. Будем же верить в тот дивный, прекрасный, новый мир, в котором само пространство станет песнью. В нем родина — навеки наша.
Тот странник богоискатель, который всегда жил в лучших произведениях русской литературы, когда-нибудь достигнет цели своих странствований и найдет ту Россию, которую все мы ищем. И как бы ни были необходимы внешние преобразования, ими одними это не будет достигнуто: по вещему слову Гоголя, для этого нужны внутреннее дело души, прочное дело жизни.
IX. Похороны С.А. Муромцева
1. Биография С.А. Муромцева
Сергей Андреевич Муромцев родился 23-го сентября 1850 года в Петербурге. Он происходил из старинной дворянской семьи, воспитывался в 3-й московской гимназии и затем поступил в московский университет на юридический факультет. По окончании курса в университете С. А. слушал лекции знаменитого профессора Рудольфа ф.-Иеринга в Геттингене. Вернувшись в Россию, он защитил в 1875 году магистерскую диссертацию: „О консерватизме в римской юриспруденции” и был избран доцентом римского права, в качестве преемника Н. И. Крылова, своего бывшего наставника, к памяти которого С. А. всегда сохранял глубокое уважение. „В жизни человека нет периода светлее молодости, нет более дорогих воспоминаний, чем воспоминания о минутах напряженной и благой умственной работы”. Таковы именно воспоминания С. А. о своих студенческих годах; они тесно у него связаны с дорогим для него образом Н. И. Крылова. Это были годы серьезной работы на студенческой скамье, — работы, которая послужила преддверием к последующим самостоятельным научным трудам. Наставник нашел талантливого ученика в молодом начинающем ученом, которому суждено было стать его преемником. Через два года, по защите диссертации „Очерки общей теории гражданского права”, С. А. получил степень доктора и был избран экстраординарным, a затем и ординарным профессором по кафедре римского права. В 1880–1881 г. С. А. занимал пост проректора московского университета. Но профессорская деятельность С. А. продолжалась недолго. В 1884 году он принужден был оставить кафедру и вступил в присяжные поверенные округа московской судебной палаты. Это произошло по „независящим обстоятельствам”. Тогда вводился пресловутый университетский устав 1884 года. Было предпринято воздействие на профессорские корпорации, живые силы отметались. С. А. был устранен от университетского преподавания. Тем не менее и за короткий срок профессорского служения С. А. успел занять одно из первых мест в факультете.

Но хотя профессорская деятельность С. А. и оборвалась так скоро, его учено-литературная деятельность безостановочно продолжалась и развивалась. Продолжением его магистерской и докторской диссертаций в области установления основных задач и методов изучения права явились его работы: „Определение и основное разделение права”, „Гражданское право древнего Рима”, „Рецепция римского права на Западе”, „Что такое догма права?”, „Очерки общей теории гражданского права”, „Учение немецких юристов об образовании права” и др. Эти труды доставили С. А. громкую известность не только в России, но и среди ученых юристов Западной Европы. Кроме названных капитальных трудов, составляющих громадный вклад в науку гражданского правоведения, С. А. принадлежит целый ряд высоко ценных юридических статей, помещенных и в специальных, и в общих органах печати, — статей, проникнутых теми же высокими культурными идеалами и тем же широким философски и научно-обоснованным пониманием задач права, которые легли в основу его главных научных трудов. Назовем некоторые из них: „Суд и закон в гражданском праве” (Юридический Вестник, 1880 г., № 11), „Творческая сила юриспруденции” (там же, 1887 г., № 9), „Право и справедливость” („Сборник правоведения и общественных знаний», II) и др.
В тесной связи с ученой деятельностью С. А. стоит его деятельность в Московском Юридическом Обществе, где он занял место председателя непосредственно после проф. В.Н. Лешкова, одного из основателей Общества. Роль и значение Московского Юридического Общества в культурном служении задачам права и юридического образования общеизвестны. Общество являлось средоточением московского юридического мира: в него входили и юристы-теоретики, и юристы-практики, профессора, магистратура, адвокаты, земские деятели. Состоя председателем Общества, своими трудами и руководительством С. А. способствовал его процветанию и широкому и плодотворному служению научным и общественным интересам. Одновременно С. А. состоял и редактором, с 1879 по 1892 г., Юридического Вестника, издававшегося Московским Юридическим Обществом, который также сыграл выдающуюся роль в развитии русской юридической мысли. В октябре 1892 года состоялось распоряжение о подчинении Юридического Вестника предварительной цензуре. Общество постановило прекратить издание журнала. Взамен журнала с 1893 года стал выходить отдельными томами „Сборник правоведения и общественных знаний”, в котором помещались протоколы заседаний и работ Общества. „Независящие обстоятельства” однако непрестанно стояли на пути общественной деятельности С. А. Юридическое Общество оказалось также недолговечным. В мае 1899 года Юридическое Общество по приглашению Общества любителей российской словесности и по предложению совета московского университета приняло участие в праздновании столетней годовщины со дня рождения А. С. Пушкина. С. А., в качестве председателя Общества, прочел в торжественном собрании 26-го мая составленное им приветствие. „Празднуя ныне память поэта, — заканчивалось это приветствие, — мы торжествуем вместе с тем победу, одержанную русской личностью над рутиною жизни и властной опеки”. Но „власть рутины” оказалась достаточно сильной. Через полтора месяца после того попечитель московского учебного округа уведомил, что министр народного просвещения признал необходимым закрыть Общество.
Перу С. А. принадлежат в печати не только юридические статьи. Им написано немало публицистических статей, которые были помещены в Порядке, Вестнике Европы, Русских Ведомостях и др. Мы пользовались драгоценным сотрудничеством С. А. многие годы и теряем в его лице одного из старейших наших сотрудников. Статьи, относящиеся к первой половине 80-х годов, теперь собраны в недавно появившемся III выпуске „Статей и речей С. А. Муромцева”. Предыдущие два выпуска названного издания, редактировавшегося самим С. А., содержат написанные покойным и рассеянные по разным органам печати небольшие статьи, некрологи, воспоминания и речи, произнесенные на съезде русских юристов и в московском юридическом Обществе. Издание было только начато. Оно должно было явиться ценным собранием всех статей, речей и работ С. А. В него должны были войти и судебные речи С. А., которые имеют весьма большую юридическую и общественную ценность. По прекращении профессорской деятельности С. А. вступил в ряды адвокатуры, где вскоре занял также одно из первых мест. Он был членом московского совета присяжных поверенных. Обладая громадными теоретическими знаниями, ученый юрист стал блестящим юристом-практиком, приобретшим всероссийскую известность, в качестве одного из лучших цивилистов. И здесь С. А. внес живую творческую струю, которая плодотворно обнаруживалась на судебной практике. К консультации С. А. считали необходимым прибегать в каждом более значительном и сложном деле, возникавшем в гражданской практике.
С каждым годом общественная деятельность С. А. росла и ширилась. Не только университет, учения Общества, юридический мир, судебные установления и печать составляли его арену деятельности. С. А. уже давно стал принимать деятельное участие в городских и земских делах, в качестве гласного московского и тульского земских собраний и московской городской Думы. Это его участие особенно расширилось, когда темп земской жизни усилился. Когда в русской общественной жизни стали обнаруживаться новые веяния и течения, С. А. становится в ряды деятелей нового общественного движения. Он принимал деятельное участие в „земских съездах”, сыгравших такую выдающуюся роль в недавнем нашем „освободительном движении”. Он участвовал также в том известном ноябрьском совещании земских деятелей, которое впервые открыто выставило конституционные требования. С этого времени общественная деятельность С. А. получила новое поприще. С момента пробуждения более широкой политической жизни С. А. выступает в роли политического деятеля в рядах конституционно-демократической партии.
Будучи членом 1-й Государственной думы, С. А., как известно, был избран ее председателем. В 1906 г. юридический факультет московского университета единогласно сделал совету университета представление об избрании С. А. вновь в профессора университета, и совет единогласно возбудил об этом ходатайство. Следствием этого ходатайства С. А. Муромцев 24 июня 1906 г. Высочайшим приказом был определен сверхштатным ординарным профессором московского университета, каковую должность занимал до самой смерти. Участвуя вместе с другими членами первой Думы в подписании выборгского воззвания, С. А. подвергся известным последствиям обвинительного приговора — ограничению в избирательных правах, почему ему пришлось отказаться от работы и в земстве, и в думе, почему, после отбытия 3-месячного тюремного заключения за составление выборгского воззвания, он всецело отдался адвокатской практике, научной деятельности и преподаванию. До 1906 г. С. А. Муромцев был преподавателем Императорского александровского лицея в Петербурге и читал лекции в других учреждениях. Покойным написано много сочинений и ценных статей по юридическим вопросам; некоторые из них переведены на иностранные языки. С. А. Муромцев был и лично известен заграницей, так как несколько раз командировался туда университетом и слушал в заграничных университетах лучших профессоров.
Скончался С. А. в гостинице „Националь”.
Здесь он жил последние три недели, приезжая сюда только ночевать и проводя целые дни у себя в квартире, на Сретенке, в д. страхового общества „Россия”. Покойному пришлось временно перекочевать сюда, из своей квартиры, благодаря тесноте, создавшейся после приезда семьи, проживающей обыкновенно большею частью в Париже.
До двух часов в роковую ночь С. А. провел в тесном кругу семьи. Был оживлен, весел. Много шутил, смеялся. Ничто не говорило о близкой смерти, о столь близком печальном конце.
Без мрачных предчувствий, которые так часто волнуют людей перед смертью, С. А. приехал после двух часов ночи в гостиницу „Националь”. Поднялся на четвертый этаж, где занимал скромный, небольшой уютный номерок № 409, с окнами, открывавшими вид на всю Москву.
Ложась спать, он звонком пригласил коридорного и просил разбудить его в 7 час. утра. Следует заметить, что С. А. неизменно вставал в этот час, всегда начиная так рано свои дни, заполненные вечной работой. После ухода коридорного в номере все стихло. С. А. улегся спать.
Утром, несколько позже обыкновенного, коридорный подошел к двери, чтобы разбудить С. А., но был несколько удивлен, заметив отсутствие у дверей обуви, которую покойный аккуратно выставлял каждое утро. Стал служащий стучать тихо в дверь. Ответа не было. Он усилил стук, но и на это не последовало ответа. Встревоженный коридорный дал знать в контору. Дверь была вскрыта.
На кровати, стоявшей у стены, лежал с спокойно сомкнутыми глазами, прикрытый одеялом, тот, чье имя так волнующе близко всему русскому обществу, лежал, заснувши вечным сном, славный и стойкий рыцарь русского народного представительства.
Прибывший врач определил то, что всем было уже ясно, — неожиданную смерть С. А. Умер покойный от разрыва сердца, и, судя по всему, умер ранним утром, не дождавшись стука в дверь, который должен был призвать его к жизни, к трудовому дню. Небольшой номерок „Националя”, ставший отныне памятным уголком, как место смерти великого и благородного гражданина, наполнился близкими друзьями покойного.
2. Отклик „Русских Ведомостей” на смерть Муромцева
Умер Сергей Андреевич Муромцев… Эта весть разнесется по всему миру, как весть о тяжкой нашей национальной утрате. Муромцев-ученый давно составляет славу русской науки. Муромцев-профессор вписал блестящую страницу в историю московского университета. Муромцев-публицист, журналист, редактор, — редактор незабвенного Юридического Вестника, которому столько обязано своим политическим самосознанием русское общество, — будет известен нашим отдаленным потомкам. Муромцев-адвокат — звезда первой величины, свет которой еще долго будет сиять для русского суда. Муромцев — общественный деятель, земец и городской гласный перейдет в историю, как яркий представитель того наслоения русских общественных деятелей, которым удалось сохранить душу живу в земском деле среди жесточайшей реакции конца XIX века. Каждой из этих заслуг было бы достаточно, чтобы стяжать право на неувядаемую благодарную память отечества. Но с именем Муромцева для всей России, начиная от его ближайших друзей и кончая его злейшими врагами, и не только для современников, но и для потомства, связано нечто неизмеримо большее, нежели все эти его действительно громадные заслуги. И это нечто, эта заслуга из заслуг, сделало из имени Муромцева символ, который никогда не умрет, пока живет Россия.
Муромцев при жизни для всех русских и даже для всех европейцев стал исторической личностью, потому что его именем начинается русская конституционная история. Что бы нас ни ожидало в будущем, чрез какие бы испытания ни суждено было пройти нашему отечеству, какие бы великие события ни украсили грядущий наш исторический путь, — сквозь гул веков самой мятежной политической жизни пронесутся и никогда не замрут первые слова первого избранника первоизбранников русского народа, — знаменательные слова первого председателя русского парламента: „Совершается великое дело, воля народа получает свое выражение в форме правильного, постоянно действующего, на неотъемлемых законах основанного законодательного учреждения. Великое дело налагает на нас и великий подвиг, призывает к великому труду”.
В охотниках затормозить великое дело и помешать великому труду не было, нет и не будет недостатка. Но конечное торжество великого дела новой России несомненно, неизбежно, неотвратимо. Муромцеву выпало великое счастье первому открыто водрузить знамя новой свободной России на том месте, где оно будет развеваться, во что бы то ни стало, века и века. В великой работе, начатой 27-го апреля 1906 г. первоизбранниками русской земли, Сергею Андреевичу Муромцеву принадлежала огромная, быть может, самая тяжелая и несомненно самая ответственная часть. И он до конца выполнил свой долг, с честью совершил свой действительно великий подвиг. И если мы теперь стоим перед новой безвременной могилой, то ни для кого не должно быть тайной, какая жертва здесь была принесена в борьбе за освобождение родины. Кто знал Муромцева, являвшего в своем лице редкий пример здорового духа в здоровом теле, кто знал его до первой Думы и видел после ее роспуска и после тюрьмы, для того нет неожиданности в этой слишком скорой победе смерти… Но имя Муромцева бессмертно. В русской политической жизни к первому председателю Государственной Думы как нельзя более применимы слова, сказанные поэтом о Пушкине: „Его, как первую любовь, России сердце не забудет!”
3. Первоизбранник народа. Ф. Кошкин
Цельный, законченный образ с твердыми и ясными линиями, как будто изваянный резцом художника, богатое духовное содержание, нашедшее себе воплощение в достойных его, удивительно изящных в своей строгой простоте внешних формах… Русская общественная жизнь не щедра на явления такого рода… Но таков был облик Сергея Андреевича, таким он на наших глазах перешел в историю.
Он был ученым и, в основе своей, — прежде всего ученым. Это был сильный, логический ум, в высокой степени одаренный способностью к тем формам абстрактного мышления, которые составляют внутреннюю сущность догматической юриспруденции и которые роднят ее с математикой. Он глубоко понимал и живо чувствовал ту формально-логическую сторону права, которая часто оставляется в незаслуженном пренебрежении в России, как и в других странах, бедных опытом правовой жизни. Со стороны людей иного склада ума это навлекало на него иногда упреки в формализме. Он действительно высоко ценил право не только как практическое средство осуществления тех или иных очередных потребностей времени, но как вечное, устрояющее и организующее начало общежития. Но его формализм не имел ничего общего с тем хорошо знакомым нам формализмом, который тяжелым, мертвым бременем гнетет и давит жизнь. Его формализм был живым и творческим; он шел по тому же пути, по которому шел формализм цивилистов древнего Рима и конституционалистов Англии. С. А. подобно им имел дар вливать в старые юридические формы новое содержание, создавать на почве действующего права новые комбинации, открывающие путь к удовлетворению назревших нужд и к постепенному преобразованию старых учреждений.
Цивилистам знакомы замечательные конструкции этого рода, явившиеся плодом его адвокатской и консультационной практики. Но быть может, в еще большей мере упомянутый дар его нашел себе приложение в области публичного права, на поприще общественной и государственной деятельности.
В этом отношении С.А. Муромцев представлял собой знаменательное и в известном смысле пророческое явление русской жизни.
„Мы были как будто не в городской Думе, а в школе парламентаризма”, — такие слова пришлось однажды, очень давно, мне слышать от одного из противников С. А. об его участии в одном из заседаний московской Думы. Слова эти были сказаны с иронией и раздражением, но, — незаведомо для говорившего, — звучали высшей хвалой. Действительно, в самую глухую пору абсолютизма, задолго до освободительного движения С. А. не только был носителем и учителем начал правового государства, но сам в своей общественной деятельности был живым их воплощением. В лице его мы имели уже замечательного парламентария задолго до появления у нас первого парламента. Он показал нам, как председательствуют в представительном политическом собрании, прежде чем принцип представительства был воспринят нашими основными законами. Не даром англичане, компетентные судьи в этом вопросе, удивлялись тем стройным формам, в которые вылились под его председательством наши земско-городские съезды, и видели в них прямых и близких предвозвестников русского парламента. Не мудрено, что когда настало время собраться первой Государственной Думе, вопроса о том, кому стать во главе ее, в сущности и не было: С.А. Муромцев заранее был указан для этого общим голосом.
Деятельность С. А. как председателя Государственной Думы, стяжавшая ему неувядаемую славу, слишком хорошо известна, чтобы нужно было распространяться о ней. Уже многие вспоминали в печати его первую речь, его призыв к уважению прерогатив конституционного монарха и к осуществлению прав, вытекающих из самой природы народного представительства, — призыв, в котором сочетание писанных положений и неписанных принципов, лежащее в основе конституционного права, нашло такое удивительно-глубокое и меткое выражение. Всем памятны хорошо не только формально, но и внутренне высокое, в полном смысле слова надпартийное положение, занятое им в Думе, его неусыпная забота об ограждении достоинства и прав парламента, внушившая ему между прочим незабываемый ответ тогдашнему председателю совета министров на формальный отвод запроса Думы, — ответ, гласивший, что охрана достоинства государственных учреждений составляет „постоянный предмет забот Государственной Думы”. Такие ответы не придумываются; они выливаются из существа человека.
Высоко одаренный, крепкий духом и телом, уравновешенный и наделенный выдающейся способностью к самообладанию, С. А. принадлежал к числу людей того типа, которые в других странах и при других условиях кончают обыкновенно жизнь в преклонных годах, „насытившись днями”, видя вокруг себя практические плоды своей работы и радуясь им. Русская жизнь судила „первоизбраннику народа” иное. Его судьба тесно сплелась с трагическим конфликтом нашей политической жизни. Удары, которые он добровольно принял на свою голову, не могли ни пригнуть, ни сломить его духа.
В зале суда, в стенах Таганской тюрьмы мы видели перед собой все того же непоколебимого, во всем неизменно верного себе Муромцева. Едва ли кто слышал от него о том, что он пережил в себе за последние годы; но знавшие его могли догадываться о том, что должен был пережить человек, бывший живым символом народных надежд после их крушения.
И этот трагический отблеск затаенного в себе великого страдания дополняет для нас последним штрихом его образ, делает его еще более близким, дорогим нам…
Ф. Кокошкин
4. Речь С.А. Муромцева при избрании председателем Думы
Кланяюсь Государственной Думе. Не нахожу в достаточной мере слов для того, чтобы выразить благодарность за ту честь, которую вам, господа, угодно было мне указать. Но настоящее время — не время для выражения личных чувств. Избрание председателя Государственной Думы представляет собою первый шаг на пути организации Думы в Государственное учреждение. Совершается великое дело, воля народа получает свое выражение в форме правильного, постоянно действующего, на неотъемлемых законах основанного, законодательного учреждения.
Великое дело налагает на нас и великий подвиг, призывает к великому труду. Пожелаем друг другу и самим себе, чтобы у всех нас достало сил для того, чтобы вынести его на своих плечах на благо избравшего нас народа, на благо родины. Пусть эта работа совершится на основах подобающего уважения к прерогативам конституционного Монарха и на почве совершенного осуществления прав Государственной Думы, истекающих из самой природы народного представительства.
5. Похороны Муромцева
Похороны С.А. Муромцева по своей поистине грандиозной обстановке — выдающееся событие в русской жизни. Отдать последний долг славному председателю первой Государственной Думы явился цвет русской интеллигенции: выдающиеся представители науки и литературы, видные политические деятели, сотоварищи покойного по работе в Государственной Думе и длинный ряд депутаций от учебных заведений, адвокатуры, просветительных и иных Обществ и разнообразных организаций не только Москвы и Петербурга, но и многих провинциальных городов. Имя С. А. Муромцева объединило вокруг похоронного кортежа многие десятки тысяч людей всех сословий и состояний, и похороны его получили характер всенародный.
Процессию открывали 23 колесницы с венками, за ними за цепью студентов шествовали депутации. Впереди шли профессора университета, Императорского технического училища, высших женских курсов, народного университета имени Шанявского, инженерного училища, харьковского юридического факультета, клиники нервных болезней, Общества распространения коммерческого образования, Общества для усиления средств университета имени Шанявского, Императорского русского технического Общества, лиги равноправия женщин, русского Общества врачей в память Пирогова, совета педагогических курсов Общества воспитательниц и учительниц. Затем следовали депутации: студентов-поляков, вольнослушателей московского университета, сельскохозяйственных женских курсов, студенты Императорского технического училища, студенты-клиницисты, слушательницы педагогических курсов, группа польского студенчества, студенты Константиновского межевого института, сельскохозяйственного, Лазаревского институтов, училища живописи, ваяния и зодчества, студенты инженерного училища, университета имени Шанявского, слушательницы различных частных женских высших курсов, учащиеся Пречистенских курсов, студенты коммерческого института, группа студентов-государствоведов и другие студенческие организации. За студенческими землячествами следовали делегации от провинциальных групп и московских районных отделов партии народной свободы, народно-социалистической партии, фракции торговых служащих, Общества деятелей периодической печати и литературы, союза помощников врачей, группа мусульман, союза польских женщин, нижегородских присяжных поверенных, московских армян, московского отделения кассы литераторов и ученых, еврейская депутация, архитектурного Общества, взаимопомощи русских агрономов; много депутаций от торговых служащих, рабочих некоторых фабрик и заводов и друг. Всего участвовало свыше 200 депутаций. За депутациями шли сорганизовавшиеся восемь хоров из учащихся и рабочих, попеременно исполнявшие духовные песнопения, а впереди них следовала запряженная шестеркой лошадей в траурных попонах с султанами открытая колесница с венками от наиболее близких лиц: „жены, детей и зятя”, „товарищей по тюрьме” и др. Гроб сопровождали семья, депутаты Думы, прибывшие из Петербурга и делегаты из провинции, ректор московского университета А. А. Мануилов, с деканами и профессорами. За гробом следовала большая толпа почитателей, отделенная с обеих сторон цепью студентов, а за нею три кареты медицинской помощи.
У врат Донского монастыря процессия встречена была архиепископом Алексеем, бывшим тверским епископом, с монастырским духовенством. Во главе с архиепископом процессия направилась к могиле С. А. Муромцева, помещающейся на новом кладбище, за монастырской оградой, ближе к берегу реки Москвы. Вход на новое кладбище ведет чрез ворота, пробитые в старой монастырской стене, по прямой линии от главного входа в обитель. Новое кладбище занимает обширную площадь, редко засаженную небольшими молодыми деревьями. В центре ее находится новый монастырский храм. Часа за два до прихода процессии здесь собралось уже много публики, окружившей могилу председателя 1-й Государственной Думы. Могила расположена в правой стороне нового кладбища, близ каменной стены, которою оно обнесено. Путь к ней ведет от входа на новое кладбище до нового храма, и от него по прямой линии направо почти до стены, могила была окружена с трех сторон легким деревянным забором. На образовавшуюся таким образом вокруг нее площадку допущены были только депутации, семья покойного и духовенство с певчими. В средине площадки перед могилой устроена была из досок кафедра для произнесения речей. Заходящее солнце при почти безоблачном небе бросало золотые лучи на могилу, зелень кладбища, храм и старую монастырскую стену, на башнях которой находилось много зрителей. За могилой на новой монастырской стене сначала находилось только два венка, привезенные прямо на кладбище: от совета одесских присяжных поверенных и от клуба прогрессивных женщин, но в 5 ½ ч., когда к монастырю прибыла голова процессии, к могиле начали подносить венки, снятые с 24-х колесниц. Скоро стена на большом протяжении покрылась венками. Перед кафедрой было помещено также несколько венков в центре с серебряным от петербургского студенчества. Около 6-ти часов начали зажигать фонари около могилы и на кафедре. На стене за могилой горел большой факел, освещавший довольно ярко всю площадку с собравшейся публикой. Фонари присланы были городской управой. По прибытии к могиле гроба студенты и находившаяся в цепи публика тесным огромным кольцом окружила могилу. Архиепископ Алексей с монастырским духовенством совершил литию. Гроб опущен был в могильный склеп. Пред отверстой могилой началось произнесение речей. Первая речь сказана была ректором московского университета А.А. Мануиловым.
Речь А.А. Мануилова
„Открытая могила ждет твоих благородных останков, дорогой товарищ. У этого таинственного порога я шлю тебе последнее прости от московского университета. С ним связаны были и твоя юность, и твоя старость. Ты любил его глубокой любовью благодарного питомца и преданного сочлена. И университет занес твое славное имя в списки своих лучших сынов. Умолкли твои уста и веки закрылись, но в сердцах наших живы твои слова, и дело твоей жизни стало делом России. Ты сочетал в своем жизненном служении искание научной истины с общественной доблестью. И твой величавый образ гражданина-борца и учителя стал достоянием истории.
Мир твоему праху”.
Речь Ф.И. Родичева
Муромцев принадлежит не семье только, не адвокатуре и университету только. Он принадлежит всей стране, и теперь его хоронит вся наша страна. С ним навсегда будут связаны светлые воспоминания русской жизни. Мы хороним его в ясный прекрасный день печальной осени. И с этим днем связаны печальные порывы всей России, которая достойно представлена на его похоронах всей Москвой. Нельзя не вспомнить тот весенний день, когда собрание народных представителей вознесло его на первое место избранника избранников народных. Теперь мы хороним великого гражданина земли русской. Вся жизнь его была служением свободе. С глубоким умом и широким сердцем он соединял пламенное стремление к свободе и правде. Ему выпало великое счастье быть выразителем и носителем надежд и верований народа. Но скоро он делается жертвой искупления своего народа. Суд налагает на него терновый венок. У каждого померкли бы надежды и ослабла вера, но он с гордостью, спокойно принял свой жребий и гордо ушел в частную жизнь. Теперь мы поняли, что теряли, в то время, когда отстранен был от политической и общественной деятельности лучший гражданин. Самая смерть его оказывается благотворной для страны. Мы здесь собрались во имя его, во имя той правды и свободы, которой он служил. Это всенародное печальное торжество призывает нас к труду для достижения тех идеалов, которым он служил, призывает нас быть верными его заветам, которым он сам оставался верным до смерти. Несомненно, в будущем осуществится истинное народное представительство, когда наш народ имеет таких бойцов за право и свободу. Смерть такого борца обязывает каждого из нас идти его путем.
Речь Н.М. Кулагина
Университет Шанявского поручил мне сказать своему бывшему сочлену Сергею Андреевичу Муромцеву свое последнее прощание. Грустно и тяжело звучит это слово у гроба. Вспоминается совместная работа с Сергеем Андреевичем, встают в памяти отдельные моменты его жизни, но слишком напряжены нервы, сильно подавлена мысль, чтобы передать свое настроение, выразить свои чувства у гроба почившего. Вождь народа в знаменательные дни русской жизни, враг всякого гнета и насилия над человеческой личностью, всегда жаждущий служить родине, он явился одним из инициаторов общественного народного университета в Москве, видным его организатором и постоянным, будничным в нем работником.
Для Муромцева было ясно, что народные университеты, это — маяки в стране, объятой тьмой, и что потребность знания, жажда истины, это — вопль современного русского народа, и он твердо и убежденно говорил: „Никогда не освобожу себя от обязанности преподавания в нашем университете“. И величавый образ почившего стал знаменем в университете Шанявского в деле служения науке и родине. Не дожил Сергей Андреевич до „зари лучших дней” над народными, свободными университетами, но хочется верить, что пройдут года, проникнут знания в глухие уголки нашей русской жизни, широкой волной польется народ в доступные для него общественные университеты. И чем больше будет царить сила знания в нашей родине, тем шире и шире во всех углах России будет расти благоговейное поклонение памяти Муромцева, великого гражданина, знаменитого ученого, искреннего друга народа, созидателя народного университета Шанявского. Теперь же, пока могильный холм не скрыл от нас твои останки, прими, Сергей Андреевич, земной поклон от университета Шанявского, пославшего меня сюда сказать тебе последнее прости.
X. „Русские Ведомости“
1. Историческая заметка
Среди независимых русских газет „Русские Ведомости“ являются газетою старейшей.
„Русские Ведомости“ основаны известным писателем Н. Ф. Павловым, который однако оставался во главе газеты недолго: он умер через семь месяцев после выхода первого нумера газеты, и редактором ее стал ближайший его помощник Николай Семенович Скворцов, которому „Русские Ведомости“ чрезвычайно многим обязаны. Основатель газеты, предпринимая это издание, совсем не имел в виду создать руководящий орган русской прогрессивной мысли. Первый нумер „Русских Ведомостей“, вышедший 3-го сентября 1863 года, даже с внешней стороны мало походил на нынешний. Это был маленький листок в четверку среднего газетного формата. Газета выходила лишь три раза в неделю, стоила с доставкой и пересылкой три рубля в год и была рассчитана на широкие круги тогдашнего провинциального читателя. И первые руководящие статьи новой газеты были написаны Павловым в том духе и тоне, который явно обнаруживал его стремление создать квазинародную газету, с направлением традиционного квасного патриотизма.
Одно только выгодно отличало еще при Павлове молодую газету от других газет того времени: с первых же нумеров в ней создался довольно обширный отдел „Внутренних известий“, который пополнялся главным образом „письмами к редактору“ многочисленных и все возраставших в числе провинциальных корреспондентов. Это не были профессиональные писатели, какими являются теперь в большинстве провинциальные сотрудники газет; „письма“, попадавшие тогда в провинциальный отдел „Русских Ведомостей“, были в прямом смысле слова письма читателей газеты, делившихся с редакцией своими сведениями об интересовавших их местных делах. В то время провинциальная печать была еще только в зародыше, а столичные газеты были крайне бедны провинциальными корреспондентами. Поэтому относительное обилие в новой маленькой газете сообщений с мест сразу выделило ее из среды других изданий и привлекло к ней симпатии читателей. Симпатии эти при Скворцове укреплялись еще и тем, что „Русские Ведомости“, сделали предметом своего преимущественного внимания освещение деятельности молодых, возникших почти одновременно с нашей газетой, земских и городских общественных учреждений и нового суда. И в редакционных статьях газета стала тогда же сочувственно поддерживать проблески самодеятельности в обществе и выступать с горячей отповедью всякий раз, когда усматривала в общественных учреждениях и делах проявление „чиновничьих“ порядков, либо старых грехов барской инертности и крепостничества.
В руках Скворцова газета быстро и заметно поднялась. Он умел выбирать людей и привлекать способных сотрудников. В первый же год своего редакторства он завербовал себе талантливого помощника в лице М.П. Щепкина; вскоре затем ему удается заручиться сотрудничеством из университетской среды Б.Н. Чичерина и Ф.М. Дмитриева и установить прочные связи с молодой адвокатурой (кн. А.И. Урусовым, Ф.Н. Плевако, Л.А. Куперником). Конечно, участие в газете таких выдающихся писателей и общественных деятелей подняло ее значение, увеличило интерес к ней публики; но средства Скворцова были чрезвычайно скудны, и только 1-го января 1868 года, на пятом году существования „Русских Ведомостей“, он мог приступить к ежедневному выпуску газеты.
Первый нумер „Русских Ведомостей“, преобразованных в ежедневную газету, вышел тоже в очень небольшом формате, менее двух третей нынешнего, в четыре столбца по 104 строки. Объем газеты расширялся потом, но медленно и постепенно: она постоянно как бы вырастала из платья, в которое была облечена, и как бы по принуждению облекалась все в более и более просторное. Внутренний рост, рост содержания газеты упорно требовал расширения ее внешних рамок, а сам он в свою очередь зависел от притока к ней новых литературных и ученых сил.
Вскоре после приступа к ежедневному выпуску „Русских Ведомостей“, в начале 70-х годов, Скворцов сблизился с небольшою группою молодых журналистов и ученых, принявших деятельное участие в газете и оказавших огромное влияние на дальнейшее ее развитие. В центре этой группы были А.С. Посников, В.М. Соболевский и А.И. Чупров. Последовательно они становятся ближайшими сотрудниками Скворцова и приносят в газету то направление, ту „программу“, которую она неизменно осуществляет более четырех десятилетий. В гуманном либерализме, которым была окрашена газета первых лет редакторства Скворцова, „направление“ молодых его сотрудников находит благодарную почву. В настоящее время можно прямо сказать, что эти люди были убежденные конституционалисты, но конституция не была для них самодовлеющей целью. Для них она была важна не только сама по себе, но и прежде всего как средство для достижения широких демократических реформ в хозяйственном и общественном строе родной страны. Эта струя искреннего, широкого демократизма роднила их с народническим движением, которое охватило тогда значительную часть русской интеллигентной молодежи. Но в отличие от народников того времени маленькая группа, получившая с начала семидесятых годов руководящее значение в „Русских Ведомостях“, признавала, что политическая свобода — главный рычаг демократического и социального обновления страны. Это признание капитальной важности вопроса о „конституции“ сближало молодых сотрудников Скворцова со старыми либералами типа Чичерина, от которых они были так далеки в области экономических воззрений, и делало их как бы связующим звеном между главнейшими левыми течениями русской политической мысли. Впоследствии знамя, поднятое в „Русских Ведомостях“ молодыми сотрудниками Скворцова, собрало вокруг себя многие тысячи убежденных приверженцев, усердно работавших и продолжающих работать на различных поприщах общественной деятельности. И в наши дни это широкое общественное движение еще не сказало своего последнего слова. Но в то время, когда оно зародилось, арена деятельности людей — этого направления ограничивалась листом небольшой московской газеты.
Уже вскоре после того, как Соболевский, Посников и Чупров становятся руководящим центром „Русских Ведомостей“, сама газета делается объединяющим центром для литературных представителей разных направлений прогрессивной мысли. В нее приходит плеяда блестящих ученых и публицистов, только что выступивших тогда на арену общественной деятельности. Достаточно назвать имена Дитятина, Муромцева, Максима Ковалевского, Скалона, Янжула, имена Глеба Успенского, Златовратского, Южакова, украшавшие столбцы газеты еще с семидесятых годов. Позднее ее сотрудниками становятся Лев Толстой, Салтыков-Щедрин, Михайловский, Чернышевский, Лавров-Миртов, Чехов, Короленко, а с другой стороны — Кавелин, Стасюлевич, Кони, С. Трубецкой, Влад. Соловьев. Конечно, от того направления, которое представляют собою „Русские Ведомости“, многие среди названных отклоняются кто вправо, кто влево. С другой стороны, также несомненно, что „Русские Ведомости“ с тех пор, как сложилась физиономия газеты, вели всегда свою линию, осуществляли свою программу. Но определенность направления газеты никогда не переходила в сектантскую исключительность или партийную нетерпимость; блюдя дух веры, газета не была требовательна относительно формы обряда и всегда посильно служила объединению русского общества и его литературных сил во имя любви к свободе и к родине. Поэтому, никогда не обращаясь в „парламент мнений“ и не допуская истолкования истины вкривь и вкось, „Русские Ведомости“ могли постоянно пользоваться сотрудничеством представителей различных литературных течений и политических направлений, нередко соперничавших и враждовавших в другом месте, но на столбцах „Русских Ведомостей“ помнивших не о том, что их разделяло, а о том, что было всем им близко и дорого. „Рыцари духа“ сходились и сходятся здесь и вместе идут против общего врага развернутым фронтом.
На протяжении полувекового существования газеты состав не только сотрудников, но и редакции ее, разумеется, неоднократно обновлялся. Старое — старится, молодое — растет. Смена поколений работников в деле, ведущемся десятки лет, неизбежна; неизбежно и применение основных принципов программы к меняющимся условиям и потребностям жизни, а это делает необходимым своевременное привлечение к делу свежих сил из рядов новых поколений. Приток их в „Русские Ведомости“ никогда не прекращался, и если для того времени, когда было водружено знамя газеты, можно назвать такие имена, как, например, Соболевского, Чупрова, то в недавнее время в рядах преемников их, немало поработавших и при них, и вместе с ними, были Иоллос, Герценштейн, Якушкин. Но при всех сменах, при всех обстоятельствах „Русские Ведомости“ оставались „верны себе“, своему направлению, своей программе, своему знамени. Они возжигали свой светильник то ярче, то тусклее, но никогда не угашали его, пользуясь каждой возможностью для осуществления своей программы, не обольщаясь никакими „веяниями“ и твердо веря лишь в то, что избранный ими путь, — пробуждение общественного правосознания и общественной самодеятельности в целях широких демократических, политических и социальных реформ, — есть единственный путь к свободе и процветанию родины.
2. Легенды о „Русских Ведомостях“. Роман Кумов
„Русские Ведомости“ — типично московское явление и, через это — типично русское. При имени этой газеты как-то невольно встает в памяти другое, глубоко московское и, через это, глубоко русское явление — великий старейший московский университет.
Это сравнение вызывается не только тем, что в „Русских Ведомостях“ сотрудничали и сотрудничают профессора московского университета — оно глубже, рельефнее и живописнее.
В самом деле, разве самый внешний образ газеты, как он создается в нашем воображении — после ознакомления с белыми глазированными мягкими страницами газеты, не походит на наружный строгий простой вид рассадника высшего образования на Моховой?
Разве мы не рисуем себе этот образ газеты в виде такого же старинного здания простой и мудрой архитектуры, с узкими окошками, скупо пропускающими через себя изменчивый и волнующийся шум сегодняшнего дня, с низкими полутемными аудиториями, где как будто осели от тяжести множества ног массивные железные полы и где старые пожелтевшие сводчатые стены словно пропитаны горячим жаром вдохновенных высоких увлекательных речей?…
История говорит, что этому зданию только пятьдесят лет. Но у нас, в России, свои сроки, и мы живем не календарем, а сердцем. Пятьдесят лет — срок небольшой, но за это время это здание успело много перенести от роковой политической непогоды и вместе с тем успело совсем войти в нашу жизнь, раствориться, обрасти преданиями и легендами.
Эта способность — за такой, сравнительно, короткий срок совсем войти в жизнь — особенно замечательна.
Мы знаем многие очень долголетние и очень почетные учреждения и издания, на которые мы смотрим почтительно, но спокойно, без трепета сердца, имеющего способность быстро сбивать любимый предмет своими признаниями и сказками, как зеленый плющ обвивает темные стены старого дедовского дома. И в этом нашем отношении к газете — самое важное и дорогое сравнение с московским университетом, — так мы относимся только к нему — к его традициям, героям, к его Татьянину дню…
Жизнь отшлифовала некоторые из этих наших отношений к старой московской газете в традиции и легенды, но пока не выкинула их на Божий свет, как море выносит граненые камни и разноцветные раковины. Пока эти традиции и легенды таятся в глубине народной жизни и ждут своего собирателя. Эти легенды высоки и трогательны, и характеризуют не только газету, с именем которой связаны, но и тех, которые создали их…
На пышном банкете — по случаю пятидесятилетнего юбилея газеты, среди представителей всевозможных учреждений и организаций, незримо присутствовала скромная незаметная делегация от тех, кем жива газета, — от ее рядовых читателей. В этой делегации виднелись потертый учительский виц-мундир, судейская тужурка старого образца, сконфуженный гимназист с большими открытыми глазами, не то городской, не то деревенский попик с мужичьим лицом и тоскующим взглядом запавших глаз, старичок доктор с запачканными табаком и йодом пальцами, какие-то неопределенные желтые хмурые личности в пиджаках, косоворотках, полинявших студенческих тужурках… Эта публика скромно жалась назади и у нее не было заметно красивых адресов и дорогих подарков, — в простоте сердца она несла своей газете в день ее именин маленькие жемчужинки, которые собрала в глубинах своей захолустной обиженной жизни, — легенды о „Русских Ведомостях“…
Когда настал черед, первым выступил учитель в потертом виц-мундире. Он поклонился собранию и поведал, что во всякий свой приезд в Москву он обязательно ходит на Чернышевский переулок, к дому, где помещается редакция газеты „Русские Ведомости“. Здесь он стоит некоторое время около желтых стен и уходит обратно в свой номеришко или в магазин, где нужно купить жене бумазеи…
Учителя сменила судейская тужурка старого образца. Шамкая, она рассказала, что выписывает газету подряд сорок один год и сберегает все старые номера. В духовном завещании ее, составленном у сапожковского нотариуса Ганнова — по Купеческой ул., в доме Воропаева, значится: „все имущество завещаю своим сыновьям и дочери, кроме комплектов газеты „Русские Ведомости“. Эти комплекты газеты за все годы завещаю местной земской библиотеке“…
Попик с мужичьим лицом и тоскующим взглядом сообщил, что он за газету был два раза в монастыре и теперь получает ее через одного знакомого.
Гимназист торопливо, не мигая своими прекрасными глазами, обведенными длинными девичьими ресницами, рассказал, что у них в гимназии газету выписывают в складчину и читают на переменах в курилке, где висят портреты Л. Толстого, Чехова, Писарева и Надсона.
В заключение вышел один из неопределенных хмурых личностей в косоворотке и поведал такую бывальщину:
Дело было в одном из тех сибирских уголков, которые дальше „того света“. Глухое якутское село. Когда-то с миссионерскими целями здесь была построена церковь и был прислан батюшка. Потом, наверно, забыли и про село, и про церковь, и про батюшку. Вспомнили про село только тогда, когда нужно было заслать, как можно дальше, двух политических преступников — студента Петрова и рабочего-кавказца Беридзе. Село оказалось подходящее, — их и заслали сюда. Приехали ссыльные, — избы, как звериные норы, церковь от вьюг и бурь покосилась на сторону…
Они постучались к священнику: впустите отогреться! Священник был стар и вдов, — неожиданным гостям он обрадовался, напоил их горячим наваром из трав и в заключение предложил поселиться у него. Только одно условие поставил: по очереди ходить в лес за дровами, так как сам стал стар и ревматизмы одолели… Таким образом зажили под одной крышею священник, студент и кавказец. Зажили мирно. Ссыльные у хозяина на престоле в день Ильи пророка в церкви песнопения выводят и скудное угощение разделяют с прихожанами, живущими в звериных норах, а батюшка на Татьянин день в церкви особо торжественный молебен служит и идет на половину жильцов — с праздником поздравлять… Конечно, жили скудно и тяжело. Батюшку ревматизмы одолевали. Кавказец почти все время лежал в своей комнате, покрытый всеми своими отрепьями, дрожал и бормотал, как в бреду про свой Кавказ — какое там горячее солнце, какое вино, какие горы, какие девушки!..
Крепче всех казался студент. Всегда он был ровен и одинаков — очки, бородка, прямой, восторженный взгляд. Переносил ссылку он молча, стыдливо, как будто боялся оскорбить других своим страданием. Он не любил рассказывать, за что он попал в это село. Только можно было понять, что ему нужно было подписать какое-то прошение, но он не подписал. Сначала было неизвестно, были ли у него родные. Потом оказалось — были. Молоденькая жена его даже в ссылку приезжала. Батюшка и кавказец были рады свежему человеку, но студент хмурился и волновался, и кончилось тем, что жена скоро уехала назад в Россию. Батюшка и кавказец между собою дивились — какой кремень! Только раз вскоре после отъезда молодой женщины, ночью батюшка слышит сквозь дверь — словно плачет человек. Приподнялся, подошел к двери студента, — плач стих… Или пойдут студент и батюшка в лес за дровами, пробираются грудью сквозь сосновую чащу, как заяц весной через густую траву. „Батя! — воскликнет студент, — какая у вас дивная природа!“
Н-да, — крякнет запыхавший батя и пристально посмотрит ему в глаза. А в глазах у студента тоска…
Крепок и стыдлив был человек в своем страдании. Но и у него была слабость. Кто-то изредка присылал ему из Москвы газету „Русские Ведомости“. Почта в село приходила раз в два месяца, и случалось, что с почтою набегало номеров пять газеты. Получит студент разрозненные запачканные номера и несколько ночей в его комнате горит неугасимый огонь…
Так жили три пустынножителя — батюшка, студент и кавказец. Долго ли, коротко ли, — случилась под их крышей беда: студент повалился. Ходил он в лес за дровами, закостенел на холоде и, когда вернулся домой, запылал, как костер, и сгорел в два дня… За четверть часа до смерти он пришел в себя. Батюшка заметил, что он шевелит губами, наклонился к нему, а он шепчет: газета не пришла ли?
Как раз день был почтовый.
— Нет еще. Теперь скоро придет…
Он обвел глазами комнату.
— Видел я сейчас, — шепчет, — будто я на родине, на Оке, в Рязанской губернии… Мамаша в саду снимает яблоки, а я ветки ей нагинаю…
— Не хотите ли, товарищ, кипяточку? — предложил кавказец.
— Нет…
— Николай Степанович, — наклонился над постелью батюшка, — не надо ли передать чего родным?
Больной долго смотрел на батюшку.
— Ничего не надо… Спасибо вам… Дайте ваши руки… Спасибо, — он слабо пожал руки сожителям… — Теперь я засну… Устал…
Он закрыл глаза, точно, действительно, засыпал, и так во сне невидимкою ушел совсем из-под батюшкиной крыши, из глухого якутского села…
Когда батюшка и кавказец положили покойного на лавку, старичок якут принес два номера газеты, — почта пришла. Кавказец и батюшка переглянулись, посмотрели на покойника и вздохнули, — почта опоздала! Кавказец сорвал бандерольку, развернул листы газеты и накрыл ими покойника…
Роман Кумов
XI. Народный университет имени Шанявского
1. Исторический очерк. ”М. Г. Н. У. И. Ш.”
Идея возникновения Московского Городского Народного Университета тесно связана с личностью A.Л. Шанявского, давшего почин „учреждению, удовлетворяющему потребности высшего образования“. Покойный A. Л. вырос и воспитался под прямым воздействием 60-х годов.
Сознание, что просвещение — „источник добра и силы“, всегда было живо в душе Шанявского и его заветной мечтой являлось учреждение такой высшей школы, свободной и общедоступной, куда бы принимались все желающие, — без различия пола, национальности и вероисповедания. Эта мысль получила усиленный толчок от русско-японской войны, показавшей „воочию всю нашу несостоятельность“, и от памятных событий 1904–5 гг. В письме к одному из министров народного просвещения он так объяснял мотивы этого дела: „Несомненно, нам нужно как можно больше умных образованных людей, — в них вся наша сила и все наше спасение, и в недостатке их — причина всех наших бед и несчастий и того прискорбного положения, в котором очутилась ныне вся Россия. Печальная система гр. Д.А. Толстого, старавшегося всеми мерами сузить и затруднить доступ к высшему образованию, сказалась теперь наглядно в печальных результатах, которые мы переживаем, и в нашей крайней бедности образованными и знающими людьми на всех поприщах. A другие страны в это время, напротив, всеми мерами привлекали людей к образованию и знанию вплоть до принудительного способа включительно. Все ясно сознали ту аксиому, что с одними руками и ногами ничего не поделаешь, а нужны и головы и чем они лучше гарнированы, и чем многочисленнее, тем страна богаче, сильнее и счастливее. В 1885 г. я пробыл почти год в Японии, при мне шла ее кипучая работа по обучению и образованию народа во всех сферах деятельности, и теперь мне пришлось быть свидетелем японского торжества и нашей полной несостоятельности. Но такие удары никакая страна, даже наша, не может сносить, не встрепенувшись вся, и вот она жаждет теперь изгладить свое унижение, она жаждет дать выход гению населения России, — не тупее же оно в самом деле даже монгольской расы. Но если оно коснеет доселе в принудительном невежестве, то теперь настало время, когда оно рвется из него выйти и со всех сторон раздается призыв к знанию, учению и возрождению“.
Так духовный облик A.Л. Шанявского, создавшийся под прямым влиянием эпохи 60-х годов, после севастопольского разгрома, — встал во весь свой рост после дней Мукдена и Цусимы.

Чувствуя неизбежный исход легочной болезни, зачатки которой развились еще во время пребывания A. Л. в академии генерального штаба вследствие вредного влияния петербургского климата, покойный основатель московского городского народного университета спешит осуществить свою мысль. Он обращается к людям, которым дороги интересы народного просвещения.
Летом 1905 г. в Москве происходят коллегиальные совещания, в которых участвуют проф. М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, В.К. Рот, кн. Е.Н. Трубецкой, и г.г. Н.И. Гучков, Н.Н. Щепкин, В.Е. Якушпин, Н.В. Сперанский и М.В. и С.В. Сабашниковы. На этих совещаниях и были выработаны основы московского городского народного университета.
A.Л. Шанявский по болезни не мог участвовать в совещаниях, но он внимательно следил за их работой и, убедившись, что выработанные положения отвечают его мысли, 15 сентября 1905 г. обратился в московскую городскую думу с заявлением, в котором, прося принять от него в дар дом в Москве для почина в целях устройства и содержания в нем или из его доходов народного университета, так мотивировал его учреждение: „В переживаемые нами тяжелые дни одним из лучших способов обновления и оздоровления общественной жизни должно служить широкое распространение просвещения и привлечение симпатии народа к науке и знаниям, этим источникам добра и силы“.
В упомянутом заявлении A.Л. Шанявский указал следующие главные основания народного университета:
- „В народном университете читаются предметы по всем отраслям академического знания, и притом чтение может вестись не только на русском, но и на других языках. Лекторами могут быть лица обоего пола, имеющие ученую степень, а также лица, составившие себе имя в литературе, науке или в области преподавания, или, наконец, известные своими дарованиями попечительному совету народного университета.
- К слушанию лекций в народном университете допускаются лица обоего пола не моложе 16 лет, без различия национальностей и вероисповеданий, при чем самим преподавателям предоставляется определить, имеют ли желающие слушать какой-либо предмет достаточную подготовку для слушания его с пользой. Такое условие, широко открывая двери народного университета всем истинно жаждущим знания, тем самым определяет и цель его: служить дополнением к существующим ныне высшим учебным заведениям и расширять сферу высшего образования и деятельности на пользу его, не ограничивая поступления аттестатами зрелости, a преподавания — формальными дипломами.
- Состоя в ведении московского городского общественного управления, народный университет должен находиться под непосредственным наблюдением попечительного совета из 16 лиц. Половина состава попечительного совета, а именно 8 членов, должны избираться московской городской думой посредством закрытой баллотировки, сроком на 4 года, с постепенным обновлением. В числе их должно быть не менее 4 членов с высшей ученой степенью и не менее двух женщин. Члены другой половины попечительного совета будут назначаемы мною (Шанявским) пожизненно. Затем, по мере выбытия их, они должны замещаться лицами, избираемыми попечительным советом на 4 года, при чем для избрания требуется получить не менее десяти голосов. Попечительному совету предоставляется право выполнить свой состав и до 20 членов избранием еще четырех членов, при чем для такого избрания требуется получить не менее двенадцати голосов.
- Ведению попечительного совета принадлежит выбор предметов преподавания, составление общего плана преподавания, открытие факультетов и отделов народного университета, приглашение лекторов и профессоров, установление размера и способа вознаграждения преподавателей и платы за слушание курсов. Для ближайшего заведования делами народного ун-та попечительному совету предоставляется организовать исполнительный орган (правление), в состав которого попечительный совет может избирать как членов совета, так и посторонних лиц. Сверх того, вследствие новизны дела и по примеру других стран, попечительный совет должен устроить „комитет усовершенствования“, состоящий из почетных членов обоего пола, разных профессий и стран, светил науки и людей известных своей общественной деятельностью, или сделавших полезное пожертвование на московский народный ун-т. Такие члены „комитета усовершенствования“ избираются московской городской думой по представлению попечительного совета, и комитет этот должен собираться не менее одного раза в год. Члены попечительного совета состоят по должности также членами комитета усовершенствования.
- Плата за слушание лекций попредметно или группами должна быть определена в возможно доступном размере и, если последующими пожертвованиями будет образован капитал, проценты с которого вполне обеспечат содержание народного ун-та, вместе с вознаграждением профессоров, то со слушателей и слушательниц не должна взиматься никакая плата за слушание лекций в народном ун-те“.
Получив согласие московской городской думы на принятие ею условий устройства народного университета, А. Л. Шанявский закрепил за университетом все свое имущество частью по завещанию (после смерти жены), частью — по дарственной записи на дом на Арбате, а в самый день совершения этой последней записи 7 ноября 1905 г., скончался, дав почин учреждению первого в России народного университета и оставив этим неизгладимые следы в истории народного просвещения.
„М. Г. Н. У. И. Ш.“
2. Необходимые сведения об университете имени Шанявского. Н. Здобонов
Несмотря на пятилетнюю энергичную деятельность университета Шанявского, популярность его в провинции недостаточно велика и далеко не соответствует тому значению, какое он имеет в современной русской жизни. В широких кругах народа, в глухой провинции, еще до сих пор как следует не знают не только физиономии университета, и тех задач, какие он преследует, но, пожалуй, даже и его существования. А между тем он может пригодиться для очень и очень многих, нуждающихся в серьезном образовании, в особенности из среды тех, кто по той или иной причине не мог и не может поступить в казенные учебные заведения.
Благодаря тому, что в России недостаточно развита сеть средне-учебных заведений, а получение образования в существующих для многих по различным причинам недоступно, — на Руси немало найдется таких лиц, которым пришлось и приходится ограничиваться только низшими ступенями среднего образования, — в городских 4-х классных или подобных им женских училищах, — а свою потребность в образовании удовлетворять, если можно так выразиться, домашними средствами, которые во всяком случае не могут в полной мере удовлетворить потребность в образовании, так как для более или менее глубокого законченного образования прежде всего нужна система, школа, нужны хорошие руководители, которых нет при так называемом самообразовании, которых можно найти только в высших учебных заведениях. Но двери этих учебных заведений закрыты для лиц, не получивших дипломного среднего образования. Правда, есть один путь, который дает возможность перескочить среднюю школу и открывает двери высшей, это — экзамен на аттестат зрелости экстерном. Но затрачивать и время, и скудные средства на ненужную в сущности подготовку к экзамену на аттестат зрелости, который в наше время добывается с таким огромным трудом, не всякий имеет возможность. Кроме того, держать экзамен на аттестат зрелости экстерном не всякий имеет возможность еще и по другой причине, которая очень часто стоит поперек дороги на пути к образованию: по „политической неблагонадежности“…
Одним словом, лиц, желающих быть образованными людьми и вместе с тем не могущих по той или иной причине достигнуть своей цели, найдется немало, и им-то приходит на помощь университет Шанявского.
Преследуя такую в высшей степени симпатичную цель, как „служение широкому распространению высшего научного образования и привлечению симпатий народа к науке и знанию“, этот университет совершенно чужд какого-либо рода стеснений по отношению к своим слушателям. Он не требует никаких свидетельств о политической благонадежности и никаких дипломов о предварительном образовании; не налагает на своих слушателей обязательств держать экзамены, как при поступлении в него, так и при переходе с одного курса на другой, а также и при выходе из университета; в нем нет стеснений в отношении возраста, пола, национальности и религии: в нем все равны, нет ни овец, ни козлищ. У кого есть стремление к образованию, у кого есть желание работать, кто бы он ни был: русский, еврей, немец, китаец, татарин, кто угодно, какую бы религию ни исповедовал, с каким бы дипломным образованием ни был, на каком бы ни был счету у администрации, невзирая на все это, с полным сознанием своего права быть образованным человеком, он может придти в университет Шанявского и там открыты для него двери, там он может работать вполне свободно, без какого-либо над ним опекунства и контроля.
Организованный по образцу иностранных университетов, университет Шанявского предоставляет полную свободу в работе своим слушателям, ни в чем не стесняя их стремлений и желаний в смысле приобретения знаний. Гибкость программы, — возможность записи на отдельные предметы, возможность составления своих циклов наук, — предоставленная слушателям полная свобода самодеятельности, полное к ним доверие и симпатичное внимание к их стремлениям и пожеланиям со стороны администрации университета, — все это обусловливает ту значительную продуктивность занятий, которая так выгодно отличает университет Шанявского от других русских университетов.
В настоящее время, — время пригнетения русской науки, время разгрома лучших высших учебных заведений, как например, московского императорского университета и военно-медицинской академии, — университет Шанявского является отрадным оазисом свободной науки; единственным в России высшим учебным заведением, в котором бьет ключом бодрая жизнь, созидаются и укрепляются силы интеллигентных работников, открываются им широкие горизонты, дается обширное и богатое поле для их труда. Это единственный в своем роде университет в России, которому принадлежит великое будущее, который положит краеугольный камень в фундамент Молодой России, разовьет и укрепит ее строительство.
Не требуя от своих слушателей никаких ненужных бумажек-свидетельств за среднюю школу и не давая никаких дипломов своим окончившим курс слушателям, университет Шанявского тем самым очищает свои аудитории от тех нежелательных элементов, которые гонятся только за дипломами, за тепленькими местечками, не стремясь к науке и знанию, как таковым, не стремясь к собственному развитию и образованию. В университет Шанявского идут только те лица, которые действительно хотят быть знающими и образованными людьми, которые стремятся с пользой поработать на благо родины и науки. Пишущий эти строки сам был слушателем университета Шанявского и на основании личных наблюдений может свидетельствовать, что процент ничего не делающих слушателей слишком ничтожен и падает главным образом на тех случайных в университете лиц из состоятельных классов, которые бывают в университете ради развлечения, чтобы послушать знаменитых профессоров. Что же касается огромного большинства слушателей, то оно старательно, с воодушевлением работает над собой, насколько позволяют им это их материальное положение. Только малая обеспеченность или полная необеспеченность в материальном отношении бывает причиной тому, что не всегда значительны успехи в занятиях некоторых слушателей.
Как видно из отчета университета за 1911–12 академический год (за последний год отчет еще не издан) 72% общего числа слушателей, помимо занятий в университете, вынуждены заниматься еще на стороне ради заработка, большей частью в должности учителей или служащих в различных учреждениях, и тратить на это большую часть дня, отдавая занятиям по университету каких-нибудь пять-шесть часов в сутки, которых, конечно, далеко недостаточно, в особенности на юридическом и историко-философском циклах наук, где для плодотворности занятий требуется затрата массы времени на прочтение многих, часто обширных, пособий. Но и при самых неблагоприятных условиях в этом отношении, эти слушатели заметно подвигаются вперед и посещение ими университета не проходит для них без значительной пользы. В особенности крупных успехов достигают слушатели естественного цикла, на котором имеются прекрасно оборудованные лаборатории, а наглядность изучаемого предмета и особливо строгая специализация облегчают усвоение изучаемого.
Как велики успехи естественников, можно судить по тому, что многие работы слушателей естественного цикла были напечатаны в различных русских и иностранных специальных изданиях. Об успешности занятий на других циклах: юридическом, историко-философском, можно судить по отзывам таких профессоров, как покойный Г.Ф. Шершеневич, руководивший семинарием по гражданскому праву, и Д.М. Петрушевский, руководивший семинарием по истории средних веков. „Участники семинария, — пишет в отчете о своих занятиях Шершеневич, — обнаружили живой интерес к делу. Некоторые рефераты слушателей могли бы быть с интересом и пользой прочитаны русскими юристами“. A Петрушевский пишет: „Работа шла очень оживленно и доставила всем участникам, не исключая и руководителя, большое удовлетворение, что объясняется, главным образом, очень значительной научной подготовкой участников семинария и его совершенно свободным характером“. У некоторых слушателей университета занятия идут так успешно, что им предстоит научная командировка за границу от университета.
При той свободной постановке дела в университете, какую я постарался вкратце описать выше, и при таком составе преподавателей, каким располагает университет, нет ничего мудреного в том, что так успешно идут занятия слушателей. Такие имена, как бывший ректор императорского московского университета А.А. Мануйлов, бывший проректор того же университета П.А. Минаков и затем: Ф.Ф. Кокошкин, В.М. Хвостов, А.Ф. Фортунатов, С.Ф. Фортунатов, А.А. Кизеветтер, Н.В. Давыдов, П.Н. Сакулин, Ев.Н. Трубецкой, Б.К. Млодзеевский, А.А. Эйхенвальд и многие другие крупные имена науки, в том числе ныне покойные профессора Г.Ф. Шершеневич и П.Н. Лебедев, — вполне обеспечивают плодотворность занятий в университете Шанявского и вместе с тем ту строгую научность преподавания, которая характеризует высшее учебное заведение, и дают окраску всему университету, как рассаднику свободного знания. Недаром такими сравнительно широкими симпатиями пользуется он среди русского общества. Громадный приток пожертвований в этот университет от разных лиц, громадный, увеличивающийся с каждым годом с невероятной быстротой приток в него слушателей, — говорят о симпатиях общества к этому университету.
В моем распоряжении нет точных сведений о количестве слушателей университета за первые два года его деятельности, но по частным сведениям известно, что в первом году слушателей было всего лишь несколько десятков человек, во втором году их было уже свыше 500, в третьем году — 924, в четвертом — 1756, а в последнем уже около 3000 человек. В текущем же году, по сведениям „Русского Слова“, слушателей в университет записалось больше, чем в последнем году на 2700 человек, т. е. почти вдвое. Эти цифры говорят сами за себя.
При этом небезынтересно будет отметить, что из числа 1756 слушателей, бывших в университете в 1911–12 году, 80% обладали свидетельствами за различные средне-учебные заведения, в том числе лиц с высшим образованием 15%, при чем, по сравнению с предыдущим 1910–11 годом, количество слушателей с образованием не ниже среднего повысилось на 2,1%, а лиц с высшим образованием увеличилось на 6,8%; в последнем же 1912–13 году эти проценты увеличились еще более.
Даже оставив в стороне все сказанное выше, только по одним этим цифрам можно судить о том, какое положение занимает университет Шанявского, в особенности, если принять во внимание, что в 1911–12 году 303 лица, т. е. 17,2%, были учащимися в различных учебных заведениях, в том числе 172 студента императорского московского университета и 42 слушательницы высших женских курсов. Очевидно, университет Шанявского более удовлетворяет требованиям действительно учащихся, чем другие однородные с ним высшие учебные заведения, и те лица, которые действительно хотят работать и в то же время нуждаются в дипломе и имеют возможность вносить плату в два учебные заведения, предпочитают заниматься в университете Шанявского, а в императорском университете или другом учебном заведении только держать необходимый для диплома экзамен…
Насколько проникает в провинцию популярность университета Шанявского, как высшего учебного заведения, можно судить по тому, что в 1911–12 году около одной четверти слушателей полных циклов приехали из провинции специально с целью учиться в университете, а в последнем году количество таких лиц значительно увеличилось, — было много приехавших с далеких окраин, как например, с Кавказа, из Томской, Иркутской, Забайкальской и других дальне-сибирских губерний, также немало было приехавших из Прибалтийского края и с Урала. Этот факт весьма отрадный и дает право надеяться, что приток слушателей из провинции с каждым годом будет больше и больше увеличиваться, что глухая провинция, наиболее нуждающаяся в этом университете, двинет в него целые кадры будущих своих идейных работников.
Нельзя не отнести к отрадным явлениям также и то обстоятельство, что большинство слушателей университета Шанявского составляют женщины, и что они также работают энергично и плодотворно. Печально только то, что женщин мало дает провинция, — большинство их представляют учащие в московских начальных училищах.
Говоря о составе слушателей университета, нельзя обойти молчанием и их возраст. В 1911–12 году три четверти общего числа слушателей составляли лица в возрасте 20–40 лет, но немало было лиц и более старшего возраста. В каждой аудитории можно видеть несколько совершенно седых голов, а говоря точно, в прошлом 1911–12 году в возрасте от 40 до 50 лет было 105 лиц и в возрасте СВЫШЕ 50 лет 31 лицо. Присутствие в аудиториях университета слушателей такого преклонного возраста производит очень и очень благоприятное впечатление: ведь молодость, время ученья для этих людей давно прошло, жизнь их клонится к концу, а они, старые годами, все еще молоды духом, все еще не теряют надежды и бодрости, все еще стремятся вперед, ищут новых знаний, ищут новых жизненных путей. Это сознание вселяет бодрость, увеличивает энергию наших молодых, но нередко уставших, душ.
Говоря вообще, в университете Шанявского, студенческая жизнь полна разнообразия и содержательности. Приподнятое настроение, сознание общественного долга, стремление приложить свои силы и познания к общественному общекультурному делу, стремление внести что-то новое в общее дело младо-русского строительства сказывается на каждом шагу, чувствуется в общей атмосфере университетских аудиторий и коридоров. И вглядываясь внимательно во внутреннюю жизнь университета, невольно приходишь к мысли, что та спячка, та общественная апатия, то духовное измождение, которые еще так недавно душили русское общество, идут к концу, — воля пробуждается, возрождается жизнь.
До сих пор я говорил об университете Шанявского, как высшем учебном заведении о его центральном, академическом отделении. Но деятельность университета этим отделением не ограничивается. В нем есть еще два отделения: 1) научно-популярное и 2) эпизодических курсов.
Научно-популярное отделение является подготовительной ступенью к академическому отделению и рассчитано на лиц, недостаточно подготовленных для успешного усвоения предлагаемых на академическом отделении курсов и плодотворного участия в практических работах. Значение этого отделения огромно.
Для того, чтобы получить высшее образование, нужна известная подготовка, которая дается средне-учебными заведениями или добывается путем самообразования. Но не всякий имеет возможность получить эту подготовку в достаточной степени по многим известным причинам. И лица, не имеющие этой необходимой подготовки, могут получить ее на научно-популярном отделении университета. Оно дает необходимые для занятий на академическом отделении предварительные сведения в пределах программы средней школы, представляя нечто вполне законченное и очищенное от разного рода ненужного балласта, переполняющего программы средних школ, и внося многие необходимые дополнения, применительно к программе академического отделения университета, разбиваясь на два цикла: 1) естественных наук и 2) общественных наук.
Преподавание на этом отделении поставлено так же хорошо, как и на академическом, слушателям предоставлена такая же свобода самодеятельности и вообще во многих отношениях, сказанное выше об академическом отделении можно применить и к научно-популярному.
Это отделение так же, как и первое, пользуется значительной популярностью и количество слушателей на нем увеличивается почти в такой же прогрессии.
Организованное осенью 1910 года, оно в первый же год своего существования привлекло 242 слушателя, а в следующем 1911–12 году слушателей на нем было уже 420. Из них 67% мужчин и 33% женщин, а по образованию состав слушателей определился в следующих цифрах: 10,2% со средним образованием, 22,6% выше начального, но не ниже среднего (ученики средних учебных заведений, окончившие дополнительные классы, торговые и профессиональные школы и др.), 57,6% с начальным образованием и 9,6% не окончивших начальную школу.
Большинство слушателей этого отделения, а именно 84,82% составляли служащие и рабочие.
По возрасту слушатели распределялись так: 40% от 20 до 25 лет, 27% от 25 до 30 лет, 23% от 16 до 20 лет и 10% старше 30 лет.
Занятия на этом отделении (точно так же, как и на академическом) ведутся только вечером и этим значительно расширяется доступ в университет: слушатели, нуждающиеся в заработке, работают на стороне без значительного ущерба для университетских занятий.
Преследуя цели общедоступности, университет Шанявского взимает самую минимальную плату за обучение в нем. Плата за полный цикл наук научно-популярного отделения 6 руб. в год, а на академическом 40 р. в год, причем на обоих отделениях допускается самая широкая рассрочка во взносе этой платы. В настоящее время пока трудно ожидать чего-либо лучшего в этом отношении, в особенности, если принять во внимание, что беднейшие слушатели совершенно освобождаются правлением университета и от этой платы, а за некоторых плату вносит общество усиления средств университета и общество взаимопомощи слушателей.
Эпизодические курсы рассчитаны на лиц, работающих или желающих работать в различных областях общественной деятельности. В прошлые годы были организованы курсы по местному самоуправлению, по общественному содействию мелкому хозяйству и кооперации, по библиотечному делу, а в текущем году к ним прибавляются еще курсы по внешкольному образованию.
Эти курсы организованы таким образом, чтобы они были доступны наиболее широкой публике, лицам, не только получившим образование в университете, но и лицам, имеющим лишь предварительные сведения по вопросам права и политической экономии, т. е. таким лицам, которые могли бы посвятить занятиям в университете небольшое время, приехав для этой цели из провинции в Москву.
Эти курсы пользуются довольно большим успехом и привлекают массу слушателей из далекой провинции.
Н. Здобнов
Москва Белокаменная столица
Москва матушка — золотые маковки.
Москва царство, а деревня рай.
Кто в Москве не бывал, красоты не видал.
Народные присловья
Москва. И. Забелин
Так привольно раскинулась Москва со своими окрестными селениями и дачами и в такой прекрасной местности, что по справедливости почитается одним из живописнейших городов Европы. Свежий глаз путешественника и особенно художника находит эту красоту не только в общих панорамах столицы, с любой стороны, но и в каждом уличном закоулке, лишь бы этот закоулок открыто смотрел на Кремль или на одну из тех же панорам. Красота местоположения становится еще больше привлекательною от своеобразия и многочисленности старинных, особенно церковных, построек Москвы, которые придают ей такой оригинальный, просторный, ни с чем не сравнимый тип старого русского города, что все другие старые города Великой Руси относительно своей красоты и пространства очень справедливо именовали себя только уголками Москвы. „Наш городок — Москвы уголок!“ говорилось и в Ярославле, и в Твери, и всюду, где приходило на мысль определить типические черты красивой местности и красивого построения старинного города. Народ же свое удивление перед старою матушкою-Москвою выразил особым и очень сильным присловьем: „Кто в Москве не бывал — красоты не видал!“ Поговорка эта, выразившаяся впоследствии и литературно, стихом: „Что матушки-Москвы и краше, и милей!“ сложилась, конечно, в то еще время, когда Москва на самом деле была единственным на Руси городом, достойным удивления. Это было задолго до построения приморского красавца — Петербурга, и в ту эпоху, когда старейший и первый на Руси днепровский красавец, Киев, совсем было удалился от русских созерцаний в чужую землю.
Живя на востоке, имея постоянное дело с востоком, Москва физически не могла вырастить себя совсем по западному образцу, с которым вдобавок не сошлась характером по вере и по некоторым политическим началам. Но зато она неутомимо шла не собственно к западным, а вообще к европейским целям развития и успела присвоить своему родному востоку именно европейские силы народного совершенствования. При внимательном и ближайшем рассмотрении, восточный облик Москвы окажется вовсе не восточным, а в полной мере русским, в полной мере самобытным созданием русской народности. Высшую красоту старинный русский народ созерцал в Божием храме, а в Москве было столько церквей, что трудно было их перечесть: „сорок сороков!“ Кроме красоты местоположения, пестрая, кудрявая, своеобразная архитектура этих церквей, золотые маковки, золотые главы, стройные колокольни, царские и боярские высокие хоромы, терема и вышки с самыми разнообразными и замысловатыми кровлями, которые возвышались шатрами, бочками, скирдами, епанчами и т. п.; затем круговые каменные и деревянные стены с башнями и воротами, красоте и отделке которых удивлялись даже иноземцы. Западные иноземцы, послы и посланники, подъезжавшие к Москве в XVI и XVII ст. большею частию от Смоленска, по Можайской дороге, приходили в неописанный восторг, когда с Поклонной горы открывалась им в самом деле восхитительная панорама и самого города, и окружающих красивых мест, расположенных между Воробьевыми горами, направо, а Тремя горами налево, с обширным лугом или целым полем Ходынки, с бесконечными лесами по сторонам, уходящими и теперь далеко за горизонт. Они говорили, что вид на Москву издали, то есть именно с этого пункта, по обширности и великолепию города, есть одно из прекраснейших зрелищ, какие удавалось им когда-либо видеть. Благочестивые из немцев прямо сравнивали Москву с Иерусалимом, разумея в этом имени все прекрасное и великолепное, чем только город может отличаться по своей красоте.
И. Забелин
Москва. А. Пушкин
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
Вот окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар, —
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою!
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.
Прощай, свидетель падшей славы,
Петровский замок… Ну! не стой,
Пошел! Уже столпы заставы
Белеют; вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы;
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.
Пушкин
Панорама Москвы. П. Бобрыкин
Москва так богата видами, что можно было бы насчитать до сотни пунктов и в самом городе, и в окрестностях, откуда панорама выходит одинаково привлекательной, хотя и не одинаково обширной. Взойдете ли вы на любую колокольню, перед вами непременно расстелется яркая и многоцветная картина. Едете ли вы просто по улице и, не ожидая того, попадете на спуск с какого-нибудь бульвара, — опять вниз и вверх мечется вам в глаза перспектива и тешит ваш взгляд.
Всего обширнее и колоритнее вид Москвы с Ивановской колокольни. Его знают все иностранцы и не ленятся подниматься на четыреста девять ступенек, ведущих до верхней площадки, где висят малые колокола, а оттуда есть еще деревянная лестница, ведущая на самый верх. Служитель при колокольне расскажет вам, как в дни торжеств коронации поднимались на Ивана Великого иностранные принцы, послы, корреспонденты.
Вы, действительно, стоите как бы посредине круга. Обходя верхнюю площадку с ее парапетом, вы можете обозреть во всей ее полноте панораму древней столицы. Внизу, под вами, блестят золотые главы крыш и решеток; сверху центр Кремля — соборы и дворцовые церкви получают еще более своеобразный оттенок, поднимают свои золоченые главы, тешат взор и уносят его к прошедшему, дают вам сразу историческое чувство. Вы видите и ту церковь, что стоит на дворцовом дворе, окруженная со всех сторон, так что ее снизу ниоткуда не видно иначе, как когда вы войдете на самый двор; это первый храм, поставленный среди бора, которым покрывался кремлевский холм. Самое цельное впечатление производит площадь, окруженная соборами, с Красным крыльцом и теремами. Она сложилась всей исторической жизнью, хотя и не в полном единстве архитектурного стиля, но в единстве гармонии.
Сверху все здания Кремля, несмотря на то, что есть между ними далеко неудачные, — как напр., казарма, арсенал, дворцовые помещения против и около Потешного дворца, — дают совокупность, выходящую всегда целостной. Но взгляд ваш просится в ширь и в даль, во все стороны кругозора. Его влекут бесчисленные контуры, краски и извивы огромного моря зданий и садов, парков, холмов и равнин. Трудно сказать, в какую сторону вид окажется живописнее. Вы смотрите на Москву-реку и Замоскворечье. Рама этой картины бесподобна! Она состоит из кремлевской стены, над которой возвышается сначала вся обширная эспланада перед дворцом, потом парапет, зеленеющийся спуск холма, сады, разбитые внизу, башни и зубцы, а там уже — обе набережные, Москворецкий и Каменный мосты и все Замоскворечье, утопающее, в солнечный день, в розоватой дымке, с необыкновенно мягкими тонами. А еще дальше — чуть видные окраины, поля и рвы, и узкий, сливающийся со сводом неба, горизонт.

Вправо бьет вам в глаза колоссальная шапка храма Спасителя и желтовато-белый ящик, понасевший на красивую площадь, откуда спускается изящная лестница, которая мало чем уступит знаменитой парижской лестнице Трокадеро. Храм Спаса занял теперь особое положение в панораме Москвы. Можно сказать даже, что он слишком привлекает к себе издали, когда вы смотрите на город из-за реки; но с Ивана Великого вся эта местность, сделавшаяся теперь одним из главных украшений Москвы, гораздо больше сливается с общим видом набережной, выступая во всей своей величавости. Едва ли есть в западной Европе хоть один храм, который бы стоял, на близком расстоянии, так выгодно и красиво, как храм Спаса.
Взгляд ваш продолжает двигаться направо и уходит к широкому прибрежью Москвы-реки, различает Нескучный сад с его дворцом, Воробьевы горы, — покоится на зеленой луговине, имеющей форму широкого лоскута или языка, закругленного с трех сторон изгибом реки. И на этой луговине высится колокольня Новодевичьего монастыря. Ограды и башенки с их окраской издают свою заключительную ноту в этой части панорамы. Оттуда, все правее и назад по реке, взгляд ваш доходит до Драгомиловского моста, различает ширь Ходынского поля с конским бегом, останавливается на красном, характерном пятне Петровского дворца, ушедшего в зелень, — пройдет по Сущеву, по Палихе, остановится на здании Екатерининского института, на аллеях, повышениях и спусках Самотеки. Вы уже стоите как раз на противоположном пункте площадки Ивана Великого. Двигаетесь вы вправо, и зеленая линия Садовой доводит ваш взгляд до Сухаревой башни и розовой дуги с куполом Шереметьевской больницы. Там опять цветное пятно: Красные ворота с блестящей точкой — статуя трубящего гения. Вдаль по прямой линии уходят от вас Красный пруд и Сокольники; а книзу и вправо — чаща зданий Басманных.
Садовая и бульвары, огибающие город, спускаются все той же параллельной линией кправу и книзу, образуя двойную подкову из зелени, которой окаймлена Москва от Крымского до Краснохолмского моста. И тут, что ни остановка, то яркое пятно, или целое скопление зданий, церквей, или повороты бульваров. Вы сокращаете свое поле зрения, стягиваете панораму к тому месту, где стоите, и от последнего Яузского бульвара покоите свой взгляд на Воспитательном доме с его грандиозным четырехугольником, светлой твердыней спускающегося к набережной Москвы-реки, параллельно с стеной Китай-города, почти упирающейся в круглую (Безымянную) башню.
И вы обозрели одну лишь внешнюю окраину. А между линиями бульваров, Садовой, стен Китай-города и Кремля кишит колоссальный муравейник. Разглядеть все его части и подробности с высоты, где вы стоите, — дело нелегкое. От Крымского моста, откуда через Крымский проезд дорога идет по Зубовскому и Смоленскому бульварам до Смоленской площади, — вправо, тотчас за набережной, высится храм Спасителя. Взгляд остановится далее на Зачатьевском монастыре. Между Остоженкой и Пречистенской нет ничего выдающегося. Тут сеть переулков сдавливается Смоленским и Пречистенским бульварами, и несколько старых церквей: мученика Власия, Покрова в Левшине, Живоначальной Троицы, Афанасия и Кирилла, Апостола Филиппа оживляют своими цветными пятнами кучу домов и домиков вплоть до Арбата. В неправильной трапеции между Арбатом и Кречетниковской высятся колокольни и главы Преображения и Николая Чудотворца. Тут линия между Новинским и Никитским бульварами делается шире; из трех пунктов высятся главы церквей Иоанна Предтечи, Рождества в Кудрине, Бориса и Глеба. Поварская с Арбатом образуют угол, сливающийся на Арбатской площади. Новинским оканчивается левая вереница бульваров, после чего идет Садовая и Кудрино до Земляного вала. Никитский бульвар, вогнутый, а не выпуклый, как бы ему следовало быть, обрывается у церкви Большого Вознесения. А за каждым дальнейшим бульваром непременно найдется какой-нибудь пункт, который привлечет взгляд. За Тверским, на самой Садовой, Ермолай на Козьем болоте, Рождество в Палашах, Благовещение на Тверской, глазная больница, на площади памятник Пушкину. Страстной монастырь с его колокольней выделяется своим розоватым приятным тоном, а в отрезке между бульваром и Садовой белеет старый Пимен. Дальше на Дмитровке Успение Богородицы и прелестная церковь Рождества на Путинках — перл старомосковского церковного зодчества, с ее тонкими конусами, с нежным окрашиванием, вся нарядная и как бы дышащая богатством очертаний и стройностью всего склада. Новая Екатерининская больница широким желтым пятном заканчивает Страстной бульвар. Самотека расползается и зеленеет в пространстве между Каретным рядом и Большим Спасским переулком. Ничто не выделяется вплоть до церкви Спаса Преображения. Широкой лентой спускается Цветной бульвар с красными крышами двух соседних зданий. В большом промежутке на двух концах стоят церкви Николая Чудотворца в Драчах и Троицы — Листы, как называет народ. Тут, от Сухаревой башни и Шереметьевской больницы, пространство между Садовой и бульварами опять расширяется. Вы отметите церкви Преображения в Пушкарях и Николая Чудотворца на Мясницкой, дом Солдатенкова, а дальше, по ту сторону Красных ворот, Трех Святителей и Харитония в Огородниках; между Харитониевским переулком и Покровкой опять чаща домов и домиков без выдающихся зданий или храмов. Трудно заметить дом Боткина, где хранится такая ценная картинная галерея. Гораздо рельефнее выступает дом четвертой гимназии в Растреллиевском вкусе и церкви Воскресения в Барашах и Иоанна Предтечи на Садовой. Высокая, кирпично-красная, выстроенная в характерном стиле, колокольня Ильи Пророка на Воронцовом поле преобладает над всей местностью между Покровским бульваром и Земляным валом. Здесь же вы остановитесь на церкви Николая Чудотворца, где Гостиная Горка, и Яузским бульваром закончите обзор всего этого неполного эллипсиса, протянувшегося на десятки верст.
Остается еще один неполный эллипсис, окружающий Китай-город с Кремлем. Если начинать опять от храма Спаса, то из-за пестрой чащи кровель будет выделяться больше характерных домов, чем церквей. У самого храма сохранилась в своем стиле начала семнадцатого века церковь Похвалы Богородицы, показывающая контрастом своих размеров с громадиной храма — как он велик. Наискосок от храма вы заметите старинный, барской постройки дом, на дворе: Голицынский музей.
Несколько ниже и левее по Предтеченскому бульвару дом бывшего городского головы С. М. Третьякова с решетчатой крышей. Вплоть до Знаменки, кроме церкви Знамения, ничто не остановит вас особенно. В куске между Знаменкой и Воздвиженьем стоят дома: Пашкова (Румянцевский музей) и дом архива министерства иностранных дел. Пашковский дом до сих пор, по легкости и красоте архитектуры, едва ли не самое изящное строение Москвы. И положение его чрезвычайно выгодно; его бельведер, крыши, колоннады видны очень издалека. Все здание с крыльями и галереями поднимается перед нами из зеленого садика, идущего по улице. Реставрированная церковь при архиве в старом византийско-русском стиле придает и главному корпусу с его оградой своеобразность и красоту. Тут же на Воздвиженке, только в другом конце, к Арбатским воротам, выделяется церковь Бориса и Глеба. Вдоль Никитского бульвара, между бульваром и Кисловками вы ни на чем особенно не остановитесь. На Моховой — старый и новый университеты, в тяжеловатом стиле прошлого века, придают всей этой местности особенный характер. Крыша экзерциргауза и желтые его стены протянулись длинным пластом по правую сторону Моховой. Позади и левее высится колокольня с воротами Никитского монастыря; от нее еще левее, на углу Чернышевского переулка и Никитской, церковь Малого Вознесения, а на Тверской площади, перед домом генерал-губернатора, стоящим в виде каменного ящика, к Столешникову переулку церковь Козьмы и Дамиана в Шубине. Правее ограда упраздненного Георгиевского монастыря на Большой Дмитровке. Ниже и правее купол Благородного собрания, а надо всем верхний ярус и крыша Большого театра. Между домами Охотного ряда, тотчас за угольной башней Кремля, краснеет огромный корпус Большого Московского трактира. На сгибе между Рождественским бульваром и Кузнецким мостом Сретенский монастырь и церковь Введения (бывший Варсонофьевский монастырь) дают несколько светлых и цветных пятен. От Лубянки и Лубянской площади правее и ниже — старая церковь архидиакона Евпла на Мясницкой, а в сторону Сретенского бульвара такая же старинная церковь Фрола и Лавра. Здания Почтамта и Телеграфного ведомства занимают целый квартал до Чистых прудов. Ближе к стене Китай-города между Владимирскими и Ильинскими воротами нежно-зеленоватым поставцом в русском стиле выступает дом Политехнического музея. От него вправо по ломаной линии вдоль Моросейки и к Покровским воротам стоят церкви Николая Чудотворца, Успения на Покровке и Живоначальной Троицы на Грязях. Ниже и правее от Ильинских ворот церковь Спаса Преображения, а через Козьмо-демьяновскую улицу по линии, сверху, вниз и вправо, церковь Козьмы и Дамиана на Моросейке. Дойдя взглядом до возвышенности, на которой стоит Ивановский монастырь с высоким куполом и двумя башенками, вы опять вблизи Воспитательного дома, и последнее крупное здание будет желтоватая каменная глыба с куполом, Опекунский Совет.
Китай-город весь состоит из разноцветных пятен камня, кирпича, золота, изразцов на своих лавках, храмах, башнях, исторических зданиях. Сверху Китай-город имеет очертания неправильной дуги, излом которой приходится к нижнему крылу в стене Воспитательного дома; левое колено этой дуги переломлено у Кремля, там, где стоит одна из „безымянных“ башен, наискосок Москворецкого моста. Плотнее к стене Кремля с чуть заметным проездом около Никольских ворот, параллельно со стеной ширится здание Исторического музея, до сих пор еще не обшитое изразцами, темно-красное, с своими минаретами, крышами и куполами полувизантийского, полуиндийского стиля. Из-за него выглядывают две остроконечные башни Воскресенских ворот, смотрящих фасом, с часовней Иверской, на Тверскую и Воскресенскую площадь. А от Воскресенских ворот, от угла, выполненного зданием бывшей Ямы, с одной башенкой, угол Никольской белеет куполом и колокольней Казанского собора. Вся Никольская извивается вверх с своими монастырями, лавками, Синодальной типографией, Славянским базаром, церковью Владимирской Божьей Матери до Владимирских ворот.
Красная площадь легла широкой лентой от Исторического музея до церкви Василия Блаженного. Памятник Минину и Пожарскому кажется мелким для такого обширного пространства. Между Богоявленским и Черкасским лезут одна на другую крыши больших домов Чижовых, а вправо к Ильинке поднимаются главы церкви Николая Чудотворца. Ильинка белой, широкой полосой идет вверх почти параллельно с Никольской, а ее отдельные здания выступают ярче, — есть больше возможности видеть их фасады. Тут старый Гостиный двор, Троицкое подворье, Биржа с своей кишащей народом и экипажами площадкой, разноцветная окраска домов с навесами, вывесками, подъездами и цветным пятном церкви, прозванной Малиновый или Красный звон.
Василий Блаженный на своей высокой подставке красуется в изящной причудливости своих девяти куполов и дает заключительную ноту архитектурной гармонии Китай-города и Кремля. От него по Варварке, мимо дома бояр Романовых и церквей с их яркой окраской и смешением стилей: Георгия Победоносца, Иоанна Предтечи, Варвары Великомученицы, Максима Исповедника, кверху уходит улица вплоть до Варварских ворот, а книзу и вправо спускаются переулки Зарядья. Линия Китай-города окаймляет все московское Сити, параллельно с Кремлевской стеной, от Воскресенских ворот вплоть до Круглой башни, заканчивающей Китайский проезд на Москворецкой набережной.
Кремль с высоты Ивана Великого представляется довольно правильным треугольником с более широким основанием вдоль Кремлевской набережной, с притупленными нижними углами и с острым углом, врезывающимся к Воскресенской площади, с башней, которая так и называется Угольной; от нее правее — ребро, идущее до Спасских ворот. Вдоль стены — сначала Царская башенка, потом две Безымянные; между Спасскими и Никольскими воротами, Сенатская башня выглядывает из-за здания Сената с его куполом. Оно выстроено таким же почти треугольником, как и самый Кремль, с линиями, идущими параллельно к стенам, и с двумя перекладинами внутри, из боковых корпусов. Арсенал, резко оттеняющийся своей желтой краской от белизны Сената, представляет собою неправильный параллелограмм; самое длинное его ребро, вдоль стены, выходящей на Александровский сад, идет от Угольной до Троицкой башни с Троицкими воротами, мостом и сквозным венцом башни Кутафьи. Ярко выступающая в солнечный день улица из дворцовых корпусов, с зеленым пятном Потешного дворца, спускается вниз тремя каменными узкими ящиками до галереи, соединяющей Большой дворец с Оружейной палатой. Дворец, самое высокое здание в Кремле, стоит четырехугольным ящиком вокруг тесного двора, откуда выглядывают главки церкви Спаса-на-Бору. Терема, переходы, фигурные окна, подъемы и углубления крыш — все пестрит перед вами в разноцветных полосах, в позолоте и в изразцах. Глаза разбегаются и хотят схватить разом все обилие цветов и очертаний, выпуклостей и архитектурных деталей: и Красное крыльцо, и золоченые главки дворцовых церквей, в особенности церкви Спаса за золотой решеткой, и мелькающие сверху причудливые формы зодчества в теремах и вышках. Тут самая большая скученность кремлевских древностей; вы чувствуете, как старые строители не умели еще распоряжаться пространством, дорожили уютом и близостью. Успенский собор совсем притиснут к дворцу, а на него сзади как бы налегает Патриарший, нынешний Синодальный дом с церковью Двенадцати Апостолов. Площадка с историческими святынями Москвы, равняющаяся размерами целой площади, вся белеет на солнце, вымощенная плитами, обставленная со всех сторон соборами и колокольней, где вы стоите, вмещающей в себе целых две церкви. Впечатление — всегда праздничное, величавое и богатое, не европейское, a скорее восточное, без всякого, однако, оттенка мрачности или мистицизма. Хотелось бы одного: убрать совсем здание казарм, стоящее под прямым углом к дворцовому корпусу. Правый угол Кремля открывает неправильные площадки между храмами монастырей Вознесенского и Чудова, зданием келий, идущим от Ивана Великого к боковому фасаду Сената, Малым Кремлевским дворцом с его загнутым глаголем фасом. Царь-колокол и Царь-пушка заслонены Ивановской колокольней один от другой. Сверху свободного пространства оказывается в Кремле очень много, гораздо больше, чем это кажется, когда вы объезжаете его. Стены идут желтовато-сероватой каймой вдоль одного бока, переходящей в зелень Александровского сада, а сад перерывается в двух местах против Троицких и против Боровицких ворот и сползает вниз до красивой круглой Водовзводной башни. Перед дворцовой эспланадой зеленеющий откос переходит в более густую зелень сада, идущего вдоль нижней стены с двумя церквами, которые затериваются тут среди общего блистательного вида. Это — церкви Петра Митрополита и Константина и Елены. Четыре башни: Троицких ворот, Петра Митрополита, Благовещенская и Константино-Еленинская, — почти такой же архитектуры, как и Сенатская башня, — красят весь этот прибрежный фасад Кремля, а угол у Москворецкого моста замыкается такой же круглой и легкой, как Водовзводная, Безымянной башней.
Замоскворечье, охватывающее вас сначала своей общей картиной, выясняется теперь в деталях. На противоположной набережной, между Москворецким и Каменным мостами, темно-красный ящик Кокоревской гостиницы и рядом с ним белая, высокая колокольня церкви Святой Софии стоят впереди всей панорамы. Правее и глубже, к Водоотводному каналу, загибает неполным эллипсисом Винный город, а за каналом пролегают улицы и переулки, идущие к двум центрам: Калужской и Серпуховской площадям. Налево — Большая Ордынка, от Москворецкого моста Пятницкая, направо от Каменного — Большая Полянка и Большая Якиманка, ведущие прямо к Калужской площади. От Калужской площади по прямой линии идет Крымский вал к Крымскому мосту, а дальше веером расходятся четыре улицы: Калужская с дорогой в Нескучный сад и Александровский дворец мимо богадельни, училища, больниц; затем Донская, Шаболовка и Мытная. От Серпуховской площади, вниз, изломанным треугольником, идут Малая и Большая Серпуховские. Левее расползлась Зацепа; часть ее, Валовая Зацепа, загибает несколько вниз к Краснохолмскому мосту, а кверху и влево видны Кожевники, доходящие до реки. На этом огромном полукруге Замоскворечья с его двумя площадями и Коровьим валом, соединяющим их, разбросано множество цветных и золотящихся точек. Всего ярче выделяются сначала, поближе к Водоотводному каналу, по ту сторону его, справа клеву, церкви: Иоакима и Анны, Воскресения в Кадашах и Параскевы Пятницы. Между двумя первыми церквами трудно отличить в Лаврушенском переулке дом П.М. Третьякова с его художественными богатствами. Часть этого дома, с помещающеюся в ней знаменитою картинною галереею, пожертвована П.М. Третьяковым городу Москве и составляет теперь городскую собственность. Ближе к Серпуховской площади по Полянке выделяется церковь Успения, а к Калужской площади — Казанской Божьей Матери, на Ордынке — церковь Николая Чудотворца, на Пятницкой — Троицы.
Налево, вдали, за Земляным городом и рекой, стоят стены, башни, главы и колокольня Новоспасского монастыря; от него левее, к Нижегородской дороге — группа Покровского монастыря, еще левее, у Яузы — Андроньевский монастырь, а там, у изгиба Яузы — дворцовый сад у красных казарм. И еще раз взор ваш обоймет все ближайшие окрестности Москвы, пройдется по холмам, рощам, монастырям Симонову и Донскому, дворцам, чтобы уйти к дымчатому горизонту.
П. Боборыкин

Москва. Кн. Гамсун
Я побывал в четырех из пяти частей света, но чего-либо подобного московскому Кремлю я никогда не видал. Я видел прекрасные города, но Москва — это нечто сказочное! Кстати, я обратил внимание на то, что русские говорят не „Москва”, а „Масква”. Что́ правильнее — не знаю.
В Спасских воротах извозчик оборачивается на своих козлах к нам, снимает шапку и делает нам знаки, чтобы мы последовали его примеру. Эту церемонию установил царь Алексей. Мы сняли наши шляпы, увидев, что и все другие проезжающие и проходящие в ворота снимают шляпы. Извозчик поехал дальше — и мы очутились в Кремле.
В Москве около четырехсот пятидесяти церквей и часовен, и когда начинают звонить все колокола, то воздух дрожит от множества звуков в этом городе с миллионным населением. С Кремля открывается вид на целое море красоты. Я никогда не представлял себе, что на земле может существовать подобный город: все кругом пестреет зелеными, красными и золочеными куполами и шпицами. Перед этой массой золота в соединении с ярким голубым цветом бледнеет все, о чем я когда-либо мечтал. Мы стоим у памятника Александру Второму и, облокотившись о перила, не отрываем взора от картины, которая раскинулась перед нами. Здесь не до разговора, но глаза наши делаются влажными.
В Кремле на самом высоком месте стоит Успенский собор. Сама церковь невелика, но в ней больше драгоценных камней, чем где бы то ни было на всем свете. Здесь коронуются цари. Золото, серебро, драгоценные камни повсюду, — орнаменты, мозаика с самого пола и до верхних сводов, сотни икон, портреты патриархов, изображение Христа, потемневшие картины. В церкви есть одно небольшое пустое место в стене: в это место обыкновенно новые цари вставляют громадный драгоценный камень в дар церкви. И стена в этом месте усеяна вся брильянтами, смарагдами, сапфирами и рубинами.
Церковный сторож показал нам также кое-какие другие мелочи. В то время, как набожные москвичи стоят перед различными алтарями и иконами и молятся, сторож объясняет нам не слишком тихим голосом, что это часть ризы Христовой, а это под стеклом гвоздь из Креста Господня, в этой шкатулке под замком находится частица ризы Девы Марии. Мы с удовольствием даем денег служителю и нищим у дверей и выходим из собора, совершенно ошеломленные этим сказочным великолепием.
Мне кажется, что я не преувеличиваю. Очень может быть, что в мои воспоминания о церкви вкралась какая-нибудь ошибка, потому что я не мог делать заметок там же, на месте; я не видел конца этим несметным сокровищам и совершенно растерялся, и я знаю, что об очень многом забыл упомянуть, а многого даже и не видал. Во всех углах сверкало, a свет в некоторых местах был такой скудный, что многие детали пропали для меня. Но вся церковь — это не что иное, как одна громадная, сплошная драгоценность.
Время отъезда назначено. Бесполезно желать остаться еще на один лишний день; но жалко, здесь есть много, на что стоит посмотреть. Даже сам Мольтке немного растерялся в этом городе, он пишет, что Москва — это город, „который можно нарисовать в своем воображении, но которого никогда нельзя увидеть в действительности”. Перед этим он как раз побывал на колокольне Ивана Великого и оттуда любовался на сказочный город…
Ах, если бы мне когда-нибудь еще раз довелось увидеть Москву!
Кнут Гамсун
Московский Кремль ночью. Загоскин
Как прекрасен, как великолепен наш Кремль в тихую летнюю ночь, когда вечерняя заря тухнет на западе, а ночная красавица, полная луна, выплывая из облаков, обливает своим кротким светом и небеса, и всю землю! Если вы хотите провести несколько минут истинно-блаженных, если хотите испытать этот неизъяснимо-сладостный покой души, который выше всех земных наслаждений, ступайте в лунную летнюю ночь полюбоваться нашим Кремлем; сядьте на одну из скамеек тротуара, который идет по самой закраине холма, забудьте на несколько времени и шумный свет с его безумием, и все ваши житейские заботы и дела, и дайте хоть раз вздохнуть свободно бедной душе вашей, измученной и усталой от всех земных тревог. Поздно вечером вы никого не встретите в Кремле; часу в одиннадцатом ночи в нем раздаются одни только редкие оклики и мерные шаги часовых. Внизу, под вашими ногами, гремят проезжающие кареты, кричат извозчики, раздаются громкие речи гуляющих по набережной; с противоположного берега долетают до вас веселые песни фабричных, и глухой, невнятный говор всего Замоскворечья, как будто шепчет вам на ухо о радостях, забавах и суете земной жизни. Но все это от вас далеко, вы выше всего этого. Вот набежали тучки, светлый месяц прикрылся облаком; внизу густая тень легла на все Замоскворечье, потухли сверкающие волны реки, и все дома подернулись туманом. Но здесь, на кремлевском холме, облитые светом главы соборов блестят по-прежнему, и позлащенный крест Ивана Великого горит яркой звездою в вышине. Поглядите вокруг себя: как стройно и величаво подымаются перед вами эти древние соборы, в которых почивают нетленные тела святых угодников московских. О, как эта торжественная тишина, это безмолвие, это чувство близкой святыни, эти изукрашенные терема царей русских и в двух шагах их скромные гробницы, — как это все отрывает вас от земли, тушит ваши страсти, умиляет сердце и наполняет его каким-то неизъяснимым спокойствием и миром! Внизу все еще движение и суета, люди или хлопочут о делах своих, или помогают друг другу убивать время; a здесь все тихо, все спокойно и все также живет, — но только другою жизнию. Эти высокие стены, древние башни и царские терема не безмолвны: они говорят вам о былом, они воскрешают в душе вашей память о веках давно прошедших. Здесь все напоминает вам и бедствия, и славу ваших предков… Испытайте это сами, придите в Кремль попозже вечером, и если вы еще не вовсе отвыкли беседовать с самим собою, если можете несколько минут прожить без людей, то верно скажете мне спасибо за этот совет.
Загоскин
Быт Москвы
Москва и Петербург. Н. Гоголь
…В самом деле, куда забросило русскую столицу — на край света! Странный народ русский: была столица в Киеве — здесь слишком тепло, мало холоду; переехала русская столица в Москву — нет, и тут мало холода: подавай Бог Петербург! Зато какая дичь между матушкою и сынком! Что́ это за виды, что́ за природа! Воздух продернут туманом; на бледной, серо-зеленой земле обгорелые пни, сосны, ельник, кочки… Хорошо еще, что стрелою летящее шоссе да русские поющие и звенящие тройки духом пронесут мимо. А какая разница, какая разница между ими двумя! Она еще до сих пор русская борода, а он уже ловкий европеец. Как раскинулась, как расширилась старая Москва! Как сдвинулся, как вытянулся в струнку щеголь-Петербург! Перед ним со всех сторон зеркала: там Нева, там Финский залив. Ему есть куда поглядеться. Как только заметит он на себе перышко или пушок, ту ж минуту его прочь. Москва — старая домоседка, печет блины, глядит издали и слушает рассказ, не подымаясь с кресел, о том, что делается в свете; Петербург — разбитной малый, никогда не сидит дома, всегда одет и, охорашиваясь перед Европою, раскланивается с заморским людом.
Петербург весь шевелится, от погребов до чердака; с полночи начинает печь французские хлебы, которые на завтра все съест разноплеменный народ, и во всю ночь то один глаз его светится, то другой; Москва ночью вся спит, и на другой день, перекрестившись и поклонившись на все четыре стороны, выезжает с калачами на рынок. Москва женского рода, Петербург мужеского. В Москве все невесты, в Петербурге все женихи. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пестрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды; зато Москва требует, если уж пошло на моду, то чтобы во всей форме была мода; если талия длинна, то она пускает ее еще длиннее; если отвороты фрака велики, то у ней — как сарайные двери. Петербург — аккуратный человек, совершенный немец, на все глядит с расчетом и прежде, нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман; Москва — русский дворянин и если уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже хватает больше того, сколько находится в кармане: она не любит средины. В Москве все журналы, как бы учены ни были, но всегда к концу книжки оканчиваются картинкою мод; петербургские редко прилагают картинки, если же приложат, то с непривычки взглянувший может перепугаться.
Московские журналы говорят о Канте, Шеллинге и проч., и проч.; в петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности… В Москве журналы идут на ряду с веком, но опаздывают книжками; в Петербург журналы нейдут наравне с веком, но выходят аккуратно, в положенное время. В Москве литераторы проживаются, в Петербурге наживаются. Москва всегда едет, завернувшись в медвежью шубу, и бо́льшею частью на обед; Петербург, в байковом сюртуке, заложив обе руки в карман, летит во всю прыть на биржу или „в должность”. Москва гуляет до четырех часов ночи и на другой день не подымется с постели раньше второго часа; Петербург тоже гуляет до четырех часов, но на другой день, как ни в чем не бывало, в девять часов спешит, в своем байковом сюртуке, в присутствие. В Москву тащится Русь с деньгами в кармане и возвращается налегке; в Петербург едут люди безденежные и разъезжаются во все стороны света с изрядным капиталом. В Москву тащится Русь в зимних кибитках, по зимним ухабам, сбывать и закупать; в Петербург идет русский народ пешком летнею порою строить и работать. Москва —кладовая, она наваливает тюки да вьюки, на мелкого продавца и смотреть не хочет; Петербург весь расточился по кусочкам, разделился, разложился на лавочки и магазины и ловит мелких покупщиков. Москва говорит: „коли нужно покупщику — сыщет”; Петербург сует вывеску под самый нос, подкапывается под ваш пол с „Ренским погребом” и ставит извозчичью биржу в самые двери вашего дома. Москва не глядит на своих жителей, а шлет товары во всю Русь; Петербург продает галстуки и перчатки своим чиновникам. Москва — большой гостиный двор; Петербург — светлый магазин. Москва нужна для России, для Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую пуговицу на фраке; в Петербурге нет фрака без гербовых пуговиц. Петербург любит подтрунить над Москвою, над ее неловкостью и безвкусием; Москва кольнет Петербург тем, что он не умеет говорить по-русски. В Петербурге, на Невском проспекте, гуляют в два часа люди, как будто сошедшие с журнальных модных картинок, выставляемых в окна, даже старухи с такими узенькими талиями, что делается смешно; на гуляньях в Москве всегда попадется, в самой середине модной толпы, какая-нибудь матушка с платком на голове и уже совершенно без всякой талии. Сказал бы еще кое-что, но —
„Дистанция огромного размера!..“
Н. Гоголь
Нравится ли вам Москва? И. Щеглов
Легко сказать — целых пять лет я не был в Москве!.. И вот, я снова в патриархальных недрах Замоскворечья, в богоспасаемом „Анкудиновом Подворье”, — как пять лет тому назад — в том же самом дешевеньком номере надворного флигеля, откуда из окна видны вдали, над горизонтом крыш главного корпуса, золотые маковки церквей Московского Кремля…
Что-то нового в Москве? — подумал я, принимаясь за чаепитие и развернул первую газетину сверху, на отделе городской хроники. Каюсь, в Москве, я всегда первым делом набрасываюсь на „дневник происшествий”, ибо московский дневник происшествий носит всегда ярко бытовую окраску и не имеет ничего общего с тусклой однообразной хроникой Петербурга. Это своего рода поучительнейший московский кинематограф… — Ну, вот, не угодно ли?..
„В ночь на 8-е марта, в Марьиной роще, похищены чугунные ворота, весом в шестьдесят пудов. Ворота спешно заканчивались в слесарной мастерской”.
Спустя четверть часа, я совсем готов и выхожу через грандиозные ворота Анкудинова подворья на Замоскворецкую набережную. Вид отсюда на московский Кремль восхитительный, но любоваться им умилительно не приходится, так как, при первом вашем появлении в воротах, вас окружает благодушно-крикливая семья московских извозчиков.
— Ваше здоровьице… возьмите меня! — пристает один. — Вихрем бы прокатил на резинке!.. Не лошадь в запряжке, а чистый самолет!!
— Не слухайте его, ваше сиятельство! — перебивает другой. — Евонный самолет еще с масляной сухотку захватил… Уважьте лучше моего чалого, с завода графа Качалова!
— Но-о, вы, броницкие пастухи, — осади маленько!!.. —зычно возглашает третий, высокий рыжий мужик в шапке с малиновым верхом. Садись, папашенька, со мной — подвезу по дешевому тарифу!..
Я сажусь в пролетку. Сначала маленькая мухортая лошадка плелась как сонная и все шло благополучно; но у самого въезда на Замоскворецкий мост, извозчик с неожиданной свирепостью хлестнул ее возжами и без всякой надобности крикнул не своим голосом: „Ну, лети, моя малютка!..” Приняла ли малютка слова его в буквальном смысле или просто-напросто испугалась переходивших дорогу трубочистов, но, с своей стороны, совершенно непредвиденно брыкнула задней ногой, махнула кудлатой головой и со всей силой рванулась в левую сторону по направлению к спуску в Москву-реку — словом, не случись по соседству фонаря, остановившего на полдороге безумный порыв, первый мой визит был бы не к известному московскому профессору, а к москворецкому водяному.
— Это черт знает, что такое, а не лошадь! — выругался я, когда первый перепуг прошел. На что мой возница, каким-то чудом уцелевший на козлах, невозмутимо заметил:
— Знамо дело — молода, — в участке не была! И добавил с видимой нежностью по адресу своей полоумной малютки: — Известно, каждая животная тварь радуется, при случае, своей жизни!..
По счастью, остальную дорогу случаев радоваться не представлялось и путешествие совершилось сравнительно благополучно.
Московские извозчики окрещены одним неумеренным патриотом „московскими Шекспирами”. Действительно, этого самого „шекспирства” в московском извозчике заложено достаточное количество и, принимая седока, он не только точно определяет, каким-то чисто московским нюхом размер платы, которую можно содрать в данном случае, но сразу входит в самое настроение седока, тонко разыгрывая как по нотам самые разнообразнейшие вариации.
Вываливается, положим, из трактира изрядно нагруженный купчина.
— Ваше степенство, садитесь ко мне? — зазывает московский Ванька. — У меня все одно, как в люльке, ни одна косточка не помнется!..
Купчина, при помощи половых, лезет в грязную извозчичью пролетку и самодовольно отдувается.
— Ну, сел, дурачина, — куда ж ты теперь меня повезешь?
Ванька весело встряхивает кудрявой головой.
— Это точно, ваше степенство, что я дурачина, есть малость; а только лошадка у меня больно умница: как раз привезет в самое теплое место!..
Купчина ухмыляется.
— Ладно, жарь в пространство! Авось доскачем до города Астраханска!!.
Нередки случаи, что такой „астраханский седок” загуливает вместе с извозчиком на целые сутки, очищая, само собою, последнему изрядный куш.
Или вот „Шекспирский прием” противоположного характера. Подходит, например, к такому московскому Шекспиру интеллигентный господин с постной физиономией и трауром на цилиндре.
— Извозчик, на Ваганьково кладбище!
Извозчик на этот раз торгуется умеренно, но тотчас же, как лошадь двигается, начинает от времени до времени тяжко-протяжно вздыхать.
— Ты это чего вздыхаешь? — спрашивает интеллигентный господин. Возница уныло вытягивает физиономию и сокрушенно докладывает:
— Как же мне, барин, не вздыхать, если у меня жана в страстную пьятницу рыбьей костью подавилась…
— Померла?
Извозчик, как бы в припадке тоски, хлещет с маху свою лошаденку.
— Известно, отдала Богу душу, оставив на свете сироту Петрушу!!
— А тебя Петром звать?
— Петром, добрый барин…
— А жену как звали? — участливо осведомляется седок, недавно потерявший собственную супругу.
— Жану-то? А Варюшей, Варварой!..
Как-то невзначай выходит, что и супругу господина в цилиндре тоже звали „Варварой”. И, в итоге, на обратном пути с кладбища, сообразительный Ванька получает солидную прибавку на поминовение „рабы Божией Варвары”, благополучно, между прочим, здравствующей где-нибудь в Тульской или Рязанской губернии с шестью малолетними будущими Шекспирами.
Иная статья, если садится дама, провинциалка, чем-нибудь, вдобавок, расстроенная… например, дама, у которой накануне вытащили у Иверской часовни кошелек. Только что усевшись на извозчика, дама сейчас же начинает возмущаться Москвой и, слово за слово, рассказывает, как ее очистили у Иверской во время молебна. Извозчик, парень не промах, все время вторит ей в тон:
— Это ты справедливо, милая барыня! — Москаль, можно сказать, первый жулик на земном шаре!.. И дохнуть не успеешь, как тебя обмоет в лучшем виде!!
— А ты сам… какой губернии?
Извозчик полусокрушенно качает головой:
— Уж лучше не спрашивай, благодетельница — Московской, накажи меня Бог!!
И глядишь, тот же самый извозчик, эту же самую благодетельницу, спешащую на вокзал или почтамт, куда езды с места ровно четверть часа, таскает добрые полтора часа по разным глухим закоулкам и выгадывает на ее провинциальной простоте, вместо законных сорока копеек, добрую пару целковых.
Да что́ — дама!.. Я сам, на своей собственной шкуре, испытал это „шекспирство”, когда, лет двадцать пять тому назад, юным прапорщиком приехал впервые в Москву, о коей не имел тогда ни малейшего понятия… Приехал я поздно вечером, остановился в „Большой Московской гостинице” и, наутро, согласно московскому обычаю, решил первым делом навестить Иверскую часовню. Извозчик, которого я имел легкомыслие нанять „к Иверской”, сначала помялся, потом поторговался и, содрав с меня полтора целкача, битый час кружил меня по закоулкам и переулкам, прежде чем доставил наконец по назначению. Помолившись в часовне, я вышел на паперть и, первое, что мне бросилось в глаза — огромная вывеска, как раз насупротив: „Большая Московская гостиница”.
Как это вам нравится?
Но, однако, довольно о московских извозчиках — я, кажется, заехал на них чересчур далеко… Что поделаешь, когда сама Москва ни в чем не знает чувства меры — чуть не на каждом шагу самые невозможные контрасты, анекдоты и словесные обороты!.. Москва, в последнем отношении, — какой-то бездонный колодезь.
Розыск моего знакомого профессора не обошелся без анекдота. Найдя номер дома, я принялся звонить у ворот. По всему вероятию, я бы прозвонил бесплодно у ворот не только полчаса, но и до самого вечера, если бы мне не пришло в голову заменить мой столичный культурный прием более опростелым, провинциальным, — т. е. без всякой церемонии пихнуть калитку коленкой. Калитка с жалобным визгом отверзлась и я очутился на обширном и совершенно пустынном дворе. Посреди двора была протянута веревка и на ней болтались синие военные брюки и коричневая фуфайка; тут же, неподалеку, стоял потухший нечищеный самовар; и при этом кругом, несмотря на тесное соседство трехэтажного дома и двух деревянных флигелей, — нигде ни живой души — обстановка, надо признаться, идеальная для человека более благодарной профессии, чем писательская. Мои возгласы и даже вопли не привели решительно ни к чему — и, не приключись на мое счастье в одном из флигелей маленькой семейной катастрофы, мне так бы и пришлось удалиться ни с чем… Но, как раз, только я собирался уходить, дверь в одном из флигелей распахнулась, в сенях послышался нехороший женский окрик и чья-то, пухлая и красная как кумачевая подушка рука выпихнула на двор низенького лысого человека в розовых исподниках и с бабьей кацавейкой на плечах.
Лысый человек, однако, нимало не смутился моим присутствием и, медленно почесав свою спину, философски мне пояснил:
— Ничаво не поделаешь, дядя: у кажного на печи, существует своя цензура!..
Я, разумеется, воспользовался поводом осведомиться — не знает ли он, в которой из квартир проживает профессор N (московская знаменитость!).
Лысый философ почему-то ревниво покосился на военные брюки, болтавшиеся посреди двора, и равнодушно промямлил:
— А Господь его ведает — мы до чужих жизней не касательны!
— А кто же тогда знает?
— А почтарь должон знать! Ен наскрозь каждого квартиранта произошел!! — И с этим утешительным сообщением, старик поднял не торопясь с земли зеленый самовар и направился обратно во флигель, к своей строгой „цензуре”.
Каким-то чудом почтальон как раз столкнулся со мной у ворот и я, наконец, узнал, что господин профессор проживает в этом самом доме, но только вход в его квартиру с соседнего переулка. Как и следовало ожидать, профессора дома я не застал, так как он уехал в то самое время, пока я собеседовал с философом в бабьей кацавейке.
С досады я отправился шляться по улицам, глазея праздно по сторонам… Записываю две-три сценки, промелькнувшие по дороге.
На Знаменке, близ Румянцевского музея, проходит торопливо, с портфелем под мышкой, чиновник и, видя проезжающего порожнего извозчика, окликает:
— Извозчик — к Земляному Валу?
— Пожалуйте, шесть гривен…
— Четвертак!..
Извозчик придерживает лошадь и с иронической улыбочкой приподнимает шапку:
— Вам, барин, может быть, в рассрочку??
А то, на Моховой, попадается мне необыкновенно жизнерадостного нрава мальчуган-подмастерье, босой и с чугуном на голове, танцующий на панели польку; а, следом за ним, прыгает шаршавый шарообразный пес с обрубленным хвостом и лает неистово, до хрипоты на танцора. Стоящий на крыльце углового дома осанистый швейцар, с военной медалью и фиолетовым носом, нюхает табак и нравоучительно замечает по адресу негодующего песика:
— Смотри, пожалуйста, какой публицист!!.
И. Щеглов
Город. Р. Кумов
(очерк)
В этом четырехугольнике, образованном каменными многоэтажными домами, всегда стоял шум — протяжный, далекий, словно за высокими каменными строениями, на мостовой, кто-то все время ехал и никак не мог уехать. Иногда с окраин города доносились свистки паровозов, и это напоминало о просторных полях, где бежит полотно, позванивают проволоки и проносятся быстро, как степные ветры, поезда… По вечерам и утрам в соседнем монастыре звонили, и тогда в узком темном дворе поверх протяжного шума улицы носились словно золотые искорки — мягкие и жгучие, и окрашивали темный дурно пахнущий воздух в яркие золотые цвета… Больше извне не залетало никаких звуков и двор, окруженный со всех сторон высокими стенами, жил своею жизнью…
В этот двор выходит много окон. Стены огромные, и все они испещрены, как ульи, окнами. Если смотреть внимательно, можно прочитать на серой молчаливой стене, усеянной окнами, много интересных историй. Вот целый ряд окон в нижнем этаже, почти у самой земли, — огромные, похожие на двери, с прозрачными, как вода в горном руднике, стеклами, небрежно задернутые изнутри бархатной шторой. Аккуратно, в 12 часов дня, можно увидеть около этих окон изящную коляску, запряженную белыми лошадьми. Из квартиры выходит пожилой господин с большим толстым портфелем, садится и куда-то едет. Вечерами около этих окон слышится прекрасное пение баритона и глубокие волнующие звуки дорогого рояля. И хотя окна почти совсем закрыты шторой, яркий свет пробивается наружу, как робкий намек большого праздника…
Выше двумя этажами окна попроще, поскромнее, и так похожи друг на друга, что отсюда, со двора, не разберешь — кто и как там живет? Только ночью в одном окне ярко загорается лампа под зеленым абажуром и горит долго, за полночь. Кто-то склонился над столом и пишет.
А еще выше, почти под крышей, окна совсем убогие, темные, с какими-то цветными фиолетовыми стеклами. Когда заходит солнце, оно жарко освещает их, и чудится тогда, что верхний этаж объят огромным пожаром. Там живут мелкие служащие и студенты. Часто оттуда слышится молодой звонкий смех — и песня.
Но иногда кто-то растворит настежь маленькие подслеповатые окошки и начнет водить смычком по скрипке; ах, как хорошо, как жалобно водит он по струнам!
И не поймешь — жалуется ли он кому-то, или о чем-то вспоминает, или так — просто плачет…
Я знаю, — в этом этаже есть комната, в которой живут два старых холостых мелких чиновника, два бобыля… Комната не велика и мебель в ней самая необходимая: стол, два стула, умывальник, зеркало, в котором все линии каким-то образом расплываются во все стороны. На окне насыпаны крошки, —это для голубей, которые прилетают утром…
В свободное время старики обыкновенно сидят у раскрытого окна и разговаривают:
— Надо бы нам с вами поехать в деревню, Дмитрий Иванович, — говорит один. — Давно я не был на земле… Помните… — Старик молитвенно складывает на груди руки, — помните где-нибудь в лесу озеро? Камышок пошумливает, кукушка кричит, пахнет сыростью и какою-то травою. Вы замерли над удочками, а сверху солнце, вербы шумят вершинами… Как я завидую мужику! Он ходит по земле с своей сохой ранним весенним утром. Кругом чистота, свежесть, простор, а он идет с своей сошкой, как царь, и режет целину земли… А земля пахнет… вы знаете, как пахнет? Словно вино, — такой щекочущий возбуждающий запах!.. Я хотел бы быть последним работником, пахать круглые сутки, но только там — под солнцем, среди полей и лесов… Вы когда-нибудь ходили босиком?
— Босиком? — вспоминает Дмитрий Иванович. — Да, давно… в детстве…
— Хорошо! Немного щекотно, земля теплая, и как легко!..
Оба смеются, как дети…
Эти огромные стены, испещренные окнами, — точно страница большой книги, книги жизни…
День во дворе начинается рано. Еще темно, а по двору, к воротам, проходит дворник — в грязном фартуке, с метлой и сорным ящиком. Хлопают двери квартир, — кухарки, с корзинами в руках, бегут на рынок. Появляется точильщик и пронзительным, как лязгающее железо, голосом кричит: „ножи, ножницы, бритвы точить”… К какому-то подъезду подали лошадь… Кое-где распахиваются окна, видны красные заспанные физиономии… Побежали студенты в голубых фуражках, с клеенчатыми тетрадями в карманах; завизжала шарманка… Двор проснулся!
Пока солнце высоко на небе обегает свой круг, люди суетятся, кричат, волнуются… Но вот стены домов вспыхнули веселыми вечерними огнями. Тишина. И в это время чудится, как сон, что где-то далеко от города, где нет каменных громад, в которых замурованы люди, каждый год цветет земля — прекрасными нежными цветами; кто-то срезает эти цветы, исполненные жизни, и отсылает сюда — в шумный каменный город… Кто они — эти садовники земли, как букашки ползающие по необъятным далеким нивам?..
Эта жизнь земли — с ее роскошными цветами, синими степями, золотыми осенями — не совсем была вытравлена в большом городе. Иногда среди огромных многоэтажных домов попадались площади, заросшие зеленой травой. На холме, который властвовал над городом, стояли церквушки — низкие, наивные, золотоверхие… Они построены еще тогда, когда вокруг темнели леса и свободно бегали волки и медведи. Живопись на них была простая, детская, с прямыми линиями. И оттого, что на эти уродливые живописные иконки молились деды и бабки и окропили их своими слезами, в душе вспыхивает тихое умиление…
Роман Кумов
На Трубной площади. А. Чехов
Небольшая площадь близ Рождественского монастыря, которую называют Трубной, или просто Трубой; по воскресеньям, на ней бывает торг. Копошатся, как раки в решете, сотни тулупов, бекеш, меховых картузов, цилиндров. Слышно разноголосое пение птиц, напоминающее весну. Если светит солнце и на небе нет облаков, то пение и запах сена чувствуются сильнее, и это воспоминание о весне возбуждает мысль и уносит ее далеко-далеко. По одному краю площадки тянется ряд возов. На возах не сено, не капуста, не бабы, а щеглы, чижи, красавки, жаворонки, черные и серые дрозды, синицы, снегири. Все это прыгает в плохих, самоделковых клетках, поглядывает с завистью на свободных воробьев и щебечет.
Щеглы по пятаку, чижи подороже, остальная же птица имеет самую неопределенную ценность.
— Почем жаворонок?
Продавец и сам не знает, какая цена его жаворонку. Он чешет затылок и запрашивает сколько Бог на душу положит — или рубль, или три копейки, смотря по покупателю. Есть и дорогие птицы. На запачканной жердочке сидит полинялый старик-дрозд с ощипанным хвостом. Он солиден, важен и неподвижен, как отставной генерал. На свою неволю он давно уже махнул лапкой и на голубое небо давно уже глядит равнодушно. Должно быть, за это свое равнодушие он и почитается рассудительной птицей. Его нельзя продать дешевле, как за сорок копеек. Около птиц толкутся, шлепая по грязи, гимназисты, мастеровые, молодые люди в модных пальто, любители в донельзя поношенных шапках, в подсученных, истрепанных, точно мышами изъеденных брюках. Юнцам и мастеровым продают самок за самцов, молодых за старых… Они мало смыслят в птицах. Зато любителя не обманешь. Любитель издали видит и понимает птицу.
— Положительности нет в этой птице, — говорит любитель, засматривая чижу в рот и считая перья в его хвосте. — Он теперь поет, это верно, но что ж из эстого? И я в компании запою. Нет, ты, брат, мне без компании, брат, запой; запой в одиночку, ежели можешь… Ты подай мне того вон, что сидит и молчит! Тихоню подай! Этот молчит, стало быть, себе на уме…
Между возами с птицей попадаются возы и с другого рода животностью. Тут вы видите зайцев, кроликов, ежей, морских свинок, хорьков. Сидит заяц и с горя солому жует. Морские свинки дрожат от холода, а ежи с любопытством посматривают из-под своих колючек на публику.
— Я где-то читал, — говорит чиновник почтового ведомства, в полинялом пальто, ни к кому не обращаясь и любовно поглядывая на зайца, — я читал, что у какого-то ученого кошка, мышь, кобчик и воробей из одной чашки ели.
— Очень это возможно, господин. Потому кошка битая, и у кобчика, небось, весь хвост повыдерган. Никакой учености тут нет, сударь. У моего кума была кошка, которая, извините, огурцы ела. Недели две полосовал кнутовищем, покудова выучил. Заяц, ежели его бить, спички может зажигать. Чему вы удивляетесь? Очень просто! Возьмет в рот спичку и — чирк! Животное тоже, что и человек. Человек от битья умней бывает, так и тварь.
В толпе снуют чуюки с петухами и утками под мышкой. Птица все тощая, голодная. Из клеток высовывают свои некрасивые, облезлые головы цыплята и клюют что-то в грязи. Мальчишки с голубями засматривают вам в лицо и тщатся узнать в вас голубиного любителя.
— Да-с! Говорить вам нечего! — кричит кто-то сердито. — Вы посмотрите, а потом и говорите! Нешто это голубь? Это орел, а не голубь!
Высокий, тонкий человек с бачками и бритыми усами, по наружности лакей, больной и пьяный, продает белую, как снег, болонку. Старуха-болонка плачет.
— Велела вот продать эту пакость, — говорит лакей, презрительно усмехаясь. — Обанкрутилась на старости лет, есть нечего, и теперь вот собак да кошек продает. Плачет, целует их в поганые морды, а сама продает от нужды. Ей-Богу, факт! Купите, господа! На кофий деньги надобны.
Но никто не смеется. Мальчишка стоит возле и, прищурив один глаз, смотрит на него серьезно, с состраданием.
Интереснее всего рыбный отдел. Душ десять мужиков сидят в ряд. Перед каждым из них ведро, в ведрах же маленький, кромешный ад. Там в зеленоватой, мутной воде копошатся карасики, вьюнки, малявки, улитки, лягушки-жерлянки, тритоны. Большие речные жуки с поломанными ногами шныряют по маленькой поверхности, карабкаясь на карасей и перескакивая через лягушек. Лягушки лезут на жуков, тритоны на лягушек. Живуча тварь! Темно-зеленые лини, как более дорогая рыба, пользуются льготой: их держат в особой баночке, где плавать нельзя, но все же не так тесно…
— Важная рыба карась! Держанный карась, ваше высокоблагородие, чтоб он издох! Его хоть год держи в ведре, а он все жив! Неделя уж, как поймал я этих самых рыбов. Наловил я их, милостивый государь, в Перерве и оттуда пешком. Караси по две копейки, вьюны по три, а малявки гривенник за десяток, чтоб оне издохли! Извольте малявок за пятак. Червячков не прикажете ли?
Продавец лезет в ведро и достает оттуда своими грубыми, жесткими пальцами нежную малявку, или карасика, величиной с ноготь. Около ведер разложены лески, крючки, жерлицы, и отливают на солнце пунцовым огнем прудовые червяки.
Около возов с птицей и около ведер с рыбой ходит старец-любитель в меховом картузе, железных очках и калошах, похожих на два броненосца. Это, как его называют здесь, „тип“. За душой у него ни копейки, но, несмотря на это, он торгуется, волнуется, пристает к покупателям с советами. За какой-нибудь час он успевает осмотреть всех зайцев, голубей и рыб, осмотреть до тонкостей, определить всем, каждой из этих тварей породу, возраст и цену. Его, как ребенка, интересуют щеглята, карасики и малявки. Заговорите с ним, например, о дроздах, и чудак расскажет вам такое, чего вы не найдете ни в одной книге. Расскажет вам с восхищением, страстно и вдобавок еще и в невежестве упрекнет. Про щеглят и снегирей он готов говорить без конца, выпучив глаза и сильно размахивая руками. Здесь на Трубе его можно встретить только в холодное время, летом же он где-то за Москвой перепелов на дудочку ловит и рыбку удит.
А вот и другой „тип“ — очень высокий, очень худой господин в темных очках, бритый, в фуражке с кокардой, похожий на подьячего старого времени. Это любитель; он имеет немалый чин, служит учителем в гимназии, и это известно завсегдатаям Трубы, и они относятся к нему с уважением, встречают его поклонами и даже придумали для него особенный титул: „ваше местоимение“. Под Сухаревой он роется в книгах, а на Трубе ищет хороших голубей.
— Пожалуйте! — кричат ему голубятники. — Господин учитель, ваше местоимение, обратите ваше внимание на турманов! Ваше местоимение!
— Ваше местоимение! — кричат ему с разных сторон.
— Ваше местоимение! — повторяет где-то на бульваре мальчишка.
А „его местоимение“, очевидно, давно уже привыкший к этому своему титулу, серьезный, строгий, берет в обе руки голубя и, подняв его выше головы, начинает рассматривать и при этом хмурится и становится еще более серьезным, как заговорщик.
И Труба, этот небольшой кусочек Москвы, где животных любят так нежно и где их так мучают, живет своей маленькой жизнью, шумит и волнуется, и тем деловым и богомольным людям, которые проходят мимо по бульвару, непонятно, зачем собралась эта толпа людей, эта пестрая смесь шапок, картузов и цилиндров, о чем тут говорят, чем торгуют.
А. Чехов
Нравы московских девственных улиц. А. Левитов
Иван Сизой матушке Москве белокаменной, по долгом странствовании вне ее, здравия желает, всем ее широким четырем сторонам низкий поклон отдает.
Год с лишком шатался я по разным местам, а все нигде не видал того, что я так люблю в Москве, — это ее глухих, отдаленных от центра города улиц, которые давно как-то назвал девственными, с их, так влекущей к себе сердце мое, поразительной и своеобразною бедностью.
Бедность московских девственных улиц меня радует, потому что она рычит и щетинится, когда ей покажется не очень просторно и не очень сытно в темных и тесных берлогах, в каковых движениях жизни я замечаю несомненные признаки того, что бедность эта скоро поправится и разбогатеет, хотя, может быть, и не вдруг, хотя богатства ее будут далеко не те, про которые говорят, что они неисчерпаемы. Ну, да ничего! Нам и это на руку, потому что голодному рту не до горячего, — ему бы только мало-мальски чем-нибудь тепленьким пораспарить свое иссохшее нёбо…
По прибытии в Москву, я направился прямо в девственную улицу, где жил мой старинный друг, старый отставной унтер-офицер.
В девственной улице я не заметил никакой перемены. В сравнении с другими столичными улицами она была тиха до мертвенности. Огни, светлевшиеся из окон ее маленьких деревянных домишек, были похожи на деревянные гнилушки, которые так уныло светятся ночью из-под печки деревенской избы. Единственные признаки жизни показывала только единственная харчевня девственной улицы. Из ее тусклых окошек, освещенных каким-то красноватым светом, порой вырывались какие-то неясные звуки, по которым решительно нельзя было определить, поют ли там песни, или плачут, — такие это были смешанные звуки. И временем, когда каким-нибудь гостем широко распахивалась харчевенная дверь, сердито и шумно взвизгивая на заржавевших петлях, звуки делались слышнее, и тогда человек неопытный, случайно проходящий по девственной улице, непременно бы остановился против заведения и пугливо прислушался к этим звукам, потому что неопытному пешеходу в них бы заслышалось слово: „караул” — слово, отчаянно-крикливо вырвавшееся из чьего-то горла, но остановленное на половине своего излета и снова как бы впихнутое в это горло чьим-то лютым кулачищем.
Но я не счел этого звука за такой „караул”, ради которого следовало бы остановиться около харчевни, потому что мне коротко известны обычаи девственной улицы. Это был, просто, крупный разговор, который вел закутивший мастеровой с своею благоверной, пришедшей с целью вытащить благоверного из заведения и отвести „на спокой на фатеру”.
— Пош-шол вон! — кричит на жену повелительным горловым баритоном урезавший здоровую муху кутила. — Пош-шол вон! — повторяет он еще повелительнее, забывши в подпитии, что ежели хочешь прогнать откуда-нибудь свою жену, чтоб она не мешала молодецкому разверту, так нужно сказать вовсе не „пошел вон”, а „пошла вон”.
Затем начинались плаксивые тоны жены:
— Иван Прокофьич! Что же мы завтра есть станем?
— Об этом ты не горюй! Что об этом горевать — об еде-то? Эх, ты, бесстыдница! О чем нашла горевать? А? Гаврил! — обращается кутила к фамильярно улыбавшемуся половому, — о чем она, дурища, горюет-то? Об еде! Ха-ха-ха-ха! Пош-шол вон! — и затем муж, как глава над своею женой, употребляет даже некоторую силу и пытается пропихнуть ее в скрипучую дверь на тихую морозную улицу.
Итак, вы видите теперь, что серьезного „караула” в харчевне девственной улицы быть не может, потому что, в конце концов, ежели „караул” слышится иногда из окон, веселящих улицу своим красным и, примечено мною, как-то злобно и насмешливо моргающим светом, так вовсе нечего прислушиваться к нему, потому что все это ни более ни менее, как „своя от своих”.
Историю эту, с целью получить в конце ее незловредный „караул”, можно продолжать таким образом:
— Остались ли деньги-то у тебя? Ай уж все пропил? — спрашивает жена, усевшись, наконец, с супругом за один стол около грязного, загаженного мухами, графинчика из толстого стекла с мутной водкой.
— Какие, черт, деньги? Пропивать-то мне нечего… Это уж я на сюртук валю. Вот добрая душа, Гаврик, в двух серебра принял, а домой я и в твоем платке как-нибудь дотащусь.
Мастеровой слезливо начинает обыкновенный рассказ про то, как часто понесешь работу к барину и как, идучи к барину, рассуждаешь, что вот-де сейчас получу деньги, прямо на рынок, искуплю там говядины, сапожки, может, али штанишки какие-нибудь старенькие не попадутся ли, а там накуплю товару — и валяй опять за работу. Чудесно! Знай, денежки огребай. Рассуждаешь таким-то манером, а потом и не увидишь, как очутишься в кабаке.
— Он, говорит, барин-то: „Иван Прокофьич! Ты с меня деньги-то недельки две пообожди. Знаешь, говорит, за мною не пропадет”. Я ему говорю: „Знаю, что не пропадут, только, ваше благородие, мне деньги оченно нужно. Сами изволите знать: жена, детей четверо”… — „У меня, — говорит барин и смеется, — у меня, может, детей-то этих штук с сорок найдется, да ведь я ни к кому не пристаю. Приходи уж через неделю, что с тобой делать, а теперь мне некогда, прощай”. — С тем от него ушел, — добавляет мастеровой, возвышая голос: — а от него, с великой злости, прямо в кабак, и из кабака сюда, потому, что же я завтра без денег стану делать?
После этого крикливого вопроса и начинается, что называется, самая катавасия, потому что, кроме сюртука, принятого добродушным Гаврилой в двух рублях, чета начинает валить еще на три рубля, которые с большим удобством олицетворяет истасканный шерстяной салоп супруги.
— Видишь теперь, какая у меня супруга? — спрашивал мастеровой у полового, выставляя ему на вид, собственно, то обстоятельство, что супруга, с видимою охотой, куликнула две рюмки залпом, как бы стараясь сразу сравняться с своим главой. — Сласть у меня супруга, сговорчивая. Она мне ни в чем никогда не перечит. Что я скажу, то и баста.
Супруга между тем не без грации закусила две рюмки солониной с солеными огурчиками, а супруг продолжает:
— Мы с ней двенадцать годов душа в душу живем! Гаврил! Слушай, я тебе расскажу, как я женился на ней. Она в это время молодая была и из лица не в пример теперешнего красивее; а князь, у кого она в то время на содержании была, призывает меня и говорит: „Вот тебе, Иван Прокофьев, невеста! Ты, говорит, с ней не пропадешь, потому приданого за ней даю сто рублев, акромя, говорит, постели и разных вещей”… Я ему и говорю: „Покорнейше благодарим, ваше сиятельство!” Сказал так-то и женился; а она, шельма этакая, целый год после законного брака шаталась к нему, к князишку-то своему. Вот она, Гаврил, какая изверг у меня! Ты, Гаврил, не гляди на нее, что она такою смиренной глядит. Шельма она у меня преестественная, Гаврил! Ты думаешь, милый человек, через кого я теперича погибаю — через нее, через анафему! Вот через кого! У! Будь ты проклята! Возьму, вот, да как начну по морде-то охаживать, так, небось, забудешь про княжество-то про свое!
Половой, слушая эти излияния, мялся на одном месте и насмешливо улыбался с видом человека, который, ежели бы не стеснялся своим лакейским положением, непременно сказал бы:
„Комиссия, право, эти женитьбы нашинские!.. Что криво да косо, то Кузьме-Демьяну… Всегда уж нашему брату, мастеровому, бедному человеку, такую-то сволочь подсунут, что целый век казнишься да страдаешь, глядя, как она кровные мужнины деньги, на офицеров прохожих любуючись, на чаях да на кофиях проживает!.. Идолы-бабенки, а паче тот идол, кто их, тонкостям этим научимши, нашему брату на шею наваливает…”
— Ты вот что, — отнеслась достаточно уже выпившая супруга к мужу: — ты поменьше болтай, а то ведь за болтанье-то вашего брата по щекам лупят…
— Ну, уж ты с этим делом, надо полагать, подождешь немного, по щекам-то. Право, подождешь! — сатирически предполагает муж, выпивая приличный чину и званию столичного башмачника стакашек.
— Нет, не подожду, — настаивает супруга, выпивая тоже приличный стакан. — Долго я тебя, пьяного дурака, не учила.
— Вряд ли выучишь. Я тебя, пожалуй, поскорее поучу.
— Ну, уж это не хочешь ли вот чего? — осведомляется супруга, повертывая перед очами возлюбленного послюнявленный кукиш.
— А ты не хочешь ли вот чего? — в свою очередь, любопытствует супруг, ухватив супругу за жидкие космы.
Случайно отворенная в это время дверь заведения заскрипела на своих петлях, и изнутри кабака вылетело женски-визгливое „караул” и басовитые отрывистые слова: „Вот тебе, шельма, вот тебе!“ Слышно было сдержанное хихиканье полового Гаврилы, сопровождаемое протяжным возгласом: „Ох и комедианты же эти сапожник с сапожницей! Право, комедианты! Этак-то они у нас цепляются друг с дружкой каждый Божий вечер!..”
Но девственная улица ничуть не была удивлена этими выкриками. До того, должно быть, она прислушалась к ним, что даже тени внимания не пробудили они на ее безжизненно-молчаливом лице.
И, кроме этой, другие, более крикливые, сцены разыгрывались на улице, но и они не делали ее веселее, потому что, против русского обыкновения, они не собирали около себя толпы проходящих зевак, дружный и шумливый говор которых уверил бы человека, в первый раз занесенного в этот край, в том, что край этот вовсе не какое-нибудь заколдованное царство, осужденное могучим чародеем на вечный и беспробудный сон.
— Кар-рраул! Кар-раул! — орет какой-то молодой голос в непроницаемой темноте уличного конца.
— Ты что же это? — спрашивает крикуна хрипучий бас булочника. — Ты опять свои шутки шутишь? Мало я тебе онамедни шею за них намылил? Ежели мало, скажи, я тебе еще прибавлю.
— Дядюшка! Да ведь скучно!.. День-то деньской сидючи за работой, чего не придумаешь? Выбежишь когда на улицу-то украдкой, улица-то, сейчас умереть, светлым раем тебе покажется, — ну, тогда ты не вытерпишь и в радости заорешь…
— То-то в радости! Гляди, ты у меня иным голосом, пожалуй, вскрикнешь, как вот ножнами начну тебя по мягким-то оторачивать… Уймись, парень! Ей-Богу, уймись!
— Не буду, дядюшка, однова дыхнуть, не буду, — с хохотом уверяет прежний голос: — только теперича в последний раз позволь…
— Ну, парень, придется мне, должно быть, с моего места встать… Разозлил ты меня, паренек!
И затем уличную тишину нарушает какое-то шуршанье, словно бы какой одышливый и ленивый человек собирался в дальнюю путь-дорогу.
— Кар-р-раул! — снова из всех легких трубит паренек, захлебываясь от хохота.
После этого слышится легкое захлопывание калитки и шлепанье босых ног по оттеплевшему снегу.
— Экой парень-разбойник! Удрал уж… — говорит булочник, с прежним сопеньем и пыхтеньем усаживаясь на покинутое было пригретое место. — Кажинный день так-то он меня беспокоит…
Поравнялись со мной какие-то две, еще не очень пожилые женщины, с вениками под мышками, с узелками в руках, с лицами, прорезывавшими даже ночной, ничем не освещаемый мрак девственной улицы алым румянцем, которым, как пожаром, освещались их пухлые щеки.
— Что же, хороша нонича фатера-то у тебя? — спрашивала одна подруга другую.
— Эдакая ли фатера чудесная — страсть! — отвечала подруга. — Мы ее онамедни чудесно обновили. Пришел эфта в прошлое воскресенье мой (у меня ныне столяр), солдатика-приятеля привел. Пришодчи, как следует, поздравили с новосельем, водки полуштоф солдатик-то из-за обшлага вытащил, я ему селедку с лучком оборудовала. Полштоф выпили, другой послали; другой выпили — третий, а там и за четвертым. И так-то, милая ты моя, все мы нарезались тогда, не роди мать на свет Божий! Словно бы безумные, толкались. Нарезамшись, мой-то и сцепился с солдатиком драться, — я сейчас же к своему на заступу пошла; а солдатик видит, что не совладать ему с нами, взял да у столяра ухо напрочь, совсем с хрящом и оттяпал. Завизжал столяр так-то жалостно, и кровища из него хлестала, аки бы из свиньи зарезанной. И дивись, милая, с другой фатеры, ежели не в нашей улице, так бы нашего брата за такую историю, знаешь бы как в шею турнули, в три бы шеи турнули; а наш хозяин (благородный у нас хозяин-то!), хошь бы словечушко вымолвил. „Ничего говорит, Господь с ними! На то, говорит, и праздник дан человеку”.
— У нас, мать, по всей нашей улице хозяева все страсть как смирны, — подтвердила другая товарка. — У меня тоже кажный праздник, почитай, и-их какие кровопролитии сочиняют! Тоже одному молодчику, не хуже твоего, два пальца и половину носа скусили. Озорны эти мужики!
— С ними поводись только! Я уж когда они так-то сцепятся, прямо им сказываю: „да ступайте на двор, лешаки, там, говорю, просторнее”. Так-то они у меня, милая ты моя, за всякое воскресенье аккурат не на живот, а на смерть чешутся!..
— Это у них истинно, что каждое воскресенье творится неупустительно, — сказал мне вдруг вышедший из-за угла старик — мой кум, отставной солдат, к которому я шел. Я тоже, признаться, поджидал его, потому что сам он, тоже неупустительно, возвращался в это самое время из кабака, в котором обыкновенно он проводил летние и зимние вечерки.
— Издали еще разглядел я тебя, — продолжал старик, обнимая меня. — Смотрю этта и думаю, а ведь это куп идет!
По вечерам, то есть огорошив в кабаке полуштоф и туго набивши нос забористым зеленчатым, старик приобретал способность выговаривать буквы м и н, как п и б, и потому в таких случаях он обыкновенно звал меня куп, а ежели в дальнейшем разговоре надобилось ему употребить слово небо, он, просто-напросто, избегая греха сказать небо, указывал рукою в потолок, и все это понимали, как нельзя более хорошо.
— Откуда тебя Бог принес? — спрашивал меня старина, видимо обрадованный. — Давно ли?
— Прямо с дороги и прямо к тебе, — ответил я.
— Вот за это люблю, что не забыл друга.
— Ну, что тут, как у вас? — любопытствовал я. —Новенького чего нет ли?
— Чему у нас новенькому быть? — спросил, в свою очередь, кум, как бы с некоторым уныньем. — Все у нас, друг милый, по-старому. Есть, что ли, деньжонки-то у тебя? А то я, покуда лавки не заперты, что-нибудь из одежи бы на угощенье спустил…
— Есть, — утешил я старину, — и насчет одежи ты не беспокойся.
— То-то, ты гляди у меня: финтифлюшек-то, знаешь, небось, не очень-то я люблю…
И потом, прихвативши в попутном кабаке некоторый штоф и в попутной лавочке два десятка соленых огурцов, мы с кумом благополучно спустились в его плачевный подвал.
В этом подвале целые двадцать лет тянулась печальная жизнь солдата. В пять лет моего с этими интересными субъектами знакомства я не мог подметить ни в том, ни в другом ни малейшей перемены, и как за год перед настоящим моим посещением я оставил их уныло-серьезных и гневно-молчаливых, точно такими же нашел их и теперь. Даже горемыки-жильцы подвалов в девственных улицах, наваливавшиеся на простого старика, как наваливаются осенние листы на терпеливую землю, были все те же, за исключением разве только одного отставного капитана, тем, впрочем, только и замечательного, что он нанял себе помещение на огромной кумовой печи, куда он втащил нечто в роде кушетки, служившей ему постелью и вместе с тем сундуком. Капитан этот нисколько не характеризовал бы собою московских девственных улиц, если бы про него не рассказывали с божбой, что он никогда ничего не ест и не пьет, ибо никто ни разу не видал, чтоб он когда-нибудь удовлетворял этим простым требованиям человеческого организма. Кроме этого, заслуживавшего внимания обстоятельства, капитан бросался в любопытные глаза тем еще, что не любил платить за квартиру и, говоря настоящее дело, не любил даже и того, когда ему напоминали об этом. Старый, расслабленный и поросший весь как бы какою щетиной, он по целым дням молчаливо переезжал с печи на кушетку и обратно, ничем не беспокоясь и никого не беспокоя; но как только кум заикался ему, что, дескать, ваше вышебородие, нельзя ли, дескать, насчет недоимочки за фатеру, — капитан сначала производил на печи какой-то необыкновенный шум, смешанный с визгом и рычаньем, потом показывал с печи свое обрамленное седо-бурыми волосами лицо, оскалив зубы, и начинал воевать, то есть бросал с печи в приютившего его человека чем ни попало.
— Зар-р-ряжай ружье! — орал он старческим, но азартным голосом. — Кладсь! П-ли! Я вас, черти! Рр-рота, за мной! Д-дети, скорым шагом марш! с Богом!
— Ну, пошла писать военная кость! — с хохотом толковали многочисленные кумовы жильцы, собирая с печи, из-под капитанской храброй руки, различные тряпки и горшки, махотки и полешки.
— Будет, будет, ваше вышебородие! Перестаньте только, Христа ради! — умолял кум жильца о прекращении батального огня.
— Ур-ра! Наша взяла! — окончательно вскрикивал старый вояка, снова ныряя на неопределенное время в запечное пространство.
— Оченно тронулись! — такими словами рекомендовал мне кум своего нового жильца. — Что будешь делать с бедностью? Иной раз сунешь ему на печку-то щец, хлебца, не токмо что свои деньги… Выручишь их, свои-то деньги, с моими жильцами! Надоедает временем только — ужасти как… Раздразнят его башмашниковы ребятенки, так он целый день, лежа на печи, ртом-то все так-то выделывает: пу! пу! п-пу! Артиллерией, значит, по ним на дальных расстояниях действует. Вот докуда спятил: по маленьким-то ребятенкам из пушек палит!..
— Ну, а из прежних жильцов никто не съехал от тебя? —спросил я.
— Из прежних?.. Нет, никто. Здесь уж все так-то: как укоренится кто на каком месте, так уж или с эстого места прямо в гроб идет, или, ежели он — подхалюза какая, так фарталом прогоняют на другую фатеру. Кресты есть из таких-то для нашего брата-съемщика — и-их какие тяжелые! Потому наш брат должен им потрафлять каждую минуту, чтобы только не доходили они до фартала, судиться бы только не ходили, потому они к этому делу, все равно как к каше с маслом, привыкли…
И действительно, все кумовы жильцы, которых я знал у него прежде, жили у него и теперь, как бы сговорившись умереть в его темном подвале. По-прежнему над всем гвалтом крикливой подвальной жизни властительно царил назойливый голосище старой свахи Акулины, трехаршинной бабы, в ужасающих всякую душу лохмотьях и с рыжею жидковатою бородой. По-прежнему эта ямщик-баба расшевеливает во мне уснувшую было глубокую антипатию к ней тем, что к каждому слову, с которым она обращается ко мне, прибавляет самым сладким голоском „ваше благородие” и „сударь-барин“, рассчитывая этими словами взять меня на удочку и слизать с меня полуштоф сладкой водки, особенно ею ценимой. А вот и эта старая девушка, неотходно сидящая в кухне на своем громадном, окованном железными полосами сундуке. Как назад тому много лет застало ее на этом сундуке известие, что человек, любивший ее, уехал на родину жениться и увез ее кровных сто двадцать рублей, так она, без малейшего слова, раскачнула тогда еще молодою головой, да так и теперь ею постоянно раскачивает, — только теперь эта голова сокрушилась уже, замоталась и стала такая седая, сморщенная, некрасивая.
— Здравствуй, Фаламей Ильич! — говорю я старому приятелю моему, башмачнику, тоже кумову жильцу, который терпеть не мог, когда кто-нибудь называл его настоящим именем Варфоломея.
— Здравствуйте, сударь Иван Петрович! — радостно приветствовал меня Фаламей, вставая с кадушечки, на которой он тачал башмаки, и лобызаясь со мною. — Давно мы, сударь, с вами компании не водили. Вы что тут ерзаете, мазурики? — обратился он к своим многочисленным ребятенкам, быстро отколупывая у них на головах масла маслаком своего собственного большого пальца правой руки.
Толпа ребятишек, неутомимо сновавшая и горланившая по подвалу, как и все подвальное, была, в свою очередь, такою же, какою я оставил ее, хотя приметил, что теперь она стала гораздо гуще, a следовательно, и неугомоннее.
Да, все обстояло в подвале по-прежнему, потому что очень трудно такой жизни построиться на какой-нибудь другой лад по той простой причине, что подо всем этим прекрасным небом нельзя найти лада, который был бы сколько-нибудь хуже этого. И Господи! до того шло там все по-старому, что сам я, как и прежде, обманул ожидания ребячьей стаи, облепившей меня, потому что был вне всякой возможности дать что-нибудь на гостинцы этой малолетней, вечно голодающей братии.
Уныло и молчаливо отошла от меня, как говорят поэты, розовая юность, а я, как и всегда, что особенно люблю, стал прислушиваться к стенам подвала, которые на сей раз говорили мне так:
„Ну, что, Иван Петрович? Что, кум ты мой золотой? Куда ходил? Что выходил? Э-эх ты, ветер степной, Иван Петрович! Право, ветер! Вот тебе от нас первый привет. Думали мы, что ты, гуляючи по хорошему Божьему свету, хоть чуточку поумнеешь, хоть немножко посократишься, а он все такой же“…
Шептали мне черные стены эти слова с какою-то особенно выразительною насмешкой, словно бы насмешкой этой они меня хотели образумить и наставить на какой-то, совершенно неизвестный мне, истинный путь.
Так я помню в старину, когда я был еще совсем малым ребенком, старая бабка моя, смотря на разные мои, как она говорила, дурацкие выходки, укоризненно и насмешливо покачивала своей седою головой и язвила меня острыми стрелами разных народных пословиц, в роде, примерно, следующей:
— Эх, дитя! Не будет в тебе пути…
До слез, бывало, пронимали меня эти многозначительные бабкины слова. Открывши в шепоте стен кумова подвала нечто схожее с ними, я бы тоже, вероятно, заплакал и теперь, ежели бы давно уже разлившаяся по телу моему злобная желчь не вытеснила из меня все без остатка мои горячие, искренние слезы.
— Вот за это я тебя, кум, страсть как не люблю! — этим восклицанием вывел меня из моей задумчивости старик-кум (назовем его давнишним именем, приобретенным им в полку, где его прозвали Обгорелый). — Так вот за это я тебя недолюбливаю, — повторил Обгорелый. — Выпьешь ты, дружок, малость какую-нибудь и сейчас же задумаешься, лицо у тебя в синие пятна ударит, и словно бы ты в такие времена разорвать кого на мелкие части надумываешь. Право! Это мне очень не по нраву. Выпей-ка, авось, может, поотпустит тебя злоба-то твоя.
— Что же это я все у тебя оглядел, увидал, что все на прежних местах стоит, — сказал я, — а про Катю не спрошу: где она у тебя?
— Помалчивай до поры до времени, — с какою-то плутоватою улыбкой ответил мне кум. — Мы тут такую-то крутую кашу завариваем, и, как есть, братец ты мой, к самой каше ты подоспел. Вот счастливый какой, а еще все судьбой своей недоволен.
А Катя, про которую я сейчас осведомлялся у солдата, была существом такого рода: во всех вообще девственных улицах существует обыкновение распускать про всякого человека, вновь основавшего свой притон в их тишине, молву, что будто у этого человека страсть сколько деньжищев и добрища всякого, вряд ли на три подводы уложишь. Конечно, этому, по-видимому, странному обыкновению удивляться много не следует, потому что страсть поврать про чужие деньжища и добрище свойственна всей гольтепе вообще. По этому случаю, лишь только переехал солдат в свой подвал, как сейчас же про него вся улица, как в трубу, затрубила:
— Однех шинелей у него три, — по секрету перешептывались между собою соседские бабенки, — сапогов четыре пары, голенищев старых видимо-невидимо навалено. Кому копит? А? Скажи, пожалуйста, кому копит старый идол? — даже с некоторым негодованием вопрошала одна из бабенок. — Околеет ведь старый шут, глаз некому будет закрыть.
— Ты про шинели-то да про голенищи не толкуй лучше, — вступалась другая, — а ты вот что послушай: видели у него бумажек денежных вона сколько!.. — И при этом бабенка взмахнула рукой над своею головой, желая означить, сколько, именно, у идола-солдатища было денежных бумажек. — Теперича, — продолжала она, — видели у него также целый сундук с образами, и все-то они, батюшки мои, в серебряных ризах у него разодеты, все-то в серебряных.
На основании этих рассказов одна согрешившая девочка некоторою темною ночью взяла да и подкинула свою новорожденную дочку к богачу-солдату.
— Она у него счастлива будет! — рассуждала молодая мать. — А то поди-ка, из воспитательного дома кому еще на руки попадется…
— Вона, сокровище какое Господь мне, старому шуту, послал! — сказал кум, вывертывая ребенка из разных лохмотьев. — То тридцать лет с ружьем нянчился, теперь же вот с чужой дитей придется понянчиться, а там уж, верно, судьба за прялку меня усадит…
Поворчал-поворчал Обгорелый таким образом, а все-таки послушною нянькой уселся, наконец, за детскую колыбель и своими песнями, петыми хотя и на волчиный манер, выбаюкал себе такую прелестную девочку, про которую многочисленные жильцы говорили, что об ней, все равно как об царевне какой, ни в сказке нельзя сказать, ни пером написать.
Я совершенно не знаю, каким образом и для чего именно на тощей и так гибельно воняющей почве подвалов родятся существа с головками, улыбающимися и цветущими, как улыбаются и цветут на холсте прелестные создания великих художников, — не понимаю, для чего даются этим существам белокурые волосы, — кого в том подвале хотела природа удовлетворить, творя этот гибкий, как наша стройная отечественная сосна, стан; но знаю и сказываю о том обстоятельстве, что унтер-офицерский подкидыш, прозванный горем подвальным царевной, про которую нельзя ни в сказке сказать, ни пером написать, был, есть и будет царевной моего одинокого сердца.
Повинуясь могучим стремлениям нашего времени, я долгое время шатался в кумов подвал, внося, насколько мог, в мерзость его запустения понятия о ином, внеподвальном свете. Я много раз примечал, как цветущая белокурая головка улыбалась, радуясь такому свету; но улыбка эта, дававшая мне столько радостей, всегда же и глубоко мучила меня, ибо в то время, когда в ней зарождалась другая правда, ничуть не похожая на правду кумовой жилицы — бородастой свахи Акулины, сам подвал в этот момент, мне казалось, начинал покачиваться, словно бы жалея о чем, и, как-то сокрушительно улыбаясь, шептал мне:
„Ах, Иван Петрович! Голова ты эдакая болезная! Ну, на что это нам? Ну, что мы с этим добром поделаем? Помни ты мое верное слово, Иван Петрович! Будет у нас с тем добром не в пример больше слез, больше и воздыханий”.
И так крепко донял меня подвал такими словами, что я однажды сказал подвальному цветку:
— Прощай, Катя! Ухожу из Москвы на родину. Хочу посмотреть, по-прежнему ли наша матушка степь своей красотой сияет.
Говорю так и смеюсь, и она смеется.
— Ой, — отвечала она, — не ходите, Иван Петрович. Люди, Иван Петрович, переменнее степи всегда бывают, об этом во всякой книжке говорится, какую мы только с вами читали.
Я даже хотел было остаться, смотря на ту улыбку, с которою Катя говорила о том, что люди изменчивее степи. Так много обещала эта веселая, добрая улыбка! Но, к счастию или несчастию, подвал опять зашептал мне:
„Ты что же это, Иван Петрович, оставаться хочешь? Гляди ты у меня: я тебя тогда своими старыми стенами в прах раздавлю”…
Унося мою больную голову от гибели в этих, так мрачно глядевших, стенах подвала, я пошел. Пошел я, куда глядели мои глаза, и когда, возвратившись назад, спросил у кума, где Катя, он только ответил мне, что я счастливец, подоспевший к весьма крутой каше. Ответ, как видите, весьма замысловатых и таинственных свойств; но я, изучивший нравы девственных улиц, сразу понял, по какому, именно, поводу, из каких круп заварилась эта крупная каша, — понял до того ясно, что мое сумасшедшее сердце снова дрогнуло и заныло от той страшной боли, которую подарило его это ясное понятие о предстоящей каше.
— Да, куманек! — снова повторил кум, задумчиво разглаживая свои усищи. — Признаться сказать: заварили хлебово! Не знаю только, как иному молодому народу придется его расхлебывать. Про себя не толкую, потому стар я, ну, и, значит, хлебывал вволю!… Вот как хлебывал — до крови!.. Ну, а молодым как покажется — не знаю, и ежели, т. е. не Божья воля, так лучше бы мне скрозь земь провалиться, чем голубчику моему — дите моей кровной — то кушанье из своих рук подносить…
— А вы, дяденька, не ропщите, потому судьба наша известно от кого происходит… — вмешался в нашу беседу молодой, еще неизвестный мне, парень в синей чуйке, в смазных сапогах и ситцевой красной рубахе, видимо, мастеровой. Он был еще очень молод и потому сделал старому солдату свое юное замечание весьма сконфуженным тоном, и притом неуклюже переминаясь на деревянном, выкрашенном черною краской стуле.
— Молчи уж ты, голова! — сердито отозвался кум на замечание молодца. — Мы от судьбы-то в лапах от люльки и по сю пору находимся, так мы ее лучше тебя, не в пример, понимаем, какая она до нашего брата милостивая… Кум! выпьем с тобой, да не по рюмочке, а по стаканчику, потому скорбит мое сердце. Ох, какая лютая казнь одолела его у меня! Тебе, кум, об этой казни своей прежде времени не скажу, потому пуще меня ты, пожалуй, винище жрать примешься. Знаю я тебя!
Но я давно уже понял лютую кумову казнь и потому с яростью истого плебея, приученного и, следовательно, привыкшего топить горе в стакане, выжрал стаканище, предложенный мне солдатом, опустил мою голову, послушно склоняющуюся пред всяким несчастьем, и стал по обыкновению прислушиваться к тайному подвальному шепоту, а подвальный шепот на этот раз был таков:
„Иван Петрович, — глухо и печально шептали стены, — знаешь, небось, ты нашу жизнь-то собачью? Ведь Катька-то у нас задурила… Ведь в степь-то тебя черт понапрасну таскал… Moжет, она, Иван Петрович, эта самая Катька-то, такой-бы женой была верной, да доброй, да умной… ”
А солдат в то же время с тщетно сдерживаемым рыданьем говорил молодому парню, нашему собеседнику:
— Выпей и ты, парень! Выпей сразу, побольше, потому тебе, паренек, надо час свой великий в полной муниции встретить.
— А я, дяденька, как вы сами изволите знать, — заикнулся было молодой парень, — насчет хмельного ни-ни, то есть, чтобы, то есть одну каплю когда — ни под каким видом.
— Будет, будет, жених, раздобары раздобарывать! — грозно крикнул на него кум. — Сами женихами бывали, знаем поэтому, как это ни капли-то ни под каким видом… Пей говорю. И ты, кум, выпей! Повторим мы с тобой, голова, потому мы постарше и знать свое дело завсегда мы должны во всяческой полности.
И действительно, я давно уже знал свое горькое всегдашнее дело — плакать и пить, и потому я с еще большим азартом повторил громадный стаканище.
— Так-то вот лучше! — проговорил кум, когда вся наша компания хватила по стакану. — Теперь словно бы отлегло маленько, — полегче будто бы стало…
— Это точно, что будто полегче безделицу! — вступился молодой парень. — Только, дяденька, вы теперь беспременно меня поддержать должны, потому как это она в любви с ним находится, как и я должен с ней от него под честной венец итти, и мне это теперича вот в какой ясности приставляется — страсть! Сердце у меня от эвтого приставленья во как зажгло!..
— Пей, парень, ежели приставляется! — командовал солдат. — Когда маленечко ополоумнеешь, всегда лекше становится. Ну, — прибавил старичина, внезапно озлобляясь, — ежели бы он мне попался когда, искрошил бы я его в мелкие дребезги! Хоронится завсегда, словно знает, что я бы его зубами изгрыз.
— Нет, вот бы мне Господь когда-нибудь подал его в ручки ночкой какой-нибудь темненькою, — я бы тово… Прямо скажу: может, с живого-то вряд ли бы и слез, — продолжал мастеровой солдатскую речь.
— А кто это он-то? — спросил я, чувствуя, как горячая кровь обливала сердце мое и душила меня, чувствуя, что и я, даже не в темную ночь, если бы встретился с ним, так с живого тоже вряд ли бы слез с него.
— Он-то кто? — переспросил меня парень. — Афицер один богатый… А я допрежь ее знал, как на родную мать издали глядел-глядел на нее и глазами своими ее любовал… Может, уж года с три той моей великой любви прошло.
В это время за окнами послышался глухой стук московской пролетки, — той шикарной, налощенной пролетки, с фордеком, на которых так называемые московские извозчики-лихачи катают барынь, по народному говору, вольного обращения, и вслед за этим стуком в подвал вошла Катя, шурша толстым платьем из черного гласе, сияя дорогой цветистою шляпой и золотыми браслетами на ослепительно-белых и маленьких ручках.
— Банжур, дяденька! — сказала она старому солдату как-то особенно разухабисто и фамильярно. — Ах, Иван Петрович, — обратилась она ко мне, — какими судьбами?
— Дитя мое, дитя мое! Что ты с нами, с горемычными, сделала? — ответил я с громким плачем пьяного и, следовательно, необыкновенно тонко чувствовавшегося сердца.
Потом я уж ничего не помню о той крутой каше, которая варилась в это время в подвале.
— Акулина! Акулина! — кричал, как мне помнится, мой кум. — Беги скорее за причтом, — я уж всем им говорил, какая у нас история… А вы держите крепче, а то вывернется, ускачет.
— Ты опять тут, ты опять пришел! — кричала Катя, очевидно было и для меня пьяного, на молодого мастерового. — Я ведь сказала тебе, что не пойду за тебя.
— Рази лучше скверной девкой-то быть? — кричал, в свою очередь, мастеровой. — Опомнись, Катя, опомнись!.. Ведь они над нашим братом потешаются только, господа-то..
— Иван Петрович, — громко кричала мне Катя, — заступитесь за меня: не давайте меня благословлять, сироту, поневоле… Будьте свидетелем: не хочу я за него итти…
Но я уже не мог быть свидетелем для Кати в том, что ее благословляют поневоле за немилого замуж, по многим причинам, из которых самые главные были следующие.
— Ну, ты теперь ее жених, — угрюмо бубнил солдат: —следовательно, все равно муж… Прибей ее, шельму, чтоб она от закона не отказывалась.
— Как же! — истерически всхлипывала Катя. — Погляжу я, как вы меня прибьете…
— А ты думаешь, не прибьем? — орал мастеровой. — Ты думаешь, сердце мое не болит? Вот тебе, будь ты проклята! Я, может, жизнь свою загублю, в церковь Божию с тобой идучи, а ты в такое-то время по злодее по моем сокрушаешься.
Послышался звук пощечин и отчаянный крик женщины.
— Молодец, Абрам! — говорил солдат. — Так ее и следует. Опосля слюбится…
Но, повторяю, я ничему не мог быть свидетелем в это время, потому что сидел совершенно разбитый этою сценой, — сидел я, а Катя кричала мне:
— Подлец, подлец! Что же ты не заступишься? Зачем же ты иное-то всегда мне говорил?.. Зачем же в книжках твоих про заступу всегда слабому говорилось?
Сидел я, говорю, немея от этих оскорблений, а подвал мне, кроме всего этого, свою речь вел:
„Видишь, Иван Петрович! Всегда я тебе толковал: уйди ты от нас, потому будет у нас от твоих слов большое горе… Господи, — взмолился старый подвал, как бы сподвижник какой святой, —когда только эти слова будут итти мимо нас…”
— Ох, горе! Ох горе! — сокрушенно взывал мой старый кум. — Но, может, к хорошему, может остепенится — в настоящий закон и послушание Богом данному мужу войдет. Н-ну, ежели только он попадется мне когда в темном месте!..
— С Бог-о-м, рр-ре-бята! — командовал с печи старый сумасшедший капитан. — Кл-ладсь! п-л-ли! В ш-ш-тыки на вр-ррага. Ур-ра!..
Так смертельно раздразнили его Фаломеевы ребятишки.
Затем вся компания без исключения, вследствие ни с чем не сообразной выпивки, потеряла сознание, и я уже ничего больше не помню…
А. Левитов
На Воробьевых горах. И. Щеглов
Давно мне не случалось так славно провести Троицын день!
Нас было трое я, мой спутник, Лаврушка молодой крестьянин, и его приятель Афонька — „номерной” из гостиницы… По московскому обычаю, мы все трое забрались на одного извозчика, который за полтора целковых благополучно дотащил всю компанию от Замоскворецкого моста до Воробьевых гор… Крестьянский парень и московский номерной в дружеском обиходе шли за „Лаврушку” и „Афоньку” (Лаврентий — крестьянин, Афанасий — номерной) — и я тоже буду держаться этих дружеских кличек.
Лаврушка — чернобровый статный молодец, в кумачевой рубашке на выпуске, в лакированных сапогах и фуражке-московке набекрень, был страстным любителем баб и стихов, и беседа его неизменно вращалась в этом любовном круге, Афонька был совершенная противоположность товарищу — белокурый, худощавый, с нервным подвижным лицом; по случаю праздника на нем красовалась пиджачная пара, с бумажным красным цветком в петлице, и сплющенная фуражка-пролетарка на голове. У Афоньки были две слабости: политика и „трехгорное пиво”, которое он почему-то называл „пие”, — и по мере увеличения числа бутылок с „пием”, он быстро превращался из „эс-дека” в „эс-ера” и под конец вольность его речи становилась небезопасной для спутника. В сущности, оба юные парня были благодушнейшие люди, и я с ними чувствовал себя необыкновенно легко и весело.
Когда мы очутились, наконец, на Воробьевых горах, — и растянулись на траве, — моими спутниками овладело трогательное умиление. Лаврушка сбросил картуз, заломил руки, за голову и, вздохнув полной грудью, продекламировал:
— От гущи жизни тянет вдаль…
— Откуда? спрашиваю.
Оказывается, ниоткуда… просто из души!
В самом деле, какая прелесть! провив, через реку, точно на ладошке — Новодевичий монастырь — издали совсем вербная игрушка.
Невдалеке на пригорке расположилась с закуской и гармоникою компания мастеровых.
Сверху, доносились звуки веселой карусели.
Тут все то же, что лет десять назад: американские горы, карусель, стрельбище, моментальная фотография, палатка с вафлями и мороженным и в саду, под деревьями, чайные столики. Но веселья хоть отбавляй, — в воздухе стоит гул от шумного говора и веселого гоготания.
Какая-то миловидная девица в желтеньком платочке увлекает нас в уютный тенистый сад, где пестрят скатерти чайных столиков.
Общую картину московского чаепития под зелеными кущами я решительно отказываюсь описывать. Это надо видеть самому! Чайные столики расставлены так тесно, что мы касаемся ногами и затылками наших соседей и соседок. И, при этом, ни одного свободного местечка!… Все зараз говорят, спорят, кричат, поют, хохочут; бабы визжат, дети плачут, мужчины весело отругиваются и хлопают под столом пробками. Так как рядом, за плетнем, такой же чайный сад, с такими же чайными бабами в сарафанах, и также сплошь переполненный публикой, то в воздухе стоит такой адский гомон, как на деревенской ярмарке. В одном месте полуслепой нищий, выпрашивая подаяние, жалобно тянет Лазаря; в другом девочка с пальчик пискливо предлагает букет ландышей; далее мальчик-крикун сует всем корзину с семечками и розовые конвертики со „счастьем”.
Отовсюда зычные крики и окрики:
— Эй ты, Матрешка попрыгунья, скоро ли самовар?
— Матрена, леший тебя проглоти, тащи живо пару пива!.. И т. д.
Матрены и Матрешки носятся из конца в конец, как оглашенные, с самоварами, бутылками, тарелками, едва успевая вытереть подолами струящийся по лицу пот.
„Гвоздем” увеселительной программы явился некий Шура Чижик гармонист по профессии, белокурый паренек, почти мальчишка, довольно миловидный, но уже с испитым лицом и подавшимся голосом. Костюм совершенно фантастический: студенческая фуражка, красная рубашка, кондукторская тужурка, с красной гвоздикой в петлице, кавалерийские чикчиры и болотные сапоги, — а под мышкой чудовищная гармония, так называемая „Венка”. Шура Чижик обходит столики и с независимым видом предлагает свои артистические услуги.
Такой Шура Чижик чисто московская особенность и «репертуар» его оказывается тоже особенный, московский, — и цены совсем особенные: например, за простой романс десять копеек, за романс „со слезой” — двадцать копеек; а за так называемый романс „с прогрессивным настроением” (политический) — от пятнадцати до двадцати пяти копеек, смотря по содержанию. „Романсом с прогрессивным настроением”, однако, он постеснялся нас угостить в виду многочисленного стечения публики, но зато пропел под гармонику целый ряд романсов „со слезой” и „без слезы”…
Подсев к нашему столику, он начал с какого-то неведомого замоскворецки-испанского романса под заглавием „Вальс — Тоска”. Под этот вальс, какой-то юноша с гитарой в руках умолял жестокую красавицу:
„Склонись, милая, черными кудрями
Над моею больной головой”!..
Остальных слов не помню, помню только, что романс обрывался страшным воплем на том самом месте, когда кокетка согласилась „склониться кудрями”. Романс был очень чувствительный, но все же без настоящей слезы. Настоящей слезой отличались лишь дальнейшие нумера:
„Прощай мой сын, в страну чужую
Ты уезжаешь, — Бог с тобой”…
„Прощай, мой сын”, был спет с особенным подъемом.
При пении куплета:
„Ты спросишь: где-ж моя родная?
Тебе в ответ — ея уж нет!
Она, вся в горе утопая,
Давно оставила сей свет“…
в голосе певца послышались искренние слезы, a последняя фраза подчеркнута была глухим драматическим рыданием, заставившим примолкнуть соседей ближайших столиков.
Голос Чижика, как он сам о нем выражался, был „жертвой алкогольного гипнотизма”, но фразировал он отлично, с тонким чутьем и опытностью настоящего артиста.
Тем не менее, при расчете, Афонька, „пожелавший стать на точку общественной справедливости”, усмотрел в полученном гонораре некоторые черты „московского мошенничества”, так как, с одной стороны, артист уклонился спеть романс „с прогрессивным настроением”, а с другой — один „самый индиферентный романс” поставил в счет будто „со слезой”. Но мне стало жаль „жертвы алкогольного гипнотизма” и я накинул ему полтинник. Шура Чижик молча взял полтинник и неверной стопой направился к соседней куще.
Афонька продолжал волноваться.
— Выражаю протест против вашего дивиденда! Если артист уклоняется от романса с прогрессивным настроением — выходит, что он существует без всякого гражданского мужества!…
…. Я напомнил компании, что уже шестой час и что до Москвы путь не особенно близкий.
И. Щеглов
Из жизни московского купечества. А. Чехов
Лаптевы в Москве вели оптовую торговлю галантерейным товаром: бахрамой, тесьмой, аграмантом, вязальною бумагой, пуговицами и проч. Валовая выручка достигала двух миллионов в год; каков же был чистый доход, никто не знал, кроме старика. Сыновья и приказчики определяли этот доход приблизительно в триста тысяч и говорили, что он был бы тысяч на сто больше, если бы старик „не раскидывался”, то есть не отпускал в кредит без разбору; за последние десять лет одних безнадежных векселей набралось почти на миллион, и старший приказчик, когда заходила речь об этом, хитро подмигивал глазом и говорил слова, значение которых было не для всех ясно:
— Психологическое последствие века.
Главные торговые операции производились в городских рядах, в помещении, которое называлось амбаром. Вход в амбар был со двора, где всегда было сумрачно, пахло рогожами и стучали копытами по асфальту ломовые лошади. Дверь, очень скромная на вид, обитая железом, вела со двора в комнату с побуревшими от сырости, исписанными углем стенами и освещенную узким окном с железною решеткой, затем налево была другая комната, побольше и почище, с чугунною печью и двумя столами, но тоже с острожным окном: это — контора, и уж отсюда узкая каменная лестница вела во второй этаж, где находилось главное помещение. Это была довольно большая комната, но, благодаря постоянным сумеркам, низкому потолку и тесноте от ящиков, тюков и снующих людей, она производила на свежего человека такое же невзрачное впечатление, как обе нижние. На верху и также в конторе на полках лежал товар в кипах, пачках и бумажных коробках, в расположении его не было видно ни порядка, ни красоты, и если бы там и сям из бумажных свертков сквозь дыры не выглядывали то пунцовые нити, то кисть, то конец бахромы, то сразу нельзя было бы догадаться, чем здесь торгуют. И при взгляде на эти помятые бумажные свертки и коробки не верилось, что на таких пустяках выручают миллионы и что тут в амбаре каждый день бывают заняты делом пятьдесят человек, не считая покупателей.
Старший приказчик, высокий мужчина лет 50, с темною бородой, в очках и с карандашом за ухом, обыкновенно выражал свои мысли неясно, отдаленными намеками, и по его хитрой улыбке видно было при этом, что своим словам он придавал какой-то особенный, тонкий смысл. Свою речь он любил затемнять книжными словами, которые он понимал по-своему, да и многие обыкновенные слова часто употреблял он не в том значении, какое они имеют. Например, слово „кроме”. Когда он выражал категорически какую-нибудь мысль и не хотел, чтоб ему противоречили, то протягивал вперед правую руку и произносил:
— Кроме!
И удивительнее всего было то, что его отлично понимали остальные приказчики и покупатели. Звали его Иван Васильевич Початкин.
Другим важным лицом в амбаре был приказчик Макичев, полный, солидный блондин с лысиной во все темя и бакенами.
Все приказчики были одеты по моде и имели вид вполне порядочных, воспитанных людей. Говорили они на о, г произносили как латинское g; оттого, что почти через каждые два слова они употребляли с, их поздравления, произносимые скороговоркой, например, фраза: „желаю вам-с всего хорошего-с“ слышалась так, будто кто хлыстом бил по воздуху — „жвыссс“.
Служащим жилось у Лаптевых очень плохо и об этом давно уже говорили все ряды. Хуже всего было то, что по отношению к ним старик Федор Степаныч держался какой-то азиатской политики. Так, никому не было известно, сколько жалованья получали его любимцы Початкин и Макичев; получали они по три тысячи в год вместе в наградными, не больше, он же делал вид, что платит им по семи; наградные выдавались каждый год всем приказчикам, но тайно, так что получивший мало должен был из самолюбия говорить, что получил много; ни один мальчик не знал, когда его произведут в приказчики; ни один служащий не знал, доволен им хозяин или нет. Ничто не запрещалось приказчикам прямо, и потому они не знали, что дозволяется и что — нет. Им не запрещалось жениться, но они не женились, боясь не угодить своею женитьбой хозяину и потерять место. Им позволялось иметь знакомых и бывать в гостях, но в девять часов вечера уже запирались ворота и каждое утро хозяин подозрительно оглядывал всех служащих и испытывал, не пахнет ли от кого водкой: „А ну-ка, дыхни!“
Каждый праздник служащие обязаны были ходить к ранней обедне и становиться в церкви так, чтобы их всех видел хозяин. Посты строго соблюдались. В торжественные дни, например, в именины хозяина или членов его семьи, приказчики должны были по подписке подносить сладкий пирог от Флея или альбом. Жили они в нижнем этаже дома на Пятницкой и во флигеле, помещаясь по трое и четверо в одной комнате, и за обедом ели из общей миски, хотя перед каждым из них стояла тарелка. Если кто из хозяев входил к ним во время обеда, то все они вставали.
Голос хозяина гудел непрерывно. От нечего делать, старик наставлял покупателя, как надо жить и как вести свои дела, и при этом все ставил в пример самого себя. Старик обожал себя; из его слов всегда выходило так, что свою покойную жену и ее родню он осчастливил, детей наградил, приказчиков и служащих облагодетельствовал и всю улицу и всех знакомых заставил за себя вечно Бога молить; что он ни делал, все это было очень хорошо, а если у людей плохо идут дела, то потому только, что они не хотят посоветоваться с ним; без его совета не может удаться никакое дело. В церкви он всегда становился впереди всех и даже делал замечания священникам, когда они, по его мнению, не так служили, и думал, что это угодно Богу, так как Бог его любит.
К двум часам в амбаре все уже были заняты делом, кроме старика, который продолжал гудеть.
— Твердо, веди, аз! — слышалось со всех сторон (буквами в амбаре означались цены и номера товаров). — Рцы, иже, твердо!
А. Чехов
Пасхальная ночь в Москве. Р. С.
I.
Пасхальная ночь собирает в Кремль сотни тысяч народа.
В огнях все Замоскворечье, и легкий, как дымка, красноватый отблеск смутно вырисовывает белые стены кремлевских соборов. Незримая рука зажигает огоньки на Иване Великом. Под Успенским благовестником на решетке загорается крест из белых лампионов.
Затихают разговоры. Реже слышен смех. Зажжены все пасхальные огни. Богомольцы вынимают припасенные свечи.
Ждут. Скоро ударят на Иване, и по второму зову загудят все сорок-сороков. И нарастает чувство напряженного ожидания…
— Ударили, кажется, где-то… Далеко.
Прислушиваются:
— Нет… Все тихо…
И снова ждут. Снова вслушиваются в смутный ропот многотысячной толпы.
Бродят и шатаются по белым стенам соборным запутанные, неясные тени от пасхальных огней. Розовеют внизу, у огней, грани Ивановского столпа. И чем-то сказочным веет от этой картины.
— Сейчас ударят!.
— Нет, еще без десяти минут.
На Ивановской колокольне перебегают огоньки —готовятся к благовесту.
Одна из священнейших московских традиций:
Первый удар в святую ночь раздается с Ивана Великого.
Он возвещает Москве радостную весть.
От него узнают колокольни, что миг настал.
Это было установлено строгим приказом Филарета.
— Звонить в церквах по второму удару с Ивана Великого.
Вся Москва слышала первый „бархатный” удар праздничного колокола.
За несоблюдение полагалось строгое взыскание.
Когда-то „первый удар Ивана Великого” продавался звонарями с аукциона.
На Ивановской колокольне собирались „усердные любители” из честолюбивого купечества.
И торговались:
— На первый удар.
Цена доходила до 1.000 рублей. Никогда не падала ниже двухсот.
Деньги шли в пользу звонарей.
„Любитель” брался за один из четырех „хвостов” каната.
И ударял „первый удар”.
Начинал в Москве пасхальный благовест.
Целый год он был героем среди своего круга:
— Первый в этом году зазвонил во всей Москве!
II.
Отсюда на Ивановской колокольне еще тихо.
Вид волшебный.
Бенгальские огни кровавым светом озаряют белые строгие стены старых соборов. И отблески огней дрожат и пляшут внизу, в зеркале реки.
Замоскворечье залито огнями.
Куда ни погляди, — небо в разноцветных огнях. Бороздят его ракеты, взлетают римские свечи.
А внизу сплошное море голов. Шевелится, движется, течет.
Внизу громко говорят, кричат, стон, гул, — а сюда все это доносится только как непрерывный шорох толпы.
Близится полночь.
У колоколов приступают „к работе”.
Армия ивановских звонарей выстроилась по местам.
У большого колокола, — на своем посту староста звонарей.
Старик, с золотой медалью на шее, медалями на груди, в красном кафтане с позументами, в муаровом красном поясе.
Четыре человека берутся за четыре конца длинного каната, обмотанного вокруг „языка”, и ритмически ведут „язык” слева направо.
Язык раскачивается сильнее, сильнее, с тяжелым свистом носится по воздуху.
Скрипят железные тяжи, на которых подвешен колокол-громада в 6,000 пудов.
Вот от Успенского собора махнули фонарем.
— С Богом!
Звонари открыли рот. Звонят здесь с открытым ртом. Иначе оглохнешь.
Четверо звонарей отбежали с канатом, и язык ударил в колокол.
Задрожала вся колокольня. В громовом раскате потонуло все. Резко засвистали воздушные волны.
Колокол висит аршина на полтора от пола, весь звук несется книзу и, отраженный каменным полом, волнами летит по воздуху.
Пол трясется под ногами.
Из соборов потекли золотые реки огней и парчи. Широкими лентами опоясывают храмы.
Вероятно, поют „Христос воскресе”. Здесь не слышно ничего.
— Хрис-тос вос-кре-се! — кричит мне кто-то в ухо.
Оборачиваюсь: улыбающийся старик — „кардинал“.
Он снова кричит мне в ухо по складам:
— Трид-цать чет-вер-тую Пас-ху здесь встреча-ю!
Крестные ходы ушли в храмы.
Звон на минуту прекращается.
— Уходите с колокольни! — советуют мне, — сейчас ударим во все колокола!
Замечательно, что все ивановские колокола, несмотря на разницу в весе и времени отливки, всегда составляли один аккорд, и всегда звучали в один, „серебряный”, тон. В этом „несравненная красота ивановского звона”.
— Уходите! Уходите!
Сейчас ударят во все 15 колоколов.
По витой темной лестнице, путаясь в переходах, по каменным „мешкам” бегу вниз.
И вдруг все вновь дрогнуло.
— Второй звон.
Загудел Большой.
Малиновым стоном пронесся „шестерик” — удар в шесть небольших колоколов сразу.
Пропели „корсунские” колокола.
В „сплох”, вместе, снова ударили Большой, Успенский, Воскресный и Реут.
Если б человека, попавшего в первый раз, спросить:
— Что это?
Он никогда бы не сказал, что это:
— Колокольный звон.
Это рев.
Словно ревет земля.
Такую симфонию мог создать один Бетховен — народ.
И на этом страшном фоне веселится, радуется, играет перезвон ближайших колоколен.
Перед нами внизу играет такой оркестр, как Москва, такую симфонию, как пасхальная ночь.
Ночь светлого и страшного чуда.
И огоньки ее горят, словно огоньки перед мириадами пультов невидимых великих музыкантов.
Звездами трепетала земля.
И ожило небо.
Все небо над Москвой полно взлетающими и падающими разноцветными звездами.
Какая волшебная ночь!
Р. С.
Дитё. И. Щеглов
В узеньком переулке, на Ильинке, перед убогой часовенкой галдит толпа народа.
Подходит молодой мастеровой.
— Что у вас тут за обструкция? О чем идет провокация?
— Нет никакой провокации, а обнакновенная бабья подлость: неузаконенное дитё в монастырское углубление подкинули!
Действительно, в монастырской нише, рядом с часовенкой, сидит, испуганно съежившись, годовалый младенец, в одной рубашонке, с моченым яблоком в красных ручонках.
— Дитё, известно, не причинно в своем существе, а только все же не порядок…
— Уж какой это порядок, если женский пол станет по городу свои любовные фантазии раскидывать!
— Ну, и нравы нонче пошли по Москве — самые, можно сказать, пренебрежительные… Теперь возьмите, у нас на Плющихе, модное заведение существует; так что вы думаете, ихняя мастерица…
— А вы бы, мадам, с вашими бабьими секретами потише — никак городовой идет сюда…
В народный разговор вмешивается мужчина интеллигентного вида, в синих очках, по-видимому, педагог.
— Это же с какой такой стати… городовой?
— Очень просто, чтобы, значит, предоставить заброшенное дитё в полицейский участок.
— Но, позвольте, это возмутительно? Какое же такое может быть воспитание для малолетнего в участке?
— Самое, можно сказать, музыкальное. Небось, знаете казенную песенку: „Караул?” Вот ее там кажду ночь спевают, чтобы народ часом не заскучал…
— Эй, вы, кто тут мутит публику? Где главный бунтарь??
Городовой проталкивается к нише, видит младенца и в недоумении дергает его за рукав. Тот, при виде усатого городового, не выпуская из рук моченого яблока, принимается пронзительно реветь.
— Во-о, как залился, ровно на живодерню потянули!
— Поди ж ты, ведь, совсем малое дитё, а уже чувствует насчет участка…
Около толпы останавливается проходящий военный, бравый полковник, сурового вида.
— Что тут за шум? Опять бомбу подбросили?
— Оно точно что подбросили, а только совсем в другом составе…
— А кто же это тут кричит?
— А это оно самое, ненатуральное дитё — плачет об своей участи!
— В центре города… и вдруг такое безобразие! Где городовой?
— Здесь, ваше скородие…
— Разве не видишь — плачет ребенок?
— Так точно, ваше скородие… А только как они сейчас без материнской груди, им никак невозможно, чтоб не убиваться!
— Черт знает что это такое! A где же она… преступная мать?
В толпе легкое гоготание.
Из трактира напротив выкатывается толстая раскрасневшаяся баба в съехавшем на затылок пестром платке и задорным, обидчивым голосом кричит:
Дитё мое — самое документальное: от цехового маляра Ивана Авдеевича!!.
— Зачем же в таком случае вы предоставили вашего ребенка капризу судьбы? — наставительно замечает педагог.
— Никаких капризов тут не бывало, а просто я в трактир подалась квасу испить, а мово дитенка покелева под Божие благословение подсадила. А тут вона какое происшествие устроили! Ты чего мое дитё за рукав трясешь? — набросилась она на городового. — Думаешь, я простая баба, так надо мной можно всякие издевательства творить? Да я за моего дитенка не только твою поганую морду разукрашу — двум околоточным горло перерву!
В толпе смех, городовой немного отступает.
— Позвольте, однако, за такое ваше направление я сейчас могу околоточного позвать…
— Свисти, не боюсь я твоего околоточного! А ежели что, так я завсегда через генеральшу Шлинбах к самому градоначальнику управу найду… Наплевать мне на твоего околоточного! Тьфу!! — Баба схватила своего дитенка в охапку, дала ему здоровенного шлепка и благополучно скрылась обратно в трактир.
Городовой презрительно пожимает плечами и просит публику расходиться.
И. Щеглов
Москва (Штрихи из студенческих воспоминаний). С. Пинус
Посвящается Владимиру Павловичу Троицкому
Кто провел свои студенческие годы в Москве, тот навсегда — москвич. Любовь к Москве — характерная черта всех, поживших в Москве достаточно времени, чтобы чувствовать в ней себя, как дома. Поразило, помню, меня своей верностью замечание одного несимпатичного мне публициста, что многие иностранцы влюблялись в Москву, как в женщину. Любовь к женщине не всегда счастье, часто и горе; лучше сказать, — любовь к женщине всегда счастье, несмотря ни на какое горе. И я вспоминаю Максима Грека. Призвал его, европейски образованного человека, великий князь Московский для разбора библиотеки; потом на него, не знавшего ни русского, ни церковно-славянского языка, возложили обязанность перевести некоторые богослужебные книги, — понаделал он ошибок. Чуя недоброе, просился он домой, — не пустили. И тут с ним, с человеком, которого потянуло в свою афонскую библиотеку, в общество образованных людей, на свободу, делается что-то непонятное. Вместо того, чтобы смириться, выжидать удобного случая, вести тонкую политику (ума-то у него хватило бы на это), хотя бы в пользу порабощенных греков, он упрямится, спорит, доказывает (кому?!), якшается с либералами и опальными, обостряет свои отношения с князем в вопросе о разводе его с супругой, прет против рожна, идет на верную гибель…
Уже захватила эта таинственная болезнь, — любовь к Москве. И Максим, с пристрастием судимый и неправо осужденный, сосланный, заточенный, до полусмерти не раз избитый, усваивает церковный русский язык, и все пишет, все учит, все обличает, до самой смерти, все долгие годы своего пожизненного заключения. В глубокой старости в Троице-Сергиевской Лавре имел с ним свидание сын его тюремщика, Иоанн Грозный, и мучитель и мученик с глазу на глаз вели там тайную беседу… Я не знаю, есть ли даже во всемирной истории другой пример такого служения, такой любви… В ту еще пору до зарезу нужен был власти сведущий, университетский человек…
Образованные люди нужны России; говорят они, и пишут, и действуют не так, как хотелось бы тем, кто дает образование: и их ссылают, заточают, бьют. Но любовь все превозмогает… О, преподобный Максим!
Глубокий провинциализм — вот отличительная черта такой столицы, как Москва, а может быть и такой страны, как Россия. Провинциализм, это — верность старине, это — деревня[25], своеобычность, неторопливость, это — тяжеловесность: она хороша, как устойчивость, но она же и косность… Что-то вроде трясин в „Лесах” Мельникова-Печерского, в роде этих „мшав” с незабудками, этих болот, этих „чарус”, где попадаются „окна” чистой воды невероятной глубины и прозрачности…
Сумрачные, пыльные коридоры Московского университета, совершенно темные раздевальни, где горят среди белого дня кухонные лампы, комната для курения, до того маленькая и грязная, что в нее гадко, даже страшно войти, аудитории с низкими сводами, напоминающие застенки, жалкий бюст Ломоносова… Во всей обстановке филологического факультета была какая-то средневековая бедность и мрачность[26]. Но среди этого варварства сияли профессора, у которых головы, как у Егория, были поистине „жемчужные”. Восхитительный стилист, настоящий лев по наружности, Алексей Веселовский, столь доступный, пленительно доброжелательный, заинтересовывавший и интересовавшийся каждым проявлением самостоятельности, говоривший, как писал и пишет, строя сложную архитектуру своих блестящих периодов… И рядом с ним, в деле изучения европейской словесности стоял такой провинциал по речи, по манерам, по всему духовному и писательскому облику, как Стороженко. Блестящий, строгий, невероятно сведущий и страшно деятельный Всеволод Миллер, и рядом драгоценный, но до пределов скромный, бледный и добрый Кирпичников или окающий мужичок Соколов, муравей, копун, быстрым говорком струящий факты, факты, факты, как ручеек, вытекающий из огромного бассейна. Европейски импозантный, невозмутимый, нарядный Виноградов; поминутно вспыхивающий и сдерживающий себя, капризный, как женщина, всегда страшно интересный, и устрашающе-требовательный Герье; но рядом некрасивый, хлесткий, желчный, столь талантливый Иванов — историк, Фортунатов — языковед, непроницаемый сфинкс, с неслышной речью и с неслышащими ушами, и похожий на старьевщика, любимец аудитории, другой Фортунатов, историк. Сжегший себя на непосильном труде поденщика, великолепный, мятежный Грот; также сгоревший, в своей меблированной комнате, Корелин; великий мыслитель, незабвенный автор „Метафизики” и „Логоса”, страстный, нервный С. Трубецкой; „простой” углубленный Лопатин. Вспоминается смешно-торжественный Зубков с лицом алкоголика, насквозь оригинальный и живой Брандту — словист, и многие, многие другие. Но почти на каждого „европейца” приходится один „провинциал”, и два из них особенно значительны: Ключевский, смиренный, тихий и добрый, но с хитрой, вкрадчивой, неотразимой насмешливостью, и Троицкий: на губах этого „тишайшего” из философов, автора удивительного курса логики, вечно расплывалась благожелательнейшая, a после паралича скорбно-благоволящая улыбка; при светло-холодных глазах загадочна была эта улыбка; они как будто говорили, что его уже затянула „чаруса” провинциализма, что он навсегда попал во „окно”, что за тысячу верст от Декартов, Кантов и Миллей, открылись ему какие-то последние глубины, при созерцании которых уста уже не говорят, а только улыбаются, и не то это улыбка тайных постижений, не то всеотречения и всепрощения, не то безграничного скептицизма, породившего и безграничную доброту.
Татьянин день, лучше сказать, Татьянина ночь, с ее безобразным разгулом, с задушевнейшим, простым весельем и милыми речами, — ведь это то „бесовское пение, скакание и гудение”, с которым тщетно боролась церковь и борется европейская наука, ведь это то бытовое двоеверие, которое так характерно для провинциализма, — так же, как и обычный костюм московского студента: расстегнутый форменный сюртук, а под ним цветная косоворотка навыпуск.
Важней университета для меня лично была Румянцевская библиотека с музеем. Это великолепное заморское здание, эта тишина книгохранилищ! Как восхищала эта возможность достать для прочтения все, что хочешь (почти)! Рядом сидит странный старик над фолиантами в пергаментных переплетах; там — барышня делает выписки; поодаль гимназист переводит Тита Ливия с подстрочником. Мне приходилось получать французские книги с выцветшей надписью: „Из библиотеки гр. Виельгорского”, и мне казалось, что я вступаю в личные сношения с Московскими кружками 30-х, 40-х годов… Но при этом культурном богатстве какая некультурность! Какое запустение, нерадение, даже варварство! Книги вносят в читальный зал сторожа, изнемогая под их тяжестью, на руках, как кирпичи на постройке; множество книг и журналов остаются без переплетов; контроль над посетителями слаб, — листы, страницы, целые статьи незаметно вырезываются читателями.
Вместо трех, не более, книг, полагающихся по уставу выдачи, можно было получать хоть десять, — чисто московская благодушная, щедрая любезность, далекая от „европейской” неуклонности и точности. Книги, сданные посетителями, сваливались в особой комнате в огромную кучу, и потом уже разбирались и ставились на место… Каталогов для публики почти не было. Читальный зал был настолько мал, что студенты, ученые, курсистки порой теснились на окнах, в проходах, даже читали стоя. Не находилось средств[27] у Москвы ни на переплеты всех книг, ни на составление каталогов, ни на покупку распродаваемых ценных библиотек, ни на расширение читальной залы, — не было достаточных средств на рациональное упорядочение этого огромного дела, a хотелось удовлетворить всех и во всем, — и вот получалось что-то в роде Тургеневского: „А мы ее и не соленую!. ”
Среди этого драгоценного хаоса жил и царил один из оригинальнейших мыслителей-самородков, друг Толстого и В. Соловьева, автор глубоких философских исканий в направлении „всеобщего воскресения”, известный теперь Федоров. Его библиографическая память и книжная осведомленность была огромна. Однажды мне понадобился какой-то сборник народных песен; в библиотеке его не нашлось, но мне нашли (каким образом!) и выдали книжку старого журнала, где был помещен подробный разбор нужного мне сборника. Захотел ли бы, если бы и мог, сделать это какой бы то ни было библиотекарь Европы?
В Румянцевском музее, среди пыли, хлама и всякой чепухи, находится драгоценная реликвия — маска, снятая с головы умершего Пушкина. О бесконечно милом лице великого поэта этот слепок дает большее понять, чем все его портреты, вместе взятые!.. „Черт меня дернул родиться в России!”, как-то сказал Пушкин. И как он любил эту Россию, и Москву…
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен…
Какой вздох нежности к своей колыбели!.. Абиссинский профиль, эта улыбка толстых милых губ, полураскрытых в смертном страдании, — незабываемы… Очевидно, от изучения этой маски шел Репин в своем понимании Пушкина.
В Румянцевской галерее хранится знаменитая картина „Явление Христа народу”, на которую Иванов положил свою жизнь.
Дух искания, обращающий жизнь лучших русских художников в нравственный подвиг, всего полнее представлен, конечно, в „Третьяковской галерее”. Здесь собраны тот же Иванов, Крамской, Репин, Ге, Врубель… Изучение этих зал было одним из важнейших и утомительнейших занятий в мои студенческие годы: такое разнообразие на таком малом пространстве быстро истощает силу внимания. Как бы для возможности сравнения одна комната в Третьяковской галерее посвящена иностранной живописи. Поражает блеск исполнения, живописность, как таковая, „искусство”, невероятная техника, виртуозность, до которой навсегда далеко русскому художеству. Зато в „русских” залах привлекает другое, — идеализм и бытовое богатство: в группе упомянутых мастеров поражает глубина задач и трудность их воплощения; вторую группу составляют „бытописатели”, „передвижники”, недаром отколовшиеся от петербургской Академии и лучше всего, кажется, представленные в Москве. Историческая живопись Сурикова, церковная —Васнецова, монашеская — Нестерова являются, конечно, порождением чисто московского духа… И все это богатство ютится Бог знает где, в одном из переулков Замоскворечья, среди теснин невысоких зданий, и не мудрено, что существуют опасения, как бы драгоценное масло этой живописи не улетучилось однажды в огне пожара.
Музыкальные вечера большею частью происходили в залах Дворянского собрания. Последние репетиции симфонических концертов Сафонова студенты могли посещать бесплатно. Эти репетиции, на которых каждая музыкальная пьеса расчленялась, исполнялась сначала по частям и наконец в целом виде, были незаменимой школой для постижения музыкального творчества. Вспоминаются отдельные виртуозы, пианисты, скрипачи, виолончелисты: многосторонний, в то время изумительный, Гофман, которого впервые прославила, кажется, Москва, бриллиантовый Д’Алебер, тончайший Падеревский, романтик Рейзекауэр, грубо сильный Ламонд, блестящий Сапельников, Зилоти, Ондричек, Сарасатэ, Брандуков, Жирарди, многие, многие другие. Незабвенны скромные исторические концерты Шора.
Архитектурная[28] Москва заключается в нескольких великолепных старинных зданиях, во многих новых домах, среди обычности вдруг выделяющихся каким-нибудь необыкновенным стилем, в храмах и, главным образом, в Кремле. Около Кремля вечно привлекает внимание церковь Василия Блаженного странной пестротой раскраски, причудливой сложностью, множеством глав, духом нерушимой старины… Мощно-красные, хмуро-серые, женственно-белые угловые башни и колокольни Кремля, сплошная кладка вековых стен, поросших мхом, темные, гулкие и узкие проходы с исполинскими дверями, резные крыльца и лестницы, зеленые или сияющие кровли, золотые купола, набережная Москвы-реки с мостами, дерн и камень, дорожки, перила, спуски, — какая поразительная смесь старой защиты, старого художества, старого благочестия и державства! Раньше всего успокаивается это затишное место Москвы, и вечером странно слушать отсюда глухой шум залитой огнями столицы.
В пасхальную ночь спешишь к белому Храму Христа Спасителя. Гром выстрела, ракета взвивается, первый удар колокола с Ивана Великого потрясает весенний воздух; а церкви, паперти, площади полны серым московским людом, и теплются и плачут бесчисленные тонкие свечи.
По воскресеньям идешь на Сухаревку (площадь около Сухаревой башни), где с утра толпятся густые массы народа, — покупают и продают. Здесь можно за бесценок приобрести все, что угодно, — от туфель до теплескопа. Торговля старыми книгами манит возможностью найти нужное или редкое сочинение. У этих букинистов, в этом хламе, Погодины, Строевы, Тихонравы „купили” древнюю русскую литературу, значительную ее часть. Старинные рукописи, книги, с интересными автографами, библиографические редкости — и теперь не редкость на этих лотках.
Москва двенадцатого года связана в нашем сознании не только с Бородинским полем и Кутузовым, но и с тем, кто жил в барском доме в Хамовническом переулке… Я имел случай познакомиться со Львом Толстым, но каждый раз со страхом отходил от этой возможности. То, что рассказал мне однажды один мой знакомый, вполне оправдало мое отречение. Он, только что кончивший студент (покойный отец его был когда-то близко знаком со Львом Николаевичем), отправился к Толстому „разрешать вопросы”; разговор был покончен в четверть часа и носил характер допроса: узнав, что „ищущий” не пьет, не курит, не имеет любовницы и знает английский язык, Толстой сразу с раздражительной настоятельностью предложил ему чуть ли не на другой же день сопровождать в Америку духоборов. На нерешительный ответ он извинился и прервал беседу… Толстой требовал дела и хорошо знал цену людей с вопросами… Я видел Толстого три раза, и эти мимолетные встречи на улице вполне вознаградили меня за мою заочную любовь к нему. В какой-то неслучайной последовательности увидал я тройной облик великого писателя, и последний его лик особенно врезался в мою память. Проходя по Арбату и ведя на цепочке очень хорошего сеттера, я вдруг увидел Льва Николаевича; в круглой шапочке, хорошо одетый, шел в развалку коренастый старик с широкой седой бородой, с нависшими бровями и с поразившей меня внимательностью, с улыбкой удовольствия все время всматривался в собаку: очевидно, он сразу оценил ее (собака была куплена на выставке за 300 руб.). Это прошел Толстой-помещик, Толстой-охотник, Толстой-хозяин. Второй раз я встретил его на Остоженке, в морозный зимний день; с красным, обветренным, хмурым лицом, с сосульками на усах, в больших простых сапогах, твердо опираясь на палку, поравнялся он со мной, на минуту блеснул на меня белый огонь его серебряных глаз… Это был Толстой опростившийся, Толстой-крестьянин, Толстой-работник. Никогда не забуду третьей встречи. Стояло время экзаменов, весна; всю ночь провел я у коллеги и, отложив лекции, мы читали „Записки Охотника”, восхищались до боли картинами утр, вечеров, лесов и лугов, говорили о беспечально-безрадостном Шуберте, о Пушкине, о том, что значат слова: „и путь у гробового входа”… Наступило утро. Идя домой по малолюдной еще улице, вдоль Цветного бульвара, увидел я знакомую фигуру, направлявшуюся мне навстречу. Толстой шел необыкновенно быстро, почти бежал, мелкими, легкими шагами, в коротком коричневом пальтишке, в коротких брюках, постукивая о камень тонкой палочкой; лицо явно поднято вверх, глаза, светлые с голубизной, устремлены на безоблачное утреннее небо. Он не заметил меня, я посторонился от пронесшейся Божьей силы… Я понял счастье быть таким. Это был Толстой проповедник, апостол; это он уходил, убегал… из Москвы, из быта… Через минуту старик далеко уже пересекал улицу, и ветер метнул в сторону его белую бороду. Я бросился за ним… и остановился.
Вспоминается одно особенное удачно земляческое собрание. Был опальный профессор; играл на рояле будущий известный пианист; много говорил другой студент, теперь ученый с именем; читал из Некрасова известный публицист. Чай, гул голосов, потные мужские и женские лица. Почти посередине комнаты сидел грузный пожилой господин и с какой-то страшно напряженной думой на лице, с опущенными грозными глазами молчал и слушал; он был в самой гуще и совершенно один. Имя его было известно немногим. Он вслушивался в судьбы России, в будущность молодежи, и в свое прошлое…
Прошли годы студенчества, потянулись Wanderjahre, скитания, ошибки, блуждания, росла жажда возвратиться к чему-то потерянному…
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе…
Сергей Пинус
Февраль, 1914 г.
[1] Вот он, наконец, этот знаменитый азиатский город с своими бесчисленными церквами, священная Москва! Давно пора!
[2] Город, занятый неприятелем, подобен девушке, потерявшей невинность.
[3] Но мое милосердие всегда готово снизойти к побежденным.
[4] Пусть приведут ко мне бояр.
[5] Дни собраний во дворце царей.
[6] Моей милой, нежной, бедной матери.
[7] Заведение, посвященное моей матери. — Нет, просто: Дом моей матери.
[8] Смешным.
[9] А все-таки надо ему сказать.
[10] Но это невозможно…
[11] Москва пуста! Какое невероятное событие.
[12] Не удалась развязка театрального представления.
[13] Пли!
[14] Уберите это.
[15] Эти несчастные захватили священную крепость, овладели ружьями арсенала и стреляли по французам. Некоторых из них порубили саблями и очистили Кремль от их присутствия.
[16] Дикому патриотизму Растопчина.
[17] Привести назад попов.
[18] Возвышая употребление этих мер действием, достойным его и французской армии, он приказал раздать пособия погоревшим. Но так как съестные припасы были слишком дороги для того, чтобы давать их людям чужой земли и по большей части враждебно расположенным, Наполеон счел лучшим дать им денег, чтобы они добывали себе продовольствие на стороне; и он приказал оделять их бумажными рублями.
[19] Гений его никогда не изобретал ничего более глубокого, более искусного и более удивительного.
[20] Священник, которого я нашел и пригласил начать служить обедни, вычистил и запер церковь. В ту же ночь пришли опять ломать двери и замки, рвать книги и производить другие беспорядки.
[21] Часть моего округа продолжает подвергаться грабежу солдат 3-го корпуса, которые не довольствуются тем, что отнимают скудное достояние несчастных жителей, попрятавшихся в подвалы, но еще и с жестокостью бьют их саблями, как я сам много раз видел.
[22] Ничего нового, только, что солдаты позволяют себе грабить и воровать, 9-го октября.
Воровство и грабеж продолжаются. Существует шайка воров в нашем уезде, которую надо будет остановить сильными отрядами, 11-го октября.
[23] Обер-церемониймейстер дворца сильно жалуется на то, что, несмотря на все запрещения, солдаты продолжают ходить на час во всех дворах и даже под окнами императора.
[24] Речь произнесена 26 апреля 1909 г. на торжественном заседании совета московского университета.
[25] Пушкин намекнул на эту черту, поставив эпиграфом к своему „Евгению Онегину“ слова: О Русь! О rus! (О Русь! О деревня!).
[26] Мои воспоминания относятся к 90-м годам.
[27] И до сих пор, кажется, не находится. По временам Румянцевская библиотека обращается к обществу с настоящими воплями о помощи.
[28]Скульптуры в Москве было мало. Теперь — музей Александра III.
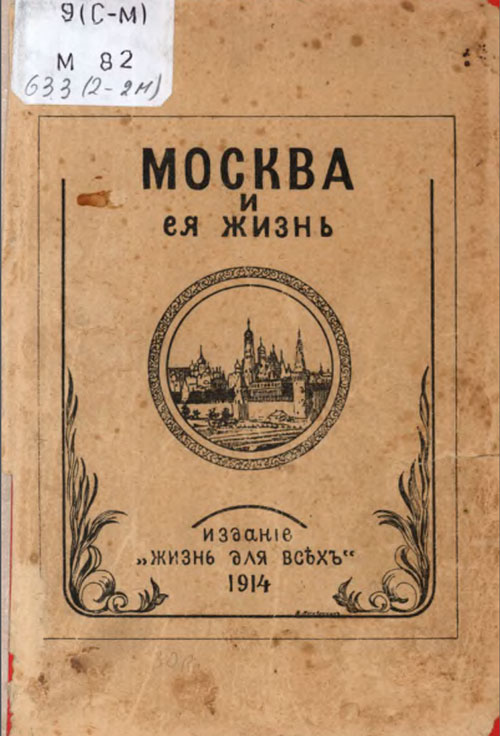


Комментировать