- «Для убеления к последнему времени...» (Дан.11:35)
- Светильник благочестия (из предисловия к первому изданию)
- «В глубине сердца, любящего Христа...»
- От автора
- По материалам следственного дела № 16527
- Часть I. 1937 год — дело церковников
- Часть II. 1954 год — дело следователей
- Детство и юные годы отца Григория
- Спас Нерукотворный
- Он и она
- Он
- Она
- Голгофа. Годы заточения... Драматические истории из жизни отца Григория на Севере
- «Вера твоя спасла тебя...» (Мк.10:52)
- В шахте
- «Живый в помощи Вышнего»... Витек
- «У Меня отмщение, Я воздам...» (Евр.10:30). Гроза в бараке
- В бараке смертников
- Малиновая поляна
- Таежные дары
- Отец Алексий
- Встреча
- Отец Григорий
- «Силою Честнаго и Животворящего Креста Твоего...»
- Два пастыря
- Паломничество
- Хортица
- В Нижнем Новгороде
- В Кургане
- Молитва только на нынешний день
- Молитва, читаемая вечером
- Молитва Святому Духу
- «Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной...» (Об отношении отца Григория к природе)
- «Кто Творец мира: Бог или природа?»
- Энциклопедический словарь Флорентия Павленко
- Праздник Николы «зимнего»
- «Коленька нашелся...»
- «Услышал Господь моление мое...» (Пс.6)
- Из воспоминаний духовных чад отца Григория
- «Гонимы, но не оставлены...»
- Матушка Нина
- Немного о семье...
- Первые уроки
- «На Пихтовке»
- Снова в Нижнем Тагиле
- Под покровом святителя Николая
- «Верь, мы обязательно встретимся и будем жить долго-долго…»
- «На руках вóзьмут тя...» (Пс. 90)
- Трудный выбор
- Пятно
- «Жена добродетельная»
- Корни наши — опора наша
- О семье Пономаревых
- О семье Увицких
- Эвакуация в Иркутск. Вилы нечистого...
- Тифозная шуба
- Вишерский ГУЛАГ и Беломорканал
- Царский Крест
- Тени прошлого из дома Ипатьева
- История Царского Креста
- «…Утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам…» (Лк.10:21)
- Молитва Царскому Кресту-мощевику
- Отец Григорий — богослов-апологет, исследователь в области литературы, искусства и науки
- Годы учебы отца Григория в Санкт-Петербургской Духовной Академии
- Работа батюшки в публичной библиотеке Санкт-Петербурга
- «За веру против неверия». Веруют ли ученые?
- Праведный Иоанн Кронштадтский и праведный Григорий Пономарев
- Отец Григорий — о религиозных воззрениях Пушкина
- Критика отцом Григорием учения Дарвина «О происхождении видов»
- Последние годы
- Годы скитаний
- Операция
- Опасный визит
- Нападение цыган
- Наводнение. Островок спасения
- Трагедия на трассе
- И вновь испытание
- Пасхальная ночь
- «Продлить еще на 40 уст...»
- На пороге в жизнь иную...
- Эпилог
- Воспоминания об отце Григории и матушке Нине
Голгофа. Годы заточения… Драматические истории из жизни отца Григория на Севере
Каждый человек, по мере своего восхождения ко Христу, восходит на свою Голгофу. Годы заключения отца Григория стали одной из многих ступенек его духовного возрастания. От силы к силе восходил отец Григорий к Богу и вел за собой своих духовных чад. Одна из духовных дочерей отца Григория, ныне покойная Дария, поведала через других духовных чад батюшки чудный случай, произошедший на ее глазах.
Смолино. Свято-Духовская церковь. Служится великопостная Пассия. На середине храма — Крест Господень. Отец Григорий стоит напротив распятого Господа и сосредоточенно молится. Вдруг батюшка на какое-то мгновение замирает, а затем падает на колени перед Голгофой и начинает истово креститься… Ход службы приостанавливается, молящиеся в недоумении смотрят на батюшку, который, преклонив колена, со слезами на глазах шепчет слова молитв и невыразимой благодарности Богу. Батюшка молится не по чину великопостной Пассии, а своими словами… Так, в оцепенении, проходит некоторое время. Затем отец Григорий медленно поднимается и, не смея поднять заплаканных благодарных глаз на Распятие, заканчивает службу.
Никто в храме так и не понял, что же произошло, и лишь раба Божия Дария видела, как во время службы засиял тысячами солнц Крест Гоподень, стоящий посередине храма. Голгофа Спасителя мира освятила церковь неземным, невещественным светом… Это сияние и увидел отец Григорий. Это был дар Христов — свет Божественный, изливающийся на молящихся по неизреченной любви Господа нашего Иисуса Христа ко всем людям.
«Вера твоя спасла тебя…» (Мк.10:52)
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси, и Прибежище мое Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна. Плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его…
Пс. 90-й
Ночь медленно и неохотно истаивала, уступая место серой, буранной утренней мгле, которая застилала глаза и забивала дыхание. На расстоянии вытянутой руки уже не было видно идущего впереди. Только прожекторы со сторожевых вышек зоны на миг рассекали своим лучом разбушевавшуюся стихию и беспомощно увязали в ней.
Группа заключенных шла след в след. Скорее, спина в спину, держась друг за друга. Ветер был такой, что, оторви он человека от земли, — просто понес бы, покатил по снежному полю. Конвоиры инстинктивно прижимались ближе к арестантам, чтобы не потеряться в этом снежном месиве. Конвой, по существу, тут был не нужен. Бежать отсюда некуда. На сотни километров — ни жилья, ни даже охотничьих стоянок. Разве что где-то рядом — зона, подобная этой, да одинокая поземка несущегося по болотам и полям снега. И почти непроходимые леса…
Молодой диакон Григорий, отбывающий уже четвертый год из десяти, был назначен бригадиром в группу самых трудных, злостных рецидивистов-уголовников со сроками заключения до двадцати пяти лет. Это практиковалось местным начальством: сломать, подмять под себя молодых, превратив их в фискалов и доносчиков, чтобы легче было держать в узде других — убийц и насильников, для которых «убрать» человека было пустяком, а порой некоторым развлечением. Даже охранники, имеющие власть и оружие, не хотели связываться с ними.
Группа двигалась в направлении лесной делянки, которую разрабатыватывали вот уже несколько дней. Удерживать направление мешали снежная буря и слепящий ветер. Наметки дороги, которая стала появляться за эти дни, опять исчезли в снежных переметах. Шли почти наугад к темнеющей вдали стене глухого таежного бора. Шли на пределе, выбиваясь из сил, но стараясь поскорее хоть как-то укрыться в лесу от сбивающего с ног ветра.
Отец Григорий шел первым, вроде бы по обязанности бригадира. Но на деле он, по пояс в снегу, прокладывал путь другим. Боясь спровоцировать назревающий с момента их работы на делянке конфликт, он шел, не переставая творить Иисусову молитву. Скандал должен был вот-вот разразиться… Голодные, озверелые арестанты который день с безумством фанатиков требовали от него еды, так как их дневные пайки — застывшие слизкие комки хлеба — не могли насытить даже ребенка. Он спиной чувствовал, что ему готовится какая-то расправа. Как горячо он молился в эти минуты Господу и Божией Матери! Ноги сами несли его куда-то, и, подходя к лесу, он понял, что их делянка осталась далеко в стороне. Он чувствовал, что не только час, а любой миг для него может быть последним.
Добравшись до леса и убедившись, что они забрели в сторону, зэки обступили его плотным кольцом. Ничем не отличаясь от стаи волков, они выжидали, кто кинется первый, чтобы затем включиться остальным и завершить бессмысленную кровавую драму. Им это было не впервой. И даже предлог есть: куда завел? Не насытиться, так хоть выместить накопившуюся звериную злобу. Охрана в такие минуты сразу исчезала. Положение казалось безвыходным. Но как сильна была его вера в помощь Господа!
Все, что произошло дальше, он делал оценивая события как бы со стороны…
Неожиданно для себя он непринужденно смахнул снег с поваленного ветром отдельно от других кедра и сел улыбнувшись. Стая была просто ошеломлена.
— Ну хорошо, вот вы сейчас меня убьете. И что? Хоть кто-нибудь из вас станет более сыт? Да, я — «поп», как вы меня зовете. И не скрываю, что прошу у Бога помощи. Но помощь-то нужна и всем вам. И она — у вас под ногами.
Почти у его ног, из-под вывороченного с корнями дерева, среди хвои и переплетения сломанных ветвей виднелась шкура, вернее, часть шкуры медведя. Чувствовалось, что глубже, под снегом, лежал забитый падающим стволом зверь. Вероятно, мощное и крепкое с виду дерево было больным и ослабленным, и шквальный порыв ветра вывернул его с корнем, с огромной силой бросив на берлогу спящего медведя. Внезапность оказалась для зверя роковой. Кедр упал, ломая подлесок, но основная сила удара пришлась именно по берлоге. Катастрофа, очевидно, произошла менее получаса назад, так как тело зверя было еще теплым, а его разбитая голова кровоточила.
Восторженный вой голодной человеческой «стаи» привлек и конвой. Это же было чудо — пир с медвежатиной на костре! Даже самые озлобленные арестанты от предвкушения сытной еды зачарованно смотрели на отца Григория: «Ну, поп, тебе и вправду Бог помогает».
Это ли было не чудо? По воле Господа и по горячей молитве отца Григория ноги сами привели его к этому месту. Ведь это была пища на несколько дней, если ее не растащит лесное зверье. Отец Григорий, отойдя в сторону, упал в снег, сотрясаясь от благодарных рыданий. Он-то понимал, что такое совпадение — не простая случайность: расположение берлоги, место падения дерева и внезапность, с какой оно рухнуло, не дав опомниться спящему зверю, — это сила Божественного промысла. Ведь и в Евангелии сказано: «Просите, и дано будет вам… ибо всякий просящий получает…» (Мф.7:7-8).
После случая с медведем отношение к заключенному Григорию Пономареву в лагере резко изменилось. Эти нравственно опустошенные люди, изгои общества, в основной своей массе серые, малограмотные и суеверные мужики, стали считать его своим «талисманом». Работая летом на лесоповале, они вместе жарили шишки кедра, а потом, вылущивая из них орехи, делали кедровое молоко, давя орехи камнем в миске и заливая кипятком. Получался сказочный по целебности и вкусный напиток. Сливая первый настой, орехи заливали снова и снова. Некоторые из зэков по-своему даже привязались к отцу Григорию, уважая его за немногословность и справедливость.
Менялись заключенные — кто-то умирал, кого-то просто забивали свои же, кого-то переводили в другие зоны. Сменялись начальство и охрана. Изменилась и жизнь отца Григория. Его перевели работать в шахту.
В шахте
…Не убоишися от страха нoщнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое…
Пс.90-й
Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как отца Григория перевели на работу в шахту. Шахтерский труд — один из самых тяжелых, но с трудом шахтера-заключенного даже сравнивать что-либо трудно.
До забоя ежедневно шли под конвоем. В забое каждый занимал отведенный ему участок, где только при помощи кайла и лопаты надо было, вгрызаясь в матушку-землю, любой ценой выполнить свою норму. Средств защиты, страховок — никаких. Кому нужны эти заключенные? Погибнут — пришлют новых. Стране нужен уголек, на нем не видны ни пот, ни кровь, ни слезы, ни следы оставленных в шахте человеческих жизней.
Когда спускаешься в шахту, замирает сердце, словно попал в преисподнюю. Жутко! Слабый свет шахтерских лампочек едва высвечивает причудливо выбитые пласты породы. Старые, подгнившие крепления скрипят и вздрагивают при каждом ударе кайла; длинная штольня слабо освещена. Под ногами порой чавкающая вода. И воздух… В нем почти нет кислорода, он переполнен взвесью мельчайших угольных пылинок с ядовитой примесью газов, выходящих из земли. Кто хоть раз вдыхал этот воздух, никогда не забудет его привкуса.
И опять жизнь его — как тлеющий уголек, который может в любой момент погаснуть. Погаснуть от тысячи случайностей, возникающих под землей. Одно успокаивало и радовало — его напарник. Что-то просмотрело лагерное начальство, поставив отца Григория работать вместе с этим старым, до истощения худым человеком. Во рту у него не было ни единого зуба, на голове — ни единого волоса, а суставы были по-старчески раздуты и обезображены непосильным трудом. Острые лопатки и ключицы выступали из арестантской робы, но на изможденном и изрезанном морщинами лице, запудренном угольной пылью, сияли удивительной глубины и доверчивости, почти детские глаза. Кашель, даже не легочный, а уже какой-то брюшной, утробный, постоянно сотрясал его тело.
Это был протоиерей Алексий, откуда-то из Подмосковья. В их лагере он появился сравнительно недавно и был так плох здоровьем, что даже уголовники, липнущие к каждому человеку, стремясь извлечь из него хоть какую-то пользу для себя, не трогали его. Не жилец! Однако этого полуумирающего старика каждый день исправно выгоняли на работу.
Они уже несколько дней работали в одном забое, и отец Алексий с неизвестно откуда берущейся в немощном теле силой вбивал свое кайло в породу, оставляя для Григория удобные выступы и выбоины, на которые уходило значительно меньше усилий. Совсем недавно отец Алексий узнал, что его молодой напарник — диакон, и его младенчески светлые глаза засияли особенно приветливым и радостным светом. Родная душа рядом! Он по-отечески тепло относился к отцу Григорию (к «Гришеньке») и говорил, что в назначении их работать в одном месте видит промысел Божий. В забое они почти не разговаривали. При таком напряженном труде это попросту невозможно. В бараке нары их находились далеко друг от друга, но Божия благодать, лежащая на батюшке, как облако покрывала отца Григория и облегчала его труд.
В тот день, когда их спустили в один из штреков, воздух казался каким-то особенно ядовитым. Лампы почти не давали света, а расползавшиеся по своим местам люди были угрюмее и тревожнее обычного. Батюшка Алексий шепотом прочитал молитву, и оба обрушили свои каелки на неподатливый пласт. От звука ударов они не сразу расслышали показавшийся очень далеким крик и какой-то странный гул. Оба как по команде прекратили работу. И вновь на какой-то визгливо-истошной ноте, но уже значительно ближе, крик повторился. Теперь были слышны и слова: «Спасайтесь! Вода!». Где-то прорвалась вода и, перемешиваясь с треском рушившихся опор, обламывающихся пластов угля и шумом бегущих людей, неудержимо подступала к главному штреку. Посмотрев друг на друга и бросив инструменты, они отскочили от стены и повернулись, чтобы бежать к выходу. Но в этот момент, преграждая им дорогу, с оглушающим грохотом рухнул потолок. Сметая перекрытия, неуправляемая угольная лава погребла все вокруг в тучах черной пыли и мелких камней.
Когда отец Григорий пришел в себя, он даже не мог понять, где находится и что с ним. Абсолютный провал памяти. Рот полон угля, на лице что-то теплое и липкое. «Кровь!» — подумал он. Он попытался приподняться, однако ноги придавила безмерная тяжесть. Что-то держало его и не давало передвигаться. Фонарь слабо горел, и глаза не хотели видеть, а ум отказывался смириться с тем, что освещала тусклая шахтерская лампа. Со всех сторон — только черные угольные стены. А где батюшка? Где отец Алексий? Слабый стон пришел как ответ на его мысли. Да вот же он, рядом, вот его руки, плечи, голова… Им засыпало ноги. И тому, и другому. Успей они еще сделать хотя бы один шаг к выходу, их накрыл бы и раздавил обрушившийся потолок штольни. Но положение все равно ужасное. Они оказались в каменном мешке, отрезанные от мира.
С величайшим трудом отец Григорий высвободил ноги. Боясь каждого движения, чтобы не вызвать продолжение обвала, он высвобождает батюшку. Отец Алексий в сознании, но не может сдержать стон. У него сломаны обе голени. Все, что происходило потом, сохранилось в памяти отца Григория отдельными фрагментами. Он оттащил батюшку подальше от обвала, под самую стену, над которой они трудились несколько минут назад. Или несколько часов? А может, дней? Он то приходит в себя, то вновь впадает в беспамятство. То же, вероятно, происходит и с отцом Алексием. Тут все — и удар, и боль, и шок от сознания их положения, и еще не осевшая пыль, забивающая легкие. Рот и нос полны угля, на лице — кровь. Это мелкие острые камешки угольной породы с силой вонзились в лицо. Как еще глаза остались целы?! Тело отца Алексия сотрясается от жуткого, бесконечного кашля. Отец Григорий пытается влить ему в рот немного воды из фляжки, но она только расплескивается. Их обоих бьет крупная нервная дрожь. Потом опять провал памяти, надолго ли — трудно сказать.
Следующее, что он слышит, придя в себя, — горячие, страстные, пламенные слова молитвы. И он подключается к ней всем своим существом. Он знает: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф.18:20). Время остановилось. Отец Алексий угасает. У него бред. Вот он благословляет свою паству, вот шепчет какие-то ласковые слова жене или дочери, вот читает 90-й псалом! Голос его крепнет, как будто в нем — вся оставшаяся энергия жизни. И голос этот просит с какой-то необыкновенной силой: «Спаси его, Иисусе! Он молод и может еще столько дать людям».
Отец Григорий понимает, что эта молитва — о нем. Сам он непрестанно молится, потом опять пытается напоить батюшку, но у отца Алексия все только клокочет внутри и вода выливается мимо. «Оставь это, Гриша! Оставь себе! Господь милостив. Нас откопают, и ты должен жить, продолжая наше святое дело». Но разве отец Григорий возьмет глоток воды у умирающего! Он, как может, пытается облегчить эти страдания: они то молятся вместе, то, видимо, теряют сознание. Их шахтерские лампы уже еле горят. Нет, почти нет кислорода. Вот она, готовая для них могила. Вдруг батюшка неожиданно резким движением притягивает к себе руку отца Григория и шепчет: «Гришенька! Отец Григорий! Хоть ты и диакон, но так, видимо, угодно Богу. Приготовься принять исповедь раба Божия Алексия». Он жарко шепчет ему слова своей последней в жизни исповеди: «…Ну, а Господь, может быть, отпустит мне грехи. Мне, недостойному рабу Его Алексию».
Потом они молчат. Приходя в себя, отец Григорий творит молитву и слушает угасающее дыхание батюшки. Он уже почему-то не кашляет. Вот и света нет совсем. Они лежат в абсолютной темноте, почти задыхаясь. Но вдруг какой-то звук — сначала тихо, а потом все сильнее — нарушает тишину их склепа.
— Гриша! Похоже, нас откапывают. Господь услышал наши молитвы. Слава Тебе, Всемогущий Боже наш! Слава Тебе, Пречистая Богородица!
Отец Григорий, не переставая читать Иисусову молитву, слышит приближающийся звук лопат, отгребающих уголь. Звук становится все громче и громче. Вот впереди что-то блеснуло, и затем в небольшое отверстие засияла, как десять солнц, шахтерская лампочка. После полного мрака она слепит до слез. Отверстие все шире. И вот в нем появляется ошеломленное лицо:
— Эй, Володька! Да тут люди!
Лопаты работают все быстрее и быстрее. Наверное, ангелы небесные поддерживали свод потолка, готового дать новую трещинную осыпь. Наконец в проеме появляется человек. Он освещает своей лампой «могилу» несчастных, негромко присвистывает, вероятно, от ужаса, и почему-то шепотом говорит кому-то стоящему за ним:
— Вроде, живы. Один-то — точно. Да и старик, похоже, тоже живой.
Но они так слабы, что не могут подать даже голоса.
— Володька! Тащи брезент!
Как их извлекли из шахты, отец Григорий почти не помнит. Он видит себя уже лежащим наверху на брезенте, а рядом — еще живого батюшку Алексия. Его дивные, сияющие глаза устремлены на Григория. Толпа, окружившая их, потрясенно молчит. Батюшка поднимает благословляющую руку в сторону отца Григория и всех присутствующих. Последним усилием воли осеняет себя крестным знамением, и душа его устремляется к своему Создателю. Взгляд из сияющего становится далеким, а затем — застывшим, как бы отрешенным от этого мира. А отец Григорий, лежа на брезенте, принимает благословение православного священника для самоотверженного и преданного служения Господу и Его Святой Церкви и молча дает обет: если это угодно Богу и он когда-нибудь выберется отсюда, то посвятит Ему свою жизнь.
Чудо спасения отца Григория и отца Алексия было, конечно, предопределено. Их откопали на третьи сутки, неожиданно для всех. О них просто забыли. Обвал в этот раз был намного серьезнее всех предыдущих и унес много жизней. Но специально никого не искали. Просто надо было восстановить основной проход главного штрека, на котором и трудились отец Григорий с отцом Алексием. Расчищая главную «артерию» шахты после ее обвала, рабочие и натолкнулись на несчастных. Только благодаря распределению рабочих мест в главном штреке батюшки оказались на пути ремонтных рабочих, которые их обнаружили. Действительно, у Господа случайностей не бывает! «У вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф.10:30).
«Живый в помощи Вышнего»… Витек
Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; или во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтоб сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою.
История эта — короткая, но оставляющая очень тяжелое впечатление. Она была услышана мною в юности и, совершенно очевидно, не была предназначена для юного ума и ранимой души в силу незнания некоторых чудовищных сторон жизни, поэтому не была понята мною в то время во всей глубине ее ужаса и трагизма. Лишь спустя годы рассказанное отцом Григорием осозналось в своей потрясающей реальности.
Как сейчас помню папин шепот, прерывающийся от нахлынувших воспоминаний, и… вдруг испытываю невыразимое сострадание, боль и омерзение одновременно.
После чудесного спасения отца Григория и батюшки Алексия из заваленной штольни ствол шахты был вскоре восстановлен и работы продолжались в ней, как и раньше. Тот же непосильный труд, тот же голод, те же заключенные с их нравами и понятиями: в основном — простые мужики, озверевшие от условий жизни, к тому же растлеваемые группой рецидивистов, распутников и подонков, в которых давно умерло все человеческое. Эта небольшая группа создавала костяк барака и определяла соответствующий моральный климат в нем.
Как оказался среди заключенных совсем молоденький паренек (Витек, как он себя называл), никто вопросом не задавался. Не похоже было, что ему уже исполнилось восемнадцать лет, внешне он выглядел на пятнадцатилетнего. Худенький, почти прозрачный, Витек еще не успел возмужать. Светловолосый и голубоглазый, он походил скорее на девочку-подростка. Его мелодичный голос, не прошедший мутацию, полуженские, мягкие и даже грациозные движения напоминали пастушка Леля из «Снегурочки» — такая же была в них миловидность и привлекательность.
Для барачной своры он был «лакомый кусочек», и отец Григорий неоднократно ловил гадостные, похотливые взгляды на этом еще не оформившемся мальчике.
Витек, особенно после событий в шахте, старался держаться поближе к отцу Григорию. Несмотря на свою молодость и неопытность, он, конечно, понимал недвусмысленность обращенных к нему грязных взглядов и намеков и осознавал: случись что — отец Григорий один не в состоянии будет его защитить.
Витек, вероятно, как-то по-своему продумывал способы защиты, так как однажды тихонько сказал:
— Я им в руки живым не дамся. Сам помру, но и этих за собой утащу… Не на того напали.
Отец Григорий воспринял его слова скорее как попытку самоутверждения. Не более. В самом деле, что он может сделать против целого стада зверья, в котором вот-вот проснется весенний гон?
Однажды к отцу Григорию подошел один из самых гнусных подонков барака и, криво улыбаясь, процедил:
— Мы знаем, поп, что ты надеешься на своего Бога. Но будет по-нашему. Перестань опекать мальчишку. Мы все равно его заберем, раздавим.
Тут он употребил еще пару нецензурных, но вполне понятных выражений относительно жизненных перспектив Витька… и добавил:
— А тебя, папаша, мы просто уничтожим, и так, что никто даже не удивится. Бывают же несчастные случаи. Жизнь!
И с кривой улыбочкой «промурлыкал»:
— «И никто не узнает, где могилка моя». И не вздумай жаловаться там… наверху.
Мысленно перекрестившись, отец Григорий ответил:
— Там, «наверху», как ты говоришь, для меня лишь — Господь Бог, и я не жаловаться буду, а просить, чтобы было по воле Его. Ясно? Парня, конечно, я, как смогу, буду защищать, а все остальное — не в твоих и не в моих руках. Не заблуждайся. Да, мне одному против всех не устоять, но за мной Сам Господь, и я полностью полагаюсь на Него… — последние слова его потонули в море отборного мата…
А далее последовало:
— Смотри, поп, я тебя предупредил!
«Жаль, — подумал про себя отец Григорий, — что парень-то неверующий. Вдвоем мы были бы куда сильнее…»
Отец Григорий молился постоянно, призывая на помощь Господа, Матерь Божию и святителя Николая. Вспоминал он и покойного отца Алексия и его отеческое последнее благословение — кому же хочется умереть, тем более будучи предупрежденным! Но и отвернуться от парня он не мог. Что совершенно сокрушало отца Григория — полное безразличие Виктора к молитве. Все разговоры на эту тему были напрасны. Как в бездонный омут.
Виктору он говорил постоянно:
— Ты Богу молись, Витя. Господь видит все, Он поможет. Все будет по Его Святой воле.
— Да не умею я молиться, дяденька. Но у меня кое-что при-пря-та-но! — как-то доверительно сообщил он. — Недаром я при взрывниках! — хитро, по-деревенски, подмигнул Витек. — Живым не возьмут.
Ощущение постоянно нарастающей опасности не покидало отца Григория. Угрюмое напряжение и похотливые выпады против мальчишки усиливались. Усугубилось до предела и положение самого отца Григория: в любую минуту он ждал или очередного, теперь уже умышленного, обвала, или падающей вагонетки, или прорыва воды на его участке. Да мало ли «случайностей» могло быть.
— Ну, что ж, — решил отец Григорий, — в этом, видимо, промысел Божий. Господь, может быть, испытывает мою веру! Пусть совершается все по Твоей воле, Господи, но, если есть хоть малая возможность, дай мне, Боже, дожить до встречи с моими родными. Столько планов, желаний быть полезным Церкви Христовой… Да кто же не дорожит жизнью!
Время шло…
Однажды после вечерней проверки в бараке послышались какие-то странные, непривычные для лагерной жизни звуки. Милые и даже домашние, они совершенно не вписывались в обстановку барака. Все заоглядывались, зашевелились… О, удивление! Каким образом в барак попала коза? Грязно-белая, шерсть клочьями, до безобразия худая-прехудая коза, которая испуганно и беспорядочно металась меж нар, очевидно, ища выхода из помещения.
Быть может, кто-то из внешней охраны содержал в хозяйстве козу, и несчастное животное случайно во время вечерней проверки забрело в барак? А может, ее кто-нибудь просто затащил сюда?
Барачная публика оживилась. Сначала вполне миролюбиво. Кто-то попытался подоить козу — оказалось, что молока у нее не было.
Затем возникло желание просто убить ее на мясо. Уж лучше бы и убили.
Страсти накалялись.
Сатанинская рать поднялась вихрем, и замыслы, желания, страшнее и пакостнее одно другого, закипели в головах выродков.
Вот и он, бес блуда и похоти, бес содомского греха — грязный, безобразный и беспощадный — явился, налетел и закружил в жуткой своей круговерти, безумном исступлении порочности и нечистоты…
Обитатели барака просто осатанели. Глаза налились кровью, мозги отключились, и взыгравшая плоть, не управляемая ничем, кроме бесовских помыслов, начала свои утехи.
Свист, хриплый хохот, почти вой этих нелюдей, сквозь которые прорывались истошные, почти человеческие вопли несчастной козы. Дикое улюлюкание, дьявольский шабаш…
Заключенные сами превратились в диких, безобразных животных. Нет, они были хуже, гораздо хуже…
Отец Григорий сидел в углу, зажимая уши и охватив голову руками. Около него, словно чувствуя неладное, прижимаясь, прячась за его спину, цепляясь, как за последнюю надежду, с глазами, белыми от ужаса, даже не сидел, а врос в нары помертвевший Витек…
Из противоположного угла, из центра взбесившихся тел, хрипов, мата еще слабо прорывались предсмертные стоны, всхлипывания растерзанного, погибающего животного. Конец ее был близок, а похоть только распалялась, набирала силу.
С этого момента положение отца Григория и мальчика становилось угрожающим. Они оба понимали, что озверевшая толпа, не получив свое, кинется на парня и просто сметет, растопчет батюшку, когда он, совершенно безоружный, будет защищать Витька. А в том, что он будет его защищать, отец Григорий не сомневался. Он просто не мог допустить такого попрания человека, почти ребенка — создания Божия…
И вот глаза одного из отморозков стали жадно искать Витька… и, конечно, нашли.
Еще мгновение… отец Григорий только успевает призвать помощь Божию, как получает по голове чудовищной силы удар.
Но, возможно, это и спасло его. Теряя сознание и падая, он слышит даже не крик, а детский визг Витька, который, странным образом ускользнув от липких, поганых лап озверелой толпы, с криком: «Я же говорил, дяденька, я их всех уложу-у-у-у!..» — кидается в самую середину мерзких, вонючих тел, на замученный труп разорванной козы, и страшной силы взрыв поднимает весь барак на воздух…
Недаром Витек крутился близ взрывников. Там он прошел свою смертельную школу.
Уложило почти всех. Кроме дымящейся воронки, от барака ничего не осталось. Отца Григория, который от удара по голове был без сознания, отбросило далеко, почти за караульную вышку. Из обитателей барака лишь несколько человек остались в живых. Тело же несчастного мальчишки найти не смогли. Господь, прополов человеческие колосья, вырвал сорные травы…
А Витек? Что ж, то — воля Божья! Кем бы он стал — еще вопрос. Он не понимал и не стремился к молитве, но телесная и душевная его чистота, возможно, помогли в его загробной участи. Господь принял его душу, а где ей быть — на то Его святая воля!
«Соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтоб сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою…» (Мф.13:30).
«У Меня отмщение, Я воздам…» (Евр.10:30). Гроза в бараке
…Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих…
Пс.90-й
Душно. Ох, как тяжело, томительно-душно. Какое это трудное лето — и для людей, и для природы. С самой весны почти не было дождей. Зелень, устремившаяся к солнцу, вскоре, даже не раскрыв своих бутонов, не набрав сил и влаги в листьях и травах, стала желтеть и засыхать. Неделями откуда-то с юго-запада горячий и сухой воздух накрывал заключенных невидимым, прозрачным колпаком — именно воздух (как из раскаленной духовки), а не ветер, пусть даже сухой и жаркий. В ветре есть какое-то движение, какая-то надежда на прохладу, тут же — совершенно неподвижный, но осязаемый по своей упругой плотности зной, под которым замирает и цепенеет все живое.
Давно не слышно птах, обычно живущих тут летом. Не слышно даже стрекота насекомых. Вдали, в почти неколеблющемся мареве раскаленного жара, всё расплывчато и размыто. Каждый день солнце, за несколько часов выполнившее всю «дневную норму», скрывается в сероватой мгле облаков, а жара и духота продолжают нарастать. Тучи, такие желанные, порой возникают где-то вдалеке, иногда приближаются, еще сильнее придавливая к земле палящий зной, и, не оправдав надежд, уходят к Охотскому морю.
Мучительная жара стоит уже третий месяц. Нервы людей на пределе. Работать в такой духоте невыносимо. Конфликты возникают из ничего — злобные, скверные. Заключенные и охрана обливают друг друга отборной руганью. Кроме жары, донимает голод. Обычно в это время года с едой бывало полегче: какой-то лесной урожай помогал выжить. Нынче в лесу ничего не вызрело, только пыльная, засохшая трава — ни ягодки, ни живого кустика.
Проверки в бараках проходят бесконечно. Непонятно, что ищут. Перерывая всё на нарах, заглядывают даже в печь. По летнему времени в ней действительно можно что-то припрятать. Все проверки рассчитаны лишь на часть заключенных. На уголовников «шмоны» не распространяются. Там свой мир, свои законы, и даже конвой предпочитает с ними не связываться.
В одном бараке, под одной крышей, в четырех стенах сосуществуют два диаметрально разнящихся образа жизни. Бывает, что в одной реке, даже совсем маленькой, можно наблюдать, как проходят рядом, не смешиваясь друг с другом, два потока. Один несет светлую, прозрачную воду, и тут же, совсем рядом, другой — желтоватый и мутный. Один поток теплее, другой просто ледяной, но оба они стремятся в одном направлении. Так и в заключении. Разные по развитию, мышлению и душевному устроению человеческие жизни, почти не смешиваясь друг с другом, текут вместе, и каждая из них несет собственное назначение, неизбежно приближаясь к своему концу. Однако зачастую «пересечения» людей, вместе оказавшихся в заключении, кончаются человеческой трагедией.
Среди этих потоков есть еще одна прослойка — так называемые «флюгеры». Это самый страшный и ненадежный человеческий тип. Именно в этой среде — первые предатели, доносчики и фискалы. Перед начальством они — трусливые подхалимы. Перед уголовниками — шакалы. Гиены — для остального населения барака. Они мельтешат, суетятся, все вынюхивают и постоянно подслушивают. За щепотку чая готовы продать, оболгать кого угодно, и даже у отпетых уголовников они вызывают раздражение и презрение.
Сейчас, когда невыносимая жара и духота держат всех в напряжении, в бараке идет карточная игра. Играют уголовники. Игра страшная, жестокая, не знающая пощады. Проиграно уже все, что составляет лагерные материальные ценности. Теперь идет игра на человеческую жизнь. Неизвестно, простым ли жребием жизнь одного «стукача» попала в обойму игры или, может быть, надоел он всем, но играют именно на фискала по кличке «Стеха».
В бараке — леденящая тишина. Только хриплое, прокуренное дыхание игроков да короткая матерщина, комментирующая отдельные моменты карточной игры. Стукач после приступа визга, воплей и рыданий ползает в ногах у игроков. Страшным ударом под дых его вынудили замолчать, и теперь он только икает и шепчет что-то посиневшими губами. Кажется, что слышно, как лязгают о железную кружку его зубы.
Тем временем в бараке стало совсем темно. От напряжения смертельного розыгрыша никто не заметил, что тучи, все лето проходившие мимо зоны, собрались прямо над бараком. На улице все почернело. Еще какое-то мгновение мертвой тишины, и вдруг — дикий порыв ветра почти срывает кровлю, сталкивает черные рваные куски неба друг с другом, раскалывая их на части змеевидной молнией… И тут же, без паузы, всё покрывает гром, от которого могли бы лопнуть барабанные перепонки.
На какой-то миг эти нечеловеческие звуки отрывают играющих в карты от их страшного занятия, несущего в себе смерть. Но накал игры так велик, что буквально один миг отделяет игроков от финала. Все, игра закончена. Дикий визг Стехи перекрывает даже оглушающие раскатистые звуки грозовой тьмы. Смертник Стеха катается в ногах у уголовника, проигравшего его, Стехину, жизнь, и вымаливает прощение. Он готов лизать пол под ногами своего убийцы, жрать землю, ломать и крушить все по его приказу, только бы остаться живым.
— Ну, ладно! — милостиво изрекает игрок и вдруг замечает в другом углу барака полыхающие синим пламенем гнева глаза. Глаза человека, которого он давно ненавидит и, не признаваясь в этом даже самому себе, где-то глубоко внутри побаивается, что лишь усиливает его ненависть. Этот человек — заключенный Григорий Пономарев.
Вновь небо рвется под очередным ударом молний, из-за чего до обитателей барака доносится лишь обрывок фразы:
— … дарю тебе жизнь, но за это ты пришьешь сейчас попа! Ну!
Какое демонское ликование!
Барак замирает. Большинство барачных равнодушно-привычно наблюдают за происходящим. Но души тех, кто знает отца Григория, содрогаются от неожиданности и ужаса, от произвола и разнузданности и от чувства собственной незащищенности. На лице Стехи застыл мертвый оскал, подобно навечно приросшей к нему маске. В остекленевшем взоре — смесь ликования, подобострастия и необъяснимого страха. Он кидается за орудием убийства — стамеской, отточенной до остроты бритвы. Она припрятана где-то внутри барачной печи. Отец Григорий только успевает осенить себя крестным знамением и призвать на помощь Царицу Небесную.
В этот миг очередная грозовая молния, раскроив небо надвое, ударила в печную трубу барака и, как бы втянутая движением воздуха внутрь открытой печки, влетела в нее и ушла под землю, разметывая вокруг себя печную кладку. Во все стороны, как от взрыва, с грохотом полетели искореженные кирпичи. Загорелась крыша барака над развороченной печью, и неуправляемый пламень стал перекидываться на близлежащие нары.
Не видно ничего. Дым, пламя, стена поднятой от обломков кирпичей пыли… Как сухой хворост, загорелись близ печи нары — привилегированные места уголовников. Молнии, одна за другой, продолжают распарывать небо. Кажется, что все они направлены в барак. Словно весь гнев Божий обрушился на головы безумцев. В бараке — страшный крик, стоны. Люди, перескакивая через развалы кирпича, через горящие нары, толкая и давя друг друга, разносят в щепки дверь барака и спешат выскочить наружу. В дверях свалка. Крики боли и ужаса. И еще один непонятный звук — словно где-то открыли шлюз… Заключенные выбегают из горящего барака, задыхаясь от дыма, и едва не валятся с ног от стены дождя, который после сухой грозы накрыл буквально все: горящую крышу и догорающие нары, слепившихся в проеме снесенной барачной двери людей и неподвижные тела вокруг обломков печного фундамента.
Вот она, расплата! Еще две минуты назад эти выродки, раздуваясь от самодовольства, вершили дела и жизни барачных заключенных. Калифы на час! Пришел их жалкий конец. «Короли» барачной элиты, совсем еще недавно возлежащие на нарах вокруг печи и проигрывающие в карты человеческие жизни, сами приняли смерть, побитые камнями. Как символично! В древности преступников казнили, забивая их до смерти камнями.
Гроза в ту ночь бушевала почти до утра. Скоро появилась охрана. Пожар благодаря дождю был потушен. Пораженных молниеносной смертью уголовников быстро унесли. Раненых отправили в больничный барак. Всех остальных распределили кого куда. Но даже по прошествии нескольких месяцев отец Григорий больше не видел ни в своем новом отряде, ни в других отрядах главных участников трагических и страшных событий той ночи. Справедливый суд Божий каждому воздает по делам его.
В бараке смертников
…На руках возьмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое…
Пс.90-й
Откроем еще одну страницу тяжелой, порой на краю гибели, жизни отца Григория в заключении, чтобы снова убедиться, что значит истинная, бескомпромиссная вера в Господа, и чтобы почувствовать, как Он близок к нам.
«Просите, и дано будет вам…» (Лк.11:8) — сказано в Писании. Как быстро, мгновенно слышит Господь Своих детей! Помощь Его приходит незамедлительно. Бывает порой так, что мы не получаем просимое, но не потому, что Господь нас не услышал, а потому, что это нам не полезно. Первые годы после возвращения с Севера батюшка кое-что рассказывал о своей лагерной жизни, но не часто. Чем старше и умудреннее он становился, тем плотнее закрывалась дверь его воспоминаний о годах лагерных страданий. Но иногда, в исключительных случаях, он вспоминал то страшное время только для того, чтобы на примере собственного опыта оказать реальную помощь своим духовным чадам.
Идет беседа… Кажется, что все аргументы исчерпаны, а окормляемый батюшкой страждущий человек не слышит, не понимает и готов совершить неразумный и губительный шаг. В таких исключительных случаях несколько скупых слов батюшки о его страшной, на грани выживания, жизни в заключении, а также рассказы о незамедлительной помощи Господа отрезвляют упрямца.
Эпизод из жизни отца Григория, о котором хочется поведать, я слышала еще в юности, но тогда он не запал в душу так глубоко, потому что все, что рассказывал папа, было леденяще жутко, и память, как самозащита, размывала отдельные фрагменты лагерных историй, да и я была еще слишком молода, чтобы что-то понимать.
Уже во время работы над книгой одна духовная дочь отца Григория повторила эту историю. Мои воспоминания о жизни родителей, ожившие в ходе разговора, как в фокусе сконцентрировали давно забытое, а недостающие звенья, о которых я услышала, составили целостную картину. Круг замкнулся. Все встало на свои места, и многое в скрытой от постороннего взгляда жизни отца Григория и матушки Нины стало мне понятным, вызвало трепет и уважение. В душе моей были задеты самые трогательные и чистые струны, навсегда остающиеся в памяти человека — как вразумление и как пример на пути стяжания Духа Святаго.
Женщина, поведавшая мне свои воспоминания, — глубоко верующий человек с трудной, изломанной судьбой. Она всегда беспрекословно слушалась батюшку. Видимо, в очень уж сложный жизненный водоворот попала эта раба Божия, так что батюшка в долгой беседе с ней привел пример из своей лагерной жизни. Этот рассказ лег в основу этой части главы «Голгофа».
Годы в заключении не идут, а ползут, и каждый день жизни может оказаться последним. Состав заключенных лагеря часто менялся. Скорее всего — специально, чтобы люди не успевали сплотиться или как-то подружиться. Менялось начальство, и вновь прибывшим была глубоко безразлична предыдущая жизнь. Новый день — новые страдания, новые люди, новые ситуации. Только голод все тот же, нескончаемый и изнуряющий до изнеможения. Летом чуть меньший, а зимой доводящий одних до суицида, других — до преступления, убийства кого-то из заключенных; третьих — до психического расстройства. В общей массе голод «подчищал» зону к весне процентов на пятьдесят-шестьдесят: и вот готовы уже «вакантные места» для новых страдальцев. Наиболее сильные личности рук на себя не накладывали и в бессмысленные кровавые побоища не ввязывались. Их психика оставалась незадетой, но от хронического истощения и непосильной работы организм человека не выдерживал и давал сбой. Часто такой «сбой» проявлялся в заболевании глаз, которое в народе называют «куриной слепотой». Болезнь эта характерна тем, что с наступлением сумерек человек теряет зрение. Он не видит ни дороги, по которой надо идти, ни пайки заработанного хлеба, ускользающей прямо из-под его носа с барачного стола. Заболевание развивается очень быстро, и слепые люди лишаются пайки хлеба, который даже не продлевает жизнь, а, скорее, оттягивает смерть. Таких больных выселяли обычно в отдельный барак. Практически это был барак смертников.
Их, конечно, гоняли на работу. Днем они видели, но вечера ждали с ужасом, чтобы, цепляясь в темноте друг за друга, под окрики охраны и насмешки «братвы» как-то добраться до места. А там их уже поджидали лагерные «шакалы», для того чтобы успеть выхватить хлебную пайку у почти незрячего человека, ослабленного тяжелыми трудами и голодом. И так день за днем; правда, жизнь заключенных в этом бараке длилась недолго. Конец приходил очень быстро и всегда однозначно. «Барак смертников» — и этим все сказано.
Примерно на седьмом году заключения отец Григорий почувствовал грозные признаки «куриной слепоты». Болезнь развивалась стремительно; не прошло и месяца, как его перевели в барак к «смертникам». Над отцом Григорием сгустился мрак безнадежности. В почти ничего не видящем, бредущем после изнурительного труда в толпе таких же слепцов и знающем, что сейчас опять будет украдена его пайка, в нем блеснула пусть малая, но надежда — выжить. И он взмолился Богу:
— Господи Иисусе Христе! Милостивый! Ты столько раз оказывал мне помощь и защиту. Остаются только три года до окончания срока моего заключения. Дай мне возможность дожить до этого времени и выйти из лагерного ада. Дай возможность послужить Тебе в храме Божием. Дай увидеть, обнять ненаглядных моих родных, и тогда я буду любить и оберегать их всеми своими силами, но принадлежать — только Тебе, Господи! И жена моя, горячо мною любимая, будет мне лишь сестрой. Я уверен, что она поддержит меня, ведь крест христианский — это не просто бездумная покорность судьбе, а свободно избираемая бескомпромиссная борьба с самим собой. Господи! Приими обет мой и помоги, спаси и помилуй раба Твоего, грешного Григория.
Нести крест свой — значит полюбить Христа и принести себя Ему в жертву, как Он принес Себя в жертву за весь род человеческий! Закончив молитву, отец Григорий устремил свои невидящие очи в небо. Он шел, вернее, плелся почти наощупь в толпе таких же несчастных людей, в слепоте добирающихся к своим нарам, которые в любую минуту могли стать смертным одром.
Всю силу своей веры, надежды и любви ко Господу, как единому Защитнику от отлаженной лагерной машины смерти, вложил отец Григорий в свой страстный молитвенный молчаливый крик. Крик души. И…
«О Боже! О милостивый Боже!» — его незрячие глаза озарил на мгновение свет! Он был непередаваемо яркий, но не слепил. Он был ярче солнца, но ласкал измученные глаза. Он осветил каждый уголок его пылающей души и онемевшего тела. Он был светлее материнской улыбки. Это был свет Божественный!
Батюшка упал на колени, задыхаясь от потрясения. Рыдания содрогали все его существо. Слезы, которыми он не плакал с детства, текли из его измученных глаз по щекам, и он даже не утирал их. Они были как лекарство, как бальзам для его изнемогающих души и тела.
Свет этот дивный давно исчез, и отец Григорий отчетливо увидел звездное небо, увидел вдали свой барак, копошащихся несчастных слепцов и охрану, не реагирующую на стоны и вопли сбившихся в кучу людей. Он взглянул внимательно на охранников — лица их были тупы и привычно озлоблены. «Они же зрячие, — подумал отец Григорий, — но ничего не видят, как евангельские слепцы». Значит, видел он один? Бог услышал его! Господь видел, что батюшка уже на краю гибели, и Он снова спас его!
Волна невысказанных благодарных мыслей, поднявшаяся в душе отца Григория, накрыла его с головой. Ему хотелось плакать, смеяться и бесконечно радоваться. Он не мог взять себя в руки. Он пел хвалебную песнь Господу и благодарил Его в своей ликующей душе.
Тем временем толпа добралась до барака, где, как гиены с наглыми и горящими глазами, слепых заключенных поджидали постоянные воры хлебных паек, а точнее — воры жизней. Когда батюшка подошел за своей пайкой и блудливая воровская рука привычно скользнула вперед, отец Григорий резким и точным ударом кулака, как кувалдой, прихлопнул ее к столу. От неожиданности и боли «шакал» взвыл, а батюшка уверенно произнес: «Вот так! Пошел вон!».
С этого дня в их барак ворье заходило все реже. Вскоре начальству стало известно, что заключенный Пономарев видит. Через пару дней его перевели в другой барак. Потрясение, пережитое им, укрепило его веру и усилило пламенные молитвы к Богу.
Обеты, данные отцом Григорием Господу, при встрече с матушкой Ниной были приняты ею как должное. Ведь они были плоть едина. «Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф.19:6).
Малиновая поляна
…Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением…
Молитва Честному Кресту
На третьем году после освобождения, еще оставаясь жить на Севере, отец Григорий испытал сильнейшее потрясение.
Отбыв десятилетний срок заключения и получив все документы об освобождении, он уже третий год подряд пытался выбраться на материк, что возможно было сделать только самолетом.
Пассажирских рейсов с Колымы в те годы просто не было, и гражданское население при острой необходимости вылететь прибегало к самым различным способам: платили большие деньги, чтобы вылететь с почтовым самолетом, находили какие-то особые пути к начальству Дальстроя, чтобы в качестве сотрудников строительства их взяли на самолет, и т. д. За билеты переплачивали, как правило, вдвое, а то и втрое… Конечно, в подобных эстремальных ситуациях люди часто сталкивались с обманом, жульничеством, аферами.
Отец Григорий, три года проработав вольнонаемным рабочим Дальстроя, отказывал себе буквально во всем, чтобы скопить необходимую сумму для покупки билета на самолет. Он вручил эти деньги одному из своих знакомых, который твердо обещал помочь в приобретении билета на материк. Вылет должен был состояться со дня на день, но совершенно внезапно все изменилось и отец Григорий с ужасом узнал, что его обманули. Жестоко, бесчеловечно.
Человека, взявшего деньги, перевели на другое место работы, и больше он не вернулся не только в поселок, но и в Магаданский край.
Потрясение было тяжелейшим. «Сорвалась» столь близкая, как батюшка думал, свобода. Возвращение домой и встреча с родными и близкими казались невозможными. Кроме того, его фактически обобрали до нитки. Все надо было начинать сначала, но где уверенность, что его не обманут вновь? Тяжелая, беспросветная тоска навалилась на отца Григория. Хорошо, что он ничего не написал Ниночке и родным о своем предполагаемом возвращении в Нижний Тагил. Какую боль испытали бы они!
Со своей неизбывной тоской и приступами уныния он боролся, как мог. Но даже молитва, всегда спасающая, часто замирала на его губах, а душу разрывала непереносимая боль.
Чувство апатии, безразличия ко всему стало часто посещать отца Григория. У него начались ноющие боли в сердце, не прекращающиеся ни днем, ни ночью. Физические силы таяли с каждым днем. Свои переживания он ничем не мог приглушить — даже молитвой. Он, конечно, понимал, что уныние — результат испытанного стресса и способ борьбы с этой немощью только один — положиться на волю Божию, молиться и терпеливо ждать новой возможности перебраться на материк…
Совершенно неожиданный срыв планов его отъезда и крушение надежд словно что-то надломили внутри — слишком трепетны были ожидания и непереносимо тяжелым оказался обрушившийся удар. Отец Григорий измучился, исстрадался за годы, проведенные на чужбине, устал душевно. Более десяти лет он не был в храме, не молился на церковных службах, не причащался… Внутренне он, конечно, не переставал молиться, но и молитва, ослабевшая в борьбе с унынием, не приносила духовной радости.
Отец Григорий вступил в тяжелую, смертельную борьбу с состоянием полной человеческой обреченности. Чувство оставленности и нежелание смириться со своим положением подавляли его с каждым днем все более и более. Это был один из самых мучительных периодов в его жизни.
Продолжавшему трудиться в Дальстрое десятником, отцу Григорию по роду своей деятельности приходилось много передвигаться: чаще всего на транспорте, а иногда и пешком. В тот памятный день он, догоняя свою бригаду, шел из строительного управления, имея на руках новый, несколько измененный план работ, — шел, невольно предаваясь своим тоскливым мыслям, которые никак не мог заглушить даже постоянно творимой молитвой. Местность, по которой шел отец Григорий, была давно ему знакома, так как земли эти были частично освоены Дальстроем, и он профессионально ориентировался по легко запоминающимся приметам. Вот характерно растущее дерево, «скрюченное в три погибели», куча недавно завезенного щебня, затушенный костер. Далее виднеется крыша тягача, который на прошлой неделе сошел с основной, простолбленной геологами тропы и теперь безнадежно продолжает уходить в бездонную тундровую топь.
Глядя вперед, отец Григорий обратил вдруг внимание на поляну, раскинувшуюся рядом с тропой. Ранее он почему-то не приметил её, хотя она довольно странно выделялась на фоне чахлой северной растительности своей удивительной красотой, пышностью деревьев, кустарника и травы. Да и кусты на этой поляне были совсем не северные. Батюшка словно попал на родной Урал. Приглядевшись, он удивленно вскинул брови: мелкий, низкорослый ольховник уступал тут место молоденьким сосенкам, которые кружили в своем хороводе вокруг поляны. А меж ними — невозможно поверить! — заросли малины. Настоящей лесной малины со щемяще-сладким запахом и с жужжащими над малинником пчелами.
Так может благоухать только малинник, застоявшийся на солнцепеке где-нибудь в невьянском или тагильском лесу, — а его медово-малиновый аромат кружит голову, пьянит… В глазах — красно от обилия сочных ягод, готовых вот-вот упасть в ладошку. И даже мотыльки — как привет с далекой Родины, как утешение…
При всей осторожности и правиле «не есть ничего незнакомого», выработанным годами, в голове отца Григория понеслись мысли: «Но малину-то! Да с чем ее спутаешь? Ах, какая сладкая, дивная, ароматная! Тает во рту». И как он не видел эту поляну раньше?
Сейчас он еще чуть-чуть поест этих дивных ягод, и надо сказать своим ребятам: пусть идут, порадуются — ее тут немерено, на всех хватит. Состояние — как в детстве. Даже голова закружилась и, кажется, немного заболела. «Мама всегда говорила, что много малины есть нельзя, “а то голова заболит”!»
Увлеченный этим лесным чудом, отец Григорий даже не заметил, что малиновые кусты теснятся как бы на пригорках, а вокруг них — низинки, в которых почему-то скопилась вода. Ноги он давно промочил — «Ну, да не беда. Лето ведь! Высохнут».
Наконец оторвавшись от ягод, отец Григорий решил уже выходить на тропу, тем более что… Он вдруг почувствовал что-то странное: «Малина ведь не растет на болотах», а он давно уже бродит, перебираясь от куста к кусту, по вязко-липкой земле. Малина любит сухие земли, растет в лесу даже на каменистых почвах, а тут? Он посмотрел вперед — одна болотная хлябь с торчащей осокой, зеленой ряской и изумрудно-зеленой травой, под которой (даже думать нечего) — болото.
Болото немереной глубины. «Все. Ухожу».
И в это время — крик. Истошный женский крик:
— Спасите! Тону!
Из-за кустов ольховника, торчащих рядом, ничего не видно. Инстинктивно отец Григорий бросается вперед, делая несколько быстрых шагов, и… сразу же проваливается по колено. Он проваливается не просто в воду, а в самое настоящее болото. Это он понял только тогда, когда почувствовал, что обе ноги начало засасывать в зыбкую топь. А метрах в пяти от него застряла в болотной хляби женщина.
«Молодая. Откуда ей тут взяться?» — пронеслось в голове. Глаза женщины — безумны, она уже по грудь в тине. Увидев отца Григория, закричала еще отчаяннее. Она барахтается в болоте, пытаясь выбраться, но каждое движение все сильнее засасывает ее в пучину.
Жуткое зрелище.
Конечно, отец Григорий спешит на помощь. Он обламывает длинную гибкую ветку растущего рядом ольховника и, держась за один конец, протягивает второй женщине. «Несчастная» цепко хватается за ветку и с поразившей батюшку неженской силой тянет второй конец на себя, резко увлекая этим движением отца Григория вперед. Отец Григорий, прикладывая неимоверные усилия, крепко удерживает свой конец ветки, пытаясь помочь женщине. И вдруг она резко отбрасывает «спасительную» ветку, а отец Григорий чувствует, что под его ногами, уже схваченными болотом, что-то хрустнуло и он проваливается еще глубже.
Сверкнув белозубой улыбкой, столь неуместной в этот момент, женщина, вперив в отца Григория огненно-зеленые глаза, с жутким смехом уходит в болото с головой, не делая никаких попыток сопротивления.
Диавольское наваждение.
Из ближайшего ольховника раздаются вопли, хохот, визги… Шипящий шелест ползет, стелется по болоту. Кажется, он исходит ото всех кустов и травинок:
— Он — наш!-ш!-ш! Теперь уж точно наш!
Отец Григорий понимает, что он погибает. В голове пролетает вся жизнь: родители, Ниночка, малышка. И вдруг со страшной запоздалой предсмертной ясностью он сознает, что его победил грех уныния.
Он ослабил молитву и обречен. «Это — конец».
Еще несколько движений (скорее, интуитивных, неосознанных попыток высвободиться) только усугубляют положение, затягивая его все глубже. Отец Григорий в состоянии крайнего предсмертного отчаяния (благо руки его свободны, да и тело пока меньше чем на половину ушло в болото) — крестится…
Крестится, почти не переставая.
Он начинает творить Иисусову молитву, которая в момент жуткого испуга — появления и исчезновения в болоте зеленоглазой дьяволицы — как бы застыла в голове.
— Господи! Прости меня, грешного! Прости за уныние, за скорбь, за тоску! Ослабил надежду, ослабил веру в Твой промысел. Не смирился. Не принял крест Твой. Прости. Пусть все будет по воле Твоей, если заслужил. Но Ты, Всемогущий и Милостивый, ведаешь все наши немощи душевные. Господи, не допусти страшной кончины! Я виноват! Прости и помоги! Я ушел в свою печаль и не понял сегодня, что и поляна, и малина — прелесть дьявольская. Страшная прелесть, от которой я себя не уберег. И ягоды в рот потянул, не перекрестившись… Господи, прости и не погуби! — молился отец Григорий так, как давно не молился, уйдя в печаль и уныние. — Пресвятая Богородица, защити неразумного раба Своего! Святителю отче Николае, помоги-и-и…
Он замер в молитве, понимая, что его может спасти только вера. Вера в Спасителя и молитва Ему. Отчаянная молитва-вопль. Он читал Ииусову молитву, 90-й псалом и не переставая осенял себя крестным знамением.
Он был весь в молитве, перестав даже думать о себе. Он был на кресте.
Через какое-то время неожиданно под ногой, только что увязающей в болотной трясине, он почувствовал корень какого-то растения — это было что-то плотное, на что можно опереться. С невероятным трудом он укрепился обеими ногами на твердом корне, но корень под его весом начал уходить вниз.
— Господи! Не оставляй меня…
И тут деревце, на чьи корни оперся ногами батюшка, склонилось и легло прямо перед ним. Не переставая творить Иисусову молитву, он ухватился за него руками, почувствовав опору в ветвях, раскинутых на поверхности. Попытался лечь на распластанные ветви, с великой осторожностью отрываясь от спасительного корня и высвобождая ноги, хотя бы частично. Не оставляя молитву, он, осторожно передвигая ногами, почувствовал еще один корень, повыше. Оперевшись на этот корень, он увидел, что еще одно деревце, больше и крепче первого, медленно согнулось и… легло рядом. Батюшка осторожно перекатился на него и, окончательно вытаскивая ноги, уже без сапог, прополз по стволу дерева. Видя перед собой большую, крепкую кочку, он добрался до нее и только тогда, почувствовав более крепкую опору, смог сесть. Из глаз его лились покаянные и благодарные слезы.
Следующая кочка была на расстоянии большого прыжка. Конечно, в обычном состоянии на такой прыжок у него не хватило бы ни ловкости, ни сил. Однако когда душа пламенно взывает ко Господу, то все получается по молитве и вере.
Отец Григорий, собрав остаток сил, допрыгнул до следующего зыбкого островка. Правда, чуть снова не соскользнул в болотную топь, но успел ухватиться за ствол рядом стоявшего кустарника. Устоял. Перекрестился. Перевел дух.
А далее он увидел какое-то подобие тропы, по которой с великой осторожностью выбрался к тому месту, откуда и начал свой путь в диавольские топи. Это и было началом злополучной поляны, заворожившей отца Григория своей малиновой красотой.
Малиновая поляна — демонская ловушка.
Но где же она, вся эта красота? Где малиновые кусты? Где родные уральские, как показалось, сосенки? — Вокруг обычный тундровый ольшаник!
Батюшка сел на землю, пораженный, потрясенный. Душа его разрывалась от благодарности Господу и от горького осознания своей человеческой немощи. Он понимал, что недремлющие демонские силы, которые давно жаждали ухватить себе эту преданную Господу душу, воспользовались минутой слабости, минутой скорби и… расставили свои сети.
«Родной сосновый лес», «малина», «помощь погибающей женщине»… — все это демонская работа… Но он тоже виноват: слишком глубоко ушел в свое страдание и временно ослабил молитву — эту живую нить, связующую его с Небом. Именно за это он так страшно поплатился. Сотрясаясь от дрожи, пронизывающей его насквозь, отец Григорий сидел на краю дороги, мокрый от болотной воды и холодного пота. Сапоги остались в болоте. Планшет, который был на поясе, потерян.
Его лицо и руки были изодраны в кровь острой, как нож, болотной осокой. Раны тут же покрылись многочисленной мошкой, густо облепившей его. Но боли он не чувствовал. Он молился. Он благодарил Господа. В его душе зрела всесокрушающая волна покаяния за свое временное расслабление, за приступ скорби и уныния.
Как мог впасть он в такое горькое состояние? Столько раз спасаемый Господом из, казалось бы, безвыходных ситуаций, столько раз ощутивший на себе Его Божественную помощь, знающий, что все совершается по воле Творца, — как мог он вдруг допустить неизбывную скорбь, чуть не погубившую его?
Да, тяжело оттого, что не смог улететь домой, тяжело от подлого обмана. Но, значит, еще не время. Может быть, он не случайно задержался на этой северной земле?
Господь ведает всем, Его промыслы, Его пути для нас непостижимы. «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим.11:29).
«Прости, прости меня, Господи, — молился отец Григорий. — Я проявил слабость. Спасибо, что Ты не допустил погибнуть мне, стоящему на краю пропасти. Этот страшный, тяжелый, но важный урок научил меня не надеяться на силы человеческие, а уповать только на благословение и помощь Творца!»
Отец Григорий плакал.
Это были покаянные слезы. Как елей, смягчающий раны больной души. Как ливень после сухой грозы, облегчающий сердечные муки. Это были слезы вины и благодарности, укрепляющие сердце для дальнейших испытаний.
Неудержимые рыдания волной накрыли отца Григория, высвобождая его душу из мрака безнадежности. Они снова зажгли в нем желание жить, бороться, молиться и надеяться на то, что имеющему горячую, искреннюю Веру Господь никогда не даст погибнуть на «малиновой поляне». Это были чистые, искренние, спасающие слезы, дающие новые силы и надежду.
«Да будет воля Твоя во веки веков! Аминь!»
Таежные дары
Этот рассказ возник из воспоминаний, казалось бы, не связанных между собой. Он соткан из мимолетных картин и впечатлений о диком Севере, где человеку так трудно существовать; собран из отдельных, на ходу оброненных фраз отца Григория о жизни и быте коренных северян, об особенностях сурового таежного климата и еще… из отрывочных рассказов батюшки о каких-то удивительных книгах в заброшенном таежном поселке. В общем, эти строчки повествуют о таежных дарах, полученных отцом Григорием в далеком магаданском крае.
Несомненно, что это был дар Божий.
Так получилось, что в беде, которая постигла диакона Григория Пономарева на этом сложном отрезке жизненного пути, он обрел новые знания, укрепившие его богословское мировоззрение. Так неизбежное зло — 16 лет ссылки с клеймом «врага народа» — обернулись для отца Григория еще и благом, и страдания его истомившейся души, переплавленные в горниле суровой северной жизни, через много лет дали плоды.
«И если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это — дар Божий» (Еккл.3:13).
* * *
Во вторник, на первой неделе Великого поста, у дорожников-строителей из поселка Ягодное, в бригаде которых работал бывший заключенный Григорий Пономарев, случился простой. Где-то в бездорожье недалеко от их участка застряла тяжелая техника со стройматериалами, и рабочие оказались в безбрежной тайге оторванными от мира.
В ожидании работы кто-то пошел спать в дорожный вагончик — их временное пристанище, кто-то «резался» в карты, допивая остатки паевого спирта. Отец Григорий решил пока просто побродить где-нибудь вблизи — побыть наедине с природой, послушать шум тайги. Работая в жестком рабочем графике строительной бригады Дальстроя, прокладывающей дорогу через таежные чащобы, он не имел возможности быть наедине с собой и только мечтал о созерцательной тишине для своей страждущей души.
Едва заметная тропка или, может быть, старая лыжня вывела его к полузаброшенному охотничьему поселку, сиротливо притулившемуся в низинке менее чем в километре от стройки. Судя по добротности изб, поселок еще совсем недавно был крепким хозяйством, теперь же имел вид заброшенного медвежьего угла. Издали видно было, что не все дома в нем обитаемы. Большинство заборов, ограждающих когда-то крепкие срубы да хозяйственные постройки, развалились, а остатки поленниц давно разобраны соседями — не пропадать же, в самом деле, чужому добру!
День клонился к вечеру, и мороз при полном безветрии крепчал. Вертикальные столбики сизоватого дыма, курившиеся из труб деревенских домиков параллельно друг другу, выглядели как нарисованные.
Лениво перетявкивались собаки, скорее по привычке, чем по потребе. В замерзших, наполовину засыпанных снегом оконцах слабо мерцал свет. Одинокие избы с одноглазыми ставнями, грубо срубленные из местного леса, дышали глубокой печалью. Поселение было настолько оторвано от мира, что казалось, будто тут сто лет не ступала нога заезжего человека. Большую дорогу, ведущую к деревушке, давно перемело, и местами приходилось идти по пояс проваливаясь в снегу, однако эти домишки чем-то необъяснимо притягивали к себе отца Григория.
Но до них надо было еще добраться, спустившись к низинке. А сейчас он шагал по тайге напрямик к поселку по какой-то старой охотничьей тропе. Лесного зверья он не боялся, так как грохот строительства давно распугал местных хищников. Зато зайцы выскакивали у него прямо из-под ног.
От мороза кедры как-то зябко потрескивали, покряхтывали, как старые деды. Белки, а их было множество, резвились в ветвях деревьев, стряхивая с них легкое, снежное покрывало, которое, падая вниз, рассыпалось в воздухе, сверкая на солнце бриллиантовой пудрой. Белки-летяги перелетали с дерева на дерево, ловко бегали, взбираясь по стволам, уходящим вверх. Они никого не боялись и бесстрашно перебегали тропинку перед идущим по ней отцом Григорием. Видны были даже их любопытные мордочки и бусинки глаз. Вот в голову прилетела вылущенная кедровая шишка.
— Совсем распоясались! — проговорил улыбаясь батюшка.
Заходящее солнце уже не путалось своей верхушкой в заснеженных густых кронах деревьев. Вот оно, словно длинными, светящимися спицами, насквозь прокалывает своими вечерними лучами таежное пространство и, словно театральным софитом, бликующим от снежного зеркала, подсвечивает лесной «партер», и от этого внизу, на тропинке, кажется намного светлее, чем наверху. Вот вытянулись от прямых скрипучих стволов сизовато-лиловые тени, а через минуту стали совсем черными.
В воздухе запахло дымком и чьим-то ужином…
Поселок совсем рядом. Оглянувшись, батюшка подошел к избе, стоящей несколько на отшибе от других. Дворовые постройки и забор, очевидно, давно упали, безнадежно заметенные снегом, но под окном углядывалась-таки небольшая полуразваленная поленница…
«Какое запустение! — быстро мелькнули мысли. — Да здесь, пожалуй, и собаке-то негде укрыться».
Изба, напоминающая барак, наполовину занесена была снегом, давно слежавшимся и потемневшим к концу зимы. Низенькая дверь снаружи избы была утыкана каким-то полурваным картоном и старым тряпьем, очевидно, для тепла. Видно было, что дверь, заваленную снаружи снегом, давно не открывали.
«Как же тут живут? — подумал отец Григорий и тут же предположил: — А может, это старики, которые уже и выйти-то из избы не могут. Да и живы ли они…» Но слабо мерцающий внутри избушки огонек вселял надежду. Как смог, батюшка разгреб снежный сугроб перед входной дверью и постучал.
Тишина. Он нерешительно потянул на себя дверь. Примерзла, конечно. Стал тянуть сильнее, и наконец дверь надсадно «крякнула» и, заскрипев, открылась. Изнутри она была покрыта толстым слоем куржака. Какой-то затхлый, устоявшийся запах резко ударил в нос. В избе — промозглая сырость, холод.
Отец Григорий оглянулся. Прямо напротив двери — огромная печь. Перед заслонкой что-то свалено в кучу: какие-то листы, картонки, коробки… — сразу не разобрать. В избе полумрак. В переднем углу, где нет ни одной иконы, — длинный стол, на краю которого примостился самодельный светильник с каким-то переплавленным жиром — обычный способ освещения избы на Севере. У другой стены, напротив маленького оконца, привалена лавка, а на ней, кажется, — чья-то скрюченная фигура, накрытая тулупом. И более никого.
Несмотря на шум, сопровождавший приход отца Григория, на лавке никто даже не шевельнулся. Батюшка приблизился к лежанке, готовый увидеть самое неприятное. Но когда он тронул за плечо скрюченное тело, то, к его удивлению, человек зашевелился и, приподняв голову, довольно бессмысленно уставился в пространство перед собой… Это был дряхлый старик. Видно было, что он тяжело болен, и, по всей видимости, давно. Сколько он тут лежит, похоже, и сам не помнит. На полу рядом с лавкой — железная кружка, на дне которой давно засохла и заплесневела какая-то жидкость, наверное, остатки чая. Тут же брошен стылый обломок черного сухаря. Зрелище, конечно, неприглядное. Ничего не понимая, старик беспомощно уронил голову на свой лежак.
Сердце батюшки сжалось от сочувствия и жалости. Он присел на край лавки и попытался растолкать деда, откинув его полушубок. Иссохшее, старческое тело было настолько истощено, что батюшка, хоть и повидавший многое в жизни, исполнился невыразимого сострадания к этому старому, больному человеку. «Сколько же их, брошенных, одиноких стариков… — отец Григорий думал, конечно, о репрессированных родных и о тех несчастных, с кем проходил по делу, — сколько их погибло! А многие и по сей день умирают от голодной смерти в своих и чужих углах!»
Хозяин избы что-то тихонько и невнятно промычал, и было непонятно, благодарит он или, наоборот, недоволен. Вот где пригодился паевой спирт, который выдавался каждому строителю-таежнику. Отец Григорий осторожно растер целебной настойкой впалую грудь старика и его худющую спину с выпирающими лопатками.
На печи за ветхой занавеской Григорий нашел еще одну кружку. Он налил в нее глоток спирта и на свой страх и риск почти насильно влил «лекарство» в черный провал рта старика. Дед сделал глотательное движение, поперхнулся, криво сморщив худое старческое лицо, но… проглотил все-таки обжигающую жидкость. А в это время батюшка, не прекращая растирать его скрюченное тело, творил Иисусову молитву. Вскоре дед встрепенулся и довольно осознанно оглядел все вокруг. Остановив свой взгляд на батюшке, он слабым голоском спросил:
— А ты кто?
— Я — человек, Григорием зовут. Рабочий я со стройки.
— А чё те надо? Ты почто меня обихаживашь? Анька прислала?
Отец Григорий подумал: «Господь меня привел к тебе» — но ответил утвердительно по поводу Аньки, чтобы не пугать старика. После столь энергичных воздействий внутреннего и внешнего характера старик заметно приободрился и его ввалившиеся, черные щеки даже немного порозовели.
— Ты, дед, с кем тут живешь-то? Давно болеешь?
— Да один я тута, — с трудом проговорил старичок. И, немного помолчав, добавил:
— Вот сеструха маненько присматриват. А так.. Один. Уж я ведь совсем старый, — он снова замолчал, и далее продолжил: — А щас она поехала к золовке в Лосинку. Да шибко давно ее чтой-то нет.
После этого мучительного объяснения дед закашлялся затяжным, простудно-старческим кашлем и умолк, махнув беспомощно рукой. Видимо, он давно уже ни с кем не говорил. Выяснилось все же, что его сестра, живущая тут же, в поселке, как может, присматривает за ним: приносит ему еду, топит печь. Сама она тоже уже в годах и с хозяйством управляется с трудом. Как давно она уехала, батюшке так и не удалось узнать, но, судя по наметенному сугробу у входной двери, не меньше недели.
— А болеешь ты давно, дед?
— Да… Как она уехала, меня враз и скукожило…
— А звать-то тебя как?
— Иваном…
— Есть хочешь? Когда ел-то последний раз?
— А… Не помню, мил человек. Забыл я, как звать-то тебя… Старый, вишь…
— Григорий я. Гриша, если по-простому.
— Ну, ну. Гриша, значит. Так тебя не Анна прислала? — при этих словах старик как-то сразу сник.
Отец Григорий решил обойти эту, очевидно, болезненную тему. «Надо растопить печь, хоть чем-то покормить деда», — подумал он и произнес:
— Слушай, Иван! Я сейчас печь растоплю и принесу тебе поесть. Я из бригады Дальстроя. Недалеко стоим. Скоро приду.
— Ох, спаси тя Царица Небес.. — старик вдруг нарочито-громко закашлял, чтобы заглушить последние слова, а затем продолжил: — Я уж думал, что помру… И Буян чего-то не брешет… Давно не кормленный. Видать, издох… А может, его волки загрызли… — добавил он, впрочем как-то равнодушно.
Батюшка вышел на улицу, где приметил под окном хилую поленницу. Он огляделся, в надежде увидеть хозяйскую собаку, даже позвал:
— Буян… Буян…
Тщетно. Взял дрова и, зайдя в дом, свалил их у печи. Рядом лежали какие-то бумажные коробки, скорее всего, для растопки. Наклонившись над ними, он вдруг понял, что это… книги — большие, увесистые книги в старинных, богатых переплетах.
Кровь ударила в голову! «Быть не может!»
Но это в действительности были роскошные книги, кажется, дореволюционного издания. Некоторые из них, видимо, уже пострадали от «хозяйственной деятельности» обитателей избы. Григорий взял со стола светильник, поднес его ближе к коробкам… и сердце его от волнения заколотилось так, что, казалось, вот-вот оно ухнет куда-то вниз.
На щербатом, грязном полу лежали книги, прекрасно изданные еще в прошлом веке. Он бегло пролистнул страницы некоторых изданий. В мерцании светильника перед ним проплывали знакомые еще с детства и совсем незнакомые тексты… Это были книги известных поэтов, писателей и литераторов с мировыми именами.
Видно было, что обложки книг когда-то были тиснены золотом. А теперь они лежали у деревенской печи, разъеденные плесенью. Григорий на какое-то время оцепенел, потом порывисто прижал эту драгоценную находку к груди и был не в силах отнять от них рук.
Но откуда здесь книги? Не найдя ответа на мучивший его вопрос, отец Григорий оглянулся на деда. Да, конечно, тепло и пища для старика сейчас важнее всего. Он осторожно переложил книги к стене, подальше от печки. Руки его дрожали, он никак не мог успокоиться. Усилием воли батюшка заставил себя затопить печь. Налив в большой алюминиевый чайник воды, поставил его на старую чугунку. Он все время косился на деда, порываясь побыстрее расспросить его о книгах и понимая, что пока не время для разговоров.
От спирта и тепла печи, постепенно нагревающего жилище, ослабевший старик снова задремал и даже полушубок свой скинул. А пока он дремал, батюшка решил сходить в вагончик и принести деду что-нибудь съестное из своего скудного рабочего пайка, так как в избе пищи не было никакой. Себя отец Григорий давно научился ограничивать во всем, даже в пище. Десятилетняя суровая школа выживания в условиях лагерной жизни Севера принудила его терпеть многие лишения.
Сейчас он сходит в вагончик, возьмет немного еды, сушеной земляники, блокнот и карандаш и вернется. Кстати, надо предупредить ребят, чтобы его не теряли — он, скорее всего, заночует в поселке у деда.
Все, что произошло с ним в этот день, казалось ему призрачным, как мираж. Книги были настоящим чудом. Книги, да еще какие! Ему все время думалось, что, пока он в отлучке, его сокровище рассыпется, как песочный зfмок, или… кто-то вдруг придет и унесет книги безвозвратно. «Наверное, по какой-то нелепой случайности или просто по ошибке они оказались в доме у деда, — говорил сам себе батюшка. — Надо спешить хотя бы что-то прочесть…»
Обратно в дедову избу он несся со всех ног. Теперь от затопленной им печи вертикальным столбиком вился дымок. «Откуда все-таки оказалась в заброшенном таежном углу эта драгоценность?» — вопрос как заноза засел в голове у батюшки.
С этими мыслями Григорий и влетел в дом.
Дед мирно посапывал, разморившись от тепла. Вода уже кипела. Батюшка заварил в кружке сухие ягоды земляники, которые сам собирал летом. Затем, скосив на всякий случай глаза в тот угол, где еще совсем недавно лежали на растопку уникальные книги, он подбросил в сырую печь несколько дровишек и в обнимку со своим сокровищем уселся поскорее за стол.
«Конечно, — думал он, — случилось невероятное! Вот уж поистине настоящий подарок судьбы!»
Старые подарочные издания конца 19-го и начала 20-го веков! Авторы многих книг неизвестны батюшке, хотя в доме у Пономаревых была большая старинная библиотека, и отец Григорий еще в детстве успел прочитать бjльшую ее часть. Но эти — почти все переводные: с немецкого, французского, английского. У архимандрита Ардалиона не было таких дорогих и роскошных книг — жили они хотя и в достатке, но все-таки скромно.
А вот «Труженики моря» Виктора Гюго!
Когда-то давно он читал это произведение. Отец Григорий порывисто, но осторожно, чтобы не увидел дед, прижал знакомую книжку к щеке. «Господи! Как давно не держал я в руках хорошей книги!» От волнения у него даже разболелась голова. Чтобы хоть как-то унять волнение и боль, он выпил горячей воды из громадного чайника и… вновь окунулся в свой глубоко скрытый от всех внутренний мир — мир постоянных размышлений о смысле жизни, о вечности, о духовных ценностях, о вере и неверии. Он давно думал о том, как убедить погибающее человечество в том, что мир сотворила не природа, а Всемогущий Разум. Он мечтал написать книги, призывающие человека, оскудевшего в вере, обрести Христа; он хотел повéдать всем о гуманизме и принципах христианской морали. Здесь, на Севере, это было, конечно, невозможно, но не думать об этом он не мог. И вот неожиданно Господь подкрепил его силы. Он дал ему ту пищу, которая, питая одного, могла укрепить многих. Он искал Бога везде, и находил Его…
Поначалу, в сильном волнении, отец Григорий перебирал все книги подряд, пробегая быстро глазами то одну, то другую. Он то хватался за карандаш, чтобы записать какие-то имена, названия, то бросал все и снова погружался в незнакомые тексты, не в силах прервать увлекательное чтение. Вот уж, действительно, настоящее потрясение!
Наконец поняв, что так дело далеко не продвинется, он буквально заставил себя закрыть все книги.
Встав из-за стола, Григорий перекрестился, подняв глаза к окну. Немного придя в себя, батюшка продолжил молитву. Он просил у Господа вразумления, не зная, как правильно воспользоваться неожиданным даром. Просил, чтобы книги вдруг не исчезли, чтобы их дорожную бригаду никуда не перебросили с этих мест. Просил, чтобы у него хватило времени хотя бы все прочесть, а может, что-то переписать. Он просил у Бога сил успокоиться и помочь ему, диакону Григорию Пономареву, правильно распределить время, чтобы успеть с пользой для души освоить этот объемный литературный материал…
«Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением» (Тим.4:13) — евангельские стихи вошли в его сердце как подкрепление.
Помолившись, он снова сел за работу.
Сколько прошло времени и который сейчас час, Григорий не знал, но, когда наконец он оторвался от книг, за оконцем избы синел поздний зимний рассвет. Батюшка притронулся к уставшим глазам, а в них — словно песок насыпан, так ломило и жгло…
На лавке зашевелился дед.
Ох, а печь-то уж давно прогорела!
Мысли его, как волны после шторма, медленно успокаивались, чтобы далее работать в определенном, привычном для него с юности, размеренном ритме.
Среди книжных имен и названий, ранее знакомых отцу Григорию, было много новых, не известных ему. «Интересно, очень интересно!» — думал отец Григорий, с волнением листая пожухлые книжные страницы.
Вот сборник трудов по естествознанию немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гете, среди которых отца Григория особенно заинтересовала работа «О цвете». А далее… — имена авторов мелькали у него в сознании как что-то недосягаемое — Фридрих Шиллер, Теодор Драйзер, Виктор Гюго, Альфред Гуго… Но самое дорогое, конечно, это дневниковые записи и переписка русских классиков: Пушкина, Гоголя, Чехова, Достоевского, Герцена, Белинского, Соловьева, Ключевского…
Исключительно ценным было то, что в этих дореволюционных изданиях сохранились полные тексты известных произведений — без купюр и сокращений, так что отец Григорий мог утолить свой духовный голод чтением, например, романа «Братья Карамазовы».
На всю жизнь запомнил батюшка слова старца Зосимы: «Праведник отходит, а свет его остается».
Позднее, уже вернувшись с Севера, он в отдельную тетрадку выписал отрывок из бесед и поучений старца, подчеркнув красным карандашом текст, поразивший его евангельской истиной:
«Если же злодейство людей возмутит тебя негодованием и скорбию, уже необоримою, даже до желания отмщения злодеям, то более всего страшись этого чувства; тотчас же иди и ищи себе мук так, как бы сам был виновен в злодействе людей. Приими сии муки и вытерпи, и утолится сердце твое, и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже как единый безгрешный, и не светил. Если бы светил, то светом своим озарил бы и другим путь, и тот, который совершил злодейство, может быть, и не совершил бы его при свете твоем. И даже если ты светил, но увидишь, что не спасаются люди даже и при свете твоем, то пребудь тверд и не усумнись в силе света небесного; верь тому, что если теперь не спаслись, то потом спасутся. А не спасутся и потом, то сыны их спасутся, ибо не умрет свет твой, хотя бы и ты уже умер.
Праведник отходит, а свет его остается».
Поучение старца Зосимы отец Григорий пронес через всю свою жизнь. Он помнил о нем и в те горькие минуты, когда злодейство людей возмущало его негодованием и скорбию, но он принял эти муки и вытерпел, ибо своим светом — светом праведника — озарял этим злодеям путь.
«Как оказались в этом таежном медвежьем углу книги классиков?» — неотступно крутилось в воспаленном сознании. Эта мысль целиком захватила отца Григория, на какое-то время вытеснив все остальное. Она точила его, не давая спокойно вдуматься в смысл происходящего. «Да! — наконец осознал он. — Надо все же узнать, откуда у старика это сокровище?»
В это время дед снова зашевелился на своем топчане и, подняв сонную голову, мучительно-глухо закашлял. Батюшка с нетерпением смотрел на него, ожидая, когда он окончательно проснется.
А тот вдруг заговорил:
— Мил ты человек! Ведь я, старый, снова забыл, как звать-то тебя… Сестрица-то моя не приходила?
На ответ, что пока не приходила, дед отпустил несколько «глубокомысленных» замечаний непечатного характера по поводу своей легкомысленной родственницы, которая «вовсе стыд и совесть потеряла»…
Нелитературная речь деда окончательно вернула отца Григория к действительности.
— Ладно, Иван. Давай-ка лучше будем лечиться и перекусим немного. Тебе силы надо восстанавливать…
Дед не перечил.
Отец Григорий влажной тряпкой обтер старику лицо, шею, руки, решив, что для умывания этого достаточно. Затем налил ему горячего отвара из трав и земляники. Из вагончика Григорий принес даже немного меда. Нашлись у него и горчичники, купленные летом в райцентре. Дед смотрел на Григория совершенно детскими, влюбленными глазами. Он послушно выполнял все лечебные процедуры. А когда батюшка, особо не мудрствуя, покормил его своей походной едой, то старик совсем раскис, растроганный до слез:
— Да откудова ты такой, Гриша?! Тебя не иначе, как Господь ко мне, сирому, прислал!
Сказав это, старик вдруг чего-то испугался, глаза его странно забегали, и он смущенно забормотал:
— Ты того, парень, меня, старого, не слушай. Мы все того-энтого… Народ и партия… Как его… Ну, едины, едины, блин…
От такого неожиданного заявления из уст дряхлого деда на отца Григория напало какое-то безудержное веселье и он еле сдержался, чтобы не засмеяться.
«Это и комедия, и трагедия одновременно! — усмехаясь, подумал батюшка. — До чего же можно довести человека, так надломив его душу! И тем не менее надо узнать, кто он, этот дед».
Успокоившись, батюшка вернулся в избу, подошел к старику.
— Давай отдыхай, отец. Сил набирайся. Едины так едины…
Дед успокоился, что, кажется, не сказал никакой крамолы и его не бросят в сей же момент, и постепенно впал в дрему. Отец Григорий оделся, вышел во двор, покричав еще раз исчезнувшего Буяна, и решил, что если сейчас снова сесть за книги, то голова просто не выдержит. Надо, пожалуй, сходить в вагончик, узнать, как там. Вдруг технику уже привезли и надо работать?
Мороз набирал силу. Даже белки сегодня где-то притихли, только снег хрустел под ногами так, что, казалось, слышно было по всей Сибири.
В вагончике было накурено и душно. Техника еще не пришла, и почти все рабочие спали. Но один поднял заспанную голову:
— Что? Нашел кого в поселке? Ну-ну, — ухмыльнулся, впрочем вполне дружелюбно, и снова заснул.
— Нашел, нашел, — отозвался Григорий и тихо, скорее уже для себя, добавил: — Такое сокровище, что и в сказках не сказывают.
Батюшка забрал остатки своего пайка, написал на клочке бумаги, чтобы его не теряли, что он в охотничьем поселке, в избе старого деда. Весело хрустя сухарем, в приподнятом настроении Григорий помчался к своему книжному сокровищу. Он вновь почувствовал прилив сил, несмотря на бессонную ночь. Мысли уже перерабатывали полученные знания и томились в ожидании новых… Когда он зашел в избу, дед сидел на лавке, свесив ноги. Видно было, что он выходил во двор.
— Вернулся?! — радостно воскликнул он. — А я уж думал, и ты ушел… И Буяна нет… — вдруг жалобно то ли сказал, то ли спросил хозяин. И немного погодя добавил: — Шатает меня от слабости…
Отец Григорий затопил печь, снова напоил деда упаренной земляничной травой. Затем покормил его, и пока старик не заснул, стал тихонько расспрашивать: кто он, откуда у него эти книги, могут ли их забрать…
Понемногу дед разговорился. Выяснилось, что изба, в которой они находятся, в свое время была клубом. Тогда поселок процветал, и срубы, как теперь, не пустовали. Местные жители занимались в основном охотничьим промыслом, сдавая в райцентр пушнину; этим и жили. Иногда к ним привозили лавку с продуктами. В деревне было много грамотных, понаехавших невесть откуда; их считали чужаками.
— Частенько к ним наведывался уполномоченный… — при этих словах Иван скосил глаза в сторону своего гостя. — Он отмечал что-то в казенном блокноте, выписывал им бумажки, в которых они должны были обязательно расписаться.
А он, Иван, был сторожем и завхозом, как он гордо сказал, «этого клуба». Заведующим клубом был молодой и бойкий парень, который по воскресеньям всё пластинки крутил да танцы устраивал.
— Поселок бы-ы-л… хоть куда! — мечтательно протянул старик.
А однажды к ним привезли вот эти самые книги. Откуда, Иван не знал. Сказали, что при клубе должна быть библиотека. Однако строптивое население охотничьего поселка не прислушивалось к призывам партии «учиться и учиться», а все больше как-то стремилось к танцам да гулянкам. А когда разобрались, что привезенные книги — буржуазная «скукотища» из прошлого века, то поняли, что их просто обманули!
Плевались все:
— Подсунули, контры! Вот ведь всегда нашего брата стремятся одурачить… Себе, небось, в райцентр — романы про любовь да детективы, а нам, значит, эти сойдут?
— Ну кто их читать будет? Зачем, спрашивается, они нам? — позлословили промеж собой люди да и забыли о книжонках.
— Правда, те, что из «грамотных» были, книжками энтими антересовались. А вскоре заведующий клубом приказал стаскать все книги в темный чулан — вдруг кто спросит для отчета…
— Так они и лежат уже много лет, — разговорился старикан. — А потом что-то сменилось там, наверху. Сменился порядок приема пушнины, стали за нее мало платить, и поселок постепенно захирел. Многие разъехались, заколачивая избы. Вскоре исчез и завклубом, прихватив патефон с пластинками. Так в поселке осталось всего несколько семей, которым просто некуда было деваться, — старик о чем-то задумался и вскоре продолжил: — Вот и я один, старый, никому не нужный. Даже сестра родная, помоги ей Гос… — тут он опять не договорил слово, нарочито закашлял и, приглушив голос, добавил: — И то бросила.
Старик горько заохал.
— Помер бы я, кабы не ты, Гриша… — неожиданно добавил он.
— А меня, наверное, Господь к тебе прислал, — отозвался батюшка.
И опять в глазах Ивана мелькнуло что-то затравленное: страх, недоверие… Но когда отец Григорий встал и перекрестился, то в глубине старческих глаз словно что-то надломилось, и они заблестели набежавшей слезой.
— Ох, нельзя ведь нынче об этом, Гриша!
— Да кто тебя выдаст? Веришь в Господа, и слава Ему! И верь! Я-то тебя понимаю…
— Так ты, чё ли, верующий… — вопрос старика повис в воздухе без ответа.
А через некоторое время Григорий отозвался:
— Ну не зря же нас чёлдонами зовут, — и засмеялся.
Так отношения между ними невольно переместились на иную, таинственную и одновременно запретную глубину: их связывала вера в Бога, у каждого, конечно, своя. Старик понял это и окончательно принял Григория всем своим одиноким старческим сердцем, истомившимся по задушевным беседам. Он понял, что теперь уж точно его не бросят и не умрет он в своей избе голодной смертью. Родная душа, отец Григорий — «свой, верующий…» — не оставит его. Только бы строительство не перекочевало на другое место. А там, даст Бог, и сестрица все же вернется.
Книг в чулане осталось с тех времен десятка четыре, но, к сожалению, многие оказались вконец попорчены. Со слежавшимися от влаги и времени страницами, опутанные пыльной паутиной, большинство книг превратилось в жилище для пауков. Но некоторые все-таки неплохо сохранились, так что даже на одной из них батюшка различил на титульном листе надпись, сделанную старинным каллиграфическим почерком: «Из домашней библиотеки князя Раевск….» — остальные буквы потерялись в грязно-зеленых разводах плесени.
Сколько ни спрашивал отец Григорий у Ивана, откуда, поточнее, привезли эти книги, тот только моргал и пожимал плечами:
— Ну не все ли тебе равно?
Батюшка объяснил ему, что жечь хорошие книги, растапливая ими печь, — грех и лучше всего прибрать те, что остались, в сухое и чистое место. Пусть полежат. Может быть, кому-нибудь еще понадобятся…
Пока строительство велось в районе заброшенного поселка, каждый день батюшка, не успев передохнуть после смены, бежал в дедову избу и, забыв о всякой усталости, погружался в чтение.
Он вы´ходил-таки Ивана, отдавая ему каждый день часть своего командировочного пайка. Дед оказался довольно крепким стариком и вскоре земляничными чаями да задушевными разговорами с гостем выкарабкался из своего тяжелого состояния. Ведь таежник он все-таки, что ни говори. К Григорию он искренне привязался, считал своим спасителем, но все же… чудаком. Ну нельзя же, пусть даже и из-за хороших, правильных книг, так убиваться: изучать что-то ночи напролет, переписывать…
— Да забери ты их все!
— Нельзя, — был ответ. — Да и человек-то я приезжий. Как говорят, «перекати-поле». Нет у меня ни кола ни двора в этом крае. Переезжаю с места на место вместе со строительным вагончиком. Куда я возьму эти книги?
Но про себя подумал, что дорога к Ивановой избе с каждым днем удлиняется. А что, если на какое-то время взять с собой книжку-другую, чтобы поработать в вагончике? Да кто знает, с кем он работает? Настучат еще… — и снова по этапу как враг народа, служитель культа. Стукачество нынче особо в цене.
«Нет-нет, это невозможно. Слишком дорогая цена!» И он день за днем штудирует прочитанное, питая ум и душу и пытаясь как можно больше запомнить, а что-то записать. Хотя знает заранее, что, уезжая с Севера, конспекты уничтожит. А уж там, на родном Урале — как Господь даст…
Наконец дорожные работы продвинулись далеко вперед и начальство Дальстроя изменило место дислокации вагончика — их перекидывали сразу на 200 километров на восток; тут уж не походишь каждый день в охотничий поселок, так полюбившийся отцу Григорию.
Как нельзя кстати, объявилась дедова сестра, Анна. Были у нее какие-то свои причины, что долго не навещала брата. Да она и не оправдывалась, а только благодарила батюшку за Ивана.
Прощание было тяжелым.
И дед, и Григорий понимали, что в этой жизни они больше никогда не свидятся. Напоследок Иван только и сказал с грустью:
— А книги-то твои мы беречь будем. Может, они кому-то еще пригодятся. Да и на память о тебе…
Отец Алексий
…Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.
Пс.90-й
Шел шестой год после освобождения отца Григория из заключения. Он имел уже соответствующий документ со всеми подписями и печатями на право свободного передвижения и отъезда. Но все это была лишь хорошо замаскированная форма задержания человека в Магаданском крае, куда из более цивилизованных мест и по контракту-то не заманишь, а работники тут нужны. Формально все конституционные нормы по отношению к нему были соблюдены, выдан паспорт, но реальная возможность выехать, как они говорили, «на материк» была минимальной. Большинство бывших заключенных, освободившись из зоны и предпринимая напрасные попытки уехать, оставались тут же. Постепенно приживаясь, они начинали новую жизнь.
На «материк» можно было попасть лишь самолетом. Пассажирских рейсов в то время не было, летали только транспортные или почтовые самолеты, на которые брали по два-три человека кроме команды, в основном — начальство. Местное же малочисленное население записывалось в негласную очередь на годы вперед. Кроме того, стоимость перелетов в то время была баснословно велика.
Отец Григорий устроился работать в систему Дальстроя, записавшись в очередь на вылет и собирая каждую копейку на оплату дороги до «материка» и на билет (со многими пересадками) до Свердловска. Ему довелось поработать и с геологами, и на метеостанции, и просто на строительстве дорог. Покатилась череда лет формально свободного, но фактически запертого (только уже не в стенах зоны, а на необъятных просторах Севера) человека, выжившего в сталинской каторге и теперь прилагающего все усилия, чтобы вырваться на родину, к семье. Жил он где получалось: летом — в палатках, зимой — в бараках геологов, в вагончиках дорожников и на передвижных станциях метеослужбы.
Как и раньше, он оставался сдержанным и молчаливым человеком, но не угрюмым. Он был трудолюбив и вынослив. Зона выработала в нем обостренное чувство опасности, связанное с природными явлениями, сложными жизненными ситуациями и человеческими конфликтами. К отцу Григорию, по северным суровым меркам, относились хорошо — умен, трудяга, никогда не подведет, верный человек, но «не свой». Не пьет, не сквернословит, а иногда взглянет своими синими глазами, да так, что не поймешь — или он тебя почему-то жалеет, или знает что-то такое, отчего становится не по себе. Даже языки грубиянов и матерщинников под этим взглядом прилипали к гортани. Ну не свой он был среди них, хоть и уважаемый человек.
Работая, отец Григорий творил Иисусову молитву — так повелось еще с зоны. Его молодая и цепкая память, которая с младенчества была настроена на молитвы, восстановила почти всю Божественную Литургию, главы из Священного Писания, молитвы за здравие и за упокой, утреннее и вечернее правило, тексты акафистов. Кроме того, он читал и светскую литературу, которую удавалось каким-то образом добыть. В его архивных бумагах был найден список авторов и книг, прочитанных им после освобождения. Среди них в основном классика. Книги Максима Горького, Стефана Цвейга, Джека Лондона и многих других авторов… Сохранились даже отдельные выписки из прочитанного, много страниц выписано из «Тружеников моря» Виктора Гюго. Живой, светлый ум батюшки все время старался увидеть мир глазами других людей.
Позднее, когда батюшка служил уже настоятелем Свято-Духовской церкви в Смолино, он в качестве послушания благословлял своим духовным чадам чтение книг писателей-классиков. Одна духовная дочь отца Григория, Любовь, рассказывала, что получила однажды от батюшки благословение прочесть книги Виктора Гюго. Прочитав шесть томов из полного собрания сочинений писателя, она остановилась на чтении трагического произведения «Валентин и Валентина» и, потрясенная событиями, описанными в романе, пришла к батюшке со словами: «Все, больше читать не могу…». Отец Григорий, внимательно взглянув на Любовь, тихим голосом сказал: «А больше и не надо…».
Так сбывались слова батюшки, записанные им в духовном дневнике: «Большое дело — давать читать с размышлением. В этом секрет подхода к душе. А непродуманно дать чтение — это просто забросать книгами, не сообразуясь с наклонностью человека. Когда от книги прочитанной осталось впечатление, это значит — попал в цель, а если не так, то считай свой заряд пропавшим».
Чувство одиночества на чужбине, часто подкрадывающееся уныние и тягостные раздумья облегчала только молитва. Очень часто отец Григорий думал о своих родных. О любимой супруге, о дочке, которая росла без него. Он не слышал ее детского лепета, не видел ее первых, неуверенных шагов и успехов в музыке, которые она имела благодаря героическим усилиям своей мамы Нины Сергеевны. Все было без него. Что ж, видно, так угодно Господу. Болело сердце об отце — архимандрите Ардалионе. Из писем жены между строк он мог понять, что связи с отцом совершенно оборваны. «Где же ты, мой дорогой друг, отец, наставник и учитель? Вряд ли стальные челюсти ГУЛАГа пощадили тебя!» Где отец матушки Нины… протоиерей Сергий? Где все столь любимые и дорогие сердцу люди, сгинувшие в пучине 37-го года?
Последние годы отец Григорий почему-то особенно остро вспоминал свое короткое и трагическое знакомство с покойным батюшкой Алексием, его напарником по шахте. Для себя он четко решил: если Господь даст ему вернуться домой, то дальнейшую жизнь он посвятит служению Богу и Церкви. Это был и завет отца Алексия, и обет Богу, данный заключенным Григорием Пономаревым во время пребывания в бараке смертников. Безусловно, если бы даже не эти страшные и мучительные события лагерной жизни, то отец Григорий все равно посвятил бы себя служению Церкви, для которого был уготован с детства.
Воспоминания об отце Алексие часто тревожили его душу. Работая в системе Дальстроя, он неплохо знал окрестные места. Знал и расположение своей бывшей зоны, и места захоронения умерших узников. Места для погребения заключенных нельзя было назвать захоронением. Это были огромные котлованы, вырытые в короткое северное лето. Весной и осенью они заполнялись телами умерших. Когда котлован наполнялся, его слегка прикапывали землей, и то не из соображения человечности и гуманности, а для «санитарной» профилактики. Тела же несчастных, умерших зимой, просто штабелями, как поленницу, складывали где-то там же, а по весне, хочешь не хочешь, тоже приходилось хотя бы слегка присыпать их землей. Тут бродило много диких, отощавших за зиму волков и лисиц. Мелькали и пушистые шубки соболей. Стаи воронья кружились над этими мрачными местами поругания человеческих останков, которые свидетельствовали о еще более страшном разложении — растлении душ живых людей, ведающих этими «полями скорби».
Почвы, часто болотистые, ускоряли, конечно, процесс «выравнивания местности», как это бывает на старых кладбищах. Обычная же тундровая растительность вела себя странно. Целые поляны над захоронениями были покрыты огромными, неестественно разросшимися кустами морошки. Ягоды на них были не оранжевые, а кроваво-красные. Мхи и лишайники вырастали здесь намного быстрее, чем травы из обычной лесотундры. А нежные розово-лиловые и белопенные тончайшие цветочки, повсеместно покрывающие обычную тундру в начале полярного лета, тут не росли вообще.
Ничто не могло скрасить хоть на миг угрюмость и мрак этих мест. Что-то незримо наваливалось в этих местах, давило и душило до изнеможения. Однако отец Григорий, преодолевая себя, иногда приходил в эти места и читал заупокойные тропари, 17-ю кафисму из Псалтири и молитвы, которые помнил с детства.
Странная мысль о том, что он, сам не зная как, может хотя бы примерно определить место захоронения отца Алексия, часто посещала его. Он понимал, что это почти неисполнимо, и гнал от себя нелепые мысли. Но они вновь и вновь настойчиво прорывались в его сознании. Осенью 1952 года он снова, и уже в последний раз, посетил эти места скорби. Необходимая сумма денег для дороги домой была почти собрана, и нашлись люди, которые могли помочь ему улететь, предположительно ранней весной.
Первые морозы уже схватили болотистую почву. На свежем снегу еще более ярко и зло, чем осенью, алела, как разбрызганная кровь, морошка. Мхи, поседевшие от заморозков, покрывали всю поверхность огромной поляны, на которой стоял отец Григорий. Он прощался со всеми невинно осужденными исповедниками православной веры, которые пострадали за Христа, и молился за них. Молился даже за тех, кто отбывал срок за свои злодеяния. Сколько их прошло по тропе страданий за эти страшные десять лет заключения?.. Окружавшая тишина нарушалась лишь тихим «шелестом минут», уходящим в вечность.
Мысли об отце Алексие щемящей раной в сердце не давали ему покоя. Прочитав, как обычно, все заупокойные молитвы, он с мольбой обратился к Господу: «Господи Иисусе Христе! Если есть на то Твоя благая воля, соверши невозможное: укажи место упокоения отца Алексия! Я снова буду просить Тебя, чтобы Ты принял его в Свои светлые обители. На краткий миг нашей земной жизни он был мне как отец. Помоги мне, Господи, запечатлеть в своем сердце все, что связано с дорогим человеком». Тусклое на закате дня солнце осветило напряженное, устремленное в небо лицо отца Григория и его глаза, увлажненные слезами. Бросив прощальный взгляд на поле, сквозь слезы он увидел вдалеке какой-то странный отблеск: то ли осколок стекла блеснул на солнце, то ли это был какой-то огонек. Смахнув скупые слезы, он напряженно вгляделся вдаль и вновь увидел эту «светлинку», почти на снегу. Он быстро зашагал к ней, боясь потерять ее из виду.
Где-то вдали по краю поляны прошли два человека. Они как будто уходили от странного огонька и вскоре скрылись в подлеске. Отец Григорий почти не обратил на них внимания: мало ли кто может тут проходить — те же дорожники или геологи, возможно, сокращали себе дорогу, проходя кладбищенской поляной. Он очень боялся потерять из виду маленький огонек, который как бы звал, чем-то привлекая к себе. По мере приближения стало видно, что он горит не прямо на снегу, а на конце тоненькой палочки, воткнутой в снег, и вот-вот потухнет.
Теперь он ориентировался только на эту желтоватую на фоне снега палочку. Огонек исчез совсем, но, когда он подошел еще ближе, сердце его стало отбивать гулкие, мучительные удары. Он не верил своим глазам, но палочкой этой оказалась… свечка. Тонюсенькая восковая свечка. Самая настоящая. Откуда здесь, в таком безлюдном месте, горящая церковная свеча? Он шестнадцать лет не держал ее в своих руках. Кем была зажжена эта поминальная жертва?
Мысль его остановилась на тех двоих, что ушли в подлесок. Но что-то подсказывало сердцу, что молитва его услышана, ибо «всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Как близок к нам Господь, как Он видит и слышит нас, как любит и всегда откликается и помогает!
Когда отец Григорий подошел ближе, фитилек свечи уже обуглился, а по воздуху плыл сизоватый дым. Уняв клокочущее сердце, он вновь зажег свечку. Сотворив благодарственные и заупокойные молитвы, он поцеловал землю, где горела свеча. В душе его волной прокатилась тихая, светлая печаль и одновременно радость и благодарность Господу. Конечно, это было место захоронения отца Алексия. Отец Григорий тогда еще не был священником и не мог по полному чину совершить панихиду, но все, что зависело от него в тот момент, он выполнил.
Домой он возвращался при луне, печально освещающей этот скорбный земной уголок. Но времени он не чувствовал, только понимал, что до конца исполнил свой долг перед покойным батюшкой. Отец Григорий бесконечно благодарил Господа за чудесную помощь и за возможность промыслом Божиим исполнить свои христианские обязанности.
В эту же ночь он увидел во сне отца Алексия. Батюшка был в полном священническом белоснежно сверкающем облачении. На голове его сияла митра, переливаясь светом драгоценных камней и золотом шитья. Глаза его, трогающие душу своей кротостью и младенческой чистотой, смотрели на отца Григория с любовью и радостью. Рядом с отцом Алексием стоял еще один старец, такой же светлый и сияющий, но незнакомый отцу Григорию.
«Ну, Гришенька! Вымолил! — был голос. — Спасибо тебе, сынок, за память, за молитвы. Они услышаны. Теперь простимся надолго. Я буду за тебя молиться, а тебе предстоит еще большая, долгая жизнь и много подвигов во славу Божию. Храни тебя Господь!» Он благословил отца Григория, и на этом сон оборвался. А может, это был не сон? Отец Григорий ощутил себя лежащим с открытыми глазами, устремленными в ночное небо. Желтая луна заливала все кругом своим нереальным, призрачным светом. Вокруг нее — большое светлое сияние. Говорят, это к морозам. Так началась последняя магаданская зима в жизни отца Григория.
Уже к концу марта 1953 года ему сказали, чтобы он подготовил деньги для перелета. В апреле он уволился из системы Дальстроя и, получив все документы, в этом же месяце навсегда распрощался с шестнадцатью годами заключения и тяжелых, непосильных трудов, которые стали для него восхождением на свою Голгофу. Он благодарил Бога за все и, прося Его помощи и покровительства в дальней дороге, покинул этот край человеческих страданий, направляя свой путь к новой жизни, новым подвигам и свершениям во славу Божию.
«Дивен Бог во Святых Своих — Бог Израилев!»
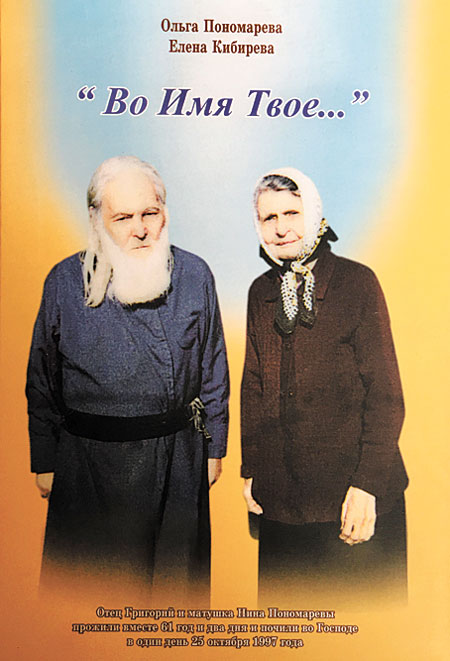









Комментировать