Каждый из нас составляет только одну частичку того великого, таинственного, вечного, бесконечного целого, которое мы называем Жизнью.
Кроме нас самих, жизнь проявляется в миллионах окружающих нас живых существ. Каждое из этих существ, каждое из малейших из них, имеет все, совершенно равные с другими созданиями, права на свет, воздух, пищу, на свет любви и тепло дружбы, на общее внимание и участие, на все, для чего дано ему бытие.
Чем глубже сознание у человека, чем человечнее его сердце, тем сильнее чувствует он братское единство своей жизни со всем этим миром жизней, тем полнее признает человек права всякого живого существа и тем более их уважает, тем с большей чуткостью относится он к жизни каждого из существ, тем больше стремится он содействовать счастью каждого и избегать, насколько только возможно, всего, что может причинить какому бы то ни было живому созданию несчастье или страдание.
Это чувство глубокой братской связи со всем миром жизней, это чувство справедливости и симпатии ко всякой жизни и уважения к ее правам есть одно из высших чувств человека. Без него человек — только получеловек. Рождающиеся из этого чувства внимание, симпатия и сострадание, уважение ко всем живым существам и называют «человечностью», то есть таким свойством, которое должно выражать самую основу, самую истинную природу человеческой души.
Одной из главных задач всех великих пророков человечества, всех «человечнейших» мыслителей и поэтов было будить своею проповедью это чувство в тех, которые еще не сознали его, расширять его в тех, в которых оно еще слишком узко, и обличать и бороться против всего, что стремится подавить или исказить это чувство в человечестве. Все такие пророки, мыслители и художники старались и стараются воздействовать на человека в том смысле, чтобы научить его, помочь ему, заставить его переноситься душою в центр жизни других существ, заставить его жить жизнью не своею одной, а жизнью всего окружающего его живого мира, перестрадывать его страдания и радоваться его радостям, бороться и трудиться ради общего блага, забывая в этом широком чувстве и на этом общем пути свои личные желания, ставя выше всех других своих стремлений общее счастье, служение общему началу жизни.
Видя, что большинство страданий в мире происходят не столько от стихийных бедствий, сколько от тех существ, которые заставляют страдать других от своей нравственной и умственной нечуткости, от своего рода душевной слепоты, мешающей им видеть и чувствовать единство свое со всем живым миром, препятствующей их сердцу биться одним пульсом с жизнью окружающих их существ,— видя это, проповедники человечности направляли и направляют все силы своей любви, своего разума, гения на то, чтобы пробудить спящие в душах семена общей симпатии, чтобы снять катаракты с душевных глаз, чтобы сломить душевные перегородки и соединить воедино замкнутые и оторванные друг от друга темнотой, слепотой, предубеждениями, страстями живые ключи жизней.
Большинство апостолов человечности, в своем стремлении вызвать в людской душе всеобъемлющую симпатию и чувство всеобщей справедливости, не ограничивало ее одним кругом человеческих личностей, но стремилось направить ее и на мир всех других существ, которыми мы окружены повсюду и существование множества которых самым тесным образом связано с нашим существованием.
Из глубочайшей еще древности мы слышим голос одного из величайших представителей человечества, учащий людей благоговение пред жизнью каждого существа, пред жизнью, которую всякий может отнять, но никто не может вновь даровать, пред жизнью, которая есть чудный дар неба, драгоценнейший для всех, даже для самых считающихся ничтожнейшими из ничтожнейших существ.
Гуманисты последующих времен говорят (прим. редакции):
«Разве можно назвать любовью такое чувство, которое не простирается на все живые существа без исключения?»
«Справедлив только тот, кто добр, а нельзя быть добрым к одному созданию, не будучи таковым же и к другим».
«Так как один и тот же Творец поселил животных, как и нас, в этой земной юдоли для служения Ему, то, стало быть, они, как и мы, члены Его семьи и потому имеют права на дружбу и уважение с нашей стороны».
«Бог, сотворивший животных, желает, чтобы человек их любил. Каждое из них наделено своей, большей или меньшей, долей разума и души, — признайте это! Во взгляде их просвечивают смутные проблески разума. Не душите этот зародыш просветления, предвозвестника света и бессмертия. Уважайте его. Цепь из тысячи звеньев соединяет человека с насекомым: не разрывайте этих звеньев, — ни ближайшее к вам, ни дальнейшее, ни промежуточное, ибо все они связаны с Богом».
И, наконец, современный нам известный русский естествоиспытатель говорит:
«Любовь не только к человечеству, но и ко всему живому,— даже ко всему, что входить в состав вселенной,— вот высшее проявление благороднейшего свойства нравственно развитого человека».
II
И мы видим среди мира людей, глубоко исполненных этого благоволения к живым существам. Мы видим людей, с величайшим вниманием, нежностью, любовью обращающихся со своими сотрудниками — домашними животными, видим людей, полных симпатии ко всему животному миру. Все увеличивается число людей, из уважения к правам животных на жизнь и из сострадания к ним, из желания прекратить бесчеловечную резню их ради поедания их человеком, отказывающихся навсегда от мясной пищи. Мы видим страстных прежде охотников, оставивших навсегда огромное для них удовольствие охоты, благодаря проснувшемуся сознанию бесчеловечности всякого отнятия жизни. Мы встречаем людей, полных бесконечной благодарности к животным, которые разделяют их тяжелую трудовую долю, людей, которые, влача едва-едва сами тяжкое существование, лишают сами себя необходимого, чтобы накормить и получше устроить работающее на них животное.
Чувства таких людей прекрасно выражены в стихотворении Некрасова «С работы»:
— Здравствуй, хозяюшка! Здравствуйте, детки!
Выпить бы. Эки стоят холода!
„Ин ты забыл, что намедни последки
Выпил с десятником…
— Ну, не беда!
И без вина отогреюсь я, грешный,
Ты обряди-ка Савраску, жена;
Поголодал он весною, сердечный,
Как подобрались сена.
Эк я умаялся!.. Что, обрядила?
Дай-ка горяченьких щец.
„Печи я нынче, родной, не топила,
Не было, знаешь, дровец».
Ну, и без щей поснедаю я, грешный,
Ты овсеца бы Савраске дала.
В лето один он управил, сердечный;
Пашни четыре тягла.
Трудно и нынче нам с бревнами было
Портится путь… Ин и хлебушка нет?
„Вышел, родной… У соседей просила,
Завтра сулили чем свет!»
— Ну, и без хлеба улягусь я, грешный,
Кинь под Савраску соломы, жена!
В зиму-то вывез он, вывез, сердечный,
Триста четыре бревна.
Примеров такого отношения к животным не мало встречает каждый из нас в своей жизни.
«Врожденное добродушие и жалость свойственны характеру нашего народа,— пишет г. Лисовский, — эту черту подметил еще гениальный Пушкин, нарисовавший в повести «Дубровский» удивительный тип кузнеца Архипа, принимавшего деятельное участие в поджоге дома, чтобы погубить в нем ненавистных ему приказных, но с жалостью смотревшего на появившуюся на крыше’ кошку.
«— Чему смеетесь, бесенята? — сердито заметил он мальчишкам, хохотавшим при виде обезумевшей от ужаса кошки.— Бога вы не боитесь! Божья тварь погибает, а вы радуетесь!
«И Архип отважно полез на крышу пылавшего дома и спас кошку.
«Ту же высокую дань великодушия принес в 1897 г. в городе Проскурове унтер-офицер 33 драгунского Изюмского полка Семен Юрко, бросившийся в пылавшую конюшню, чтобы спасти своего коня, и там погибший вместе с ним».
III
Но, наряду с такими, доходящими до полного самопожертвования, проявлениями симпатии ко всем живым существам, окружающий нас мир полон страданьями животных по вине человека, полон проявлениями человеческого бездушия, жестокости к животным, доходящих до самого ужасного зверства.
Сколько-нибудь стесняющиеся еще с другими человеческими существами люди дают здесь полный простор, полную волю самым отрицательным сторонам своей природы, самым низменным, самым эгоистичным, насильническим, зверским своим инстинктам и страстям.
Сознание связи со всеми живыми существами, признанье того, что это сознанье единства со всем живущим (и вытекающее из него уважение ко всякой жизни) есть высшая отличительная черта настоящего человека, сознанье этого входит чрезвычайно медленно в жизнь людей, и в жестокости к животным соперничают между собою люди с сознанием, притупленным от тягчайшей работы и борьбы за жизнь в тяжелейших условиях с людьми самой тонкой, казалось бы, культуры
Неуважением к праву животных на жизнь, к праву их на хоть какую-нибудь долю свободы, на вниманье, на милосердное отношение к ним, неуважением этим люди проникаются с детства, впитывая это с ранних дней из окружающей их атмосферы, приучаясь смотреть на животных сначала как на игрушку, потом как на машину, созданную лишь для удобства и для удовлетворения прихотей человека, как на вещь, с которой человек вправе делать все, что ему угодно.
В то время, как в области людских отношений (хотя бы в области сознания все больших и больших кругов людей) совершается прогресс, в смысле, провозглашается равенства прав всех людей на все духовные и материальные блага мира, прав всех на жизнь в широком смысле слова, в то время, когда среди людей все усиливается защита прав слабых и малых, в области отношения людей к животным царит в массах одно лишь первобытное право сильного и хитрого, и в сознании этого права воспитываются поколения за поколениями.
Вот почему мы окружены морем страданий животных, происходящих от бездушия и жестокости к ним людей, от полного попрания людьми всех прав животных не только на счастье в этом мире, но даже на сколько-нибудь переносимое в нем существование.
Чтобы напомнить себе то, что происходит в этой области, заглянем хоть слегка в мартиролог мучений, создаваемых для животных людьми.
IV
Припомним, прежде всего, то, что делается с теми животными, которым человечество так бесконечно обязано,— с лошадьми и рогатым скотом, которые, будучи приручены человеком, явились такими драгоценными товарищами-сотрудниками человека во всей тяжкой борьбе его за жизнь, десятки тысяч уже лет способствовавшими и способствующими существованию человечества, помогающими ему в добывании изготовлении всего необходимого для жизни человека, кормящими и одевающими его, способствовавшими великим переселениям народов и поискам отдельными людьми лучших условий существования.
Припомним, как зачастую обращается человек с этими животными, способствовавшими общению и соединению людей и народов, служившими всему прогрессу человеческой жизни, всей цивилизации человечества,
Казалось бы, самою священною обязанностью человека, на которого всю жизнь работают эти кроткие, долготерпеливые создания, должна была бы быть постоянная благодарная о них забота, внимание, любовное обращение с ними, забота об их здоровье и удобствах.
И взамен этого, обращаясь, например, к судьбе вернейшего друга человека — лошади, о преданности, доходящей до самопожертвования, и любви которой к человеку сложено столько трогательных сказаний, мы видим, что в большинстве случаев жизнь, устраиваемая людьми для этих существ, какая-то сплошная каторга, в самых тяжких, безбожных условиях.
Существа, требующие тепла, сухости, чистоты, света, хорошего воздуха, содержатся в большинстве случаев в помещениях холодных или удушливо жарких, сырых, темных, полных удушливой вони от редко убираемого навоза и застаивающейся мочи, которые, разлагаясь, заражают воздух, причем помещения эти не проветриваются или, напротив, устроены бывают так, что животные заболевают от сквозняка.
Уход за лошадьми в большинстве случаев самый небрежный гнилой, замерзший, заиндевевший корм, дурная, болотная вода или слишком холодная вода, кормление на замерзших пастбищах, опой горячих лошадей студеной водой, окорм невыстоявшейся лошади овсом, купание в холодной воде, нечищение кожи, вызывающее у нее всевозможные болезни, оставленье без промывания глаз лошади после долгой езды в облаках едкой пыли, следствием чего бывает потеря зрения лошадью, и т. п.
Затем привычное, самое безобразно-небрежное отношение к тому, что составляет первое условие для успешной работы лошади,— к удобству упряжи: скверная, неряшливо сделанная, отвратительно пригнанная, давящая, жмущая и трущая упряжь,— скверные седла, седелки, хомуты, заскорузлые подбрюшники, непродетые сквозь шлевки подпруги, варварски подтянутые чересседельники и т. д., причиняющие разные повреждения кожи, подкожной клетчатки, мышц, даже сухожилий и костей. Эти постоянно бередимые ссадины, опухоли, язвы, раны составляют постоянные явления. На них зачастую не обращается вовсе никакого внимания, пока лошадь не разбаливается так, что на ней невозможно уже работать.
Такое же возмутительное отношение и к другому важнейшему условию работы лошади — к хорошей, правильной ковке ног и вообще уходу за ногами лошади, плохие деревянные или земляные полы, с неменяющейся подолгу подстилкой и потому гнилые, пропитанные грязью, вызывающей разные болезни ног и всего тела; затем невежественная, небрежная, прямо безобразная подчас ковка, причиняющая такие болезни копыт и всей ноги, которые зачастую, будучи запущены, делают лошадь навсегда калекой. Но портятся ноги не одними неумелыми и невежественными кузнецами, загоняющими гвозди так, что повреждаются мясистые части ноги; заболевают ноги еще от опоя, причем больные ноги не лечатся вовремя, и лошадь пропадает; портят лошадиные ноги и отвратительными дорогами и мостовыми России, составляющими общественное преступление над животными.
А самая работа лошади, часто невыразимо тяжкая, дающая ей только несколько часов покоя ночью, а иногда и этого не дающая,— работа, в которой зачастую совершенно не считаются ни с каким состоянием здоровья лошади!
А тяжесть, взваливаемая на лошадь без всякого соображения с ее силами — самая великая мука несчастной мученицы! Наши дороги и улицы полны надрывающимися под тяжестью лошадьми. Особенно мучаются они в глубоких колеях ужасных наших дорог или выбоинах и ямах городских мостовых, на крутых подъемах или спусках, в гололедицу, в снегах, в песках или вязкой глинистой грязи!
Эти вереницы телег с кучерами, ленящимися слезать время от времени с телеги, чтобы оскрести грязь, огромными комьями наставшую на колеса и увеличивающую тяжесть на несколько пудов, эти прохожие, глазеющие на лошадь, бьющуюся в тяжком месте, и не догадывающиеся подойти взяться сообща за спицы и помочь бедному созданию; эти вереницы ломовых, взлезающих на воза с тяжелою уже кладью, едущих подчас чуть не вскачь с тяжелым грузом; эти обозы с лошадьми, везущими тяжелую кладь и привязанными арканами, накинутыми на шею спереди, к передним возам…
Вереницы несчастных рабов человека, — после долгого, тяжкого трудового дня, который весь, может быть, с утра и до ночи они провели в работе с заиндевевшей шерстью, мерзнувшие порою по нескольку часов у кабаков, в которых пьянствуют забывшие их хозяева!
И в награду за все это вечно свистящий кнут, осыпающий жестокими ударами зад, спину, бока, ноги лошадей, которых бьют и по животу, и по голове и ремнем кнута, кнутом и палкою, и кнутовищем со связанным на нем в узел кнутом.
Некоторые мучители доходят в своей жестокости до последнего предела. Один из писателей, писавших в защиту животных, говорит, что в «правлении общества покровительства животным хранятся кнуты с гвоздями, проволочными жгутами, рыболовными крючками, колючей проволокой, с шильями и иголками, вправленными в кнутовище с утонченно варварским искусством». Все это отобрано обществом у истязателей.
Всюду кругом если не жестокость, то преступное равнодушие к мукам животных, причем в том и другом одинаково повинны, как мы уже сказали, люди с чувствами, притуплёнными в тяжком труде, тяжкой борьбе за существование, и люди так называемых утонченных нервов, люди так называемые культурные, воспитанные, образованные.
Если из встречных на улице мужиков порой кто-нибудь все же ввяжется помогать, — или поднимать, или распрягать упавшую на улице и бьющуюся в упряжи лошадь, или вытаскивать застрявший воз, то зато культурные господа равнодушно пробегут мимо, не желая пачкать руки и платья и компрометировать себя таким делом, как поднятие бьющейся скотины или вытаскивание воза.
Да, кроме того, кто же из нас, образованных людей, научен таким вещам? Кто может распрячь и запрячь лошадь, и т. п.
И мы бежим поскорее мимо этого неприятного зрелища в те конторы, школы, университеты, департаменты, для сиденья в которых нас только и вырастили и образовали.
Закутавшись в теплую шубу, культурный седок спешит скорее на вокзал или в театр в гололедицу, наняв извозчика с условием, чтоб он ехал скорее. Извозчик бьет спотыкающуюся лошадь, а седок ругается и велит ехать скорее, то есть, еще сильнее бить измучившееся животное и рисковать, чтобы разбились его ноги или все оно, упавши, зашиблось. Или целая компания культурных молодых людей, пользуясь жадностью извозчика, который так или этак должен привезти хозяину строго определенную сумму дневного заработка, вваливается в пролетку и, весело балагуря, заставляет замотанную лошаденку тащить их несколько верст по отвратительной мостовой.
А сколько раз в гололедицу или снежную метель, когда лошади конки надрываются, втаскивая вагон на уличных подъемах или таща его по заиндевевшим рельсам и заваливающему путь снегу, приходилось видеть, как одинаково безучастно относятся к надрывающимся там, на холоде и снегу, животным набитые в вагоне пассажиры, — и какой-нибудь икающий кулак с красным, лоснящимся лицом, бычачьей шеей, с соловыми, пьяными глазами, пригнавший, может быть, убивать гурт скота на столичную бойню, и интеллигентного вида господин с изящным портфелем, и нарядная в мехах барыня, и студент с пачкой книг, и девушка-курсистка, углубленная и тут в вагоне в чтение, может быть, какого-нибудь социального трактата, излагающего новую систему переустройства мира на началах братства, равенства и свободы, — никому из них не приходит в голову вылезти из вагона на несколько минут, чтобы облегчить муку лошадей,— и только после нескольких увещаний (если попадется человек помнящий о животных, или кондуктор обратится, когда вагон перестает уже совсем двигаться) пассажиры покидают, наконец, на время с досадой свои теплые места.
Наши дни — это дни перехода от конного движения к электрическому. Можно горячо желать повсеместной замены конок и омнибусов трамваями, можно бесконечно радоваться, что с этою переменой исчезнет столько страданий животных, но глубоко печально и постыдно то, что люди входят в электрический век почти такими же нравственными варварами каменного века, какими были наши далекие предки, знавшие одно только право дубины над всеми остальными Божьими созданиями.
Конки сменяются трамваями, но зато в «центрах цивилизации» с тою же торжественностью продолжается дикая забава — скачки и бега с бешено несущимися дикарями-жокеями, где мучаются, калечатся и убиваются на смерть прекраснейшие лошади ради тщеславия и жадности их владельцев и азарта толпы, бьющейся на заклад о судьбе этих несчастных жертв людской пустоты и дикости.
На этих бегах, кроме завзятых спортсменов, пшютов и т. п., вы увидите среди толпящихся около тотализаторов (из-за которых был уже ряд разорений и самоубийств) представителей культуры всех, так сказать, родов оружия, кончая кадетами и гимназистами, развращающихся здесь азартом и картинами мучительства благороднейших животных ради человеческой прихоти.
Здесь собираются любители лошадей! Но может ли, например, человек, мало-мальски не любовно, а элементарно человечно относящийся к лошади, позволить себе такие, например, вещи, как обрезать хвост у лошадей ради своих нелепых представлений о лошадиной красоте, а главное, ради того, чтобы на его скакуна пялила глаза уличная толпа? Ведь только грубые варвары могут лишать животное того орудия, которое дано ему, чтобы защищаться от мучительных для него укусов насекомых.
Мучения четвероногих друзей человека начинаются часто уже с раннего детства, иногда в утробе еще матери, когда к матери, несущей в себе дитя, не проявляется никакого особого внимания, когда за нею нет никакого особого ухода, когда ее насилуют в работе, когда ее худо кормят, когда ее заставляют работать последнее время пред родами. Все это, конечно, тяжело отражается на жеребенка, который часто родится при таких условиях хилым, неправильно развившимся. Все это, как и плохое устройство конюшни, неправильности наклона ее пола, холод с пола, грязь, ушибы, объедание вредными для лошади в это время кормами, пастьба во время сильной росы или во время инея и т. д., — все это ведет к преждевременному скинутию жеребенка или же к тяжелым родам, в которых погибает или уродуется жеребенок, или погибает его мать, а иногда и оба вместе. Родившийся же благополучно жеребенок очень страдает от человеческого невнимания, благодаря отсутствию правильного ухода, неправильному кормления, дурному помещению, небрежному, грубому с ним обращению, тогда как жеребенок, как и ребенок, требует крайне внимательного, заботливого к себе отношения. Сколько жеребят гибнут от отсутствия внимания или остаются на всю жизнь недоразвившимися, жалкими созданиями, на которых за это с усиленною силою падает жестокость их владельцев. Иногда мать надолго разлучают с жеребенком, следствием чего бывает то, что жеребенок околевает, а у матери пропадает молоко, и она тоже гибнет.
Тяжек, а иногда ужасен бывает и конец этих великих страстотерпцев.
Я помню, когда мне первый раз сказывали про живодерни, где с живых лошадей сдирают шкуры, мне казалось, что я слышу страшную, чудовищную сказку. А между тем это был распространенный способ снимать шкуру лошади легчайшим образом для лучшей выделки из неё различных предметов для нашего обихода. И способ этот до сих пор практикуется, как говорят, во многих губерниях. Вот что рассказывает об этом известный покойный натуралист наш профессор И. П. Вагнер:
„Я шел по лесистому оврагу,— рассказывает автор. — Теплый летний ветерок навеял на меня какой-то тяжелый, удушливый запах. Здесь, должно быть, падаль, подумал я, и только что сделал несколько шагов, как вдруг передо мною открылась ужасная картина. Несколько конских скелетов ярко белели среди кустов лесной зелени. Впереди виднелся труп свежеободранной лошади, весь в крови. Стая ворон с криком поднялась из оврага; несколько собак с окровавленными мордами пробежало по скату. И вдруг ободранный труп лошади ожил… Несчастная страдалица приподняла окровавленную голову и оскалила зубы. Не веря глазам, я сделал несколько шагов вперед. Действительно, передо мною лежала живая, совершенно ободранная лошадь. Она вздрагивала всеми мышцами своего кровавого тела, страшно ворочала воспаленными глазами и скрежетала зубами. Каше-то глухие, дикие стоны вылетали из ее горла. Не помня себя от ужаса, я бросился дальше от этого места. Пораженный неслыханной жестокостью, я инстинктивно шагал, не зная, где и как, и опомнился уже только тогда, когда подошел к воротам дома. У ворот сидело несколько человек.
— Что это у вас,— вскричал я,— живых лошадей обдирают? Там, в овраге, лежит живая ободранная лошадь!
— А, это ничего,— равнодушно отвечали мне, — у нас тут живодерня. Из деревень сюда ведут лошадей шкуры обдирать. Здесь и склады шкур. Купцы наезжают.
— Да как же можно с живой лошади шкуру драть!— вскричал я.
— Отчего же? Можно. Легче снимать. Шкура потная, теплая, сама отстаете. Потому что кто же станет с дохлой лошади шкуру драть? Шкура пристанет к костям, ее и ножом не возьмешь, попортишь. А коли с свежей да потной — духом сдерешь».
Но люди не довольствуются и этими мучениями животных. Они впутывают их в свои собственные страшные человеческие бойни, называющиеся войнами. Они заставляют эти кротких существ участвовать во всех зверствах, во всех страшных преступлениях войны. Мучаясь сами, люди мучают, может быть, еще сильнее своих коней в огромных переходах под палящим солнцем, на жестоком морозе, под непрестанным ливнем, в снегах, в песках, в болотах, мучая их грязью, голодом, мириадами слепней и оводов, тяжестью обозов и, более всего, тяжестью главных орудий своих убийств — пушек. И, наконец, наряду с гекатомбами человеческих тел, люди покрывают ноля человеческого братоубийства массами лошадиных тел, растерзанных гранатами, пулями, штыками и саблями, с расстрелянными ногами и спинами, с вывороченными внутренностями…
V
Я остановился особенно подробно на бедствиях и страданиях лошади, чтобы показать, как преступно относится человек к существу, которому так бесконечно обязано человечество.
Но такую же, беспрестанно, если не жестокость, то преступную небрежность проявляете человек по отношению к другому животному-благодетелю человечества — к корове, к этой кормилице человечества, вскормившей-вспоившей мириады людей, к этой второй матери человечества, которой огромная часть людей обязана продолжением своей жизни, своим здоровьем, своими силами.
Всегдашнее внимательнейшее, любовное, разумное, правильное попечение об этом драгоценнейшем для всех нас животном должно было бы быть нашею священною нравственною обязанностью и первым разумным практическим правилом обращения с ним.
А, меж тем, мы видим беспрестанно совершенно обратное,— мы видим грубое, скотское, невежественное, пагубное для здоровья животного обращение, и невежественный уход, благодаря которым так много страдает корова и так много болезненно тяжко гибнет коров и телят, погибающих жертвой человеческой неблагодарности, невежества и грубости.
Заглянув в обстановку, окружающую огромное большинство этих друзей человечества, мы увидим скверные помещения, отвратительные зачастую хлева, какие-нибудь дровяные сарайчики, в городе, где корове негде повернуться. В хлевах мы найдем неправильно устроенные ясли, сырость стен и земли, отсутствие проветривания, которое так необходимо для чистоты крови у животного, сквозняки, грязь в хлеву, сырость от мочи. Настилка зачастую подолгу не переменяется, навоз не вывозится. Все это делает пребывание коровы в хлеву крайне вредным для ее здоровья, а часто и губительным для ее жизни.
Еще тяжелее отзывается на этом вскармливающем наших детей, кротком, милом, терпеливом существе, гнилой, заплесневевший корм, гнилые травы, влекущие за собою мучительное воспаление желудка и кишок, скверные водопои, иногда даже с навозной жижей. Тяжело сказывается отсутствие всякого правильного . кормления, которое должно составлять первое правило для людей, держащих коров. Часто и любят, и жалеют корову, и стараются побольше накормить ее, а приносят непоправимый вред, давая неподходящий корм, давая его не в меру и т. д.
При болезнях скота повсюду полное невежество, полное незнание, чем помочь, и это при недоверии к ветеринарам, при условии, что до ветеринара иногда несколько десятков верст. Научиться же самым элементарным сведениям в этой области негде, не у кого. Народная школа не занимается такими вещами, считая их ничего не стоящими в сравнении с ятями и ерами. Чтений и бесед по этому предмету тоже нигде почти не ведется,— ни в заброшенной деревне, ни в городе.
Особенно мучительно часто проходит для коровы самое трудное и важное время ее жизни — время стельности и появления на свет ее ребенка. В такое время должно бы особенно сказаться внимание к корове столь обязанного ей человека. И, вместо этого, в это самое трудное для коровы время человек большею частью не окружает ее никакой разумной заботой, а в иных случаях обращается с коровой в это время с самой безобразной небрежностью.
Стельные коровы зачастую, например, помещаются в хлеву с таким скатом пола, который влечет за собою преждевременное скидывание теленка. Сырость, грязь, сквозняк, скверный корм, дурной водопой, столь вредные для животного и в обыкновенном его состоянии, становятся пагубными для стельной коровы, и сколько их гибнет от таких условий.
Еще больше гибнет в тяжелых мучениях стельных коров (и детей их) от отсутствия всякого уметя подать правильную, умелую помощь во время родов. Если в отношении помощи при появлении на свет человеческих даже младенцев у нас царит тьма невежества, то в отношении к окружающим домашним животным подобное невежество является всеобщим почти явлением.
Порою же подается только такая невежественная помощь в виде самых варварских приемов, от которой корова если и не умирает, то остается на всю жизнь искалеченной в самых нежных частях своего организма.
Жизнь теленка с момента появления его находится в постоянной опасности, благодаря возмутительному невежеству господина его — человека. Множество, например, телят заболевают и порою погибают от болезни крови, называемой суставоломом телят, происходящей от загнивания пуповины новорожденного теленка, благодаря тому, что пуповина не была обеззараживающе промыта при его рождении, и в нее проникли микробы из хлева.
С первых же шагов с теленком обращаются в большинстве случаев совершенно неумело. Новорожденного часто кладут около мокрой, холодной стены. Для теленка, как и для каждого ребенка, необходимы сухость, чистота, свет, чистый воздух, а, меж тем, огромное множество телят проводят все свое детство в сыром, тесном углу, где грязи так много и соломы так мало, что несчастным телятам приходится лежать на холодном, сыром навозе, утопать в навозной жиже, да еще около дырявых стен, откуда страшно дует.
Поят телят часто совершенно неумело: то слишком теплым, то слишком холодным, часто перекармливают, отчего телята страдают от поносов и легко простужаются. Кормят их, когда они подрастут, тоже без толку, не заготовляя для них хорошего сена и другого, усвояемого ими, здорового для них корма.
Посуду, из которой поят телят, моют редко,— отсюда, разные заболевания желудка и кишок теленка.
При заболеваниях телят проявляется еще большее невежество и следствие его — гибель множества из них.
Множество телят, родившись крепкими, здоровыми, хиреют, вянут и пропадают,— всего больше от поноса, как и дети, в то время как знание элементарнейших сведений об уходе за ними могло бы спасти их и поставить на ноги. В то время, когда человек нянчится со своим ребенком, заброшенные дети того существа, которое выкормило, может быть, уже несколько детей человека, вянут и гибнут в сырости, холоде и нечистоте.
Природа мстит за такое преступное попрание человечности и разумности. Тяжкие условия жизни скота, происходящие от небрежности человека, вызывают такие смертоносные заболевания скота, которые от скота проникают в людей, подтачивая и губя их жизни. Множество заболеваний людей чахоткою происходит через заражение людей через коровье молоко туберкулезом рогатого скота. Яд, усиленное развитие которого обусловливается отвратительными условиями содержания скота, вливается мстящей природой в кровь детей человека.
К этому надо прибавить еще болезни всякого рода, передаваемые через плохо проваренное мясо умерщвляемого больного скота.
А грязное содержание коров, грязные соски, мучительное, неумелое выдаивание, грязь и поэтому зараза при доении и т. д… В деревне, конечно, корова, от которой берется молоко для вашего ребенка (если вы и не постоянные ее обитатели), перед вами налицо. Вы можете осмотреть ее или показать сведущему человеку, и если уход за нею плох, то как-нибудь вмешаться в это дело. Но если это не делается и там, то еще более не делается в городе, где молочница живет, может быть, через квартал или несколько кварталов от вас, а, может быть, и за городом. Мы посылаем к врачу кормилицу, которая кормит наших детей (если только мы позволяем себе ради всхолмления своих детей отнимать мать у другого ребенка), но до коровы-кормилицы нам нет никакого дела. Пускай валяется в грязи и сырости. Нам принесут молоко, мы заплатим — и кончено.
В столицах же еще устраивается так, что даже при желании не доберешься до той коровы, которая кормит твое дитя, потому что молоко свозится из тысячи неведомых нам мест, сливается в один, так сказать, огромный бассейн огромных молочных складов и оттуда растекается по артериям столицы.
Бросим теперь взгляд на жизнь других рогатых благодетелей наших — быков.
И известная художница Роза Бонер в своих картинах, и известный французский поэт Пьер Дюпон, и украинский мужик в своих песнях воспевают быков — этих верных, могучих товарищей, помощников земледельца, миллионы которых, как и миллионы лошадей, напрягая свои силы, вспахивают и удобряют великую ниву земли, готовя пищу для сотен миллионов человеческих существ, перетаскивают мириады пудов тяжестей и после смерти своей служат еще нам своею кожею, рогами, копытами, шерстью.
В награду же за это, во множестве случаев, волы переносят столько жестокостей, столько мучительных побоев, столько страданий от скверно пригнанного ярма, натирающего шею своими палками, производящего ссадины, опухоли, переходящие в мучительные раны на шее терпеливого четвероногого богатыря, с печально-тупым взглядом покорно сносящего все обиды от своего поработителя. Выражение «ярмо» стало издавна обозначением тяжкого рабства.
Обычная распространенная у нас грубейшая, мучительная для животных, конструкция ярма теперь чуть ли не такова же, как 1000 лет тому назад. Говорят, за границей изобретена простая сравнительно, но гораздо более улучшенная конструкция ярма. Но кому у нас дело до того, чтобы разведать о такой конструкции и широко распространить ее, наглядно осведомит о ней в тех полосах России, где вол является главным пахарем земли? Никому нет дела до облегчения страданий миллионов существ, напряженно трудящихся для блага человечества.
Огромнейшей же части быков выпадает в тысячу раз более ужасная судьба. Человек разводить их только для того, чтобы убить. Я не стану останавливаться здесь долго на ужасах колоссального убийства, совершающегося каждый день вокруг нас. Укажу на страшную картину бойни в «Первой ступени» Толстого тем, кто не читал почему-либо этой великой защитительной речи в защиту прав всех живых существ, укажу на эту картину всем, кто хочет, не пряча голову в песок, как страус, прямо взглянуть в глаза всему тому, что совершается каждый день в зданиях боен, пропитанных кровью, бесконечно льющейся для того, чтобы человек мог съесть за столом кусок трупа взрослого быка, барана или детские трупы зарезанных телят или ягнят, представляющих особенно лакомый кусок. К большим городам по всему земному шару постоянно гонятся миллионы животных, испытывающих тяжкие страдания при перевозке в духоте и тесноте железнодорожных вагонов, особенно же при перевозке морем в ужасных для них корабельных трюмах и загородках.
Вспомните прекрасное произведение Пьера Лота «Viande de boucherie» в книге «Le livre de la pitie et de la mort», описывающее с такою силою эти страдания. Вспомните отвратительные, часто встречающиеся на улицах города, сцены перевозки телят и ягнят со связанными ногами и бьющимися о железные скобы телеги головами.
Но, ставя выше всего удовольствие своего языка и своего желудка, мы приучаем себя и наших детей равнодушно смотреть на всякие подобные зрелища, так же как на кровавые части трупов, зияющие из мясных, на висящих там зарезанных телят, перешибленных птиц, зайцев с кровавыми пятнами, на все это ужасное, отвратительное зрелище, равнодушное отношение к которому культивирует зверя в человеке.
Следуя по этому пути, нравственное чувство человека атрофируется до того, например, что убиваются овцы для того, чтобы содрать с нерожденного еще ягненка мех, считающийся самым ценным.
Есть, как известно, домашнее животное, которое человек держит и разводит даже исключительно только для того, чтобы убивать его. Я говорю о свинье. И за то, что человек держит ее только для того, чтобы убивать, и, обыкновенно, убивать самым зверским образом, он считает себя вправе обращаться со свиньей хуже всех домашних животных, презирать ее, держать ее в самых отвратительных помещениях, в отвратительной грязи, где ее заедают иногда черви.
Слова «свинья», «свинство» стали ругательством у людей, которые сами в отношении этих презираемых животных проявляют только одно бесчеловечнейшее зверство.
Никогда не изгладятся у меня из памяти страшные, раздирающие душу вопли свиньи, которую резали раз в моем детстве на соседнем с нами дворе. Я помню, как бежал я от них в ужасе далеко-далеко, а страшные крики уже замолчавшего в это время, истекши кровью под ножом мясника, животного, казалось мне, все неслись и неслись за мною.
Никто вокруг меня тогда никогда не говорил о жестокости убийства животных, но я смутно, всем своим, чистым еще тогда, детским сердцем почувствовал, что совершается преступление.
Но окружающая среда сгладила потом остроту впечатления, и ярко вспыхнувшее чувство, одно из тех чувств, которым мы должны были бы глубоко радоваться и лелеять их в душе нашего ребенка, было надолго, на многие годы, совершенно задавлено во мне.
Самые огромные избиения свиней совершаются, как известно, перед Пасхою. Есть что-то чудовищно-нелепое в том, что для дней, яко бы посвященных воспоминаниям о Великом Учителе любви и милосердия, совершается буквально океан самой ужасной жестокости над миллионами Божьих созданий.
Впрочем, вся обстановка этих дней Светлого праздника есть сплошное поругание христианского духа. Весь практически обиход этих праздников почти для всей христианской массы свелся к пьянству и обжорству, ради которого совершаются мириады убийств животных, как будто первая заповедь кроткого Учителя есть не любовь, а призыв к убийству, к умерщвлению жизни, к гигантской гекатомбе кровавых жертв. Люди, считающие себя последователями Учителя любви, Учителя жизни, согласованной с основами высшего разума, не могут придумать ничего лучшего, как чествовать Его столами, переполненными бутылками с отравляющими разум и сердце человека ядами и блюдами с кусками зарезанных тварей Божьих.
Самая мысль о том, что какие-то существа бились в ужасных предсмертных муках ради их удовольствия, не приходит в голову людям, приглашающим отведать «нашего окорочка», «нашей индеечки» и радующимся, когда гость находит их великолепными.
Это составляет всю высшую радость, высшую гордость христиан в дни памяти их Учителя!
Таким же священным обычаем и идеалом, каким является для «христиан» иметь на Пасхе жирные куски зарезанной свиньи, на Рождестве для миллионов из них является иметь зарезанного гуся.
И ради этого начинается задолго до дня Рождества Христова самое колоссальное убийство птицы по всем углам нашей страны.
Но и в обыкновенное время тяжелую тоску наводят эти, часто встречающиеся по дорогам, гонимые к городам, к станциям и т. д., огромные порой, стада гусей, которых гонять дубиной вожатые на убой! Масса их калечится и погибает на дальней дороге от голода, жажды, утомления.
А перевозка в корзинах, набитых сдавленными птицами, мучающимися еще без корма и воды!
А выдергивание из гусей перьев, а держание их взаперти в тесном помещении и откармливание их до безобразия, а потом связывание им ног и волочение в таком виде на базар!..
Нередко птицы околевают еще до ножа мясника от всех этих жестоких мучений.
Но самое утонченное, самое страшное мучительство производится над несчастной птицей ради наслаждения обжор, гастрономов самой высшей марки, при приготовлении страсбургских паштетов. «Гусей,— говорит автор книги «Права животных», — сажают в такую тесную клетку, что они едва могут поднять голову, или их подвешивают в мешках в комнате, доведенной до температуры бани. Птицы с трудом дышат в такой атмосфере; они медленно умирают и вместе с тем их печень раздувается до громадных размеров», что и требуется для гастрономического блюда.
Хотя настоящим законодателем для совести людей, живущих ради своего языка и желудка, являются лишь капризы их вкуса, хотя настоящие гастрономы прекрасно знают, что делают с животными для удовлетворения их обжорства, но все же, вероятно, если бы им пришлось самим проделывать такие операции над птицею, они предпочли бы остаться без лакомого блюда.
И вообще убийства животных для поедания их людьми организованы так, что те, которые, главным образом, поедают их, не убивают их своими руками, а это делают за них нанимаемые для этих убийств, специализировавшиеся на них, люди, чувства которых совершенно притупляются постоянным убийством, люди, которые становятся совершенно равнодушными к проливаемой крови и мучениям убиваемых жертв. Так делается и в городе, так же большею частью и в деревне, где большинство крестьян не могут сами резать скотину, не чувствуя себя в состоянии делать это, считая это грешным делом.
И, благодаря тому, что специально нанятые для того люди проводят всю свою жизнь в убийстве, среди крови и мук, вся масса поедающих животную пищу людей может спокойно, без всякой неприятности, без угрызений совести, пользоваться плодами этих убийств, так же как вообще в нашем мире много величайших несправедливостей совершается только потому, что те, ради которых они производятся, совершенно не участвуют сами в их совершении и со спокойной совестью пользуются готовыми уже их плодами.
VI
Мы заказываем убивать для наших детей очаровательных желтых клубочков — цыплят, которыми так любуются дети, которых они с такою нежной радостью встречают на дворе и на картинках в книге. Но, делая так, мы стараемся бережно охранять детей, чтобы они не увидали того, как цыплят и кур будут резать. Мы стараемся охранить нервы наших детей от тяжелых впечатлений, но детей-цыплят все же велим резать.
И эта эгоистическая любовь к своим детищам и безжалостность к чужим сказывается потом глубоко в воспитании добрых чувств в наших детях. В ребенке, как его ни учат на словах не обижать животных, уже бессознательно, от самого вида являющихся перед ним на тарелках и съедаемых им птиц, от вида их головок на муфточках и шляпках своих матерей, развивается сознание того, что человек волен делать все, что ему угодно, с другими существами, а особенно со слабейшими из них.
И если ребенок не трогает (особенно когда за ним следят в этом отношении) домашнюю, например, птицу, то зато среди природы, и особенно там, где за ним никто не следит, он совершает подчас самые зверские жестокости. над слабыми, не могущими противиться ему, существами.
Это делается большею частью вовсе не из врожденной жестокости ребенка,— вовсе нет — в ребенка есть много доброты, в нем в зародыше заложено много симпатии ко всему живому,— симпатии, которая, при правильном воспитании, при правильном отношении окружающих к животным, могла бы, напротив, сделать из ребенка их верного друга и защитника. Делается же это сначала большей частью из любопытства, интереса, любознательности, из игры; но этому чрезвычайно способствует убеждение, что человек волен распоряжаться как ему угодно другими живыми существами,— убеждение, родящееся и укрепляющееся в ребенке видом животных, умерщвляемых для питания его и окружающих его людей. Это сознание с самого начала препятствует развитию в ребенке уважения к правам других существ на свою жизнь, укреплению в нем сознания того, что никто не имеет права на чужую жизнь, созданную для нее лишь самой.
Вот почему мы видим, например, повсюду массу жестокостей проделываемых детьми над несчастными птицами: дети разоряют гнезда, вытаскивают яйца, вынимают птенцов, губя целые выводки птиц. Некоторые дети совершают ужасные мучительства над птенцами: они бьют их, кладут им в рот камешки, щепочки, суют солому, льют воду, пока те задохнутся. Детские силки, рогатки, пращи терзают и губят тысячи птиц.
Детям неоткуда научиться другим взглядам на право на жизнь бедных, слабых существ. Если в книгах порою им попадаются статейки, проникнутые состраданием к животным, то зато вокруг них, напротив, везде, на полях и в лесах, на суше и на воде, идет самое беспощадное истребление человеком животных, и более всего самых слабых из них, — например, птиц.
Ружья, силки, сетки, камни, все способы заманиванья, обмана, травли, пускаются в ход людьми для ловли и для уничтожения тех существ, милый вид которых, красота полета и пение вносят столько поэзии, столько светлой радости в Божий мир.
Иногда ловля и избиение птиц совершаются в колоссальных размерах. Таково истребление птиц во время перелета их в теплые края. В то время, когда, мудро следуя вложенному в них удивительному инстинкту, птицы с величайшим напряжением, лишениями, жертвами стремятся туда, где они могут продолжать вносить в мир всю радость, всю красоту своей вольной певучей жизни,— в это время на них обрушивается самая зверская жестокость человека.
Истребление и захват птиц, как известно, совершается в это время в особенно громадных размерах на трех южных полуостровах Европы, где пернатые скопляются массами пред перелетом чрез Средиземное море в жаркие страны.
Человечески голод играет здесь наименьшую роль. Главный побудитель к жестокостям над птицами — нажива и охотничий спорт.
По отношению к пернатым население Европы ведет себя более дико, чем краснокожее диких прерий Америки: если там украшают птичьими перьями свои головы суровые воины, то у нас перьями птиц разукрашивают свои шляпки нежные дамы, вздрагивающие при грубом слове и не желающие подумать о безжалостной бойне массы красивейших существ для нелепого убранства их голов.
Я могу представить себе, как убивает себе на еду птицу истомленный голодом дикарь или вообще человек, не умеющий заниматься ни земледелием, ни молочным хозяйством, но я никогда не мог понять душевного состояния человека, идущего убивать птиц из удовольствия охоты. Ведь летящая птица,— не говоря уже о сострадании к ней,— это такая красота! И вот я беру ружье и выбрасываю эту жизнь, эту красоту из живого мира.
Особенно я не мог понять, как могли это делать такие даже, например, люди, как Тургенев, Толстой и подобные им охотники. Как это могли делать они, великие художники, которые, казалось бы, должны были свято чтить (если даже человечность замирала в них на это время) хотя бы эту красоту мира?
Когда я спросил об этом Толстого, по его лицу пробежала тень тяжелых теперь для него воспоминаний.
«Когда у меня в ягдташе билась подстреленная птица, мне было жалко ее,— сказал он,— но во время самой охоты все во мне было поглощено одним — достижением цели».
Даже и у этого, величайшего теперь друга и защитника всего живого, в то старое время, когда он с ружьем в руках преследовал свою жертву, свое удовольствие, свое страстное напряжение совершенно застилали от него жизнь, красоту, права другого существа, которое он преследовал. Даже у него чужая жизнь сводилась в это время к нулю, становясь только целью для удовлетворения своей страсти.
Охотники рассказывают нам часто о своей любви к природе, но какой любящий человек может убивать любимые существа? Нет, очевидно, охотники любят превыше всего только свое удовольствие, свое наслаждение, удовлетворение своей страсти. По крайней мере, огромное большинство их.
Есть, может быть, небольшое число из них, соединяющих с охотничьими инстинктами некоторую симпатию к тем живым созданиям, которых они истребляют, но это или люди совершенно не мыслящее, совершенно не задумывающиеся над своею любовью палача к его жертвам, или люди, сознающие это и испытывающее мучительное раздвоение при такой мысли, но опять-таки такие, у которых эгоизм личного наслаждения поглощает чувство человечности, люди, которые не борются со своими страстями, а отдаются всецело во власть их. Люди эти заставляют себя подавить свое чувство, как нечто нелепое, смешное, как признак нервности, слабости, как, может быть, даже какую-то ненормальность.
Вместо борьбы с собою, вместо удержания себя от животных страстей люди охотно отдаются во власть им в погоде за сильными ощущениями. Так же как какой-нибудь дикий тунгус, так же и человек, кончивший университет, прячется за дерево или за куст, как зверь, как хищник, поджидая свою жертву. Трофеями убийств украшают комнаты и хвастаются ими. На массовые убийства собираются с большою торжественностью, как будто едут на самое почтенное, самое важное для человечества дело.
В защиту своей кровавой забавы охотники говорят, что они спасают людей от диких зверей, но какие-нибудь волки и медведи составляют весьма небольшой процент травимых жертв,— охотничья страсть бьет без разбора всякого зверя — вплоть до самой крошечной прелестной пичужки. Бывает даже обратное,— бывает, что несколько окрестных деревень страдает от волков, искусственно поощряемых разводиться в лесах, предназначенных для охоты на них: волкам бросают лошадей, чтобы подкармливать их до будущей кровавой забавы и т. п.
Невозможно описать в коротких словах море охотничьих жестокостей. Разумное создание, человек, призванный нести в мир свет разума и любви, перерождающих мир, вносит в царство природы самый низкий обман и утонченное зверство.
Вспомните не мучимых голодом, а, напротив, раскормленных, нарядных мужчин и женщин, рыскающих, топча конскими копытами хлеб, по полям, чтобы перегрызть своими собаками горло у несчастного зайчонка. Вспомните ужасные убийства детенышей в берлогах и вообще все эти праздники разгула дикой страсти человека!
Невозможно себе представить, до какой жестокости может доходить человека, дающий полную свободу своим страстям, человек, привыкший к убийству животных.
Я помню мое отвращение, когда я юношей, лет пятнадцати, попал на так называемую садку для диких зверей, где, в специально устроенном для того загоне, пред многотысячной толпой, любители охоты спускали собак на волков, лисиц и зайцев, которых держали для этого в заключении и которым некуда было бежать от преследовавших их свор.
Это был какой-то кошмар бесчеловечности. А тысячи людей пришли любоваться на это, и многие привели с собою своих детей!
С тех пор прошло почти 30 лет, но люди все топчутся в грязи этой животной своей страсти и занимаются этим и теперь.
А садки на голубей, во время которых стреляют вверх в выпускаемых для этого ручных птиц,— что может быть отвратительнее этого?
Садки эти устраиваются иногда в огромных размерах. Иногда птиц выпускают взлетать для убоя даже на длинной привязи.
Зверь и человек! В нашем извращенном мире эти понятия часто опрокидываются вверх дном.
Недавно в одной посещенной мною усадьбе томился на привязи в сарае волк, которого держали для того, чтобы затравить его на звериной садке. В это время на усадьбе оказалась старая собака с перешибленными ногами. Ее принесли и бросили волку на съедете. Три дня это несчастное существо лежало у ног несчастного, мучимого голодом волка, и он не тронул ее. Говорят, что волки, если собаки не нападают на них, не склонны рвать их, чуя в них родичей. Не знаю, потому ли это или нет, только случилось то, что я передаю, то есть, что дикий голодный зверь не тронул брошенного ему на съедение другого искалеченного зверя. А потом этого волка бросили, вероятно, на арену в жертву остервенелым собакам во время дикой охотничьей потехи.
Я не могу забыть попавшегося мне в одной охотничьей газете холодного, равнодушного описания охотником убийства им зайчихи, несшей в себе двух нерожденных еще зайчат…
Так тупеют человеческие чувства у людей, отвергнувших у животных их право на жизнь!
VII
По всему лицу земли беспрерывно совершаются преступления человека над животными. Человек уничтожает целые породы животных, тысячи животных мучает у себя в плену. Вспомните безжалостную ловлю обезьян в лесах Африки и Америки и увоз сотен тысяч их в чужие края, где немногие из них выживают несколько месяцев в новых, смертоносных для них, условиях. Вспомните этих несчастных, съеженных от холода живых комочков, таскаемых по улицам, безжалостно эксплуатируемых обезьяньими владельцами для потехи наших детей. Вспомните несчастных пленников в наших клетках и зоологических садах, гибель великолепнейших представителей животного царства от пуль и капканов диких и просвещенных спортсменов, ужасное истребление в Африке слонов, которое кончится полным исчезновением этих великанов мира, которые, будучи приручены, оказывают величайшие услуги людям как перевозчики, работники и няньки.
Всюду, всюду под солнцем, человек, призванный осуществить в мире новый закон любви, несет зверство и убийство. Пустынные берега океанов, где без него животные жили и плодились на свободе, он превращает в кровавые поля своей жестокости. (Невозможно читать без ужаса и омерзения описания бесчеловечнейших убийств тюленей, моржей и других животных прибрежий океана.) И на вершины гор, в царство вечно сияющих снегов, человек проникает для истребления кротких серн и горных коз, этих очаровательных детей гор, которыми восторженно любовался каждый, поднимавшийся в горы не для преследования и убийства беззащитных созданий.
Есть целые леса, в которых прекраснейшие, редчайшие уже животные зорко стерегутся только для того, чтобы от времени до времени избиваться их владельцами и их гостями во время увеселительных поездок. Таковы, например, чудные олени лесов Аскота в Англии, служащие жертвами королевского спорта, и подобные же стада в некоторых заповедных лесах других стран Европы.
Если в царство млекопитающих животных, близких человеку и по своей организации, и по совместной его жизни со многими из них, и в царство птиц, вносящих столько красоты и радости в жизнь всего мира вообще и в жизнь людей в частности, человек вносит столько жестокости, то уже с животными других классов животного царства, отдаленных от человека по своей организации и считаемых им поэтому низшими классами тварей, люди распоряжаются совершенно как с какими-то мертвыми вещами, с которыми можно делать решительно все, что вздумается.
Мы видим, например, как совершенно сытые люди проводят целые дни, неподвижно держа у поверхности воды крючок, который должен вонзиться в тело рыбы, в ее жабры, в ее глаза, во что попадется. Для того, чтобы обмануть рыбу, заманить ее на острие крючка, крючок втыкают предварительно в тело живого червя. И проделывавшие такие операции, часто над самыми крошечными рыбками-детьми, люди готовы сидеть так целые длинные блаженные дни на берегу, воображая, что это почтеннейшее, невиннейшее, милейшее развлечете, воображая, что они любители природы, любители даже этих рыб, которых, с текущей из ран их кровью, они бросают бьющимися в предсмертных судорогах в свою посуду для того, чтобы похвастаться потом дома своим уловом.
Поэт Майков, страстный любитель рыбной ловли, посвятил ей целую оду, воспевая ее прелести, — до такой степени чувства людей ослеплены представлением о том, что все жизни в мире созданы для прихоти и наслаждения человека!
Что же удивительного, если дети целыми часами стоят порою в воде и вылавливают сачками, платками или просто руками мелких рыбок, которых потом часто бросают околевать на землю! Что ж мудреного, что дети равнодушно играют с ранеными рыбами и безучастно смотрят, как кладут в горшок раков, как подливают туда воды и ставят горшок на огонь, и раки медленно умирают мучительнейшей смертью, пока вода не закипит и не умертвит их совсем! Что же удивительного, если дети мучают, бьют, распинают и терзают несчастных лягушек, жаб и ящериц, разрушают муравейники, топча ногами тружеников-муравьев и произведения их огромного коллективного труда, давят пчел и обрывают у насекомых крылья, ноги, накалывают их тысячами для своих коллекций, давят ногами и разрывают руками земляных червей и совершают мириады подобных этому жестокостей над попадающимися им под руку существами.
VIII
Что же делать для борьбы со всеми этими жестокостями? Что делать для пробуждения в людях сознания их безграничной несправедливости и преступности по отношению к животным, сознания равенства прав всех живых существ на жизнь и счастье? Что делать для пробуждения в людях сознания обязанности их, — как существ, призванных к осуществлению идеалов света и добра в мире, — обязанности защищать мучимых и любовно заботиться об окружающих их животных, — особенно же о тех, все силы которых эксплуатируются человеком для его благополучия?
Для работы в этом направлении есть несколько путей, но самым действенным средством, самым лучшим путем для этого является воспитание детей, воспитание будущих людей в духе человечности, в духе внимательного, разумного, справедливого, человечного отношения ко всем живым существам.
Одним из главных препятствий к установлению правильного, разумного отношения детей к животным является незнание детьми животных, то есть, только некоторое внешнее знание некоторых из них, но совершенное отсутствие хотя бы самых элементарных, но серьезных знаний об их жизни, устройстве их организма и предназначении их органов, об их нравах, привычках, — отсутствие знаний о личной, семейной и общественной жизни животных.
Узнавая ближе и ближе живое создание, все больше и больше сближаешься с ним, начинаешь все лучше и лучше понимать его и поэтому все внимательнее к нему относиться.
Уже для маленького ребенка начинается новое отношение к животному, когда, останавливая глубже его наблюдение над животным, останавливая его внимание на разных сторонах жизни животного, ему помогают уяснить, что это не живой механизм какой-то, не игрушка, но что это такое же существо, как он сам и окружающие его люди, с целым миром своей жизни, своих особых свойств, своих процессов жизни, своих интересов, симпатий, радостей и горестей.
Ребенок вечно стремится к животным, быть с ними, играть с ними. Но этим не пользуются обыкновенно с разумно воспитательными целями родители и воспитатели, сами будучи питомцами обычного воспитания и образования, невежественные, ненаблюдательные, не интересующиеся ничем серьезно по отношению к жизни животных.
Вместо того, чтобы, пользуясь такой благоприятной почвою, начинать образование и воспитание ребенка в указанном направлении, взрослые умеют только иногда прикрикнуть на ребенка, когда он слишком сильно задерет какое-нибудь слабое животное, или бьют животное, когда оно обидит ребенка что большею частью случается тогда, когда ребенок выведет животное из терпения.
А как легко начинать живое ознакомление ребенка с окружающим его животным миром! Когда внимание ребенка устремляют на разные новые факты из животного мира, когда ему сначала объясняют все то в жизни животных, что он уже видел или замечает, когда ему показывают все любопытное в жизни животных или рассказывают о них, он жадно слушает, наблюдает и впитывает в себя все из этой области. Ничто не интересует ребенка больше, чем все эти существа, с которыми у него в первых стадиях его развития особенно много общего.
Но рассказывают обыкновенно детям одни побасенки о животных, тогда как чрезвычайно важно серьезное, в самой легчайшей, конечно, форме знакомство детей с очень раннего возраста с настоящей жизнью животных.
Но ознакомление такое никак не должно вестись обычным книжным способом. Отчего же (и даже очень полезно) не прочесть из книги живое, дельное описание жизни или отдельных моментов из жизни и деятельности того или другого животного, но ничто не может заменить живых с детьми наблюдений и потом уже живой беседы по поводу них, совместного обсуждения виденного.
Возьмем, как один из примеров, живущую у нас в доме собаку, этого друга и мученика наших детей. Дети возятся с ней каждый день, но они, если, может быть и узнают кое-что об ее устройстве, жизни, особой жизни и деятельности разных пород собак, то только кое-что, далеко позже, в самой сухой, неразъясненной форме, на уроках зоологии в училище, когда детей, может быть, будет интересовать совершенно другое. А для детей, меж тем, может быть полно интереса живое знакомство с устройством собаки с органами ее приспособления, с ее умом, ее потребностями, привычками, жизнью разных пород, различной деятельностью собак для людей и т. д.
Когда все это будет узнаваться детьми, у них будут как бы вновь открываться глаза на животное, будет устанавливаться новое отношение к тому существу, к которому они были равнодушны или которое они считали до сих пор только предметом своей забавы.
Сколько интереса, уважения, симпатии могут внести в душу ребенка наблюдения (и беседы по поводу их над умом животных, их трудом, их взаимопомощью и т. д.).
Настоящее знакомство с жизнью животных рано вынет из ума ребенка почву для разных суеверий и предрассудков на их счет, предохранит детей от разных ходячих невежественных представлений о вреде, мнимо наносимом разными животными, и разъяснит детям, напротив различную пользу, оказываемую человеку такими животными, которых все считают вредными. Хотя все же всегда надо помнить, что чрезвычайно важно приучить с раннего детства детей относиться с уважением к жизни других существ никак не за то лишь, что они нам полезны, а потому уже только что они живые существа и что надо уважать всякую жизнь и признавать ее полные, равные со всеми, права на счастье.
Становясь все серьезнее и сложнее по мере развития ребенка, подростка, юноши, эти знания, входящие жизненным, естественным путем в умственную их жизнь, прочно залягут в ней, явятся прочным фундаментом сознательного, разумного отношения к царству животных.
Проникновение в глубину жизни животных установить новый, трезвый, человечный взгляд на безобразных или страшных животных: жаб, сов, ужей, летучих мышей, кротов и т. д., уравняв в правах на интерес и симпатию людей животных, кажущихся противными, со всеми остальными.
Введя детей в жизнь таких, далеких от детского понимания существ, как, например, насекомые, личность, так сказать, которых совершенно игнорируется ребенком, не имеющим понятия об их жизни, устройстве и т. д., подобный метод воспитания поможет детям признать и в насекомых существ равноправных со всеми другими представителями живого мира.
Разница предлагаемого ознакомления с жизнью животных от того способа ознакомления с нею, который применяется в наших школах лучшими даже из педагогов-естественников, ведущих это дело разумно, живо, ново, будет та, что при этом ознакомлении никогда не будет забываться гуманитарная сторона дела. Это не значить, что ребенку постоянно будут навязываться какие-либо поучения или же будет производиться какая-либо подтасовка, извращение фактов жизни для известных идей, но это значить то, что, во-первых, весь дух сообщения знаний будет проникнуть человечностью, уважением к другим существам, и, во-вторых, что ради познания животных и их жизни эти животные не будут подвергаться страданиям и умерщвлению, как это делается при вивисекции и убийствах животных для чучел, коллекций и т. д. Гуманитарное изучение животных будет основываться, главным образом, на наблюдении их жизни, а не на мертвых, безжизненных телах их. Оно поведет детей в сады, поля, леса, на берега вод для изучения мира животных во всей красоте, интересе и поучительности их жизни, а не к чучелам, ящикам и банкам с мертвыми, почти ничего не говорящими наблюдению детей, экземплярам, самый вид которых, — как, например, вид наколотых бабочек, — может действовать на детскую мысль только в направлении обратном с гуманитарным направлением.
Систематика, номенклатура будут в таком изучении на заднем плане, живое изучение на первом.
Для знакомства детей с внутренним строением животных совершенно достаточно будет случаев нахождения умерших насекомых, зашибшихся птиц, умерших зверьков и тому подобное.
Явятся новые руководители в этой области, которые в своих практических, научных занятиях будут держаться того взгляда, что если уж их ученая работа такова, что не может сделать существ, над которыми она производится, счастливее, то она, по крайней мере, хоть не должна делать их несчастнее.
Новые орудия изучения жизни оказывают драгоценную помощь в этом отношении. Какая страшная разница между старым наблюдателем жизни животных, пробирающимся в мир природы с орудиями убийства — ружьем, силками и булавками, и новым наблюдателем, истинным другом природы, пробирающимся с фотографическим аппаратом и уносящим с собою картины, запечатлевшие жизнь животного мира в ее живом виде, в ее отношениях с живой средой!
Наряду с наблюдением жизни животных фотографирование ее — какое прекрасное, полезнейшее, образовательное занятие для юношества вместо несчастной стрельбы по животным и накалывания насекомых на булавки!
Наблюдения над превращением одной бабочки, с собственным участием в правильном уходе за гусеницей и кормлением ее, дадут в сотни раз больше, чем всякая книга о насекомых и десятки ящиков с насекомыми на булавках. При всякой организации наблюдений никогда не должна упускаться гуманитарная сторона. Если дети взялись продержать у себя гусеницу до последнего ее превращения то они должны разумным, наилучшим образом устроить ей помещение и аккуратно кормить ее. Иначе это будет не наблюдение, а мучительство, которое не должно быть никогда допускаемо как ради блага наблюдаемого животного, так и ради блага самих детей.
Никакие книги, уроки и рассказы о птицах не могут заменить внимательных наблюдений над их жизнью, работой, выведением птенцов, их взаимопомощью — если только с самого начала этих наблюдений зорко охраняются все права птиц.
Такие способы, как изучение птиц в клетках и животных в зоологических садах и террариумах должны быть совершенно отринуты, как способы, не дающие никакого представления о нормальной жизни животных, которая может познаваться только в живой обстановке природы, и как противоречащие требованиям справедливости и гуманности.
Кроме того непосредственного материала, который дает сама природа, полезно бывает и искусственно устраивать некоторые наблюдения, при которых, однако, животные ничего не претерпевают и не меняют искусственно — по крайней мере, в самой ее основе — свою жизнь: таково, например, то устройство комнатных наблюдений над превращением бабочки, о котором я говорил, устройство маленькой пасеки или стеклянного наблюдательного улья для наблюдений над жизнью пчел, маленького искусственного пруда для выведения тритонов, лягушек и т. п., аквариума для наблюдений над мельчайшими и низшими животными. (Но не над рыбами, потому что девять десятых рыб погибает недели через две в обыкновенных небольших аквариумах у не совершенно компетентных любителей аквариумов.) Да и вообще тот небольшой водяной бассейн, который представляет из себя целый мирок для мельчайших водяных животных, является настоящею тюрьмой для более крупных обитателей воды.
IX
Но ничто не может способствовать так живому общению детей с животными и развитию правильного отношения детей к ним, как личная их практическая деятельность для животных.
Активная забота и работа детей для животных может начинаться с самого раннего возраста. Первою ступенью ее может быть кормление кур, цыплят и всякой птицы, а затем заботы о ближайших друзьях нашего детства — собаках и кошках.
Чрезвычайно важно стараться помочь установиться в детях как можно раньше правильному взгляду на живущих с нами животных, взгляду на них не как на какие-то живые вещи, созданные лишь для того, чтобы с ними делали что угодно, но как на сотрудников нашей жизни, как на общества, имеющие все права на наше уважение, внимание, симпатию.
Раз такой взгляд будет установлен, легко будет выяснить вместе с детьми лежащие на нас и на них обязанности к этим животным, делящим с нами нашу жизнь, оказывающим нам разные услуги или просто радующим нас своею дружбою и ласкою.
Нетрудно привлечь детей к живой деятельности ради этих наших сожителей, то есть к совместному осуществлению хотя бы части лежащих на нас по отношению к ним обязанностей.
Перечислим хотя бы кое-что из того, что легко могли бы делать дети: устроить удобное местечко для щенков или котят, для собак и взрослых кошек, убирать за щенком или котенком, приучать его отправлять свои нужды в известном месте, приучать щенят к самостоятельной еде, правильно выводить их гулять, в правильные, по возможности, сроки кормить и поить собаку или кошку, знакомясь с тем, какой корм питательнее и здоровее для того или другого животного. Кормящую мать-собаку или кошку кормить отдельно более питательным кормом, заботиться об их чистоте: мыть маленьких собак, вычесывать больших, менять почаще солому и подстилку под щенятами и взрослыми собаками в комнатах и на дворе, в будке.
Все это совершенно осуществимо, в большей своей части, даже для детей младшего возраста. Дети постарше могут делать все это более сознательно, более внимательно, аккуратно и тщательно. Кроме того, для них могут представиться уже новые, требующие большего уменья и обдумки, заботы, — например, дающая материал для интересного ручного труда, работа — сколотить и устроить как можно теплее и удобнее будку для дворовой собаки, укутать ее на зиму соломой, повесить для тепла у входа в нее кусок какой-нибудь старой теплой материи и т. п.
Наверно уж из детей, вовлеченных в подобные заботы о животных, не выйдет уличных безобразников, пинающих, бьющих собак, швыряющих в них каменьями и т. д. Не выйдет из них, вероятно, людей, сажающих собак на цепь, которой собаки стирают себе до ран шею, запирающих охотничьих собак в тюрьмы для озверения, бросающих больных собак на холод и голод в жестокие морозы. Не выйдет из них маленьких тиранов, мучительски рвущих за хвосты кошек, забрасывающих, топящих безжалостно котят, жестоко истязающих их. Не выйдет из них и тех кошатников, которые, странствуя по России за кошачьим мехом, разбивают кошек головами о заборы.
Продолжаем о детских заботах о животных.
Мы уже сказали, что самые малые малыши могут, например, кормить птиц. Их можно приучить не забывать делать это.
Ребята побольше могут к зиме делать кормовые дощечки, вывешиваемые за окошко, или же кормовые столики в саду, в роще; к весне старшие дети могут делать искусственные гнезда не только для скворцов, но для разных певчих птиц, гнезда, приспособленные и для защиты птиц от разных их врагов.
Работа над приготовлением искусственных гнездовий для птиц интересна тем, что изготовляющие должны стремиться устроить такие помещения для птиц, которые насколько возможно более походили бы на естественное гнездо, чтобы птицы селились в них без колебаний.
Перед изготовлением таких ящиков должен быть произведен ряд наблюдений над жилищами птиц. При самом изготовлении должен приниматься в расчет ряд соображений о пригодности того или другого размера или типа для тех или других птиц в связи с образом жизни и устройством тела птиц. Затем перед развешиванием гнездовых ящиков и при развешивании их должен быть произведен и принят в расчет ряд наблюдений и соображений о том, где развешивать гнездовые ящики, в зависимости от привычек и свойств птиц различных пород, — при этом могла бы наглядно проходиться с детьми целая, так сказать, география птичьей жизни в связи с различными их биологическими особенностями. (Одни птицы, как известно, любят лесные или садовые насаждения и не селятся ни на каких насаждениях там, где между деревьями постлана каменная мостовая или устроена вообще какая-нибудь плотная каменная настилка. Одни породы предпочитают хвойный лес, другие — лиственный, третьи — смешанный. Одни птицы любят молодые насаждения, другие — старые дуплистые деревья. Одни гнездятся высоко, другие — низко, одни — близко к человеческому жилью, другие — лишь подальше от него. Одни породы предпочитают густой лес, другие — местности, перемежающиеся с лугами и полями, и т. п.)
Наблюдения над жизнью птиц, связанные с приготовлением хотя бы очень небольшого числа гнезд, но для разных пород, дадут множество новых полезных знаний юношеству, разовьют в нем проникающий, открывающий, углубленный в жизнь природы взор.
Все подобные занятия в высшей степени полезны и интересны для детей и послужат наилучшим средством для установления и закрепления в детской душе совершенно нового отношения к миру пернатых.
Там, где есть куры, дети могут участвовать в уходе за ними, принимая в нем, по мере своего развитая, все более и более серьезное участие.
Сначала дети будут, например, кормить цыплят сухим кормом и, вперемежку, мягким кормом, а также молоком, будут приготовлять для них мелко изрубленный салат, траву, шпинат, щавель, резаную свеклу и т. д., будут поить их свежей, чистой водой.
Дети будут кормить и взрослую птицу зерном и зеленым кормом, наиболее здоровым для кур, будут следить за тем, чтобы яичную скорлупу не выбрасывать, а возвращать птицам для лучшего развитая их тела, особенно костей и перьев, требующих извести (все это будет выясняться детям, давая пищу их любознательности и обогащая их сведениями из физиологии животных), затем давать мягкий корм, особенно полезный для образования яиц.
Если проточной воды поблизости нет, дети могут ежедневно менять воду в особых для птицы поилках и чистить их, так как от грязи и грязной воды разводятся у кур разные болезни, — кроме того, недостаток воды, как известно, является причиною появления у птицы разных пороков.
Затем дети, вo-первых, могут следить за чистотою двора, наблюдать, чтобы на дворе не валялись куски костей и других отбросов, которые птица может проглотить; во-вторых, следить за чистотой самого птичника.
Для чистоты тела кур дети могут устраивать им купанье (барахтанье) в песке или пыли, насыпая где-нибудь в сухом солнечном углу двора рыхлую землю, мелкий песок, золу или мелкую известь; в дождливое же время купанье можно устраивать в плоском ящике, который ставится в птичнике или под навесом, и менять по временам землю в ящике.
Старшие дети могут принимать деятельное участие в устройстве самого птичника. Здесь опять-таки открывается поле для новых серьезных упражнений в ручном труде.
Сначала могут иметь место сравнительно более легкие поделки: например, гнезда для насиживания в виде закрывающихся корзин или ящиков, клетки для наседок, обнаруживающих несвоевременно охоту к насиживанию, невысокие насесты для кур, кормовые клетки для одних цыплят, куда не могут проникнуть отнимающие у них пищу взрослые птицы, кормушки (открытые и с крышей) для взрослой птицы,— наконец, устройство поилки из бутылки, опрокинутой над тарелкой и приспособленной так, чтобы отверстие бутылки находилось в воде.
Впоследствии, при большем навыке в работе, старшие дети могут сами строить, например, клетки для помещения в них на ночлег каждого отдельного выводка, когда ящик наседки становится тесным, и, наконец, дети, уже более искусные в столярничании, могут сооружать уже, например, даже целый птичник с гнездами и насестями, с разными приспособлениями для удобства очистки и т. п.
Все серьезнее и серьезнее относясь к уходу за птицей дети постепенно будут привыкать к различию летнего зимнего ухода и т. д.
Изучая вместе с взрослыми потребности птиц, выясняя себе лучшие для них условия, дети, вырастая, будут, наверное, сами придумывать и мастерить разные приспособления для птичьего удобства.
Таким образом маленькие люди из разрушителей будут превращаться в созидателей, из врагов в охранителей тех существ, по отношению к которым они так рано
могут проявить все лучшие и худшие стороны своей природы.
Мудрее, на первый взгляд, обстоит дело с какой-либо практической деятельностью детей для больших животных — для лошади и коровы. Но сложным это является, в сущности, только для городских детей, лишенных радостного и полезнейшего общения с этими друзьями человека, с какой-либо города, которые могут прожить всю жизнь, не имея никакого дела с лошадьми и коровами, не имея никакого понятия об уходе за ними, и умереть, не выучившись запрячь или напоить лошадь. Что касается до детей огромнейшей части русского народа — детей крестьян земледельцев, то они с раннего детства начинают принимать участие в жизни домашних животных. В раннем возрасте для них открывается поэтому широкое поле для проявления заботливого внимания и добра к животным и, обратно, широкое поле для всех печальных результатов невнимания, небрежности, грубости и тому подобных отрицательных свойств, которые, развиваясь, делают, порой постепенно из крестьянского ребенка жестокого к животным человека и плохого хозяина.
Деревенские малыши уже гоняют скотину в стадо. Немного подросши, они уже гонят лошадей в ночное и денное и сторожат их и помогают поочередно пастуху пасти деревенскую скотину. Подросши еще, они уже начинают paботать с лошадьми — боронить, скородить, начинают давать скотине корм, поить ее. Выросши еще, они начинают (в семьях, где отсутствует взрослый мужчина) уже пахать, возить дрова и прочее. В этих случаях на крестьянского мальчика старшего возраста ложится уже весь уход за лошадью, — не говоря уже о том, что кое-как запрягать лошадь выучиваются уже все крестьянские дети старшего возраста мальчики, и девочки. Девочки также пасут с пастухом скотину, боронят, да и вообще одинаково выучиваются обращаться с животными и работать с ними, как и мальчики. Впоследствии ведь немалому числу женщин у нас на Руси приходится нести на себе все крестьянское тягло, быть пахарями и сеятелями.
Здесь налицо все условия для самой производительной заботы о тех животных, на которых вместе с их хозяином-крестьянином выносится вся тяжесть жизни человечества
Не достает только в большинстве случаев того, чтобы в души юных работников рано глубоко входило бы и крепко укоренялось, во всей широте своей, сознание прав животных и наших обязанностей к ним для того, чтобы молодые поколения по возможности раньше приучались как можно внимательнее относиться к потребностям своих животных и привыкали к разумному, толковому, сознательному уходу за ними.
Прекрасно уже будет, если, ясно поняв все значение этого для животного, ребята будут исполнять хотя бы такие отрицательные правила, как: не бить лошадь, не гонять ее до чрезмерной усталости, не наваливать на нее чрезмерной тяжести, не работать на ней, когда она захромала, никогда не поить ее после работы и еды,— не только когда она совсем потная и усталая, но даже когда она немного проехала,— никогда не кормить овсом перед самой ездой, а кормить ее за час до езды или через 2-3 часа после работы, не купать лошадь после корма в холодной воде, не ставить потную лошадь на сквозном ветру и т. п. Не трудно тоже позаботиться и, например, о том, чтобы промыть глаза лошади после езды по дорогам с едкой песчаной пылью и т. п.
Главное же, бережно обращаться со стельными животными.
Все эти заботы доступны крестьянскому мальчику и девочке совершенно одинаково, как и взрослому крестьянину, а меж тем, в какое любовное общение с животным они вводят их, сколько добра для животного приносить исполнение хотя бы этих элементарнейших правил сохранения здоровья животного!
Дальше, по мере роста детей и увеличения их участия в уходе за животными, могут прибавляться новые и новые их заботы: о чистоте хлева, об очищении кожи животных, о чистоте корма и пойла и т. д.
Особенно приятен для детей уход за существами», близкими их сердцу, — телятами, жеребятами, ягнятами, козлятами. Старшие дети могут легко принимать на себя все заботы о них: брать на себя не только заботливое, правильное их поение, кормление здоровой для них пищей, соблюдете особой чистоты около них, но даже и устройство для них сухого, светлого, теплого помещения, если бы взрослые могли дать им полезные указания.
Главной задачей такого воспитания было бы развитие наибольшей внимательности к животным.
Воспитанный в таком направлении, крестьянский подросток привык бы, например, осматривать почаще все ноги лошади, очищать копыта от грязи, наблюдать, чтобы не гнило около стрелки и не мокло, следить, не топчется ли лошадь на какую-нибудь ногу,— такой осмотр предупредил бы серьезные заболевания, делающие порой лошадь калекой. При езде такие юноши не забывали бы таких простых вещей, как, например, очистить колеса от слишком большого количества налипшей на них грязи, заставляющей перегруженных лошадей еще более напрягать свои силы и т. п.
Все это немудреные для внимательного человека вещи, а меж тем все такие заботы (из которых мы упомянули только некоторые, выхватив их на удачу, в виде примера) благотворно отзывались бы и на благополучии животных и на душевной жизни самих юных крестьян, воспитывая в них и настоящих друзей животных и сознательных, разумных хозяев.
X
Так вот кое-что из того, что могло бы содействовать детям в их гуманитарном воспитании.
Теперь является вопрос: как же осуществить это?
Прежде всего, конечно, за это дело должна взяться семья — родители или воспитатели, серьезно думающие о детском воспитании. Нечего здесь смущаться никаким своим незнанием и неумением. Здесь, как и во всем другом, только было бы серьезное, глубокое желание и стремление работать над этим, учиться всему этому вместе с детьми, помогая им хотя бы только просто некоторой большей своей жизненной опытностью и разыскивая людей и книги, могущих дать сведения и указания.
В этом, как и во всех других подобных задачах, великую пользу могли бы оказывать родительские кооперации для взаимопомощи во всем, касающемся детского воспитания. Это возможно везде — и в деревне, и в городе.
Городским жителям кажется иногда крайне затруднительной, а то и вовсе невозможной, организация для детей в городе каких-либо, например, наблюдений над миром животных,— особенно же в разгаре, так сказать, городской жизни, зимой, когда животный мир совершенно пустеет. Но это только так кажется людям, не привыкшим к наблюдениям над жизнью животных, не интересовавшимся ими, не углубившимся в жизнь животных. Конечно, зимняя жизнь животного мира гораздо скупее и труднее для наблюдений, но целый ряд наблюдений может делаться и зимой в городе: жизнь зимующих птиц в парках, бульварах, садах, палисадниках, на улицах ,на площадях (особенно, например, около рынков), домашняя и дворовая жизнь кошек, собак, зимняя жизнь кур, посещения конюшни, коровников (теми, у кого нет в городе лошади и коровы), наблюдения над насекомыми, спящими в деревьях, в окнах и т. д., С весны же и в городе открывается обширное поле для наблюдений над пробуждающимся миром мелких и крупных живых существ в воздухе, в садах, парках, бульварах, на улицах, на берегах реки и в ее воде и т. д., не говоря уже о жизни животных в самой квартире, на дворе, не говоря уже о загородных экскурсиях, которые будут непременно неоднократно совершаться семьями, серьезно заинтересовавшимися природоведением и гуманитарною стороною воспитания детского ума и сердца.
Что касается до практических работ детей для животных, то в городе легко выполнимо и зимою многое из того, что мы говорили об уходе за собакой, кошкой (лошадью, коровою,— где они есть, — для старших детей), о заботах о дворовой птице (куры, голуби), устройство собачьих будок, голубятен, кормовых столиков, весной искусственных гнездовий и т. д. Летом же, понятно, поле деятельности для всего этого еще гораздо больше и разнообразнее.
Но,— увы! — не только в городе, но и при выезде на дачу,— где, безобразно испорченный городской «культурою», дачная поселения все же окружает, хотя и подрубленная обыкновенно, подпорченная вандализмом дачников, но все же живая природа,— городские семьи умеют оставаться глухи и немы к окружающей природе. Иногда только какой-нибудь шальной малый или старый с ружьем в руке пойдет в лес или поле бить ни с того, ни с сего птиц или же ловить неизвестно зачем бабочек. А меж тем, полюбившие природу, заинтересовавшиеся ею, люди могли бы найти уже здесь обильный материал для живого, интересного и поучительного общения с живым миром.
О деревне уж и говорить нечего. Там только надо глядеть в оба и слышать всеми ушами. Там все только зовет к себе наблюдателя, исследователя, любителя — малого и большого. Там крестьянской детворе и юношеству нужен только друг, который помогал бы разобраться в громадном материале, предлагающемся деревенскою природою, товарищ, который помог бы наблюдение останавливаться больше на самом существенном, помогал бы лучше понять, уяснить жизнь животного и растительного мира, — словом, содействовал бы, сколько только мог, более близкому единению детей с ним.
Этим другом мог бы быть, например, народный учитель. Он мог бы быть первым товарищем детей в их экскурсиях по окрестным Полям, лесам, прудам, озерам и рекам, товарищем в их исследованиях и наблюдениях.
Он мог бы переносить потом обсуждение этих наблюдений и в стены школы, совместно с детьми подводя им итоги, вызывая их на выводы, обобщения, записывание, зарисовывание ими их наблюдений и т. д.
Учитель мог бы явиться первым товарищем в разных практических работах для животных, указанных нами, вызывая в детях интерес, аппетит к ним, помогая организовать их в школе и, где возможно, и дома, соображая с ребятами, как что лучше устроить, деятельно работая на ряду с ними для этого и топором, и пилой, и рубанком, организуя для наблюдений школьную пасеку и т. д.
При этом, однако, учитель должен стараться всегда во всем вызывать елико возможно больше собственного детского почина, самодеятельности.
Если в школьной среде пробудятся такие интересы, в ней может образоваться прекрасная почва для школьной кооперации с целью изучения жизни животных и покровительства им. И какая живая, интересная работа может идти в такой кооперации, где дети, вместо союза вредителей, разрушителей, мучителей, убийц образуют, из себя союз деятельных исследователей, защитников, работников для блага животных!
Детских союзов покровительства животным имеется довольно много в Англии, Голландии, Франции, Германии, Швеции.
Особенно же много детских обществ «Милосердия животных в североамериканских Соединенных Штатах. Первое такое общество образовалось в Бостоне в 1888 г.; теперь кружков «Милосердия» в Соединенных Штатах свыше 10.000.
Инициатором детских союзов покровительства животным в Финляндии явился известный финский поэт Топелиус, основавший при содействии многих учителей и учительниц так называемый «Майский союз», в котором состоит несколько тысяч юных членов.
Деятельность всех этих союзов представляет собою глубоко светлое явление. Но задачи этих союзов, обыкновенно, не так широки, как нам казалось бы желательным для школьных коопераций подобного рода: выполняя с большим или меньшим успехом задачу защиты животных, существующее союзы почти не занимаются, с доступной для детей серьезностью, изучением их жизни и мало вводят в свою деятельность личный детский ручной труд для животных, а меж тем только гармоничное, крепкое соединение всех этих элементов может придать таким детским кооперациям полную жизнеспособность и интерес для детей и вызвать их на оживленную деятельность.
У нас предпринимались кое-где попытки таких школьных союзов, которые получили название «Майских союзов», — вероятно, в честь майского расцвета природы, но число попыток такого рода было до сих пор ничтожно. Причиной этого являлось, между прочим, и равнодушие народных учителей к этому делу.
Существовавшие до сих пор майские союзы представляли собой, сколько нам известно, случайное явление. Создавались они не из дружного соединения в таком деле детей одной школы и займа постепенно, может быть, и нескольких школ, объединяющихся для такой работы, но возникали, большею частью, по инициативе лиц, стоявших вне школы. Поэтому союзы являлись школьной пристройкой, а не органическим произведением школы как маленькой общины, объединенной в деятельных симпатиях к живому миру.
Пора народным учителям самим взяться за это дело, поняв всю важность его в воспитательном и образовательном отношении.
И какая живая душевная связь соединить учителя с учеником в этом общем, хорошем, интересном деле, какое оживление вызовет оно в жизни школы, как сблизит оно учителя с детьми на почве общего интереса и общей заботы!
Совместные наблюдения над жизнью домашних животных и какая возможно практическая работа для них, так же как и наблюдения и работа для таких вольных животных, как, например, певчие птицы, могут начинаться с первых лет школьной жизни. В старших же отделениях народной школы совместные наблюдения над жизнью, устройством и уходом за домашними животными могут принять (имея в виду подготовленность в этом отношении почвы у крестьянских детей) вполне, сравнительно, серьезный характер.
Мы не говорим, что народный учитель может или должен дать старшим ученикам какой-либо цикл знаний по элементарному скотоводству, гигиене животных и т. п. Но он может дать толчок пробуждению в них интересов, желания искать, учиться, думать работать в этом направлении. Конечно, учителю самому надо наблюдать, изучать, раздобывать сведения, учиться, для того, чтобы быть в этом вопросе полезным ребятам, с которыми он работает. Но на то он и деревенский учитель, чтобы работать над тем, что особенно важно для деревенских ребят. Если учитель посвятит этому хотя небольшой уголок своего времени, но будет работать в нем серьезно, одушевленно, заражая своим отношением к животным учеников, он, мне кажется, многое может сделать.
Немыслимо, чтобы сколько-нибудь порядочная школа не давала старшим ученикам самых элементарных понятий о первой помощи раненому, задыхающемуся, утопающему. Также может она дать старшим детям и несколько первоначальных сведений о первой помощи животным. В деревенской жизни, окруженной жизнью животного мира, всегда представятся случаи наглядно продемонстрировать простейшие приемы перевязки раны, сломанной лапы, крыла и т. п. Затем, например, принимая во внимание, как часто плохая упряжь причиняет лошадям ссадины, могущие превратиться в раны, нетрудно показать крестьянским подросткам простейшие способы помощи в подобных случаях, —например, какую-нибудь подкладку в хомутине, выше и ниже седла, из кусочков мягкого сукна или войлока и т. д. Ничего не может быть проще таких вещей, а меж тем он могут предупредить мучительные страдания животного.
«Так вы хотите взвалить на учителя обучение скотоводству? Так вы хотите, чтобы в сельской школе, где не успевают выучиться как следует грамоте, детей обучали скотолечению?» Но я не боюсь этих возражений. Для нас все новое является каким-то жупелом, для нас вся школьная работа сводится к уткнутию носа в книгу или тетрадку, а вот, оказывается, в некоторых лучших американских школах давно уже знакомят детей с подачей помощи пострадавшим животным.
Инициатором ознакомления детей с подачей помощи пострадавшим животным в Америке была несельская учительница, а учительница одного из самых больших городов Северной Америки — г-жа Свифт, «которой, как говорит об этом один из американских журналов, пришла в голову прекрасная мысль не только воспитывать в детях отвращение к мучениям животных, но и приучать школьников к облегченно тех страданий или болезней живых тварей, которые приходится замечать у них. Намерения учительницы были выполнены настолько успешно, дети с таким участием стали относиться к больным или изувеченным животным, что в настоящее время в некоторых американских школах уже введено обучение уходу за больными животными.
Уроки происходят в особом помещении, куда доставляют больных собак, кошек, кроликов, домашних и диких птиц и т. п. Надо видеть, с каким жаром рвутся маленькие братья милосердия вперед, к тому больному создание, которое покорно подчиняется всему, что делают люди для его исцеления.
Маленькие американцы так заинтересовались этим прекрасным делом, что с любовью занимаются помощью животным и вне школы, уделяя ему значительную часть своего свободного времени. В некоторых местностях образовались даже детские «Общества спасения животных».
В конце заметки об этом в американском журнале говорится: «Нечего и говорить о том, как много пользы приносить подобное обучение, которое навсегда делает человека сознательным в деле ухода за животными. Но в том, что удалось устроить г-же Свифт, есть и другая сторона, еще более важная. Сострадание к больному существу, забота о нем, желание облегчить его муки облагораживают душу ребенка и воспитывают в нем то чувство милосердия, без которого так легко сделаться безжалостным борцом только за свои удобства и выгоды»[1].
XI
«Ну, а хорошие, гуманные книги о животных?» О, да, конечно, хорошие книги могут оказать большую, порою великую даже, пользу в гуманитарном воспитании детей. Рассказы таких мастеров слова, как Толстой, Тургенев,. Гаршин и им подобные, проникнутые бесконечной любовью к животным и полные такой художественной и духовной красоты, могут пасть благодатным дождем на детскую душу и вызвать в ней к жизни спящие еще семена симпатии или же укрепить и развить всходы симпатий, слабо пробивающихся.
Иногда такие произведения могут произвести целый переворот в детской душе.
Наряду с ними можно поставить рассказы такого, например, натуралиста, как Сетон-Томпсон, с такой любовью воссоздающего образы зверей, в его изображении, можно сказать, более реальные для нас, чем сама действительность, потому что они, подобно «Холстомеру» Толстого, переносят нас не только во всю жизнь животных, но в самую глубину их души.
Затем идут такие рассказы натуралистов, как рассказы Вильяма Лонга и наших натуралистов — Богданова, Кайгородова и т. п., лучшие произведения которых дают прекрасный материал и в гуманитарном отношении. Я не скажу «все произведения», потому что некоторые из них не чужды охотничьего отношения к животным и скорее пропагандируют охоту и рыбную ловлю, например, чем протестуют против них.
Что касается до специально научно-зоологического материала, то много дают и большие тома старого Брема и маленькие книжки таких популяризаторов, как Н. Рубакин, Ю. Вагнер и др.
Стараясь как можно полнее использовать для детей подобный указанному первоклассный, так сказать, художественный и художественно-натуралистический и научный материал, будем пользоваться вообще всем подходящим материалом, художественным и научным, какой найдем в нашей литературе, лишь бы он был доступен и интересен для детей и проникнут человеческим отношением к животным или, по крайней мере, не холодно-бездушным отношением к их бедствиям и правам на жизнь, лишь бы рассказы и стихи были очерки жизни животных правдивы с научной точки зрения и доступны по изложению.
Что касается лично меня, то в своем издательском уголку, в течение всей своей литературной и издательской деятельности я старался, сколько мог, об издании и возможно широком распространении гуманитарной и научно-образовательной литературы о животных. Это была одна из главных моих задач. Литературу эту я старался распространить в разных сферах читателей — и там, где могут купить книжку только за копейку, и там, где не хотят знать дешевых книжек, — так как одинаково, во всех сферах, люди нуждаются в гуманитарном материале для противовеса антигуманитарной проповеди всей окружающей их жизни.
В области литературы о животных я старался осуществить три, так сказать, задачи: во-первых, дать художественно-литературный материал для чтения о животных, во-вторых, научно-образовательный, и, в-третьих, дать книги о практической работе для животных,— книги о правильном уходе за ними, о первой помощи им, о лечении их и т. д.
В своих книгах для школьного чтения я старался последовательно развить и провести сквозь весь основной материал их идеи деятельной симпатии ко всему живому.
Но так как книги эти только отчасти могли быть посвящены развитию гуманитарных идей, то я решил приступить к составление специальной гуманитарно-воспитательной трилогии, — трех больших сборников, долженствующих объединить в себе необходимый материал для содействия душевному развитию детей и юношества в гуманитарном направлении, а также для содействия развитию в юных сердцах побуждены и любви к практической деятельности ради всего живого, нуждающегося в их содействии, помощи и защите.
Первая часть этой трилогии должна быть посвящена отношениям человека к человеку, вторая — отношениям к животным и третья — отношению к растениям. Подготовляя материал для всех трех частей, я решил, по разным соображениям, начать с части, посвященной животным. Результатом этой работы и явилась составленная мною и товарищем моим по редакции В. И. Лукьянской первая часть книги «Друг животных», заключающая в себе гуманитарный литературный материал для младшего возраста. Содержание второй части «Друга животных> (предназначающейся для старшего возраста) должно по моему плану охватить возможно большее число представителей животного царства из всех, по возможности, классов. Работу над этой частью «Друга животных», за совершенным недостатком времени, я просил всецело уже выполнить В. И. Лукьянскую, которая внесла в ее выполнение тот труд глубокой любви, какой мог быть сделан лишь человеком, столь горячо преданным интересам немых созданий, как она.
Упомянув обо всем этом для того, чтобы показать, что я придаю гуманитарной литературе большое значение, я хочу опять-таки подчеркнуть то, что тем, что дадут только детям такую литературу в руки или будут знакомить с ней в своем чтении, будет сделано еще очень немного. Хорошая книга может дать много душе ребенка. Но надо непременно помочь ему войти в собственное живое общение с окружающими его живыми существами, надо непременно постараться помочь развитию живого, самостоятельного его интереса к их жизни и желания практически для них действовать.
А это будет в большинстве случаев непременно достигнуто, когда и взрослые явятся заинтересованными и деятельными детскими товарищами в этом случае.
XII
«Но как же, — возразят нам, — осуществит во всей полноте гуманное отношение к животным? Как провести его вполне в воспитании? А истребление вредных насекомых? А нападающие хищные звери? А необходимость животного жира для жителей полярных стран? А вообще необходимость для здоровья человека, для физической его и умственной работы, животной пищи? Нет, нет, ваши гуманные принципы не могут быть проведены в жизнь».
Конечно, чем полнее будет проявляться гуманность по отношению к миру животных, чем ближе она будет к самому идеалу гуманного отношения к ним, тем лучше будет и для страдающих немых тварей и для самих людей, облагораживаемых гуманностью.
Но если, как думают, невозможно сразу во всех направлениях, во всем объеме достичь того, чего хотелось бы, из-за этого истинный друг животных не сложит руки, не успокоится, не махнет рукою, как махают многие перед злом нашей жизни, — все равно, дескать, ничего не поделаешь, против рожна не попрешь, ковшом море не вычерпаешь и т. д. Истинный друг всего живого не сделает так, считая такое отношение самым малодушным, эгоистическим, преступным. Для друга животных дорого всякое движение, всякое усилие, всякая работа в направлении к человечности. Чем дальше оно пойдет, чем больше оно охватит, тем лучше. Но дорого, повторяю, всякое движете к человечности. В этом движении трудно бывает сказать, кто ушел дальше, — солдат ли, например, бросившийся в огонь ради спасения животного, или же старушка, которая каждый день в холода ходила подсыпать песку на том крутом подъеме на одном из лондонских мостов, где лошади разбивали свои ноги, становясь калеками.
Один делал все, что мог, бросая всю жизнь свою в жертву во имя человечности, другая делала все, что, могла, таща изо всех своих старческих сил песок и подолгу
рассыпая его, тяжело сгибаясь своей истомленной старушечьей спиной. Она, как евангельская вдовица, положившая в кружку все, что у нее было, тоже давала милосердию все, что могла. Только бы нам делать все, что мы можем делать, все что мы в силах делать,— и сколько страданий убавилось бы в мире! А делать мы можем гораздо более, чем мы представляем себе. Мы только не даем себе серьезного труда проверить — действительно ли невозможно то и другое.
Мы очень косны. Самые простые вещи нам представляются невозможными, чуть не безумными. Среди нас даже такой простой шаг в отношении животных, как отказ от мясной пищи для того, чтобы не участвовать в убийстве животных, представляется чем-то особенным, какой-то жертвой или нелепостью, безрассудством, пагубой. Просто скучно иногда бывает слушать ходячие разговоры по этому поводу! Странно слышать, как утверждают, что без мясной пищи невозможна, например, энергичная, умственная деятельность и т. п., — это после того, как перед нами прошла уже гигантская работа Толстого в тридцатилетнюю его вегетарианскую полосу жизни, и когда этот перешедший в девятый десяток жизни, старец-вегетарианец бросает еще в мир свои, полные великой духовной силы, творения!
Я не слепой исповедник вегетарианства, я не стану уверять, что будто бы все вегетарианцы сильны и здоровы, а все мясоеды болезненны и слабы и т. п., — я могу только совершенно определенно сказать, что процент болезненных вегетарианцев во всяком случае нисколько не больше, чем болезненных мясоедов, что вегетарианство если уж не здоровее, то никак уж не вреднее, чем мясоедение, с тою, однако, разницей, что ради вкусовых ощущений вегетарианцев не совершается мучительства и убийства других существ.
Но людям так не хочется расстаться с раздражающей их вкус, въевшейся в их привычки пищей, что они ищут только тех аргументов, которые могли бы помочь им спокойно продолжать свой привычный режим, старательно отстраняя от себя мысли о страданиях, которые переносят существа, убиваемые ради минутного наслаждения человеческого языка.
Но я, в конце концов, не настаиваю на вегетарианстве, как не настаиваю ни на чем. С этого ли края, с другого ли начнут люди проявление человечных убеждений,— все равно важно движение в направлении справедливости к животным, важно все большее и большее расширение внимания и сострадания к бессловесным.
XIII
Мне скажут, может быть, еще: «Вы говорите все о животных и о животных. А кругом все полно людскими страданиями. Вот на что надо направлять умы и сердца, а не отвлекать их сосредоточением сострадания над одними животными и деятельностью для них. Вы хотите создания людей с однобокими симпатиями».
Ничего подобного. Не дай Бог, чтобы из наших детей выходили люди, боящиеся задавить червяка и в то же время преспокойно наступающие на жизнь своего ближнего, или люди вроде нежных барынь, охающих и ахающих над расчесанными собачками, почивающими на шелковых подушках, и заставляющих прислуг валяться где-нибудь в грязном углу за печкой или ждать, не ложась, вставши в шесть утра, когда господа кончать свой наполненный развлечениями вечер после полночи. Это однобокие нравственные калеки, и не дай Бог нашим детям чем-нибудь походить на них.
Но мало симпатичны и люди, считающие себя гуманными и идущие с ружьем в руках бить беззащитных пичуг ради удовольствия бросить в ягдташ их трепещущее в предсмертной муке тело.
Для меня глубоко противны такие вегетарианцы, которые жалеют животных и равнодушны к людским бедствиям, самодовольные своим вегетарианством и ничего не делающие для облегчения человеческих страданий, но нелепы и человеколюбцы, после горячей проповеди против несправедливости и насилия, царящего в мире, поглощающие куски зарезанных для них живых существ, не имеющих чести принадлежать к человеческой породе.
Пусть те или другие будут прекраснейшие, благороднейшие души, но все же это однобокие души, кривые на один из душевных глаз.
Мы же не хотим однобокости на ту или другую сторону. Мы хотим, чтобы из детей выходили цельные люди, с неиспорченным душевным зрением, которое ясно видело бы горе и страдание везде, где оно есть, не деля живые существа на разряды обреченных на жизнь и обреченных на убийство или мучительство от руки людей.
XIV
И еще, быть может, мне скажут:
«Вы хотите воспитать детей слабыми, слабодушными людьми, трепещущими перед всякими страданиями — сегодня пред страданиями раненого зайца, а завтра и перед собственными какими-нибудь пустыми своими страданиями. Вы хотите воспитать баб, а не мужественных борцов с жизнью».
Нет, — мы хотим так же, как и вы, чтобы из детей выходили не сантиментальные слюнтяи, а сильные, мужественные люди, мужественно переносящие свои страдания, мужественно выносящие крики чужих страданий, но не для того, чтобы спокойно проходить мимо них, а для того, чтобы идти к ним на помощь, работать, облегчая их, и, во всяком случае, люди, стремящиеся к тому, чтобы не быть самим причиной ничьих чужих страданий.
Когда мы увидим, что дети, отправляясь в завлекательные походы на зверьков и птиц, с палками, каменьями, силками, луками, ружьями, будут воображать себя героями, смельчаками, мы скажем им: «Вы не герои, а трусы. Тот, кто обижает, давит, насилует слабого, тот жалкий трус, а не герой. Герой спасает жизни, а не губить их. Мужество не в насилии, а в труде и помощи. Давя слабого, ты — трус и негодяй».
Мы хотим, чтобы из детей выходили сильные люди, но не безразлично сильные, не сильные на все, на что угодно. Мы хотим, чтобы сила их была не слепая, самодовлеющая сила, но сила, направленная на благо всех, сила, покоряющая мертвую природу, живой же природе помогающая, работающая в братской кооперации с нею, сила, направленная на созидание, а не на разрушение.
Если сила детей новых поколений будет такою силой, они будут людьми в истинном значении этого слова, они исполнять в этом мире свое человеческое, а не одно животное, предназначение, потому что человеку предназначено внести в мир новую идею, и эта идея есть идея единства и священности жизни, идея великого братства всех существ, служащих ее проявлением.
Если жизнь и детей новых поколений не будет сколько-нибудь полным воплощением этой идеи, если и у них будут отступления, проступки против нее (ибо и они будут не ангелы, а люди во всех условиях земной жизни), но если только они будут люди, стремящиеся идти все выше к солнцу любви, а не книзу, в старую яму животного насилия, они будут участниками того истинного прогресса человечества, который выразился когда-то во мгле веков сначала в уничтожении поедания старых и слабых, затем поедания людей чужих семей, затем поедания покоренных врагов, потом в ослаблении и уничтожении рабства, затем в продолжающемся ослаблении вообще жестокостей и насилий людей над людьми, и должен прийти к прекращению жестокостей над животными и убийств их для человеческого удовольствия.
Для наших детей будет ясно, что уничтожение жестокостей и насилий людей над людьми и уничтожение жестокостей и насилий людей над животными,— две стороны одной и той же задачи: вразумления, очеловечения жизни, неразрывно связанные вместе.
Им ясно будет, что нельзя жертвовать одним для другого, что если великую ткань жизни разрывают в одном месте, то надрыв ее непременно отзывается во всей жизни, и, прежде всего, пагубнее всего, в самом том человеке, который нарушает закон любви, закон великого братства, потому что нарушающий лишает себя радостного единства со всею жизнью.
Работа для прекращения страданий людей, работа для прекращения страданий животных! Никак нельзя сказать, что должно быть первым, что вторым. Жертвовать одним для другого было бы тою величайшею несправедливостью, тем попранием прав одних существ ради других, которые до сих пор царили в мире. И то и другое, насколько хватит любви, сил и умения!
Проведете идеи о равном уважении к жизни каждого живого существа имеет огромное значение в детском воспитании.
Перед человеком, могущим сгубить или освободить тысячу людей, и перед ребенком, могущим освободить или задушить птичку, бьющуюся в его руках, стоит нравственная дилемма, одинаковая по своей сущности и величине для того и другого.
Для дела справедливости и любви не может быть первых и последних. Все страдающие существа должны быть равноценны.
Но для того, чтобы работа справедливости и любви совершалась в новых поколениях в таком цельном направлении, нужна сейчас работа, борьба в этом направлении. Если воспитание будет так же мало заниматься этими вопросами, как занималось до сих пор, дело уничтожения великих несправедливостей в мире будет подвигаться вперед по-прежнему черепашьими шагами, и царящая кругом атмосфера жестокости, не встречая себе отпора в воспитании, будет по-прежнему сушить, кастрировать, извращать душу наших детей.
Но я глубоко верю, что явятся новые родители, учителя, воспитатели и просто друзья детей и всех гонимых и теснимых без различия, которым дороже всего будет воспитать в ребенке человека.
В одном из очерков жизни знаменитого американского религиозного и социального реформатора Теодора Паркера (того Паркера, которого автор русской его биографии Н. И. Сторошенко называет «апостолом гуманности и свободы»), мы находим следующие строки[2].
„Мать Паркера,— женщина с чутким сердцем и поэтическим дарованием, но в то же время очень практичная,— много потрудилась над религиозным воспитанием своих детей, стараясь внушить им религию любви и добрых дел, а не одни только догматы. Она научила Теодора прислушиваться всегда к своему внутреннему голосу, и уже с детства он весь был проникнут нравственными и религиозными идеями. Как рано Паркер стал задумываться над тем, что добро и что зло, видно, между прочим, из его автобиографии. „Когда мне было четыре года,— рассказывает он, — один наш знакомый спросил меня, кого я люблю больше всех. „Отца», — ответил я. — „Как, больше чем себя?»—„Да, сэр». Тогда вмешался отец. „Ну, а если бы,— сказал он, — кому-нибудь из нас двоих пришлось быть высеченным, кого бы ты выбрал?» Я ничего не ответил, но в течение нескольких недель мучился вопросом, почему мне больше хотелось, чтобы наказанию подвергся мой отец, а не я». В другом месте Паркер рассказывает такой случай: „Когда мне было четыре года, я как-то увидел черепаху, лежавшую у берега пруда. Я еще ни разу не убил ни одного живого существа, но видел много раз, как мальчики, ради забавы, ловили и уничтожали птиц, кроликов и т. д. Я поднял палку с тем, чтобы ударить безвредное животное, но вдруг что-то удержало мою руку, и я услышал, как внутренний голос ясно и громко сказал: „это не хорошо». Пораженный случившимся, я побежал домой к матери и спросил ее, чей голос сказал мне эти слова. Она вытерла выступившие слезы своим фартуком и, поднявши меня на руки, ответила: „Некоторые люди называют этот голос совестью. Но я люблю называть его голосом Божьим в душе человека. Если ты будешь прислушиваться к нему, он станет говорить все яснее и яснее и поведет тебя по пути к правде. Если же ты станешь заглушать его в себе, он станет все тише и тише и оставить тебя во тьме, без руководителя. Будущая жизнь твоя зависит от того, сбережешь ли ты в себе этот голос Бога». Я постоянно вспоминал об этих словах и глубоко задумывался над ними. И кажется мне, что ни одно событие в моей жизни не произвело на меня такого сильного впечатления.
Из этого мальчика вышел один из героев человечества, великий борец за освобождение человеческой мысли и за освобождение рабов, угнетенных силою и невежеством.
Не всем дано быть героями, апостолами, но всякому дано быть Человеком , и новое воспитание в основу свою должно положить это.
Новая жизнь откроется для души наших детей, когда основой их жизни станет человечность. Мир жизни откроется тогда им с новой стороны. Новая, радостная красота откроется им в мире, как открылась она Франциску Ассизскому, брату всех живых существ, как открывалась она старцам-пустынникам, жившим в дружбе со зверями, как открывается она всем истинным друзьям животных наших времен в их любовном общении со всем окружающим их миром жизни.
Чистыми, не оскверненными насилиями над другими существами, руками будут переворачивать новые люди страницы дивной книги мира и сами будут вписывать в нее прекрасные строки новой жизни, основанной на равной любви ко всему живому.
Будем же и мы, во мгле торжествующего пока насилия, среди стонов жертв человеческого бездушия и невежества, в тумане испарений проливаемой крови, работать для приближения этого времени.
Примечания
[1] Цитируется по журналу „Юный Читатель».
[2] Краткая биография Паркера. Перевод с английского, под редакцией В. Г. Черткова.
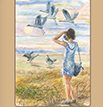
Комментировать