- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
69
Мне опять говорят: время нужно экономить. «Для чего?» — спросил я. И мне ответили: «Чтобы его хватало и на культуру». Можно подумать, что культура — какое-то особое занятие.
Хорошо, возьмём, к примеру, мать семейства, она кормит детей, убирает дом, штопает бельё, и вот её избавили от её обязанностей, без неё накормлены дети, вымыт дом, зашито бельё. У неё освободилось время, его надо чем-то заполнить. Я даю ей послушать песню о детях, полную поэзии взращивания их и вскармливания, поэму домашнего очага, воспевающую значимость дома. Но она зевает, слушая её, — всё это уже не её дело.
Я ничего не скажу тебе словом «гора», если ты путешествовал только на носилках, если не обдирал руки о шипы на склоне, если из-под ног у тебя не катились камни, если ветер на вершине не дул тебе в лицо.
Ничего не говорит ей и слово «дом», если дом никогда не требовал от неё ни времени, ни усердия. Если не танцевали пылинки в солнечном луче, когда поутру она распахивала дверь, выметая из дома прах вчерашнего. Если никогда она не была королевой, вновь и вновь призывающей к порядку жизнь, — жизнь, которая вновь и вновь одним своим присутствием нарушает все порядки, оставляя на столе грязные миски, в очаге потухшие угли и в углу мокрые пелёнки уснувшего малыша, потому что жизнь скудна и полна чудес. Если она никогда не вставала на заре, сама, без всяких будильников, чтобы вернуть своему дому первозданную новизну, — так поутру охорашивается птица на ветке, приглаживая клювом пёрышки; если никогда не возвращала вещам хрупкое совершенство порядка, чтобы новому дню было что нарушать своими обедами и завтраками, играми детей, возвращением с работы мужа, сминая этот порядок, словно воск. Если она не знает, что дом поутру — податливое тесто, а вечером — книга, полная воспоминаний. Если никогда не готовила белоснежной страницы, что ты ей скажешь словом «дом», когда нет в нём для неё никакого смысла?
Если ты хочешь видеть в женщине свет жизни, попроси её отчистить до блеска потускневший медный кувшин, и что-то от его блеска заискрится в сумерках. Если ты хочешь, чтобы женская душа стала молитвой и поэзией, ты придумаешь мало-помалу для неё дом, который нужно обновлять на заре…
А иначе?.. Да, ты высвободишь время, но какой в нём прок?
Только безумец делит: вот это культура, а вот это работа. Человек тогда возненавидит работу — мёртвый груз своей жизни, игру, где ничего не поставлено на кон и не на что надеяться. Играют не в кости — в стада, пастбища, в собственное золото. Ребёнок играет в песок, но перед ним не комочки грязи, а крепость, гора или корабль.
Конечно, знаю и я, какое наслаждение для человека отдых. Я видел, как дремлет под пальмами поэт. Видел, как воин пьёт чай с куртизанками. Видел, как тёплым вечером сидит на пороге своего дома плотник. И конечно, все они счастливы. Но повторяю: им было от чего устать, они отдыхали от людей. Воин слушал пение и смотрел на танцы. Поэт, валяясь на траве, мечтал. Плотник дышал свежим воздухом. К себе они шли не сейчас. Существом их жизни была работа.
Возьмём, к примеру, зодчего: вот у него возник замысел, он загорелся им, но значим зодчий только тогда, когда руководит постройкой храма, а не тогда, когда играет с приятелями в кости. И это будет правдой для каждого. Если ты экономишь время на работе — я не имею в виду отдых, расслабленные руки, дремлющий после напряжения мозг, — ты получаешь мёртвое время. Если ты разрываешь жизнь на две, несовместимые друг с другом жизни: на работу и на досуг, работа становится ярмом, для которого жаль души, а досуг — пустотой небытия.
Только безумцы могут хотеть, чтобы чеканка перестала быть религией чеканщика и стала его ремеслом, не требующим души; только безумцы могут считать, что искусно сделанный чужими руками кувшин способен облагородить человека, — культура не плащ, ею невозможно одеться. Не существует фабрики, которая изготовляла бы культуру.
И я — я настаиваю: для чеканщиков существует единственная культура — культура самих чеканщиков, и состоит она в их каждодневных трудах, горестях, радостях, страданиях, опасениях, взлётах и тяготах их работы.
Для истинной поэзии плодотворна только та часть твоей жизни, которой ты принадлежишь целиком, которая для тебя и голод, и жажда, и хлеб для твоих детей; и она же твоё воздаяние, ты можешь получить его, а можешь и не получить. Иначе ты только играешь в жизнь, и культура твоя — только пародия.
Сбываешься только тогда, когда преодолеваешь сопротивление. Но если ты на отдыхе, если ничего от тебя не требуется, если ты мирно дремлешь под деревом или в объятиях доступной любви, если нет несправедливостей, которые тебя мучают, нет опасности, которая угрожает, — что тебе остаётся, как не выдумать для себя работу, чтобы ощутить, что ты всё-таки существуешь?
Но не ошибись, игра мало чего стоит, она вне принуждения необходимостью, и в любой миг ты можешь перестать играть. Я запрещаю считать, что одно и то же: лежать днём в своей, пусть пустой, пусть тёмной — ради отдыха глаз — комнате и лежать в тёмной камере, куда тебя заточили навечно, хотя поза та же и так же пусто вокруг и темно. И пусть даже свободный вообразил себя узником. Навести одного и другого на закате первого дня. Свободный в восторге от необычной игры, узник поседел. Узник не в силах рассказать, что пережил, у него нет подходящих слов, он похож на путника, тот преодолел перевал и оказался в неведомом для себя мире, всё для него изменилось, изменился и он сам, но какими словами расскажешь о перемене?
Только дети втыкают в песок ветку, обращаются к ней «ваше величество» и всерьёз благоговеют перед своей королевой. Но если я, желая обогатить любовью и облагородить людей, затеваю такую же игру, мне придётся сделать из своей ветки божка, заставить всех поклоняться ему и приносить тяжкие жертвы.
Жертва уже не игра, и ветка принесёт плоды: в человеке зазвенит любовь или страх. И если добровольный узник узнает, что ему и впрямь до конца своих дней не покинуть своей полутёмной комнаты, он переживёт такое, о чём и не подозревал, и от нежданных видений у него побелеют волосы.
Работа вживляет тебя в мир. Пахарю мешают камни на поле, глядя в небо, он ждёт дождя или, напротив, машет на дождь рукой, он в общении, он распространился, он познаёт. Ни одно из его движений не остаётся без ответа. Всякая религия тоже общение, она предуказует праведный путь, один верен ему, другой ловчит, один узнаёт, что такое душевный покой, другой — что такое раскаяние. Желая видеть людей такими вот, а не иными, выстроил свой замок мой отец, и каждый шаг в нём был осмыслен. Отец не любил бестолкового топтания скотины в хлеве.
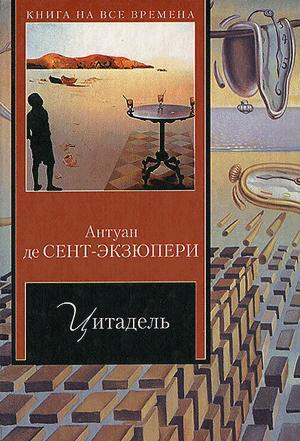
Комментировать