- Предисловие
- Часть I. Восточные сказания, старинные предания, древние легенды, повести, новеллы, притчи
- Вифлеемский младенец
- Слезы
- Бегство в Египет
- В Назарете
- Дары персидского царя волхва Артабана
- Странствующий еврей
- Страстная пятница
- Дочь Пилата
- Кончина праведника
- Письма Адины
- Воскресение и жизнь
- Фиалка
- Причащение в темнице
- Святой союз
- Подвиг матери
- «Я получил блаженное воздаяние...»
- Покаяние искусителя
- Повесть о праведном простеце-пастухе и о пришествии к нему Господа
- Генофейфа
- Братья
- Певец Богоматери
- Глаголы неба
- Райский цветок
- Сказание о старце Зосиме и Марии из Египта
- Часть II. Повести, рассказы, путевые воспоминания, психологические очерки, поучения, размышления
- Отрок-мученик
- Вторая жизнь человека
- На кладбище
- Жребий брошен
- Ошибка
- Молитва
- Истинный пастырь Божий
- Не дай, Господи, осуждать пастырей Церкви!
- Медведь
- Долг платежом красен
- Кто мой ближний
- Песни любви
- Письмо малютки к Богу
- Сила в немощи
- Чудеса Иоанна Кронштадтского
- Исцеление
- Непонятая молитва
- Рассказ матушки Серафимы
- Отец Сергий С.
- Из рассказов отца Сергия
- Вексель
- Подвиг
- Чудесная гостья
- Песнь печали
- Страннице
Часть I. Восточные сказания, старинные предания, древние легенды, повести, новеллы, притчи
Вифлеемский младенец
Восточное сказание
У городских ворот Вифлеема стоял на часах римский легионер. На голове у него был тяжелый шлем, на боку висел короткий меч, а в руке держал он длинное копье. Весь день легионер стоял почти неподвижно, так что издали его можно было принять за железную статую.
В течение дня жители входили и выходили из ворот, нищие садились под аркой в тени, торговцы зеленью и вином ставили свои корзины и сосуды на землю рядом с воином, а он едва поворачивал голову, чтобы поглядеть на этих людей.
«Здесь не на что глядеть, — как бы говорил его презрительный взгляд. — Что мне до всех вас, занятых работой и торговлей и приходящих сюда с маслом и вином! Я хотел бы видеть войско, готовое ударить по врагу, видеть смятение, шумный беспорядок при схватке конницы с пешим отрядом! Дайте взглянуть мне на храбрецов, поспешно бегущих с осадными лестницами, чтобы забраться на стены вражеского города. Ничего, кроме войны, не может радовать моего глаза. Сверкающий римский орел, блестящее оружие, смятые шлемы, кровавые следы победоносной битвы, — вот от чего радостно бьется солдатское сердце!»
Прямо от городских ворот расстилалось великолепное поле, заросшее лилиями. Легионер стоял здесь каждый день, и взгляд его был направлен как раз на это поле, но ему, конечно, никогда не приходило в голову обратить внимание на необычайную красоту цветов. Порой замечал он, что прохожие останавливались и любовались красотой лилий, и тогда он удивлялся, как могут они тратить время на то, чтобы глядеть на такие ничего не стоящие предметы.
«Вот люди, — думал он, — которые ничего не понимают в прекрасном!» И он равнодушно смотрел на поля и масличные рощи, окружающие Вифлеем, и отдавался любимым мечтам, в которых видел себя в раскаленно-знойной пустыне, под ярким солнцем Ливии, представляя, как легион воинов длинной, ровной линией тянется по желтым пескам.
Нигде нет защиты от зноя, нигде не видно признаков воды, конца-края нет пустыне, ничто не говорит о близости цели, для которой предпринят поход. Видит он, какими неверными шагами подвигаются вперед легионеры, истомленные голодом и жаждой, видит он, как падают они один за другим наземь, словно подкошенные палящим солнцем, и, однако, несмотря на все это, отряд упорно подвигается вперед, не жалуясь, не думая о том, чтобы изменить полководцу и вернуться…
«Вот что прекрасно, глядите на это, — думал воин, — вот что достойно взора храбреца».
Стоя изо дня в день на одном и том же месте на своем посту, легионер имел полную возможность наблюдать прелестных детей, игравших вокруг него. Но с детьми было то же, что и с цветами: дети не привлекали его взгляда, не смягчали его суровости, и он удивлялся тому, что окружающие с радостной улыбкой глядели на детские игры.
«Дивится народ, — усмехался он. — Как много охотников попусту радуются!»
Как-то, стоя на своем обычном посту у городских ворот, легионер увидел мальчика лет трех, прибежавшего поиграть на лугу. Это было бедное дитя, прикрытое лишь овечьей шкуркой и игравшее совсем одиноко. Воин уставился на мальчика и, сам того не замечая, следил за ним. Первое, что бросилось ему в глаза, это то, что мальчик так легко бегал по полю, словно скользил по кончикам трав, но, когда он стал затем играть, легионер пришел в еще большее изумление.
— Клянусь моим мечом, — сказал он, — этот ребенок играет не так, как другие дети; чем это он так забавляется?
Ребенок играл только в нескольких шагах от него, и воину легко было следить за всем, что делал мальчик. И он увидел, что тот протянул ручку, чтобы поймать пчелу, сидевшую на цветке и до того нагруженную цветочной пылью, что она не в силах была улететь.
К великому удивлению воина, пчела не делала попытки подняться с цветка, не жалила ребенка, а охотно далась ему в руки. Крепко держа между пальчиками пчелу, крошка побежал к городской стене, нашел в одной из ее расщелин улей и оставил там пчелку. Затем он поспешил на помощь к другой пчеле, и целый день солдат видел ребенка за этой работой — за помощью пчелам в их усилиях вернуться в улей.
«Этот мальчик глупее всех, кого я до сих пор видел, — думал о нем воин, — как это приходит ему в голову помогать пчелам, которые отлично обошлись бы без него и которые к тому же могут его жестоко ужалить? Что за мужчина выйдет из этого ребенка, если он только вырастет?»
Ребенок приходил каждый день и играл на лугу, и часовой не переставал удивляться его играм. И он спрашивал себя: «Почему за все три года, которые я провел на своем посту, ничто не привлекало моего внимания так, как этот глупо забавляющийся ребенок?».
Однако этот мальчик нисколько не радовал воина, напротив, он приводил ему на память предсказание одного древнего иудейского пророка, который предвещал, что наступит время, когда на земле воцарится мир и в течение целого тысячелетия не прольется ни капли крови, не будет войны, и люди будут жить друг с другом в любви, как братья. Легионера охватывал ужас при мысли о таком отвратительном времени, и он судорожно сжимал свое копье, как бы ища в нем опоры.
И чем больше воин наблюдал за ребенком и его играми, тем чаще думал он о грядущем царстве тысячелетнего мира. Конечно, он не боялся, что это царство наступит теперь же, но он не любил думать даже и о далеком будущем, которое может отнять у воина шум битвы и военные утехи.
Однажды, когда ребенок играл среди цветов в чудесном поле, нависли тучи и разразился ливень. Увидав, как большие, тяжелые дождевые капли стали падать на нежные лилии, мальчик испугался за судьбу своих прекрасных друзей. Подбегая к самым большим и красивым цветам, он пригибал к земле их твердые стебли с цветками, подставляя дождевым каплям их наружную сторону. Защитив так один цветок, он перебегал к другому, третьему, заботливо наклонял их, пока не защитил все цветы от ливня.
Легионер едва удерживался от смеха, глядя на всю эту возню мальчика с цветами.
«Боюсь, цветы не очень-то будут ему благодарны, — подумал он про себя, — теперь все стебли, конечно, переломаны, лилии нельзя так сильно нагибать».
Когда же буря стихла, он увидел, что ребенок снова бегает от одной лилии к другой, чтобы выпрямить их. К его безграничному удивлению, ребенок без малейшего труда выпрямил все жесткие стебли, и ни один из них не был ни сломан, ни поврежден, и все спасенные мальчиком лилии скоро снова засияли со всем своем блеске.
При виде этого зрелища воина охватило непонятное смущение.
«Что за дитя, — думал он, — трудно поверить, что можно делать такую бессмыслицу. Что за мужчина выйдет из ребенка, который не в состоянии перенести даже вида растоптанной лилии? Что бы случилось, если бы ему пришлось воевать? Что сделал бы он, если бы ему приказали поджечь дом, наполненный женщинами и детьми, или пустить ко дну судно со всем экипажем?»
И опять припомнилось ему древнее пророчество, и он начинал опасаться, что близится время, когда это пророчество начнет сбываться. Раз мог появиться такой мальчик, как этот, значит, страшное время должно быть недалеко. Уже и теперь царит во всей вселенной мир, верно, войнам никогда больше не бывать.
Отныне все люди будут иметь такую же душу, как у этого ребенка. Они будут бояться вредить друг другу. Больше того, их сердце не допустит погубить пчелу или цветок. Не станет больше великих героев и подвигов. Не станут больше одерживать чудесных побед, блестящий триумфатор не последует больше к Капитолию, и не останется в мире ничего, о чем мог бы мечтать храбрец.
И воин, до той поры все еще надеявшийся дождаться новой войны с геройскими подвигами, завоевать власть и богатство, почувствовал такое ожесточение против трехлетнего мальчика, что раз, когда тот пробежал мимо него, он пригрозил ему копьем.
В один из ближайших дней внимание воина привлекла еще новая странность. То была уже не помощь пчелам и цветам, теперь ребенок сделал нечто такое, что казалось солдату еще более бессмысленным и нелепым.
Стоял чрезвычайно жаркий день, и солнечные лучи падали на каску и вооружение легионера и так раскалили их, что ему казалось, будто на нем огненное одеяние. Прохожие замечали, что он, должно быть, ужасно страдает от зноя. Налившиеся кровью глаза как бы выступали из орбит, губы потрескались. Но легионеру, закаленному и привычному к палящему зною африканских песчаных пустынь, все это не казалось ничем особенным, и ему не пришло в голову оставить свой пост. Напротив, ему доставляло удовольствие показывать прохожим, что он силен и вынослив и не нуждается в защите от солнца.
В то время как он стоял на карауле и жарился заживо, мальчик, обычно игравший на поле, вдруг подошел к нему. Ребенок знал, что легионер не принадлежит к числу его друзей, и остерегался подходить к нему на расстояние вытянутого копья. Но тут он вплотную подошел к нему, поглядел на него долго и внимательно и затем бросился бегом через дорогу. Скоро он вернулся, держа свои ручки сомкнутыми, словно чашку, и таким образом принес в них несколько капель воды.
«Неужели же мальчику пришло в голову побежать за водой для меня? — думал воин. — Это уже действительно бессмысленно. Разве римский легионер может быть не в силах вынести немного зноя? Зачем этому крошке бегать и помогать тем, которые не нуждаются в его помощи? Я не чувствую нужды в его милосердии. Я бы хотел, чтобы он и все ему подобные совсем не существовали на свете».
Мальчик приближался очень осторожно, крепко сжимая пальчики, чтобы не расплескать и не вылить ни одной капли. Он не отводил глаз от воды и не замечал поэтому, что воин глядит негодующим взором и что лоб его изрезан глубокими морщинами.
Наконец мальчик остановился очень близко от легионера и предложил ему воду. На ходу тяжелые светлые локоны ребенка все ниже спускались ему на лоб и потом упали совсем на глаза. Он несколько раз взмахивал головкой, чтобы откинуть волосы и взглянуть на солдата.
Когда это удалось ему наконец и он увидел суровое выражение на лице часового, он не испугался, но остался на месте и с очаровательной улыбкой предложил воину освежиться водой, которую он принес.
Но тот не имел никакого желания принять услугу от этого ребенка, на которого он смотрел как на своего врага. Он не глядел на прекрасное лицо ребенка, а должал стоять неподвижно, как статуя, не показывая, понимает ли он, что хочет сделать для него мальчик.
Ребенок никак не мог понять, что тот хочет отклонить его просьбу. Он продолжал доверчиво улыбаться, приподнялся на цыпочки и поднял руки насколько мог, чтобы огромный воин легче мог достать воду. Настойчивое желание ребенка помочь ему так оскорбило легионера, что он замахнулся на крошку копьем. Но в эту минуту зной и яркий свет солнца так ослепили его, что в глазах у него замелькали красные огни и он почувствовал, что в голове его словно все пылает. Он ужаснулся, что солнце убьет его, если он тотчас не найдет облегчения. Близость смерти заставила его забыть обо всем остальном: он швырнул на землю копье, схватил обеими руками ребенка, поднял его и высосал из маленьких ручек всю влагу.
Конечно, легионеру удалось только смочить язык несколькими каплями, но большего ему и не нужно было. Как только он почувствовал воду, блаженная свежесть пронзила его тело и он не чувствовал больше, как шлем и щит тяготят и жгут его. Лучи солнца потеряли свою смертоносную силу, сухие губы часового снова увлажнились, и красные огни перестали мелькать в его глазах.
Савва (так звали легионера) успел опомниться, он спустил с рук мальчика, и тот снова побежал в поле играть. Теперь только воин пришел в себя и подумал: «Что это за воду приносил мне мальчик? Это был превосходный напиток! За него стоило бы поблагодарить крошку».
Но так как он ненавидел мальчика, то тотчас отогнал от себя эту мысль. «Ведь это ребенок, — подумал он, — он не знает, почему он поступает так или иначе, он забавляется всем, что его развлекает. Разве получает благодарность он от пчел или лилий? Не стоит думать об этом мальчике, он даже не знает, что помог мне».
И в легионере заговорило как будто еще большее негодование на ребенка, когда через несколько минут он вдруг увидел выходящего из городских ворот начальника римских войск, расположенных в Вифлееме.
«Какой опасности я подвергался, — подумал легионер, — из-за затеи ребенка. Приди Вольтигий немного раньше, он мог бы увидеть меня на посту с ребенком на руках».
А начальник подошел прямо к нему и спросил, могут ли они поговорить с уверенностью, что их разговора не подслушают; он имеет сообщить солдату тайну.
— Если мы отойдем лишь на десять шагов, — ответил воин, — то никто нас не сможет услышать.
— Ты знаешь, — сказал начальник, — что царь Ирод несколько раз пытался овладеть одним ребенком, который живет здесь, в Вифлееме. Царские и духовные предсказатели открыли ему, что именно этот мальчик унаследует его трон и, кроме того, новым царем будет основано тысячелетнее царство мира и святости. Ты, конечно, понимаешь, что Ирод хочет обезвредить этого ребенка.
— Конечно, я это понимаю, — с жаром сказал легионер, — и ничего легче этого не может быть на свете.
— Разумеется, это было бы легко, — возразил военачальник, — если бы царь знал, кого из вифлеемских детей касается это предсказание.
Глубокие морщины собрались на лбу воина.
— Жаль, что ясновидцы не могут дать ему никакого указания относительно этого, но теперь Ирод придумал такую западню, посредством которой он надеется обезопасить себя от молодого Царя мира, — продолжал начальник, — и он обещает богатую награду всякому, кто захочет помочь ему в этом деле.
— Что Вольтигию угодно будет приказать, будет всегда исполнено без платы и награды.
— Спасибо, — ответил начальник. — Теперь выслушай план царя. Он хочет отпраздновать день рождения своего младшего сына торжеством, на которое будут приглашены вместе со своими матерями все мальчики в Вифлееме в возрасте от двух до трех лет, и на этом празднике…
Он вдруг замолк и замялся, заметив выражение отвращения, которое появилось на лице воина.
— Друг мой, не бойся, — продолжал он, — что Ирод захочет возложить на нас обязанности нянек. Нагнись поближе, и я на ухо доверю тебе его план.
Начальник долго шепотом говорил что-то легионеру и, кончив, прибавил:
— Мне, конечно, не надо тебе объяснять, что необходимо полное сохранение тайны, иначе все предприятие может не удаться.
— Ты знаешь, Вольтигий, что можешь положиться на меня, — ответил тот.
Когда начальник ушел и воин снова стал на свой пост, он отыскал глазами мальчика; тот все еще играл среди цветов, и воин поймал себя на мысли, что ребенок, словно бабочка, легко и мило движется среди цветов.
Но вдруг воин засмеялся:
— Да, этот ребенок недолго будет мозолить мне глаза, он, конечно, тоже будет приглашен к Ироду на праздник.
Весь день легионер простоял на своем посту, пока не настал вечер и не нужно было запереть городские ворота. Затем он побрел по узким, темным улочкам к великолепному дворцу, которым Ирод владел в Вифлееме. Внутри этого громадного дворца находился большой, вымощенный плитами двор, окруженный зданиями, вдоль которых шли три открытых галереи — так приказал Ирод. Здесь должен был состояться праздник для вифлеемских детей.
Одна из галерей — опять-таки по приказанию царя — превращена была в чудесный сад. По крыше вились виноградные лозы, с которых свисали тяжелые гроздья, а вдоль стен и колонн стояли невысокие гранатные и апельсиновые деревца, сгибавшие ветви под тяжестью зрелых плодов. Пол был усыпан лепестками роз, которые лежали густым, мягким душистым ковром; балюстрады, столы и низкие скамейки для отдыха были обиты гирляндами нежных белых лилий. Среди этой рощи цветов скрывались мраморные бассейны, в прозрачной воде которых играли сверкающие золотом и серебром рыбки. По деревьям порхали заморские птицы в ярком оперенье, а в одной из клеток беспрерывно каркал старый ворон.
К началу торжества дети в сопровождении матерей стали собираться в галерею. При входе во дворец детей переодевали в белые ткани с пурпурными краями и надевали на темнокудрые головки венки из роз. Женщины чинно входили, одетые в красные и голубые ткани с белыми прозрачными покрывалами, спускавшимися с высоких шаровидных головных уборов, украшенных золотыми монетами и тонкими цепочками. Одни входили, держа своих детей высоко на плечах, другие вели детей за руку, некоторые же, чьи дети особенно робели и смущались, держали их на руках.
Женщины садились на пол галереи. Едва они заняли места, появились рабы и поставили перед ними низенькие столы с отборными яствами и напитками. Все, как полагается на царском пиру, и счастливые матери стали есть и пить, сохраняя по-прежнему милое выражение достоинства, которое составляло лучшее украшение вифлеемских женщин. Вдоль стен галереи, почти совсем скрытые гирляндами цветов и фруктовыми деревьями, расставлены были в два ряда воины в полном боевом вооружении.
Они стояли совершенно неподвижно, как будто их вовсе не касалось все происходящее кругом, и женщины не могли время от времени не бросить удивленного взгляда на эту толпу вооруженных людей.
— К чему они здесь? — шептали они соседкам. — Разве Ирод думает, что мы не сумеем вести себя? Или он думает, что нужно такое множество солдат, чтобы сдержать нас?
Другие отвечали шепотом, что, очевидно, все делается так, как должно всегда быть у царя. Ирод, говорят, на всех своих торжествах наполняет дворец воинами. Теперь же эти вооруженные легионеры стоят здесь на карауле, в честь приглашенных.
В начале праздника маленькие дети стеснялись, неуверенно бродили по галерее или робко жались к матерям, но скоро они оживились, забегали и потянулись за всеми очаровательными вещами, которые приготовил для них Ирод. То было поистине сказочное царство, приготовленное для гостей. Гуляя по галерее, они то находили соты, откуда могли брать мед без боязни быть укушенными пчелами, то попадались им деревья, которые склонялись, чтобы приблизить к ним свои отягченные плодами ветви. Далее в другом углу видели они фокусника, который в одно мгновение наполнял их карманы игрушками, а еще в другом месте появлялся укротитель, который показывал детям несколько укрощенных зверей, на спине которых можно было кататься.
Однако в этом раю со всеми его очарованиями ничто так не привлекало внимание детей, как длинный ряд воинов, неподвижно стоявших по стенам галереи. Блестящие шлемы, строгие гордые лица, короткие мечи в богатых ножнах — все это приковывало детские взоры. Во время всех игр и шалостей дети неотступно следили за воинами, держались в стороне от них, но страстно хотели подойти поближе к ним, поглядеть, живые ли они, могут ли они по-настоящему двигаться.
Игры и веселье с каждой минутой все разгорались, а воины все продолжали стоять неподвижно, словно статуи. Дети никак не могли понять, как можно стоять так близко от винограда и разных лакомств и не протянуть руки, чтобы достать что-нибудь.
Но вот один из мальчиков не мог больше сдержать своего любопытства: он осторожно приблизился к одному из закованных в броню людей, готовый каждое мгновенье убежать, но, так как солдат и тут не вышел из своей неподвижности, мальчик подошел ближе и наконец так близко, что мог ощупать ремни от сандалий и одеяние солдата. И в одно мгновение — словно бы прикосновение ребенка было неслыханным преступлением — все эти железные статуи оживились. С неописуемым зверством накинулись они на детей и стали их хватать. Одни, закинув малюток за спину, с размаху бросали их, словно колчан, сквозь лампы и гирлянды во двор, где они разбивались о мраморные плиты. Другие солдаты обнажали мечи и пронзали сердце детей. Некоторые разбивали детские головки о стены и потом выбрасывали маленькие трупики во двор, потемневший от наступившей ночи.
Одну минуту царила мертвая тишина, и маленькие тельца еще мелькали в воздухе, а матери окаменели в ужасе. Но вот эти несчастные сразу ясно поняли, что случилось, и с диким криком отчаяния бросились на палачей… На галерее находились еще дети, которые не были захвачены при первом нападении. Воины гонялись за ними, а матери бросались на землю перед извергами, хватались голыми руками за обнаженные мечи, чтобы отвести смертельный удар. Некоторые женщины, дети которых были уже убиты, бросались на легионеров, хватали их за горло и душили их насмерть, чтобы отомстить за своих малюток.
Во время этого дикого смятения, когда полные ужаса крики оглашали дворец и совершалась жестокая бойня, тот воин, который стоял на посту у городских ворот, теперь стоял неподвижный, как и всегда, на самой верхней ступени лестницы, спускавшейся в галереи. Он не участвовал ни в нападении, ни в убийстве, он подымал свой меч лишь против женщин, которым удалось схватить своих детей и которые пытались взбежать на лестницу, и один его вид, мрачный и непреклонный, был так ужасен, что убегающие женщины предпочитали бросаться через перила или возвращаться назад, чем подвергнуться опасности пройти мимо этого солдата.
«Вольтигий поступил правильно, поручив этот пост мне, — думал он, — молодой и легкомысленный воин оставил бы указанное место и бросился бы в общую свалку; если бы я поддался соблазну и ушел отсюда, по меньшей мере дюжина детей, наверное, спаслась бы».
Вдруг он заметил молодую женщину, которая схватила ребенка и бегом приближалась к нему. Ни один из легионеров, мимо которых она бежала, не мог ее остановить, потому что все они были заняты борьбой с другими женщинами, и таким образом ей удалось добежать до конца галереи.
«Вот одна, которой почти уже удалось спастись, — подумал воин, — ни она, ни ребенок не ранены. Если бы я не стоял здесь…»
Женщина быстро приближалась к нему, словно на крыльях, и он не успел разглядеть ни ее лица, ни лица ребенка. Он успел только загородить ей путь мечом, и с ребенком н руках она неслась на этот меч. Он ждал, что в следующее мгновение увидит и ее, и ребенка пронзенными. Но в это время он вдруг услыхал сердитое жужжание над своей головой и в то же мгновение почувствовал жестокую боль в одном глазу. Боль была так остра и мучительна, что он совсем обезумел и меч выпал из его рук. Он схватился рукой за глаз и, поймав на нем пчелу, понял, что невыносимую боль, которую он ощутил, причинил ему укус крошечного насекомого.
Мгновенно нагнулся он за мечом в надежде, что не опоздал еще задержать убегавших. Но маленькая пчелка сделала свое дело очень хорошо. В короткий промежуток, в который она ослепила воина, молодой матери удалось пробежать мимо него по лестнице, и хотя он сейчас же побежал за ней, но найти ее нигде уже не мог. Она исчезла, и в огромном дворце никто не мог ее отыскать.
На следующее утро тот же легионер и с ним несколько товарищей его стояли тесным кольцом на страже у городских ворот. День только что начинался, и тяжелые ворота сейчас лишь были открыты. Но оказалось, что никто не ждал их открытия в это утро, не видно было даже толпы полевых работников, каждое утро выходивших в это время из города. Все жители Вифлеема оцепенели в ужасе от кровавой бойни, и никто не решался оставить свой дом.
— Клянусь своим мечом, — говорил воин, вглядываясь в узкую улицу, ведущую к воротам, — мне кажется, Вольтигий неумно распорядился: лучше бы запереть ворота и приказать обыскать один за другим все дома в городе, пока не нашли бы мальчика, которому удалось убежать с праздника. Вольтигий рассчитывает, что родители этого ребенка попытаются увезти его отсюда, как только узнают, что ворота открыты; он надеется, что в таком случае удастся поймать ребенка у ворот. Но я боюсь, что это неверный расчет и им очень легко удастся спрятать ребенка.
И он старался угадать, попытаются ли они провезти ребенка во фруктовой корзине на спине осла, или в огромном кувшине для масла, или же в караване, спрятав в тюках.
Обдумывая таким образом, как его попытаются перехитрить, воин вдруг увидел, что по улице спешно идут мужчина и женщина, приближаясь к воротам. Шли они скоро, боязливо озираясь по сторонам, как будто бы убегали от угрожающей им опасности. Мужчина держал в одной руке дубинку и крепко сжимал ее, как бы твердо решившись силой проложить себе дорогу, если кто-нибудь вздумает остановить его. Но воин всматривался не столько в мужчину, сколько в женщину. Он заметил, что она была такого же роста, как и та молодая мать, которой удалось проскользнуть мимо него вчера на лестнице дворца. Он заметил также, что она перекинула свою одежду через голову.
— Может быть, она одела так свое платье, чтобы скрыть ребенка, — подумал он.
Чем более они приближались, тем яснее он видел, как обрисовывался ребенок, которого женщина несла на руках под одеждой.
— Я уверен, что это та самая женщина, которая вчера ушла из моих рук. Конечно, я лица ее не заметил, но узнаю теперь ее высокую фигуру. И вот она идет с ребенком на руках, даже не делая попытки спрятать его. Правду сказать, я не смел надеяться на такой счастливый случай.
Мужчина и женщина продолжали спешно идти к воротам. Они, по-видимому, не ожидали, что их остановят здесь, и судорожно вздрогнули от испуга, когда легионер протянул перед ними копье и загородил дорогу.
— Почему мешаешь ты нам выйти в поле на работу? — спросил мужчина.
— Ты можешь пойти сейчас, я должен только поглядеть, что спрятано у жены твоей под платьем.
— Чего тут смотреть, — ответил тот, — здесь хлеб и вино, чтобы пропитаться до вечера.
— Может быть, ты и правду говоришь, — сказал воин, — но если это так, отчего же она добровольно не показывает мне, что она там несет?
— Я не хочу, чтобы ты это видел, и советую тебе отпустить нас.
С этими словами муж поднял было свою дубинку, но жена положила руку ему на плечо и попросила:
— Не затевай спора, я лучше иначе поступлю — дам ему поглядеть, что я несу, и я уверена, что он не сделает зла тому, что увидит.
И с гордой и доверчивой улыбкой она обернулась к воину и отвернула край своей одежды. Легионер мгновенно отскочил назад и закрыл глаза, как бы ослепленный сильным сиянием. То, что женщина скрывала под одеждой, сверкнуло пред ним такой ослепительной белизной, что вначале он вовсе не знал, что он видит.
— Я думал, что ты держишь ребенка на груди, — сказал он.
— Ты видишь, что я несу, — ответила женщина.
Теперь только воин разглядел, что так ярко и ослепительно светился пучок лилий, тех самых лилий, которые росли кругом в поле. Но блеск их был роскошнее и ярче. Он едва мог смотреть на них. Он просунул руку в цветы, так как не мог отделаться от мысли, что эта женщина должна нести ребенка, но, кроме нежных цветов, он ничего не ощутил. Он испытывал горькое разочарование и в гневе охотно задержал бы и мужа, и жену, но он понимал, что не найдет никакого объяснения своему поступку.
Заметив его замешательство, женщина сказала:
— Не позволишь ли нам теперь пройти?
И воин молча опустил копье, которым загородил выход из ворот, и отошел в сторону, а женщина снова закрыла цветы своим платьем, глядя счастливой улыбкой на то, что держала на руках.
— Я знала, что ты не сможешь сделать ничего худого, когда ты только это увидишь, — сказала она воину.
Затем они быстро ушли, а воин продолжал стоять и смотреть им вслед все время, пока они были еще видны. И, следя за ними взглядом, он чувствовал совершенно ясно, что эта женщина несла на руках не пучок лилий, а настоящее, живое дитя.
Он продолжал еще смотреть вслед путникам, когда услыхал вдруг громкий окрик: к нему торопливо приближался Вольтигий с отрядом.
— Задержи их, — кричали они, — запри пред ними ворота, не дай им убежать!
И, подбегая к воину, они нервно поведали ему, что напали на след исчезнувшего вчера ребенка. Только что искали они его в доме, но он снова исчез и оттуда; они видели, как его родители унесли его. Отец — крепкий седобородый человек с дубинкой, мать — высокая женщина, она спрятала ребенка в складках одежды.
Во время этого разговора к воротам подъехал бедуин на прекрасной лошади. Не говоря ни слова, воин бросился на бедуина, сбросил его с лошади, сам вскочил на нее и поскакал по дороге.
Прошло несколько дней, а легионер все еще продолжал погоню по ужасной гористой пустыне, тянущейся по южной части Иудеи. Он до сих пор преследовал трех беглецов из Вифлеема и был вне себя, что этой бесплодной охоте конца не было видно.
— Кажется, будто эти люди в самом деле способны провалиться сквозь землю, — ворчал он, — сколько уже раз в эти дни я подъезжал так близко к ним, что готовился уже пронзить ребенка копьем, и все же они каждый раз скрывались от меня! Я начинаю думать, что действительно никогда не поймаю их.
Он стал терять мужество, как человек, замечающий, что борется с чем-то всесильным, он задумывался: быть может, сами боги защищают этих людей от него.
— Вся эта погоня — напрасный труд. Лучше бы мне вернуться, не то погибну я от голода и жажды в этой мертвой пустыне, — говорил он сам себе все чаще и чаще. Но тотчас его охватывал страх пред тем, что предстоит ему, если он вернется, не исполнив возложенного на него поручения. Ведь и так именно он уже два раза отпустил ребенка. Сомнительно, чтобы Вольтигий или Ирод простили ему это.
«Пока Ирод знает, что хотя бы один из вифлеемских мальчиков жив, его будет мучить прежний страх, — думал воин. — Вернее всего, что он попытается заглушить свой гнев и муки страха тем, что прикажет меня распять».
Был жаркий обеденный час, и легионер сильно страдал, пробираясь верхом по скалистой, лишенной деревьев местности, по тропинке, которая вилась змейкой в глубоком ущелье, где не было ни малейшего ветерка. Лошадь и всадник готовы были свалиться. Уже несколько часов, как воин потерял от усталости всякий след и чувствовал упадок духа больше, чем когда-либо.
— Я должен отказаться от погони, — думал он, — в самом деле, я думаю, что не стоит труда их дальше преследовать. Они неизбежно должны погибнуть так или иначе в этой ужасной пустыне!
Раздумывая так, он вдруг заметил в одной из скал вблизи дороги сводчатый вход в пещеру. Он тотчас направил лошадь к этому входу.
— Надо бы мне немного отдохнуть. Может быть, я с новыми силами примусь опять за погоню.
Когда он уже хотел войти в пещеру, его поразило необычайное явление. По обеим сторонам входа росли две прекрасные лилии. Они вытянулись высоко и прямо, неся каждая на себе много цветов, распространявших одуряющий запах меда; вокруг цветов летали тучи пчел. Среди мертвой пустыни это зрелище было так необыкновенно, что и воин поступил удивительно для него самого. Он сорвал большой белый цветок и взял его с собой в пещеру.
Пещера была ни глубокой, ни темной, и воин тотчас увидел, что там отдыхают уже три путника. То были мужчина, женщина и ребенок, которые растянулись на земле, погруженные в глубокий сон. Никогда еще сердце воина так не билось, как при виде этих путников.
Это были те беглецы, за которыми он уже так долго гнался. Он их тотчас узнал. И здесь лежали они, спящие, без возможности защищаться, все в его власти. Быстро вынул он меч из ножен и наклонился над спящим ребенком. Осторожно приложил он меч к сердцу ребенка и старательно готовился к удару, чтобы сразу покончить с мальчиком. Но, подкрадываясь так, он остановился на одно мгновение, чтобы разглядеть лицо ребенка. Теперь, когда он был уверен в своей победе, он испытывал жестокое наслаждение, смотря на свою жертву. Но, когда он взглянул ребенку в лицо, радость его как будто еще усилилась, так как он узнал в нем того крошечного мальчика, которого он видел играющим с пчелами и лилиями на поле у городских ворот.
«Конечно, — подумал он, — я давно должен был бы это понять, вот почему я всегда ненавидел этого ребенка. Это именно обещанный пророчеством Владыка мира». Он опустил меч и снова подумал: «Если я положу пред Иродом голову этого ребенка, он сделает меня начальником своих телохранителей». И, приближая к спящему ребенку все ближе и ближе острие меча, он радостно говорил себе: «На этот раз, наконец, никто не станет между нами и не вырвет его из моей власти».
Он продолжал держать в руке лилию, которую сорвал при входе в пещеру, и вдруг из чашечки ее вылетела спрятавшаяся там пчела, подлетела к нему и, жужжа, покружилась несколько раз вокруг его головы. Воин вздрогнул. Он вдруг вспомнил о пчелах, которым помог когда-то ребенок, и ему пришло в голову, что одна из этих пчел помогла мальчику скрыться с праздника Ирода.
Эта мысль поразила его. Он опустил меч, выпрямился и стал прислушиваться к пчеле.
Но вот жужжание насекомого затихло. Продолжая стоять неподвижно, воин вдыхал сильный сладкий аромат, исходивший от лилии, которую он держал зажатой в руке. Запах напомнил ему о лилиях, которых мальчик спасал от дождя, и о том пучке их, который скрыл ребенка от его взоров и помог крошке спастись и пройти через городские ворота.
Он все больше задумывался и вложил меч в ножны.
— Пчелы и лилии отплатили ему за его благодеяния, — пробормотал он сам себе. Он подумал о том, что ребенок и ему однажды оказал милость, и глубокая краска выступила у него в лице:
— Разве может римский легионер забыть об оказанной ему услуге?
Недолго он боролся с собой. Он подумал об Ироде и о собственном своем желании уничтожить юного Владыку мира… И решил в душе: «Мне не пристало убивать этого ребенка, который спас мне жизнь». И он склонился и положил свой меч рядом с ребенком, чтобы беглецы, проснувшись, узнали, какой опасности они избегли.
Вдруг он увидел, что ребенок проснулся. Малютка лежал и смотрел на него своими прекрасными глазами, сиявшими, как звезды.
И легионер преклонил колени пред ребенком.
— Владыка, Ты Всемогущий, — сказал он, — Ты — Победитель, Ты — Тот, Которого любят боги, Ты — Тот, Который может спокойно наступать на скорпионов и змей!
Он поцеловал ножку ребенка и тихо вышел из пещеры, а мальчик продолжал лежать и смотреть ему вслед большими, удивленными детскими глазами.
Аминь!
Слезы
Христианское предание
На склоне холма, возвышавшегося над маленьким городом Вифлеемом в Иудее, стоял некогда хорошенький домик, спрятанный в тени больших кедров и густых зеленых смоковниц.
Зима подходила к концу. Заходящее на безоблачном небе солнце ласкало своими лучами веселое жилище, окружающий его благоуханный сад и лицо молодой женщины, сидящей у пальмы.
Благородство ее черт, ее платье из шелковой ткани, подпоясанное нарядным пурпурным кушаком, тонкое льняное покрывало на голове и плечах, множество слуг, суетившихся вокруг дома, — все указывало на ее высокое положение и богатство.
Около женщины стояла искусно сплетенная из тростника корзинка, в которой лежала шерсть самых разнообразных оттенков с серебряными и золотыми нитями — как свидетельство того, что хозяйка не любила праздно проводить время. В руках она держала веретено. У ног женщины на роскошном ковре весело резвились ее дети: дочь Вероника (прелестный пятилетний ребенок, вылитый портрет матери) и сын Вениамин, которому едва исполнился годик. В глазах его отражалось голубое безоблачное небо. Но веретено внезапно выпало из рук молодой женщины, и глаза ее устремились куда-то вдаль, в какую-то неизвестную точку. Взгляд женщины не остановился даже на очаровательных, милых детках, составлявших ее радость и материнскую гордость. Губы ее беззвучно двигались, как бы отвечая на вопрос, волновавший ее душу.
— А что если это действительно правда? — шептала она. — Как объяснить эти чудеса?.. Эти пастухи, которые пришли рассказать нам о лучезарном видении ангелов на небе, и о Божественной красоте Младенца в яслях, и о невыразимой прелести Матери!.. Эти волхвы, которые прошли через Вифлеем, следуя за звездой, и оставившие в яслях великолепные подарки!.. Ведь они же поверили. Почему же и мне не поверить? Говорил же Пророк, что «Младенец родился нам»…
И еще он говорил, что из Вифлеема произойдет Тот, Который поведет народ израильский. Но разве Тот, о Ком он говорил, должен был выйти из яслей? Не те ли это люди, которым вифлеемские дома отказали в гостеприимстве из-за их бедности и скромной одежды и которые скрываются в пещере недалеко отсюда?
Неужели это обещанный Мессия, Властитель народов — Тот, Который восстановит царство Давида!
Боже, как обнаружишь Ты Свое могущество и Свою славу? А между тем Тебе уже пора явиться. Скипетр выпал из рук Иуды и перешел к нечестивому и жестокому узурпатору. Разве я этого не знаю? Происходя от крови Маккавеев, подруга несчастной Мариам, я должна была, чтобы не быть вовлеченной в избиение всей моей семьи, бежать из Иерусалима и прийти сюда, чтобы меня забыли, а главное, чтобы забыли, что в жилах моего сына течет царская кровь. О, род Давида, куда ты пал? И когда придет Тот, Который должен поднять тебя?
Солнце совсем скрылось за горизонтом. Его золотистые лучи сменились пурпуровыми полосами, постепенно исчезающими на ночном небе. Вероника, утомившись от игр, положила головку на колени матери. Вениамин задремал. Очнувшись, молодая женщина встала и вошла с детьми в дом. Когда дети заснули, она снова вернулась на террасу своего жилища и долго стояла в раздумьи. Серебристый диск луны поднялся над Вифлеемом, мириады звезд усыпали лазоревый свод.
Какая-то мысль зрела в ее душе. Сначала она отгоняла ее, но мысль становилась все более настойчивой и властной. Сердце и голова женщины были полны рассказов о чудесах. Ей казалось, что каждая звезда показывает ей путь в пещеру. Ей слышалось, как легионы ангелов, пролетая мимо, шептали ей на ухо:
— Пойди и посмотри!
— Почему же мне не пойти? — произнесла она наконец.
— Разве я не могу найти пещеру и увидеть то, что видели другие? Боже, просвети рабу Твою, которая всегда надеялась на Тебя!
Призыв становился непреодолимым.
«Но я не пойду одна, — подумала она. — Если Он — Мессия, то пусть благословит и моих детей». Она спустилась в дом, разбудила свою дочь и поспешно одела ее. Затем, взяв спящего сына на руки, она завернула его в плащ, который набросила себе на плечи, и тихонько, крадучись, как бы боясь, что ее увидят и остановят, переступила порог дома и вышла на дорогу. Кажется, какая-то неведомая сила поддерживала ее и толкала вперед. Уже у поворота дороги она увидела слабый свет, освещающий пещеру. Еще несколько шагов — и она будет у грота. Она крепче прижала к сердцу сына, который сладко улыбался во сне, а другой рукой сжала ручку дочери, смело идущей возле нее.
Но вдруг огонек в пещере потух. Не ошиблась ли она? Женщина заколебалась и остановилась. И вот неожиданное зрелище предстало ее взору. Она увидела, что кто-то движется ей навстречу. Это оказался человек почтенного вида, опирающийся одной рукой на палку. Другой рукой он вел за уздцы осла, на котором сидела совсем молодая женщина. На руках она держала маленького ребенка, завернутого в пелены. Черты Младенца различить было нельзя.
Благородная еврейка остановилась. Она опять начала колебаться. Она привыкла к мысли, что найдет Младенца в яслях, окруженного подарками пастухов и волхвов, свидетельствующих о почитании Его как великими, так и малыми, окруженного, может быть, хорами ангелов, поющих славу Богу, и ярким светом, указывающим на Его Божественное происхождение. Но эти трое путников казались такими робкими и бедными, а их одежда была более чем скромная. Разве это действительно блеск Мессии?
А между тем какой-то инстинкт подсказывал ей, что это те, которых она искала. В эту минуту Путница, державшая на руках Младенца, подняла голову, и при виде Ее дивного лица — идеала кротости и чистоты — сомнения другой женщины растаяли, как снег на солнце.
Подойдя к мужчине, она спросила, дрожа от волнения:
— Это и есть Тот Младенец, о Котором ангелы возвестили вифлеемским пастухам и Которому цари пришли поклониться с востока?
— Да, это Он! — ответил путник.
— Отчего же вы покидаете эту страну?
— По указанию Бога.
— Вы идете далеко?
— Может быть.
— Но в такой поздний час, по незнакомой дороге, с маленьким ребенком и молодой слабой матерью! Зайдите же хоть на несколько часов отдохнуть ко мне! Завтра с восходом солнца, если вы пожелаете, я вам дам слуг, чтобы проводить вас, и носилки, чтобы нести мать и ребенка.
— Благодарю тебя, благородная госпожа, за твое великодушное гостеприимство! Бог тебя за это вознаградит. Но мы ни на минутку не можем остановиться, надо в точности исполнить указание Бога.
— Но отчего же вы не можете отложить ваш отъезд, чтобы путешествовать в лучших условиях?
— Люди злы. Да и никто не имеет права нарушать завет Всевышнего.
Это было сказано таким внушительным тоном, что она не смела больше настаивать.
— Но, по крайней мере, — умоляла она, — не уезжайте, пока я не увижу лица Того, Кто будет Спасителем Израиля. Блаженнейшая из матерей, позволь мне посмотреть на Твоего Сына!
Тронутая этой горячей мольбой, Богородица тихонько приподняла покрывало и показала Младенца, сияющего такой Божественной красотой, что сердце еврейской женщины затрепетало от радости и любви.
— Господи! Благослови Твою рабу и спаси Твой народ!
Младенец открыл глаза.
Он улыбнулся молодой женщине, улыбнулся маленькой девочке, которую та подняла на руки, чтобы она могла лучше Его видеть. Но при виде заснувшего Вениамина улыбка Младенца исчезла. Туман внезапно закрыл Его Божественные черты, и две слезы, заблестевшие в Его глазах, скатились на щеки.
— Что с Тобой, Сын Мой? — прошептала Матерь Божия, с беспокойством наклоняясь к Нему.
И так велика связь между Сыном и Матерью, что Она сейчас же поняла Его тайну и посмотрела на молодую женщину взором, полным такой любви и сострадания, что сердце женщины сжалось от боли. Но в то же время она почувствовала какое-то утешение, так что сама не смогла понять, отчего это.
Туман рассеялся. Черты Младенца приняли прежнее спокойное и почти веселое выражение. Только слезы, как две росинки, остались на Его щеках. Тогда маленькая девочка взяла обеими ручками конец покрывала своей матери и легким, нежным движением осторожно вытерла Божественные слезы. Богородица, улыбаясь, наклонилась и поцеловала девочку в чистое чело, а Иосиф посмотрел на нее благодарным долгим взглядом, который вселил в сердце матери какую-то непонятную радость. И взгляд этот девочка никогда более не могла забыть…
Молодая женщина вернулась домой. Дети опять заснули, но она не могла даже подумать об отдыхе. Со своей террасы смотрела она на дорогу, по которой шло Святое Семейство, и взор ее остановился на том месте, где она потеряла их из виду.
Какое сладостное волнение в душе!
Что-то вроде благодарственного гимна звучало в глубине ее сердца теперь, когда глаза ее увидели наконец Спасение Израиля! Одно только обстоятельство нарушало гармонию ее души — взгляд, который Младенец устремил на ее сына. Какое-то странное ощущение испытывала она всякий раз, когда вспоминала об этом взгляде.
— Господи! — прошептала она в молитве, которую многие матери-христианки повторяли за ней. — Если он должен забыть Тебя, то возьми его теперь же!
Часы проходят незаметно для нее. Звезды бледнеют, начинается рассвет. Лучи солнца золотят верхушки холмов Вифлеема. Небесное светило, как какой-то гигант, пускается в путь.
Вдруг со стороны Вифлеема доносится какой-то странный шум, топот ног, вопли.., и через несколько минут холм и долина наполняются зловещим гулом.
«Что случилось?» — в ужасе подумала молодая мать.
В эту минуту на дороге, ведущей из Вифлеема, показалась человеческая фигура… Бежала женщина, вне себя от безумия, судорожно прижимая к себе малого ребенка. Сзади ее преследовал солдат с мечом в руке. Несчастная упала от изнеможения, солдат вырвал у нее дитя и одним ударом меча разрубил головку невинного создания.
Онемев от ужаса при виде этого страшного зрелища, которому молодая еврейка не могла найти объяснения, она увидела уже другую бегущую женщину с ребенком на руках, но и эту несчастную постигла та же участь. И вот уже третья жертва завязывает безнадежную борьбу с убийцей. Она отчаянно сопротивляется, защищая свое дитя, но убийца уже не один: подбежали другие солдаты, и обессилевшая мать, изнемогая в неравной борьбе, падает вместе со своим младенцем.
Материнский инстинкт пробудился в молодой женщине, с ужасом наблюдавшей это безумие. Она схватила полуспящих детей, выбежала из дому, пересекла сад и оказалась на дороге, не встретив никого на пути. На минуту ей показалось, что у нее выросли крылья, и она быстро достигла того места, где несколько часов тому назад вместе со своими детьми пережила радость встречи с Мессией.
Пещера уже близка. Но вдруг… она услышала за собой грозный оклик. Ее, тщетно укрывавшую под плащом маленького сына, заметили. Она более почувствовала, чем услышала шаги преследующих ее солдат. Стесняемая своей драгоценной ношей, она споткнулась и упала. Солдаты нагнали ее и, пока она пыталась подняться, схватили детей, которые в испуге громко закричали…
— Не вопи так громко, — крикнул преследователь маленькой девочке, — тебя не тронут…
Но мать уже вскочила на ноги. Как львица бросилась она вперед и вырвала своего малютку из рук похитителя, судорожно прижав его к груди.
— А с ним что сделают? — крикнула она. — В чем он более виноват, чем его сестра?
— Не мое дело тебе объяснять, — грубо ответил начальник отряда. — Мне некогда терять время. Солдаты, заберите у нее ребенка!
— Никогда! — вырвалось из ее груди. — Его жизнь вы получите только вместе с моей!
Солдат равнодушно пожал плечами.
— Довольно крика! Я с самого утра это слышу!..
Женщина посмотрела на него с невыразимым ужасом.
— В конце концов, — продолжал он с жестокой улыбкой, — это несправедливо — делать тебе исключение. Разве ты не слышишь крики и вопли? В Вифлееме не осталось теперь ни одного ребенка мужеского пола моложе трех лет.
— Кто же эти изверги без сердца, — вскрикнула обезумевшая женщина, — которые придумали такую бойню?
— Я не должен давать тебе в этом отчета, — грубо ответил легионер. — Довольно. Надо кончать обоих…
— Отберите этого ребенка, — приказал он солдатам, — или же убивайте обоих!
Тогда женщина решила испытать последнее средство убеждения этих наемных убийц, которые, как она думала, все же евреи.
— Если вас не обезоруживает невинность младенца, — умоляла она, — то пощадите его по крайней мере потому, что в нем течет кровь царей!
— Тем более, — захохотал с дикой радостью разбойник.
И добавил:
— Теперь мы можем рассчитывать на награду Ирода!
При слове «Ирод» сознание матери вдруг прояснилось: бегство трех путников, их отказ остановиться, эти таинственные слова «люди злы», взгляд и слезы Иисуса, дикий и торжествующий крик убийцы…
Она все поняла.
В своем ревнивом и беспредельном гневе Ирод преследует Божественного Царя, и сын ее должен стать жертвой за Мессию! И тогда в душе этой бедной женщины геройство веры побеждает материнскую любовь.
Подняв на руки своего сына, она воскликнула:
— Господи! Я отдаю Тебе его, но возьми с ним также и меня!
* * *
Солдаты ушли.
На пыльной дороге, как роза с бутоном, сорванные со стебля, на том месте, где недавно прошло Святое Семейство, лежали мать и ребенок. Раздраженные ее долгим упорством, солдаты одним ударом скосили обе жизни, и жестокий Ирод насчитал одной жертвой больше…
Оставшись одиноким свидетелем этой ужасной драмы, маленькая девочка безумно рыдала у безжизненного тела своей любимой матери. Этот детский голос! Может ли он остановить на пути к Небесам улетавшую душу матери? И вдруг… умирающие глаза молодой женщины приоткрылись. Своей похолодевшей уже рукой она сделала знак дочери приблизиться. Сняв с большим трудом покрывало с головы, она отдала его малышке и слабеющим голосом прошептала:
— Возьми его и храни, как самое драгоценное сокровище: им вытерты слезы Младенца-Бога!
По преданию, это было то самое покрывало, которое спустя 33 года благочестивая иерусалимская женщина Вероника отдала проходившему мимо нее на Голгофу Христу, чтобы Он мог отереть им пот и кровь со Своего лица. Когда Божественный Страдалец возвратил ей покрывало, на нем оказались отображенными черты Его лица.
…А пока, безутешно плача над бездыханными телами матери и брата, девочка держала в руках драгоценное покрывало, которым были вытерты слезы Богомладенца.
Она не знала, что спустя много лет именно на этом покрывале останутся следы пота и крови Спасителя мира — Иисуса Христа, идущего на крестную смерть.
По христианскому преданию, Вероника была той самой женщиной, которую Спаситель исцелил от кровотечения… Впоследствии изобразившийся на покрывале Лик Спасителя был перевезен в Рим и отдан святому Клименту, епископу Римскому.
Бегство в Египет
Восточное сказание
Далеко, в одной из пустынь восточных стран, росла с незапамятных времен пальма. Она была очень стара и невероятно высока. Все проходившие через пустыню останавливались и любовались ею, потому что она была гораздо выше остальных пальм, и можно было сказать, что она выше обелисков и пирамид.
И вот, одиноко стоя и глядя в пустыню, она заметила однажды нечто, до того удивительное, что могучая вершина ее закачалась от изумления. Там, на краю пустыни, двигались двое одиноких людей. Они были на таком далеком расстоянии, когда верблюды кажутся не больше муравья, но все-таки это несомненно были двое людей. Этих чужестранцев, постоянных путников пустыни, пальма хорошо знала: это были мужчина и женщина, с ними не было ни проводников, ни вьючных животных, ни палаток, ни бурдюков с водой.
— Они пришли сюда, вероятно, чтобы умереть, — подумала вслух пальма и быстро осмотрелась кругом.
— Удивительно, — продолжала она, — львы еще не насторожились, завидя добычу. Я не вижу, чтобы хоть один из них пошевельнулся. Я не вижу и разбойников; они, вероятно, еще появятся.
— Им грозят семь видов смерти, — думала пальма, — их пожрут львы, ужалят змеи, их иссушит жажда, погребут пески, на них нападут разбойники, их сожжет солнце, они погибнут от страха.
И она старалась думать о чем-нибудь другом, но судьба этих людей беспокоила ее. И, куда ни обращала она свой взор, она видела только то, что было знакомо ей уже тысячи лет. Ничто не приковывало ее внимание, мысли ее снова обращались к двум путникам:
— Клянусь засухой и бурей! — сказала она, призывая опаснейших врагов жизни. — Что это несет в руках женщина? Мне кажется, эти безумцы несут с собой и ребенка.
Пальма, которая была дальнозорка, как все старцы, не ошиблась. Женщина несла на руках ребенка, который спал, положив голову ей на плечо.
— Дитя почти раздето, — продолжала пальма, — я вижу, как мать прикрыла его своим плащом. Она второпях схватила его с постели и отправилась в путь. Теперь я понимаю: эти люди — беглецы.
— И все-таки они безумцы, — шептала пальма. — Если их не охраняют ангелы, лучше им было бы все претерпеть от врагов, чем отправляться в пустыню. Я представляю себе, как все это произошло. Муж стоял за работой, ребенок спал в колыбели, а жена вышла за водой. Сделав несколько шагов от двери, она увидала приближающихся врагов. Она бросилась назад, схватила ребенка, крикнула мужа, и они побежали! Целый день провели они в пути, не останавливаясь ни на минуту.
Вот как это все произошло. Но, — повторяю, — если их не охраняют ангелы… Они так напуганы, что не чувствуют ни усталости, ни других страданий, но я вижу жажду в глазах их. Мне ли не знать лицо человека, который мучается от жажды!
И, когда пальма подумала про жажду, судорожная дрожь пробежала по ее высокому столбу, а бесчисленные острия длинных листьев сжались, как от дыхания огня.
— Если бы я была человеком, — говорила она, — я никогда не отважилась бы отправиться в пустыню. Надо быть безумцем, чтобы идти сюда, не имея корней, которые простираются до никогда не высыхающих родников.
Здесь опасно и для пальмы. Даже для такой пальмы, как я! Если бы я могла дать им совет, я уговорила бы их вернуться. Враги никогда не смогут быть так жестоки к ним, как пустыня. Может быть, им кажется, что в пустыне легко жить, но я знаю, что даже и мне иногда трудно приходится. Я помню, как еще в молодости ветер нанес надо мной целую гору песка, и я едва не задохнулась; если бы я могла умереть, это был бы мой последний час.
Пальма продолжала думать вслух по привычке старых пустынников:
— Я слышу какой-то чудный мелодичный шелест в моих ветвях, — говорила она, — все острия моих листьев трепещут; не понимаю, что со мной делается при виде этих бедных чужестранцев. Эта грустная женщина так прекрасна, она заставляет меня вспомнить самое чудесное явление в моей жизни.
И под мелодичный шелест листьев вспомнилось пальме, как много-много лет назад этот оазис посетило двое знатных людей. Это были царица Савская и мудрый Соломон. Прекрасная царица возвращалась домой, царь Соломон провожал ее часть пути, а теперь они должны были расстаться.
— В память этого часа, — сказала царица, — я сажаю в землю финиковую косточку, и я хочу, чтобы из нее выросла пальма, которая будет жить и расти, пока в стране Иудейской не родится Царь, который будет выше Соломона.
Сказав это, она посадила в землю косточку и оросила ее своими слезами.
— Почему я вспомнила об этом именно сегодня? — подумала пальма. — Неужели эта женщина напоминает мне своей красотой прекраснейшую из цариц, по слову которой я выросла и живу до сегодняшнего дня? Я слышу, как листья мои шелестят все громче, и шелест их печален, как песнь смерти. Они словно предсказывают, что скоро прекратится чья-то жизнь. Хорошо, что я знаю, что никогда не умру.
Пальма думала, что печальный шелест ее листьев предсказывал смерть этим одиноким путникам, да и они сами, вероятно, думали, что приближается их последний час. Это было видно по выражению их лиц, когда они проходили мимо скелетов верблюдов, лежавших на дороге. Это видно было по взглядам, которыми они проводили пролетавших коршунов. Да иначе не могло и быть — они должны погибнуть. Они заметили пальму и оазис и быстро направились к ним в надежде найти воду, но, придя туда, они остановились в отчаянии, потому что источник иссяк. Утомленная женщина положила ребенка на землю и села, плача, на берегу источника. Мужчина бросился рядом с ней на землю и стал бить песок кулаками. Пальма слышала, как они говорили между собой, что им придется умереть. Она узнала также из их слов, что царь Ирод велел убить всех вифлеемскмх мальчиков двух-трех лет, боясь, что среди них родился ожидаемый Великий Царь Иудейский.
— Мои листья шелестят все громче, — думала пальма, — пришел последний час этих несчастных беглецов.
Она поняла, что оба они боятся пустыни. Муж говорил, что лучше было бы остаться и вступить в бой с воинами, чем бежать от них. Они погибли бы более легкой смертью.
— Бог поможет нам, — ответила жена, — мы беззащитны против хищных зверей и змей.
— У нас нет ни пищи, ни питья, — сказал муж, — как может помочь нам Бог?
Он разорвал в отчаянии свое платье и прижался лицом к земле. Он потерял всякую надежду, как человек, смертельно раненный в сердце. Жена сидела, выпрямившись, сложив руки на коленях, но взгляд ее, которым она смотрела на пустыню, говорил о безграничном, безутешном горе. Пальма слышала, как тоскливый шелест становился все громче; женщина, вероятно, также услышала его. Она подняла голову и сейчас же невольно протянула руки к вершине дерева.
— О, финики, финики! — воскликнула она.
В ее голосе было такое страстное желание, что пальме захотелось быть не выше кустарника дрока, и чтобы финики ее было так же легко сорвать, как цветы шиповника. Она знала, что вершина ее покрыта гроздьями фиников, но как могут люди достать их на такой головокружительной высоте?
Муж уже видел, как недостижимо высоко висели финики. Он не поднял и головы и попросил жену не мечтать о невозможном. Но ребенок, игравший травками и стебельками, услышал восклицание матери. Малютке и в голову не могло прийти, что мать не может получить того, чего желает. Как только он услышал про финики, то начал смотреть на дерево. Он думал и соображал, как бы их достать. Лобик его наморщился под светлыми кудрями. Наконец на личике его появилась улыбка. Он придумал способ: он подошел к пальме, ласково погладил ее своими ручонками и сказал нежным детским голоском:
— Пальма, наклонись! Наклонись, пальма!
Что это? Что произошло? Листья пальмы затрепетали, словно по ним пронесся ураган, а по высокому стволу пробежала дрожь. И пальма почувствовала, что малютка был сильнее ее. Она не могла противиться ему. И она склонилась своим высоким стволом перед ребенком, как люди склоняются перед властелинами. В своем глубоком поклоне она нагнулась до земли так, что верхушка ее с дрожащими листьями легла на песок.
Ребенок не казался ни испуганным, ни удивленным.
С радостным криком подбежал он к вершине пальмы и стал рвать с нее гроздь за гроздью. Ребенок набрал уже много фиников, а дерево все еще продолжало лежать на земле. Тогда мальчик подошел к ней, и снова ласково погладил, и нежно сказал:
— Пальма, поднимись! Поднимись, пальма!
И громадное дерево тихо и благоговейно выпрямило свой гибкий ствол, и листья ее зазвенели, словно арфа.
— Теперь я знаю, кому они пели песнь смерти, — сказала пальма, когда снова выпрямилась, — не этим людям.
Муж и жена, стоя на коленях, славили Бога:
— Ты видел нашу печаль и взял ее от нас. Ты сильный, склоняющий ствол пальмы, как гибкий тростник! Каких врагов трепетать нам, когда сила Твоя охраняет нас!
Вскоре через пустыню шел караван, и путники увидели, что вершина пальмы завяла.
— Как это могло случиться? — сказал один из путников. — Эта пальма не должна была умереть раньше, чем увидит Царя, более славного, чем Соломон!
— Может быть, она и увидела его, — ответил другой путник.
В Назарете
Притча
Как-то раз, когда Иисусу было всего еще пять лет, он сидел на пороге мастерской своего отца и из куска мягкой глины, которую дал ему гончар, живший на другой стороне улицы, усердно лепил глиняных птиц. Иисус чувствовал себя счастливым, как никогда: соседские мальчики говорили ему, что гончар — человек суровый, которого нельзя ни смягчить дружеским взглядом, ни упросить ласковым словом. И вдруг такой человек подарил ему глины.
Иисус и сам хорошенько не знал, как это произошло. Он помнил только, что стоял на своем пороге и пристальным взором следил, как сосед работал над различными формами, — и вдруг тот вышел из лавки, подошел к Иисусу и подарил ему такой большой ком глины, что из него можно было бы сделать большую кружку для вина.
На ступеньке лестницы соседнего дома сидел некрасивый рыжий мальчик Иуда. От постоянных драк с уличными мальчиками лицо его было покрыто бесчисленными синяками, а одежда на нем висела клочьями.
В эту минуту он сидел спокойно, никого не задирал, ни с кем не дрался, а был занят, так же, как и Иисус, работой из глины. Но получить эту глину сам он не смог: он старался не попадаться угрюмому гончару на глаза, потому что частенько бросал камнями в его хрупкую глиняную посуду, и, подойди он попросить глины, гончар прогнал бы его палкой.
Глиной поделился с ним Иисус.
Когда птицы были готовы, каждый из мальчиков поставил их перед собой полукругом. Вид у них был такой же, как у глиняных птиц всех времен: вместо ног большой серый ком глины, чтобы можно было их поставить, короткие хвосты, никакого намека на шею и едва заметные крылья. Но разница между работой маленьких приятелей сейчас же сказалась: птицы Иуды были так плохо сделаны, что не могли стоять и сейчас же падали, перевертываясь вверх ногами, и, сколько он ни старался придать им красивую форму и устойчивость, маленькие жесткие пальцы его не слушались и ничего не выходило.
Время от времени он исподтишка взглядывал в сторону Иисуса, чтобы посмотреть, как это он ухитряется вылепливать птиц такими ровными и гладкими, как дубовые листья в лесу на горе Фавор.
С каждой новой птицей Иисус чувствовал себя все счастливей. Одна казалась красивее другой, и он с гордостью и любовью смотрел на них, не отрывая взгляда. Они будут товарищами его игр, его маленькими сестренками, будут спать у него в кровати, вести с ним беседы и петь ему песни, когда мать будет выходить из дома и оставлять его одного. Теперь уж никогда он не будет чувствовать себя покинутым и одиноким.
В это время мимо мальчиков проходил громадного роста водонос, согнувшись под тяжестью своей ноши, а за ним ехал верхом на осле, весь окруженный большими пустыми ивовыми корзинами, торговец зеленью. Водонос положил свою руку на кудрявую светлую головку Иисуса и спросил его о птицах. Иисус с живостью начал рассказывать, что у каждой из них есть свое имя и что они умеют петь. Все эти маленькие птички прилетели к нему из чужих стран и рассказали ему такие истории, которые знают только они да он. Иисус рассказывал обо всем этом так интересно, что водонос и торговец зеленью заслушались и совсем забыли о своих делах.
Когда они собрались наконец уходить, Иисус показал им на Иуду и сказал:
— А посмотрите, каких красивых птиц сделал Иуда!
И торговец зеленью придержал своего осла и ласково спросил Иуду, есть ли имена у его птиц и умеют ли они петь. Но Иуда не обратил на него внимания и молча, с упрямым видом, не бросив взгляда, продолжал свою работу. Торговец зеленью сердито отбросил ногой одну из его птиц и поехал дальше.
Так прошел день.
Солнце опустилось так низко, что лучи его проходили уже сквозь низкие, украшенные римским орлом ворота, в которые упиралась улица. Кроваво-красные вечерние лучи заходящего солнца, скользя по узкой улице, окрашивали все, что попадалось им по дороге, в яркий пурпур. Посуда горшечника, доска, скрипевшая под пилою плотника, платок на голове Марии — все это стало огненно-багровым. Но красивее всего сверкали лучи в маленьких лужах воды, скопившихся между большими неровными каменными плитами, которыми была вымощена улица. И вдруг Иисус окунул свою руку в ближайшую лужицу; ему пришло в голову выкрасить своих серых глиняных птичек этой чудесной краской пурпурных лучей, сверкавших в воде и обливавших пылающим заревом стены домов и всю улицу. И солнечные лучи радостно дали поймать себя, и, когда Иисус провел рукой по маленьким глиняным птицам, лучи покрыли их с головы до ног бриллиантовым блеском.
Иуда, по временам взглядывавший на Иисуса, чтобы убедиться, сколько птиц готово у него и красивей ли они его птиц, громко вскрикнул от восторга, увидав, как Иисус выкрасил своих глиняных птичек солнечным лучом, игравшим в обыкновенной лужице.
Иуда сейчас же окунул свою руку в сверкавшую воду и тоже хотел поймать солнечный луч. Но луч не дался ему и проскользнул у него между пальцев, и, как быстро ни двигались его руки, лучи ускользали от него и он не мог окрасить ни одной из своих птиц.
— Постой, Иуда, — сказал Иисус, — дай я помогу тебе выкрасить птичек.
— Не надо, — ответил Иуда, — не смей трогать моих птиц. Они и так хороши!
И он поднялся на ноги, нахмурил лоб, стиснул зубы и вдруг с яростью стал топтать своих птичек. Одна за другой обращались они в маленькие, плоские комки глины. Раздавив всех своих птиц, Иуда подошел к Иисусу, который продолжал сидеть и красить своих птичек. Они сверкали, как драгоценные камни.
С минуту Иуда стоял и молча разглядывал их, а потом поднял ногу и наступил на одну. Когда Иуда отдернул свою ногу и увидал, что маленькая птичка превратилась в комок серой глины, его охватило злорадство, он грубо захохотал и опять поднял ногу, чтобы раздавить следующую.
— Иуда! — закричал Иисус. — Что ты делаешь? Ведь они живые! Они поют!
Иисус огляделся кругом, как бы прося помощи. Иуда был больше его, и у Иисуса не хватило бы силы удержать его, он искал глазами мать. Она была недалеко, но, прежде чем она успела бы подойти, Иуда мог бы раздавить всех его птиц.
Глаза Иисуса наполнились слезами. Под ногами Иуды валялись уже четыре раздавленных птицы, осталось всего только три! Иисусу было больно и горько, что птицы продолжали лежать спокойно и не пытались спастись, позволяли давить себя одну за другою. Тогда Иисус захлопал в ладоши, чтобы спугнуть их, и закричал:
— Улетайте! Улетайте!..
И три оставшиеся птички вдруг ожили, задвигали своими маленькими крылышками и, боязливо вспорхнув, перелетели на край крыши, где им уже не грозила опасность.
Иуда, увидев, что птицы по приказанию Иисуса из глиняных стали живыми, распустили крылья и полетели, зарыдал, бросился к ногам Иисуса и начал рвать на себе волосы, как это делали взрослые, когда с ними случалось большое горе. Как собака, ползал Иуда перед ним по каменным плитам, целуя его и умоляя, чтобы Иисус раздавил его ногой так же, как он раздавил глиняных птиц, потому что Иуда в одно и то же время и любил Иисуса, и восхищался им, и боготворил его, и вместе с тем ненавидел его.
Мария, все время молча следившая за игрой детей, теперь встала, подняла Иуду с земли, посадила себе на колени и приласкала его.
— Бедный мальчик! — сказала она. — Ты не понимаешь, что ты поступил так, как ни одно живое существо не смеет поступать. Никогда не делай этого, если не хочешь сделаться самым несчастным из людей. Горе тому человеку, который захочет сравняться с Тем, Кто может солнечные лучи превращать в краску и мертвой глине придавать дыхание жизни!
Дары персидского царя волхва Артабана
К Рождеству Господа нашего Иисуса Христа
Восточное сказание
Во дни Ирода царя, когда в убогой пещере близ Вифлеема родился Спаситель мира Иисус Христос, на небе загорелась громадная, невидимая ранее звезда, которую видели и в восточных странах.
Звезда сияла ярким, блестящим светом; она медленно, но постоянно двигалась в одну сторону — туда, где находилась земля еврейского народа.
Звездочеты восточных стран, или, как их называли на родине, волхвы-маги, обратили внимание на это небесное светило. По их мнению, это было Божие знамение, что где-то родился давно предсказанный в еврейских книгах Великий Царь израильский, избавитель людей от зла, учитель новой, праведной жизни.
Некоторые из волхвов, особенно толковавших о Божией правде на земле и скорбевших, что в людях так сильно развелось беззаконие, решили идти искать рожденного Царя, чтобы поклониться и послужить Ему, но где же Его найти, наверное не знали.
Может быть, придется ехать далеко, а дороги в ту пору были трудные, поэтому волхвы решили сначала собраться в определенном месте всем, а затем общим караваном направиться по указанию движения звезды на поиски рожденного Царя.
Вместе с другими волхвами собрался на поклонение и великий персидский мудрец Артабан. Он продал все свои имения, богатый дом в столице и на вырученные деньги купил три драгоценных камня: сапфир, рубин и жемчужину.
Целое сокровище заплачено было за них, зато и красота их была редкостная. Один сиял, как частица голубого неба в ясную погоду, другой горел ярче пурпурной зари при восходе солнца, третий белизной превосходил снежную вершину горы.
Все это вместе с сердцем, полным самой горячей, беззаветной любви, Артабан думал сложить у ног рожденного Царя истины и добра.
Собрал в своем бывшем доме Артабан последний раз друзей, простился с ними и отправился в путь до места сбора, куда надо было ехать несколько дней.
Артабан не боялся опоздать. Конь под ним был борзый и крепкий. Время он высчитал точно и каждый день исправно проезжал необходимый отрезок пути.
В последние сутки ему оставалось проехать несколько десятков верст, и он хотел ехать всю ночь, чтобы с зарей прибыть к назначенному месту.
Верный конь быстро ступал под ним. Ночной ветерок навевал прохладу. Над головой в бесконечной дали небосклона, как яркая звезда, как яркая лампада перед Престолом Бога, сияла Новая Звезда!
— Вот он, знак Божий! — говорил себе Артабан, не сводя глаз со звезды. — Великий Царь пришел к нам с неба, я скоро увижу Его! Увижу Тебя, мой Царь!.. Прибавь, друг, еще шагу! — подбадривал своего коня и ласково трепал его по гриве.
И конь прибавлял шагу. Громко и четко ступали его копыта по дороге среди пальмового леса.
Мрак ночной начал редеть, кое-где слышалось чириканье просыпающихся птиц. Чуялась близость наступающего утра. Вдруг конь остановился, заржал, стал пятиться назад. Артабан глянул вперед, вгляделся в дорогу и почти у самых ног коня увидел распростершегося на земле человека. Он быстро слез с коня, подошел к лежащему и осмотрел его. Это был еврей, обессиленный страшным недугом, сильным приступом ужасной в тех местах лихорадки. Его можно было принять за мертвеца по виду, если бы не слабый, едва слышный стон, который изредка вырывался из его запекшихся губ. Артабан задумался: ехать мимо и торопиться к назначенному месту сбора, оставив больного, не позволяет ему совесть, а чтобы оставаться с больным, чтобы поднять его на ноги, на это надо потратить много часов, и тогда опоздаешь к установленному сроку. Уедут без него.
— Что делать? — спрашивал себя Артабан и решил. Он занес уже ногу в стремя, но больной почувствовал, что его покидает последняя надежда на помощь, и застонал так тяжко, что стон больного отозвался в сердце Артабана.
— Боже Великий! — взмолился он. — Ты знаешь, как я стремлюсь к Тебе, направь меня на правый путь. Твой голос любви говорит в моем сердце. Я не могу проехать мимо. Я должен помочь несчастному еврею.
С этими словами он подошел к больному, развязал ему одежды, принес из ручья воды, освежил ему лицо и запекшиеся губы. Затем достал из приделанного к седлу тюка какие-то лекарства, которых у него был большой запас, подмешал их к вину и влил в уста больного. Потом Артабан растирал несчастному грудь и руки, давая ему что-то нюхать. И так он провел несколько часов.
Заря давно миновала, солнце уже высоко поднялось над лесом, время близилось к полудню. Больной пришел в себя, поднялся на ноги и не знал, как благодарить доброго незнакомца.
— Скажи, кто ты? — спрашивал Артабана еврей. — Скажи, за кого я и моя семья будем молить Бога до последних дней нашей жизни? Скажи, почему лицо твое так печально, какое горе сокрушает тебя?
Артабан с грустью поведал о том, куда он едет и что теперь, наверное, опоздал.
— Мои товарищи, конечно, уже уехали! — говорил он. — И я не найду и не увижу желанного Царя!
Лицо еврея осветилось радостью.
— Не грусти, благодетель, я могу хоть немного отплатить тебе за твое добро. В моих священных книгах сказано: обещанный от Бога Царь Правды родится в иудейском городе Вифлееме. Пусть твои друзья уехали; ты поезжай в Вифлеем, и если Мессия родился, то ты найдешь Его там.
И еврей, простившись и еще раз поблагодарив, пошел своей дорогой. Артабан вернулся назад. Одному нечего было и думать ехать через пустыню. Надо взять для охраны слуг, купить верблюдов, набрать провизии и запастись водой!
Прошла неделя. Пришлось продать один камень, чтобы снарядить караван. Продажей Артабан не очень печалился, оставалось еще два камня — главное, не опоздать бы к Царю. И он усиленно спешил и торопил слуг.
Вот наконец и Вифлеем. Усталый, счастливый, веселый, запыленный, подъехал он к первому домику, быстро вошел внутрь и засыпал хозяйку вопросами: не были ли в Вифлееме пришлые люди с Востока, к кому они обращались и не знает ли она, где они теперь?
Хозяйка, молодая женщина, кормила младенца грудью. Сначала смутилась видом незнакомца, потом успокоилась и рассказала, что несколько дней тому назад приходили сюда какие-то люди к Марии из Назарета и принесли Ее Младенцу богатые дары. Куда девались эти люди, неизвестно. А Мария с Младенцем и старцем в ту же ночь скрылись из Вифлеема. В народе толкуют, что они ушли в Египет. Пока она рассказывала, младенец сладко заснул и улыбка играла на его прекрасном лице.
Артабан не успел еще обдумать, что ему делать, как на улице послышался шум, дикие крики, лязг оружия и надрывающийся женский крик и плач. Полураздетые женщины, простоволосые, с искаженными лицами, бежали куда-то вдоль селения, неся на руках своих младенцев, и вопили:
— Спасайтесь! Солдаты Ирода убивают наших младенцев!
Лицо молодой женщины побелело, глаза расширились: прижав к себе спящего ребенка, она могла только сказать:
— Спаси моего ребенка! Спаси его, и Бог спасет тебя!
Артабан, не помня себя, бросился к двери. Там, за порогом, стоял уже начальник отряда, а за ним виднелись зверские лица воинов с окрашенными кровью невинных младенцев мечами. Руки Артабана как-то невольно рванулись к груди, он быстро достал мешочек из-за пазухи, выхватив драгоценный камень и подал начальнику отряда:
— Возьми этот камень и оставь женщину и ее дитя!
Тот, не видев отроду такой драгоценности, схватил жадно камень и увел своих воинов в другое место доканчивать свое зверское дело.
Женщина, плача на коленях перед Артабаном, голосом, идущим от сердца, с благодарностью говорила:
— Да благословит тебя Господь за моего ребенка! Ты ищешь Царя Правды, любви и добра, да воссияет пред тобой Лик Его и да взирает Он на тебя с такой любовью, с какой я теперь смотрю на тебя!
Бережно поднял ее на ноги Артабан, и слезы, не то радости, не то грусти, текли по его щекам.
— Боже Истины, прости меня! Ради этой женщины и ее ребенка я отдал предназначенный Тебе дар — камень. Увижу ли я Тебя когда-нибудь? И здесь я опять опоздал. Пойду вслед за Тобой в Египет.
И долго бедный волхв ходил, отыскивая Царя Правды. Много перевидел он разного народа, а искомого Царя найти не мог. И больно сжималось его сердце, не раз плакал он горькими слезами.
«Господи! — думалось ему. — Сколько везде горестей, и мук, и несчастий. Скоро ли Ты явишь Себя, чтобы облегчить жизнь людям?»
От продажи первого камня оставалось много денег, и он помогал людям, лечил их, утешал в печали, навещал узников, и годы его жизни за этими трудами убегали так быстро, как бегает челнок ткача по вырабатываемой ткани. Последнюю жемчужину он хранил бережно у сердца, думая, как бы поднести ее в дар Царю, когда он отыщет Его!
Прошло 33 года, как Артабан оставил родину. Стан его сгорбился, волосы побелели, глаза померкли, руки и ноги ослабли, а в сердце по-прежнему неослабно горела любовь к Тому, Кого он искал с давних пор.
И прослышал тут престарелый Артабан, что в Иудее появился Посланник Великий Божий, что Он совершает дивные дела: воскрешает мертвых, отверженных грешников и отчаянных злодеев делает святыми. Радостно забилось сердце Артабана. «Теперь, — подумал он, — я найду Тебя и послужу Тебе».
Пришел мудрец в Иудею. Смотрит — весь народ идет в Иерусалим на праздник Пасхи. Там где-то есть и Пророк Иисус, которого чаял видеть волхв. С толпами богомольцев достиг Артабан священного города. Видит: на улицах большое движение, людской поток куда-то неудержимо льется: все бегут, толкая и обгоняя друг друга.
— Куда это спешат люди? — спрашивает Артабан.
— На Голгофу! Так за городом называется один холм. Там сегодня вместе с двумя разбойниками распинают Иисуса из Назарета, Который назвал Себя Сыном Божиим — Царем Иудейским!
Упал на землю Артабан и горько зарыдал:
— Опять я опоздал! Не дано мне видеть Тебя, Господи! Не пришлось и послужить Тебе!
«А впрочем, — думал Артабан, — может быть, еще и не поздно. Пойду я к мучителям, предложу мою жемчужину, и, может быть, они Ему возвратят свободную жизнь!»
Поднялся Артабан и, как мог, поспешил за толпой на Голгофу. На одном из перекрестков ему преградил дорогу отряд солдат. Воины тащили девушку редкой красоты в тюрьму. Она увидала волхва, по одежде приняла его за перса и, ухватившись за край его одежды, закричала:
— Сжалься надо мною! Освободи меня! Я с тобой из одной стороны. Мой отец приехал сюда по торговым делам и привез меня с собой, но заболел и умер. За долги отца меня хотят посадить в тюрьму и продать в рабство, обречь на позор. Спаси меня! Избавь от бесчестья! Молю тебя, спаси меня!
Задрожав, старый волхв вспомнил избиение младенцев в Вифлееме. Снова вспыхнула в сердце мысль: сохранить ли камень для Великого Царя или отдать его в помощь несчастной? Любовь и жалость к невольнице взяли верх. Достал Артабан с груди последнюю жемчужину и отдал ее девушке.
— Вот тебе выкуп, дочь моя! Тридцать три года берег я это сокровище для моего Царя, но, видимо, недостоин я поднести его в дар Ему!
Пока он говорил, небо заволокло тучами, и среди дня тьма налегла на землю. Земля словно тяжело вздохнула, затряслась. Загремел гром, молния прорезала небо от края и до края; послышался треск, задрожали дома, стены покачнулись, дождем посыпались камни.
Тяжелая черепица сорвалась с крыши и разбила голову старцу. Он повалился на землю бледный, истекая кровью. Девушка наклонилась над ним, чтобы оказать ему помощь. Артабан зашевелил губами и стал что-то шепотом говорить. Глаза его открылись, засветились радостью, по лицу разлилась кроткая улыбка. Казалось, умирающий видит кого-то перед собою и беседует с ним.
Девушка нагнулась ближе к волхву и услышала, как он прерывающимся голосом говорил:
— Господи! Да когда же я Тебя видел голодающим и накормил Тебя? Когда видел Тебя жаждущим и напоил Тебя? Когда приютил Тебя странником? Одел Тебя нагого? Тридцать три года блуждал я из страны в страну и искал Тебя, и ни разу не видел лица Твоего и не мог послужить Тебе, моему Царю, на земле!
Старик умолк. Грудь вздымалась. Сквозь нависшие тучи пробился луч солнца и осветил лицо волхва. Подул тихий ветерок, шелестя волосами умирающего, и вместе с этим ветерком откуда-то с выси донесся ласковый голос:
— Истинно говорю тебе: все то, что ты сделал нуждающимся братьям Моим, то сделал Мне!
Лицо Артабана преобразилось. На него легла печать великого спокойствия и самой светлой радости. Он облегченно вздохнул всей грудью, поднял к небу благодарно свои очи и навеки почил. Кончились долгие странствия великого волхва. Нашел наконец Артабан Великого Царя-Спасителя, и были приняты его дары!
Странствующий еврей
Древняя притча
Толпа волновалась и шумела у претории, и раздавались полные бешеной злобы крики:
— На Голгофу, на Голгофу! Распять Иисуса, лжепророка и обманщика!
В белой тоге, с непокрытой головой вышел к народу Пилат. Лицо его было бледно, взгляд тревожен.
— Чего хотите вы от меня? — крикнул он толпе.
— Я при вас допрашивал Иисуса и не нашел за Ним вины, ни в словах Его, ни в Его делах. Я посылал Его к Ироду — и тот признал Его невиновным. Чтобы потешить вас, я подверг Его бичеванию, вы терзали Его терновым венцом, вы плевали на Него и били Его по лицу. Если Он и правда не исполнял закона Моисеева, то разве не довольно Он уже наказан?
Но еще более злобные, более сильные крики раздавались в ответ Пилату:
— Нет! Пусть умрет Он! Смерть Ему! Распять! Распять! На Голгофу!
Пилат приказал центуриону унять народ. Пронзительный звук трубы заставил на минуту смолкнуть разволновавшуюся толпу.
Проконсул, нагнувшись к народу, крикнул:
— Уйдите от меня! Не могу я казнить невинного!
Но тогда над недовольным гулом и ропотом толпы выделился голос первосвященника Каиафы:
— Иисус — преступник! Он в глаза уже назвал Себя Сыном Божиим! Я так был поражен этим богохульством, что разорвал одежды свои! Кроме того, Он называет Себя царем, а это значит — Он враг кесарю! Будь осторожен, Пилат! Если ты освободишь Этого Человека, ты будешь заодно с изменником кесарю!
При имени кесаря управитель затрепетал. В словах первосвященника он видел угрозу доноса, ему грозил гнев Тиберия. Но он все еще не хотел осудить Того, Кого и сам Ирод признал невиновным.
И он еще раз пытался спасти Иисуса.
— Слушайте! — сказал он. — Наступает день Пасхи, и вы можете отпустить одного из приговоренных. Пусть приведут сюда Иисуса, и пусть отыщут в тюрьме Варавву, грабителя, и вы решите, кого из них помиловать, разбойника или Назарянина…
— Варавву, Варавву! — кричала толпа, подстрекаемая священниками.
Первым привели Иисуса. Между двух солдат, в красной мантии на плечах, в терновом венце на голове, с тростью взамен скипетра в руках, появился Он перед толпою и глядел на нее скорбными, полными слез глазами.
Трепет охватил Его обвинителей, и только самые отчаянные пытались смеяться.
— Се, Человек! — сказал Пилат голосом, полным сострадания.
В эту минуту ликторы привели Варавву, упирающегося и сопротивляющегося.
— Решайте, евреи! — начал снова Пилат. — Вот человек, если и может быть виновным, то только в обмане. И вот рядом с ним другой, преступления которого многочисленны и доказаны. Он хотел похитить драгоценности из храма; сорвал золотые украшения со святыни, убив пятерых евреев и двух воинов римских. Который же из них, по-вашему, больше заслуживает помилования?
Сильное волнение охватило народ. Самые упорные колебались. Но толпа состояла большей частью из подонков иерусалимской черни, и среди них было немало товарищей Вараввы, его соучастников в преступлениях, и раздались их голоса, грубые и угрожающие:
— Варавву, мы хотим Варавву!.
И все другие, подчиняясь страху перед этими негодяями, закричали вместе с ними:
— Варавву, Варавву! Отпусти нам Варавву! Распни Иисуса!
Тогда Пилат велел принести серебряный сосуд с водою.
— Пусть, — крикнул он, — Иисус умрет! Но не я приговорил Его, а вы. Я умываю руки свои от крови Этого невинного!
И среди гиканья, проклятий и криков торжествующей толпы Пилат омыл в воде руки. И вслед за тем эти руки подписали несправедливый приговор, а на одной из них сверкал золотой перстень, печатью которого этот приговор утверждался от имени кесаря.
По направлению к Голгофе уже спешил народ, чтобы посмотреть на казнь Иисуса.
Один человек бежал быстрее, чем другие. Это был Исаак Лакадем. Он был в претории и был один из тех, которые громче всех кричали, требуя смерти Сына Божия! И так как дом его стоял на дворе, по которому приговоренные к крестной казни шли к роковому холму, то он поторопился домой, радуясь, что, может быть, стоя на своем пороге, будет радоваться зрелищу шествия на казнь. Подходя к дому, Исаак увидел жену свою, ожидавшую на улице известий об окончательном решении Пилата. Исаак еще издали радостно замахал ей рукой, крича:
— Приговорен, приговорен!
Но жена его, услыша это, поникла головою.
— Почему же ты не радуешься, как другие? — спросил ее Исаак. — Разве не справедливо казнить смертью обманщика, называвшего Себя Сыном Божиим?
— А если Он и вправду Сын Божий? — прошептала жена.
— Сын Божий? Он-то, Который водился с отребьем, с бродягами, с нищими, прокаженными? Который покровительствовал грешникам, допускал их к Себе, прощал им беззакония их? Который помешал побить камнями женщину-грешницу?
— Он учил любви и подавал всем нам пример, как надо жить! — сказала его жена. — Что вредного сделал Он?
— Как ты смеешь защищать Того, Кто наших книжников называл лицемерами? Того, Кто выгнал из храма торговцев, Который говорил, что если храм будет разрушен, то Он вновь построит его в три дня? Ты осмеливаешься заступаться за Того, Кто обрекал Иерусалим на гибель?
— Я не защищаю Его!.. Но я не осудила бы Его…
— Твои слова только доказывают еще более, что хорошо сделали иудеи, порешив казнить Его… Клавдия же, жена Пилата, почти стояла за Этого обманщика, и, если бы мы не пригрозили проконсулу, он отпустил бы Его… Вот сейчас Он пройдет здесь, Этот лжепророк, со Своим Крестом, и ты увидишь, сможет ли Он совершить чудо, чтобы спастись!
— Нет, я не увижу Его! — возразила добрая женщина. — Я запрусь дома и затворю двери, чтобы не видеть, как поведут на казнь Того, Кто говорил только о любви. Я, впрочем, уж довольно видела этих несчастных, идущих на Голгофу, потому что, к великому моему горю, дом наш стоит как раз на дороге к ужасному месту, к этой обнаженной горе с крестами вместо деревьев и костями человеческими вместо камней. Пойдем со мной, Исаак, не оставайся тут у дверей. Я чувствую, что это погубит тебя…
— А я, напротив, хочу остаться. Я хочу узнать, с каким видом пойдет на Свой крестный трон Этот Человек, хотевший быть нашим царем! Чего ты боишься? С чего мне трепетать перед Этим обманщиком, Который умрет такою же смертью, как грабители! Да и Он Сам грабитель, потому что присвоил Себе не принадлежащий Ему титул, чтобы овладеть людьми слабыми и боязливыми. Чего бояться Его, пытавшегося смутить нас своими предсказаниями? И те, кто всегда ходил за Ним, даже и те покинули Его! Один из Его учеников предал Его, а остальные благоразумно попрятались… Конец царствованию Сына Божия! У Того, Кто называл Себя так, в эту минуту не больше сил, чем у разбойников, между которыми распнут Его.
— Берегись, Исаак, берегись! Грешно издеваться над мучеником!
— Ну уходи, пожалуйста! Твои глупые слова отравляют мне удовольствие! Ты лучше приготовь сегодня к вечеру хороший ужин, я приведу кое-кого из приятелей, чтобы с ними отпраздновать поминки по Иисусу Назарянину, ложному Мессии, и осушить с ними кубок хорошего вина.
В это время вдали заслышался какой-то неясный шум — это вели на Голгофу Иисуса и с Ним других двух осужденных. Исаак Лакадем, чтобы лучше видеть все, встал на каменную скамью, шедшую вдоль одной стены его дома, окаймленной виноградником. Оттуда он увидел большую толпу народа, шумную и волнующуюся. Какие-то сверкающие пятна и точки горели над толпой. То сияли на солнце каски, копья и щиты 28 воинов, провожавших осужденных на Голгофу.
Вот на одном перекрестке солдаты и народ остановились. Раздались крики, насмешки, ругательства народа. Это Назарянин упал под тяжестью Своего Креста. Тогда на губах Исаака Лакадема появилась злая улыбка.
Но вот шествие опять пошло, и скоро все были в нескольких шагах от дома Исаака, и он среди воинов и палачей, несших веревки, молотки и гвозди, увидел Человека, спотыкавшегося на каждом шагу под тяжестью громадного Креста, резавшего Ему плечи. Со лба Этого Человека, истерзанного терновым венком, струились потоки крови и пота, и путь Его отмечался на земле кровавыми каплями. Казалось, Человек Этот вот-вот упадет, нетверды были Его шаги, так слабо было Его тело. Он тяжело дышал, но каждый раз, как только Он останавливался, солдаты кололи Его копьями. И Он без ропота, без жалобы поднимался и глядел на смеявшийся кругом народ Своими кроткими глазами, в которых наперекор Его телесной слабости горел огонь чудной жизни, точно вся Божественная Его душа изливалась в этом взгляде, полном сострадания к Своим мучителям.
Этот Человек был Иисус. Чтобы все знали это, ликтор шел впереди, неся на конце копья насмешливое объявление: «Иисус Назарянин, Царь Иудейский».
Прочитав это объявление, Исаак засмеялся:
— Царь Иудейский, который был царем рабов да грешных женщин! Ха-ха-ха! Почему же Твои подданные не освободят Тебя? Почему архангелы Бога, Твоего Отца, не являются с огненными мечами вырвать Тебя из рук палачей? — кричал Исаак.
Тогда Иисус повернул лицо Свое к поносителю:
— Исаак Лакадем, — сказал Он, — Я жажду! Дай мне глоток воды из твоего источника!
— Мой источник пуст! — отвечал Исаак с новым хохотом.
— Исаак Лакадем! Я падаю. Помоги Мне нести Крест Мой.
— Я не крестоносец Тебе! Позови одного из учеников Твоих.
— Дай Мне отдохнуть на скамье твоей!
— Тогда засохнет виноградник мой.
— Исаак, принеси скамью из дома.
— Нет! Мне пришлось бы сжечь ее, если бы Ты посидел на ней.
— Если Я отдохну на ней, то она будет для тебя золотою скамьею в доме Отца Моего. Исаак, Исаак, пожалей Меня! — Иисус сделал шаг к Исааку.
Но Исаак оттолкнул Его.
— Прочь, обманщик! Уйди из тени дома моего! Не грязни меня Своими прикосновениями, иди Своей дорогой на Голгофу! Иди, иди!
Тогда Иисус выпрямился, глаза Его загорелись ярким светом. Они безмолвно говорили:
«Нет, ты пойдешь и будешь идти всегда, потому что ты не пожалел во Мне человека. Ты будешь влачиться по дорогам до дня Последнего Суда Отца Моего! Иди по свету, несчастный, обремененный отчаянием и ужасом! А ты мог бы познать вечную истину и присоединиться к будущей славе Моей, если бы помог Мне нести Крест Мой. Но ты познаешь только вечный стыд. Мне осталось нести всего несколько шагов Мою ношу, но, когда Я сложу ее, на тебя она ляжет. И ты пойдешь, подавленный, более измученный, чем Я в эту минуту, когда ты оттолкнул Меня. И никогда ты не избавишься от этой ноши, никогда! Слышишь ты это? Никогда! Как бы ты ни ослабел, как бы ты ни исстрадался, потому что смерть не коснется тебя!
Не пытайся смеяться с этой минуты, нет для тебя радости! Чело твое будет отмечено печатью неизгладимою, как чело Каина. Ты будешь вечный еврей! Когда Я умру, начнется Мое Царство, и только тогда ты поймешь слова Мои. Возьми же свой посох и иди из города в город, из страны в страну, чтобы видеть победу Мою, чтобы видеть крушение храмов ложных богов и возникновение новых храмов, где познают истину, возвещенную Мною. Иди, иди! И если ты не отправишься в свой путь теперь, то те же люди, которые издеваются надо Мною сегодня, завтра обратятся против тебя и погонят тебя, кидая в тебя камнями. Иди! Иди… Иди искать по всему свету могилу себе, могилу, которой ты никогда не найдешь…».
И, беззвучно молвив это, Иисус двинулся дальше, неся Крест Свой, а за Ним и стража, и весь народ. Шествие давно уже миновало, а Исаак Лакадем стоял, прислонясь к стене своего дома, точно пришибленный. Все члены его дрожали. Его глаза широко раскрылись, точно он видел что-то ужасное. Он видел, как под страшным взглядом Назарянина, обращенным к нему, затрепетали сами палачи, как солдаты прятались за своими щитами. Исаак пробовал овладеть собою и хотел было пойти в дом свой. Но дверь была закрыта и, несмотря на все его усилия, не поддавалась открытию.
— Жена, жена! Открой мне дверь! — кричал он голосом человека, ищущего спасения от страшной опасности.
Но мольба оставалась без ответа. И он понял, что предсказание уже начинается. Он понял, что у него нет больше своего жилья. Ноги его подгибались от ужаса. Он хотел опуститься на скамью, но каменная скамья, на которую он не пустил Сына Божия, исчезла.
В ушах Исаака шумело, и в этом шуме ему слышался ужасный голос: «Иди! Иди!» И он, точно пьяный, не владеющий больше своими членами, пошел неровными, колеблющимися шагами, и ноги его, словно скованные, повели его к Голгофе. Им овладела такая слабость и усталость, что ему казалось, что он несет, как и Назарянин, тяжелый крест, режущий ему плечи. Ему казалось, что лоб его истерзан иглами тернового венца и что глаза его и лицо залиты кровью. И в тех самых местах, где Иисус падал в изнеможении во время Своего восхождения на Голгофу, падал и Исаак, расшибая себе колени. Когда он поднялся наконец на вершину Голгофы, он увидел три креста, и на одном из них был Тот, над Которым он так издевался.
Исаак Лакадем услышал последнее слово умирающего Страдальца: «Совершилось!».
Видя это, Исаак ободрился: Распятый был мертв. Что бояться Того, для освобождения Которого небо не сделало никакого чуда? Который умер так же, как и разбойники, Его сотоварищи по казни? И с криком злобного торжества, с пренебрежением взглянув на труп, висевший на кресте, Исаак хотел вернуться домой. Но едва он сделал несколько шагов назад, как темная ночь объяла его и ужасный вихрь закрутил его одежду и заставил его повернуть обратно.
И вдруг ослепительный свет прорезал темноту, и молния с оглушительным треском упала перед ним. Ошеломленный, Исаак отступил. В это время глаза его упали на крест, на котором испустил дух Иисус… О Чудо! Этот крест сверкал среди тьмы ослепительным неземным светом. Исаак, сам не подозревая, что делает, протянул руки к этому кресту, словно сбившийся с пути темной ночью странник, который внезапно увидел проблеск зари. И сразу осознал он свое преступление. Он понял, что сам был одним из тех, которые послали на смерть Спасителя мира, и был самым злым, самым безжалостным из них. Он понял также, что тяжелый крест, который Иисус навеки возложил на него, — это нескончаемые угрызения совести. В то время как воины бежали, пораженные грозой и сиянием небес, исходившим от креста, в то время как бежали охваченные ужасом мужчины и женщины, стараясь закрыть лица своими одеждами, Исаак Лакадем в раскаянии хотел броситься к подножию креста Иисуса. Но в эту минуту ужасное содрогание потрясло землю, раздался грохот в ее недрах и скалы Голгофы потрескались.
Исаак услышал голос:
— Иди! Иди! — и, охваченный ужасом, бросился прочь от Голгофы!
Таково сказание о вечном жиде!
О нем не говорится ни в Евангелии, ни в Деяниях апостолов, ни в творениях отцов Церкви, но вера в него испокон веков существовала во всем христианском мире. О нем говорится в народных сказаниях, о нем поют народные стихи — о Исааке, или Агасфере, как иначе его называют.
Люди долго верили, что вечный жид действительно существует и ходит по свету, напрасно ища покоя и смерти. В 1602 году была даже напечатана на немецком языке книжка, в которой епископ Шлезвигский Пауль фон Эйцен рассказывает, что он встретил Агасфера в Гамбурге в 1542 году. Он говорил, что, приехав из Вютемберга, где он учился, в Гамбург к своим родителям, он в первое же воскресенье увидел в церкви во время проповеди старика высокого роста с длинными волосами и босыми ногами.
Старик стоял перед проповедником и с большим вниманием слушал его проповедь. И каждый раз, как проповедник произносил слово «Иисус», старик кланялся с великим смирением, колотил себя в грудь и тяжело вздыхал. На нем, несмотря на суровую зиму, не было ничего, кроме отрепанных внизу штанов и длинного одеяния, опоясанного кушаком. На вид ему, казалось, было лет пятьдесят. Многие из бывших тут людей вспоминали, что видели его в Англии, Франции, Италии, Венгрии, Пруссии, Испании, Польше, Швейцарии, Дании и других странах.
Павел Эйцен спросил его, кто он и с каких пор живет, странствуя по земле. Он сказал, что он Исаак Лакадем, и рассказывал много подробностей о страданиях Господа. Держал он себя спокойно, отвечал только на вопросы. Он постоянно торопился и не оставался подолгу на одном месте. В каждой стране, где пребывал он, он говорил на местном языке, и люди приходили, чтобы посмотреть на этого чудного странника…
Притча о вечном жиде, о его вечной ноше и вечной неприкаянности — это рассказ о нескончаемых угрызениях совести всего человечества, о его неизбывной вине перед Распятым Спасителем. Это наш вечный грех и наш вечный стыд вплоть до Последнего Страшного и нелицеприятного Суда Господа Вседержителя, Который на Небесах…
Страстная пятница
Старинное предание Черского
В тот страшный, скорбный час, когда Христос испустил на Кресте Свой последний вздох, одно потрясающее несмолкаемое рыдание пронеслось по всей земле c одного конца мира до другого. Мрачные кровавые облака закрыли солнце, огненные полосы молнии прорезали небосклон, рассыпались скалы, задрожали горы. Подавленные ужасом люди, животные, птицы бежали в пещеры. Ни одна стрекоза, ни один кузнечик не подавали своих беззаботных голосков, ни одна муха не пролетала с жужжанием. Гробовое молчание распростерлось над всей природой.
И только деревья, кустарники и цветы, как говорится в одной старинной легенде, тихо перешептывались между собой.
Дамасская сосна говорила:
— Он мертв, и в знак неутешной скорби, в знак глубокого траура моя одежда с сегодняшнего дня останется навсегда темною и я буду выбирать для своего жилища уединенные места.
Сорептская лоза шептала:
— Он мертв, и в знак печали потемнеет мой виноград, и сок, который виноградарь выжмет из ягод моих, обратится в слезы.
Вавилонская ива, прислушиваясь к дыханию ветра, разносившегося по земле, горько вздыхала:
— Он мертв, и в знак моей горести ветки мои с этих пор вечно будут клониться долу и ронять на заре слезы в светлые воды Евфрата.
Кармильский кипарис стонал:
— Он мертв, и в знак неутешной скорби моей я буду укрывать под своей сенью только одни могилы, и отныне пусть ни одна голубка, ни малиновка не вьют своих гнезд в моих ветках.
Цветущий тис, весь потемневший, также чуть слышно шептал:
— Он мертв, и в знак моей безысходной тоски я стану отныне расти только на кладбищах, и ни одна пчела, под страхом смерти, не посмеет пить сок из моих отравленных цветов, ни одна птица не будет щебетать в моих ветках, и мой смертоносный дух вольет зловещий лихорадочный холод в тело неосторожных существ, которые бы вздумали укрываться под моим мрачным шатром.
Сузский ирис сказал:
— Он мертв, и отныне, покрыв темно-фиолетовым крепом мою золотую чашечку, я стану носить вечный траур.
Денная красавица вещала:
— Он мертв, и с сегодняшнего дня каждый вечер я буду плотно свертывать свой благоухающий венчик и распускать его только лишь утром, весь полный слез, пролитых ночью.
Так изливали свою скорбь растения.
Розы разроняли свои душистые, нежные лепестки; глицинии сбросили с головок своих блестящие тиары; боярышник усеял землю своими бело-розовыми цветами; стройный платан скинул с себя кору, и, начиная с кедра ливана до иссопа, ютящегося в долинах, поднялись стенания, жалобы и вопли, достигшие небес.
И лишь гордый тополь оставался недвижим и совершенно бесстрастен.
— Что мне за дело, — говорил он, — до этой общей скорби? Он умер за грешников, а я неповинен ни в чем и потому остаюсь спокойным.
В эту самую минуту над гордой вершиной дерева пролетал ангел, бережно несший на небо золотую чашу, полную Божественной Крови, собранной у подножия искупительного Креста. Небесный посланник услышал бессердечные слова тополя и, слегка наклонив чашу, брызнул на корень гордеца несколько капель своей ноши, драгоценной Крови, говоря:
— Ты, чья листва посмела не затрепетать посреди всеобщей скорби, охватившей всю природу! С этого страшного, навеки памятного дня в жаркие летние дни, когда нежный, едва заметный ветерок только ласкает деревья, не трогая ни одного листка, — ты будешь вечно дрожать с вершины до корня и называться поэтому «осиной», иначе — дрожащей. Дрожи же вечно, гордец!
В тот же час бук, растущий на вершинах Кавказа, почувствовал вдруг как бы дуновение смертного холода, заставившего затрепетать все его ветви; это ветер донес до него отголосок того страшного последнего вздоха, который несся из измученной груди Богочеловека с Голгофы на небо. Ужас сковал дерево и оледенил живительный сок его: листья его потемнели, ветки, вытянувшись, плотно прижались друг к другу.
Он, в свою очередь, прошептал горестно:
— Спаситель наш мертв, и в знак скорби я буду расти на каменистых и невозделанных холмах, а ветки мои, перенесенные в другие места, будут приниматься только на кладбищах и окаймлять своею тенью грустные жилища последнего, вечного упокоения.
Так повествует о событиях Страстной Пятницы одно из старинных преданий, но рядом с ним существует еще другое сказание, в котором говорится, что, кроме растений, и птицы не оставались безмолвными свидетелями этого страшного дня, и проявляли, каждая по-своему, свое участие к страданиям Спасителя.
Так, прежде всех упоминается о красношейке, которая, прилетев на Голгофу и увидев распятого Спасителя, вспорхнула на вершину Креста и начала старательно выдергивать своим маленьким клювом один за другим шипы из тернового венца, который колол Божественное Тело Христа.
Несколько капель Крови упало на шею и грудь птички и окрасило ее навсегда в красный цвет. С тех пор она и носит название красношейки.
Рассказывают, что и голубка старалась облегчить страдания Распятого тем, что, сбирая по капле росу с листьев масличного дерева, она смачивала ею пересохшие уста Божественного Страдальца.
И неустанный лесной плотник, вечно стучащий дятел, также внес свою долю труда в дело любви, одушевляющее его братьев. В минуту, когда какое-то насекомое хотело напиться Божественной Крови, вдруг зазвенел его голос: «Эр, эр!». Этим он хотел сказать:
— Это Он — Сын Божий, это Его Святая Кровь проливается здесь!
А когда крик не помог, он задавил дерзкое насекомое своим длинным клювом, и с тех пор, как говорит предание, питает он непримиримую вражду к насекомым, которых он неустанно преследует, крича: «Эр, эр!».
Говорится и о клесте, что он старался повыдергать гвозди из Креста, на котором висел Христос. И так как при этой работе он употреблял страшное усилие, то клюв его свернулся в сторону в виде креста и так и остался навсегда, а тело этой птички сделалось нетленным — оно не гниет при кончине, а совершенно высыхает, как мумия.
Но особенно деятельное участие в любвеобильной работе птичьего царства в этот страшный день страданий и смерти Спасителя принимали королек и крапивник. Эти маленькие птички со своими многочисленными товарищами стремительно налетели на толпу римских солдат, рвавших с терновника ветки для приготовляемого тернового венца Спасителя. Оглашая воздух громкими криками: «Цр, Цр!» — все эти милые пичужки стали клевать руки служителей, стараясь вырвать из них новые ветки. В награду за верность и сострадание, выказанное ими, Господь дал им Свое благословение, которое наполнило восторгом их сердца. Потому-то и пение их всегда такое веселое, торжествующее, полное прелестных ликующих, радостных трелей и переливов.
Но о кукушке говорят совсем другое. Говорят, она летела за Иудой Искариотским и, глядя на кошелек, в котором звенели тридцать сребреников, ликовала вместе с предателем, восклицая: «Кук-Кук!».
Кроме того, когда Христос совершал Свое последнее земное путешествие, идя на Голгофу, она летела над Его головой и присоединяла свой голос к насмешкам и издевательствам окружавшей Его толпы.
С тех пор птица эта получила название кукушки.
Она, эта легкомысленная кукушка, прячется от людей, залетая в самую глубь леса, боясь света Божьего мира, где все ей напоминает об ее неизгладимой вине.
Вот что говорят старинные предания о дне Страстной Пятницы — этом великом и скорбном дне!
Дочь Пилата
Восточное сказание
Во дни оны правитель Дамаска Клавдиус Рикс был очень опечален. Прекрасная супруга его Поппея, дочь Понтийского Пилата, повелевавшего в Иерусалиме от имени Цезаря, была охвачена ужасной болезнью — расслаблением.
Ее красивые члены окоченели, тело ее потеряло свою прежнюю гибкость и подвижность, и только на носилках, обвитых багряным бархатом, под атласным покрывалом, несомая рабами, она могла за городскою стеною поглядеть на роскошные сады, окружавшие город прекрасным венком.
Прошло два года с тех пор, как на Поппею нашел этот недуг, а надежды на исцеление никакой не было. Напрасно муж ее призывал из дальних стран и вещих врачей, и славных чародеев, и ученых осмотреть его жену и помочь ей силою их искусства.
Их знания, усилия и опытность оставались бессильными перед упрямством болезни, приковавшей прекрасную молодую римлянку к месту.
Наконец к больной Поппее явился странник, прибывший из Иерусалима, и сообщил ей, что на земле Иудейской появился кудесник, именуемый Иисусом Назарянином. Он совершал чудеса над больными, расслабленных воздвигал на ноги и возвращал им прежнее здоровье и силу. Слепым давал зрение и даже мертвых воскрешал. И возрадовалась при этой вести Поппея, и воскликнула:
— Я поеду, поеду к Этому Кудеснику! Я Ему щедро заплачу своими драгоценными камнями, я отдам Ему мое дорогое ожерелье, сделанное из зеленых алмазов, стоящее пять городов иудейских, лишь бы Он меня вылечил!
Но странник отвечал:
— Прелестная Поппея! Ничто из всего этого тебе не поможет перед Назарянином. Он Сам ходит в лохмотьях и босиком, живет с нищими, ненавидит все мирские суеты, и, если бы ты Ему принесла столько сокровищ, ты все-таки не получила бы Его благословения!
— Что же мне делать, чтобы я могла получить исцеление из Его рук? — вскрикнула беспокойно больная.
— Он требует от тех, кто прибегает к Его помощи, только веровать в Него!
Удивили Поппею эти слова странника, но, подумав несколько и коснувшись чела своей белоснежной рукой, блиставшей блеском драгоценных украшений, она опять спросила:
— Веровать в Него? А как веровать?
— Верить, что Он Сын Божий!
— Сын Божий! Вот это мне не понятно! — и долго она расспрашивала странника.
Много дней и ночей потом провела Поппея в размышлении. И, глядя на свои в расцвете молодости окоченевшие члены, она проливала горькие слезы и плакала, как дитя. Но в душе ее все яснее и яснее возрастал образ таинственного Кудесника, называвшегося Сыном Божиим, Который мог сотворять чудеса, переходящие границы человеческого ума и искусства; и вместе с тем ее желание приобрести вновь прежнее здоровье и молодую ловкость увеличивало в сердце нетерпеливое желание видеть Этого чудного Человека. Она была готова даже поверить в Его Божественность. Если Он стоит духом и силою столь далеко от людей, Он должен быть близко к божествам. Только боги столь всемогущи, что одним взглядом, одним словом могут исцелять безнадежных больных.
— Но наши боги не хотели мне помочь. Попробую силу Бога, Чьим Сыном объявляет Себя Этот Назарянин.
И вера росла в ее душе.
Поппея решила ехать в Иерусалим, где, как ей сказали, нетрудно было встретиться с Иисусом. Но, зная, что муж ее не согласится, чтобы гордая и благородная римлянка унизилась перед жалким еврейским Кудесником, она объявила Клавдию, что у нее сильное желание навестить отца.
Эта прихоть, исполнение которой было сопряжено со столь многими для нее трудами и утомлениями, удивила Клавдия. Но горячие мольбы были столь неотступны, что он в конце концов не смог отказать своей любимой и страждущей жене, положил ее в богатую колесницу с пуховыми шелковыми подушками и выслал ее со своими вернейшими рабами в иудейскую землю.
И вот после того, как она пропутешествовала три дня по дороге, шедшей изгибами вдоль восточных подножий ливанских гор, покрытых великолепными кедрами, Поппея прибыла в иудейскую землю и пополудни третьего дня, проехав Иосафатову долину, приблизилась с колесницей к Иерусалиму. Это случилось как раз накануне еврейской Пасхи.
И когда она начала приближаться к северным воротам города, то увидела вышедшее из него множество народа, среди которого блистали шлемы римских всадников. Это шествие двигалось по направлению к западу — к ближнему лысому холму.
Поппея поглядела на шествие и, не зная его значения, продолжала свой путь. У самых ворот она встретила римского центуриона, ехавшего в сопровождении нескольких воинов по стопам толпы. Она повелела остановить его и спросила, куда идет народ.
— Будет распят на Кресте осужденный на смерть развратитель народа Иисус Назарянин! — отвечал центурион, поклонившись светлой дочери Пилата.
— Нельзя, нельзя! — закричала испуганная Поппея.
— Приостановите казнь! Я требую этого!
Но офицер объявил, что только Пилат может остановить, отменить свое решение, но что до получения приказа об отмене казни пройдет время и преступник будет уже распят. Он очень удивился участию Поппеи к жалкому обманщику и смутителю, обреченному на смерть со стороны самого еврейского народа.
И Поппея, смущенная и отчаянная, обратила взгляд на Голгофу, где уже остановилась толпа и где готовилось что-то ужасное.
— Несите меня скорее туда! Он не должен умереть!
— крикнула она своим людям. И они, переложив ее в носилки, так как к вершине Голгофы колеснице нельзя было приблизиться, понесли прекрасную Поппею к каменистому холму.
Когда они взошли на холм, Поппея в ужасе увидела выпрямленные там три креста, и на каждом из них был прикованный человек.
Приговор был исполнен!
По приказанию Поппеи рабы раздвинули толпу, окружавшую с криком и грубым ропотом кресты, и положили носилки близ них.
Под средним Крестом видно было упавшую почти в обмороке иудейскую женщину: две же другие с лицами, облитыми слезами, ломавшие руки, плача громким голосом, глядели на Мученика, из ран Которого по рукам и ногам текли алые кровавые струи.
Поппея, безмолвная и неподвижная, приковала свои печальные взгляды к страдальческому Лику Христа, на благих чертах Которого видны были ужасные муки распятия. И с ланитами, облитыми слезами, она вместе с другими женщинами смотрела на Распятого.
Бедная Поппея силилась по крайней мере только раз встретить Его взгляд, из которого вопреки неописуемым телесным страданиям светилась через покров скорби заря благословения и всепрощения! Но глаза Христа, устремленные только на плачущую Мать, лежавшую на земле, ни разу не обратились к Поппее.
— Спаси меня, Господи! — шептала она и не отводила глаз с лица Христа.
Внезапно тихий взгляд Христа упал на римлянку. Глаза римлянки, блиставшие слезами, и глаза Иисуса встретились, и несколько мгновений Он смотрел на нее с таким благим, скорбным, глубоким выражением! И тотчас от силы этого взгляда, пронзившего как небесной искрой все ее существо, она почувствовала глубокое и общее сотрясение, и что-то новое, сладкое, бодрое наполнило и душу, и тело…
Пилат ожидал на верхней ступени мраморной лестницы палаты свою расслабленную дочь, предуведомленный о ее прибытии, исполненный тревогой и удивлением, ибо цель ее посещения ему была неизвестна. И когда он увидел, что она едет на колеснице с лицом печальным, то простер объятия, ожидая, дабы его рабы принесли ее наверх к нему, чтобы нежно обнять ее. Но Пилат увидел в изумлении, как Поппея легко выскочила из колесницы, отстранив повелительным знаком его слуг, предлагавших ей златотканые носилки, и сама начала быстро подниматься по мраморной лестнице с ловкостью ливанской газели.
Бросаясь на шею изумленного отца, рыдающая, она возопила:
— Отец! Вы сегодня убили Бога!
И все смотрели на это чудо, не веря в изумлении своим собственным глазам!
Кончина праведника
Письмо Прокулы-Клавдии — жены Понтия Пилата — своей подруге Фульвии
Ты просила, мой друг, описать тебе события, совершившиеся со дня нашей разлуки. Молва о некоторых из них долетела до тебя, и таинственность, в которую она облечена, поселяет в тебе беспокойство о моей участи.
Повинуясь твоему нежному призыву, я стараюсь собрать в моей памяти разбросанные обломки моей жизни. Если в этом описании ты встретишь обстоятельства, которые поразят твой разум, то вспомни, что верховные и творящие силы окружили непроницаемыми тенями наше рождение, существование и смерть и что невозможно слабым и смертным измерить тайны судеб их.
Я не буду напоминать тебе о первых днях моей жизни, пролетевших в Нарбоне, под крылом родительским и охранением твоей дружбы. Ты знаешь, что с наступлением моей шестнадцатой весны я была соединена узами брака с римлянином Понтием, потомком древнего и знаменитого дома, занимавшего тогда в Вирбении важное и великое место. Едва мы вышли из храма, как мне должно было ехать с Понтием в провинцию, ему вверенную. Нерадостно, но и без отвращения последовала я за своим супругом, который по своим летам мог быть отцом моим. Я тосковала о вас, тихом отеческом доме; счастливое небо Нарбоны я приветствовала глазами, полными слез.
Первые годы моего замужества прошли спокойно. Небо даровало мне сына; когда исполнилось ему пять лет, Понтий был назначен проконсулом Иудеи.
В Иерусалиме меня окружили почестями, но я жила в полном уединении. Я проводила время с моим сыном посреди тихих садов, вышивая покровы для Алтарей или читая стихи Вергилия, столь усладительные для слуха и сердца.
Одно лишь из значительных семейств Иерусалима оказывало мне некоторую дружбу. Это было семейство начальника Синагоги. Я находила большое удовлетворение в посещении его супруги Соломии — образца добродетели и кротости, в свиданиях с ее двадцатилетней дочерью Семидой, любезною и прекрасною. Иногда они говорили мне о Боге отцов своих, читали отрывки из священных книг. С некоторого времени Семида была нездорова.
В одно утро при моем пробуждении мне сказали, что Семида скончалась, без предсмертного томления, в объятиях матери. Сраженная грустью при этой ужасной вести, обняв моего сына, я поспешила к ним, чтобы поплакать вместе с несчастной Соломией. Дойдя до улицы, в которой они жили, люди мои с трудом проложили мне дорогу, ибо певчие и толпы народа теснились вокруг дома.
Остановясь у подъезда, я заметила, что толпы народа расступились перед группой идущих, на которую глядели с удивлением и почтительным любопытством. Первым из этой группы я узнала отца Семиды, но вместо горести, которую я ждала прочесть на его почтенном лице, оно выражало глубокое убеждение, странную для меня и совсем непонятную надежду. Подле шли три человека, бедно одетые, простой, грубой наружности. За ними, завернувшись в мантию, шел Муж еще во цвете лет.
Я подняла на Него глаза и вдруг опустила их, как бы перед ярким сиянием солнца. Мне казалось, что тело Его озарено, что венцеобразные лучи окружают Его локоны, ниспадающие по плечам, как у жителей Назарета.
Невозможно выразить тебе, что я почувствовала при взгляде на Него. Это было могущественнейшее влечение, ибо неизъяснимая сладость разливалась во всех чертах Его, и тайный ужас, потому что глаза Его издавали блеск, который обращал меня как бы в прах. Я последовала за Ним, сама не зная, куда иду.
Дверь отворилась.
Я увидела Семиду: она лежала на одре, окруженная светильниками и ароматами. Она была еще прекраснее, чем при жизни, прекрасна небесным спокойствием. Чело ее было бледнее лилий, рассыпанных у ног ее, и синеватый перст смерти оставил следы на ее впалых ланитах и поблекших уже устах.
Соломия сидела подле нее безмолвная, почти лишенная чувств. Она, казалось, даже не видела нас. Иаир, отец молодой девицы, бросился к ногам Незнакомца, остановившегося у постели, и, указывая Ему красноречивым жестом на усопшую, вскричал:
— Господи! Дочь моя в руках смерти! Но, если Ты пожелаешь, она оживет!
Я затрепетала при этих словах. Сердце мое как бы приковалось к каждому движению Незнакомца. Он взял руку Семиды, устремил на нее Свой могучий взор и произнес:
— Встань, дитя Мое!
Фульвия! Она повиновалась! Семида приподнялась на своем ложе, поддерживаемая невидимой рукой, глаза ее открылись, нежный цвет жизни расцвел на ее устах, она протянула руки и вскричала:
— Маменька!
Этот крик воскресил Соломию. Мать и дочь судорожно прижались друг к другу, а Иаир, простершись на земле и осыпая поцелуями края одежды Того, Кого называл Учителем, вопрошал:
— Что должно делать, чтобы служить Тебе?
И Незнакомец отвечал:
— Чтобы получить жизнь вечную, надо изучать и исполнять два правила Закона: любить Бога и человеков!
Сказав это, Он скрылся от нас, как эфирная и светлая тень. Я была на коленях, сама того не зная, и, встав, как бы под влиянием сна, я возвратилась домой, оставив блаженное семейство на вершине наслаждений, для изображения коих не созданы ни кисти, ни перья.
За вечерним столом я рассказала Понтию все, чему была свидетельницей. Он поник головой и сказал:
— Ты видела Иисуса Назаретского! Это предмет ненависти фарисеев, саддукеев, партии Ирода и гордых левитов храма. Каждый день увеличивается эта ненависть, и мщение их висит над головой Его, а между тем речи Назарянина есть речи мудреца и чудеса Истинного Бога.
— За что же они ненавидят Его?
— За то, что Он обличает их пороки. Я слышал Его один день. «Убеленные гробы, порождения ехидны! — говорил Он фарисеям. — Вы взваливаете на рамена братий ваших ноши, до которых бы не хотели коснуться концом пальца. Вы платите подати за травы, мяту и тмин, но мало заботитесь об уплате данного Закона веры, правосудия и милосердия». Смысл этих слов глубокий и истинный, слишком глубокий и истинный. Они раздражают этих надменных людей, и горизонт очень мрачен для Назарянина.
— Но ты будешь защищать Его? — вскричала я с жаром. — Ты ведь имеешь здесь полную власть!
— Моя власть не что иное, как призрак перед этим мятежным и коварным народом. Между тем я бы душевно страдал, если бы должен был пролить Кровь Этого Мудреца! — с этими словами Понтий встал и вышел, погруженный в великую думу. Я же осталась одна в мрачной и невыразимой грусти.
День Пасхи приближался. На этот праздник, столь важный у фарисеев и всех евреев, стекалось множество народа со всех концов Иудеи для принесения в храме торжественной жертвы. В четверг, предшествующий этому празднику, Понтий сказал мне с горечью:
— Будущность Иисуса Назарянина очень неутешительна! Голова Его оценена, и сегодня же вечером Он будет предан в руки архиереев.
Я задрожала при этих словах и повторила:
— Но ты защитишь Его?
— Могу ли я это сделать! — сказал Понтий с мрачным видом. — Он будет преследуем, изменнически предан и осужден на смерть жестокую!
Настала ночь, но едва я склонила голову на подушку, как таинственные грезы овладели моим воображением. Я видела Иисуса, я видела Его Таким, каким Соломия описывала своего Бога.
Лик Его блестел, как солнце.
Он парил на крыльях Херувимов — пламенных исполнителей Его повелений. Остановясь в облаках, Он казался готовым судить поколения народов, собранные у Его подножия. Мановением Своей десницы Он отделял добрых от злых. Первые возносили к Нему сияющие вечной юностью и Божественной красотою веры взоры, а вторые низвергались в бездну огня, с коим ничто не сравнимо, а когда Судия указывал им на раны, покрывавшие Его тело, говорил им громовым голосом:
— Воздайте Кровь, Которую Я пролил за вас!
Тогда эти несчастные просили у гор покрыть их и землю поглотить их — но тщетно. Они чувствовали себя бессмертными для мук, бессмертными для отчаяния!
О, какой сон, или, вернее сказать, Откровение!
Лишь только заря зарумянила вершины храмов, я встала с сердцем, еще сжатым от ужаса. Я села у окна, чтобы подышать свежим воздухом. Мало-помалу мне послышалось, что смертоносный рев выходит из центра города. Крики проклятия, более ужасные, нежели гул взволнованного океана, доходили до меня. Я прислушивалась, сердце страшно билось, чело обливалось ледяным потом. Вдруг я заметила, что этот гул приближается более и более, что под гнетом бесчисленной толпы стонет мраморная лестница, ведущая в претор.
Терзаемая неизвестностью, я взяла на руки сына, который играл подле меня, укутала его в складках своего покрывала и побежала к моему мужу. Дойдя до внутренней двери судилища и слыша за ней голоса, я не смела войти, но приподняла пурпурную занавесь.
Какое зрелище, Фульвия!
Понтий сидел на своем троне из слоновой кости во всем великолепии, коим Рим окружает своих представителей, но под бесстрастным выражением, которым он старался облечь свое лицо, я угадала страшное волнение: перед ним со связанными руками, в изодранной насилием одежде, с окровавленным лицом стоял Иисус Назарянин, спокойный и неподвижный. В Его чертах не было ни гордости, ни страха — Он был тих, как невинность, покорен, как Агнец. Но Его кротость наполняла меня ужасом, потому что мне слышались слова моего Откровения:
— Воздайте Кровь, Которую Я пролил за вас!
Вокруг Него бесновалась презренная толпа, привлекшая Его на судилище. К ней присоединились несколько полицейских служителей, часть духовенства и фарисеев с дерзкими взглядами. Их легко было узнать по пергаментным табличкам, которые они носили на лбу. Все эти страшные лица дышали ненавистью; казалось, что адское пламя отсвечивается в этих глазах и что демоны смешивают свои голоса с дикими криками неистового бешенства.
Наконец по знаку Понтия водворилось молчание.
— Чего вы от меня хотите? — сказал Понтий.
— От лица народа мы требуем смерти Этого Человека, Иисуса Назаретского! — отвечал один из священников.
— В чем же состоит Его преступление?
При этом снова раздались крики:
— Он предсказывал разрушение храма, Он называет Себя Царем Иудейским, Христом — Сыном Божиим! Он оскорбляет святителей, сынов Аарона!
— Да будет распят! — говорил народ, рассвирепевший, яростный.
Эти вопли до сих пор раздаются в ушах моих, и Образ Непорочной Жертвы с той минуты беспрерывно представляется глазам моим. Понтий возвысил голос и, обратясь к Иисусу, ласково сказал Ему:
— Итак, Ты Царь Иудейский!
— Ты говоришь! — отвечал Он.
— Ты ли Христос, Сын Божий?
Иисус не отвечал ни слова. Вопли возобновились пронзительнее прежнего, как рыкание голодных тигров.
— Отдай Его нам! Распни Его!
Я не могла больше слышать этого и послала невольника к своему мужу, прося у него минуты свидания. Понтий немедленно оставил судилище и пришел ко мне. Я бросилась перед ним на колени, говоря:
— Ради всего, что тебе дорого, ради этого дитяти, священного залога нашего соединения, не будь участником в смерти Этого Праведника, подобного Богам бессмертным! Я видела Его в эту ночь в чудном сне, облеченного Божественным величием. Он судил людей, трепетавших перед Ним, и между тенями несчастных, низвергнутых в бездну пламени, я вижу лица тех, которые теперь требуют Его смерти! Берегись поднять на Него святотатственные руки. О, верь мне! Одна капля Этой Крови запечатлеет на век твое осуждение!
— Все, что происходит, ужасает меня самого! — отвечал Понтий. — Но что я могу сделать? Гибель угрожает нам! Этот суд подобен храму Евмениды, где от него не ждут правосудия, но мщения. Но успокойся, Клавдия! Иди в сад. Занимайся сыном твоим, твои глаза не созданы для этих кровавых сцен!
С этими словами он вышел. Оставшись одна, я предалась отчаянной горести. Иисус был еще перед судом — предмет насмешек, оскорблений черни и воинов. Порывы их ярости равнялись Его неодолимому терпению.
Понтий в раздумьи возвратился на свое седалище правосудия. При его появлении крики «Смерть! Смерть!» раздались оглушительнее прежнего. По освященному временем обычаю, правитель на праздник Пасхи освобождал всегда одного из осужденных. Видя, может быть, в этом обстоятельстве возможность спасти Иисуса, Понтий сказал громким голосом:
— Которого отпустить вам на праздник Пасхи: Варавву или Иисуса, называемого Христом?
— Отпусти Варавву!
Варавва был грабитель и убийца, известный по всей окрестности своей жестокостью.
Понтий снова спросил:
— Что же мне делать с Иисусом Назаретским?
— Да будет распят!
— Но какое же зло Он сделал?
Увлеченная яростью, толпа повторяла:
— Да будет распят!
Понтий опустил голову в отчаянии. Беспрерывная дерзость черни, казалось, угрожала его власти, которою он так дорожил.
Волнение увеличивалось ежеминутно. Нигде не было спокойствия, оно обитало только на величественном челе Жертвы. Оскорбления, пытки, приближение позорной мучительной смерти — ничто не могло отуманить этого небесного взгляда. Эти очи, возвратившие жизнь дочери Иаира, обращались на Своих палачей с неоцененным выражением мира и любви!
Он страдал, без сомнения, но страдал с радостью, и душа Его, казалось, улетала к невидимым Престолам, как чистое пламя святого всесожжения.
Претория была наводнена народом. Все новые и новые голоса присоединялись к этому адскому хору. Мой муж, утомленный, испуганный, наконец уступил. О! Вечно пагубный час! Понтий встал, сомнение и мертвенный ужас изобразились на его лице. Символическим жестом он омочил руку в урне, полной воды, и воскликнул:
— Я невиновен в Крови Этого Праведника!
— Да будет она на нас и на детях наших! — завопил безумный народ, и, столпясь вокруг Иисуса, палачи повлекли Его в бешенстве.
Я следовала глазами за Жертвой, уже ведомой на заклание. Вдруг туман омрачил мое зрение, колена подогнулись и судороги пошли по моему сердцу. Мне казалось, что жизнь коснулась грани. Я опомнилась на руках моих женщин, подле окна, выходящего на двор судилища. Я оглянулась вокруг и увидела следы свежей пролитой Крови.
— Здесь бичевали Назарянина! — сказала одна невольница.
— А там венчали Его тернием, — сказала другая. — Солдаты насмехались над Ним, называя Его Царем Иудейским, и били Его по ланитам.
— Теперь Он испускает дух на Кресте, — сказала третья.
Каждое из этих слов подобно кинжалу пронизывало мое сердце. Подробности ужасного злодейства удваивали мою горесть. По терзанию моей груди я чувствовала, что было нечто сверхъестественное в событиях этого дня.
Небо, казалось, гармонировало с трауром моей души. Огромные облака страшными формами висели над землею, и из их сернистых вод вылетали бледные молнии. Город, столь шумный в продолжение дня, был угрюм и безмолвен, как будто смерть распространила над ним свои угрюмые крылья.
Невыразимый ужас как будто приковал меня к месту. К девятому часу дня мрак сгустил воздух. Ужасное потрясение всколыхнуло землю — все трепетало. Можно было подумать, что весь мир разрушится и стихии превратятся в прежний хаос.
Я припала к земле. В это время одна из моих женщин, иудейка по рождению, вошла в комнату бледная, отчаянная, с блуждающими глазами. Она вскричала:
— Настал последний день! Бог возвещает это чудесами. Завеса храма, скрывавшего святое святых, распалась надвое. Говорят, что гробы открылись, и много видели восставших праведников, погибших в Иерусалиме от Захария убиенного. Мертвые возвещают нам гнев Божий. Кара Всевышнего разливается с быстротою пламени.
При этих словах мне показалось, что я теряю сознание. Я встала, едва передвигая ноги, и вышла на лестницу; там я встретила сотника, участвовавшего в казни Иисуса. Он был расстроен и изнемогал от мук раскаяния. Я хотела расспросить его, но он прошел мимо меня, повторяя в забытьи:
— Тот, Кого мы убили, был истинный Сын Божий!
Я вошла в большую залу. Там сидел Понтий, закрыв лицо руками. Он поднял голову при моем появлении и сказал в отчаянии:
— Ах! Почему я не послушал твоих слов, Клавдия! Почему я не защищал Этого Мудреца ценою жизни моей! Мое гнусное сердце не вкусит более покоя!
Я не смела отвечать. У меня не было утешений для этого невознаградимого несчастия, навеки заклеймившего нас печатью гибели! Молчание прерывалось только раскатами грома, страшно отдававшегося под сводами дворца. Несмотря на эту бурю, какой-то старик явился у входа в наше жилище. Его ввели к нам. Он бросился со слезами к ногам моего мужа:
— Имя мое Иосиф Аримафейский. Я пришел умолять тебя дозволить мне снять Тело Иисуса со Креста и погрести Его в саду, мне принадлежащем.
— Возьми! — отвечал Понтий, не поднимая глаз.
Старец вышел. Я видела, что к нему присоединилась группа женщин в длинных покрывалах, ожидавших его под портиком. Так кончился этот роковой день. Иисус был погребен в могиле, вырытой в скале. У входа в пещеру была поставлена стража. Но в третий день Он, сияющий славою и победою, явился над этим гробом. Он воскрес, исполнил Свое предречение и, торжествуя над смертью, предстал ученикам, Своим друзьям и, наконец, многочисленному собранию.
С того времени ни в чем нет успеха моему мужу. Жизнь его есть отрава и мучение. Мое уединение увеличилось. Соломия и Семида смотрели со страхом на жену преследователя и палача возлюбленного их Господа, ибо они соделались учениками Того, Кто возвратил их друг другу. Я видела, несмотря на их кротость и доброту, невольный трепет на их лицах при моем приближении и скоро перестала посещать их. Я углубилась в мое одиночество.
Через некоторое время Понтий был лишен своей власти. Мы возвратились в Европу, и, блуждая из города в город, он влачил за собою по всей империи ношу скорби своей возмущенной и истомленной отчаянием души.
Я последовала за ним. Жена Каина, как говорят евреи, последовала за своим изгнанником-мужем. Но какова моя жизнь с ним? Дружба, доверенность супружеская не существует. Он видит во мне свидетеля — живое воспоминание своего преступления. Я видела воздвигающийся между нами образ окровавленного Креста, на котором он, судья беззаконный, пригвоздил Невинного и Праведного. Я не смею поднять на него глаз; звук его голоса, этого голоса, произнесшего приговор, леденит мое сердце. После стола он совершает омовение. Но ведь воды всего мира не смоют с его рук Кровь Страдальца. Мне кажется, что он погружает руки свои не в чистую воду, но в дымящуюся кровь, следы которой не могут изгладиться.
Однажды я хотела говорить ему о раскаянии и милосердии Всемогущего, но я никогда не забуду ни его зверского взгляда, ни отчаянных слов, вырвавшихся из его уст.
Скоро сын мой умер в моих объятиях, и я не оплакиваю его. Счастливец, что умер блаженный, он избавился от проклятия, преследовавшего нас, он свергнул с себя страшную ношу имени отца своего!
Несчастия везде бегут за нами, ибо повсюду уже есть христиане: здесь, даже в этой дикой стране, где мы просили убежища у туманов морских, безотрадных скал, и здесь я слышу, с каким отвращением произносится имя моего мужа. Я узнала, что апостолы, прощаясь друг с другом перед отправлением на проповедь Евангелия, начертали в изъяснение своей веры эти мстительные для нас слова: «Он страдал при Понтии Пилате». Ведь это страшная анафема, которую будут повторять века — «Распят при Понтии Пилате».
Прощай, Фульвия, пожалей обо мне, да возможет правосудный Бог даровать тебе счастье, которого некогда мы желали друг другу. Прости.
Прокула-Клавдия
Примечание: Пилат долго бродил по свету, пока не нашел себе успокоение в водах реки Тибр. Но и река не приняла тело предателя, и он волнами был выброшен на берег, но нашлись люди, которые его похоронили в глубине каких-то скал.
Письма Адины
Из книги доктора прав и богословия архиепископа Д.Ж.Г. Ингрема «Царь из дома Давидова»
Адина находилась в Иерусалиме у дяди своего Амоса (который в то время был иудейским священником) в тот самый момент, когда явился проповедовать Христа Иоанн Креститель.
И так как это событие — необыкновенное, то Адина осталась в Иерусалиме со дня пришествия Крестителя и до явления Христа Спасителя и своими глазами видела Его неисчислимые чудеса, страдания, смерть, и Воскресение, и Вознесение Господа на небо. И за это время Адина написала родному отцу 39 писем и описала в них то, что своими глазами видела и слышала.
Письмо 38–е:
Пророчество о Мессии
«…Дорогой батюшка! Ты проверь по моим письмам Священное Писание и поверь, что это Он — Истинный Мессия.
Если нет, то Кто же Он?! Кто Он, Чье Рождество приветствовали ангелы и над Чьей колыбелью спустилась дивная звезда? У Чьих младенческих ног склонились три мудреца, три великие мужа… Представители всех великих семей человечества преклонились и почтили Его как Бога!
Кто Он, при рождении Которого Ирод I-й так устрашился, что приказал убить всех младенцев в Вифлееме, числом 14000, ища погубить Его?!
Кто Он, на Кого указывал Иоанн Креститель, называя Его Агнцем Божиим, Кровь Которого прольется за грехи мира?
Кем может быть Тот, при Чьем крещении разверзлись Небеса, и Дух Божий в виде светящегося голубя сошел над главою крещаемого, и голос Божий громом с безоблачного неба возгремел, возвестив миру: ”Сей есть Сын Мой возлюбленный!”.
Кто же это, дорогой батюшка, повелевающий бурями, словом Своим усмиряющий разъяренные волны?!
Кто же Он, исцеляющий словом или взглядом больных и прокаженных и возвращающий жизнь иссохшим и парализованным членам человека?
Кто же Он, воскресивший дочь Иаира?
Кто же Он, излечивший слугу Центуриона?
Кто же Он, Который воскресил сына вдовы Наинской?!
Кто же Он, изгнавший легион бесов из левита Виоара?
Кто же Он, исцеливший глухонемого племянника сирийского правителя и даровавший ученикам Своим ту же чудодейственную силу, при помощи которой Он напитал однажды 5000 человек пятью хлебами и двумя рыбами?
Кто же Он, Который во время Преображения Своего, чтобы удостоверить учеников Своих в Своем Божестве, вызвал Илию, который был взят несколько сот лет назад? Он беседовал с ними, будучи озарен Божественным Светом Отца Небесного.
Кто же Он, Который воскресил четырехдневного Лазаря из могилы, который уже начал разлагаться, так что люди бежали от его склепа? Кто Он, на моление Которого отвечал голос Неба, и множество народа слышали слова:
«Я прославил Имя Твое, и вновь прославлю Его!»?
Кто был Узник Этот, дорогой батюшка, против Которого на суде не нашлось обвинения и Который без всякой вины был предан в руки врагов Пилатом?
Кто был Он, при распятии Которого небо задернулось черным покрывалом, померкло солнце, нарушились законы движения светил небесных и стрелы молнии низвергались на землю, а земля содрогалась и выкидывала мертвецов из недр своих?
Кто был Воскресший на третий день по погребении, расторгнув каменные затворы гробниц, и перед Кем преклонился сошедший с Неба Архангел?
Кому служили, прославляя Его, небесные силы Херувимов и Серафимов, Который явился потом Марии, Матери Своей, женщинам Галилейским, сестрам Марфе и Марии, и Лазарю, и даже мне?
Скажи, отец мой, кто Этот дивный Человек?
Кто Он, как не Христос?!
Дорогой мой отец, скорее перечитывай все пророчества и сличай с письмами моими, и сам ты увидишь, что Он Истинный Мессия Христос! Пророк Исаия говорит о Христе, что Он будет и Человеком скорбей, что Он будет презираем и отвергнут людьми, предан, как овча на заклание, что будет узником, будет судим и извергнут из мира живых; что в смерти Своей будет причислен к порочным, а в гробе к богачам.
Как удивительно ясны, точны и полны все эти пророчества, я и все мы теперь только увидели!
Как буквально и дивно все исполнилось!
О Воскресении Своем Он Сам предсказывал, да мы тогда еще не понимали слов Его! Когда Он говорил о разрушении храма и воссоздании его через три дня, Он говорил о собственном Теле Своем.
О Воскресении Его предсказывал пророк Давид: “Ты не оставишь души моей во аде, не дашь святому Твоему увидеть тления, посему плоть моя упокоится в уповании!”.
Даже весь суд над Ним у Пилата, Каиафы и Ирода представлен в пророчестве Давида: “Восстанут цари земли, и вельможи соберутся вместе против Господа и против помазанника Его!”.
А Господь сказал: “Ты Сын Мой — в сей день Я породил Тебя!”.
Раскрой священные свертки Писаний, дорогой батюшка, и сравни следующие слова Мессии с теми, что я описывала о распятии Христа в предыдущем письме: “Боже мой, Боже мой, зачем ты оставил меня?”. Эти пророческие слова были вложены в уста Мессии. Ты найдешь эти самые слова в моем письме, где я описывала крестную смерть Иисуса Христа. Он произнес на Кресте эти слова.
Далее Давид говорит: “Все видящие Меня расширяют уста, кивают головами и говорят: «Он полагается на Господа — пусть спасет его!»”.
“Ты ввергнул меня во прах и дал умереть”, — это говорит Давид не от себя, а от лица Мессии.
Все это перенес Мессия, долженствующий быть царем, но долженствующий и подвергнуться страданиям, быть как бы забытым Богом и предоставленным смерти. И мы все отступились от Него, как только Он умер. Мы думали, как и ты, дорогой отец, что Он должен быть у нас царем и владычествовать над всеми людьми на земле, а мы — министрами Его. Но, дорогой батюшка, прочти тот же псалом царя Давида и посмотри, какие слова влагает он в уста будущего Мессии: “Сборище злых окружило Меня, пронзили руки и ноги Мои, и делят ризы Мои, и об одежде Моей метают жребий!”.
Прочти и сличи эти пророчества, относящиеся к Мессии, с подробностями из моих писем, и ты не только убедишься, дорогой батюшка, что Иисус есть именно Мессия, о Котором писали пророки, и ты поймешь, что Его смирение и покорность перед Пилатом и Каиафой, Его крестные страдания, Его смерть, Воскресение и Вознесение Его на Небо — все это доказывает, что Он истинный Мессия, Сын Всевышнего, предсказанный пророками, Помазанник Божий, Царь Израиля”.
Твоя любящая дочь Адина».
Письмо 39-е:
Вознесение Господне
«Дорогой батюшка! От радостного волнения едва удерживаю перо в руке, пальцы дрожат, пишу так плохо, что тебе трудно будет разобрать все слова, но мне хочется поскорее сообщить тебе о дивном событии, ознаменовавшем этот день навеки как славнейший для человечества.
Я уже писала тебе, что Иисус после чуда Воскресения Своего, неопровержимо засвидетельствованного перед множеством людей, жителей и гостей Иерусалима, вновь собрал вокруг Себя изумленных и обожающих Его учеников и с неземною мудростью и силой поучал их, внушая им истины о Своем Царстве и заповедуя возвестить о нем всему миру.
На 40-й день рано утром Он оставил дом Марии и воскрешенного Им Лазаря, где провел всю последнюю ночь в беседе с нами (ибо, счастливые возможностью слышать Его Божественный голос, мы и не вспоминали о сне). Он говорил нам о славе небесной, о чистоте сердца и о жизни вечной, доступной всякому, кто войдет в Царствие Его.
— Господи! — сказала Марфа (вторая сестра воскресшего Лазаря), когда Он уходил. — Куда Ты идешь?
— Иди и увидишь! — ответил Он. — Вы должны знать, куда Я иду, и путь Мой должны знать! Ибо, где Я, там должны быть и Вы, и всякий верующий в Меня!
— Господи! — сказала Мария, преклонив перед Ним колени. — Вернись к полдню и останься с нами до конца дня.
— Мария! — ответил Иисус. — Я иду в Дом Отца Моего. Придет день, когда ты поселишься там в обители нерукотворной. Следуй за Мной и узнаешь путь к ней. Я первый прошел по нему через испытания, страдания, смерть и Воскресение к жизни. Итак, следуйте за Мной и ты, и все, кто любит Меня. Для друзей Моих врата могилы ведут в жизнь вечную!
Говоря так, Он медленно поднимался на холм за городом, недалеко от того места, где был погребен Лазарь. За Ним следовали из города Мария, Марфа, Лазарь, Иоанн, моя сестра — дочь дяди Амоса и я; каждый из нас ожидал чего-то; по словам Его, по чему-то неуловимому в Его движениях нам всем казалось, что что-то новое и великое должно совершиться.
Близ гробницы Лазаря, у подножия холма к нам присоединились и прочие ученики Его, да и посторонних очень большое количество людей. Все шли за Ним в надежде услышать еще что-нибудь важное о вечной жизни!
— Он поднимается на холм для молитвы, — сказал один из учеников.
— Нет! — сказал Петр. — С Воскресения Своего Он уже больше не молится, как прежде. Ему уже не о чем больше молиться для Себя. Он победил уже и грех, и диавола, и смерть, и гроб, и весь мир.
— Судя по выражению величия и силы на Лице Его, — сказал Фома, — Он совершит Величайшее Чудо!
И мы все видели, что, поднимаясь на холм, Он с каждым моментом становился все величественнее, все Божественнее, и Лицо Его светилось, как у Моисея, когда он спускался с Синайской горы.
В благоговейном страхе мы отступили от Него.
Он шел один, поднимаясь на холм, и пустое пространство отделяло Его от нас. Но не ужас таинственного, подавляющего величия овладевал нами при виде лучезарного сияния, исходившего от Него в эту торжественную минуту, а тихий свет истины и святости наполнял сердца наши.
— Вот таким Он был, — сказал Иоанн, когда мы увидели Его преобразившимся на горе Фавор в беседе с Илией и Моисеем.
Но вот Господь взошел на вершину невысокого холма и остановился на ней один, на виду у всех.
Мы отступили от Него еще дальше, не дерзая приблизиться, ибо сияние Его было подобно солнцу, а Сам Он весь был как молния. Мы заслоняли руками своими глаза, чтобы взглянуть на Него — все в безмолвном ожидании и созерцании того дивного, что совершается.
Ближе всех подошел к Нему Иоанн и, стоя на коленях со сложенными руками, не сводил с Него восторженного взора, ибо он знал, как он после сказал нам, что должно было произойти. Иисус объяснил ему это в предыдущую ночь. Экстазом любви и восторженного умиления озарено было лицо Иоанна, и слезы катились из его ослепленных очей, а он все глядел на Своего Учителя и Господа, сиявшего, как полуденное солнце.
Батюшка дорогой, то, что мы видели, нельзя выразить, это вне всякого описания и изображения!
Холм окружен был массой людей, все в каком-то немом оцепенении ждали. Но то, что совершилось перед нами, было так необычайно, так страшно торжественно и таинственно, что люди, пораженные тайной и ослепленные светом, казалось, одинаково готовы были и бежать, чтобы укрыться от лицезрения Сына Бога Своего в Его неземном величии, и застыть тут в безмолвном ожидании.
Так и пребывали мы все под покровом тихого, ясного синего неба, на котором одно только облачко клубилось над самым холмом. Внизу, по направлению к священному городу, виднелся Гефсиманский сад, где любил Иисус Христос ходить с учениками и где Он был предан. За ним — Иерусалим со своими башнями и дворцами: среди них горделиво возвышался и блестел вдали Иерусалимский храм, в прозрачном воздухе виднелся и Кальварий (позорное место) со свежими римскими крестами.
Зеленела кипарисовая долина близ гробницы Иосифа, где положено было Тело Господа.
Иисус окинул взором победителя эти места Своих испытаний, страданий и смерти и, обратясь к ученикам, сказал:
— Вы были со Мною в дни Моей скорби, ныне увидите славу и возмездие, дарованные Мне Отцом Моим! Я ухожу от Вас и вознесусь к Отцу — Моему и вашему Отцу. Запомните все о Царстве Моем, чему Я учил Вас. Идите и возвестите радостную весть спасения всем людям. Крестите их всех во Имя Отца и Сына и Святого Духа. И Я пребуду с вами везде, всегда до конца мира.
Голос Его невыразимой радостью проникал во все сердца. Воздев руки, Он благословил всех нас, павших перед Ним.
Затем, устремив взор Свой в глубокое синее небо, Он сказал те же слова, что произнес и в пасхальную ночь, о которой Иоанн говорил мне:
— Ныне, Отче, прославь Меня Силою Твоею. Той Силою, с которой Я был с Тобою до начала мира.
Мы подняли головы и увидели, что Он отделился от земли и возносится в воздухе над вершиною холма.
Руки Его были распростерты над нами, как бы благословляя нас всех. Раздался неудержимый возглас страха и изумления всех окружающих при виде Его, уносящегося в небо. Затем последовало глубокое благоговейное молчание, а Он уносился от нас все дальше, все выше, и очертание Его увеличивалось и расширялось по мере отдаления от земли. Стоя на коленях, онемев от удивления, мы следили за Его движением вверх. Никто ни единым словом не нарушил торжественной тишины. Можно было слышать стук наших сердец.
И вот в небесной высоте появилось маленькое облако, величиною с руку человека, как нам казалось, и оно стало расти и расширяться, и вдруг быстро, как крылатая молния, опустилось и рассыпалось в бесчисленный сонм блестящих ангелов. Их было много, как звезд небесных.
Они разделились на две стороны и, паря в воздухе, как бы возносили к небу Сына Божия. Шум от их бесчисленных крыльев был подобен шуму воды.
Сверкающим облаком они окружили Иисуса и, скрыв Его от нас, исчезли с Ним вместе в лучезарном сиянии неба. Но до слуха нашего доносилось их пение. Божественная, неземная мелодия!
Окружая своими переплетающимися крыльями Сына Божия и исчезая в пространстве, они пели свой небесный гимн Победителю смерти и ада:
— Поднимите врата, князи ваша, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
Эти слова слышались в звуках, которыми как бы все необъятные небеса отвечали Архангелу, бдительному стражу врат небесных:
— Кто Сей Царь славы?
— Господь крепкий и сильный. Господь, сильный в брани!
Победно и радостно звучали голоса ангелов, возносящихся с Иисусом в лучезарные высоты:
— Восплещите руками все народы и воскликните Богу гласом радования!
И взошел Бог при восклицаниях:
— Поднимите врата, князи ваша, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
Затем раздался могучий голос как бы из глубины неба, сопровождаемый трубным звуком тысяч голосов, как бы окружавших Престол Самого Сущего:
— Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его!
— Воздайте Господу Славу Имени Его, несите дары, идите во дворы Его!
— Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте!
— Ибо Господь Всевышний страшен — Великий Царь над всей землей!
— Покорил нам народы и племени под ноги наша!
Звуки неслись, удаляясь мерно и плавно, все выше, все дальше от земли, пока наконец светящийся сонм ангелов не исчез в небесной глубине.
Несколько времени после того мы все еще стояли, устремив взоры в небесное пространство, все еще надеясь, выжидая, желая вновь увидеть нашего Господа.
Но вот мы увидали две звезды в небе. Они опускались к нам и приняли образ ангелов; остановясь на том месте, откуда вознесся Иисус Христос, они сказали ученикам:
— Что смотрите вы в небо, мужи Галилейские! Иисус, Которого вы видели вознесшимся к небу, должен еще прийти к вам на землю, так же, как Он ушел от аас.
И, сказав это, они исчезли.
О Вознесении на небо Христа Господа нашего Иисуса я написала вечером того же дня, как это совершилось, ибо это все неотступно владело всеми моими мыслями. Но нет слов, чтобы описать это. Одно только ясно, что я могла передать тебе, батюшка, — это тот самый факт, что Иисус вознесся выше всех небес.
Это непреложная истина.
Но что такое наша земля? Что такое Иудея? Что такое род человеческий, что Бог удостоил посетить его? И обещал вновь посетить. А, когда Он был с нами, когда Божественный Сын Божий сошел на землю и принял образ и плоть человеческую, чтобы примирить с нами Бога Отца и открыть нам путь в жизнь вечную, как Он был принят нами? Его сторонились, потому что Он был беден.
Его ненавидели, потому что Он был свят.
Его предали суду за преступления, Ему неизвестные.
Он был оскорблен, избит, оплеван, осмеян, был распят вместе с разбойниками.
Но смотри, дорогой батюшка, чем это окончилось?
Когда Он исполнил то, что Ему было поручено и предназначено, принял смерть за нас — как все вдруг переменилось!
Он восстал к жизни, Он расторг затворы гробницы и вышел из нее. И ангелы преклонились перед Ним!
Он всенародно вознесся на небо и встречен был сонмом ангелов, и поддержан десницей Всевышнего! Таково было заключение дивной земной жизни Иисуса Христа!
Итак, все, что Он говорил о Себе, есть истина.
Сущий Сам подтвердил это.
Поэтому мы должны или уверовать, или отказаться от Царства, которое Он учредил для нас, но в которое мы можем войти только тем же путем, каким Он вернулся в него, — путем смирения, страдания, смерти, могилы и воскресения.
— Путь Мой должны вы познать! — сказал Он.
Поэтому, батюшка, очевидно, что Царство Его не от мира сего, как Он сказал прокуратору Пилату.
Царство Его — Небесное!
Я не могу написать тебе всего, что хотела сказать. Когда через неделю мы свидимся с тобой в Иерусалиме, тогда я передам тебе все, чему Божественный и Богом прославленный Иисус научил меня. Не сомневайся в том, что Он Мессия. Признай Его, не колеблясь, ибо в Нем осуществились и Моисей, и пророки, и закон.
Он истинный Мессия, долженствовавший прийти и восстановить все утраченное человечеством, и в Нем слава, и могущество, и Господство, и величие, и совершенство вовеки.
Твоя любящая дочь Адина.»
Воскресение и жизнь
Христос Воскресе!
Радость смертным, опутанным губительными, тайно подкрадывающимися наследственными грехами! Христос Воскрес!
Блаженны любящие, устоявшие твердо против великих, тяжелых испытаний на спасительном пути к неразрушимому Вечному спасению!
Христос Воскрес! — покинув область тления.
Спешите радостно разорвать ваши цепи грехов! Близок Он ко всем, Его восхваляющим, ко всем, доказывающим любовь делами. Ко всем, братски делящим свой хлеб с ближними; ко всем, странствующим для проповеди и возвещающим дни неизреченного, незаходимого блаженства.
Для всех вас Он уже здесь!
Ликующий призыв! Как ярко запечатлена в нем тайна
Светлого Воскресения Христова!
Как светоносно дыхание пасхальной радости в нем!
Вся тайна Воскресения — в присущей силе человеколюбия Христова, в вечных чудесах явления миру Того, Кто, милосердия ради, Себя истощил непреложно!
Погребенный и обретший снова жизнь, возвратившийся к Своему блаженству, Христос не скрылся от нас в неизвестность, не оставил нас на груди земли для одинокого страдания, Он всегда с нами, как со Своими.
И мы больше не оплакиваем Его, не можем оплакивать. Нет больше мрачной Голгофы.
Христос второй раз уже не умирает, смерть над Ним не обладает! Мы ожидаем Его, уже грядущего ко всем нам, и сами приближаемся к Нему — в светлых лучах светозарной победы над «властью тьмы», в дивных просветах веры в творящего Бога, в святые заветы небес!
Нет большего безверия, чем сказать: «Христа теперь нет на земле!». Там, где это говорят, там слезы людские не видны с высоты небесной: они сочтены, но не стерты.
Там мир — безжизненный чертог, «случайная дорога ». Там все глухо: могила повсюду, пусто и страшно; и крик души остается без ответа.
Не верится в такую пессимистическую религию, в такую «антихристианскую этику».
Нет, Христос Воскресший и теперь на земле, как и всегда. Он Тот же сегодня, что и вчера.
Он не позабыл земли, людей, жизни нашей. Он и не мог забыть их, предвечно возлюбив мир до «смерти крестной », до радости «крестовоскресной».
Нет мира без Бога — и Бога нет без жизни.
Нет Бога, не хотящего жизни — нет и жизни, не ведающей Бога. И Христос-Жизнодавец идет всюду, озаренный внутренними лучами Своего Божественного Лика, идет, как путник Эммаусский, являющийся и познаваемый «в преломлении хлеба», как светоносный друг матерей и грешников, как Бог кающихся и Спаситель согрешающих. Он идет, благословляя весь мир, всю землю, идет туда, где Его жаждут, ищут в великой тоске и скорби, в мир «нравственных» болезней и мрака греховного. Где умножился грех, там преизбыточествует Его благодать.
И там, где Он идет, где слышен тихий шелест Его риз белоснежных, где горят пречистые стопы изъязвленных ног Его, где обитает Он и учит, там исчезают всяческие страхи «всегубительной тьмы» и мрачных прегрешений.
Там слышен из уст Его призыв:
«Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою Вас!» (Мф. 11, 28).
— Идите за Мной все жаждущие исцеления, все, чье сердце мертво давно и смердит, как Лазарь погребенный. Идите: возвратились светлые дни чудес милосердия Божия, дни незаходимого света. Открылось общее царство неистощимой благодати. Во Мне — вечное забвение всех земных страданий, блаженное избавление. Я — воскресение и жизнь, и верующий в Меня не умрет. Я пришел исцелить всех страждущих, всех больных совестью. И озаренные этой любовью души оживают для новой жизни, и проказой греха изъязвленные подымаются со «дна жизни».
Пропадавшие находятся, падшие восстают, нищие благовествуют! Нет больше проклятия греха, безвыходной судьбы, жестокого рока.
Все прощено, все искуплено Воскресением.
Ясно и светло на Святой земле. Все ново во Христе. Все, что сгублено было тьмой беспощадной, обрелось в мире безбрежного света и звезд путеводных.
И жизнь всего мира, жизнь людей, как она есть и со всем, что есть в ней, опять красуется, ликует, блещет и трепещет от любви Божией, вновь озаренная Божиим благословением от края до края, с первой до последней минуты, милая, светлая, благословенная жизнь.
Вся она покрыта росою Божией, вся омыта заветною Кровию Спасителя, лучезарная, чистая без конца и без меры, без смерти, без горя, без потери.
Свет Воскресения горит бесконечной радостью.
В душе благоухает вечное чувство, величие Святыни и неземной красоты целой жизни.
Только в этом свете будущее сливается с настоящим и прошедшее обновляется в образах и силах Вечности. Только при нем невозможна смерть.
Да, в Воскресении Христа человек возвращен земле, и земля в восторгах таинственных и в предвечных согласованиях бытия возвращена человеку!
Евангелие уяснило мир как Божий радостный чертог. Воскресение Христово обессмертило жизнь, и человек сохранен в тайне Вечности, в безграничных просторах чистой свободы, где все — Господь Любвеобильный, где все — красота и святость!
О, если бы навсегда удержать в душе эту гармонию бытия, эту полноту пасхального света и начать бы жизнь и окончить жизнь с одним этим словом, с одним сладостным чувством: «Христос Воскресе»!
Протоиерей Иоанн Филевский
Фиалка
Из жизни персидских мучеников
Святая Ия (в переводе с греческого «фиалка » — ред.) в ожидании окончательного приговора целых полгода сидела в тюрьме. Долгим заключением ее хотели принудить к отречению, но вот наконец ее потребовали на последний человеческий суд.
Архимаги (жрецы, судьи) взошли на помост судилища. Предстала пред ними и Ия.
— Опомнилась ли ты наконец? — спросил ее главный судья. — Пришла ли ты к убеждению, что должна покориться нам?
— Я пришла лишь к сознанию и безграничному убеждению в том, — отвечала Ия, — что Один есть истинный Бог — Христос Спаситель наш — и Его святой воле я во всем покоряюсь!
— Отрекись от Него! — грозно воскликнул архимаг.
— Кто отрекался от своего блаженства? Я — христианка и поклоняюсь истинному Богу.
Архимаги вспыхнули злобой. Они стали делать указания мучителям, и те ревностно исполняли их слова. Ию обложили во весь рост сделанными из тростника острыми лучинами и начали стягивать и скручивать ее тонкими веревками, так сильно, что лучины вошли в ее тело… Потом они стали за концы вытаскивать лучины из тела. Они вырывали медленно одну лучину за другой, и клочки тела вместе с кровью падали на землю. Ни стона, ни возгласа, ни вздоха не вылетало из груди Ии.
Какая же непонятная, неведомая сила давала мученице возможность переносить такие страдания и держала крепко нить ее жизни? Вера, неотразимая вера!
Ия молчала: глаза ее были прикованы к небу. Мучители продолжали свою сатанинскую работу… И вот Ия упала… Она лежала в крови, как мертвая. Кровь текла из нее ручьями: кости и внутренности обнажились.
Архимаги не приходили на судилище, а поставленная стража, чередуясь, стерегла мученицу день и ночь. Ия лежала как мертвая, с закрытыми глазами. И только слабое, еле уловимое дыхание говорило о том, что она еще жива. Персиянки плакали, но ничем не могли помочь мученице. Архимаги пригрозили страже смертной казнью, если она будет кем-либо подкуплена.
Через десять дней снова появились архимаги. По их приказанию Ию подняли и положили на принесенную платформу, служившую для выжимки винограда. Ее обступило несколько человек. Одни стали жать ее бревном, другие — медными прутьями ломать ее кости.
Глаза Ии широко раскрылись, и на мгновение, как молния, сверкнуло в них выражение непоколебимой веры — потом веки ее тихо опустились. Внутренности мученицы упали на землю.
По знаку судьи один из стражей отсек ей голову мечом. Голова ее с побелевшими губами и плотно закрытыми глазами скатилась на брошенную на землю одежду, и черные волосы ее раскинулись по песку, как крылья.
Вдруг глухой шум раздался в толпе. Все спешили приблизиться к месту ее казни. На залитом кровью месте, где лежала мученица, мгновенно выросло множество фиалок. Они, казалось, не просто цвели, а жили, и окружающий воздух трепетал дыханием аромата. При виде чуда народ заволновался и многие прославили Бога христиан. Архимаги растерялись и не знали, что делать. Но вот из толпы выделилось вдохновенное лицо Фалии. Она подошла к архимагам и громко воскликнула:
— Ни один зверь не стал бы так кровожадно мучить человека, как вы мучили Ию. Я — христианка и презираю ваших бездушных богов.
Судья махнул рукой, и один из солдат отсек Фалии голову! Архимаги уехали. Народ продолжал волноваться. Фиалки, как очевидное в данную минуту доказательство всемогущества Божия, цвели, разливая дивное благовоние! Христиане выкупили у стражи тело Ии и унесли его. Они чувствовали невыразимую отраду, навеваемую этим неземным ароматом.
— Мученица Ия, — говорили они, — походила на фиалку не по одному имени. Она вдохнула в себя аромат фиалок, благоухающих и дышащих пурпурною кровью!
Из книги «Сыны света»
Причащение в темнице
Из времен Диоклетианова гонения
«Будьте как дети, — Христос заповедал, —
Верьте доверчиво, просто, любя!
Счастлив, кто веру такую изведал,
Царство он Божье открыл для себя!»
Если христианин нашего времени хочет надлежащим образом оценить, что вытерпели его предки за свою веру в первые века христианства, то мы попросим его заглянуть вместе с нами в одну из уцелевших до нашего времени римских темниц языческого периода.
Эта темница была свидетельницей многих раздирающих душу сцен, а старые пергаменты переложили их в печальные повести. Их простой, как все правдивое, рассказ счастливо дополняется безмолвным красноречием мрачного узилища.
Вот что происходило в Мамертинской темнице 4 октября 302 года. Но прежде несколько слов о самой темнице. Мамертинская тюрьма построена в Риме, в земле из огромных кусков гранита и имеет квадратную форму. Она разделена на два этажа. В потолках обоих этажей устроены круглые отверстия для сообщения со светом и воздухом. В эти же отверстия спускали на веревках пищу и питье узникам, равно как и самих узников.
Можно себе представить, сколько доходило света и воздуха до несчастных заключенных в нижнем этаже, когда оба эти этажа были полны ими.
С густым мраком, нестерпимой духотою и со всеми своими естественными нуждами несчастные в обоих этажах должны были существовать как знают. Кроме того, в гранитные стены темницы вделаны были огромные железные кольца, к которым нередко привязывали узников так, что они не могли ни сесть, ни лечь.
Впрочем, справедливость требует заметить, что в большей части случаев заключенным позволяли сидеть и лежать на каменном полу узилища, забивши только их ноги в колодки. Но и здесь изысканная жестокость язычников самым бесчеловечным образом постаралась устранить и те жалкие удобства, которые предоставляло сиденье или лежанье на голом, жестком полу в сравнении с напряженным стоянием в кольцах стены. Каменный пол был усеян обломками разбитых сосудов и острыми камнями, которые вонзались в растерзанные предварительными пытками и изнуренные тела страдальцев и усиливали еще больше их страдания.
Нередко случалось, что мученики вымирали здесь все до одного, будучи не в состоянии вынести всех этих адских неудобств. С другой стороны, были случаи и совершенно в другом роде. Растерзанного страдальца или страдалицу со всеми признаками близкой смерти бросали без всякого сострадания на острые кремни, а он или она выздоравливали без всякой медицинской помощи.
В этой темнице 4 октября 302 года находилось до 100 человек-христиан всякого пола и возраста. На следующий день все они должны были выйти на «борьбу со зверями» в Римский цирк, в присутствии императора Диоклетиана и всего римского народа.
Вечером 4 октября был канун их смерти.
Несмотря на это, в стенах мрачной темницы царствовали мир и светлая радость. Святые мученики ждали дня своей казни как светлого праздника и готовились к нему с радостью. Они пели стихи из псалмов, имевшие наибольшее применение к их тогдашнему положению. И когда страдальцы нижнего этажа отвечали на стих, пропетый заключенными верхнего этажа, то это «бездна отвечала бездне» (Ср. Пс. 41, 8).
В эти торжественные минуты приготовления к лютой смерти жестокость язычников находила возможным сделать страдальцам некоторую усладу. Для них приготовили за общественный счет роскошный ужин. Не для того ли, чтобы львы и пантеры не могли пожаловаться на римское гостеприимство? Ведь их в это время всех морили голодом!
Родственники и друзья заключенных получали позволение навестить их со словом утешения и ободрения. Этим позволением, конечно, все старались воспользоваться.
К двусмысленному угощению язычников христиане приносили с собой к своим единоверцам более искреннюю и совершенную пищу — Любовь.
Кто захотел бы составить себе понятие о христианских агапах («Вечерях любви»), тот мог бы видеть полную и совершеннейшую их форму в этом последнем предсмертном ужине страдальцев, окруженных братьями по вере и крови. Со светлой радостью беседовали они со своими братьями о непостыдном уповании, о другом, лучшем мире и о своих надеждах на скорое свидание в обителях Отца Небесного.
Толпы язычников, привлеченных любопытством, окружали братскую трапезу мучеников. Но тщетно всматривались они в лица страдальцев, думая открыть в них признаки уныния, тоски или тупого, отчаянного равнодушия. Спокойно и светло смотрели они, как будто каждому из них суждено было жить еще сто счастливых лет.
Особенно один юноша, принадлежавший к знатной римской фамилии, обращал на себя любопытное внимание толпы своим знатным происхождением, молодостью и необыкновенной красотой. Заметив на себе любопытные взоры язычников, Панкратий (имя юноши) обратился к ним с такими словами:
— Братья мои! Неужели для вас недостаточно наших завтрашних страданий, что вы предваряете их сегодня своими попытками возмутить наш душевный покой? Если так, то всмотритесь повнимательнее в наши черты, чтобы не забыть их в день последнего Суда!
Слова юноши пристыдили толпу, и она начала мало-помалу расходиться. Глубоко запали они в душу многих язычников, которые, впоследствии сделавшись христианами, признавались, что обязаны своим обращением словам святого мученика.
Но в то время, как язычники питали тела мучеников, для того чтобы накормить ими на следующий день диких зверей, святая любвеобильная Церковь — мать страдальцев — готовила им другую, бесконечно высшую и лучшую Вечерю.
В одной из подземных базилик в катакомбах старый пресвитер Дионисий совершал Божественное Таинство Тела и Крови Господней для того, чтобы напутствовать воинов Христовых на их последний, смертный подвиг.
Совершив Великое Таинство, благочестивый священник, взяв в руки Пречистое Тело Господне, обратился к предстоящим в церкви и высматривал между ними человека, которому можно было бы вручить это бесценное сокровище для перенесения в Мамертинскую темницу.
Прежде чем взор его остановился на ком-нибудь, из среды предстоящих отделился двенадцатилетний мальчик Тарцизий. Упав на колени и простирая руки, он просил пресвитера возложить на него это великое дело.
Изумленный и вместе с тем обрадованный восторженным дерзновением отрока, Дионисий сказал ему:
— Ты слишком молод, дитя мое. Не по силам тебе будет это великое дело. Ведь ты знаешь, сколько опасностей угрожает тебе на твоей дороге.
— Моя молодость будет служить мне лучшею защитою!
Добрый священник все еще колебался доверить ребенку Божественное Тело, но настойчивые просьбы Тарцизия, его умоляющее коленопреклоненное положение, его необыкновенная красота, делавшая его похожим на молящегося ангела, —все это поколебало нерешительность старца, и он, обернув Божественное Тело двумя чистыми убрусами и подавая Его, сказал:
— Дитя мое! Я склоняюсь на твою просьбу. Мое сердце говорит мне, что ты сохранишь вверенное тебе бесценное сокровище. Но помни, мой дорогой сын, что тебе нужна величайшая осторожность, и избегай многолюдных улиц. Иди с Богом! Да сохранит тебя Бог!
Восторженная радость выразилась на прекрасном лице мальчика. Положив вверенное ему сокровище на грудь под одежду и придерживая его обеими руками, он начал осторожно пробираться к Мамертинской темнице по отдаленным, глухим и малолюдным переулкам, чутко прислушиваясь к малейшему шуму.
На повороте одного переулка, который выходил на площадь, соседнюю с Мамертинской тюрьмой, набожный мальчик совершенно неожиданно наткнулся на толпу своих сверстников, которые, вышедши из школы после вечернего урока, собрались играть на площади.
Завидевши его, мальчики обступили его и принуждали принять участие в их играх. Напрасно умолял несчастный ребенок отпустить его, отказываясь от игр и ссылаясь на важное поручение, которое он немедленно должен исполнить. Шалуны не хотели ничего знать и насильно тянули его в свой круг. Один из игроков, высокий грубый мальчик, заметив, что Тарцизий что-то придерживает на своей груди под платьем, вообразил, что тот несет какое-нибудь письмо, и сказал ему:
— Ты, вероятно, несешь кому-нибудь письмо, Тарцизий! В таком случае передай его мне. У меня оно будет в целости, пока ты играешь!
— Никогда и ни за что! — воскликнул ребенок, бросив умоляющий взор на небо.
— Что же ты так боишься за свой секрет? У тебя там, наверное, что-нибудь особенное. Дай-ка я посмотрю!
С этими словами нахал протянул руку с явным намерением овладеть тем, что нес за пазухой Тарцизий. Поняв его намерение, бедное дитя с отчаянными усилиями старалось не допустить дерзкого мальчишку до святотатственного прикосновения к своей святыне. Завязалась отчаянная борьба между обоими мальчиками. При обыкновенных условиях исход ее, впрочем, не мог быть долго сомнительным. Превосходя возрастом, и ростом, и силою Тарцизия, соперник легко одолел бы его. Но Тарцизий, сознавая важность минуты, обнаружил нечеловеческую силу и успешно противился всем усилиям своего более сильного врага.
Толпа любопытных окружила соперников. Один праздный плебей с грубым лицом и хамскими повадками подошел к кружку и, узнав, в чем дело, бесцеремонно выронил:
— Это, должно быть, осел-христианин несет свои Таинства!
Эти слова возымели магическое действие на толпу. Они разожгли ее любопытство до высшей степени. На несчастного ребенка посыпались сотни ударов кулаками, палками, полетела грязь из толпы зевак. Но он как будто не чувствовал ни малейшей боли от всех этих побоев и, смотря на небо, судорожно прижимал к груди свое сокровище. Тогда один из язычников, дюжий мясник, ударил бедного мальчика кулаком по голове так сильно, что он без чувств упал на землю.
Кровожадная толпа испустила радостный крик. Поспешно наклонившись к упавшему ребенку, бесчеловечный мясник старался отнять его руки от груди и взять то, что на ней было спрятано. Но в это время чья-то сильная рука дала святотатцу такой толчок, что он растянулся во весь свой рост подле своей жертвы. Человеком, остановившим мясника, был статный воин огромного роста и геркулесовой силы. Он взял на руки почти бездыханного мальчика и понес его с собою. Узнав в смелом воине одного из важных офицеров императорской гвардии, толпа почтительно расступилась пред ним и дозволила ему беспрепятственно удалиться со своей драгоценной ношей.
Очнувшись на руках верного воина, Тарцизий тяжело вздохнул и начал пристально всматриваться в лицо своего избавителя, не вдруг узнавая его.
— Успокойся, Тарцизий! — сказал ему знакомый голос. — Ты в верных руках: жизнь твоя вне опасности!
— Ах нет, Квадрат, жизнь моя уже кончена. Но об ней не заботься. А побереги Божественные Тайны, спрятанные у меня на самой груди. Я их нес в темницу к нашим братьям!
— Будь спокоен, доброе дитя! — сказал растроганный Квадрат, для которого теперь его дорогая ноша сделалась еще драгоценнее.
У него на руках лежала не жертва геройского самоотвержения, не тело мученика, а Сам Господь и Владыка мучеников. Избитая, но еще прекрасная головка ребенка доверчиво приклонилась к мужественной груди воина, но руки его по-прежнему оставались сложенными на груди. Не чуя ног под собой от радости, поспешно нес Квадрат свою драгоценную ношу в катакомбы. Никто не смел остановить его.
Слезы полились из глаз старого Дионисия, когда благочестивый воин принес в подземную базилику бездыханное уже тело отрока. На груди его под сложенными накрест руками целыми и невредимыми лежали Божественные Дары. Все присутствующие тоже плакали от умиления и с подобающей честью схоронили священные останки мученика-младенца в усыпальнице Каллиста. Папа Дамас (ок. 304-384 г.) впоследствии начертал следующую надпись на мраморной доске:
«Святый Тарцизий нес Христовы Таинства, язычники хотели осквернить их нечестивыми руками, но он предпочел скорее испустить дух под их ударами, чем выдать этим хищным псам Тело Христово!».
Между тем в Мамертинской темнице ничего не знали о произошедшем с Тарцизием и с нетерпением ожидали доброго вестника с небесным утешением. После долгого ожидания наконец в темнице появился начальник императорских телохранителей Севастиан, тайный христианин. По его озабоченному лицу страдальцы поняли, что он пришел не с добрыми вестями, и забросали его вопросами.
Светлая радость мучеников омрачилась, когда Севастиан вкратце рассказал им о происшествии с Божественными Дарами, которые нес к ним Тарцизий, и дал понять, что волнение разъяренного народа, целыми толпами бродившего около темницы, наблюдавшего за всеми входящими и выходящими, делало невозможным принесение Святых Даров извне. Затем, подозвав к себе диакона Репарата, находившегося в числе узников, верный воин сказал ему на ухо несколько слов. Лицо диакона просияло, и, уходя в отдаленный угол тюрьмы, он обменялся с Севастианом веселым взглядом.
Севастиан пришел в темницу главным образом для того, чтобы проститься со своим другом Панкратием, который вместе с другими осужден был на съедение зверями. Отношения этих двух лиц далеко выходили из ряда обыкновенных дружеских отношений. Пока диакон шел выполнять тайное распоряжение Севастиана, переданное ему от имени римских пресвитеров, друзья, удалившись в сторону, завели между собой следующий разговор:
— Помнишь ли, Севастиан, — начал Панкратий, — тот вечер, в который мы с тобой из окна твоего дома смотрели на темную массу Колизея и слушали рев заключенных в его подземельях диких зверей?
— Очень хорошо помню, мой друг, и мне кажется, твое сердце предчувствовало тогда, что ожидает тебя завтра.
— Действительно, какой-то тайный голос говорил мне, что я один из первых паду завтра жертвою людской злости. Но, пока не пришла эта вожделенная минута для меня, мне все как-то не верится, что я дождусь наконец этой безмерной чести. В самом деле, что я сделал особенного, чтобы сподобиться такого счастья?
— Но ведь ты знаешь, друг мой, что это дело милующего Бога. Скажи мне лучше, какие чувства наполняют твою душу в ожидании славного жребия, который готовится тебе завтра?
— Нужно сказать правду, Севастиан: этот жребий так далеко превышает все мои самые смелые надежды, что часто мне думается, что все это я вижу во сне, а не наяву. Ты поймешь меня, если представишь себе, что не дальше как завтра я променяю эту холодную, сырую, зловонную темницу на светлые райские обители, где ожидают меня сонмы святых и неумолкающие хоры ангелов…
— Больше ничего ты не имеешь сказать мне?
— О нет! Много, очень много! Когда я представляю себе, что я, ничтожный ребенок, едва только оставивший школьную скамью, завтра предстану перед возлюбленным мною Господом и приму из рук Его венец правды, уготованный всем возлюбившим Его, то весь дрожу от радости. Эта надежда кажется мне такой отрадой, что я с трудом привыкаю к мысли, что скоро она перестанет быть надеждою и превратится в действительность. Между тем, Севастиан, — с жаром вскричал молодой человек, хватая руку своего друга, — все это правда. Святая правда!
— Какой ты счастливец, Панкратий, как светло и отрадно у тебя на душе!
— Знаешь, что особенно удивляет и радует меня теперь, добрый Севастиан, — продолжал юноша, не обращая внимания на заметку своего друга, — это благость и милосердие Господа, сподобившего меня этой смерти. Если бы ты знал, как легко и весело в моем возрасте бросать эту жалкую землю с ее кровожадными зверями и не менее кровожадными людьми и навеки закрыть глаза от всего, что только есть на ней возмутительного! Во сто раз тяжелее была бы для меня смерть, если бы она постигла меня на глазах моей доброй матери, если бы на смертном одре мне пришлось слышать рыдания и жалобы этого самого дорогого для меня существа в мире. Ведь я увижу ее завтра? Ведь я услышу еще раз ее сладкий для меня голос? Не правда ли? Ведь ты обещал мне это, Севастиан?
Слеза блеснула на глазах молодого страдальца, но он овладел ею и опять продолжал своим обычным веселым голосом:
— Кстати, Севастиан, за тобой есть тайна, которую ты обещал мне открыть. Открой мне ее теперь. Ведь это последний случай, которым ты можешь еще воспользоваться!
— С большим удовольствием, мой дорогой друг! Ты спрашивал меня, что удерживало меня до сих пор от решительности умереть за Христа. Я сказал тебе тогда, что это моя тайна. Вот она. Я дал себе обещание бодрствовать над твоею душой, Панкратий. Эту обязанность налагала на меня наша дружба. Я видел, как сильно желал ты пострадать за Христа. Но ты еще слишком молод, мой дорогой друг, чтобы легко справляться с пламенными желаниями своего сердца. Я боялся, чтобы ты не уронил их священного достоинства какой-нибудь опрометчивой выходкой, которая могла бы набросить тень на твое дело. Вот почему я и решился наложить молчание на самые свои заветные желания до того времени, как увижу тебя вне всякой опасности!
— О, как ты благороден, мой добрый Севастиан!
— Помнишь ли, мое дитя, — продолжал воин, — как я старался помешать тебе разорвать эдикт императорский: помнишь, как я остановил тебя, когда ты хотел обличить судью во время казни Цецилии? Тебе хотелось тогда умереть за Христа, и ты действительно был бы осужден и умер бы, но в твоем судебном приговоре значилось бы, что ты осуждаешься на казнь как политический преступник, за оскорбление законов его величества. Кроме того, мое дорогое дитя, ты мог остаться один в своем триумфе. Может быть, и сами язычники подивились бы тебе и превознесли похвалами как смелого, бесстрашного молодого человека, как героя гражданской доблести… И, кто знает, облако гордости не закралось ли бы в твою душу и не помрачило бы лазурь ясного твоего неба среди самой твоей казни? А теперь ты умираешь единственно за то, что ты христианин!
— Это правда, Севастиан! — сказал Панкратий, краснея.
— Но, — продолжал воин, — когда я увидел, что тебя взяли во время самоотверженного прислуживания исповедникам Христовым, когда я увидел, что тебя влекли по улицам в цепях, как и всякого осужденного, когда я увидел, что тебя, как и других верующих, осыпали насмешками и проклятиями, когда я узнал, что твое имя вписано в смертный приговор наряду с другими осужденными единственно за то, что ты христианин, тогда я сказал себе: «Теперь мое дело кончено, и я не пошевелю пальцем для того, чтобы спасти тебя!».
— О, как ты умен и благороден, и предан, добрый Севастиан! Твоя дружба ко мне похожа на любовь Божию, — сказал Панкратий, заливаясь слезами и бросаясь на шею воина. — Позволь мне предложить тебе еще одну просьбу: не оставляй меня до конца своим участием и передай моей матери мою последнюю волю.
— Желание твое будет исполнено, хотя бы это стоило мне жизни! Впрочем, мы ненадолго расстаемся с тобой, Панкратий, — сказал Севастиан.
В это время подошел диакон и сказал разговаривавшим, что все приготовлено для таинства в самой темнице. Молодые люди осмотрелись вокруг себя, и Панкратий был поражен неожиданным зрелищем, представившимся его глазам.
На полу темницы лежал навзничь священномученик пресвитер Лукиан. Руки и ноги страдальца были обременены тяжкими цепями так, что он не мог пошевелиться. На груди его Репарат положил в три ряда сложенный льняной убрус вместо антиминса и на этот урбус поставил хлеб и сосуд с вином и водою, который поддерживал своими руками. Глаза достойного пресвитера были обращены к нему, между тем как уста его произносили обычные при совершении таинства молитвы.
Затем каждый из присутствующих мучеников стал подходить и со словами благоговейного умиления причащаться Божественного Тела и Крови.
Таково могущество Святой Церкви! Как бы ни были неизменны ее законы, она всегда находила возможным применять их, не нарушая даже в самых исключительных обстоятельствах. И само исключение только более наглядным образом подтверждает общее правило. Это правило — Божественное Таинство Тела и Крови Христовой — должно быть совершаемо на мощах мучеников.
Здесь мы видим совершение таинства на теле мученика и самим мучеником. Правда, он еще жив, его сердце бьется еще под Божественными «стопами Божественного Агнца», но он со всей справедливостью мог бы применить к себе слова апостола: «Живу же не ктому аз, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20). Тут он — живой образ Божественного Искупителя, Который в Своей вечной Жертве был и «приносяй», и «приносимый». И едва ли был когда-нибудь жертвенник, более достойный Жертвы!
«Христианское чтение», апрель 1864 г.
Святой союз
Глубокая вера в Божественную помощь
Однажды жестокосердному, грозному правителю города донесли весть об одном христианине, что этот человек замышляет убить его. Правитель быстро послал за ним своих слуг. Когда слуги привели к нему этого человека, то правитель сказал:
— Мне донесли, что ты поносишь меня и замышлял обо мне худое.
— Нет! — сказал Мирос, так звали христианина. — Я не поносил тебя, я называл тебя только жестокосердным, каков ты и есть! Я не замышлял против тебя худое, я только обличал зло, какое ты делал.
— Негодяй! — сказал правитель. — Все равно ты за это должен умереть на кресте.
— Я готов на смерть! — отвечал Мирос. — Я не стану тебя молить о пощаде! Но дай мне, ради Бога, три дня свободы, чтобы проститься с моей родней. Я оставлю друга своего порукой в том, что вернусь на смертную казнь!
Правитель согласился:
— Хорошо. Я отпускаю тебя, но ежели ты через три дня не вернешься, то я предам друга твоего на мучение. Если уж придется казнить твоего заложника, так его казнь может искупить твою вину!
Правитель не поверил Миросу.
«Пусть же народ узнает, — подумал он, — как христиане обманывают своего Бога».
Мирос пришел к своему другу и рассказал ему, что правитель приготовил его к смертной казни на кресте, но дал ему три дня свободы, чтобы проститься с семьей, с условием, чтобы он оставил за себя кого-нибудь, и спросил, согласен ли друг побыть за него три дня в темнице. Верный друг с радостью согласился исполнить просьбу своего любимого друга, обнял его на прощание и дал отвести себя в темницу. Он сказал:
— Я верная за него порука, и если друг мой не вернется, то я приму его казнь на себя.
Его закрыли в подвал. Тем временем Мирос прибыл в свое селение, рассказал о предстоящей казни, простился с семьей и родными и сказал:
— Простите, время истекает, и если я не вернусь вовремя на казнь, то пострадает за меня мой друг.
Родные всеми силами старались задержать его подольше при себе, чтобы он опоздал на казнь и остался жив. Но Мирос вырвался от них и пустился в дорогу.
Страшно спешил он, но вдруг поднялась буря, завыл ветер, заблестела молния и разразилась гроза; зашумел ливень с гор, в долины помчались потоки воды и залили всю окрестность на пути. Перед путником зашумела река, вздулись сильные волны, ударяясь одна об другую, и сорвали мост.
Страдалец метался взад и вперед, нигде не видя ни единого человека. Бедный Мирос был весь в слезах, подавленный горем. Он упал на колени, и, весь переполненный думой о своем любимом друге, взмолился:
— Боже! Что мне делать? Время истекает!
Он простер свои руки к Небесам и вскричал:
— Боже! Усмири эти волны. Время бежит, солнце давно уже зашло за полдень; если оно зайдет, а меня не будет — мой друг пострадает за меня!
Но пучина ревела все сильнее, волны набегали на волны и минута летела одна за другой. Отчаяние поглотило страдальца, он смело бросился в кипящий поток и стал разбивать волны своей рукой. Наконец он достиг берега, но едва сделал несколько шагов, как навстречу ему выскочила буйная ватага разбойников, и, загородив ему дорогу, они подняли на него дубины.
— Что вам от меня нужно? — сказал страдалец. — У меня ничего нет, есть только жизнь, но она мне нужна для спасения своего друга! — и горячие слезы заструились по его лицу.
Он глядел на разбойников таким молящим взором, полным душевной муки, что они смутились и, расступившись, дали ему дорогу. Осужденный на смерть спешил, солнце жгло его страшным зноем, воздух становился все более душным, нигде не было ни тени, и путник обессилел. Он упал на колени и взмолился:
— О Боже! Не Ты ли вынес меня из водной пучины, не Ты ли спас меня от разбойников?! Так помоги мне спасти моего друга! — и он припал к земле со стоном.
И вдруг он услышал журчание ручейка. Страдалец подполз к нему, жадно прильнул и, освежив свое истомленное тело, собрал силы. Затем он с трудом стал пробираться по знойной долине и увидел, что длинные тени от деревьев легли на луга. Бедный Мирос стонал и плакал, из раненых ног его струилась кровь, но, несмотря на страшные, мучительные боли, мысли его о любимом друге бежали одна за другой.
И вот наконец показался город. Солнце уже заходило за городские ворота. Страдалец собрал последние силы. Со стоном и воплем молился он Богу:
— Боже! Дай мне силы. Боже, задержи палачей, чтобы мне застать живого друга!
В слезах он не видел, как перед ним глумился народ. Когда бедняга увидел, как на канате поднимают его друга на крест, он быстро растолкал народ и закричал:
— Палачи! Прекратите казнь, я тот, за кого он поручился!
Его держали и говорили:
— Спасай себя, ему уже предстоит смерть.
Но страдалец закричал громче:
— Если я его не спасу, то пусть погибнут две жертвы. Я разделю с ним такую же участь, и пусть узнают, как друзья умеют любить и верить друг другу!
Палачи услышали голос страдальца, казнь была прекращена. Весь народ со слезами глядел, как друзья бросились навстречу друг другу и, крепко обнявшись, зарыдали в дружеских объятьях. У правителя дрогнуло сердце, и он приказал палачам отменить казнь этих людей:
— Они победили мое сердце! — сказал он. — Я вижу в них святую дружбу. Хотелось бы и мне познать сладость такой дружбы и вступить в их Святой Союз!
Подвиг матери
Из жизни святой Моники — матери Блаженного Августина
I
В главном соборе африканского города Тагаста было совершенно пусто, сумрачно и прохладно.
Огни трепетно мерцали перед ликами святых, но их свет был слишком слаб, а лучи догорающего солнца не заглядывали внутрь храма. Только клочок яркого синего неба да вершины ближайших гор виднелись из окна.
Был будний день, и в храме собралась незначительная кучка молящихся. Отошла вечерня, храм опустел. Осталась одна только женщина, та, которую знали все сторожа, знали священники, знал весь клир.
В длинном темном платье, с покрывалом, опущенным до самых глаз, она становилась всегда на одном и том же месте, в глубине мраморной ниши у колонны, опускалась на колени и, казалось, замирала в молитве.
Каждое утро на рассвете, едва пурпурная заря показывалась на восточном крае неба, она приходила сюда, в это место своего успокоения, и молилась так, что смотревшим на нее казалось, что она сейчас умрет. Казалось, душа человеческая не могла выдержать такой муки, какую таило в себе ее сердце, и слабое тело не в состоянии было вынести такого напряжения духовных сил.
После литургии она молча оделяла бедных на паперти храма и уходила. А вечером опять приходила первой, опять становилась на свое место и, когда затихали вечерние песнопения, еще долго оставалась одна и лежала на холодной плите перед темным и скорбным Ликом Спасителя, смотревшего на нее со стены храма.
Никто не тревожил ее, никто не подходил к ней. Только дивились люди ее терпению и страданию. Только изумлялись сами священники великой вере женщины.
Звали ее Моника. О чем скорбела она? О чем день и ночь молила Бога? От чего истаивало сердце ее в муке? Только один во всем Тагасте, ее духовник, мудрый и опытный старец, знал тайну ее сердца. На него, как на опытного кормчего, опиралась и полагалась она в момент самой величайшей ярости житейского моря.
Его дожидалась она и теперь. Давно она уже не слыхала его ободряющего, вдохновенного слова… А оно нужно было ей теперь. Страшно нужно. Она изнемогала в своей скорби, она в самом деле могла умереть.
Молиться… Она не молилась, она не могла ни молиться, ни плакать… Она точно застыла, закаменела от того ужаса, который проникал во все ее существо, от ужаса матери, видевшей неизбежную вечную гибель ее единственного сына Августина!
…Ее милый мальчик! Разве не отдавала она его Христу еще в те дни, когда носила его под сердцем? Разве потом, в самом нежном возрасте, она не старалась показать ему чудный, несказанно прекрасный образ Христа-Спасителя и наполнить его детское сердце горячей, неотпадающей любовью к Нему? А потом, когда умные глазки ребенка с любопытством устремлялись на Божий мир, не указывала ли она ему за этими ярко блестевшими звездами на Творца Вселенной и не пела ли вместе с ним гимны хвалы и благодарности Богу?
И все усилия, молитвы долгих лет, слезы бессонных ночей, весь подвиг материнства оказались напрасными! Рядом с ее влиянием было влияние на Августина со стороны отца: пылкий, страстный, честолюбивый, он передал огонь своей души по наследству сыну.
Когда Августину было еще девять-десять лет, Моника уже видела с болью в сердце, что мальчик ее не будет принадлежать ей, и еще меньше — Христу! Ее связывала с сыном глубокая, самая нежная любовь, но имя Иисуса редко срывалось с уст ребенка: образ Христа, видимо, заслонился в его душе яркими образами языческого мира и, когда мать начинала ему говорить о любви, о самопожертвовании, смирении и молитве, он смущенно молчал, стыдясь признаться, что его тянет к себе чувственная, земная жизнь, что он мечтает о славе, о счастье, в самом даже грубом значении этого слова. И чем дальше шло время, тем ярче образовывался характер мальчика.
Сколько слез пролила Моника, чтобы убедить мужа, что на опасный, скользкий путь жизни ставит он сына!
Ее увещевания вызывали только смех с его стороны.
— Августин должен учиться, а потом сделаться знаменитым оратором. У него такие дарования, что было бы грешно зарывать их в землю, — возражал отец, с гордостью любуясь сыном.
И это была правда: в школах Тагаста Августин учился так блестяще, что обратил на себя внимание всех учителей. Ему обещали широкое и завидное будущее. Он был горд и в высшей степени счастлив.
В 16 лет он уехал в Карфаген, в столицу Африки. Отец заплатил безумные деньги, чтобы дать сыну возможность слушать лучших учителей Карфагена, но отец не видел и не хотел видеть, что мальчик уже был заражен нехорошими взглядами и его нельзя было одного выпускать из дома.
Но он отпустил, и Августин уехал.
И вот спустя два-три года до Моники дошли слухи о божественных способностях ее сына, о его блестящих успехах, но… вместе с тем она узнала то, чего больше всего на свете боялась. Ее мальчик, плоть от плоти ее, упал так низко, так позорно, что лучше бы ей живой было сойти в могилу, чем видеть его…
Молиться! Нет сил молиться больше. От ужаса умерла, кажется, ее собственная душа. Все темнее и темнее в соборе. И вместе с сумраком растет и скорбь.
— Дочь моя! Мир Христа да будет с тобою! — вдруг услышала она голос, вздрогнула и очнулась.
Старик-духовник стоял перед нею. Тихий стон и вопль сорвался с ее уст. Она пошатнулась и упала к его ногам:
— Отец! — и не могла больше сказать ни слова.
— Что случилось?
Если бы он знал, что случилось! Слезы сжали горло, и вдруг рыдания, разрывающие сердце, огласили каменные своды полутемного храма. Казалось, лики святых, строгие и суровые, зарыдали над этой скорбью. Плакала Моника. Плакал и молился духовник.
Время исчезло. Стены раздвинулись, само небо принимало эту молитву и эти слова. Наконец властная и нежная старческая рука легла на склонившуюся голову рыдающей матери. И лежала так, пока она не затихла, словно подкрепленная благословением, которое низводила эта рука.
— Что случилось с Августином? Он умер?
Старец слишком хорошо знал Монику, чтобы подумать, что она убивается из-за физической смерти сына.
Несколько секунд длилось молчание. И опять та же ласковая рука легла ей на плечи:
— Иди и не плачь! Не может погибнуть дитя таких слез!
В этих словах было спокойствие и уверенность пророка. Моника поднялась. Была ночь, когда она вышла из храма. Крупные сверкающие звезды смотрели на нее из темной бездны неба, и в тишине ночи слышались ободряющие пророческие слова:
— Не может погибнуть дитя таких слез!
II
Злобно крутилось и пенилось житейское море: кидало, крутило в своих волнах Августина. Успех, слава венчали каждый из его дней.
Он быстро сделался одним из самых видных учителей красноречия, получал огромные суммы денег и пользовался всеми благами жизни. И, однако, в это же время он упал в самую глубину порока и неверия. Как это случилось, он и сам не заметил: просто его увлек поток жизни, увлек пример распущенной молодежи. Где-то в тайниках его души, куда и сам он не дерзал опуститься, мерцал слабый огонек, зажженный когда-то рукой верующей матери, но пусто, темно и холодно было у него на душе. И от ощущения этой пустоты ни слава, ни наслаждения не удовлетворяли его… Все приелось, все порождало тоску, граничащую с отчаянием.
Шли год за годом. Мужал гений Августина, росла его слава, росла и неотступной становилась тоска. И, чтобы заглушить эту тоску, он пытался как-нибудь решить вековечные вопросы, терзающие душу человека.
Он бросался от одной ереси к другой, от философии к философии, и до такой степени огрубел его ум, что Самого Бога он не мог представить себе никак иначе, как в материальном виде. Мучаясь, скорбя и томясь от уз плоти, он искал истины и не находил.
Временами поднимался он над пеной житейских волн, временами падал в их глубину. И не знал, что на далекой родине много лет день и ночь молится за него мать. Не знал, только бессознательно чувствовал это, и имя матери, как и имя Христа, никогда по забывчивости не произносил в момент погружения в лоно страстей. Эти два имени были для него святыней.
Ересь манихеев, учащих, что существует два равных начала, добра и зла, что Бог материален, на долгое время овладела его душой. И, только когда главный учитель этой ереси Фауст оказался перед ним, Августином, только блестящим говоруном, он с негодованием отвернулся от него и от его учения и вскоре после этого бросил Карфаген и уехал в Рим.
Но Рим не дал ему успокоения. В 384 году, когда Августину было тридцать лет, он прибыл в Милан, где открылась кафедра красноречия. Ему все равно было теперь, где жить, куда ехать. Он отдал себя жизненной волне.
Но случайные ли волны принесли его сюда, в этот город, к дверям храма, где проповедовал знаменитый Амвросий, епископ Медиоланский!
Августин в первый момент не задумывался над этим. Амвросий был великий оратор, но… он говорил о таких простых вещах, таким простым языком. Ему ли, Августину, воспитанному на Цицероне и других ораторах и поэтах древности, искать истину у этого мудреца?
И, однако, он искал, мучился… А в далеком Тагасте перед Распятием молилась за него мать…
III
Жаркий итальянский день склонялся к вечеру. Солнце уже не жгло, а стояло на безоблачном бирюзовом небе величавое и кроткое, и розоватые тени ложились на снежные вершины, рисовавшиеся на склоне горизонта.
Веяло прохладой. Моника сидела на террасе, выходившей в платановую рощу, и слушала тихое журчание, шелест листьев и щебетание птиц.
Было спокойно все кругом, и какая-то непонятная благодатная тишина сходила на ее измученную душу — тишина, знакомая ей с тех пор, как она вступила впервые на землю Милана.
Еще ничего определенного не знала она о том, когда увидит на сыне одежды крещения, но предчувствие близости этого момента, как предрассветная бледная полоса на востоке, наполняло ее душу сиянием тихой радости.
Неужели сверхчеловеческий подвиг пятнадцатилетней молитвы и слез подходил к концу?
Она знала уже, что давно жгло Августина отвращение к прежней порочной жизни, что он давно уже томился исканием истины, давно порвал с разной ересью, давно оставил число оглашенных.
Со слезами и восторгом он слушал вдохновенное слово Амвросия, давно зачитывался Посланиями апостола Павла. В нем происходила борьба — тяжелая, мучительная. Он не скоро еще, вероятно, решится сделаться христианином, но только бы решился и хотя бы под конец жизни пришел ко Христу!
— Боже! Открывающий младенцам то, что сокрыто от мудрых и разумных, открой ему Имя Твое!
Нежная ткань работы выпала из рук Моники, и душа погрузилась в обычную долголетнюю, но уже тихую и сладостную молитву.
Легкий шум за дверью прервал ее молитву. Она вздрогнула и обернулась. Распахнув виссоновые занавески, на пороге стояли Августин и его друг Алипий, оба взволнованные, без единой кровинки в лице.
— Августин! Что случилось?
— О, мать моя! Что сейчас было!
— Что было? Что произошло?
И со слезами, прерываемый Алипием, он рассказал ей о том, что несколько минут тому назад произошло с ним по ту сторону дома, в саду под смоковницей.
Весь этот день он был взволнован, ему хотелось плакать, и наконец, не в силах совладать с собой, он вышел в сад, упал на землю под смоковницей и дал волю слезам.
— Где же наконец Истина? Когда кончится этот разлад между духом и телом, раздирающий душу?
Он плакал, молился, рвался куда-то! И вдруг, точно из соседнего дома, послышался детский певучий голос:
— Возьми и читай! Возьми и читай!
Вне себя он бросился к Алипию, у которого только что оставил книгу Апостола. И Алипий прочел следующую фразу: «Немощного в вере принимайте!»
Ведь к нему, Августину, относились слова Апостола: «Христос зовет его к Себе».
— Я христианин, мать моя! Я верую — и жизнь свою отдам Христу!
Она не могла говорить. Вся преображенная его словами, стояла она, светлая и торжествующая, над своим обращенным ко Христу сыном!
А из глубины прошлого доносились пророческие слова:
— Не может погибнуть дитя таких слез!
Платонов
«Я получил блаженное воздаяние…»
В тенистом саду епископского дома в Кирене в 425 году мы могли по вечерам часто встречать знаменитого своею мудростью пастора, епископа Синезия, оживленно беседующего с философом Евагрием. Это были давнишние друзья, горячо любившие друг друга еще с товарищеской скамьи, где они вместе учились языческой мудрости. Но потом судьба надолго разлучила их.
Синезий обратился всем сердцем к единой истинной мудрости — учению Евангелия, стал ревностным христианином и, уже в сане епископа прибыв в Кирену, встретил здесь старого товарища.
Евагрий как был, так и остался язычником. И вот епископ поставил себе заветной целью спасти старого друга, которого не переставал любить со всей теплотой, как в ранней юности.
— Я не верю в языческих богов, это правда! — говорил философ. — Но они необходимы для толпы. Страшные драконы, громовые перуны и прочие ужасы — все это придумано основателями государства, чтобы держать в узде невежественную чернь.
— Не так я думаю о происхождении суеверий! — возразил епископ. — Никакие правители не измышляли сказаний о богах. Нет! Язычество возникло потому, что люди позабыли истинного Бога и, отступив от служения Ему, предались своим похотям. Их очаровывали блага и наслаждения мира сего, и все силы, все стремления души они направляли к земному, видимому и чувственному. Они боготворили видимую природу в ее многоразличных силах и проявлениях. Увлеченные зрелищем мира, люди долго не заглядывали внутрь себя, в свое собственное сердце…
Но пришло время и принесло разочарование. Человечество убедилось, что в природе, в самом мире и в себе нет ничего божественного, и вера в старых богов начала быстро падать.
Сократ первый указал человеку-язычнику на забытый внутренний мир: «Познай себя самого!». С тех пор люди стали догадываться, что счастье человека не вовне его.
— А в чем, Сократ убеждал, — счастье? Не в мудрости ли? — перебил Евагрий.
— Тебе ли говорить об этом? — воскликнул епископ. — Если нет истинного блага во внешнем мире, то нет его и в человеке. При всей мудрости мы можем лишь с грустью сказать, что в себе самих мы не найдем ни истины, ни истинного блага. Припомни-ка, что говорил величайший мудрец, которым мы когда-то много восхищались. Будем ждать Бога ли или вдохновенного Богом человека, который научит нас добродетели и, как говорит у Гомера Афина Диамеду, снимет повязку с наших ушей. Или вспомни о старом Сенеке! Измученный противоречиями всевозможных философских учений, в его лице как бы сам человеческий разум в отчаянии воскликнул: «Ах! Если бы у нас был руководитель в истине!».
— Однако мудрость указала людям немало путей к счастью!
— Знаю эти пути! Умирающему от жажды надо дать поскорее воды, а не рассказывать, как среди безводной пустыни он мог бы достать ее. Сколько глубокой скорби слышится нам в голосах поэтов и мудрецов!
Какое счастье: никогда бы не родиться! А раз появишься на свет, всего бы лучше поскорее убраться туда, откуда пришел! Воистину нет ни блага, ни истинного счастья без Бога, без веры в Него, без служения Ему, без общения с Ним. Все красоты, все наслаждения мира не могут насытить души, созданные для Бога и Вечности!
— Надоела жизнь! Остается смерть! — воскликнул философ. — Вон там страшные крутизны высоких гор, вон бурное море. Там только найдешь свободу от земных скорбей!
— Легко сказать это! — возразил епископ. — Многих ли ты убедишь в том, что смерть — желанная гостья? Припомни-ка горькие слова: «Поседели у меня виски, побелела голова, прошла сладостная юность. От радости жизни ничего больше не осталось, и я часто со слезами вздыхаю, страшась ужасных пропастей!». О! Страшно уйти туда, откуда никто еще не возвращался. Только Господь наш, Спаситель мира, научивший находить смысл жизни в исполнении воли Небесного Отца, Своим Воскресением озарил нам и загробный мир.
— Ничто так не возмущает меня, — вскричал быстро поднявшийся философ, — как ваше учение о кончине мира, о воскресении, о загробной жизни и о будущем воздаянии! Все это обман, насмешка, басни!
С этими словами философ быстро удалился.
Глубоко вздохнул епископ и долго со слезами на глазах сидел в печальном раздумье. Не ожидал он, что его товарищ, как казалось ему, любивший его, окончит беседу столь дерзкими и богохульными словами.
После описанной беседы епископ и философ долго не встречались. Но Синезий тем не менее не терял надежды спасти друга и по происшествии некоторого времени их свидания и беседы возобновились. Епископ не переставал почти ежедневно наставлять, склонять и убеждать Евагрия в истине Евангелия — так горячо он любил его!
Долго он трудился над поставленной задачей, пока, к величайшей радости, не преуспел в этом. Долгое время противившийся философ под действием предваряющей благодати Божией был наконец потрясен силой истины. То был радостный день для епископа. Глубоко раскаявшись в прежнем упорстве, Евагрий крестился вместе со своей семьей и домочадцами. Вскоре после крещения Евагрий вручил епископу значительную сумму денег в пользу бедных и отдал почти все, что имел.
— Раздай это бедным! — сказал при этом философ-христианин с глубоко серьезным видом. — Но дай мне удостоверительную грамоту, что Христос воздаст мне за это в будущей жизни.
— Что же это? — воскликнул изумленно епископ. — Ты не веришь словам Спасителя?
— О нет! — возразил Евагрий. — Но эта грамота мне будет ежедневно напоминать о Его светлых Обетованиях.
Взяв золото, епископ дал ему грамоту, которую тот так желал. Прошло три года, и Евагрий, подвергшийся тяжелой болезни, почувствовал близость кончины. Прощаясь с детьми, он ослабевшей рукой ощупал у себя на груди крепко зашитый сверток и, подавая его детям, сказал:
— Будете хоронить меня — вложите хранящуюся здесь грамоту в мои руки и с ней положите меня в гроб.
Дети исполнили волю отца.
Прошло три дня после погребения, и епископ Синезий увидел во сне спасенного им друга.
— Пойди, — сказал он, — и в гробе, где я лежу, возьми свою грамоту. Я получил, что следует. Чтобы удостоверить тебя в этом, я расписался на твоей грамоте.
Рано утром епископ призвал к себе сыновей Евагрия. Он не знал еще, что они вложили грамоту в руки отца при погребении.
— Что вы положили в гроб вместе с философом?
— Ничего, Владыка, кроме обычных погребальных одежд.
«Не о сокровищах ли нас спрашивает епископ?» — думали сыновья.
— Как! — воскликнул Синезий. — Не положили ли вы с ним грамоты?
— Точно так, Владыка! Умирая, отец дал нам зашитый сверток, сказав: «При моем погребении вложите мне в руку вот эту грамоту, так чтобы никто не знал об этом!».
Получив это сведение, епископ поведал сыновьям Евагрия виденный им сон. Затем, взяв их с собой, пригласил духовенство и граждан, и все отправились к могиле философа.
Разрыли могилу, открыли гроб. Философ лежал, крепко сжимая в руке сверток. Взяв грамоту из рук умершего, развернули ее и нашли только что сделанную собственноручную подпись философа: «Я, философ Евагрий, тебе, святейшему епископу Синезию, желаю радоваться! Я получил по твоей расписке блаженное воздаяние!».
Все были страшно поражены и долго взывали: «Господи, помилуй!» — и славили Господа, творящего чудеса и подающего вечное воздаяние рабам Своим.
Грамота с собственноручной подписью философа сохраняется и доныне, она находится в сокровищнице церкви Киренейской. Всякий вновь вступающий в свою должность вместе со священными сосудами принимает и эту грамоту и бережно хранит ее, а сдавая свою должность другому, вместе с сосудами сдает и грамоту в полной неповрежденности.
Священник Хитров.
Записано в феврале 670 года
в Александрии
Покаяние искусителя
Притча
Вдали от людей в далекой пустыне жил отшельник-подвижник. Кругом на десятки верст не было ни одной человеческой души. Только табуны диких животных мирно паслись на злачных пастбищах около его хижины.
Много всевозможных искушений терпел от врага, духа зла, пустынник, о котором идет настоящая повесть. За свою долгую в пустынном уединении жизнь подвижник все более раздражал врага, но все его нападки побеждал силою молитвы и крестным знамением.
В бессильной злобе враг испробовал над старцем всевозможные искушения и, не достигая цели, так как он всегда, пораженный, бежал от него, решился употребить последнее средство — коварную хитрость.
В глазах искусителя задуманная хитрость являлась последней и такой, против которой, думал искуситель, не устоит подвижник. Притаив коварство и злобу, приняв личину дружелюбия для последнего искушения, враг явился к старцу в чувственном виде, как человек, в то время, когда старец с молитвой на устах трудился, возделывая свой огород, и вступил с ним в беседу:
— Не утруждай себя, старец, бесполезной работой. Думай больше о своем здоровье, — сказал искуситель.
— Труд полезен, он укрепляет человека, и Сам Господь велел трудиться в поте лица и нести свой труд, — сказал старец.
— Нет, я думаю, для тебя полезнее и лучше будет, если ты совсем оставишь бесполезный труд и будешь молиться и размышлять о слове Божием, это гораздо для тебя лучше и полезнее, — так говорил враг, чтобы войти в доверие.
— Есть время для молитвы и рaзмышления, но нужно обязательно часть времени посвящать и на труд, во славу Божию, — ответил старец.
— Для тебя, старца преклонных лет, труд не только бесполезен, но и вреден. Тебе не нужно забывать, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим… — далее враг зaмолчал.
Заметив замешательство его, старец догадался, кто перед ним стоит. Хотя он, умудренный опытом, и сразу же, с первых слов почувствовал, заметил по походке и по всему поведению, что перед ним стоит не человек, а искуситель.
Однако для большего его посрамления старец не отклонял его, а терпеливо ожидал, пока он сам с позором не исчезнет от него, и потому безбоязненно продолжал беседу с ним:
— Слово Божие — для души пища, а для тела Бог велел Адаму в поте лица добывать свой хлеб.
Врагу надоело вести разговор на отвлеченную тему, ему хотелось скорей приступить к самому главному. Прервав рассуждение о пище духовной, он тонко, незаметно начал излагать свою хитрость и плести искусительную сеть.
— А знаешь ли ты, кто пред тобою стоит и с кем ты ведешь беседу?
— Из слов твоих угадываю, — сказал старец.
— Я, твой искуситель, пришел договориться с тобою.
— О чем? — спросил старец.
— Долгое время я искушал тебя и никак не мог соблазнить тебя, и в этом ты заслуживаешь похвалу.
Говоря так, враг думал внушить ему гордость, горделивые мысли, а гордость, как известно, является началом и причиной всякого вечного падения.
Но старец был смиренномудр и на такие слова врага с достоинством отвечал:
— Да, ты много искушал меня и всякий раз уходил от меня со стыдом и позором.
Сморщился враг, ему не понравилось замечание старца; не скрывая своего смущения, враг продолжал:
— Надоело мне искушать тебя, а тебе, я думаю, надоело терпеть мои испытания. Давай договоримся, и я уже в дальнейшем никогда не приду к тебе.
— Хорошо договариваться о полезном, — отвечал старец. — А от тебя едва ли можно ожидать полезного. И что же ты надумал?
— Предоставляю тебе полный покой и никогда более не явлюсь к тебе, и никогда ты больше не будешь терпеть скорбей и неприятностей от меня. Разве это не полезно?
— Слова твои заманчивы, но что ты хочешь предложить мне?
Враг обрадовался: старец, как бы понуждаемый любопытством, интересуется желанием искусителя.
— Предлагаю тебе самую ничтожную вещь, для тебя она ничего не составляет.
— В чем жe состоит сущность твоего предложения?
— В самом пустячном: сделай самый пустячный, ничтожный грешок. Потом покаешься, и Бог тебя простит, и ты будешь жить после этого спокойно, тихо и мирно. Даю честное слово, что больше уже никогда не приду и не буду искушать тебя.
— Мoжет ли быть у диавола честное слово? Вещь заманчивая и сомнительная.
— Выбор совершить грех, какой тебе угодно, предоставлю тебе самому.
Здесь лукавый хотел соблазнить старца маловажностостью греха и обещанием покоя.
— Перед правосудием Божиим всякий грех — есть преступление закона Божия. Всякий грех есть преступление воли Божией, и самый малый грех прогневляет Великого Бога, отгоняет от человека благодать Божию. После каждого греха, соделанного сознательно, человек на нем не остановится, но обязательно сделает еще три или более грехов. Они как кольцо в цепи: возьмешь одно — за ним потянутся и другие. Так и в отношении грехов: сделаешь один грех, а за ним незаметно совершишь и другие грехи.
— Маловажных грехов, — продолжал подвижник, — нет. Что может быть маловажнее вкушения запрещенного плода?! Но оно послужило изгнанию прародителей из рая. Другое страшное зло заключается в грехе, а именно — удаление благодати Божией от согрешившего. После сатана свободно подступает к человеку, подчиняет его своей воле, влагает в его душу смертные грехи…
В настоящем случае лукавый был хитер, а подвижник хитер и умен.
Старец понимал цель врага и со своей стороны принял не только меры предосторожности, но и употребил Божественную мудрость для уловления самого искусителя.
— Охотно принимаю твое предложение, сделаю любой грех, — сказал старец, — но только при одном условии.
Враг засиял, заторжествовал, удивляясь такому скорому согласию старца. Он был рад, но ему не было известно, какое условие хочет предложить старец.
— Что ты хочешь от меня? — спросил лукавый.
— Хочу немного, самые пустяки! — ответил старец. — Скажи, ты был на Небе?
— О, на Небе я был светлым ангелом… — с гордостью ответил искуситель.
— Меня интересует один вопрос.
— Что именно?
— Какие порядки на Небе?
— Такие же, как у вас в монастыре.
— В чем они заключаются?
— В правилах общежития, взаимного уважения и исполнении воли Творца!
— Интересно: какова их внутренняя жизнь?
— Все низко кланяются друг другу, почитают старших, и каждый небожитель беспрекословно исполняет свое послушание, — пренебрежительно сказал искуситель.
— Теперь скажи, пожалуйста, если ты был на Небе и был, как ты говоришь, светлым ангелом, какое же твое было послушание? — спросил старец.
— Весьма вaжнoe! — приняв гордую осанку, сказал искуситель.
— Что же ты делал?
— Я у Престола Вседержителя неумолчно прославлял Творца!
— Так, значит, ты был Херувим? Ведь у святейшего Престола Бога прославляют только Херувимы.
— Да, я был Херувимом.
В душе своей дивился искуситель. Ему было непонятно, для чего старец так подробно расспрашивает о Небе и о небожителях. Вспоминая же свои прежние достоинства и жизнь на Небе, он с гордостью рассказывал старцу о небесной жизни.
— Теперь охотно согрешу, только ты сначала мне спой ХЕРУВИМСКУЮ ПЕСНЬ, какую ты пел у Престола Всевышнего на Небе!
— Ха-ха! — злорадно разразился демонским хохотом искуситель. — Чего ты захотел! Спеть тебе Херувимскую Песнь! А знаешь ли ты, чего просишь? Ведь ты глиняный горшок, а хочешь слушать небесное пение!
— Да, я прошу тебя спеть мне Херувимскую Песнь и в награду передам тебе свою душу без всякого искушения с твоей стороны, — ответил старец.
— Безумна твоя просьба!
— Почему?
— Да потому, что ты не вынесешь моего пения, ты умрешь, растаешь как воск. Помни, что от небесной Херувимской Песни колеблется Небо и содрогается земля!
— Тем лучше для тебя, если я умру, как ты говоришь, от твоего пения: душа моя отойдет, и ты примешь ее в свои объятья и понесешь к отцу твоему сатане. Какая честь и слава ожидает тебя перед всеми бесами и перед отцом твоим сатаной, когда ты явишься в ад с моей душой! Он вознаградит тебя перед всеми.
Задумался искуситель.
Подвижник дал ему задачу. За выполнение ее обещает отдать в награду свою душу, отдав ее без всяких трудов и искушений со стороны лукавого. Отдаст навечно и безвозвратно, только за одно пение…
Говоря о Херувимской Песне, подвижник разумел и просил спеть не ту Херувимскую Песнь, какая поется у нас в церкви за Литургией, которая введена в богослужение при византийском царе Юстиниане II, а ту Херувимскую, которой небесные силы и все небожители устами Херувимов прославляют всемогущество Божие, славословят Его премудрость и благость, величают Его бесконечное милосердие и любовь над всеми, безмерную Его благостыню в искуплении падшего рода человеческого.
Она не известна падшим сынам человеческим, но ею прославляют Бога Херувимы. Вот ее и просил искусителя спеть подвижник.
От такой необычной просьбы пустынника задумался искуситель в нерешимости.
— Что ты задумался? Разве малая награда! Ведь я даю тебе душу свою, за которой ты столько лет охотился и не достигал цели, а теперь за одно пение можешь получить ее!
Оскорбленное самолюбие искусителя не могло вынести замечания старца, и он, встряхнув головой, произнес:
— Так ты желаешь слышать Херувимскую Песнь и в награду даже отдаешь душу? Так слушай же!
Подняв голову, скрестив руки на груди, выставив левую ногу вперед, приняв вид артиста, он запел.
Искуситель уже торжествовал победу, и его радовала предстоящая награда от самого веельзевула, когда он явится с душой подвижника в ад, как с победным трофеем. И он запел…
Никогда земная атмосфера не оглашалась таким чудным пением; весь воздух волновался и дрожал, принимая в себя звуки чудесного голоса и святые слова молитвы Херувимской, от которой колеблется небо и содрогается земля. Облака остановились; казалось, само солнце, увлекшись необыкновенным пением, от удовольствия склонялось к закату. А луна, как невинная девушка, очарованная чудесными звуками, скромно выступала из-за горизонта.
Сладкая мелодия умилительного пения и святые слова Херувимской Песни с первых звуков охватили сердце старца, наполняя его умилением и торжеством.
Чудесная мелодия вся томилась вдохновением и красотою, она росла и таяла, касалась всего, что есть дорогого и тайного, святого. Она прославляла неописуемые и неиссякаемые совершенства и свойства Всемогущества, Премудрости, Благости, Любви и Милосердия Бога Вседержителя.
Она дышала беспрестанной грустью и тоской и уходила в самые Небеса. Пел он, очаровывая все.
Дикие звери, птицы, насекомые встали как вкопанные, поднявши головы, и, затаив дыхание, слушали. А чудесные звуки голоса певца неслись и затопляли все. Голос его дрожал едва заметной внутренней дрожью, которая стрелой впивается в душу слушателя. Голос его крепчал и беспрестанно твердел и расширялся.
Увлекшись сам своим пением, он пел, совершенно позабыв своего слушателя, на уловление и прельщение которого употреблял все свои силы, знания и искусство.
Он пел, и от усиления звуков его пения дрожала вся атмосфера и все живое.
Голос его то звенел, то ослабевал и нежно как бы замирал, смолкал, и проникал в самое сердце, и заставлял его восторгаться и трепетать.
Склонив голову, пустынник с любовью слушал и готов был слушать без конца. Никогда он не только не слышал, но и вообразить себе не мог такое пение. Словами это нельзя передать, можно только сердцем прочувствовать.
Восторг подвижника был безграничен. Душа его от радости ликовала, сердце трепетало. Он действительно чувствовал благость любви и милосердия Бога Вседержителя, и он чувствовал, что не вынесет сего пения и умрет, и потому усердно молился о себе, о всем мире и о своем искусителе.
А чудесные звуки и бесподобное пение еще лучше, еще пленительнее неслись из уст певца.
Во время чудесного пения, которое пустынник слушал с замиранием сердца и с трепетной душой, он с благоговейным любопытством поднял голову, и взглянул на своего искусителя, который так вдохновенно пел и прославлял Совершенство Всемогущего Творца, и поражен был его смиренным видом. Он видел, что перед ним стоит не гордый артист-искуситель, а смирный, кающийся грешник, склонив голову на грудь, руки опустив по швам; ноги поставлены были вместе. Он стоял как на молитве.
Да! Он действительно стоял на молитве. Он стоял и молился, и каялся, и плакал. Было видно, как из глаз его капали слезы на камень и камень, как от огня, расплавлялся от них.
В первый момент, как искуситель запел, он думал, что поет на погибель души старца: он прекрасно понимал, что земное существо не может вынести пения Херувимской Песни, и от умиления он умрет, и тогда искуситель овладеет его душой. Но произошло все наоборот.
Богомудрый старец уловил его самого. Незаметно для себя хитрый искуситель, дух бесплотный, попался и был уловлен мудростью земного существа.
Он хотел петь для прельщения отшельника, но самый умилительный напев и произносимые им святые слова Херувимской Песни коснулись его самого, тронули его злое, жестокое и очерствевшее сердце.
Вместе с произносимыми им словами Херувимской Песни в сердце его вошла благодатная теплота Божественной любви. Озаренный ею, падший дух вспомнил Небо и вечное небесное блаженство. Вспомнил, как со всеми ангелами Божиими торжествовал на Небе у Престола Божия, питаясь Божественною любовью.
Перед его умственным взором во всем величии предстало бесконечное милосердие Божие с бесконечной Его любовью, которую он отверг и попрал, наполнив свое сердце враждой и злобою.
Он увидел бездну своего падения, коварство, злобу, ложь и обман, жестокость и хитрость, наполнявшие его сердце и мучившие его.
Он увидел море слез людских, пролившихся по его воле, он увидел горе и страдание людей. Ему слышались вопли, стоны и плач старых и юных, пострадавших от его деяний, которыми он услаждался.
Он увидел зло в самом существе, самое отвратительное, безобразное. Зло наскучило ему, всем порывом своей души он возненавидел его. И вдруг, как пламень, Благодать Господня охватила сердце его. К нему явилось чувство искреннего покаяния.
Он пел стоя, молился, каялся, плакал. По мере усиления чувства раскаяния звуки его пения становились все нежнее, красивее, пленительнее и сладостнее.
Все окружающее немело, как бы замирало в ожидании чего-то необыкновенного.
Действительно, происходило необыкновенное событие. Каялся искуситель, падший дух. Свидетелями сего необыкновенного события были Небо и земля.
Звуки покаянного пения и плача проникали в самое Небо. Их слушали святые ангелы и радовались. Они, преклонив колена, молили Отца Небесного простить и помиловать кающегося брата.
Пламя покаяния и сердечного сокрушения охватило все его существо, и покаянный вопль его как стрела вонзился в подножие Престола Божия, а пустынник стоял и с благоговением и страхом наблюдал совершавшееся.
Он видел раскрытие вековой тайны, разрешение мировой драмы…
Старец, к своей великой радости, заметил на мрачном лице певца светлую точку, и по мере усиливающегося покаяния точка все более и более расширялась; она охватила постепенно все его лицо, голову и грудь, и наконец весь он просветлел.
Видел пустынник, что крылья летучей мыши с перепонками отделились от спины кающегося.
И, когда Милосердный Господь, с любовью внимавший покаянной мольбе кающегося падшего духа и умоляемый всеми небесными силами, Божественными устами изрек: «Прощаю!» — заколебалось Небо, возрадовались Ангельские воинства и, ликуя, с торжеством воспели:
— Аллилуйя! Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вседержитель к Тебе иже бе, сый и грядый!
На земле же перед пустынником происходило дивное зрелище. Когда отделились от спины кающегося певца крылья летучей мыши с перепонками и со всего тела слетела, как чешуя, мрачная пелена, — сверкнула молния и грянул гром. Молнией ему сожгло пелену и крылья.
Радости пустынника не было границ: в дополнение сего дивного зрелища и необыкновенного события взору старца представилось необычайное чудо: над головой он видел разверзшиеся Небеса, и из глубины Небес в свете блистания, как солнце, спускались, в Ангельском блистании одеяны, два великих Архангела Божия: Михаил, небесных чинов Начальник, и Гавриил, Предвозвестник тайн Божих.
Они со славою одели блистающим одеянием покаявшегося брата и, обнимая его, с радостью приветствовали. Радость, и восторг, и восхищение пустынника достигли крайних границ и пределов.
Он видел свою победу, победу добра, поражение и уничтожение зла. Видел и радовался, и радость его была так велика, и переживания его были так сильны, что душа его отрешилась от тела.
Он умер от чудесных звуков, от умилительного пения, от святых слов Херувимской Песни и от всего виденного.
Он растаял как воск.
Он умер, душа его отошла от бренного тела, и после того, как два великих Архангела вслед за приветствием взяли под руки покаявшегося брата, небожители подхватили и душу подвижника, и с восторгом все четверо вознеслись в открытое небо, в глубину Небес, с торжеством и веселием встречаемые всеми Небесными Силами.
Можно было опасаться, что это необыкновенное событие пропадет и исчезнет бесследно, так как свидетелями его были лишь бессловесные животные, и таким образом потомство лишится назидательного примера и Божественная мудрость старца покроется мраком забвения.
Все мрачное владычество, все бесы рады были скрыть бесконечное милосердие Божие, открывающееся в прощении и принятии не только великого грешника из людей, но и покаяния искусителя, падшего духа.
Божественный старец сам позаботился из загробного мира, чтобы его победа и бесконечное милосердие Божие, как богатое наследство, досталось потомкам.
Наследство это весьма ценно и полезно для назидания, для поддержки и ободрения всех грешников.
Пусть никто не отчаивается в своем спасении и не отлагает своего покаяния.
В Святом Евангелии Господь говорит: «Грядущего ко Мне не изгоню вон!». Он принимает и прощает всех кающихся: мытарей, блудниц, разбойников и даже покаявшегося падшего ангела, если только грешник искренне, чистосердечно с сокрушенным сердцем перед Богом принесет свое покаяние.
Старец явился христолюбцу, который по временам навещал его при жизни, и рассказал ему об этом событии; при этом старец заповедал с любовью ко слову Божию передавать настоящую повесть всем людям и заповедал похоронить его бренное тело на месте его кончины.
Повесть о праведном простеце-пастухе
и о пришествии к нему Господа
Древнее предание
В одном пустынном месте на востоке жил пастух. Он был христианином и Святого Крещения сподобился, еще будучи младенцем. Пришедши в возраст, он не жил с людьми ни в городах, ни в деревнях, а ходил со своим стадом по пустыне. Почти сам собою, хотя и с великим трудом, он выучился читать, но читал постоянно одни и те же книги: Святое Евангелие Господа Иисуса Христа и Псалтирь пророка Давида. Кроме того, он много думал, особенно когда наступала ночь и являлись звезды на небе; тогда он говорил Создателю из глубины души:
— И все это погибнет, и все это исчезнет, а Ты и также лета Твои не кончатся.
Скоро стало ему казаться, что напрасно он трудится во временной жизни, напрасно хлопочет около своих овец и коз. Из Писания он увидел, что нужно заботиться о том, чтобы спасти душу и войти в Царствие Небесное. От этого ему стали противны пастушеские труды, и он был бы рад оставить стадо на волю Божию, чтобы самому идти в Царство, прямо уготованное праведникам от создания мира, но как туда идти, он не понимал.
Когда Господь жил на земле видимо, то Он говорил: «Иди за мной», — но Господь теперь невидим, от кого же услышать, куда и как идти?
Пастух размышлял: «Если в городе поселиться, не было бы хуже; если куда-нибудь в пустыню идти, то я и без того в пустыне, и без того в одиночестве».
Много он думал об этом и немало беспокоился, не зная, какую бы ему сделать перемену в своей жизни, каким бы путем направиться, чтобы приблизиться к Царствию Небесному и войти в него. Однажды он набрел в пустыне на избушку, в которой жил святой старец, и постучал в ее дверь. Старец вышел и спрашивает:
— Что тебе нужно?
Пастух отвечает:
— Укажи мне путь к Царствию Небесному.
Старец стал спрашивать его, как он живет.
Пастух никогда никого не обижал, никогда не прелюбодействовал, и была у него такая простая и чистая душа, что он и мыслями худыми не занимался, и почти не понимал, какая бывает неправда.
Подивился старец его великой чистоте и простоте, подумал, что ему ответить, и наконец сказал:
— Чадо мое, иди прямой дорогой, никуда не сворачивай, и придешь в Обитель Отца Небесного.
Сказав это, старец не стал объяснять ему свои слова, а ушел и затворился. Он подумал, что Господь Сам вразумит простосердечного пастушка и приведет его в Свое Небесное Царство, как Сам изволит.
Пастух понял слова старца буквально. Неподалеку проходила прямая и длинная дорога. Он вышел на нее, зная, что она никуда не поворачивает, а идет все прямо — кажется, что вдали земля с небом сходятся. По этой дороге он и пошел. Шел он несколько суток. Наконец увидел, что прямо посреди дороги стоят постройки, окруженные стеной, над постройками виднеются золоченые кресты, в стене проделана дверь. Чтобы никуда не сворачивать, нужно было пройти в эту дверь.
Пастух постучал в нее, и скоро к нему вышел привратник. Привратник спросил пастуха, что ему нужно и куда он идет. Пастух отвечал, что он хочет дойти до Царствия Небесного, что ему для этого указано идти прямой дорогой, и что он уже идет несколько суток, и что теперь ему нужно пройти в эту дверь. Привратник сказал, что это монастырь и что он сейчас сходит и спросит у игумена.
Игумен приказал впустить и привести к нему пришедшего. Поговорив с ним, немало подивился он: пастух наизусть знал Новозаветное Писание. Но это было еще не так удивительно. Удивительна была его великая простота и святая доверчивость к людям. Несколько дней тому назад какой-то старец сказал ему идти прямой дорогой, и он пошел и идет, и будет идти до самой смерти, не сомневаясь нисколько в том, что сказал ему старец.
«У этого пастуха, — подумал игумен, — душа такая праведная, что он не знает, какая есть неправда, и не подозревает в людях ничего неправедного. Нужно поберечь его». Игумен сказал пастуху остаться в монастыре и занять здесь должность церковного дверника, чтобы запирать и открывать церковь, мыть и подметать там полы; и еще он указал: если что будет нужно, то спрашивать прямо у него, потому что на некоторых живших в монастыре игумен не надеялся, что они всегда скажут правду, видя великую доверчивость пастуха. И стал пастух служить огромному и великолепному храму, какого он и во сне никогда не видел.
В этом храме высоко над землею, под самым сводом, в углублении стены, почти в темноте находился образ Христа величиной в человеческий рост и так чудно выделанный, что издали образ совершенно походил на живого человека. Новый дверник, как вошел перед службой в пустой храм, так и почувствовал, что он как будто тут не один, как будто там наверху кто-то стоит. Подумалось ему, что это, может быть, там так хорошо нарисовано, но когда он вглядывался — ему все больше казалось, что это живой человек. По окончании службы новый дверник подошел к игумену и говорит ему:
— Скажи, отче, живой это там человек стоит?
День был воскресный, игумен служил обедню сам и после Причащения Божественных Тайн весь был в духовной радости и любви христианской. Он взглянул на дверника с доброй улыбкой и сказал:
— В том и радость наша, что Он живой и не умирает и смерть Им не овладеет!
Дверник так и понял, что в храме наверху живой человек поставлен и что жизнь в Нем такая же, как и во всех людях. Хотел он спросить игумена, как же это, да не успел — к игумену подошла братия за благословением и с разными вопросами. Когда же игумен пришел к вечерне, дверник снова подошел к нему и спрашивает:
— Отче! Кто же это стоит там?
Игумен тоже прямо не ответил ему.
— Это, — говорит, — наш Пастырь!
Хотел он объяснить слова свои, да ему кто-то помешал, а простодушный дверник-пастух так и понял, что стоящий наверху в прежнее время пас стада овец, как и он, потом пришел в монастырь и занял должность дверника, как и он, но за какую-нибудь неисправность от должности удален и для наказания поставлен стоять в храме наверху. Однако за какую же неисправность его наказали так тяжко?
Кончилась служба, опять мимо дверника проходит игумен, глядит на него, как бы ожидает от него вопроса.
И в самом деле дверник спрашивает его:
— Скажи, отче, за какую погрешность прежний дверник осужден стоять наверху?
Игумен уже собрался объяснить простецу, что это образ исходящего из гроба Христа Спасителя, Который назвал Себя Пастырем и Дверником, но он подумал, что его новый послушник уж очень прост, и что таким недогадливым оставаться нельзя; что человеку нужна и смышленость, чтобы разуметь и притчу, и замысловатую речь. Поэтому игумен подумал: «Пускай сам догадается» — и вслух сказал:
— Этот Пастырь и Дверник ничего не сотворил, и неправды не было на устах Его, но Он взял на Себя грехи других и за чужие грехи понес наказание.
После этого новый дверник, пришедший в назначенную ему келию, долго не мог заснуть; ему все думалось о том, как тяжко страдать без вины, страдать за других. Как тяжело оставаться одному в пустом храме, стоять там без отдыха и пищи день и ночь!
На другой день новый дверник был очень печален, во время обеда ничего не ел, а что подавалось ему за столом, то унес с собой.
Когда в тот день окончилась вечерняя служба и дверник должен был остаться в храме один для того, чтобы подмести и вымыть полы, то он сходил в свою келию и принес в храм узелок с пищею, которая оставалась у него от обеда; потом стал говорить шепотом, чтобы не нарушать церковной тишины, и, обращаясь к стоящему наверху, сказал:
— Добрый Пастырь, праведный Дверник! Послушай меня! Ты, наверное, очень устал стоять там без сна и пищи. Сойди сюда и подкрепи Себя пищею. Вот хлеб, вот часть печеной рыбы, вот сотовый мед!
Но ответа на эти слова сверху не было.
Тогда дверник продолжал говорить еще настойчивее:
— Добрый Пастырь! Ты, может быть, боишься игумена, не решаешься сойти сюда и вкусить пищи, которую я принес для Тебя. Но ведь игумен — добрый человек. Он сам жалеет Тебя и радуется, что Ты еще жив. Он говорит, что Ты не сделал ничего, что было бы достойно осуждения, а поэтому я умоляю Тебя, сойди сюда и подкрепись пищей!
Но и на это моление не было ответа. Тогда дверник продолжал еще настойчивее:
— Умилосердись надо мною, Добрый Пастырь! Я целую ночь не смыкал глаз, жалея Тебя, и придумывал, как бы помочь Тебе. Сегодня я не дотрагивался до пищи и все приберегал для Тебя. Это я теперь принес сюда, успокой меня и сойди ради Самого Христа, Которого Ты, конечно, знаешь. Он не гнушался угощением грешных людей, гостил у мытарей и преломлял с ними хлеб!
После этих слов наверху послышалось движение с той стороны, куда обращалась усердная молитва дверника. Кто-то выступил из углубления стены в голубой ризе, с сиянием вокруг головы, и стал тихо и легко, как солнечный луч, спускаться по выступам в стене и в иконостасе на середину храма. Он приблизился к простодушному двернику, и Его взор, полный неизъяснимого величия и бесконечной благости, остановился на нем. Он взял от него печеной рыбы, хлеб и часть сотового меда (Лк.24:30-43) и вкушал. И тогда простодушный дверник вопрошал Его. Господь же отвечал ему голосом (Ср. Исх.19:19).
Эту беседу некоторые иноки, проходившие мимо церкви, слышали, и тогда же, встретившись с игуменом, кто-то из них сказал ему, что в такую позднюю пору в храме слышали беседу, а кто беседует, неизвестно. Игумен послал за дверником, чтобы спросить у него, кто был сейчас в храме, с кем он вел беседу. Дверник явился к игумену с радостным и блаженным лицом. Игумен сразу увидел, что с дверником случилось что-то особенное.
— Ах, отче! — сказал он. — Какую сладость я испытал в сердце своем несколько минут тому назад! Душа моя истаивала от радости, когда я слушал Этого Чудного Дверника, о Котором спрашивал тебя вчера.
Сегодня я принес Ему пищи и упросил Его сойти ко мне вниз, чтобы Он отдохнул и подкрепился пищей. Он сошел.
— Как? Он сходил к тебе? — спросил игумен в благоговейном ужасе.
— Не гневайся на Него, отче святый, за это, — сказал простодушный дверник. — Если бы знал, какая сладость в речах Его и во всем явлении Его, ты, наверное, отложил бы всякий гнев на Него. Ты бы сам пришел умолять Его, чтобы Он никогда не уходил от тебя!
— И Он беседовал с тобою? — спросил игумен.
— Как же! — отвечал простосердечный. — Я спросил Его, как Он может стоять на такой высоте, главы не преклоняя, хлеба не вкушая? Он ответил мне, что Он живет тут, в храме, в доме Отца Своего. Говорил, что там, в Доме Отца Его, уготованы неизреченные радости всем, кто заслужит Его любовь. Тогда я спросил, не могу ли я как-нибудь заслужить любовь Его, чтобы жить с Ним в Доме Отца Его? Он сказал мне, что уже возлюбил меня и я пребуду в любви Его и увижу славу Его. Тут от сладости блаженства изнемогло сердце мое и весь состав мой. Я упал перед Ним и лобызал Его ноги. А когда поднялся с пола, то (не знаю, как это случилось) Он снова стоял вверху на прежнем месте.
Игумен слушал рассказ праведного простеца, обливаясь слезами.
— Чадо Божие! — сказал он двернику, целуя его. — Блаженные твои очи, видевшие то, что видеть не удостоился я в течение всей моей жизни, вчетверо продолжительнее, чем твоя.
На это дверник ответил:
— Что же тебе мешает отправиться завтра в храм и призвать Вышнего Дверника вниз, на середину храма, чтобы ближе видеть Его и говорить с Ним? Если пожелаешь, то я там в это время буду вместе с тобою, так как призывать Его и беседовать с Ним мне стало привычно.
— Нет! Я не могу это сделать, — сказал игумен, разумея свое недостоинство. — Но если бы Он снова сошел к тебе, то, умоляю тебя, поговори с Ним обо мне. Я живу на этом свете близко к сотне лет. Лет восемьдесят несу монашеский обет, да уж и монастырем-то управляю лет шестьдесят. Когда же Он переведет меня отсюда в Дом Отца Своего? Всю жизнь я к этому стремился и к этому готовлюсь. Когда же, наконец? Когда?
И, говоря это, старец стонал и заливался все новыми и новыми слезами.
— Не убивайся, святый отче. Если можно будет, я поговорю с Ним о тебе, — ответил на это простец.
На следующий день повторилось то же самое, что было накануне. По окончании вечерних служб игумен со страхом и нетерпением ожидал прихода дверника. Наконец он явился с лицом, сияющим неземной радостью.
— Радуйся, отче! Возрадуемся вместе, все устроилось как нельзя лучше. Вышний Дверник снова сходил ко мне, и я говорил с Ним о тебе. Он не хотел было переводить тебя в Обитель Отца Своего, но я упросил Его. Он говорил, что ты еще не совсем готов, но я рассказал Ему, как ты вчера плакал, вспоминая свои долголетние труды, и желал бы успокоиться от них, и я упал к ногам Его, говоря: «Ты обещал мне, что возьмешь меня с Собою к Отцу Своему. Но, как ни сладко мне быть с Тобою, как ни трудно мне быть от Тебя вдали, однако пусть лучше я здесь останусь, лишь бы игумен получил желаемое. Он так этого хочет, так об этом плачет…».
Тогда Он умилостивился и сказал:
— Готовьтесь оба, завтра исполнится ваше желание!
Игумен бросился к двернику на шею, благодарил его и говорил:
— Праведный простец! Ты видел Самого Господа Иисуса Христа, и Он возвестил тебе, а через тебя и мне, что завтра мы перейдем с тобою из этого суетного мира в обители Отца Небесного! Иисус Христос есть Пастырь наш, а мы овцы Его, и Он, как истинный Пастырь, отверзает нам вход в Небеса и там нас вселяет во «дворы Своя». Приготовимся же к смерти, которая будет для нас великим счастьем.
После этого игумен сделал последние распоряжения по монастырю, назначил себе преемника и простился с братией. С простосердечным же дверником он не расставался до последнего вздоха. Наутро во время Божественной Литургии они оба причастились Святых Христовых Тайн и вскоре среди хвалебного пения и сладкой молитвы с величайшей радостью перешли от мира сего в вечную блаженную жизнь.
Этой блаженной жизни не лиши и нас, Господи Иисусе Христе! Помоги нам отринуть от себя мирское лукавство и утвердиться в сердечной простоте, доброте и чистоте, дабы и нам когда-либо встретить и узреть Тебя по обетованию Твоему!
«Блаженны чистии сердцем, яко тии Бога узрят!»
Генофейфа
Древняя легенда
Много лет тому назад в одном семействе родилась дочь, которую назвали Генофейфа. Отец ее был на войне и находился в большой опасности, но одним из воинов был спасен. Имя этого воина — граф Зефрид.
По окончании войны отец Генофейфы возвратился домой и привез с собой молодого человека. Дочь его к этому времени выросла и стала красивой девушкой. Она имела кроткий нрав и любила делать добрые дела. Генофейра как могла помогала бедным, утешала страждущих.
Зефрид был очень дорог для отца девушки, так что отец выдал свою любимую дочь за него замуж.
В те дни в доме Генофейфы была большая радость: возвращение отца с военных походов, брачный пир Зефрида с Генофейфой. Но эта радость была недолгой. Генофейфа должна была покинуть родительский дом и уехать с мужем в его дом. При расставании отец сказал:
— Мы в преклонных летах с матерью, и Бог знает, может, больше мы вас не увидим, но пусть вас хранит Бог. — С этими словами он обнял свою дочь и добавил:
— Да сопровождает тебя Господь, дочь моя, на всех путях твоих. Если не свидимся здесь, на земле, то будем надеяться на радостную встречу на небесах.
Затем Зефрид и Генофейфа преклонили колена, получили родительское благословение, простились со слезами и отправились на родину Зефрида.
Жили они счастливо, любили друг друга. Генофейфа была милой женой и хорошей хозяйкой. С людьми — ласкова и добра. Она ухаживала за больными и всем помогала, как могла. Люди тоже любили ее. Но вот внезапно пришла весть о том, что в их стране началась война. В ту ночь Зефрид с женой не сомкнули очей, а наутро Зефрид отправился в дальний путь. При расставании Генофейфа горько заплакала, обняла мужа и сказала:
— Мой любимый, кто знает, вернешься ли ты с этой грозной войны?
— Не плачь, дорогая жена, будем надеяться на Бога, — и, утешая ее, Зефрид со всеми распрощался и тронулся в путь.
Все слуги провожали его. Генофейфа смотрела ему вслед, и сердце ее обливалось кровью от горести разлуки.
— До свидания, любимая! Не забывай меня в молитвах! — это были его последние слова.
После разлуки с мужем она сильно тосковала и не находила себе нигде покоя. Комната их казалась пустой без хозяина. Многие предметы напоминали о любимом муже. Она начала учить служанок шить, прясть, вязать и читала им священные книги. Спать ложилась поздно. Долго молилась о муже, чтобы Бог хранил его в бою.
Все свое имение, дом и прислугу Зефрид поручил одному из своих слуг, Николаю. Человек он был видный пред народом, но внутри был исполнен зла и не имел страха Божия. Скоро стал он строго и несправедливо поступать с рабами. Не было в нем жалости к людям.
Однажды Николай предложил Генофейфе изменить мужу, что для нее было страшным грехом, и он получил гневный отказ. Генофейфа, видев лукавство Николая, решила написать мужу письмо о том, что творится в доме: а именно, что Николай оскорбляет ее своими притязаниями.
Написав мужу письмо, она снарядила в путь старого слугу по имени Дряк, чтобы он лично вручил его в руки Зефриду.
Николай был зол и хитер. Он проследил за ее намерением, и по дороге настиг старого слугу, и вонзил в спину ему кинжал. Так погиб ни в чем не повинный старик, а письмо Николай взял у него и прочел, и еще сильнее закипела злоба в его сердце. В одну ночь зашел Николай в комнату Генофейфы и силой хотел завладеть ею, но она подняла крик, сбежались слуги. Однако Николай объявил всем, что якобы застал в ее комнате чужого мужчину, и весь двор, в страхе перед жестоким управляющим, принял ложь Николая за правду. Бедная Генофейфа так была обижена неправдой, что не могла произнести ни одного слова; истину знал только Бог.
Ее схватили и посадили в темницу, а мужу Николай написал ложное письмо и был в надежде, что получит смертный приговор для Генофейфы. Так, ни в чем не повинная, сидела Генофейфа на соломе, на сыром полу. Возле брошенной узницы поставили кувшин воды и положили кусок темного хлеба. Только через маленькое окошко вверху пробивался в темницу дневной свет.
Генофейфа в слезах взывала ко Господу:
— Отец мой Небесный! Я взываю к Тебе из глубины моего сердца. Я заброшена всеми людьми. Отец и мать не знают о моем несчастии. Муж мой вдали от меня, и я предана в руки злых людей.
Так в слезах день и ночь молилась бедная женщина и только в этом находила себе утешение.
Прошло несколько тяжелых для Генофейфы месяцев, и ей пришло время родить. Она лежала на сырой земле, и никто не подал ей в эти тяжелые часы ни глотка воды, ни горячей пищи… Так она родила сына и назвала его «Великая скорбь». Николай предлагал ей свободу, но только с условием, что она будет жить с ним.
Но Генофейфа ответила ему:
— Лучше умру в темнице, но не сделаю такого греха.
Николай грубо закрыл дверь и сказал:
– Если не хочешь воспитать своего сына со мной на свободе, то погублю тебя и сына твоего.
Генофейфа упала на солому, прижала к груди свое бедное дитя и, горько плача, молилась Богу.
Все вокруг утихло. Была глубокая ночь. И вдруг в маленькое окошечко тюрьмы кто-то тихо постучал:
— Генофейфа! Генофейфа!
Она приподнялась к окну.
— Это я, Вера. Я лежала больная, и Вы меня вылечили; я Вас так полюбила. И все мы знаем, что Вы невинная, но мы не можем и не в силах Вас освободить. Вот кое-что для ребенка, и еще я принесла бумагу и карандаш. Может, Вы что-то напишете. Опишите свою тайну, чтобы я могла свидетельствовать о Вашей невиновности. Я пробралась к Вам, чтобы сообщить страшную для Вас весть: Вы и Ваш сын должны умереть в сию ночь; Ваш муж повелел своему управителю Вас уничтожить. Я узнала об этом и решила проститься с Вами. За все то доброе, что Вы сделали для меня, я хочу Вас отблагодарить. Если есть у Вас какая-то тайна, то передайте ее мне.
Генофейфа отшатнулась от окна, она не могла говорить. Потом, словно опомнившись, попросила бумагу и карандаш. Склонившись на пол, она стала писать письмо мужу:
«О, мой милый муж, Зефрид! Когда будешь читать этот листок, то тело мое будет уже в земле. Я умерла как преступница, но, поверь мне, я невинна пред тобою. Непорочна предстану перед Богом. Бог знает мою невинность. Мой милый муж! Тебя обманули! О, если бы ты знал правду, то не дал бы им права уничтожить меня и твоего сына. Но проси Бога, чтобы Он простил тебе твою поспешность. И если ты встретишь горе на земле, то знай, что есть на Небе Отец, и там увидишь ты любимую жену и своего сына, которого ты не видел на земле. Там ты узнаешь мою верность. Я благодарю тебя за любовь, которую ты дарил мне, когда мы были вместе, и эту любовь я беру с собой в могилу. Девочку, которая передаст тебе это письмо, не оставь без награды. Она одна осмелилась прийти ко мне в темницу. Все боялись. Николаю за меня не мсти и не проливай крови. И тем людям, которым поручено было меня казнить, — прости. Не плачь обо мне. Прощай, мой любимый муж Зефрид».
Горькими слезами было залито это письмо.
— Когда мой муж вернется, то ты ему лично в руки отдашь это письмо. Только никому ни слова.
Генофейфа сняла с себя золотую цепочку, одела ее на шею Верочки и сказала:
— Не думала я, что тот, кто одел мне на шею цепочку, прикажет с меня снять голову. А теперь прощай, моя Верочка. Уповай на Господа и держи все в тайне, никому не рассказывай.
Вера тихо удалилась, как и пришла. В ту ночь открылась железная дверь темницы и вошли два вооруженных мужчины. Генофейфу нашли стоявшей на коленях и прижимавшей к груди своего малютку. Она молилась.
— Генофейфа, бери ребенка, пойдем с нами.
— Я в Божиих руках, да будет Его воля надо мною, — с этими словами она взяла крошку и последовала за ними.
Шли они долго темными ходами и вышли к лесу. Вдруг они остановились, и мужчины приказали отдать им ребенка. Один из них сказал:
— Нужно завязать ей глаза.
Генофейфа попросила:
— Будьте милостивы к невинному дитя. Не убивайте его, а отдайте его моим родителям.
— Этого мы сделать не можем.
— Если не можете, то ради ребенка оставьте меня в живых. Я даю Вам клятву, что никогда не покажусь на глаза ни одному человеку и не уйду из этого леса до смерти.
Она пала перед ними на колени и умоляла:
— Будьте милостивы ко мне, и Отец Небесный будет милостив к Вам.
— Мы не можем не исполнить приказа своего хозяина.
А она молила их со слезами:
— Пощадите дитя невинное. Смотрите — звезды на небе. За этими звездами есть Бог, который призовет и вас пред лице Свое.
Сказав это, она упала на землю и стала молиться:
— О, милосердный Боже! Смири сердца этих людей, чтобы пощадили мое невинное дитя и меня. Ведь они тоже имеют жен и детей.
— Я не могу больше смотреть на эту картину. Мы знаем эту женщину. Она помогла нам в наших болезнях и помогала нашим детям.
Молитвой Генофейфа разбила их грубые сердца.
Тогда они сказали друг другу:
— Если мы оставим ее в живых, то нам придется умереть, когда ее найдут в этом лесу; причем хозяин велел вынуть глаза и принести ему в доказательство, что она действительно убита.
На мгновение они замолкли, и тогда один сказал:
— С нами прибежала собака, давай ее убьем, выколем глаза и принесем ему, и он не узнает. Неужели тебе собаки жальче, чем губить две души?
Так они и сделали. А мать, прижав ребенка к груди, дрожа всем телом, шла по темному лесу, все дальше и дальше уходя в чащу. Так она шла, пока не потеряла силы. В изнеможении она упала на землю, прижимая к груди своего ребенка, и, согревая малыша своим телом, лежала так до утра, продрогшая, измученная и усталая.
А мужики шли тем временем молча до самого дома, и из их глаз катились слезы.
Николай, погруженный в глубокие думы, встретил их сердито в своей комнате. Ему протянули руку с глазами, которых он устрашился. Он не стал смотреть и закричал:
— Унесите их, я не могу на них смотреть, убирайтесь вон! И не попадайтесь мне на глаза!
Мужики скрылись, но совесть мучила Николая и не давала ему покоя. С тех пор он стал еще более жестоким и многих слуг казнил, а иных выгнал из дома.
Настало утро. Генофейфа не в силах была двигаться. Она прижимала к себе ребенка и славила Бога за дарованную свободу. Куда идти? Кругом лес, и слышен вой волков; но ее радовало то, что тут нет злых людей. Они одни с сыном. Она говорила себе:
— Я зверей не страшусь. Не для того Бог оставил нас в живых, чтобы отдать на растерзание диким зверям.
Этими мыслями она себя утешала. Только где найти приют и пищу? Кругом лес. Но она бродила по этому лесу, ища себе пристанища от холода и голода.
Ребенок плакал…
Генофейфа тщательно осматривала кусты и скалы и не заметила, что день склонился к вечеру. Вдруг она увидела небольшую пещеру, обросшую кустами, и возле кустов — ручеек. Она вошла в пещеру, встала на колени и молилась Богу, чтобы Он не оставил их без милости.
Вдруг послышался шорох, и… в пещеру вошла лань.
Это было огромное животное, которое никогда так близко не видело человека. Но все же лань смело вошла. Наверное, она приходила сюда на ночлег. Генофейфа подошла к ней и начала ее гладить. И вдруг ей пришла в голову мысль, что это животное сможет накормить ее и ребенка. Действительно, осмотрев лань, она обнаружила в ее сосках молоко. Видимо, совсем недавно дикие звери растерзали ее детеныша. Лань была тиха и послушна, и они утолили голод.
Генофейфа поблагодарила Бога за Его неизреченную милость к ним. Немного отдохнув, она насобирала моху в лесу и сделала в пещере постель. Еще раз помолившись Богу, она легла с сыном спать.
Все это время лань не покидала их. Она была очень добра. Она кормила их своим густым и вкусным молоком. Так они и жили втроем, в одной пещере.
Проходили дни и месяцы, проходили годы. Генофейфа с сыном собирали ягоды, корни, а лань поила их молоком. Несмотря на тяжелую жизнь, сын Генофейфы рос и был здоров. Он стал очень красивым мальчиком, мать не могла ему нарадоваться. Вот только не было у них одежды и не во что было одеть ребенка. Однажды Генофейфа нашла в лесу звериную шкуру, она сделала из нее одежду.
Когда сын подрос, стал многое понимать и начал говорить, ей стало веселее. Она учила его всему тому, чему ее саму учили когда-то родители.
Так проходило время. Генофейфа с сыном прожила в лесу семь лет. Малыш рос здоровым и красивым. Весь он был словно портрет отца, и мать радовалась, глядя на сына. Но здоровье ее с каждым днем слабело, красота увядала.
Наступила осень. В пещере стало сыро. Сын уже был своей матери помощником во всем. Он ходил за пропитанием в лес, и они довольствовались тем малым, что посылал им всемилостивый Господь.
Время подходило к зиме, завыли волки, но мальчик ко всему привык и ничего не боялся. Другой жизни он просто не знал.
Пришла зима. Генофейфа совсем ослабела. Мальчик стал замечать нездоровье матери и однажды спросил:
— Мама, что с тобой, почему ты так изменилась?
— Дорогой мой сынок, я чувствую себя очень плохо. Наверное, я скоро умру. Это правда, мое милое дитя, скоро я усну навсегда. Уши мои не будут слышать, глаза не будут смотреть, и я никогда больше не встану на ноги.
— О, мамочка, не умирай, не надо, я буду плакать, я не хочу быть один!
— Не плачь, моя детка, я оставлю здесь только свое тело, а сама пойду к Отцу Небесному на Небо.
— Тогда я тоже с тобой хочу на Небо! Я не хочу оставаться в лесу с волками!
— Нет, сынок, ты еще не должен оставлять эту землю. Ты должен жить. Когда ты увидишь, что глаза мои закрыты и тело холодное, тогда оставь лес…
И она показала ему, в какую сторону идти.
— Когда ты выйдешь из леса, то встретишь людей.
— Мама, а разве еще есть люди? — удивленно спросил мальчик. — О, мамочка, если бы ты могла встать, мы бы пошли к этим людям!
— Нет, сынок, эти люди привели нас сюда и хотели убить. Они живут в теплых домах, им хорошо, но они злые и не умеют благодарить за все Бога.
— Как я пойду к ним? Лучше я останусь со зверями и с нашей ланью.
Мать привлекла сына к себе и сказала:
— Слушай меня. Я тебе все говорила о Небесном Отце, но знай, сынок, что у тебя есть отец и на земле.
— О, какая радость! — сказал мальчик с восторгом. — Почему же он не в этом лесу и не ищет нас?
— Он, сынок, про нас не знает, что мы здесь. Он думает, что мы убиты. — И она показала мальчику кольцо на своей руке.
— Твой отец подарил мне это кольцо. Когда я умру, ты снимешь это кольцо и возьмешь его с собой, чтобы он узнал, что ты его сын. Когда пойдешь к людям, спроси графа по имени Зефрид, это твой отец. Но никому не говори, кто ты и откуда, и кольцо никому не показывай. Когда увидишь отца, скажи ему, что это кольцо передала ему твоя бедная мать во свидетельство о том, что ты — его сын. Скажи отцу, что я умерла и передаю ему сердечный привет… За все я ему простила.
Сказав все наставления сыну, она упала на мох и горько заплакала…
Прошла и эта зима, пришла весна. Генофейфа чувствовала себя все хуже и хуже. Силы покидали ее. Она целыми днями лежала на моховой постели, и сын за ней ухаживал, как мог. Генофейфа часто рассказывала сыну про Иисуса Христа: о том, как много Он творил чудес на земле, и что, страдая за весь мир человеческий, умер и воскрес. Однажды она почувствовала себя совсем плохо. Тогда она позвала сына и сказала:
— Встань на колени возле меня.
Она благословила его. Горькие слезы падали на голову ребенка.
— Да благословит тебя Бог, мой милый мальчик, да умножит Бог потомство твое, да сохранит тебя Господь во всех твоих путях, да управит сердце твое, чтобы из тебя вышел добрый человек. Дай Бог нам встретиться в вечной жизни, мое доброе дитя.
Сказав это, она затихла и закрыла глаза. Сын молча смотрел на мать, думая: спит она или умерла? Он подошел ближе к Генофейфе и залился горькими слезами.
Отчаянный крик вырвался из его чистой детской души:
— О Иисусе, дорогой! Ты многих воскрешал. Не дай умереть и моей бедной маме!
* * *
Когда граф Зефрид получил от неверного слуги Николая ложное письмо о своей жене, он был в неукротимом гневе. И сейчас же дал ответ: «Казнить жену и сына».
Вскоре Зефрид встретил седого старика, который знал Генофейфу. Узнав от Зефрида, какой он отдал страшный приказ, старик сказал:
— Даю свою седую голову на отсечение, что это ложь! Как мог ты поверить Николаю? Твоя жена и дитя невинно пострадают! Я знаю Генофейфу и ее родителей и уверяю, что ты поторопился с приговором! Послушай меня, старика, отмени свой приговор и не верь коварному слуге.
Одумавшись, Зефрид, не теряя времени, послал второе письмо Николаю: «Не делай чего-либо худого жене до моего приезда». Но было уже поздно…
Вскоре Зефрид был тяжело ранен на поле боя. Его положили в больницу, но выздоровление проходило плохо. Душевные переживания за жену не давали ему покоя. Николай же, узнав о тяжелом ранении Зефрида, обрадовался. Он думал, что Зефрид не останется живым и преступление будет скрыто.
Однако все делается по воле Божией. Зефрид выздоровел, и царь освободил его от войны. Зефрид вернулся домой. Приближаясь к дому, он услышал звуки веселья. Пирушку устроил Николай. Он часто устраивал такие пьяные оргии, пытаясь заглушить свою порочную совесть, которая не давала ему покоя и мучила его.
Когда он услышал, что граф вернулся, то зажег факел и в страхе вышел навстречу хозяину, которого никак не ожидал увидеть. Совесть так обличала его, что он не мог поднять глаз на графа. Зефрид сразу это заметил и вспомнил седого старика…
Как все изменилось в его доме!
Зефрид не находил многих старых слуг. Те же, кто остались, встретили хозяина со слезами, ибо они жили в постоянном страхе перед злым и жестоким Николаем.
После приветствий Зефрид вошел в комнату любимой жены. Кажется, ничего не изменилось и все по-прежнему… И даже книга псалмов лежит раскрытой.
Но любимой жены нет. И не будет. Закрыв лицо руками, Зефрид зарыдал. Он понял, что потерял любимую женщину, друга, и ни в чем не повинного сына. Он сам отдал распоряжение об их казни. Как тяжело ему будет теперь переносить тяжесть своей вины и разлуку с любимой, но возвратить или поправить дело было уже невозможно…
Была глухая полночь. Неожиданно в окно дома кто-то тихонько постучал. Открыв дверь, Зефрид увидел девушку с письмом от Генофейфы. Это была Вера. Прочитав письмо жены, Зефрид горько заплакал:
— Боже мой! Я убил невинную жену и сына. Что я наделал! Я послушал злого человека, а верную, чистую, непорочную жену и сына, бедное мое дитя, убил!
— Сын мой, сын мой! — этот крик был услышан старыми слугами. Они прибежали к графу, но напрасно утешали его. Он хватался за голову, как безумный, и кричал:
— Жена! Сын! Что я наделал! Я убил! Я — убийца ни в чем не повинных!
В ту же ночь он приказал посадить в тюрьму, где раньше сидела Генофейфа, Николая.
Зефрид снова и снова перечитывал письмо жены, но слезы застилали ему глаза. Наконец он останавливался на том месте письма, где было сказано: «Я прощаю Николаю, не знавшему Бога. Не хочу зло нести в Вечность и прошу, не проливай крови за меня и не плачь».
Наутро Зефрид повелел привести в комнату Николая. Когда тот вошел в дом, сердце Зефрида так сжалось, что он не мог сказать ни одного слова. Николай долго стоял, понурив голову: он не смел поднять на графа глаз.
Наконец Зефрид собрался с силами и спросил:
— Что я тебе сделал плохого, что ты причинил мне столько горя?
Николай горько зарыдал.
— Я был искушаем диаволом, — сказал он и во всем сознался…
Когда он рассказал, как убили Генофейфу и дитя, Зефрид, схватившись за голову, уже не мог произнести ни одного слова, только молча указал рукой, чтобы Николая увели в темницу.
Для Зефрида настали тяжкие, мрачные дни. Он всех расспрашивал о подробностях злодеяния, но никто ничего не знал, кроме того, что он сам знал из письма жены и от Николая. Тех людей, которые должны были убить Генофейфу, Николай уничтожил, заметая следы страшного преступления.
Друзья графа всячески старались развеселить его, но он нигде не мог найти себе утешения. Мысли постоянно возвращались к любимой жене, так бездумно погубленной им самим.
Однажды, тоскуя о прошлом, он вспомнил свое детство, лес, охоту. Чтобы хоть как-то прогнать мрачные мысли, Зефрид предложил друзьям вместе с ним поехать на охоту. Все с радостью согласились, надеясь, что, может быть, это увлечение развеселит бедного Зефрида.
Стояла глубокая осень. Выпал первый снежок. Следы зверей были хорошо видны на белом снегу.
Охота удалась. В большом лесу все охотники разъехались в разные стороны и набили много дичи. Зефрид так увлекся погоней за добычей, что заехал очень далеко…
Он долго ехал и не снимал своего ружья с плеч. Вдруг он заметил большую лань. Убивать ее Зефрид не хотел, а только следил за ней. Ему показалось, что это не дикое животное. Лань не пряталась и не спешила убегать от него, и он спокойно следил за ней.
Внезапно лань скрылась в пещере. Зефрид стал оглядываться вокруг в поисках животного, и вдруг у ручья он увидел истощенную, почти нагую женщину.
Это была Генофейфа, но Зефрид не узнал ее.
Он спросил:
— Кто ты и откуда?
Бедная Генофейфа сразу узнала его:
— Зефрид, муж мой! Не пугайся! Это я, твоя Генофейфа, присужденная к смерти. Бог оставил меня в живых.
Зефрид перепугался и решил, что он не в себе. Схватив голову обеими руками, он думал, что видит перед собой призрак. Но Генофейфа подошла к нему и, заливаясь слезами, продолжала говорить:
— Люди, которые должны были убить меня, убоялись Бога и пощадили нас. Они оставили нас в живых, но я дала им клятву, что никогда больше не покажусь на глаза людям. Зефрид, муж мой! Неужели ты не узнаешь меня? — и она протянула к нему руку с обручальным кольцом. Дрожа от страха и неожиданности, он взял ее руку и узнал кольцо, которое дарил любимой жене.
— Неужели это не сон и ты — моя жена, которой я причинил столько горя?
Он упал перед ней на колени и горько заплакал:
— Можешь ли ты простить меня? Сколько я причинил тебе горя, милая моя страдалица!
— Милый мой муж, я не сержусь на тебя. Я знаю, что ты был обманут злыми людьми. Но и им я прощаю их зло. Иди в мои объятия, дорогой мой супруг, и не плачь. Видимо, Богу было угодно, чтобы мы прошли эти испытания.
Зефрид обнял свою бедную, истощенную жену и крепко поцеловал.
— Зефрид, смотри туда.
К нему шел мальчик с охапкой корней в руках и на ходу ел корни. Увидев человека и лошадь, он сильно испугался. Он не понимал, кто этот человек и что это за животное, которое он видел впервые. Видя слезы на глазах у матери, ребенок спросил:
— Мама, кто это? Не те люди, которые хотели нас убить?
— Не бойся, сынок. Это твой отец, которого Бог привел к нам.
Зефрид посмотрел на мальчика и, увидев в нем свой портрет, убедился, что это его сын. Ребенок глаз не сводил с отца, которого видел впервые. Преисполненный любви к бедному дитя, граф схватил своего сына в объятия и возвел очи к небу, произнося горячую молитву к Богу.
Упав на колени, Зефрид и Генофейфа вместе благодарили Бога за дарованную им встречу.
Немного придя в себя, Генофейфа спросила мужа, живы ли ее родители.
— Живы, — ответил он, а затем спросил:
— Как и по какой милости вы могли здесь жить?
Генофейфа рассказала Зефриду, как Господь послал им лань, которая кормила их своим молоком.
Зефрид имел при себе охотничий рожок. Он подул в него, и по лесу разнеслось эхо. Друзья услышали его сигнал и поспешили на помощь, думая, не случилось ли что-нибудь с графом. Они стали съезжаться со всех концов леса и перед их глазами предстала удивительная картина.
Одной рукой Зефрид обнимал и крепко прижимал к себе полураздетого мальчика, едва прикрытого звериной шкурой, а другой — изможденную женщину в оборванной одежде. Никто не мог понять, что все это значит.
Зефрид увидел друзей и радостно объявил:
— Это моя жена и мой сын!
Все были очень удивлены и несказанно обрадованы. Улыбаясь, они приветствовали Генофейфу.
Затем Зефрид дал распоряжения слугам: одним поехать домой и привезти одежду, другим — приготовить встречу в доме, а третьим — развести огонь, подогреть пищу, чтобы накормить жену и сына.
Мальчик на всех смотрел с удивлением. Он не понимал, что происходит. Привезли одежду, но мальчик смотрел на нее непонимающими глазами. Он никогда не видел одежды и не знал, что с ней делать. Но вот «отшельники» переоделись и подкрепились, и их радости не было границ. Они благодарили Бога за дарованное им счастье.
Зефрид усадил жену с сыном на лошадь, и они тронулись в путь. Чудная лань следовала за ними.
Генофейфа с сыном так полюбили животное, что не смогли оставить ее одну в пещере. Лань тоже привыкла к ним, ведь она была их кормилицей и целых семь лет они прожили одной семьей.
Когда подъехали к дому, навстречу им вышли все люди из имения. Тут молодая женщина пошла к Генофейфе и, приветствуя ее, возложила ей на голову венок со словами:
— Да хранит тебя Бог за твою верность!
Генофейфа посмотрела на женщину. На шее у нее она увидела золотую цепочку, которую когда-то подала в тюремное окошко одной девочке. И она узнала Веру, обняла ее, и обе плакали слезами радости. Сквозь слезы Генофейфа сказала:
— О, Боже мой, кто бы мог подумать в ту ночь, когда я была выведена в лес, как преступница, что теперь меня будут встречать такими почестями!
Затем к ней подошел тот старик, который ручался Зефриду своей седой головой за Генофейфу. Он сказал:
— Мне 80 лет, но я никогда не слыхал такого чуда. Да, что невозможно человеку, то возможно Богу.
После всех приветствий Генофейфа вошла в ту комнату, из которой ее увели семь лет тому назад в тюрьму.
Вскоре решили послать за родителями бедной женщины. Отправили старика, чтобы он сумел с великой осторожностью и мудростью сообщить столь великую радость родителям, дабы эта радость не причинила им вреда.
Отец и мать Генофейфы до сего времени находились в большом горе, оплакивая свою единственную дочь. Волосы их стали белыми. Никогда, с тех пор как дочь их постигла позорная участь, на их лицах не было радости.
Когда посол с великой радостью прибыл в дом родителей Генофейфы, он вежливо поздоровался с ними и осторожно произнес:
— Знаете ли вы, что Иаков, потерявший своего любимого сына, в старости имел великую радость? О, это был Божий план!
Отец вздохнул и сказал:
— Нам такого счастья не видать. Если Господь благословит, то эта радость будет на Небесах.
— А почему бы не на земле? — сказал посол. — Господь и на земле творил чудеса. Так пусть Господь подкрепит Ваши сердца. Послушайте меня: ваша дочь Генофейфа жива. Я ее сам видел и приветствовал ее.
Неизреченная радость наполнила сердца родителей Генофейфы, и они стали поспешно собираться в путь.
Воссылая Богу благодарность за эту новость, которая вытеснила из их сердец прежнюю печаль по любимой дочери, не теряя времени, они поспешили к ней. Какая там была встреча! Все молились, и плакали, и смеялись, все было смешано. О великий Бог, творящий чудеса!
Это чудо — верность Генофейфы и ее страдания — послужило для всех окружающих примером. Многие уверовали в Бога. Где в доме не было мира — примирились, глядя на Генофейфу. Она всем все прощала. И за ее страдания в лесу и за то, что злой раб Николай много уничтожил людей, народ потребовал для него смертной казни. При управлении Николаем все молчали, потому что боялись расправы. Теперь же его казнили по справедливому приговору, как злого преступника.
Генофейфа, от всего пережитого ею, недолго радовалась жизни. Вскоре она отошла в Вечность. Когда ее хоронили, лань тоже пришла на могилу. И уже все ушли с кладбища, а лань оставалась там. А через несколько дней ее нашли мертвой на могиле Генофейфы.
В лесу, где жила Генофейфа, Зефрид построил в честь своей жены красивый храм Богу.
Братья
Старинное предание
В древности жил в одной западной стране знатный вельможа, владетельный граф Беннет. Жена его скончалась давно, оставив ему двух сыновей, Генриха и Христофора. Генрих был мальчиком веселым и беспечным, смелым и отважным, бойким и откровенным с каждым, хотя равнодушным ко всем; он страстно любил охоту, никогда не сидел на месте и не знал усталости. Христофор был ребенком робким и слабым, ласковым и отзывчивым; он постоянно мечтал о великих подвигах, которые боялся совершить.
Генрих же не мечтал ни о чем, но приводил в исполнение все, за что бы ни принимался. Христофор проводил много времени в обществе старого священника, состоявшего при их домашней церкви, а весной любил бродить по лесам, любоваться цветами и прислушиваться к пению птиц. Если же в большой приемной замка играли менестрели, мальчик слушал и заслушивался, а нежное сердце его трепетало от восторга.
Сам граф был человеком суровым, хотя и добродушным, живо интересовался своими поместьями и проводил большую часть дня вне дома. Он очень любил Генриха, а Христофора втайне презирал.
Однажды в замок приехал на некоторое время епископ, человек редкого ума и мужества, наводивший страх Божий даже на самого графа. Епископ подолгу беседовал с Христофором, который открыл ему свою душу. Так епископ узнал, что мальчик сам научился читать, знал жизнеописания многих святых, хорошо изучил церковную службу и умел отличать добро от зла. Тогда епископ разыскал графа и сказал ему, что из Христофора мог бы выйти прекрасный священник, что он умеет повиноваться, а потому способен повелевать. Он прибавил, что мальчик мог бы стать даже выдающимся архиепископом. Но на это отец возразил, что Христофору недостает выдержки и мужества. Однако епископ утверждал, что убежден в противном, и что у мальчика эти качества лишь принимают иной оттенок, чем у воина, что он соткан из материала, из которого создаются святые и мученики, и что нельзя воспитать голубя в орлином гнезде.
Тогда граф решил отпустить сына и сделать из него священника, если мальчик изъявит свое согласие.
Послали немедленно за Христофором и спросили его внезапно, согласен ли он стать священником. Встретив добрый и ласковый взгляд епископа, Христофор набрался храбрости и ответил, что исполнит волю отца. Но он казался таким нежным и хилым и так походил на свою покойницу мать, что граф смутился. Он обнял и поцеловал сына и сказал, что совсем не желает принуждать его, а предоставляет ему полную свободу выбора.
Вместо ответа Христофор разрыдался, склонив голову на плечо отца, и наконец прошептал еле слышно:
— Я согласен.
Тогда епископ заметил:
— Граф, вы — человек воинственный, но вы будете гордиться именно этим сыном. Он одержит много побед на ином поле брани и будет гордостью вашего дома!
Затем решили, что епископ продолжит свой дальнейший путь и вернется через неделю, чтобы увезти мальчика. Таким образом, Христофору была дана одна неделя на сборы. Он стал прощаться понемногу со всеми и со всем, что было ему дорого. Ему казалось иногда, что его сердце должно разбиться от горя. Но самой тяжелой была для него последняя ночь, из-за предстоящей разлуки с братом, к которому он был очень привязан: он не смел обнять Генриха, но нашептывал ему, как нежно его любит и как счастлив был бы что-нибудь для него сделать. Генрих засмеялся и ответил, что покуда он ни в чем не нуждается, но, когда он состарится и прольет много крови, брат может вымолить ему прощение. Скоро мальчики уснули. Когда Христофор проснулся на заре, Генрих уже исчез. Горько плакал бедный мальчик, который уехал с тяжелым сердцем, так и не простившись с горячо любимым братом.
С этого времени Христофор вступил в духовную жизнь: он поселился в одном из самых строгих монастырей, где предался такой глубокой молитве и таким подвигам, что сами монахи дивились его святости. В замке же скоро позабыли о нежном и кротком мальчике.
Несколько лет спустя граф вернулся домой после длинной прогулки верхом с сильным головокружением; он тотчас слег, а к вечеру его уже не стало.
Генрих, достигший совершеннолетия, мало горевал о кончине отца. Его чрезвычайно занимали перешедшие к нему власть и богатство и радовал оказываемый ему почет. Скоро он женился на прекрасной молодой девушке Алисе, после чего снова предался своей любимой вольной жизни.
Случилось как-то, что он опасно занемог. Несмотря на тщательный уход самоотверженной жены, он не мог поправиться и скоро до того ослаб, что не был больше в состоянии сидеть. Наконец решились вызвать придворного врача, но тот покачал головой, сказав, что его искусство не действительно, когда жизненные силы подорваны, и что больному неизбежно суждено умереть, если Господь не совершит над ним чуда.
Алиса была кроткой и богобоязненной женщиной. Она много слышала о чудесах, которые Господь творит по молитвам святых, и потому поспешила обратиться за советом к домашнему священнику. Но шаг этот она тщательно скрыла от графа, который относился с презрением ко всему святому.
Священник сказал ей, что в трех днях пути от замка находится замечательный монастырь, где по молитвам монахов часто совершаются чудесные исцеления; он советовал ей съездить туда тайком и просить игумена прийти ей на помощь. Графиня ухватилась за эту мысль с величайшей радостью и, под предлогом привезти другого врача, пустилась немедленно в путь в сопровождении двух доверенных слуг.
К концу третьего дня они достигли обители. Монастырь стоял совершенно одиноко среди долины, поросшей густым лесом. Издали виднелись его белые стены, над которыми высилась церковь, залитая красными лучами заходившего солнца.
Завидев монастырь, Алиса испытала тотчас же облегчение и прониклась убеждением, что Господь смилуется над ней и услышит ее молитвы. Достигнув входа в обитель, она сказала привратнику, что желала бы побеседовать с игуменом. Ее провели в низкое и совершенно пустое помещение, куда скоро пришел и игумен. Это был сухощавый старец с добрым лицом и приветливой улыбкой. Получив его благословение, Алиса сообщила ему, что ее муж, знатный рыцарь, лежит на краю смерти. Однако имя больного она утаила, хотя игумен ее о том и не спрашивал. Далее она открыла ему свое желание и причину приезда, прося о помощи.
Выслушав ее, старец ответил, что в монастыре подвизается брат Лаврентий, который ведет такую чистую и святую жизнь, что часто по его молитве люди исцеляются. Игумен прибавил, что, если брат Лаврентий согласится ехать к больному, он готов отпустить его на некоторое время. Затем он послал немедленно за монахом, так как был глубоко тронут горем молодой женщины и чистотой ее души. Брат Лаврентий выслушал внимательно скорбный рассказ и изъявил согласие посетить больного, если игумен его на это благословит. Уже на следующее утро с рассветом Алиса и ее спутники покинули монастырь.
Когда обитель скрылась из виду, Алиса рассказала монаху, что больной — граф Беннет и что, к ее горю, мужа ее нельзя назвать верным сыном Церкви, хотя он и соблюдает установленные обряды. На это брат Лаврентий заметил кротко, что таких людей, к несчастью, немало, и при этом он так побледнел, что вызвал удивление своей спутницы. Oна приписала его бледность строгому посту и свежести раннего утра.
После некоторого молчания монах стал расспрашивать ее о болезни графа Беннета и о всей жизни замка, объясняя свое любопытство тем, что, когда едешь к больному, нужно знать о нем как можно больше.
— Чтобы молитвы не стучали тщетно в запертую дверь, — добавил он.
Сумерки уже спустились, когда путники достигли замка. Алиса заметила, что монах ехал с опущенными глазами и выглядел так, как будто в нем происходила страшная борьба. Но она объяснила это тем, что он творит тайную молитву. Брату Лаврентию отвели помещение в башне.
К немалому удивлению ночной стражи, у него горел огонь во всю ночь до рассвета. Решили, что он подвизается в молитве. Удивление их не знало бы границ, если бы они могли взглянуть на монаха: он прохаживался медленно по комнате и смотрел с любовью на каждый попадавшийся ему на глаза предмет, а по худым и бледным щекам его струились слезы. Раз он даже прильнул устами к спинке кровати.., но, опомнившись, внезапно бросился на колени и молился горячо и слезно до той минуты, когда священник пришел звать его к ранней обедне. И вокруг головы его стояло дивное сияние, вызвавшее глубокое удивление в сердце старика-священника.
После службы за братом Лаврентием пришла сама Алиса. Трепеща от волнения, она подвела монаха к двери комнаты, где лежал больной, и, войдя к мужу, сказала:
— Генрих, я привела к тебе человека, который совершает удивительные исцеления. Только не гневайся на меня, он — монах. Помни, что монахи — люди ученые, и, может быть, милосердный Бог возвратит мне моего дорогого мужа на радость мне и к счастью нашего сына.
Генрих бросил на жену суровый взгляд. Но грустное лицо ее и полные слез глаза, как и нежная любовь жены, тронули его, и он ответил спокойно:
— Хорошо, я приму его. И да послужит мое согласие видеть монаха доказательством того, как я ослаб и что у меня не хватает сил отказать.
Голос его звучал резко, но он нежно взял руку Алисы в свою и прибавил:
— Дорогая, поспеши же. Я не хочу отказать тебе, так как чувствую, что исполняю твое последнее желание, ибо я убежден, что нахожусь вне человеческой помощи!
Действительно, с отъезда жены положение его значительно ухудшилось: сон покинул его совершенно, и он ощущал вокруг себя страшную темноту, которая, казалось, отделяла его наподобие пропасти от всего окружающего. В эти тяжелые часы ему представлялась его прошлая жизнь, лихая и вольная, он вспомнил своего отца и слабого брата Христофора и жалел, что не был с ним добрее. Он думал также о жене, о беспомощном малютке-сыне, о том, что ждет их впереди…
Затем мысли его переносились к Создателю, перед Которым он должен был предстать. Он воображал себе Бога в образе Судьи, сидящего на престоле среди облаков, озаренных ярким сиянием, и смотрящего на него со строгим и грозным лицом!
Между тем стоявший за дверью монах погрузился в глубокую молитву, прося Бога даровать ему сил помочь больному и утешить его. Наконец Алиса позвала его, и впустив в комнату, оставила вдвоем с мужем.
Войдя к графу, брат Лаврентий произнес краткое приветствие по уставу своего монастыря. Граф Генрих смотрел на него с широко открытыми глазами и, отвечая на его слова легкими наклоном головы, сказал:
— Я был бы рад оказать Вам более радушный прием, но я тяжко болен и, вероятно, нахожусь уже при смерти. Алиса пожелала, чтобы я принял Вас, говоря, что Вы творите чудеса! Вы видите перед собой человека, более чем согласного выздороветь! Только святого во мне нет ничего! Я верю в Бога и в Церковь, но, скажу откровенно, очень мало верю в монахов и священников.
Брат Лаврентий улыбнулся:
— Это совсем, как если бы кто сказал: «Я верю в пищу, но не в процесс еды!» Оставим это, граф! Я люблю откровенную речь: она была всегда отличительной чертой Спасителя и святых. Поговорим лучше о Вашей болезни, так как в этом сейчас мой долг!
Разумные слова монаха пришлись Генриху по сердцу и он охотно ответил на все вопросы о своей болезни. Когда он закончил, брат Лаврентий покачал головой и сказал:
— Я должен Вас предупредить, что случай действительно тяжелый. Но мне приходилось видеть не раз, что трудные больные получали исцеление. Дайте мне время на размышление, позвольте провести еще ночь под Вашим кровом, и завтра я скажу Вам, что мне откроет Бог!
Монах хотел удалиться, но граф остановил его:
— Позвольте мне предложить Вам вопрос. У меня был брат по имени Христофор. Я знаю, что он монах, но он ничего не сообщает о себе. Может быть, его уже нет в живых… Не слышали Вы о нем?
Брат Лаврентий стал бледен, как полотно и ответил с усилием:
— Я знаю Вашего брата, граф. Он в одном монастыре со мною. Но церковь запрещает нам говорить о братьях посторонним лицам, я лишь могу заверить Вас, что брат Ваш жив. Может быть, Вы скоро получите вести от него!
С этими словами монах удалился. А в комнату мужа вошла Алиса. Больной казался немного бодрее, и в сердце жены загорелся луч надежды.
Улыбнувшийся ей Генрих сказал:
— Алиса, я хорошего мнения о твоем монахе. Он человек умный и знает свое дело. Я начинаю лучше относиться к их братии. Однако странно: этот монах почему-то кажется мне знакомым или кого-то мне напоминает… Пусть его комнату обставят как можно лучше. Завтра он обещал сказать мне, что думает о моей болезни.
Покинув больного, брат Лаврентий пошел в Церковь, где молился долго и усердно. Всю ночь он подвизался в молитве и заснул только под утро от полного изнеможения…
И тогда ему приснился необыкновенный сон. Ему показалось, что он стоит во дворе замка, держа в руках цветы: в одной — лилии, в другой — розы.
Тут он увидел перед собой Незнакомца, необыкновенно величественного, с повелительным, но глубоко любящим взглядом, и монаху показалось, что он подходит к Незнакомцу и предлагает Ему цветы. Незнакомец протянул руки и хотел взять розы, но монах возразил:
— Господи, избери лучше лилии!
Незнакомец ответил:
— Розы — мои, и лилии также. Я возьму одни, а другие оставлю на время, но по просьбе твоей возьму раньше лилии, так как ты был верен в малом.
Тогда монах дал Ему лилии, хотя и не без некоторого сердечного трепета, и, когда Незнакомец коснулся их, они завяли. А монах вскрикнул:
— Господи! Теперь они уже не достойны того, чтобы Ты их взял.
Но Незнакомец возразил с улыбкой:
— Они снова оживут и расцветут!
Когда брат Лаврентий проснулся, заря уже занялась и свет пробивался в окно. Монах стал размышлять о значении своего сна, не сомневаясь, что он послан был ему Богом, но, подумав, сказал с грустью:
— Горе мне! Я не вижу света!
И тут внезапно взошло солнце, ударило заревом на все небо… и монаху открылась воля Божия. Когда наступил день, брат Лаврентий направился к Алисе и сказал:
— Господь вернет Вам мужа, только веруйте!
Услышав эти слова, графиня заплакала от радости. Монах не стал удерживать ее, но сказал:
— Это благодатные слезы!
Потом он прибавил:
— Я не смею больше оставаться здесь, я должен поскорее возвратиться в обитель.
Алиса просила монаха заглянуть еще раз к ее мужу, но он отказался. Затем он попросил графиню обещать ему, что если ему станет необходимо увидать графа, то Генрих откликнется на его зов и приедет к нему. Конечно, если он уже совершенно поправится. И Алиса дала ему слово. Благословив ее, он уехал, не глядя ни вправо, ни влево. Графиня вернулась к своему мужу.
Больной чувствовал себя гораздо лучше и попросил дать ему поесть. С этих пор он стал медленно возвращаться к жизни. Когда он почти совершенно оправился и стал выходить и даже садиться на лошадь, что доставляло ему неизъяснимое удовольствие, к замку однажды подъехал монах. Увидев Алису, он сказал, что брат Лаврентий желает повидаться с графом, и прибавил, что граф Генрих должен поспешить, если желает застать монаха еще в живых.
Алиса просила объяснить ей причину болезни брата Лаврентия, и вестник сказал, что со времени, когда он побывал в замке, над ним тяготеет рука Господня, так что силы его убывают ежедневно. Алиса решила немедленно сказать мужу о данном им во время болезни обещании, на что Генрих ответил:
— Я поеду с радостью к брату Лаврентию. Он прекрасный человек и вернул меня к жизни, — и граф приказал поспешно седлать коня и пустился в путь.
Во время пути он замечал, что вокруг него повсюду разливалась молодая весна: деревья были убраны зеленым пушком, в лесах слышался нежный аромат цветов, птицы щебетали громко и весело. Глубокая радость охватила душу графа, и из его сердца вылилась хвалебная молитва Богу, даровавшего ему жизнь. Он продолжал путь, весело напевая. Когда Генрих приблизился к монастырю, навстречу ему вышел игумен. Граф соскочил с лошади и сказал, низко кланяясь старику:
— Святой отец! Я жил до сих пор беспечно, праздно, мало думал о Боге и плохо служил Ему. Но Он даровал мне, недостойному, великую милость, и я постараюсь отныне служить Ему всем своим сердцем и моими делами.
Радостная улыбка озарила лицо игумена, и он ответил Генриху:
— Благородный граф! Ты говоришь мудро, и Господь воздаст тебе сторицею.
Затем игумен провел графа в больницу, предупредив, что брат Лаврентий при смерти. Генрих застал его лежащим на низкой койке в просторной комнате, залитой солнцем. Он казался в обмороке; два монаха стояли близ него. При входе графа больной очнулся и проговорил, улыбнувшись:
— Итак, ты пришел, брат мой!
Граф опустился на колени подле него и ответил:
— Да, брат Лаврентий, я пришел выразить Вам свою благодарность за Ваши молитвы и заботы обо мне. Бог услышал их и вернул меня к жизни!
— Воздай славу одному Господу, брат мой! — кротко возразил монах.
— Я так и делаю, — заметил граф.
Счастливая улыбка озарила бледное лицо умирающего. Он попросил монахов удалится и оставить его наедине с приезжим. Когда дверь за ними закрылась, брат Лаврентий стал глядеть на графа Генриха молча: глаза его наполнились небесным светом и неземной радостью. Он произнес тихо:
— Есть тайна, которую я хочу открыть тебе. Ты спрашивал меня, знаю ли я твоего брата Христофора, и я ответил тебе уклончиво. Но теперь мне разрешено сказать тебе правду: я твой брат!
Последовало продолжительное молчание… Затем граф порывисто приблизился к монаху и поцеловал его в щеку. Через некоторое время брат Лаврентий продолжил:
— Дорогой брат, я открою тебе всю правду, потому что рука Господа на мне и я должен отойти сегодня.
И он рассказал брату свое видение, которое понял так:
— Господь был милостив и позволил мне принести мою жизнь взамен твоей, и я приношу ее с великой радостью… Я говорю это тебе не для того, чтобы вызвать твое сострадание или похвалу, но чтобы открыть тебе, что жизнь дана тебе недаром. У Бога есть добрые дела для всех. Господь приготовил их и на твою долю, и ты обязан совершить их, не колеблясь. Я служил Ему праведно в монастыре, но тебя Он призывает не к подвигу молитвы… Ты можешь служить Ему в мире: будь ко всем добр и справедлив, будь милостив к бедным, будь защитником обиженных и покровителем сирот и вдов… Помни всегда, брат мой, что жизнь твоя принадлежит не тебе, а дана тебе как бы в долг, и ты обязан вернуть ее с прибылью!
Глубокая печаль овладела сердцем графа. Он возразил, что не может принять свою жизнь на условиях, если брату его суждено умереть; он хочет умереть вместе с ним. Ласково упрекнув его, брат Лаврентий ответил:
— Генрих, все мы слабые существа, и плоть влечет нас к тщеславию. Будучи ребенком, я всегда мечтал о том, чтобы заставить тебя признать меня мужественным и заставить быть благодарным мне за какую-нибудь услугу… Теперь я начинаю слабеть и не могу говорить! Расскажи мне лучше о своей жизни. Я хочу, чтобы мои мысли были полны тобою, когда я буду спать под алтарем, если Господу это будет угодно!
Борясь со слезами, граф стал рассказывать своему брату обо всем, что касалось его жизни…
Наконец брат Лаврентий промолвил:
— Час настал! Позови братьев и отпусти меня. Господь зовет!..
Монахи подошли к умирающему и начали тихо читать отходную. Брат Лаврентий слушал закрыв глаза: блаженная улыбка остановилась на его устах… Затем он поднял веки и взглянул еще раз на своего брата, стоявшего у его изголовья в ожидании конца. Еще минута… больной слабо вздохнул, как утомленное дитя, и скончался.
Годы шли. Граф дожил до седых волос, окруженный детьми и внуками. Он провел благочестивую жизнь, помня всегда, что она дана ему на малое время и как бы в долг. Ежегодно он ездил в монастырь на могилу Христофора, чтобы укрепить в себе память об обете, данном у смертного одра брата.
Певец Богоматери
Средневековая легенда
I
Ярко горит в небесах солнце. Спокойно и величаво озаряет оно цветущие поляны, холмы, леса и голубые дальние горы. Под его лучами ласково плещут морские волны: рассыпаясь белыми кудрями, они приходят и уходят… и неустанно шепчут таинственные речи.
Ярко горит в небесах солнце, разливая повсюду в мире жизнь и радость, и счастлив человек, собирающий под его лучами золотистую жатву на родных полях. Но еще счастливее тот, кто не думает о завтрашнем дне, не сеет, не жнет, не собирает богатства в житницу, а живет как небесная птица и туда лишь идет, куда влечет его свободная душа. Для него и солнце краше, и море синее, и ярче цветы. Широкими дорогами и вьющимися тропинками бредет он с севера на юг, от угрюмых сосновых лесов к спокойным голубым заливам. Он видит, как дымятся туманами вершины гор, как в широких долинах волнуются зреющие хлеба. Видит восход и закат солнца, видит яркий полдень и темную ночь. При нем загораются звезды и при нем они угасают. Он видит и знает мир и благословляет жизнь, свободу и счастье, разлитые вокруг него во всей природе.
Но счастье и радость уходят вместе с молодостью, вместе с силами, и под старость тяжело человеку не находить приюта у людей и не знать, куда склонить голову…
Погруженный в печальные думы, тяжело опираясь на посох, медленно спускался с горы старый певец. На перекрестке двух лесных тропинок, сбегающих вниз, он остановился, снял с одного плеча суму, с другого плеча снял виолу и опустился на камень. Он сел, оперся локтями о колена и долго сидел так, не поднимая головы, в глубокой задумчивости.
Эти две тропинки, которые возникли неведомо где, по ту сторону горы бежали врозь и только здесь, у самых его ног перекрещивались, точно друзья, обнявшиеся на мгновение, и тут же разбегались снова в разные стороны и навсегда. Эти тропинки напоминали певцу людей, их мимолетную дружбу, случайную любовь, и он думал о безнадежном одиночестве человека…
II
Давно ли имя певца гремело по всей стране, передаваясь из уст в уста?!
— Менестрель! Менестрель! — слышался повсюду восторженный говор, едва он появлялся перед народом неразлучно с виолой в руках.
Не взглядывая ни на кого из толпы, молчаливый и угрюмый, с опущенными ресницами, которые были длинны и густы, певец приходил в храм и перед образом Божией Матери преклонял колена. Поднявшись и приложив к груди виолу, он резко и отрывисто проводил смычком несколько раз по струнам, точно стучась, как странник, в сердца людей. Далее он уже не помнил, где и среди кого он: душа его уносилась в Небеса к стопам Пресвятой Девы, а струны виолы послушно дрожали под властной рукой, и гимны звучали вместе с голосом, сливаясь во вдохновенные кантаты, гремели восторженно и дивно, наполняя весь храм и потрясая сердца.
Женщины рыдали в ответ, мужчины падали ниц, и даже суровые рыцари приходили слушать его гимны и стояли суровые и неподвижные, как стальные башни, среди плачущего, распростертого и восторженного народа.
Давно ли все это было? Переходя из города в город, из одного селения в другое, возвращаясь снова и снова уходя, он всюду был желанным гостем, любимым певцом. Слава о нем летела далеко впереди него самого.
Все это было давно… Волосы его с тех пор поседели, спина согнулась, лицо покрылось морщинами, глаза потускнели, а голос утратил гибкость, ослаб и дрожал.
Те же восторженные гимны стали уже не такими обаятельными, а голос не таким красивым, и толпа слушателей редела быстрее, чем белые соцветия одуванчиков.
Уже никто не плакал под звуки его виолы, и почти никто не слушал его голос, так что вскоре певец был всеми забыт. Также забывают люди об изношенных башмаках, как забыли о вдохновенном Менестреле, волновавшем когда-то их души.
И вновь побрел он от людей к бушующим волнам и темным лесам, благословляя жизнь и одиноко славя по своему пути имя Пресвятой Девы, как славил он его всю свою молодость.
Оставленный всеми, забытый и нищий, бродил Менестрель много лет по свету и пел свои кантаты разбитым старческим голосом, собирая милостыню, которую иногда бросали ему из жалости. Много лет не бывал он в своем родном городе и теперь шел туда, надеясь отдохнуть от скитаний и, может быть, умереть.
III
На горе было тихо и безлюдно, но голоса молодой пробуждающейся жизни слышались отовсюду.
Легкий весенний дождь только что пронесся над головою, и лес, над которым уже горело солнце, был весь проникнут ароматной влагой. Вокруг живыми весенними голосами журчали невидимые ручьи. Высокие сосны медленно и бережно роняли с кончиков игл крупные капли, и те падали в траву прямо и тяжело, сверкая на лету, как алмазы. Все воскресало: из прошлогодней травы уже выглядывали темные пахучие фиалки, из влажного зеленого моха поднимались кудрявые папоротники и звездами распускались примулы. Веселое журчание воды сливалось с нежным щебетанием птиц, и звонкие весенние трели наполнили лес, жизнь которого снова начиналась.
Жизнь леса обновлялась… Но вон лежит сосна, вывороченная вихрем: ее жизнь уже не обновится. Пусть растет и ликует лес, пусть вокруг журчат весенние воды, зеленеют лавры, благоухают и пестреют цветы; пусть с радостными песнями вьют птицы гнезда, но упавшая сосна уже не воскреснет. Она еще жива, она еще слышит голос весны, но отозваться на него сосна уже не может. И напрасно пробегает ветер по ее опущенным ветвям, напрасно протягивает ландыш свою белоснежную головку из травы, весна и жизнь, и ликование леса ей чужды, и сама она чужда лесу, с которым жила одной жизнью.
IV
Долго сидел Менестрель в глубокой задумчивости. Годы нищеты и скитаний подорвали его силы, и в душе его возникли сомнения: зачем он идет в родной город? Зачем он идет в него, когда там уже нет памяти о нем, нет глаз, которые узнали бы забытого певца. Чужд он родине, как вот эта сосна чужда лесу, да и есть ли родина у того, кто променял ее на свободу, на весь широкий мир, на вдохновение, на гимн?
— О жизнь, жизнь! — вздохнул старик, поднимаясь с камня и окидывая лес прощальным взглядом.
Не раз проходил он в молодости этими горами и тропинками, не раз отдыхал и на этом камне. Видывал он здесь и весну, и осень, и полдни, и ночи. Бывали так же влажны от горных туманов его волосы, теперь седые, но никогда еще не были влажны его глаза. Почему же теперь из них, точно с сосен, падают крупные, тяжелые капли?!
— О жизнь, жизнь! — прошептал он опять, поднимая на плечи виолу.
— Пора нам с тобой на отдых, мой преданный друг! Пусть твои струны и мое сердце замолкнут вместе, и мы ляжем в одну могилу! — и, опираясь посохом на землю, он тихо побрел вниз по тропинке, спокойно и радостно созерцая окрестную красоту.
— В печали не показывай лица своего людям, беги от них, скрывайся, пока не овладеешь печалью, — говорил он сам себе, вдыхая полной грудью свежий смолистый воздух.
Мужайся, старый певец! Святая Дева не покинет в печали и голоде Своего верного Менестреля.
V
Гора кончилась, а с нею кончился и лес. Через листву и хвою уже сквозила долина светлыми пятнами, зелеными и голубыми, и сердце певца забилось чаще.
— Здравствуй, родина! — чуть слышно прошептал он, выходя на простор и приветливо протягивая руки вперед.
Широкая долина стелилась отсюда до самого горизонта, вся залитая солнцем. Холмы грядою окаймляли извивавшуюся в глубине зелени речку. Хлебные поля зеленели мягче лугов, точно в их нежной поросли отражалась голубизна неба. По склонам холмов виднелись виноградники и хмельные заросли; рощи и поселки были рассеяны по течению реки, а за ними вдали, в прозрачном тумане возвышались кровли и башни города.
— Здравствуй, родина! — снова прошептал старик. — В тебе я увидел свет, и тебе несу я теперь свои кости.
Вокруг все было зелено, весело, молодо. С речной стороны веяло ему в лицо медвяным запахом цветущих деревьев, и чем дальше он шел, тем гуще стелились по воздуху эти невидимые пахучие полосы. Они стелились, дрожали и вместе с ветром носились по полям беспокойными волнами. И вот среди зелени забелели перед путником фруктовые сады, осыпанные цветами, точно хлопьями снега. Иногда он останавливался, садился на траву и, отдыхая, глядел, как осыпались с деревьев цветы. Белые лепестки вишен легко и внезапно срывались со стеблей сами собой, кружились в воздухе, словно снежинки, и ковром ложились на землю вокруг стволов.
VI
День проходил.
Уже остались в стороне сады и деревни, и впереди, словно изо рва, через каменную стену холодно глядел на пришельца большой мрачный город. Ни цветов, ни деревьев не было вокруг, только серая полоса рва окружила подножие города да на пустынном плоском холме возвышался одинокий столб с протянутым рычагом, похожим на клюв хищной птицы. Многих поднял этот клюв от земли, поднял раз и навсегда, чтобы сбросить в могилу.
— Виселица! — смущенно прошептал певец.
— Виселица — городская повинность! — повторил он с презрением, и старческие глаза его на мгновение вспыхнули гневом.
Он подумал: «Жалкие люди! В поте лица вы возделываете землю, расточаете силы и здоровье, лишаете себя свободы и радости, и вот плоды ваших неустанных трудов и забот — виселица!.. на ваши же деньги!.. для вас же самих!».
И, опираясь на посох, он стоял в нерешительности: идти ли? Кто приютит бездомного старика, уставшего бродить по свету? Кто бросит корку голодному певцу, потерявшему силы и голос?
Впереди из-за каменных стен возвышался город, весь багровый в лучах заката. На холме перед ним, словно сторож, одиноко стояла виселица, также багровая от лучей. А по ту сторону, позади, расстилалась тихая долина в розовой дымке, и вдалеке в тумане виднелись горы с милыми соснами и тропинками, с вольной, бродячей жизнью.
Душа певца стремилась назад, к лесам, к свободе, а усталость и голод гнали его к людям. Ноги подкашивались от изнеможения.
— Прощай, моя воля! — вздохнул певец. — Прощай, моя жизнь!
И, обведя печальным взором горизонт, старик склонил покорно голову и тихо побрел к подъемному мосту, перекинутому через ров к городским воротам.
Голод мучил его.
VII
Не поднимая головы, не оглядываясь более на долину и горы, со смущенным сердцем перешел Менестрель границу города.
Крепостная стена осталась уже позади. От нее падала широкая серая тень на пустынные площади предместья. Освещенная розовыми угасающими лучами, начиналась отсюда прямая улица с высокими, узкими домами. По одну сторону ее против заката глядели окна пламенными глазами, а по другую они казались слепыми и черными.
Улица была мощеная, и в самом начале ее был выложен высокий городской герб из разноцветных диких камней. Сюда доносились окрики часовых из башен, городской шум да лай собак.
В стороне между стеной и площадью приютилась часовня. Она стояла в уединении с чуть приотворенной дверью — как будто звала к себе прохожих.
Менестрель отворил дверь и, затаив дыхание, остановился на пороге. Таинственная тишина наполняла церковь, и от темных стен ее веяло сыростью.
Прямо против входа, около алтаря, стоял нарядный киот с иконой Пресвятой Девы почти в рост человека, с устремленными ввысь глазами и молитвенно сложенными руками. Сверху сквозь узкие стрельчатые окна купола из разноцветных стекол лился на алтарь и на киот радужный полусвет.
Робко и медленно приблизился к иконе старый певец и безмолвно опустился на колени, глядя на Богоматерь — владычицу его дум, вдохновений и жизни.
Она стояла словно живая, в длинном голубом хитоне. Голову и плечи покрывала белая мантия, а стан опоясывал золотой шарф. Поверх киота люди украсили образ Пресвятой Девы богатыми дарами на лентах и нитях. Они навешали много венчальных колец, золотых и серебряных цепочек и браслетов с дорогими украшениями в благодарность за чудесную помощь Богородицы.
Кто-то принес маленькое золотое сердце на простой шелковинке. Должно быть, девушка, пережившая скорбь любви. А вот кто-то подвесил длинные темные четки с двумя красными камнями на тонких золотых цепочках…
— А я что принесу Тебе, Пресвятая Дева?! — горько вздохнул Менестрель. — Нет у меня ни золота, ни даров. Нет даже хлеба.
И, стоя на коленях, он покорно склонил голову, и его седые волосы рассыпались по каменным плитам пола.
— Всю молодость, всю душу, все вдохновения я уже отдал Тебе. Теперь я лежу перед Тобою старый и нищий. Не дай умереть голодной смертью Твоему верному певцу!
И так он лежал, не смея подняться, не зная, что сказать более. Вдруг среди тишины ему почудился странный шорох, точно всколыхнулась одежда…
Сердце его замерло. Что-то похожее на тяжелую каплю упало вдруг на солею перед алтарем и, звучно описывая круг, покатилось по каменным плитам и легло у самых колен Менестреля. В страхе он поднял голову и возле себя увидел тот крупный красный камень, который минуту назад видел на четках Богоматери.
Это был драгоценный рубин — как спасение от голодной смерти. Старик поднял его и прижал к своим губам, целуя и обливая тихими, благодарственными слезами.
VIII
Два раза вставало солнце и два раза оно заходило с тех пор, как усталый путник вошел в родной город.
…На ранней заре третьего дня старого Менестреля, закованного в цепи, везли на казнь. Огромная толпа сопровождала шествие: со всех улиц и переулков сбегался народ, чтобы посмотреть на того, кто называл себя певцом Богоматери, избранником Пресвятой Девы и кого теперь везли на позорную смерть за воровство и святотатство, за оскорбление Пресвятой Девы — Покровительницы города. Он сидел в низкой повозке спиною к лошади, как и все осужденные на казнь. Голова его опустилась на грудь. Скованными руками он крепко прижимал к сердцу единственного неизменного друга — виолу, которую в знак последней милости позволили старику везти с собой до могилы.
По обе стороны повозки шли палачи. Один в желтой одежде, другой в красной. Впереди шли стражники, тюремщик, судья и горожане. Все они шли по той же дороге, по которой шел Менестрель два дня тому назад, к той самой виселице, которую он встретил у ворот родного города. Не поднимая головы и не глядя на окружающую толпу, приближался Менестрель к месту страданий.
Он не роптал и не возмущался. За долгие годы он уже знал, что люди злы и несправедливы и им непонятно все светлое и высокое, все то, выше чего они не способны подняться сами. Где же им поверить, что сердце, открытое вдохновениям и гимнам, недоступно злодейству?
IХ
Когда процессия стала приближаться к часовне, толпа заволновалась и стала кричать:
— Покайся, вор!
Другие кричали:
— Пусть войдет! Пусть покается! Он оскорбил Пресвятую Деву. Пусть перед смертью испросит у Нее прощения!
Все остановились. С Менестреля сняли оковы, и стражники втолкнули его в часовню. Вместе с ним вошли судья, палачи и народ. Но часовня была мала для всех, и огромная толпа осталась ждать у дверей на площади, возле стены. Угрюмый и спокойный, певец дошел до середины часовни и молча опустился на колени перед алтарем, не боясь ни смерти, ни жадной до зрелищ толпы.
Таинственный трепет охватил его душу. Но это не был страх, это был давно забытый трепет вдохновенья, когда в душе его слагались гимны, навевались неведомо откуда пламенные стихи и дивные звуки. Они налетали как вихрь, захватывали душу и сердце, метались молниями, слепили очи — и вот, не сознавая себя, не видя ничего вокруг, Менестрель пел свои гимны, заражая вдохновением всю толпу, покоряя ее и повергая ниц перед славой Богоматери, перед властью высшего дара.
Этот трепет овладел сейчас Менестрелем — забытый священный трепет. Как певучая струна, задрожало вдруг старое сердце — точно завеса, много лет мешавшая видеть, упала с глаз. Легким, как в молодости, движением он вскинул свою виолу, приставил ее к груди и, взмахнув широким горбатым смычком, трижды скользнул им нервно и быстро по всем струнам, а в ответ шестикратно повторились аккорды в глубине купола.
Х
Все переглянулись. А Менестрель уже водил смычком, медленно и плавно, по одной струне, нажимая ее выше и ниже и заставляя то петь, то дрожать, то звенеть. То ударял он разом по всем струнам, вызывая под сводами лесную бурю, то переходил с одной струны на другую, и нежная мелодия лилась и журчала, как весенний ручей.
Туманны и скорбны были звуки виолы, а старческий голос, которым сопровождалась мелодия, был слаб и дрожал. Но по мере того, как песня все более и более захватывала душу, голос его креп и рос.
Точно молодость вдруг вернулась к старику.
Сухие и тонкие пальцы проворно и ловко перебирали гриф, а смычок перескакивал, бегал и качался на струнах, как на волнах.
Виола пела. Пел и старик.
Голоса их звучали все громче, все восторженнее, сливаясь в пламенную песнь во славу Богоматери, и эхо гудело вверху невидимым хором. Прислушиваясь к этому хору, певец вдохновлялся все более и более, и слезы стояли на глазах его от умиления и восторга. Он благодарил Святую Деву за великое счастье, выпавшее на его долю: быть до гроба певцом Богоматери.
Он благодарил за минуты высокого вдохновения, посещавшего его душу. Он рассказывал о своей забытой славе, о нищете, о вольной жизни в горах и лесах, о красоте мира, о близкой позорной смерти. Он пел о вечности, о страшной, желанной вечности, перед которой нет ни сильного, ни слабого, перед которой все равны, как две слезы, катящиеся из его глаз. Он пел один, стоя впереди толпы. Глаза его были широко открыты. Седые пряди волос в беспорядке упали ему на бледное лицо.
Он пел, а толпа смущенно молчала. Звуки виолы носились под сводами, парили, стелились и таяли в воздухе, как дым кадил, а голос певца звенел и замирал в торжественной скорби, словно колокол, призывающий перейти из одной жизни в другую. И было жутко всем, и страшно, и радостно.
Опустились руки у стражников, на лицах палачей разглаживались суровые складки, а народ, становясь на колени, проникаясь восторгом и скорбью, глядел на Святую Деву плача, молясь и шепотом вторя певцу.
— Слава Тебе, Мати обездоленных, перестрадавшая скорбь, выше которой не ведал мир! — восклицал Менестрель.
И все, воздевая руки, восторженно шептали за ним:
— Слава! Слава!
— Прими мой последний гимн, Пресвятая Дево, мое последнее вдохновение!
Струны вздрогнули последним широким аккордом и тихо замолкли вместе с голосом певца. Только одна самая тонкая струна одиноко пропела еще несколько нежных нот, все тише и тише, как улетающий жаворонок.
Менестрель опустил виолу, молча упал ниц и лежал перед алтарем, прижимаясь головой к холодному полу, а народ все стоял на коленях, потрясенный, очарованный и безмолвный…
ХI
И вдруг среди тишины послышался странный шорох, всколыхнулись одежды и второй рубин с четок Пресвятой Девы сорвался внезапно сам собою и упал, как тяжелая капля, на солею перед алтарем, а затем звучно покатился по каменным плитам и лег к ногам Менестреля.
В страхе и смятении все зашептали:
— Чудо! Чудо!..
— Чудо!.. — пронеслось в толпе, наполнявшей часовню, площадь и улицу, и из уст в уста передавалось это слово:
— Чудо! Чудо!..
А певец, воздевши руки и не поднимаясь с колен, едва слышно прошептал:
— Слава Тебе, Пресвятая Дево! — и вновь упал ниц.
Упал мертвым.
Он умер на глазах народа, умер честным и славным певцом, каким был всю свою долгую жизнь и лучшего удела — удела певца — не искавшим.
Так говорит старинная легенда о безызвестном Менестреле, о певце Богоматери.
Глаголы неба
Рассказ
…И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков Небес заменить не могли
Ей скучные песни земли…
М. Лермонтов
I
В один из больших европейских городов пришел из какого-то захолустья бедный юноша-музыкант. С котомкой за плечами и с верой в свой талант, он храбро шел навстречу счастью, которое, казалось, ждало его в этом огромном и прекрасном городе, где было так много всяких произведений искусства и так много людей, понимающих и ценящих музыку.
Юноша-музыкант, — его звали Франц Рислер, — пришел сюда учиться. Искорка Божьего пламени горела в его душе ярким светом, в его груди жил целый мир звуков, но эти звуки были еще неясны и неопределенны: Франц не мог их выразить в стройной и ясной гармонии. Иногда в его душе рождались прекрасные созвучия, обещавшие дивную мелодию. Они возникали сами собой, как возникают волны, осиянные зарею облаков, и также сами собой разливались, расходились и гасли. Франц не мог объединить и связать их в одно целое.
Слезы сладкого восторга вскипали в его сердце при зарождении таинственных мелодий… и сменялись cледами горького разочарования и бессилия. Он тосковал и надеялся только на то, что музыкальное образование поможет ему создать из трепетных и неуловимо исчезающих созвучий величественное гармоническое целое. Он верил, что громадный, прекрасный город ласково примет его и даст ему это образование.
Но город принял его сурово. К кому из музыкальных знаменитостей ни стучался молодой мечтатель, всюду он получал холодный отказ. Не удалось ему и поступить в консерваторию: у него не было денег для взноса на право обучения. Несколько дней он ходил туда и умолял принять его бесплатно, просил, чтобы ему разрешили выказать так или иначе свои музыкальные способности.
Но никто не хотел слушать Франца Рислера, а между тем его скудные средства подошли к концу. Но надо было пить и есть. И Франц махнул рукой на музыкальное образование и после долгих поисков нашел место тапера в пригородном притоне.
Началась скромная жизнь бедняка, затерянного в громадном, глухом к человеческому горю городе. Потянулось тяжелое и горькое существование изо дня в день с постоянной заботой о том, как бы не погибнуть с голода и где бы достать кусок хлеба на завтра.
Из одного притона Франц перешел в другой, потом в третий… Талант его погибал. Ему было уже не до музыки, когда под утро, после кошмарной, грязной, как сальное пятно, ночи он приходил к себе в каморку шестиэтажного дома и бросался, не раздеваясь, в постель.
Звуки уже не теснили его грудь, не волновали его сладкими и мучительными грезами. В его ушах стояли мотивы гнусных песен и танцев, и он тщетно старался забыть их, изгнать их из своего слуха, отречься от них. Ничего, кроме них, в нем не звучало… И слезы отчаяния и горькой обиды закипали в юноше. Больной, усталый, полуголодный, Франц тщетно пытался сочинять что-нибудь свое, серьезное, душевное. Его голова была тяжела и пуста, сердце было опустошено. Но вечером он снова шел в «Альказар» и аккомпанировал там гнусным песням и танцам.
Талант его погибал, погибал и он сам. Но ему не суждено было потонуть в этом болоте, куда его толкнула судьба. Нечаянный случай спас Франца Рислера.
II
Громадный зал «Альказара» сиял огнями: венцами люстр, гирляндами цветных лампочек, вензелями, букетами, волнами разноцветных сверканий, отражавшихся в громадных, как стеклянные озера, зеркалах. Под эстрадой, на которой стоял рояль, колыхалось человеческое мoрe среди белых столиков и вычурных резных стульев. Потоки света, чистого и радостного, словно безгрешное майское утро, заливали эту нечестивую толпу, пришедшую сюда ради низких удовольствий, и странно было видеть в этом прекрасном сиянии людей мрака и дела мрака.
Толпа посетителей все сгущалась и росла. Белые столики уже были все заняты. Звенели стаканы и тарелки, хлопали пробки, раздавались восклицания, смех. Человеческое стадо гудело, как пчелиный рой, в ожидании начала дивертисмента.
В уголке эстрады сидел сгорбившись незаметный и бледный, в поношенном фраке человек. Он был всех ничтожнее в этом сверкающем зале. Никто не обращал на него никакого внимания: это был аккомпаниатор и тапер Франц Рислер. Он явился сюда раньше обычного. Девица, которой он должен был аккомпанировать новую шансонетку, еще одевалась. И в ожидании ее Франц сидел одиноко в углу и прислушивался к гудению толпы и тем разнообразным и неуловимым звукам, которые возникали и исчезали, как вспышки пламени, на фоне этого гула. По старой, укоренившейся в нем привычке он невольно искал в этих звуках гармонические сочетания. Он не хотел искать их, он устал духом и телом и, как ему казалось, даже не жил в этой атмосфере сверкающего и ядовитого соблазна; но бессознательно он все-таки следил за вспышками звуков и переводил их в гармонические сочетания.
И вдруг он вздрогнул и поднял голову. Странное дело: в звоне стаканов и в серебристой трели пробежавшего где-то за сценой звонка ему почудилась прекрасная мелодия… Или нет, не мелодия, а намек на нее, предвкушение ее. Сочетание трех-четырех мелькнувших в oбщем звуковом хаосе тонов, совершенно незначащих и ничтожных, внезапно породило в душе Франца какое-то стройное и светлое гармоническое начало. Как будто в его душе давно уже дремала прекрасная мелодия, а Франц даже не подозревал о ее существовании… Эта чудесная музыка напоминала спящую в дремучем лесу царевну, разбуженную уродливыми гномами, их чужими, смешными, нелепыми звуками… Франц задрожал и почувствовал, что в нем разрастаются знакомые, давно уже не посещавшие его волнения.
Его душа пела и звенела, как тронутая ветром Эолова арфа. Все его существо было потрясено какой-то громадной световой и звуковой волной, и звуки за звуками неслись навстречу его потрясенному духу, словно светлая, сияющая река или снеговая лавина, скатившаяся с девственно-чистых высот.
Да! Это было настоящее творческое вдохновение, и где же оно охватило Франца! И какие ничтожные и низкие звуки пробудили его! Подобно тому как несколько веков тому назад Спаситель мира родился в убогой пещере, так и Божественное вдохновение, внезапно озарившее сердце музыканта, родилось сейчас в низах человечества, в притоне зла и порока.
Франц забыл в это мгновение, что он находится в кабаке и что перед ним — люди притона; он твердыми шагами подошел к роялю и взял несколько аккордов.
Певица пока не выходила, музыкальное отделение еще не должно было начаться, и посетители с удивлением взглянули на усевшегося за рояль невзрачного и дурно одетого человека со строгим и грустным лицом. Иные думали, что этот человек запоет сейчас что-нибудь забавное, выполнит какой-нибудь неожиданный, не обозначенный в программе номер.
— Смотрите, какую физиономию он состроил, — смеясь, говорили они соседям, — забавник!..
Другие, более равнодушные к музыке и зрелищу, думали, что тапер просто соскучился ждать певицу и пробует пальцы на рояле.
Франц заиграл. Полилась нежная, прекрасная мелодия. Она становилась все полнее, звучнее, прекраснее и сулила великолепный разлив могучей и художественно законченной гармонии. Само небо заговорило в ней с людьми тихим и проникновенным шепотом, и было ясно, что шепот разрастается в могучие, потрясающие глаголы. Франц играл, не помня себя. Его охватила радость и какое-то несказанное спокойствие.
Но люди притона стали прислушиваться к его игре и начали выражать неудовольствие.
— Послушайте, Вы! — крикнул толстый, краснолицый купец, сидевший близко у эстрады. — Что Вы там бренчите? Нельзя ли прекратить Вашу канитель?
— Эй, Вы, факельщик! — крикнул другой голос. — Играйте что-нибудь веселенькое, а не похоронный марш…
— Довольно, довольно! — кричали в толпе.
— Уберите его прочь!
В зале поднялся шум. На эстраду выбежал распорядитель и накинулся на Франца с упрекам: как смел он выступить самостоятельно, вне программы, не дожидаясь певицы?
— Кто вы такой? — кричал он на юношу. — Вы пьяны! Убирайтесь вон!
Франц поднялся, весь дрожа, из-за рояля. Дивные звуки, сплетавшиеся за минуту перед тем в его душе в нежную и тонкую, всю пронизанную небесным светом гармонию, вдруг смешались, погасли и исчезли, оборвавшись на полутоне. И вместо них в душе музыканта воцарился темный хаос. У него было такое ощущение, как будто он только что держал в руках восхитительную, драгоценнейшую вазу, но кто-то грубо толкнул его, и он выронил чудесный сосуд, и драгоценность разбилась на мелкие осколки!
— Что Вы сделали? — глухо промолвил он, обращаясь к кричавшему на него распорядителю и к толпе. — Вы надругались над Небом! С вами говорил Сам Бог, а вы…
— Вы пьяны! Или сошли с ума? — воскликнул распорядитель. — Во всяком случае Вам здесь не место. Извольте убраться от нас.
— Я и сам вижу, что мне здесь не место, — промолвил юноша и направился к выходу.
Публика свистала, ревела, хохотала за его спиной. Посетители в душе вовсе не негодовали теперь на Франца, скорее, были даже довольны разыгравшимся сверхпрограммным скандалом, но Францу казалось, что на его спину обрушиваются тысячи кулаков, и он быстро шел к выходу, невольно съежившись под этими воображаемыми ударами.
В вестибюле его нагнал какой-то господин.
— Здесь неудобно разговаривать, — обратился он к Францу, — а я хотел бы серьезно поговорить с Вами. Вы поразили меня. Вот моя карточка. Я был бы очень рад, если бы Вы зашли ко мне как-нибудь на днях.
Франц машинально взял карточку, сунул ее в карман и, не ответив ни слова, вышел на улицу.
Он опять был без места и без куска хлеба. Его выгнали, как пьяного слугу, даже не выслушав его объяснений. Но не это в основном печалило Франца. Его мучило то, что прекрасная, небесная музыка так грубо оборвалась и так бесследно исчезла. Он напрягал всю свою память, но не мог вспомнить ни одной ее ноты.
А между тем он чувствовал, что оборванная, погашенная и потерявшаяся мелодия должна была разрастись в нечто неописуемо прекрасное. Там, за оборвавшимися аккордами, таилось великолепное, неслыханное по звуковой красоте заключение. Эта мелодия должна была пробудить в человечестве любовь, радость, справедливость и приобщить людей к Небу. Она должна была доставить величайшее удовлетворение Францу и как художнику, и как человеку. Но она потерялась, она исчезла, грубо прогнанная и оборванная тупыми человеческими страстями…
Идя по темной улице, Франц плакал горькими слезами и не замечал, не видел своих слез…
III
На другой день он вспомнил о неизвестном господине, вручившем ему карточку, и решил побывать у него. Господин этот оказался директором оперы, известным музыкантом. Он принял Франца чрезвычайно любезно и стал расточать изысканные комплименты в его адрес.
— Я был поражен Вашей музыкой, — сказал он сконфузившемуся юноше, — я словно предчувствовал, что открою на этот раз в том кабаке нечто прекрасное. Вы, вероятно, удивляетесь, что я оказался в числе посетителей этого заведения. Но я, мой друг, имею обыкновение посещать такие притоны: в них иногда попадаются такие таланты, которых не грех бывает вытащить из грязи и пристроить на надлежащее место. У нас в опере сейчас поет молоденькая артистка, госпожа Сильвестр. Вы не слыхали ее? Великолепная артистка, дивная певица. Постоянно имеет колоссальный успех. А между тем карьера ее началась там же, где и Ваша. Я извлек этот алмаз из того же «Альказара». А теперь Вы!.. Это прямо какое-то чудо. И я очень, очень рад, что нашел Вас там и могу доставить Вам возможность проявить Ваш прекрасный талант более достойным образом.
Директор оперы подмигнул Францу:
— А славную пощечину Вы дали этим баранам. Сознайтесь, что Вы нарочно стали играть перед ними Вашу сонату. Очень смелая демонстрация. И очень оригинальная… Повторяю, я до сих пор не могу прийти в себя от восхищения.
Франц стал уверять, что никакой демонстрации с его стороны не было и что он стал играть, только повинуясь непреодолимому голосу художественного творчества. От волнения он говорил нескладно и путано и не мог выразить того, что хотел сказать.
Директор добродушно посмеялся над его смущением, еще раз похвалил Франца и дал ему несколько рекомендательных писем: в Академию искусств, в консерваторию, к различным влиятельным лицам.
Франц вышел от него словно в чаду. Судьба его складывалась теперь caмым блестящим образом. И так внезапно. Не теряя времени, он прежде всего отправился в консерваторию. Он невольно усмехнулся, сравнив это с тем, что было так недавно. Тогда на Франца даже не хотели смотреть.
С ним разговаривали, не поворачивая к нему головы.
Ему холодно и категорически отказывали в приеме.
Теперь было по-другому. Франца встретили в консерватории необычайно любезно и предупредительно. Его сразу же приняли учиться и не только не потребовали с него никакой платы зa учение, но еще зачислили стипендиатом. Так магически воздействовало письмо директора оперы. Такое же чудодейственное влияние оказали и другие рекомендательные письма, и спустя несколько дней Франц Рислер уже учился в высшем музыкальном учреждении и, кроме стипендии, имел выгодные уроки в богатых и аристократических семьях.
Теперь он спокойно мог отдаться самосовершенствованию. Прекрасное, счастливое будущее само плыло к нему навстречу. Не нужно было заботиться о куске хлеба назавтра, не надо было заниматься трудом музыканта-чернорабочего. Недавнее прошлое казалось Францу полузабытым сном.
Но в этом минувшем сне было нечто незабываемое. Это была та мелодия, которая внезапно озарила Франца небесным сиянием и бесследно отлетела от него, оборвавшись на полутоне. Франц не мог забыть о ней, и по-прежнему искал ее в своей памяти, и тосковал по ней.
Он так и не мог припомнить ее. Тщетно он восстанавливал в своем воображении зал «Альказара», шумную толпу, звуки и шумы, царившие в этой толпе. Память рисовала eмy только внешние черты, звуковые же картины оставались неясными. Он помнил, что вспыхнувшую в нем мелодию пробудили звон стаканов и трель колокольчика, соединившиеся в каком-то особом сочетании.
Он старался создать это сочетание искусственно: звенел у себя дома стаканами, серебряным колокольчиком, стараясь поймать искомое созвучие. Но ничего не получалось. Тогда он вздумал побывать в «Альказаре». Несмотря на отвращение, которое ему внушал этот грязный притон, Франц отправился однажды туда вечером и провел часа два, прислушиваясь к нескладной и шумной симфонии царивших там звуков и тщетно пытаясь поймать неуловимых возбудителей желанной мелодии. И этот опыт не удался ему…
Такая погоня за вдохновением изнуряла его. И он решил отдаться спокойному изучению музыки, надеясь, что вдохновение когда-нибудь само сойдет на него. Когда и где — об этом уже Франц не думал. Он понял, что Божественный огонь вспыхнет в ином месте и при иных обстоятельствах и что отнюдь не следует искать его в прежнем месте. Он с жаром принялся за свою музыку.
IV
Прошло несколько лет.
Франц заканчивал консерваторию. Он уже неоднократно выступал в концертах и был известен в городе как хороший, подающий большие надежды пианист. Известен он был и как начинающий композитор. Он написал несколько романсов и фортепианных композиций, которые имели в публике успех.
Но этот успех мало радовал Франца. С каждым днем он приходил к убеждению, что настоящее его творчество еще спит и он так и не может пробудить его. Он думал, что музыкальное образование поможет ему снова найти мелькнувший идеал. Но вот он уже окончил высший курс и был вполне образованным музыкантом, но идеал так и оставался не найденным.
Прекрасная Божественная мысль, осветившая когда-то все его существо, не поддавалась до сих пор никаким исканиям. А между тем Франц в ней одной и видел задачу художественного творчества. Все остальное, хотя бы и хорошее, и талантливое, казалось ему слишком мелким, слишком простым, слишком земным. Подобно тому, как вкусивший сладкого не захочет уже и помыслить о горьком, Франц не хотел и не признавал того, что ему подсказывало его будничное вдохновение.
Он многo работал, целыми ночами просиживал он над нотной бумагой, сочиняя и переделывая свои произведения, и смутно надеялся, что великая и прекрасная музыкальная идея вспыхнет сама coбой во время творчества. Но надежды его не осуществлялись, и Франц с раздражением и тоскою сжигал то, что было им написано. Все было не то. Не этого он желал и не к этому тяготел в своих стремлениях. Время шло.
О Франце говорили повсюду. Его приглашали играть в благотворительных концертах, у него было множество учеников. Эти успехи радовали Франца, но вместе с тем каждый такой успех приносил ему сознание, что свое признание он получает не по заслугам и что он не создал и не исполнил того, что должен был исполнить. А то, что он должен был исполнить, была та песня Неба, которую он так и не мог воссоздать и вручить человечеству как прекраснейшее из благ и утешений.
Постоянная, неустанная работа и тревожная погоня за недосягаемым идеалом, продолжительное недовольство собой и своей работой не проходили для Франца даром. Он преждевременно состарился, похудел и стал раздражителен и болезненно восприимчив. Его ученики постоянно жаловались на его раздражительность. Общение с людьми вообще тяготило его, и Франц охотнее оставался в одиночестве, не упуская ни минуты, чтобы отдаваться своим музыкальным идеям.
Но бесплодие его творческих исканий опустошало его душу и заставляло его в отчаянии рыдать и рвать на себе волосы. Он проклинал cвой талант, невольно укоряя Того, Кто дал ему этот дар:
— Зачем мне дана была эта великая драгоценность, когда я был еще слаб, как ребенок, и неразумен, как бессловесная тварь, и не мог удержать этот дар? Отчего Ты не даешь его мне теперь, когда я разумен и силен и могу нести в мир Твой сияющий и жгучий огонь?
Он не мог понять, как случилось, что дивная песня так безнадежно и безвозвратно исчезла. Ведь была же она в его сердце, ведь пело же ее все его существо — отчего же она оборвалась и так непостижимо забылась?
Неужели в памяти человека нет таких уголков, где всякое ощущение оставляет след, и неужели нельзя отыскать этот след? И что такое талант? Что такое тот дар, которому Франц отдавал всю жизнь и все свои труды? Стоило ли продолжать отдавать все силы музыке?
И что такое музыка? На что она нужна? Что в ней важного, вечного, желанного для мира и человечества?
Не простая ли она побрякушка, красивая, но бесполезная и ненужная безделушка, созданная искусителем-диаволом в часы досуга и брошенная в мир на соблазн праздным и ленивым людям?
Франц вспомнил старинную легенду об изобретении фортепиано. Он прочел ее в каком-то журнале и посмеялся тогда над ней как над наивной и забавной сказкой, но теперь она показалась ему серьезной и значительной: «В каком-то местечке, — кажется, это местечко называлось Пионоза, — жил старый музыкант, аббат.
Аббат занимался не столько служением Богу, сколько музыкой, и напрягал все силы своего ума и воображения, чтобы придумать такой музыкальный инструмент, в котором сочеталась бы певучая и болезненная грация скрипки с мощностью тромбона и литавр — инструмент, который, подобно оргfну, обладал бы множеством голосов, но был бы свободен от торжественной неподвижности и медлительности оргfна и имел бы нервность и подвижность звука.
В своих исканиях аббат позабыл о Боге. Однажды вечером, когда все стихло в природе и в окна смотрел полный месяц, какой-то дух влетел в комнату? и задушил аббата, и вытянул из него все нервы, и создал инструмент многострунный и певучий, который так страстно искал аббат. И это было фортепиано».
«Да, — думал Франц, — музыка — это томление и неудовлетворение, тщетная погоня за идеалом. Она создана из больных нервов и терзает нервы. В ней только скорбь? и страдание, и ужас перед вечной бездной недосягаемого и неудовлетворимого. Отдаться ей — это значит обречь себя на проклятие…»
V
Но Франц не мог уже бросить музыки. Она вошла вo все его существо, и он продолжал посвящать ей всего себя, страдая и томясь, как каторжник, к ноге которого на всю жизнь приковано тяжелое ядро, хотя иногда, впрочем, у него бывали минуты просветления и некоторого довольства, ибо постоянно жить с чувством безысходности просто невозможно.
Но вот однажды Франца пригласили участвовать в одном концерте. Франц обещал сочинить что-нибудь новенькое, но не задавался никакими творческими намерениями. Он решил отнестись к делу проще и задумал скомпоновать одну из тех земных мелодий, которым он придавал значение лишь как возможным возбудителям настоящего, вдохновенного творчества. Он не любил и не признавал этих обыденных композиций за настоящее творчество, но они нравились публике и, стало быть, могли быть исполнены на концертах уже только поэтому.
Он быстро набросал накануне самого концерта две грациозных вещицы в этом роде и, не то чтобы довольный ими, но просто спокойный и благодушно настроенный, отправился прогуляться по городу.
Был вечер. Погасшая заря сменилась сумерками, и на потемневшем вечернем небе стали зажигаться редкие и крупные звезды.
На улице было мало прохожих и стояла непривычная для большого города тишина. Франц шел, не торопясь по бульвару вдоль линии темных домов. Мысли его были спокойны, несбыточные желания не волновали его. На него нашло очень редко случавшееся с ним настроение внутреннего миpa и согласия с самим собою.
Вдруг где-то над ним раздались тихие аккорды, струившиеся серебристым потоком, как лесной ручеек. Это играли на рояле в доме, мимо которого Франц проходил. Ничего особенного не было в журчании этих переливчатых звуков: они походили на простую ученическую экзерцицию. Но Франц остановился, потрясенный до глубины своего существа, и схватился за сердце. В сочетании этих тихих аккордов, в их гармонии с окружающей вечерней тишиной и прелестью мирного весеннего вечера Франц вдруг узнал прекрасную, недосягаемую песню Небес, по которой он так томился и вспомнить которую было для него таким великим счастьем.
Пробужденная скромными неведомыми звуками, она звучала и пела в его душе. Она разрасталась в прекраснейшую гармонию. И близился великий и жуткий момент завершения и разрешения мелодии в великую красоту и свет. Франц тонул в этих светлых звуках, погружался в них всем cвоим существом и жадно старался запомнить каждый звук. Он бежал домой, чтобы поскорее записать Божественную песню, чтобы увековечить, уловить ее.
Он бежал, ничего не видя перед coбой, натыкаясь на прохожих, изумленно сторонившихся пред бегущим сломя голову безумцем с остановившимся горящим взором, с развевающимися волосами. Он бежал, и все пело в нем и вокруг него. И весь он дрожал от сладкой радости, и задыхался от ожидания страшной и ослепительной минуты разрешения мелодии — той лучезарной пропасти, в которую катилась и увлекала его огненосная волна неземных звуков.
Но, когда он добежал до своей квартиры, слух его поразило жалкое и наглое треньканье оркестра в соседнем городском саду. Оркестр наигрывал один из тех вальсов, которые играл в прошлое, злое время своей жизни сам Франц. Одного прикосновения этих звуков к слуху Франца было достаточно, чтобы прервать на полутакте прекрасную песнь Heба. В ужасе остановился он и прислушался к себе.
Да! Песня Неба смолкла. Земля убила ее своим грязным прикосновением. Франц уже не мог вспомнить ее.
В его душе была опять темная пустота.
Он побежал обратно на то место, на ту улицу, где eмy послышались тихие аккорды рояля. Он бежал туда с отчаянием утопающего, который хватается за соломинку. Он не верил в эту соломинку, он знал, что теперь уже не вернуть отлетевшую мелодию.
И в самом деле, он ничего не добился. Он не помнил даже, на какой улице его объяло вдохновение. До поздней ночи проблуждал он по городу в поисках того места и того рояля. У него стали наконец подкашиваться ноги, и, сам не зная как, он снова очутился у дверей своей квартиры.
Он подошел к кровати, повалился на нее и мгновенно уснул, сраженный усталостью.
VI
Необыкновенный сон приснился ему в ту ночь.
Францу казалось, что на него нахлынула волна страшного мрака и увлекла его куда-то в бездонное подземелье. В его мозгу не было ни одной мысли, а только смутное сознание приближающегося конца. Кругом него была тьма, такая плотная и глубокая, что в сравнении с ней земная ночь показалась бы майским полднем.
Чей-то голос в глубине спросил:
— Это смерть?
И другой голос, прекрасный, как музыка, и величественный, как гром, ответил вверху:
— Нет! Это не смерть, а жизнь в ожидании смерти.
И в это мгновение смертную тьму прорезал ослепительный, молниеносный свет, такой мощный, что в сравнении с ним земной день показался бы безлунной и ненастной ночью. И прекрасный и страшный голос, звучавший музыкой, сказал Францу:
— Прииди!
И Франц стал медленно подниматься в беспредельное пространство сияющего неба. Он чувствовал, что все его плотское существо как бы исчезло и растворилось в светоносном эфире. От него оставалась одна только бестелесная сила, одна только мысль, живая и способная проникнуть во все тайны и понять их. Он поднимался все выше и выше в сиявшую бесконечность и все более проникался этим ужасающим светом. Он сам, казалось, сливался со светом и, легкий и светлый, плыл в волнах световых колебаний эфира.
А вокруг него раздавалась чудесная музыка. С несказанно прекрасным пением переливались и струились светоносные эфирные волны, звучали лиры и планеты, разрезая мощным полетом вечность. Хоры звезд составляли таинственные, тихие аккорды, задумчивые, как настроение тихой ночи. Звуки рождались и умирали, и даже самая смерть звука рождала звук.
И где-то высоко, за пределами вечности, звучали прекрасною музыкою голоса Серафимов и серебряный шелест их крыльев. Франц достиг и этих пределов. Он превратился в сияющий атом, дрожащий в волнах и колебаниях великой мировой музыки. И к нему, к светлой пылинке, очищенной от всего земного и пронизанной светом Божества, склонился животворящий и создающий все в мире Луч, и послышался прекрасный, звучащий дивною музыкою голос:
— Слышишь ли ты Мою музыку?
— Слышу, Господи, — ответил он, трепещущий от восторга и ужаса.
— Знай же, что не тьма создала искусство, которому ты служишь, — но Небо. Не враг Неба бросил на пажити твоей души сияющие зерна гармонии, — но Небо.
Знай, что музыка — это глаголы Неба.
Подобно тому, как на земле слова и речи рождаются из слабых и тусклых звуковых сочетаний, Небо сочетает свои глаголы из прекраснейших гармонических созвучий. Глаголы Неба — пение и музыка, каких нет на земле и какие только в мгновения высшего откровения ты слышал и слышишь в своей душе…
Франц трепетно внимал великой музыке-речи, и узнавал ее, и славил ее всем своим помышлением. А музыка-речь звучала все прекраснее и величественнее:
— И вы, созданные здесь, в великом свете Неба, слышите еще до своего земного рождения глаголы Неба, и вы уносите на землю слабый отголосок их, тусклую тень их, мерцающую и гаснущую память о них. И тот, кто помнит глаголы Неба, томится по ним всю свою жизнь земную. Но помнить о них дано немногим… И вся земная музыка есть лишь слабое отражение вечных и прекрасных голосов Неба.
— Господи! — воскликнул Франц. — Утверди мою память, чтобы я принес на землю глаголы Неба и поведал их людям.
— Не дано еще людям ведать их, — прозвучала торжественная и пронизанная светом небесной гармонии речь. — Я показал тебе тьму смертной жизни и воззвал тебя в вечный небесный свет для того, чтобы ты понял, как велика и непроходима разница между земной жизнью и сиянием Неба. Я открою твой слух, Я утвержу твою память — иди на землю и слагай Мою песню. Но будь силен и берегись, чтобы тьма земли и мощь земли не одолели тебя…
Франц проснулся.
Еще царила ночь, и в окно светил желтый месяц.
Все покоилось вокруг, не было слышно ни одного земного звука. Но Францу казалось, что все кругом и в нем самом наполнено Божественной мелодией.
Это была все та же желанная и недосягаемая песня Неба, которую он искал всю свою жизнь. Она звучала теперь с такой же мощностью, как и в его необыкновенном сне. Но сон прошел, а мелодия не проходила.
Она крепла и разрасталась, и Франц понял, что его слух действительно открылся для нее весь, в полной мере, и что мелодия воцарилась в нем так же властно, как Божий глагол.
Он встал с постели, подошел к роялю. Музыка не смолкала в его душе. Франц как будто слышал ее со стороны. Емy казалось, что она вливается вместе с сиянием месяца и с ароматом весенней ночи в комнату через окно.
Вне себя от пламенного восторга, он схватил перо и бумагу и стал заносить в нотные строки небесную песню. Мелодия росла и ширилась, и близился прекрасный и страшный миг ее разрешения. Франц еле поспевал записывать ее. Его рука, охваченная судорогой, с тяжким усилием бегала по бумаге. Франц не мог остановиться ни на секунду, не мог дать себе отдыха. Мелодия звучала непрерывным потоком, и Франц боялся упустить малейший звук ее, боялся неосторожным перерывом совсем прервать ее. Но усталость одолевала его руку.
— Господи! — думал он. — Неужели я не выдержу?
И что-то говорило ему, что он во чтобы то ни стало должен побороть охватывающую его слабость, если хочет, чтобы небесная песнь жила в мире.
Еще одно мгновение… Еще один краткий миг — и мелодия завершится. Еще одно усилие… Но пальцы судорожно дрогнули и разжались. Перо выпало, и Франц в глубоком обмороке склонился над неоконченной рукописью. Земля победила его…
Он очнулся.
Все было тихо. Глаголы Неба уже не звучали в ночной тишине. Было светло… В полном изнеможении Франц стал перечитывать написанное им в недавнем состоянии творческого возбуждения.
Да! Это была та самая песня Неба.
Но она опять прерывалась на полутакте. Опять в руках музыканта был только обломок великого произведения. Обломок, правда, прекрасный, но только мучающий и раздражающий своей незаконченностью.
С величайшим напряжением памяти и воображения Франц пытался продолжить небесные звуки, отчасти уже закрепленные на бумаге.
Но воображение отказывалось работать, память ослабла, и неуловимая мелодия так и не давалась Францу в обстановке земного творчества. Он упорно пытался хоть как-нибудь закончить мелодию, придумывая различные завершения, но у него ничего не выходило. С небесным звуком не хотел сливаться земной звук…
Франц пришел в отчаяние. Он понял, что идеал так и останется недостижимым, несмотря ни на какие усилия.
— Жалкий, безумный глупец! — стонал он, сжимая свою пылающую голову. — Я, ничтожный человек, вообразил себя Прометеем… Я думал, что я, Франц Рислер, облеку в звуки гармонию Небес и дам миру музыку совершенную — язык Божества… Безумец, безумец!.. Да разве созданные из праха могут носить в своей груди искры Неба? Искры гаснут, гаснут в их душе, как маленький уголек, брошенный в сугроб снега…
Франц разорвал ночную рукопись и бросил ее в огонь.
VII
— Как?! Вы отказываетесь выступать?
— Я не могу. Я не в состоянии. Я ничтожный ремесленник. Я не могу дать людям истинной красоты. Я только обманываю людей. Поймите это…
Франц усталым тоном, почти равнодушно повторял эти слова. А антрепренер, юркий маленький человечек, кипятился перед ним:
— Это совершенно невозможно… Я даже не верю, чтобы Вы отказались выступить в концерте. Полный сбор, и зa залу заплачено, и масса расходов… И, значит, придется возвращать публике деньги… И высокопоставленные особы приедут… Нет! Это совершенно невозможно. Вы будете играть. Вы не захотите вырыть себе и мне…
— Мне нечего играть, — возражал Франц, — у меня ничего нет.
— Как ничего нет? А Ваша новая соната? А прелюдия? А фантазия на восточные темы?
— Все это плохая, земная, ничтожная музыка.
— Земная музыка! — удивлялся антрепренер. — Конечно, не водяная. Я не понимаю Вас, маэстро. Но пожалейте хоть меня. Ведь я столько стараний употребил на это дело…
Разговор происходил перед самым концертом в помещении Музыкальной академии. Уже собиралась публика, и в комнату, где были сейчас Франц и антрепренер, смутно доносился гул толпы.
Франц с утра находился в странном состоянии.
Он то хотел выступить в концерте, то с отчаянием отказывался, находя, что все его произведения никуда не годятся и не должны быть исполняемы для публики. Он чувствовал себя больным и совершенно разбитым.
— Я совсем болен, — промолвил он после томительного молчания.
Антрепренер упал духом.
— Ну, как хотите, — простонал он, хватаясь за голову. — Боже мой, какое мучение с Вами, знаменитостями!
— Я играть не буду, — продолжал Франц, — но я выйду к публике…
Антрепренер изумленно взглянул на него.
— Я выйду к публике и объясню ей… Я объясню ей, что настоящая музыка, идеальная музыка, недостижима… И все то, что мы даем ей под видом музыки — только обман и досадная фальсификация…
Антрепренер молчал, удивляясь и беспокоясь все более. Франц говорил словно в бреду, словно с caмим собой. Он в самом дeле производил впечатление больного или даже, чего доброго, сумасшедшего человека…
— Знаете что, — промолвил антрепренер, — уж лучше Вы поезжайте домой. Как-нибудь устроимся. Объявим, что концерт по болезни переносится на другое время.
«Еще выкинет какую-нибудь выходку, — опасливо думал он. — Будет скандал. Это уже совершенно невозможно».
Франц не ответил ни слова и направился неуверенной походкой по направлению к залу.
— Ну, будет история, — проворчал антрепренер и кинулся вдогонку за композитором.
Он хотел остановить его, но остановить Франца было невозможно. Он непоколебимо решил обратиться к публике со своим необычным заявлением.
Все стихло в громадном, сверкающем зале, когда на эстраде показалась высокая, знакомая публике фигура Франца Рислера. С минуту все молчали, не ожидая, что он выйдет так скоро, еще до назначенного времени. Потом весь зал дрогнул от рукоплесканий.
Кричали:
— Браво, Рислер! — и стучали ногами, стульями.
Франц подошел к краю эстрады и сделал рукой знак, что хочет говорить. Снова все смолкло. И раздался неуверенный, тихий и задерживаемый горловыми спазмами голос Франца:
— Я пришел сказать вам, что наша музыка — ничтожная и жалкая попытка приблизиться к идеалу. Она ничего не стоит, она тлен… и прах, и детская побрякушка в руках взрослого глупца… И я отрекаюсь от этой ничтожной музыки и не буду исполнять перед вами ничего из своих жалких и ничтожных произведений…
В публике пробежало какое-то движение. Никто не ожидал этого. Послышались недоумевающие и неодобрительные восклицания.
— Но есть другая музыка, — продолжал Франц, — она —далекий отблеск небесных глаголов, она — память об утраченном общении с небесным светом. Всю жизнь я искал ее. Как Прометей, хотел я добыть для вас Небесный огонь. Еще сегодня ночью мне казалось, что я нашел ее. И я с гордостью говорил себе:
— Облеку в звуки гармонию Небес и дам миру музыку совершенную — язык Божества.
Франц замолчал, странно изменившись в лице.
Он хотел сказать публике, что он не может дать ей Прометеев огонь, что гармония Небес опять отлетела от него и он просит у всех извинения, и уйдет сейчас с опустошенной душой в мрак небытия…
Но он уже не мог сказать этого: небесная мелодия опять неожиданно вспыхнула в его душе.
Еe пробудили слова Франца: «Облеку в звуки гармонию Небес и дам миру музыку совершенную — язык Божества».
Гармония Небес, глаголы Неба, облеченные в прекрасные звуки, раздавались в его душе и жгли ее.
Франц молча подошел к роялю и заиграл…
Caмо Небо говорило в этих звуках с людьми.
Небывалая ласка и нежность, сладкое обещание блаженства и успокоения звучало в них. И властно разрастались они, и все более и более увлекали за собою к какому-то жуткому и светозарному концу, к какому-то великому разрешению, которого, казалось, не могло бы вынести ни одно живое человеческое сердце…
И вдруг песня Неба оборвалась…
— Дальше, дальше! — кричали потрясенные слушатели.
Но дивная музыка угасла, как пламя задутой ветром свечки. Она оборвалась на полутакте. А с нею оборвалась и жизнь Франца Рислера.
Он безжизненно склонился к клавиатуре…
Земля еще раз, и уже окончательно, победила его, и он склонился к ней, обремененный непосильным вдохновением, как склоняется к земле полный колос…
Но лицо его было спокойно и радостно. И казалось, что он все еще слышит великую песню своей далекой отчизны, и что уже ничто не может теперь помешать ему слушать ее, и ничто уже не угасит ее.
Б. Никонов
Райский цветок
О мученице Евдокии
Повесть из эпохи II века христианства
Глава 1
В царствование императора Траяна в Гелиополе в области Целесирии жила знаменитая гетера Евдокия, блиставшая невероятной, волшебной красотою, за которую ее прозвали «Цветок Эдема».
Во дворце, наполненном несметными богатствами, она проводила свою жизнь среди сказочной роскоши.
Благородные юноши и властители разных стран, мелкие окружные начальники и гордые правители стекались в Гелиополь, чтобы только видеть Евдокию, добиться ее благоволения. За наслаждение ее красотою они беззаботно повергали к ее ногам свои драгоценности, колоссальные богатства и самое бесценное для человека — жизнь.
В результате богатство Евдокии возросло неимоверно быстро до такой степени, что могло равняться любой царской казне того времени. Сама она не питала ни к кому из своих поклонников ни малейшей любви. Она омертвела душой и окаменела сердцем, глубоко презирая их всех и руководствуясь в своем образе жизни единственной целью: как можно больше накопить богатств, чтобы легче, вернее и обширнее наслаждаться всей прелестью бытия, всей прихотливой роскошью независимого существования, всеми радостями жизни…
Имея к своим услугам несокрушимую власть, верное и могущественное средство — свою необыкновенную красоту — Евдокия пользовалась ею как непобедимым оружием, прельщая, увлекая и порабощая всех кого хотела и захватывая их крупные состояния в свои руки.
Поклонниками владела она как вещами, смотря на каждого из них как на полнейшее ничтожество, обладающее только золотой казной. У кого же не оставалось более звонкого металла, того она прогоняла от себя как лишнего на беспечальном пиру ее жизни. Двери ее дворца закрывались для него навсегда… И неоднократно происходило, что человек, прежде богатый и известный, доведенный ею до полной нищеты, из любви к ней убивал себя вблизи ее великолепного жилища.
Она же, не движимая никакой жалостью, оставалась спокойной и равнодушной к причиняемым ею же страданиям и заманивала в свои сети новую жертву.
Вся ее жизнь была порочна, преступна и вызывала ужас и отвращение к ней среди приверженцев новой, христианской, религии — религии любви и добра. Все это казалось необычным и ужасным для неофитов христианства: сердца их болели за нее, и им становилось невыразимо жаль ее души, погибающей в тенётах греха. Но сознание всего ужаса преступлений, ею совершаемых, не озаряло ее. Ни разу мысль о грехе не являлась в ее ум, ни разу раскаяние не коснулось ее сердца.
Евдокия не смущалась ни от чего в гордом сознании своей силы и превосходства. Она стояла выше предрассудков своего времени, а религиозные диспуты о началах нравственной жизни не занимали ее. Неизменно веселая и беззаботная, она, живя настоящим и нисколько не задумываясь о будущем, задавала пир за пиром. Радостная, праздная, беспечальная жизнь поглощала ее: сегодня, как и вчера, бесконечное оживление-веселье было целью ее существования.
Вот и сегодня у нее пир.
Скоро соберутся члены симпозиума — владетельные особы, богачи, артисты, местные правители, лица жреческой корпорации, приезжающие иностранцы…
Дожидаясь их, Евдокия, этот «цветок Эдема», расположилась на великолепном седалище, похожем на царский трон, украшенном тончайшей резьбой, золотом и драгоценными камнями. Она — в белой одежде из сирийской ткани, усыпанной перлами. На ее белокурых с серебристым отливом локонах горит золотой венец, усыпаный бриллиантами…
Но красота ее так ослепительна, что затмевает блеск алмазов, которые, переливаясь разноцветными искрами, кажется, теряются и меркнут перед нею. Синие глаза ее с каким-то особенным отливом масличного цвета, но светлые и прозрачные, полны загадочной думы. Эти глаза пленяют чудесной силой и властью. Цвет ее лица — смешение роз и лилий — так необыкновенно приятен и очарователен, словно его пронизывают солнечные лучи. Прямой, греческого типа, словно из мрамора изваянный нос и цветущие уста придают ее облику чарующую прелесть. Кажется, это гений чистой красоты! Действительно, все растлевающий и обезображивающий разврат не наложил своей гнусной печати на это светлое чело. Так изумительна была красота Евдокии, что ни один скульптор и ни один живописец не мог воспроизвести ее лица на мраморе или полотне. Это был подлинно «райский цветок», пересаженный на чужую ему земную почву.
Вот стали появляться гости.
Тут были представители разных национальностей: греки, сирийцы, римляне, евреи, финикийцы, парфяне, египтяне. Молодой юноша-грек, происходивший из знатной фамилии и обладавший чудовищным богатством, не сводил с Евдокии пламенного, восхищенного взора своих черных глаз.
Евдокия ласково улыбалась ему, время от времени взглядывая на него. Этот юный богач, недавно представленный ей, был новой намеченной жертвой ее ненасытного корыстолюбия… Его колоссальные богатства не давали ей покоя… Имя его было Аристодем.
Гости завели разговор о новой религии, именуемой христианской. Евдокия предложила забыть бесполезные споры о достоинствах разных религий, а лучше взять пример с нее. Она говорила:
— Тот ли, другой ли бог, мне все равно. Единственным критерием своих поступков я признаю лишь свои желания, свои симпатии и антипатии. Моя религия заключается в поклонении красоте бытия, как бы и в чем бы она не выражалась; веселье же наравне с роскошью и богатством, по моему мнению, должно быть спутником жизни.
Присутствующие весело рассмеялись, и чаши вновь зазвенели, искрясь вином.
— За здоровье нашей прелестной хозяйки!
Участники пира вновь предались безудержному веселью. А в соседнем зале замирали и изнывали аккорды музыки. Много было красавиц на этом пиру, но Евдокия возвышалась над всеми своей внешностью. Цвет Эдема затмевал все цветки земли…
Минула уже вторая стража ночи, а пир все длился; он, кажется, не прервался бы, если бы Евдокия первая не покинула своего ложа… Все собрание, послушное ее воле, поднялось из-за столов, и скоро массивный дворец как бы вымер и казался теперь опустелым.
Евдокия направилась в свои внутренние покои, дав рукой знак Аристодему следовать за собой. Глухой ропот пронесся в толпе гостей, но утих быстро от одного повелительного взгляда Евдокии.
— Послезавтра я жду тебя, Аристодем, а теперь да благословят тебя всеблаженные боги! — и исчезла, как мимолетное, но долгопамятное видение…
Аристодем стоял, ошеломленный неожиданно слетевшим к нему счастьем. Упоенный радостью, он отправлялся домой. Сон был забыт им. Мысль о Евдокии жгла его мозг и сердце.
Глава 2
Евдокия отпустила рабынь, одевавших ее ко сну. Она неподвижно лежала на великолепном ложе, равнодушно и безучастно глядя перед собой; она походила на чудесный цветок, утомленный тяжелым зноем земного дня.
Тишина… Только тихий ветерок едва заметно колышет шелковые ткани портьер да чистый, прохладный воздух и аромат носятся по комнате… Но что это?
Откуда-то доносятся, упорно проникая в уши, таинственные звуки! Кто-то читает, и читает близко, вот рядом с этим ложем!
Кто это? Из чьих уст льются отчетливые полугромкие звуки? Чьи глаголы так трогают и бередят грешное сердце и черную совесть?
Евдокия привстала на ложе и оперлась на локоть, пораженная и смущенная непонятными ей изречениями.
— Горе вам, богатые и пресыщенные ныне! — долетает до нее звук чьего-то строгого, серьезного голоса…
Куда девалась ее сила, власть, самоуверенность? Пурпурные уста побледнели и дрожат, глаза заволоклись туманом блестящих слез…
Теперь больше нет сомнений. Эти звуки несутся из комнаты, где ставятся благовония. Но кто и что там читает?!
Свободно льется голос читающего; он звучит так просто, уверенно и неотразимо и возвещает о Суде Высшей Правды, о живом и великом Боге, о блаженстве чистых и добрых людей в обителях райских.
«Как солнце просветятся праведные в Царстве Господа», — ярко врезается в память фраза…
Грозно, искренне, властно говорит этот загадочный голос о том, что грешные пойдут в неугасимый огонь, где будут неослабно без конца мучиться целую вечность.
Долго, всю ночь раздавался таинственный голос, и не смыкая глаз слушала его Евдокия. Доселе не испытанное умиление коснулось ее черствой души, и без сна до рассвета думала она — думала впервые о множестве грехов своих, слыша чтение о нестерпимой муке, которая ожидает грешников за гробом.
Когда наступил день, Евдокия послала домоуправителя призвать к себе читающего ночью книгу. Тот испугался и, прося прощения, сказал, что к одному из рабов ее, христианину, зашел по пути родственник, сирийский монах, и домоуправитель поместил этого монаха на ночь в нежилую комнату, в которой складывались ароматные вещества, запретив ему всякое движение, чтобы не беспокоить госпожу. А если он посмеет громко читать, то…
Но Евдокия, не слушая извинений испуганного домоуправителя, велела скорее позвать к себе монаха. Когда тот явился, она высокомерно спросила:
— Что ты за человек и откуда пришел?
— Я — монашествующий, зовут меня Германом, — услышала она ответ. — А иду я из путешествия обратно в мой монастырь. Вчера уже зашло солнце, как пришел я сюда, в Гелиополь; мне негде было остановиться на ночь, и я вспомнил о моем родственнике, твоем рабе. Он с радостью встретил меня, накормил и дал мне отдых и приют на ночь.
Кротко отвечал старец, глядя на Евдокию своими чистыми и ясными глазами. Белые как снег волосы обрамляли его высокий лоб, лицо носило на себе печать старости и следы подвигов и поста, но было свежо и бодро. Глаза, которые со страданием и участием смотрели на грешницу, испускали какой-то свет. Вся худощавая фигура его дышала благочестием, в черных зрачках его живых и светящихся глаз теплились лучи веры и несокрушимой силы.
— Скажи мне истину, если можешь что-либо сказать о ней! Я тоскую и мысли мои смущены, потому что страшное и удивительное слышала я ночью, когда читал ты, — с тревогой глядя на старца, сказала Евдокия.
— Я обладаю безмерным богатством, — продолжала она, — и меня больше всего смутило, когда я слушала читаемую тобою книгу, что кто-то грозит горем богатым. Я от многих мужей собрала богатство, и если богатые после смерти будут осуждены на вечную муку, то какая мне польза в нем? — как-то спешно и лихорадочно говорила она.
— Скажи мне! — с мольбой вскричала грешница. — Я удивляюсь и недоумеваю, за что так казнен будет богатый по смерти? Или неумолимой ненавистью пылает божество по отношению к богатым?
— Нет! — отвечал Герман. — Бог не отвращается от богатых, и богатыми быть никому не запрещается, но Он карает неправильные приобретения и трату богатств на удовлетворение пустых желаний и на доставление себе греховных удовольствий. А если кто праведно скопляет богатство и расточает его добродетельно, подавая просящим, одевая нагих и насыщая голодных, тот безгрешен перед Богом; но, кто собирает богатство от хищения и грабежа или при помощи какого-либо греховного дела и скрывает его, не являя милосердия бедным, для того без милости будет суд и без конца — мука.
Едва встрепенувшаяся к добру душа Евдокии стала восставать и пробуждаться, едва утихла ее гордость и свет правды коснулся своим лучом ее темной души, как мгновенно с новой и удвоенной силой все прежние последствия ее грехов и беззаконий залили ее душу своим мутным потоком… Гнев, раздражение и досада на себя бурей закипели в ее груди…
Сомнение, обольщая ее, все затмевало перед ней; самоуверенность, гордое сознание своей силы и своей могучей красоты как-то приподняли ее и оторвали ее душу от простых речей старца. Невозможность расстаться со страстно любимым богатством, ради которого она жила, скоплением которого она жила, наслаждаясь, и была счастлива, придавала ей пыл и энергию.
Вся дрожа от гордости и высокомерия, с негодующей иронией спросила она своего собеседника:
— Так тебе мои богатства кажутся неправедными?
Старец понимал психическое состояние, овладевшее Евдокией, и поэтому грустно смотрел на нее. Но и на резкий и насмешливый вопрос ее бестрепетно отвечал:
— Действительно, твои богатства гнуснее всякого греха пред Богом!
Она игриво и спокойно сказала:
— Неужели! — и засмеялась серебристым смехом, который дробился и разливался по комнате, как далекие серебряные колокольчики. И она, видевшая одно поклонение, удивлялась сама себе. Как она до сих пор не позвала рабов выгнать дерзкого старика, осмелившегося забываться перед нею! Ей стало забавно от этой мысли, ей захотелось покапризничать, как привыкла она часто глумиться над своими обожателями.
Между тем монах удивился закоснелости грешницы и глубоко жалел ее.
Но вдруг печаль на его лице сменилась радостью. Воодушевляясь желанием спасения грешницы и воспользовавшись переменой ее настроения, инок смело стал говорить Евдокии о том, что позорные деяния грешников, как воды потопа, несут их в пропасть, горящую вечным пламенем гнева Божия.
Неудержимо лилась вдохновенная, жаркая речь старца. Говорил он о необходимости покаяния и очищения и о том, что муки уготованы только нераскаявшимся.
Евдокия, по-видимому, оставалась равнодушною и безучастною, но внутри у нее происходило что-то еще не испытанное ею, что-то непонятное ей.
— Посиди немного у меня! — серьезно сказала она. — И расскажи мне обо всем, чем можно получить милость Божию.
— Дочь моя! — воскликнул Герман. — Раздай богатства свои немощным и убогим: кто что-либо дает им, тот дает это Богу. Так говорит Бог и за непродолжительную раздачу нищим имущества вознаграждает неистощимыми небесными сокровищами. Так ты и сделай и приступи к спасительному крещению, которым ты омоешься от оскверняющих тебя грехов, и будь чиста и непорочна, возрожденная благодатию Святого Духа. Поступи так, и получишь блаженное наследие, насладишься вечным светом, не имеющим конца или перерыва.
Евдокия рассеянно слушала его. Все благое, что затронуло ее, теперь снова отлетело и стало ей как бы чуждо. Жажда богатства влекла ее сердце, тысячи мыслей проносились в ее голове, и она думала об Аристодеме — последнем ее поклоннике, юном греке, которого она полюбила.
— Я призвала тебя сюда, — сказала Евдокия, — потому что заинтересовалась словами, которые ты читал прошлою ночью. Возьми у меня сколько хочешь золота, но пробудь здесь несколько дней. Я прикажу отвести тебе помещение и приготовить тебе все необходимое. Может быть, я последую твоему совету, если ты откроешь мне свое учение.
— Мне не надо твоего золота! — отвечал старец. — Довольно мне надежды на твое спасение. Я останусь у тебя на некоторое время, ибо нет ничего выше и лучше для человека, как спасти ближнего своего. Ты же позови христианского священника, который научит тебя вере и догматам и совершит над тобою Святое Крещение, которое есть начало и основание спасения.
— Хорошо! — сказала Евдокия. — Я подумаю. А теперь я утомилась и устала, иди к себе.
Старец, молитвенно подняв глаза к небу, вышел. Евдокия позвонила в колокольчик, сделанный из толстого куска хрусталя. Раздался пронзительный звук, и несколько рабынь мгновенно явились на зов…
Наступил вечер. Снова пир у Евдокии. Опять лились звуки музыки, кипело вино, гости в безумном веселье кружились в танцах. Разносились разнообразные кушанья и сласти, горели огни, все сверкало… А над всем и всеми самовластно царила Евдокия, у которой совершенно изгладилось впечатление ее нравственного пробуждения. Она совсем позабыла о смиренном монахе, и о Божественных глаголах читаемой им книги, и о его вдохновенной беседе. Перед ней цвели одни удовольствия, ее радовало одно богатство, она была в самом хорошем расположении духа. Вся дышала весельем и негой наслаждений. Довольство и спокойствие было разлито на ее лице, радость выражалась в ее чертах.
Глава 3
Наступала глубокая осень. Богатства Аристодема давно уже свозились в гелиопольский дворец Евдокии.
Но что же с самой Евдокией? В продолжение летних месяцев она предавалась безумному веселью. Она не давала себе отдыха, стараясь через силу заглушить что-то тревожащее ее, что-то возникающее внутри нее, неведомо для нее и видимым образом удручающее ее. Но, несмотря ни на какие меры, тревога ее все усиливалась. До сей поры чуждая ей тоска подступала к сердцу, захватывала, душила ее. И она, знавшая одно веселье, нигде теперь не находила себе места. Все ей казалось нехорошо: золото потеряло цену, иссяк интерес к удовольствиям. Поклонники стали несносны и противны, и она реже стала давать пиры и приглашать их.
Одного Аристодема она не удаляла от себя, но не говорила ему больше о любви, а безмолвно искала утешения в его безыскусных речах.
Она совсем позабыла о сирийском монахе Германе, но великие слова читанной им в ночной тишине Книги жизни восстают, выплывают из забвения. Огненными буквами носятся они перед ней, жгут ее мысль, томят сердце.
— «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо возрыдаете», — с ужасом читает она огненные слова, обрисовывающиеся на полутемной стене. Мгла сумерек охватывает залу, и она с дрожью прижимается своим плечом к плечу Аристодема. Ум ее цепенеет, обрывки, бессвязные нити мыслей копошатся в голове, они господствуют в мозгу, дают своеобразную окраску ее душевному настроению…
— «И пойдут грешники в муку вечную!»
Грешники… И она грешница!.. Да, великая грешница. Она с презрением или, вернее, с пренебрежением слушала высокого седого монаха, когда он говорил о грехах ее. Она саркастически улыбалась, когда он не хотел взять себе золота, ее золота, принесенного ей в дар бесчисленными поклонниками. И что же? Ложь или истину говорил он тогда? Отчего же она теперь в таком удивительном состоянии, не похожем ни на одно из прежних? Ложь или истина были его слова? Если не ложь, то… Но роковое слово еще не сорвалось с ее уст, когда ей вспоминались запечатлевшиеся в сердце слова той таинственной Книги, которую читал старец: «И плевали на Него и, взявши трость, били Его по голове. И на кресте распяли Его!».
— Его, Распятого, христиане именуют своим Богом, Спасителем мира!.. Безумие! Но старец сказал мне на подобное возражение мое в беседе с ним: «Безумное у людей мудро у Бога!»
— Быть может, это правда, Аристодем?.. Я как-то увидала у него небольшую простую чашу, из которой он пил воду своей скудной трапезы. На ней не было украшений, а была изображена рыба. Я, помню, тогда же спросила у него, что это значит. «Это изображение имеет таинственный смысл, — ответил он мне. — Рыба — символ Христа, Спасителя мира…»
— Спаситель мира!.. — И сердце грешницы сжимается от боли, и тоска раздирает его.
Аристодем с грустью смотрел на нее, и невыразимое страдание сквозило в его лице. Это ли та гордая Евдокия, вся бледная, как призрак?! Куда девалось сияние веселья, где печать беспечности, где сознание своего превосходства, власти? Не поднята гордо ее голова, нет величавого покоя на ее лице… Мраморное чело омрачено тревогой, лицо смущено, взволновано, печаль светится в глазах. Однако красота ее не уменьшилась, напротив, она еще больше, резче выделялась, и одна эта красота оставалась неизменной, неприступной и могучей. Теперь она больше, чем когда-либо, походила на эдемский цветок, захиревший на земле!..
Гордость ее ломалась пред созревавшим в душе решением. Борьба приходила к концу, обновление и умиротворение ждало ее исстрадавшуюся душу.
Она дала последний пир своим поклонникам, не желая принимать к себе никого больше, кроме Аристодема, с намерением закрыть доступ в свой дворец, удалиться в одно из поместий и жить там в уединении. Шум, блеск, суета и речи поклонников ей надоели и наскучили. Она рвалась к чему-то еще неведомому, но без чего — чувствовала это — она погибнет. Издалека блистал ей луч истинного света, не отрываясь, но и не показываясь во всей силе. И она стремилась к нему, не обретая его…
В один из дней, когда у нее сидел Аристодем, она сказала ему:
— Напрасно ты страдаешь за меня! Я вижу, что ты мой истинный друг, я очень благодарна тебе, хорошему, бескорыстному человеку. Но ты не в силах возвратить мне прежнее веселье и избавить меня от тоски, поэтому уходи от меня.
Вопль вырвался из груди грека, и он воскликнул:
— Нет! Я не уйду от тебя никогда, я умру с тобой!
Благодарностью засиял печальный взор Евдокии, и, молча сжав его руку, она отошла от него.
Спустя некоторое время Аристодем, придя к Евдокии, застал ее какою-то странною, затихшею. На приветствие его она сказала, не отвечая собственно ему:
— Я решилась и, может быть, найду покой. Я послала своего верного раба в христианскую церковь, привести мне оттуда их пресвитера. Я приказала рабу, чтобы он не упоминал мое имя и не говорил, кто и для чего требует пресвитера так нежданно. Теперь я жду к себе христианского священника, хочу выслушать его и узнать, как идти путем правды.
Вскоре пришел пресвитер. К невыразимому удивлению Аристодема, Евдокия встала и поклонилась ему до земли, едва слышно говоря:
— Молю тебя, авва, посиди немного у меня и расскажи мне все о твоей вере. Я хочу быть христианкой!
Священник подивился слышанному, видя в роскошном дворце прекрасную женщину, так смиренно умоляющую его. Евдокия, заметив его недоумение, открыла ему всю правду, сказав:
— Не считай меня честной женщиной, отец! Я была женой весьма многих и заключаю в себе море всяких зол, но тоска снедает меня и прошлая жизнь моя мне опротивела. Если есть еще для меня спасение, скажи, научи, куда идти и что делать, а если нет, то свирепая судьба погубит меня и умчит в тартарары.
Прежде знавшая одни наслаждения и отвергавшая все хорошее, жившая гордостью, теперь она также порывисто и сильно жаждала самобичевания, обличения, уничижения; с отрадным замиранием сердца думала о смирении, сама стремясь стать смиренной.
Священник сказал:
— Дочь моя! Прекрасно начинание твое! Отбрось (только смело) свое отчаяние и приблизи челн твой к пристани спасения. Войди в живое, чудное затишье от грешной и томительной жизни, обратись на искание утренней росы, сходящей с неба, и Спаситель наш приведет тебя к той мирной жизни, где находятся сокровища всякой правды. Земные же богатства свои раздай нуждающимся и освободись от тяжкого бремени грехов, а вместе и от мучения, ожидающего нераскаявшихся грешников.
Слезы заблистали в глазах Евдокии, и светлое смирение проникло, осенило ее так, что в первый раз лицо сделалось кротким и тихим. Священник продолжал:
— Кающимся грешникам по принятии знамения веры — крещения — Бог прощает все грехи прежней, проведенной в неверии жизни; только тем, кто и не думает о покаянии, нет прощения у Бога.
— Говори мне! — воскликнула было Евдокия, но прежняя досадливая гордость и величавое негодование скользнули в ее чертах. Впрочем, она быстро овладела собой и мягко продолжала:
— Думаешь ли ты, что там есть лучшее и более дорогое, чем на земле? И в нашей действительности много сокровищ, золота и драгоценных камней, изобилие всякой пищи и всякого пития, а выше всего — веселье и наслаждение. Что же превышающее все это находится на небе?
На это так ответил ей пресвитер Ираклий:
— Если не отвлечешь ума своего от прелестей мира и не научишься презирать временные неприятности — не сможешь взирать с сердечным чувством на вечную жизнь и не сможешь узнать хранящиеся в ней неизреченные радости и неистощимые богатства. Если же хочешь их получить, забудь гордость и веселие земной жизни и не вспоминай мирских обольщений.
— Авва Ираклий! — отвечала Евдокия. — Вот чего я ищу и к чему влечет меня. Принявши христианскую веру, могу ли я иметь верную и несомненную надежду, что достигну той жизни, о которой ты говоришь? Какое ты даешь мне знамение и уверение, благодаря которым я бы убедилась, что все сказанное тобою действительно верно? И как я узнаю прощение грехов моих от Бога? Я имею богатства, которые могут на много лет моей жизни довольно и изобильно дать мне веселие и все удовольствия. Если же я раздам бедным мои сокровища, как ты мне это советуешь, и расточу все мое имущество, а потом не получу обещанного тобою, тогда кто несчастнее или хуже меня будет, потому что в моем разорении мне не останется прибежища?.. И вот тоска душит меня и разнообразные мысли смущают оттого, что я не знаю ничего об этом будущем. Неизвестность терзает меня, а сомнение, как змея, обвило холодным кольцом, сжало мое сердце и сосет его, отравляя своим ядом. Силы оставляют меня, я падаю в пропасть уныния и оцепенения. Я сознаю, что меня стремглав несет куда-то, откуда уже не будет возврата, где конец бывшему и нет перемены, но во мне же остается ощущение тяжести и усталости.
— Я требую! — со стоном вырвалось из груди Евдокии. — Я требую, я ищу большого извещения и утверждения в том, что ты мне великодушно обещаешь, говоря о милосердии Бога. Если я вполне, всесторонне узнаю об этом, я начну без сожаления расточать все принадлежащее мне имущество, и пойду туда, куда ты зовешь меня, и буду служить Одному Богу во всю мою жизнь. Как я была для многих образом порока, так многим же буду я отрадным примером покаяния. Не дивись, отец, сомнению моему: много лет я коснела в грехах, не видя, не сознавая и не замечая их. Я дышала гордостью, считая себя прекрасной, я попирала все ногами, и ни грусть, ни тревога не приближались ко мне. Я верила себе одной, я царила, владела всеми, сердце мое питалось сознанием моей силы. Я утопала в веселии и довольстве, я была пустым и надменным кумиром, которому усердно наперебой все воскуряли фимиам.
— Евдокия! — кротко возразил Ираклий. — Не смущайся и не волнуйся непостоянной мыслью, не давай быть рассеянным уму твоему; все, что тебя смущает, происходит от духа зла, который, узнав твое желание избавиться от порочной жизни и видя тебя воспрянувшей, возбудил в твоем сердце сомнение и страх, надеясь устрашить тебя и растрогать жалостью к богатству, а утвердив тебя в прежней жизни, связанную и порабощенную страстями, увлечь во власть смерти. Это его дело, дело ненавистника всего доброго, диавола, отца лжи. От доброго, безупречного пути отклоняет он людей, развращает их мысли и чувства, увлекает их сердце картинами сластолюбивой и вседовольной жизни, волнует их слабый ум постоянными безотчетными сомнениями, чтобы тем удобнее и вернее приготовить к вечной муке друзей и сообщников, которые разделили бы с ним неугасаемый огонь, — не для людей, но для него уготованный. Демон, по своей гордости отпавши от Бога, терзается злобой и завистью оттого, что людям даровано вечное блаженство, которого он лишен, но которое он мог бы всегда иметь. Если же хочешь знать о милости и человеколюбии нашего Бога, если же желаешь узнать точно и верно, что Он готов, встретивши издалека, принять с отеческими распростертыми объятиями кающихся и, простивши грехи, дать им вечную жизнь, то тебе будет все известно, только вознеси свой ум к небесному и оставь попечение о земном. Для этого необходима трезвенная и смиренная молитва — тогда озарит душу Божественный свет, являющий истину, при содействии которой человек ясно познает, что такое суета этого преходящего мира и что такое будущая вечная жизнь. Послушай меня: если хочешь спастись, сними с себя многоценные одежды, облекись в простые, и, затворившись в отдельной комнате твоего дома, пробудь там семь дней, вспоминая грехи свои, и со слезами исповедуй их Богу, Создателю твоему. Постись и молись, чтобы благоволил Господь наш Иисус Христос просветить и наставить тебя, как поступить тебе для того, чтобы сделать Ему угодное. Верь же мне, что не напрасно сделаешь то, что я советую тебе: без меры благоутробен, щедр и милосерд Владыка наш.
При этих словах Ираклий, видя твердое решение Евдокии и ее согласие на совет его, встал и пошел, утешая ее и пророчески говоря:
— Христос Бог наш оправдает и помилует тебя и имя твое прославит по всей земле.
По уходе пресвитера Евдокия отпустила пораженного и умиленного Аристодема и, не откладывая дольше своего обращения к Богу, позвала одну из рабынь и сказала ей:
— Кто бы не пришел ко мне, не говори, что я нахожусь в своем дворце, и прочим вели от моего имени молчать об этом. Скажите, напротив, что я уехала в одно из моих отдаленных имений, где я пробуду долго, по одному неотложному делу. Скажи также привратнику с угрозой, чтобы он никого не пускал сюда. Не делайте пока, до моего разрешения, никаких работ в моем доме, и несколько дней не приносите в триклиниум никаких кушаний для меня. Затворите большие ворота, ведущие ко дворцу, до тех пор, пока я не велю их отворить, и все устройте так, как будто меня здесь нет.
Распорядившись таким образом, Евдокия велела позвать к себе старца Германа, который недавно снова пришел в ее дом из монастыря, заботясь о спасении грешницы. Герман, предчувствуя доброе, вошел с радостным и бодрым видом. Евдокия, обратясь к нему, сказала:
— Для чего вы, монахи, живете в пустынных местах, оставляя приятность городской жизни с людьми? Неужели в пустыне вы находите лучшую жизнь?
Герман отвечал:
— Нет! В пустыне не находится ничего из того, в чем, как ты думаешь, заключаются утехи и радости жизни. Мы бежим и скрываемся в пустынях единственно для того, чтобы избежать суетного самохвальства и умертвить плотские страсти голодом, жаждой, трудами, рубищем и лишениями в самом необходимом. Затем мы и покидаем города и удовольствия мира, чтобы удалиться от мест, удобных для совершения грехов; в городе скорее и легче впасть в прегрешения от естественной немощи, от созерцания красивых лиц, от блеска жизни, от шума, от бессмысленных светских слов и рассеяния. Отсюда рождаются нечистые мысли, а от них — постыдные движения плоти, а если является решение на соизволение греху, человек воспламеняется и грешит. Истинное веселие, вечный свет и престол неложных сладостей — на небе. Мы уходим из городов и удаляемся в пустыню, чтобы уберечься в остающиеся дни жизни от греха, а позор прежних прегрешений очистить и омыть в себе. Суровость пребывания в пустыне нужна, чтобы открыть себе таким образом доступ к вечному блаженству.
О том только вся наша забота и попечение, чтобы не осквернить наших тел нечистыми делами, ум сохранить невредимым от дурных помыслов и чуждым лукавства, лицемерия, ропота, клеветы, зависти и гнева. Нисколько не помогут богатства ненасытно их собирающему к достижению Небесного Царства.
Постарайся же, дочь моя, идти путем истины. Как одежду, растерзай сердце свое о твоих грехах. Глаголы Господни сладостью своей превосходят самую дорогую пищу и питие и больше укрепляют душу, чем пища тело. Заповеди Христа Бога нашего приводят на путь правды человека, постоянно в них поучающегося. Снявши прекрасную одежду, оденься в смиренную и приступи к покаянию добрыми делами: сей слезы на земле, чтобы пожать на Небе вечную радость. Плачем погаси костер грехов твоих, чтобы ты могла удостоиться получить утешение от Господа и войти в радость праведных.
Беззаконием насладилось сердце твое, иссуши же тину тления, в которой ты пребывала, чтобы с этих пор быть участницей райского наслаждения. Будь подобна хорошей пчеле, от многих святых дел собирая правду!
Искреннее доброжелательство Германа, его горячее участие, живая речь, желание пользы Евдокие запечатлелись в ее сердце. Спасение и жизнь в своем немеркнущем свете приближались к ней.
И она, вся потрясенная, впервые трепеща от какого-то идущего к ней святого счастья, вся проникнутая каким-то кротким осенением, просветленным, ждущим чего-то непорочного, отрадного, упала к ногам старца, скорбя о своих грехах и восклицая:
— Ты первый открыл мне глаза, когда я погибала. Соверши начатое тобою, и твоим спасительным учением я достигну спасения! Не отнимай живописующей руки от готовой доски до тех пор, пока во мне совершенно не изобразишь Христа!
— Молись, дочь моя! — воскликнул Герман, и лицо его просияло отрадо. — Молись до тех пор, пока Господь не совершит нечто, и ты не будешь больше сомневаться в Его милости. Он благ и скоро покажет тебе Свое милосердие и Своею благодатию не замедлит утешить тебя!
Герман поднял руки и, помолившись о ней, перекрестил, а затем, затворив ее в комнате, служившей ей спальней, обещал семь дней пробыть для нее в Гелиополе.
Оставшись одна, Евдокия почувствовала себя подавленной и несколько времени неподвижно просидела в каком-то отупении, без мысли и желания, точно вся она онемела. Ей трудно было пошевелиться, все члены ее были будто скованы.
Это странное состояние, сразу явившееся ей, сменилось вскоре живым, одухотворенным, в котором она чувствовала все до боли ярко. Внезапно с мгновенной силой сомнения наполнили, окружили ее, доставляя ей страшные мучения и разрывая тоской ее грудь.
Привычка ко греху влекла ее жить прежней жизнью: наслаждения и веселье манили ее, роскошь, нега, блеск восставали перед ней в очаровательных картинах. Ей было невыносимо жаль лишиться своего богатства, легче казалось ей расстаться с жизнью, чем с сокровищами.
Тревожные сомнения обуревали и поглощали ее… Словно какой-то насмешливый пленительный голос шептал ей:
— Опомнись! Прогони от себя советчиков. Не спасение, а горе они дадут тебе… Не пускай их больше на глаза свои. Вздор говорят они и ложно сулят тебе несбыточное. Где твоя гордость, сила, ум? Что сталось с тобою, дивно-прекрасная? Или не была ты царицей со своей красотой? Ложь проповедуют тебе эти христиане. Не доверяй им! Одна правда — твоя красота и наслажденья! Не слушай их, закрой свой слух, внимай одним речам страсти! Забудь все беспокойство и тоску твою. Веселье ждет тебя! Твои теперешние страдания скользнут мимолетно, не оставив по себе следа, и ты снова будешь жить по-прежнему. Смейся же, смейся над проповедью спасения, над проповедниками! Засмейся сама над собой — и прекрати эту комедию! Иди же, зови друзей своих на пир. Предайся наслаждению! Вспомни, какое пламя, какую радость расточают тебе поклонники твои, как они ласкают, нежат тебя! Отомкни дверь, и выйди отсюда, богиня, и освети счастьем ждущих тебя!
Евдокия прислушивалась к очаровавшим ее звукам неведомого голоса, внимала, готова была склониться… Она вся ослабевала, в ней воскресала давнишняя жажда наслаждений. Сердце ее упало, глаза подернулись дрожащим, легким туманом наслаждения. Ей хотелось чувствовать себя богиней на пиру — слушать пламенные речи любви. Долговременная привычка ко греху волновала ее, перед ней мелькали разнообразные лица, и между ними ярко выделялась фигура Аристодема, его красивое лицо…
Она уже хотела все бросить и выйти из комнаты, но какая-то сила удерживала ее. В эту минуту Евдокия явилась воплощением колеблющейся, облагороженной, могучей, глубокой, как море, страсти во всех ее проявлениях, страсти, от которой мутится сердце, теряется ум и перед которой невозможно устоять слабому!
Но что же это с ней? Словно магнетическая искра пронизала и потрясла ее. В очах выразился ужас страдания. Евдокия в первый раз в жизни стала молиться. Без веры, чувства и мысли стала она молиться Богу, о Котором до сих пор не помышляла и существование Которого доселе не беспокоило ее совести. Где-то в ее уме шевельнулась мысль: «Попытаюсь, что бы ни было!».
Но она чувствовала всем существом своим, что словно камни давили ее грудь, теснили плечи, тянули вниз руки. Она не могла стать выше всего, не могла отрешиться от мира, не могла сердцем прочувствовать силу духовного начала. Ей невыносимо тяжело было вознестись к небесному, нравственная усталость наполняла ее.
Но она все-таки, хотя и с трудом, начала молиться. Ей хотелось уйти, все оставить; она ничего не чувствовала и лишь упорным усилием воли принуждала себя молиться.
Но вскоре ей стало легче, в сердце явилось рвение, и по нему прошло что-то таинственное, светлое, отрадное.
Евдокия молилась… Она горячо молилась в первый раз в жизни неведомому ей доселе Богу.
Глава 4
Минула неделя. Во дворце Евдокии не было заметно никакого движения, царила невозмутимая тишина, будто обитатели его вымерли и никто больше не жил там. Солнце сияло над Гелиополем, и победный блеск его лучей разливался над городом.
Мерной, неспешной походкой проходит внутренним двором старец в черном длинном плаще. Вот он вступает на террасу и скрывается в роскошных покоях. Он приближается к большой двери из красного дерева с бронзовыми украшениями и барельефами, лицо его выражает благоговение. Он открывает замкнутую дверь и окликает кого-то. На этот призыв из глубины комнаты появляется Евдокия. Семь дней провела она в молитве и посте. С побледневшим лицом, исхудалым телом и со взором глубокого смирения она далеко не похожа на прежнюю Евдокию. Герман взял ее за руку и посадил, затем он спросил ее с отеческой любовью:
— Скажи мне, дочь моя, что ты думала в эти семь дней, что поняла, что видела и что было открыто тебе?
— Семь дней я молилась так, — отвечала Евдокия, — как ты научил меня. В прошедшую ночь, когда, склонившись ниц, я молилась и искренне сокрушалась о своих грехах и слезы невольно текли из моих глаз, осиял меня внезапно сильный свет, который был ярче солнечных лучей. Я же, думая, что взошло солнце, встала. Поднявшись, я увидела светлого юношу, на котором были одежды белее снега. Взявши меня за правую руку, он вознес меня на воздух и, поставив меня на облаке, повел выше атмосферы к небу. Был там великий и чудный свет. И я видела бесчисленное множество облеченных в белые одежды радующихся и улыбающихся друг другу и веселящихся неизреченно. Те, увидев меня, идущую к ним, встречали и радостно целовали меня, как сестру свою. Когда же в сопровождении их я хотела войти в светлую обитель, несравненно превосходящую и затмевающую солнце своим ярким сиянием, внезапно в воздухе появился некто страшный на вид и темный, как самый густой мрак. Яростно глядя на меня и нападая, он хотел вырвать меня из руки путеводителя моего и вскрикнул так громко, что весь воздух наполнился голосом его.
И говорил он, крича: «Неужели ты и эту в Царство Небесное хочешь ввести? Зачем же я на земле в коварстве и ухищрениях даром губил время? Она всю землю осквернила и у многих людей отняла чистоту души и тела. Сколько имею силы и хитрости, все это я заключил в ней одной, найдя ей множество поклонников благороднейших и богатейших. Они истощали на любовь ее свои богатства, и она собрала такое множество золота и серебра, какое и в царском казнохранилище едва ли находится. Имея ее в своих руках, я величался ею как победоносным знамением и непобедимым оружием, которым торжествовал над людьми, удаляющимися от Бога. Теперь же, о Архистратиг сил Божиих, под ноги ее ты повергаешь меня! Неужели не удовлетворяют твоему гневу на меня те отмщения, которые, постоянно прибавляя, ты делаешь невыносимыми для меня? И ты хочешь отнять у меня эту верную рабу, купленную такой дорогой ценой? Уже ничего нет на земле моего собственного и неотъемлемого, я боюсь, как бы всех грешных, взявши от меня, не привел Ты к Богу как достойных и не вписал их в число наследников Царства Божия! Напрасным становится весь труд мой. Зачем ты так теснишь меня? Оставь ярость и ослабь оковы, которыми я связан, тогда увидишь, как в мгновение ока истреблю я человеческий род. Я с небес свержен из-за малейшего неповиновения, ты же великих грешников, дерзнувших глумиться над Богом и в течение долгих лет сильно Его прогневляющих, вводишь в Небесное Царство. Если так угодно тебе, то собери со всей земли порочных людей и всех приведи их к Богу, я же скроюсь во тьму и погружусь в бездну вечных мук!».
Так гневно говорил этот мрачный дух (ибо я поняла, что это был дух, а не создание плоти, как мы, люди). Путеводитель же мой, грозно взирая на него, улыбнулся мне кротко и ласково. Внезапно из обители света послышался голос, который заставил затрепетать моего противника: «Так угодно Богу Милосердному, что согрешившие, но раскаявшиеся приняты будут в лоно Авраамово».
И зазвучал вновь Чей-то голос, и услышали его я и путеводитель мой: «Тебе, Михаил, хранитель Завета Моего, говорю Я, отведи эту туда, откуда взял ее, чтобы совершила она подвиг свой. Я с нею пребуду во все дни жизни ее».
И тотчас я увидела себя вот в этой комнате, в которой ты затворил меня. И сказал мне светлый путеводитель мой: «Мир тебе, Евдокия! Будь крепка и мужайся! Благодать Божия теперь с тобою и всегда будет на всяком месте!».
Я же, ободренная словами его, сказала: «Кто ты, скажи мне, чтобы я могла постигнуть, как должно веровать в истинного Бога, чтобы получить вечную жизнь?».
«Я вождь Ангелов Божиих, — сказал он мне, — и мне принадлежит попечение о кающихся грешниках, чтобы принимать их и вводить в жизнь блаженную и бесконечную. Велика бывает радость ангелов, когда грешник приходит в чистый свет покаяния. Не хочет Бог, Который есть Вечный Отец всех, чтобы погибла душа человеческая!» Сказавши это, он осенил меня крестным знамением и стал невидим.
Тогда Герман сказал Евдокии:
— Уверься же с тех пор и не сомневайся, что истинный Бог — на Небе, готовый принимать кающихся и вводить их в вечный Свой свет. Ты узнала теперь, как скоро милосердие и как скоро прощает Господь; как скоро дает Он благодать Свою желающим примириться с Ним! Ты уразумела Божественную Его славу и видела небесное жилище Его, исполненное невыразимых красот. Ты поняла теперь, как ничтожен и слаб свет мира в сравнении с Тем Сиянием? Что же ты теперь думаешь? Какие мысли наполняют твою душу?
Евдокия, вся изменившаяся, видевшая в действительности доказательство того, в чем так желала увериться, теперь приняла безропотное решение: от всего сердца служить Одному Богу.
— Я поверила и верую, — сказала она старцу, — что нет другого Бога, спасающего грешных, кроме Того, небесные врата и жилища Которого я видела, озаряемые несказанным светом.
Радостные слезы катились по лицу старца, который сказал Евдокии:
— Забудь свою прежнюю гордость, возьми на себя благое иго животворного покаяния и с этих пор будь свободна от греха. Говори диаволу смело в доброй совести: «Нет у меня теперь больше общего с тобою, Бога моего я нашла и Ему отдала себя в вечное владение. Совершенно оставила и отвергла я мрачную и нечистую любовь плотскую, облеклась же в светоносную одежду правды. Нет уже у меня ни одного земного пристрастия, нет желания богатств, нет влечения к мирским удовольствиям, потому что они ничтожны. Я желаю и прилежно стараюсь приобрести небесные сокровища. Отойди же от меня, чуждый мне отселе обольститель, вечный раб тьмы».
— Отец мой, что ты теперь велишь мне делать?
— Прежде всего прими Святое Крещение, — сказал Герман. — Я же теперь пойду в монастырь мой. Не бойся остаться одна; твое твердое стремление к хорошей жизни и благое упование сохранят тебя от вражеских козней. Пробудь еще несколько времени в смиренной молитве к Богу и позаботься о приготовлении к крещению, я же скоро возвращусь к тебе, усмотрев полезное для твоей жизни, как укажет мне благодать Святого Духа.
И, предав ее ограждению Божию, старец пошел в свой путь. По уходе Германа Евдокия пробыла еще несколько дней в посте, ничего другого не потребляя на своей трапезе, кроме хлеба и воды, а также немного фруктов и вина. Днем и ночью она молилась и плакала.
Часто приходил Аристодем, но каждый раз рабы говорили ему, что госпожа их уехала. Наконец она, руководствуясь ей одной известной мыслью, сама велела позвать к себе грека. Обезумевший от радости, вбежал к ней Аристодем и вдруг остановился недвижно. Он не узнал Евдокии, так изменилась она. Перед ним стояла еще более прекрасная женщина, но только не Евдокия. Во всем ее внешнем виде царили скромность, сдержанность, достоинство. Стыдливо смыкала она свои уста. Робкая застенчивость таилась в ее глазах — они словно просветлели и смотрели прямо и бесстрастно. Еще поразительнее стала ее красота, одухотворенная смирением и проникнутая чем-то высоким и неземным.
Цветок Эдема раскрыл во всей трогательной красоте свои благоуханные лепестки, как бы вобрав в себя глоток пронесшегося над ним воздуха своей далекой родины…
— Сядь, Аристодем, и выслушай меня, — сказала Евдокия просто и спокойно. — Я узнала Бога. Он милосерд и хочет спасти меня, грешницу, оскверненную и погибающую. Я оставила навсегда свою прежнюю жизнь и с помощью Бога моего надеюсь стать достойной Его благости. Я захотела видеть тебя и призвала одного из всех, потому что ты явился мне другом в моей тоске, когда скорбело и терзалось мое сердце и ломались основы моей прежней жизни, после чего должен был наступить для меня свет спасения. Твоя душа восприимчива к добру, и ты один, как дитя, любил меня. Я ухожу от прошлого, для меня наступает теперь новая жизнь. Не говори мне ничего. Я открыто получила уверение в действительности того, о чем я так жаждала узнать. И теперь все кончено и решено, я стремлюсь к Одному Богу и буду служить Ему Одному, чтобы достигнуть истинного блаженства.
Я скоро приму Крещение, которое очистит и преобразит меня. Я погибала, но, упоенная роскошью и удовольствиями, сама не замечала и не знала этого. В своей безумной гордости я считала себя божеством красоты. Я все попирала ногами, и никогда не являлась мне мысль о том, что я живу дурно, поступаю порочно и что то, чему я поклоняюсь и самохвально считаю прекрасным, в сущности — грех, отвратительный грех. Бог и Создатель вселенной помиловал меня; я воспрянула, как от сна, и ужаснулась своему духовному безобразию.
— Теперь сделай то, о чем я тебе скажу, для тебя самого, Аристодем, — проговорила Евдокия кротко и сердечно. — Исполни мою последнюю просьбу. Я не знаю, поймешь ли ты меня, поэтому иди лучше к христианскому священнику, который научит тебя таинствам истинной веры и наставит на добро.
Оставь пустую и бессмысленную жизнь, прими Святое Крещение и следуй заповедям Христа Бога, Который страдал и умер для спасения людей. Я же буду молиться о тебе, но никогда больше не старайся видеть меня. Если мы будем достойны, то свидимся там, в вечной жизни. А теперь иди, обратись к Богу, и будешь покоен. Прощай!
Все это было так ново и неожиданно для Аристодема, что он стоял без движения, не будучи в состоянии произнести ни одного слова. И, прежде чем он успел опомниться от изумления, Евдокия беззвучно вышла и исчезла в многочисленных комнатах своего дворца.
В сопровождении одной рабыни, скромно одетая в простую черную одежду, пошла Евдокия к епископу Гелиополя. Он научил ее догматам веры и, рассказав ей все священные события от сотворения мира до Вознесения Христа, через несколько времени назначил день ее Крещения.
Во время таинства Святого Крещения она почувствовала доселе неиспытанную ею святую полную радость, о какой она не имела никакого понятия. Ей было так легко, светло, отрадно, словно вся тяжесть, вся ноша страстей и грехов оторвалась и спала с нее. Ей было так хорошо, будто она возносилась куда-то. Она почувствовала мгновенно и ярко вспыхнувший в ее сердце свет любви к Христу… С глубоким чувством, с благоговением и умиленными слезами приобщалась она Животворящих Тела и Крови Христовых.
Как дивный ангел, стояла она в белой одежде неофитов с зажженной свечой в руках. Лицо ее сияло какой-то новой, чудесной красотою. С неописуемым выражением в глазах смотрела она на Крест распятого Христа; душа ее уносилась в даль минувшего — к страдавшему за погибающий мир Богочеловеку. Мысли ее парили в высоте, и сердце горело невыразимой любовью к Спасителю. Она всем существом своим молилась, забыв все, никого и ничего не видя и не замечая вокруг.
Из храма она вышла обновленной. Она сама глубоко и ясно это прочувствовала. В этот день Евдокия возродилась для истинной жизни, для чистой любви. Неведомое ей доселе неизъяснимое блаженство наполнило ее душу…
Спустя несколько дней после своего просвещения Евдокия послала к тому же епископу трогательное письмо, в котором извещала его о своем богатстве и перечисляя его подробно, умоляла епископа взять собранные ею сокровища для раздачи бедным во имя Христово. Епископ, прочитав присланное ему письмо, позвал Евдокию к себе и сказал ей:
— Ты ли, дочь моя, написала эту хартию ко мне, грешному?
— Я писала это! — отвечала Евдокия. — И теперь я снова умоляю тебя, прикажи церковному эконому принять мое имущество, и по твоему усмотрению раздайте его нищим и убогим, сиротам и вдовам…
Епископ, видя ее доброе намерение, веру и любовь к Богу, проницательно взглянул на нее и сказал:
— Молись обо мне, сестра моя о Господе, стяжающая добродетель наименоваться невестой Христовой. Ты возненавидела нечистую плотскую любовь и возлюбила чистоту. Преступную, развратную жизнь ты отвергла — подражай девственному целомудрию. Ты отдала суетные, временные богатства мира сего, чтобы ценою их купить одну небесную жемчужину. Ты, имевшая перед взором своим смерть, обрела бессмертие. Ты, многих увлекшая на путь погибели, теперь многих о Христе оживотворишь. По имени твоему «Евдокия» (что значит «благоволение») благоволит Господь о тебе. Умоляю тебя, раба Господня, отныне приблизившаяся к Богу и Спасителю нашему всей душой, молись обо мне, когда будешь в Небесном Царстве!
После продолжительной беседы со слезами распрощался епископ с Евдокией. Затем, через диакона своего пригласивши к себе эконома храма, управляющего странноприимными учреждениями при епископском доме, сказал ему:
— Я знаю тебя как человека благочестивого и богобоязненного, который заботится о спасении и благосостоянии многих живущих в миру. Поэтому я вручаю тебе эту рабу Всевышнего, стремящуюся ко спасению души своей. Позаботься о ее спасении, а то, что она отдаст тебе, направь руками бедных Богу.
Эконом был саном пресвитер и от юности своей пребывал в девственной чистоте. Все доставшееся ему от родителей имущество он отдал церкви и самого себя предал на службу Господу.
Вместе с Евдокией пришел он в ее дворец, где по ее приказанию управляющие разместили вверенные им сокровища по громадным залам.
Там было множество прекрасной утвари, бесчисленное количество жемчуга и других драгоценных камней, масса золота в слитках и в чекане, сверкающего и переливающегося особенным, свойственным золоту ярким и нежным блеском; более тысячи сундуков с разнообразными одеждами, целый склад ароматических веществ и благовоний, масса серебра и многое другое.
Затем было передано Церкви бесчисленное количество не менее ценных статуй, ваз, которым не было конца. Все эти богатства Евдокия через епископа отдала бедным. Кроме этих сокровищ, в полное распоряжение Церкви предоставила она все свое недвижимое имущество, которое состояло из гелиопольского дворца, нескольких вилл, поместьев и сел.
Призвав всех наличных рабов и рабынь, Евдокия раздала им две тысячи золотых из цисты, стоявшей в ее спальне. Им же отдала всю блестящую роскошь, драгоценную обстановку своего дворца.
Простившись со всеми, она сказала им:
— Я освобождаю вас от рабства. Отныне вы такие же, как и я, полноправные граждане Римской империи. Теперь в остальном предоставляю вам самим заботиться о себе. Если хотите, постарайтесь избавиться от рабства греху и диаволу, если вы искренне пожелаете в последний раз исполнить мою просьбу — приступите ко Христу, Одному истинному и Живому Богу, и Он даст вам действительную и вечную свободу, которой пользуются сыны Божии.
После этого она обратилась к пресвитеру со следующими словами:
— Я все отдала бедным, и теперь распорядись этим, как угодно Богу. Теперь же я иду искать сыскавшего меня Владыку.
Пресвитер, удивляясь так внезапно и неожиданно происшедшей в Евдокии перемене, а также ее полному покаянию и великой любви к Богу, сказал ей:
— Блаженная ты, Евдокия. Совершив такое богоугодное дело, ты достойна быть вписанной в число дев Чертога Христова. Ты наполнила елеем светильник, и тьма не в силах окружить и поглотить тебя.
Глава 5
Вскоре после описанных событий в Гелиополь пришел Герман. Узнав, что Евдокия раздала все свое имение, отпустила на волю рабов и рабынь и стала нищей духом и богатством Христа ради, он взял ее с собой и повел в монастырь дев, находившийся в его попечении и стоявший в пустыне недалеко от мужского монастыря, в котором он обитал сам.
Здесь он постриг Евдокию в иночество.
Новая невеста Христова проводила все время в трудах и подвигах, день и ночь работая Богу.
Прошел год с той поры, как Евдокия удалилась из Гелиополя. За это время умерла игумения того монастыря, где успешно подвизалась Евдокия. Постническими трудами Евдокия превзошла всех сестер киновии. Она выучила наизусть всю Псалтирь, прочла внимательно Священное Писание. Сестры монастыря единогласно выбрали ее новой игуменией.
Прежние поклонники Евдокии, между тем, пораженные всем совершившимся и не зная, что думать об этом (так ошеломила их внезапная перемена, происшедшая с Евдокией), собирались неоднократно все вместе и обдумывали способ, которым можно было бы вернуть ее в Гелиополь, к прежней жизни.
Наконец они решили избрать из своей среды Филострата как наиболее красноречивого из них, обладающего способностью всякого, даже несговорчивого, убедить поступить по его желанию. Закутавшись в монашеское одеяние, он должен был идти в монастырь, где заключалась вдали от мирской суеты Евдокия, и там попытаться уговорить ее возвратиться с ним в Гелиополь, к радостной, на их взгляд, жизни.
Филострат, бывший пылким поклонником красоты Евдокии, разгорелся желанием и надеждой привести ее обратно, в свой беспечно-ликующий круг. Кроме того, надо заметить, что он день ото дня испытывал все сильней и сильней чувство любви к Евдокии. Охотно, с живейшей радостью согласился он на просьбу товарищей.
Одевшись в широкий плащ инока и скрыв в складках его столько золота, сколько мог нести, пошел он пешком в монастырь Евдокии, твердо надеясь дойти до своей цели. Достигнув обители и постучав в ворота, он увидел привратницу, выглянувшую в небольшое окошко, проделанное близ ворот в каменной стене.
На вопрос, чего он ищет здесь, Филострат отвечал:
— Я пришел просить молитвы Вашей и благословения!
Привратница сказала:
— Нельзя сюда входить мужчине, брат мой! Но пройди дальше нашего монастыря небольшое расстояние, и ты получишь там молитвы и благословения, а здесь не стой и не докучай нам стуком, мы не можем впустить тебя!
Сказав это, она затворила окошко. Филострат же, полный досады, горя страстью к Евдокии, пошел в монастырь Германа. Увидев Германа при входе в монастырь сидящим и читающим Священное Писание, Филострат поклонился ему до земли. Герман сказал ему:
— Сядь, брат, и скажи мне, из какой ты страны и какого монастыря?
Тот отвечал:
— Я, отец мой, лишившись родителей и не желая жениться, хочу работать Богу в иночестве. Слышав много о тебе, пришел я просить тебя принять меня в твой монастырь.
Герман, внимательно глядя на него и увидев по его лицу и глазам склонность к изнеженности и сладострастию, стал говорить ему, что не по силам ему будет подвиг иноческой жизни. Тогда Филострат сказал:
— А Евдокия, о которой я много слышал, как была прекрасна и богата и в каких наслаждениях прожила юность! А затем так внезапно изменилась, пойдя тесным и скорбным путем служения Христу. Меня побуждает к избранному мною пути ее дивный пример, и, если бы я хотя один раз мог ее увидеть, я надеюсь, что от беседы и поучения ее я почерпнул бы горячее усердие к Богу и твердость к перенесению подвигов.
Герман поверил лжи его, как истине, и сказал ему:
— Не будем препятствовать тебе, сын мой, видеть Евдокию и услышать от нее полезное для спасения твоего слово, потому что ты хочешь идти путем добродетели, следуя ее примеру.
Тогда простодушный игумен Герман призвал старца святой жизни, носящего в монастырь Евдокии фимиам и посылаемого туда по разным делам, и сказал ему:
— Когда пойдешь в следующий раз в обитель дев, возьми с собой этого брата, чтобы он мог видеть честную мать Евдокию. Он хочет воспользоваться ее советом и подражать ее примерной, Богу угодной жизни.
Спустя несколько времени, отправляясь по делу в монастырь дев, старец, согласно распоряжению Германа, захватил с собой Филострата. Последний, войдя в монастырь и увидев Евдокию, невыразимо был поражен ее смиренным видом, нищетой одежды и худобой умерщвленного постничеством тела. Лицо ее было бледно, глаза опущены вниз, уста запечатлены молчанием. Постель заменяла ей циновка, брошенная в углу кельи…
Найдя удобное время к беседе, Филострат немедленно приступил к своему делу и начал говорить Евдокии тихим, едва слышным голосом:
— Что я вижу? Кто это тебя, Евдокия, жившую в палатах, подобно царским, владевшую громадными, неисчислимыми богатствами и наслаждающуюся всеми удовольствиями жизни, проводившую время в безграничной радости и беспрерывном веселии, привлек, обольстил и отвел в мрачное место, в эту сырую, полутемную келью? Кто тебя лишил блестящего, многолюдного города, в котором ты, гуляя в светлых, роскошных одеждах, встречала всеобщее поклонение себе и удивление перед твоей очаровательной, вдохновенной красотой?
Какой чародей сманил тебя от стольких благ в эту жалкую, убогую обитель помешанных? Весь Гелиополь ищет тебя. Самые стены прекрасного твоего дворца рыдают о тебе. Я послан к тебе как выразитель всеобщего желания, чтобы устами и именем всех умолить тебя возвратиться в наш город и утешить печаль нашу твоим возвращением в недра прославленного тобой города, в объятия искренних друзей. Пойдем со мной отсюда! Ведь ты истаешь в этой ужасной обстановке. Вернись в покинутый тобою дворец, вернись к испытанным тобою наслаждениям, которые лились через край!
Пусть ты потеряла свое бессчетное богатство, отдавши его понапрасну. Все готовы опять обогатить тебя. Зачем медлишь и сомневаешься? Зачем, когда все расположены к тебе, ты сама являешься себе врагом и мучителем? Не стыдно ли и не горько ли тебе такую красоту скрывать во мраке монашеской жизни? Не горе ли это — глаза твои портить в ненужном плаче и докучных словах и слезах? Какая польза от того, чтобы это прекрасное юное тело морить голодом, жаждою и другими суровыми лишениями? Где твои благовония, которыми, ходя по городу, ты насыщала воздух?
Все поклонялись тебе, как божеству, и вдруг самовольно избрала ты смрад нищенской и отверженной жизни! Кому следуешь ты, впавши в такое заблуждение? Какая ложная надежда отвела тебя от обладания неизмеримыми богатствами, которые могли еще более увеличиться? Кто из богатых людей отвергает богатство свое и даром отдает другим, как это сделала ты?
Возвратись к нам в осиротелый город! Вот я принес с собой золота, которого достанет тебе на дорогу!
Когда он говорил это, Евдокия с гневом глядела на него. Наконец, не стерпевши его лукавых и льстивых слов, с негодованием она сказала ему:
— Да запретит тебе Бог отмщений! — и дунула в лицо его. То час он упал мертвым к ее ногам.
Девы-инокини стояли далеко и не могли слышать слов Филострата. Когда они увидели, что от дуновения Евдокии упал мертвым прибывший со старцем юный брат, они ужаснулись и не знали, что делать им, а спросить Евдокию не смели. Но, опасаясь городского судьи и нарекания от мирян, они решили ночью молиться, чтобы Господь наставил их и вразумил, что им делать.
И вот ночью, перед началом полуночного бдения, явился Евдокии в сонном видении Господь и сказал:
— Встань, Евдокия, и прославь Бога твоего! Рядом с трупом искусителя твоего преклони колени и обратись с молитвою ко Мне, и тотчас Моим произволением он встанет живым! Он встанет силою Моею и узнает, Кто Я, в Которого ты веруешь; ты же удостоишься еще большей благодати от Меня!
Проснувшись, Евдокия долго молилась Владыке своему и по слову Господню воскресила Филострата.
Пробудившись от смерти, как бы ото сна, и уверовав в истинного Бога, Филострат припал к ногам Евдокии, умоляя ее о прощении. Тогда Евдокия сказала ему:
— Возвращайся к себе домой, но не забудь явленного на тебе благодеяния Божия и не отступай от познанного тобою пути истинной веры.
Во время происшедших событий этой областью управлял известный династ Аврелиан — «друг римского народа». Перед ним оклеветали Евдокию ее поклонники, негодовавшие на то, что она удалилась в монастырь, покинув их, и что им не удалось ее вернуть в Гелиополь.
Посоветовавшись друг с другом, они в письме династу написали ложь, будто Евдокия массу драгоценностей и золота взяла с собой и спрятала в каком-то потаенном месте. Они просили Аврелиана дать им отряд воинов, чтобы отыскать бежавшую и вернуть ее в город, а золото положить в общественную казну, хранившуюся в храме Юпитера. «Она, — клеветали поклонники Евдокии, — принадлежит к галилейской секте, признающей Богом некоего Христа, и не поклоняется богам, которых признают цари».
Аврелиан дал согласие на их просьбу и, призвав одного комита, велел ему с отрядом отправиться и взять Евдокию, чтобы представить ее ему на суд. Комит, взяв три сотни солдат, пошел к монастырю, где жила Евдокия.
Когда они были в пути, Господь явился Евдокии и сказал:
— Аврелиан воздвиг на тебя свой гнев, но не бойся, Я всегда с тобой!
Приблизившись к монастырю, комит около стен его дал роздых своему отряду с целью выиграть время, а потом под прикрытием ночи ворваться в него врасплох. Но невидимая сила препятствовала им всякий раз, когда они хотели проникнуть в монастырь, так что целую ночь они пробились даром, не будучи в состоянии даже подступить близко к монастырским стенам.
Наутро они снова увидели явственно стены монастыря, но не могли к ним подступить. Три дня и три ночи прошло в напрасных приготовлениях, но все усилия их были безуспешны…
Они не знали, что им делать. И их положение скоро ухудшилось. Внезапно появилась громадная змея, которая уязвила многих и устрашила остальных. Паника овладела небольшим отрядом, все теснились, суетились, напуганные чудовищной величиной змеи, озлобленные и взволнованные криками своих несчастных товарищей, ставших ее жертвой.
В живых остался лишь комит и несколько солдат. Он и явился к Аврелиану с печальным докладом. Юный сын Аврелиана, полный пыла и тревоги, не вытерпел. Краска негодования на солдат залила его лицо. Он обещал сравнять монастырь с землей, а Евдокию привести в оковах и подвергнуть ее всенародному бичеванию.
Быстро собрался он в путь с согласия своего отца, но в дороге пленился одним живописным местом и хотел там дать небольшой отдых себе и отряду. Соскакивая с коня, он о камень повредил себе ногу. Ночью боль в ноге усилилась, а к утру он умер от быстро развившейся гангрены. Печаль Аврелиана, узнавшего о внезапной смерти сына, не имела границ.
Громкие причитания по умершим привлекли внимание всего города. Между последними в толпе бродил Филострат. Узнав, в чем дело, он подошел к придворным и сказал, что Евдокии никто не может вредить, так как ее охраняет небесная сила. Если же царь хочет видеть сына живым, пусть он пошлет к Евдокии почтительную просьбу, чтобы она помолилась Богу о возвращении его сына к жизни. Царь сам внимательно расспросил Филострата о происшедшем с ним и тотчас же послал своего трибуна с трогательным смиренным письмом.
Как только явился он в обитель, Евдокия смиренно приняла послание и сказала:
— Зачем ко мне, грешной и убогой, царь пишет свои послания? — потом, прочитавши, посоветовалась с сестрами и, помолившись, села и написала царю письмо:
«Я, смиренная женщина, не знаю, зачем твоя держава прислала ко мне грамоту. Я — великая грешница, и совесть обличает меня в моих беззакониях!
Я не осмеливаюсь просить Христа Бога моего, чтобы сжалился он над тобою и отдал бы живым тебе твоего сына! Но я полагаюсь на благость и силу Господа моего, я надеюсь, что, если ты всем сердцем уверуешь в истинного Бога, воскрешающего мертвых, и будешь уповать на Него, несомненно Он явит на тебе и сыне твоем Свою великую милость! Если всей душой уверуешь, увидишь великую силу бессмертного Бога, милосердия Его удостоишься и насладишься Его благодеяниями».
Написавши, Евдокия отдала письмо посланному и отпустила его. Возвратившись в Аврелиану, трибун возложил письмо Евдокии на грудь умершего и во всеуслышание призвал имя Христово.
К сыну Аврелиана сейчас же вернулась жизнь… Он открыл глаза и встал с одра, как бы после сна, бодрым и здоровым. Все пришли в изумление, и Аврелиан воскликнул:
— Велик истинный Бог — Бог христиан! Прими меня к Себе: я верую святому имени Твоему и открыто исповедую, что Ты Один истинный Бог!
Вскоре он с женой, сыном и дочерью принял Святое Крещение. Евдокии послал он золото на строительство церкви и ее обители, а вблизи от нее выстроил город. Когда Аврелиан умер, дочь его поступила в монастырь Евдокии, а воскресший сын был диаконом, а потом епископом Гелиопольской церкви.
Прошло несколько лет. Префектом Гелиополя был назначен Диаген, ревнитель эллинского политеизма, сурово относящийся к христианам. В первый же год своего управления он послал солдат взять Евдокию как христианку. Он хотел жениться на дочери Аврелиана — Гелаии, которая в то время скрывалась в обители Евдокии.
Когда отряд был в дороге, явился Господь ночью Евдокии и сказал ей:
— Евдокия, мужайся и стой крепко в вере, пришло время исповедать тебе Мое Имя и прославить Царствие Мое. Готов тебе подвиг. Нападут на тебя люди, но ты не смущайся и не бойся. Я буду с тобою — искренний Спутник и Помощник сильный во всех твоих подвигах!
Ночью воины перелезли через монастырские стены. Евдокия вышла к ним и спросила, что им надо. Они схватили ее и стали допытываться, где находится Евдокия. Тогда она сказала:
— Я Евдокия. Берите и ведите меня к пославшему вас.
Ночь была темная, безлунная. Светоносный ангел в виде прекрасного юноши шел впереди и освещал путь. Евдокия не хотела ехать, повторяя известное изречение из псалмов:
— «Эти на колесницах, а те на конях!»
— Я же, уповая на Христа, — прибавила она, — с радостью дойду пешком!
Когда пришли в город, префект велел на три дня заключить ее в темницу без пищи и питья, так как он был занят текущими делами. На четвертый день, севши в трибунал, Диаген приказал привести Евдокию. Увидев ее смиренную наружность, плохую одежду и опущенную вниз голову, закрытую капюшоном, он велел слугам открыть ее лицо. И открытое лицо Евдокии озарилось, блеснувши, как молния. Пораженный этим, Диаген в ужасе долго молчал, удивляясь чрезвычайной красоте и благородству лица ее, просветленного Божественной благодатью. Увлеченный ее красотой, он, обращаясь к своим людям, сказал:
— Клянусь Небом, невозможно предать смерти эту ослепительную, как солнце, красоту!
Однако он приступил к допросу:
— Скажи нам прежде всего твое имя, происхождение и жизнь.
Евдокия осенила себя крестным знамением и сказала:
— Имя мое Евдокия. А о происхождении и жизни моей спрашивать не надо. Одно знай, что я христианка. Создатель вселенной так милосерд, что не препятствует мне называться Его рабой. Я же умоляю тебя, префект, не проводи времени в праздных расспросах, но делай со мной то, что вы привыкли делать с христианами: суди, мучай, как тебе угодно. Я же надеюсь на Христа, что Он меня не оставит!
На дальнейшие вопросы его Евдокия отвечала:
— Я оставила Гелиополь, потому что была свободна и делала то, что хотела. Какой закон свободному человеку запрещает идти туда, куда он хочет? Кто же обличает меня по поводу принадлежащего мне золота, тот пусть пред лицом моим повторит клевету свою. Его утверждение явится ложным, выдуманным, и ложь исчезнет перед истиной. Разве чужое я взяла? Свое собственное отдала и ушла!
Долго тянулось разбирательство, и Евдокия осталась непреодолимой в слове и неизменной вере. Тогда велел префект подвесить ее к столбу, и четыре воина стали жестоко бичевать ее. Издеваясь над ее терпением, Диаген стал призывать бога солнца Аполлона… и внезапно упал мертвым.
Уверовав в Бога христиан, один из воинов стал просить Евдокию о себе, а потом и о сраженном внезапной смертью префекте.
— Пусть благодать обращения придет на тебя, — сказала Евдокия. — Начиная жить возрожденным для вечной жизни, стремись к спасению души своей, и это одно поставь целью остающейся тебе жизни.
Затем, отвязанная от столба, помолилась она горячо Богу и именем воскресшего Христа воскресила Диагена. Толпы народа смотрели на происходившее перед ними с нескрываемым удивлением.
В это время Диагену донесли, что его жена внезапно скончалась от угара. Пораженный неожиданной вестью и опечаленный утратой жены, префект стал умолять Евдокию прийти ему на помощь в постигшем его горе:
— Если хочешь начинающуюся и еще слабую веру мою в Бога христианского усилить и утвердить, — сказал он Евдокии, — то пойдем со мной к умершей моей жене и воскреси ее именем Христа Бога твоего, как воскресила ты меня. Тогда я без отступлений и колебаний всецело уверую в твоего Бога и крещусь.
— Не только для тебя, но и для всех желающих войти в Царство Небесное совершит это Господь.
Они пошли, а на дороге встретились им носилки с телом жены префекта. Взяв умершую за руку, Евдокия во всеуслышание произнесла пламенную молитву и, призвав имя Христово, перекрестила умершую. После чего та мгновенно ожила.
Весь народ воскликнул единодушно:
— Велик Бог Евдокии, велик Бог христианский! Спаси нас, раба Живого Бога, и мы уверуем в Него.
И крестился префект Диаген со всем домом своим, и многие из народа обратились ко Христу. По просьбе префекта Евдокия прожила некоторое время в доме его, поучая новопросвещенных христиан слову Божию. Она проповедовала, что кающимся грешникам Бог внимает и дарует скоро просимое ими. Многих привела она к Богу, и они приняли Святое Крещение от епископа Гелиопольского. Потом Евдокия возвратилась в обитель свою и жила в обычных ей иноческих подвигах, но иногда приходила она в город утверждать верных и, просвещая неверующих, приводила их ко Христу.
Прошло несколько лет, Диаген умер, и на его место назначен был новый префект по имени Винцентий, человек суровый, упорный и ожесточенный враг христиан. Узнав об Евдокии и ее бесстрашной проповеди христианства, Винцентий послал воинов, которые по его приказанию отрубили ей голову мечом.
Так окончила свою страдальческую жизнь Евдокия, бывшая великой грешницей и достигшая подвигами любви и неусыпными трудами великой святости. Из бездны пороков она вознеслась на доступную людям высоту нравственного совершенства. Та, которая для многих была ближайшей причиной духовной смерти, стала для многих путеводительницей ко спасению!
Владыка Небесный потерянную овцу обрел и приобщил в Своему избранному стаду. Оскверненную грязью житейской драхму омыл и приложил к вечным сокровищам Своим; грешницу, ставшую закосневшей от привычки к греху, оживил и окрылил совершенной надеждой. Сосуд нечистоты наполнился светлой чистотою; тинный поток превратился в благоухающий источник, напоивший много жаждущих животворной водой; смрад сгнившего колодца преобразился в алебастр с драгоценным миром. Погасавшая свеча засияла и стала лучезарным светильником, елей которого умягчил сердца жестокие и черствые.
Эпилог
Аристодем, видя перемену, происшедшую с Евдокией, сам совершенно изменил образ своей жизни. Он оставил своих товарищей и бурную жизнь цветущей юности. Глубокая вера и любовь озарили его душу, стремившуюся отныне к добру. Он крестился и переехал на житье в Антиохию, где ему принадлежал обширный дворец.
Любовь его к Евдокии не прошла, но стала светлой, чистой, спокойной. Он исполнял завет беспредельно любимой им Евдокии: не искал ее и не старался ее видеть. Он жил воспоминанием о ней и ее словами о свидании с ним в загробной жизни и неустанно шел по пути добра, весь предаваясь делам благочестия.
Но всего этого ему казалось мало, недостаточно, ничтожно. Жажда нравственного совершенствования и стремления к спасению не давали ему покоя, смирение и сознание своей греховности сжимали его сердце, вызывая из глаз ручьи сокрушенных слез. Наконец он раздал бедным свое богатство: деньги, драгоценности, недвижимое имущество и обстановку дворцов. Половину своих богатств он отослал на свою родину, в Афины, а половину предназначил вообще бедным христианам, без различия национальностей. Сам же он удалился в один из пустынных монастырей. Но впоследствии он тайно ушел из монастыря и поселился одиноким анахоретом в суровой пустыне, где проводил жизнь в великих подвигах. Умер он несколько позже так свято им любимой Евдокии.
Между язычниками — жителями Гелиополя и его окрестностей — долго хранилось воспоминание о Евдокии, прозванной «цветком Эдема» за свою невыразимую красоту. А у христиан навеки осталась память о чудной Евдокии — бывшей когда-то грешницей и ставшей святой…
Много лет протекло со времени ее страдальческой кончины, но часто еще христиане на своих собраниях говорили о ней, о ее безумно-веселой жизни, о ее покаянии, нравственном преобразовании, обращении ко Христу и подвигах. Умиленные слезы текли тогда по их ланитам при мысли о милосердии Божием и о благодати, которой удостоилась прежняя великая грешница. И перед их духовным взором живо восставал образ Евдокии во всей ее духовной красоте. «Райский цветок» засиял неувядаемой красотой, будучи в расцвете своем переселен и возвращен в свою небесную отчизну!
Сказание о старце Зосиме и Марии из Египта
I
Белесоватая прозрачная мгла, тонкая и воздушная, словно лицо больной, осиянное смертью, лежала над пустыней. Померкли желтые и красные краски, овраги и небольшие холмы, сузились посторонние миражные дали; словно расплылись угрюмые горы, уходившие на запад к морю, — надо всем лежала ночная прозрачная мгла, нежная и робкая, будто фата невесты.
Как большие глаза (печальные и прекрасные глаза больного ребенка) наверху светились звезды — ясные звезды пустыни. Огоньки сыпались из них на прозрачную ночь, и ночь нежнела и еще ласковее облегала овраги, холмы, горы.
Старец Зосима облокотился на край лесенки, уходившей вниз, и смотрел вдаль — в светлую пустынную ночь. Знакомая старая картина! Пустыня тиха, подобно молитве, и эти звезды — как огонек перед Господом! Сколько раз в молчании ночи, когда обитель засыпала коротким сном, он протягивал здесь вперед руки и пел, вплетая свой голос в общую молитву земли! И бывало, он пел здесь, наверху, в своей обители, повиснувшей над долиною, словно гнездо птицы, а внизу у маленького потока подвывали шакалы и гиены. И был вой их странным и резким среди молчания и молитвы пустыни. А Зосиме казалось, что звери у потока тоже поют свою ночную звериную песню. Он всматривался вдаль, его чуткое ухо ловило шелест воды, вой зверей, и где-то далеко-далеко, может быть, у самых гор — звук катившихся сверху камней.
Все было широко и таинственно, и в груди зажигалась иная жизнь — жизнь полуночи и пустыни, рождались новые мысли и росли, обвеянные робкою прозрачною ночью, — прекрасные, чистые, не похожие на земные… Душа томилась под ними, как фимиам на огне, и, отрешившись от тела, летала над пустыней, как синий благовонный дымок.
А когда ночь гасла, и сквозь бледную мглу выступали желтыми и красными красками овраги и холмы, — чистые таинственные мысли, навеянные пустыней и ночью, начинали вянуть, словно нежные цветы, и исчезали совсем при восходе солнца.
Зосима смотрел вниз: все было так же, как и раньше.
У потока маячили неясные тени; вероятно, только что пришли шакалы и сейчас начнут свою музыку. Ночь тиха, звездные огоньки вспыхивают и гаснут, словно переливчатые дорогие самоцветы. Где-то у гор катятся камни.
Все по-старому. Но отчего улетела ласточка?
Под крышей его кельи несколько лет подряд вила она свое гнездышко. Откуда-то прилетела она однажды, маленькая и проворная, покружилась одиноко над обителью и села на верхнюю крышу Зосимовой келейки. А на другой день уже вила здесь свое гнездышко. И скоро поселилась совсем у Зосимы над маленьким окошком.
Как сжились потом они — человек и ласточка!
Только покажется солнце — ласточка высунет из гнезда свою продолговатую милую головку и осмотрится. Потом вылетит из гнезда и долго носится вверх и вниз в глубоком пространстве между обителью и сухой каменистой пустыней, где шумит поток.
Пела она редко. Пение ее было незвучно, но старец любил его. Пение ласточки нарушало молчание пустыни и оттого казалось прекрасным. К вечеру она залетала в свое гнездо и сидела там неподвижно с открытыми глазами, словно о чем-то думала.
И это нравилось Зосиме. Ему казалось, что ласточка созерцает пустыню и, как монашенка, молится.
Так жила ласточка у Зосимы десять лет. И после десятилетней жизни в Зосимовой обители сегодня около вечерни она вдруг покинула Зосиму.
Прилетели откуда-то еще ласточки, посидели в гостях, о чем-то долго щебетали, а потом вдруг снялись и полетели. И Зосимина ласточка тоже улетела.
Зосима стоял у оградки и поглядывал, куда летят птицы. Покуда они летели, он все смотрел, а когда скрылись в синих тенях пустыни, он понял, что его ласточка уже больше не воротится, и глубоко вздохнул. И стоя на вечерней молитве, он думал о ласточке и даже помолился за нее — пусть Бог побережет ее от злого человека!
Когда после вечерней молитвы вышел он к воротам обители, откуда спускалась вниз веревочная лестница, и посмотрел на пустыню, ему вдруг показалось, что он знает, куда и зачем улетела от него ласточка.
Садилось солнце, по пустыне бегали громадные яркие пятна последних лучей, и все, что было на их пути, вспыхивало ярко и красиво — овраги, холмы, поток. Вспыхивало и погасало.., и уж ночь стояла недалеко, готовая покрыть все тихим прозрачным покровом, а солнце бежало куда-то, бежали яркие лучи, унося тепло и радость за край пустыни, где синели приморские горы.
И так вдруг захотелось Зосиме бежать из этой мертвой, тихой пустыни за солнцем, что, кажется, будь он ласточкой, взмахнул бы крыльями раз-другой и, не раздумывая, полетел бы за солнцем.
Но солнце село, а он, без крыльев, сидел у оградки обители и смотрел вдаль. И в первый раз он ясно осознал, что в этой обители провел уже пятьдесят лет, с самого детства. Все искушения и соблазны давно уже погасли в нем среди мертвой пустыни, как гаснет огонь под большим тяжелым дождем, и он жил здесь, будто высохший пустынный цветок — без страстей, искушений и подвига.
Все, что было заповедано учителями, он выполнил, и иногда ему казалось, что он уже совершил свой подвиг и ему пора умирать. Но смерть не приходила, и он догадывался, что Бог не хочет призывать его к Себе, потому что он еще не исполнил своего долга. Но какого долга, он не знал. Не знали и другие два монаха, жившие с ним в обители, и это его мучило.
И вот теперь, в таинственную пустынную ночь он начинает что-то понимать. Куда-то тянет его, как при заходе солнца — туда, вдаль, где стоят горы. Туда, где люди, где широкая, могучая жизнь, куда понесся бы он, старый, строгий, из своей обители, похожей на гнездо птицы. Там построил бы он свою келью и начал бы спасаться, воюя с могучей, красивой жизнью.
Он стоял бы где-нибудь на площади и проповедовал, и люди обступили бы его, жадные, увлекающиеся, красивые… Он говорил бы им, бедно одетый, в кожаном поясе, с посохом в руках; говорил бы тихо, с глубокой задушевностью, и слова падали бы в душу грузно, но нежно, как материнская ласка, и люди притихли бы, как земля перед дождем. И там бы он спасся!
Бог скоро призвал бы его и сказал:
«Прииди, благословенный!».
Старый Зосима думает, а ночь уже проходит.
Мгла тает, вырисовываются желтые и красные пятна пустыни, на востоке горит заря.
— Скоро солнце, скоро солнце! — шепчет старик.
Поспешно идет он в келию, надевает белую монастырскую одежду, опоясывается поясом и с посошком в руках спускается по лестнице вниз.
Поток шумит, окутанный утренним туманом. Пахнет травкой. Восходит солнышко.
II
Зосима шел по пустыне два дня и ничего не видел, кроме камней и оврагов.
К вечеру второго дня ему начали попадаться зеленые деревья — предвестники человеческого жилища. Камни сменились рыхлою темною землею, и наконец в последних лучах солнца он увидел большой город.
После пятидесятилетней одинокой жизни в первый раз приближался он к городу. Старый пустынник волновался, и уже не раз промелькнула в его седой голове мысль: «Не вернуться ли назад, в пустыню?». Но он пересилил робость и полуночью тихо постучался в городские ворота. Ворота отворили, спросили, кто он и откуда, и пропустили в город.
Уже ночь спустилась над городом, а город все не спит — шумит, поет, сверкает огнями. И так вдруг потянуло отсюда Зосиму обратно в пустыню, где лежала теперь тихая ночь — прозрачная и прекрасная, как глаза ребенка. Он уже повернул к воротам и сделал несколько шагов, но потом одумался и побрел на базарную площадь.
К утру город стих, и первый луч солнца засиял на высоких крышах и деревьях среди молчания и сна.
Зосима сотворил молитву и начал поджидать, когда проснутся люди. Они проснулись скоро. Торговцы отворили лавки и начали громко выкрикивать свои товары. Пустынник переждал, пока прошел самый острый момент торга, и выступил вперед — на середину рыночной площади. Но люди, увидевшие его, начали смеяться над ним:
— Посмотрите, какой шут пришел к нам! Он почти совсем без одежды! Лицо у него как пергамент, которому двести лет. Где это залежался этот уморительный старик? А лысина? Какая лысина, обратите внимание! Вся черная и в прыщах, словно ее кусали муравьи!
Кто-то бросил в него корку банана, и корка попала ему в глаз. За ней полетела другая, третья, и скоро целый дождь грязных объедков посыпался на пустынника. Зосима стоял оглушенный и не знал, что делать. Но тут к нему подошел какой-то благообразный старик с красивой белой бородой и толкнул его:
— Уходи отсюда, Божий человек! Ты пустынник, я знаю! Беги. Эти люди могут убить тебя!
И, взяв его за руку, он начал выводить его из толпы. Зосима молчал и послушно шел за стариком. И только тогда очнулся он, когда вышли они за ворота города, и старик показал рукою:
— Эта дорога к Иордану, эта на Иерусалим. Иди, куда хочешь.
Тут только вспомнил пустынник, зачем он шел в этот город, какие нес чудесные слова, надуманные в долголетних стояниях в своей келейке, похожей на гнездо ласточки. И как же встретил его шумный, веселый город!
Если б знал город, какие хорошие слова таил он для него в своей пустынной одинокой душе; какие тихие, как приозерный тростник, мелодии; какие важные вдохновенные, как пустыня, высокие речи!
Зачем, зачем, даже не выслушав, они отогнали его?
И была горечь у него на душе и томление — томление невысказавшейся, горящей бесплодно в огне вдохновения души! Заплакал он и тихо побрел по дороге, ведущей к Иордану.
Погибла пустыня, и, кто знает, погиб, может быть, весь его пятидесятилетний подвиг, побежденный искушением. Погибла его мечта о городе и его речь к людям — заветная пустынная речь… И вот как бедняк, у которого украли все богатства, он плетется неведомо куда по незнакомой дороге без цели.
Город остался далеко позади. Кругом опять знакомая молчаливая пустыня. Камней уже нет. Поднимаются невысокие холмы, бледные кустарники, и часто дорогу переползают длинные толстые змеи.
Кое-где попадаются царственно-пышные розы, напоминающие город, его блеск и шумную радость. Зосима нарвал большой букет и любовался ими, вспоминая ту страшную, напряженно-веселую жизнь, которую видел он в городе.
Затем ему показалось, что эти розы — соблазн, искушение, и все то, что он пережил в последние дни, — это тяжкий грех. Он остановился в недоумении и печали и, бросив букет роз на землю, побежал от него так быстро, словно он был молодой юноша. Ему казалось, что все погибло, и дьявол одержал над ним верх, а теперь веселится, как тот несчастный, шумный город.
Был полдень. Солнце палило. Розы закрыли свои чашечки, словно обессилели и заснули. Вся пустыня дремала, измученная жарой. Ужасно хотелось пить. И вот вдали нарисовались глубокое озеро, лес и синяя тучка.
Как хорошо! Но Зосима знал, что это мираж, и закрыл глаза, чтобы не видеть его. Солнце подымалось все выше, и лучи его стояли прямо над головой, как острые золотые стрелы.
Зосима дотащился до какого-то кудрявого деревца, на котором все листья свернулись от жары в трубочку, и прилег в его короткой душной тени. Он думал: подходит смерть, и скоро Бог взыщет с него, зачем сошел он со скалы, где прожил всю жизнь, и пошел в шумный, веселый город?
Ему было страшно в эту минуту и хотелось, чтобы рядом с ним стоял сейчас какой-то близкий человек, который утешал бы его и ободрял!
Но кругом никого не было. Пустыня молчала, исполненная невыносимой жары, и зеленые кусты испаряли свои душные, тяжелые запахи.
Вот солнце сдвинулось с середины неба и поплыло в сторону, все дальше и дальше от того места, где лежал Зосима. У кустов выросли тени, листья развертывались, как живые, из-под корней весело и хлопотливо побежали скорпионы, и совсем недалеко от пустынника из сухой тычинки быстро, как в сказке, распустилась бледная иерихонская роза! Она была так воздушна, кротка и прелестна, что старый Зосима понял, что этот цветок не соблазн, не грех, а тихая кадильница, которую воскуряет земля перед лицом Бога. И тогда Зосима поцеловал ее, но сорвать не решился. «Пусть курится цветок, как жертвенник», — подумал пустынник и пошел дальше по дороге.
Шел он недолго и увидел, что кусты густеют и иногда стоят сплошной темной чащей. В воздухе стало прохладно и сыро, на зеленой траве выступила крупная роса.
Очевидно, недалеко была вода.
Зосима поторопился, потому что его продолжала мучить жажда. Он миновал заросли какого-то кустарника, который рос узкими, длинными разветвлениями и в сумерках был похож на пучок змей. Затем он взобрался на маленькую возвышенность, заросшую высокими деревьями, и увидел реку. Она шумела, как горный поток, между зелеными крутыми берегами, и вся была в небольших водоворотах.
«Иордан!» — подумал Зосима. Он подбежал к воде и, наклонившись, начал жадно пить.
Кругом было тихо и немного торжественно. Где-то далеко молчала пустыня, а здесь шуршали деревья и шумел Иордан, как молодой бурный поток. Солнце погасло, вода стояла темная, вечерняя, отражавшая в себе высокие деревья.
Зосима опять поднялся на дорогу и хотел идти дальше, как вдруг в стороне увидел что-то белое, похожее на дом, и направился туда.
В густых зарослях, окружавших Иордан, скрывался маленький монастырек. Зосима понял это сразу, как только увидел высокую деревянную стену, из-за которой выглядывала острая церковная крыша, увенчанная крестом.
Он подошел и постучался.
Никто не спросил у него, кто он и откуда; ворота раскрылись, и он вошел в ограду.
III
Наутро он пришел к игумену — еще не старому человеку с кротким, бледным, почти прозрачным лицом.
По обычаю Зосима поклонился ему в ноги и просил оставить его на время в монастыре.
Игумен благословил его и разрешил остаться, но, к удивлению пустынника, ничего не спросил о его прежней жизни. Это понравилось Зосиме, потому что он не мог стройно рассказать все свои приключения с того момента, как покинул свою пустынную обитель, и не мог объяснить, как и почему случилось все произошедшее с ним в последнее время, так как он считал это искушением и падением.
В глухом лесном монастыре около Иордана началась его новая жизнь подвижника. На первых порах она казалась странной Зосиме: в монастыре было много народа, человек тридцать. Пустыннику, привыкшему молиться и думать в уединении, такое количество людей казалось странным, и он долго не мог привыкнуть к этому. Но вскоре он ко всему привык и полюбил братию. Особенно приводило его в умиление долгое монастырское пение — так сладко пели монахи в маленькой обительской церкви, пахнувшей кипарисом.
Прижился Зосима здесь. Шел уже седьмой месяц, как в первый раз постучался он в ворота монастыря. И стало ему казаться сном то, что он пережил перед приходом в обитель, и уже не чувствовал он себя бедняком, у которого вдруг поворовали все имущество — опять он стоял у богатства и трудился много, приумножая его.
IV
Пришла весна, первая весна после того, как Зосима поселился в прииорданском монастыре.
Дожди, лившие с неба в течение трех месяцев, прекратились, небо прояснилось, пустыня пообсохла и принарядилась маленькими пестрыми цветами.
Близился Великий Пост.
В монастыре был обычай уходить в первое воскресенье поста куда-нибудь в глушь, в пустыню и там быть до Лазаревой Субботы, уединяясь в одинокой пустынной молитве. Все монахи покидали свой монастырек и уходили кто куда хотел, а в обители оставались только два священника для совершения церковных служб.
Подошло воскресенье, первое в посту. Монахи отстояли обедню, простились друг с другом и разошлись по разным сторонам, унося с собой небольшие запасы хлеба.
Вышел из монастыря и Зосима с маленьким посошком и сумочкой, где лежали смоквы, и направился прямо к Иордану.
«Тук, тук, тук!» — стучит он по твердой глиняной земле, а кругом — весна, солнце, цветы, радость.
«Тук, тук!» — стучит он и чувствует, что он вольный, счастливый, и впереди — пустыня, где он будет молиться жарко, вдохновенно, счастливо.
Пустыня, та самая, по которой шел он когда-то из города, встретила его молча, словно совсем забыла старого Зосиму, лежавшего в изнеможении под горячею тенью куста. Пустыня была сейчас весела: везде стояли лужи воды, белели розы, зеленели кустарники. Но птиц не было, и пустыня расстилалась тихая, безмолвная, как молитва. Зосиме понравилось это место, он остановился и провел здесь в молитве несколько дней.
Но вдруг в его молитву начала вплетаться скука и тоска по человеку, и он сам, не замечая этого, направился к Иордану.
Пустыня была красива, но бездушна, и за те дни, которые Зосима провел в молитве, он ни разу не увидал ни человека, ни птицы, ни змеи.
Иордан был величав, наполнившись дождевыми водами, и уже не бурлил, а протяжно гудел, как большая река. Здесь, на берегу, хорошо было молиться, глядя на широкий водяной простор, но человека опять не было, и Зосима, уже тоскуя, направился вниз по Иордану в другую пустыню, которая называлась у монахов «внутренней».
Ему было известно, что в тех местах пустыни живут старцы, угодившие Богу и получившие от Него дар прозрения. Зосима надеялся встретить здесь какого-нибудь прозорливца и поговорить с ним.
Он шел уже два дня, а пустыни все не было.
В стороне шумел Иордан, зеленели деревья, цвели весенние цветы, и ничто не указывало на близость суровой каменистой внутренней пустыни.
И подумал Зосима, что он задумал неугодное Богу, что в дальней пустыне он ищет не святого старца-прозорливца, а человеческое лицо, по которому сильно стосковался. Зосиме стало досадно на себя, и он решил завтра же утром повернуть в обратный путь, зайти в самый глухой угол Иорданской пустыни и там молиться до самой Лазаревой Субботы. С этой мыслью он лег и заснул. Проснулся он рано, как только начало белеть небо, и встал на молитву.
Вдруг в стороне он увидел что-то неясное, колеблющееся, похожее на тень. Всмотрелся — человек!
В это время блеснуло солнце, и он уже ясно увидел незнакомца: тело его было темное, наверное, сожженное солнцем, непокрытое и худое, как тонкий тростник.
Незнакомец мягко, неслышно ступал, и издали можно было принять его за тень. Зосима сразу и не поверил, что это живой человек. Он подумал, что перед ним видение, и начал шептать молитвы. Но тень стояла неподвижно и вскоре Зосима убедился, что это такой же человек, как он. Пустынник сильно обрадовался.
В восторге, с лаской к живому человеку, которого он наконец увидел, Зосима бросился к нему. Но тень дрогнула и побежала быстро-быстро, так что Зосима на своих старческих ногах далеко отстал от нее.
В отчаянии, видя, что тень готова совсем скрыться, он закричал:
— Зачем ты убегаешь от меня? Послушай: благослови меня, а потом убегай! Только благослови! Ведь Ты святой!
Тень остановилась и сделала несколько робких шагов к старцу. Зосима тоже пошел навстречу, и вот они так близко сошлись, что только небольшой овраг отделял их. И уже ясно увидел Зосима, что перед ним живой человек, обожженный солнцем пустыни и худой, как скелет. Зосима хотел уже перебежать овраг, как тень сказала:
— Погоди, не подходи ко мне, ведь я женщина. Сначала дай мне какую-нибудь одежду покрыться. Видишь, я голая!
Зосима ужасно смутился, потому что никогда не видел вблизи женщину. Он готов был уже отойти, окончательно решив, что перед ним наваждение, но женщина сказала:
— Зосима, дай же одежду!
Откуда она знала его имя?
Если она человек, то — прозорливец, святой, и отойти от нее без благословения было грех.
Он вздрогнул, снял с себя верхнюю одежду и робко перебросил ее через овраг:
— Возьми, раба Божия!
Она взяла и накрыла свою наготу. Потом спустилась и легко взошла по крутым стенкам оврага на ту сторону, где стоял Зосима.
— Мир тебе, Зосима! Благослови меня!
И когда только в первый раз взглянул Зосима на нее, он сразу понял, что перед ним — святая.
Лицо ее было бесстрастно, как камень на могиле, но глаза блистали, сияли, горели, как звезды, и казалось, нужно было только вправить их в драгоценный киот, и кадить, и поклоняться им. Колени Зосимы сами подогнулись, и он упал перед женщиной.
— Ты благослови меня!
Женщина задрожала, как листья в лесу перед грозой, и, волнуясь, начала поднимать старца.
— Встань, Зосима, скорее встань. Разве можно передо мною падать? Я — самая большая грешница на земле. Встань, прошу тебя.
Но Зосима лежал, пораженный святостью, и шептал:
— Благослови меня, благослови!
Женщина, увидев, что Зосима не встает и ждет, пока она не благословит его, тихо дрожа, словно опасаясь чего-то, произнесла:
— Пусть благословит тебя Бог, Зосима!
Зосима поднялся. В его старых пустынных глазах был восторг человека, увидевшего святость.
А женщина присела на краю оврага, свесив ноги, и спросила:
— Ты давно из мира, Зосима?
— Давно, — ответил Зосима, вздохнув, вспомнив, как он путешествовал из пустыни в город.
— Скажи, что там теперь? Были ли войны, есть ли угодники, кто царствует в нашей стороне?
— Не знаю. Я был там недолго и не успел узнать всего, — грустно сказал Зосима и пожалел, что не узнал все новости в городе.
— А скажи, Зосима, зачем ты догонял меня? Ведь ты праведный, святой, а я… Если бы ты знал, какая я грешница!
Зосима вдруг захотел рассказать все так, как было: как он соскучился по человеческому лицу в пустыне, как искал человека, как увидел ее, похожую на тень. Но было неловко рассказывать все это ей, уже святой, потому что в этом было так много мирского, оскорбляющего святость, и он робко заметил:
— Я хотел, чтобы ты благословила меня!
Женщина ничего не сказала и сидела у края оврага, опустив голову. И думал Зосима: сколько, наверное, дней провела она в этой знойной пустыне, где он когда-то едва вытерпел один день! Какие грехи могут быть у нее? И если правда, что она была раньше великой грешницей, то теперь, без сомнения, она — святая, потому что лицо ее хранит следы слез, как высокий утес, измытый дождями. Женщина подняла голову, посмотрела на Зосиму и вымолвила:
— А старый ты уже, Зосима! Скоро отойдешь ко Господу!
Зосима подумал, что она пророчествует, испугался и попросил:
— Помолись за меня!
— Помолимся вместе! — ответила женщина и поднялась.
Они стояли рядом и молились, и Зосима, когда кланялся в землю, видел, что женщина как бы отделилась от земли и стоит в воздухе. И он подумал опять: «Не привидение ли это?». Но женщина обернулась к нему и сказала:
— Молись, Зосима!
И он молился, уже не думая о привидении, охваченный восторгом и вдохновением молитвы.
После молитвы женщина подошла к Зосиме:
— Теперь я пойду! Благослови меня!
Но Зосиме вдруг захотелось узнать, кто она, откуда, как попала в эту пустыню. Когда еще увидятся они? Может быть, никогда! Пусть женщина на память расскажет ему свою жизнь. Он унесет ее рассказ с собою в монастырь и, вспоминая его, всякий раз будет молиться за нее, живущую в пустыне как дикий зверь.
Он молил ее о том, чтобы она поведала ему о себе, а она молчала, словно борясь сама с собою.
Наконец она согласилась, села опять на край оврага, свесив ноги, и начала рассказывать:
— Я родилась в Египте. Ты знаешь, Зосима, Египет? Там течет большая река Нил — гораздо больше Иордана. Там растет тростник — пышный, высокий, густой, как волосы женщины. Когда едешь по реке на корабле, он шумит, как старый непроходимый лес.
По берегу Нила стоят древние каменные башни, в которых похоронены фараоны — цари Египта. Они темны и суровы, как вообще все могилы, их не разрушает время и кажется, что они будут стоять вечно.
Хорошо на моей родине! Всегда светит солнце — яркое, веселое, но оно не жжет, как здесь, потому что через всю страну течет прохладный, величавый Нил. Там много зелени, так много, что весь Египет напоминает ковер — зеленый, бархатистый, усеянный лотосами, дивными белыми лотосами. И люди там мягкие, кроткие, добрые. Они считают Нил священной рекой. Они сеют хлеб, жнут и поют песни. Хорошо на моей родине, Зосима!
Когда я подросла, мне прежде всего бросилась в глаза радость: было все так зелено, светило солнце, блестела река, пелись песни, и я подумала, что самое главное на земле — радость. И полюбила я ее — веселую, искрящуюся радость, и вся отдалась ей.
Мне было еще немного лет, когда я уже пела песни, пила душистое вино, сладко туманившее голову, и любила. На моей родине раньше, при фараонах, любить — значило служить богам. Наверное, эта любовь передалась мне в крови, и я любила всех: и молодых, и старых, и не думала, что это грех.
Ты понимаешь меня, Зосима?
Родители мешали мне весело жить, и я покинула их, ушла в Александрию, и там зажила еще веселее. Меня прозвали веселой женщиной. Но что мне было это название? Я жила весело, и это было главное. На все остальное я не обращала внимания. Ты думаешь, я брала за свою любовь деньги? Не брала, Зосима! Они давали, а я смеялась и не брала. Я нанималась к купцам в прялки и пряла кострику. Я была честная, Зосима!
Женщина грустно улыбнулась, сорвала тонкую зеленую травку, вздохнула и продолжала рассказывать:
— Мне было уже 29 лет. Помню, стоял сентябрь, люди собирали хлеб в долинах, давили вино, и непрерывно над Нилом пелись песни.
Мне было отчего-то скучно, я выбралась из города и пошла по дороге, которая ведет к морю. Пришла на пристань уже поздно; садилось солнце. И увидела я: стоит около берега большой корабль. На берегу толпятся люди и шумят, как это бывает всегда на пристанях. Куда-то ехали они — ливийцы и египтяне — в чистых, праздничных одеждах, словно на праздник.
И понравилось мне здесь: корабль был большой, красивый; белые паруса подернулись золотом от заходящего солнца, и народ шумел, как на празднике.
Захотелось мне уехать с этим кораблем куда-нибудь; куда — мне было все равно, лишь бы ехать на этом красивом корабле, с веселыми изящными людьми.
Я спросила все-таки, куда идет корабль. Мне сказали, что в Иерусалим. Я пошла и села. Денег у меня не было, и вместо денег я предложила мою любовь. Это было, Зосима, первый и последний раз, когда я продавала свою любовь! Ехали мы не особенно долго. Помню, остановились где-то вдали от Иерусалима и потом целый день шли пешком. Когда я увидела Иерусалим, он не понравился мне. Тесный, пыльный, он напоминал какой-то плохонький базар, а не главный город страны.
Видишь ли, Зосима, о том, что в этом городе страдал, был убит и воскрес Христос, я слышала когда-то давным-давно, еще в детстве, но потом позабыла, и Иерусалим сделался для меня обыкновенным городом.
Остановились в Иерусалиме, в гостинице около храма Воскресения. Мне было очень весело, потому что мои спутники были очень богаты и окружили меня всякими удовольствиями. Но потом, дня через два, опять я заскучала. Еще раньше у меня мелькала мысль: так ли я живу, как надо? Но никого около не было, кто разъяснил бы мне, как надо жить, и я продолжала жить по-прежнему.
На третий день после приезда в Иерусалим я вышла из гостиницы, чтобы походить по улицам. Все мои знакомые куда-то ушли, и я осталась одна. Мне было скучно. На улице увидела я, что все бегут по направлению к храму. Я спросила:
— Куда идут люди?
Какой-то старичок сидел около меня на камне; наверное, отдыхал. Он услышал мой вопрос и сказал:
— В церковь. Сегодня будет Воздвижение Креста, на котором был распят Христос. Ты разве не пойдешь туда?
Я ответила, что не знаю и, может быть, пойду. Как-то случайно, из простого любопытства я спросила у него, что такое «Воздвижение Креста».
Он рассказал и поинтересовался, откуда я. Я подробно ответила ему. Рассказала о том, как я живу, ничего не утаивая, потому что не считала свою жизнь позорною. Он покачивал головой, пока я рассказывала, словно не одобряя меня. И это заинтересовало меня. Я спросила, почему он качает головой. Старик ответил, что, по его мнению, моя жизнь нехороша, грешна, не достойна человека. И, как бы доказывая, что он прав, он начал рассказывать мне про Христа, про Его Матерь, про Его учеников.
Сначала я слушала невнимательно, потом незаметно увлеклась и уже не спускала глаз с рассказчика.
Как он говорил, Зосима! Как говорил! Это было для меня целое откровение. Особенно меня поразила Мать Христа. Как ухаживала Она за Своим Малюткою и как потом плакала у Его Креста!
Я представила себе Эту Мать, и такою хорошею, такою чистою показалась Она мне, что я, не зная Ее, полюбила. Полюбила свято, как родную мать.
Ты понимаешь, Зосима, мы были двумя противоположностями — Мать Христа и я. Она — олицетворенное страдание, печаль, а я — веселье и порочная радость.
Мы встретились — и Она поразила меня Своей серьезностью, величием; меня потянуло к Ней, как раньше к веселью. Я попросила старика пойти вместе со мной в храм. Он согласился, и мы отправились.
В храме и около храма стояло много народа. Пройти в середину церкви, где стоял крест, было невозможно.
Старик остался на площади, а я все-таки начала пробираться в храм. Мне страстно хотелось посмотреть на Богоматерь, а старик сказал, что в притворе есть Ее икона. Но как я ни старалась пройти в церковь, мне это не удавалось. Только подойду к самому порогу храма, вдруг толпа оттаскивает меня назад и выбрасывает на площадь.
Это повторялось несколько раз. Я измучилась, и уже казалось мне, что Пречистая Мать не хочет видеть меня, веселую и радостную. Это было непонятно мне и горько, и я начала плакать. И тогда я в первый раз мысленно обратилась к Ней с приветом и покорностью и пообещала, что начну новую жизнь. Это меня несколько успокоило, и я опять попыталась проникнуть в церковь. Наверное, толпа поредела, потому что после больших усилий я достигла притвора.
Дальше идти я не решилась, но мне хотелось рассмотреть икону Богоматери. Я остановилась в притворе, встала на какой-то выступ так, что толпа не беспокоила меня, и начала искать глазами икону.
Я сразу угадала ее среди других икон, угадала по Младенцу, лежавшему у Своей Матери на коленях, и по глубокой скорби на лице Богородицы.
Я представляла себе Ее иною: более пожилой. Но когда увидела Ее — молодую, печальную, любящую — я замерла в восхищении. Таким сильным было это чувство. И вспомнилась мне моя жизнь, веселая и беспечная, и такой маленькой, ничтожной, такой пустенькой, пошлой показалась я сама себе, что, думала, умру от стыда и горя.
Но Божия Матерь смотрела так ласково, кротко. Так много в Ней было материнского, что мне поверилось, будто еще не все потеряно, и можно начать новую жизнь — прекрасную, святую, кроткую.
Я сошла с выступа, на котором стояла, прошла в храм и поклонилась Кресту — поклонилась страданию и любви. И, когда кланялась, поняла, что моя старая жизнь погибла навсегда и должна начаться новая, или я умру от стыда и горя.
Из храма я не пошла в гостиницу, а осталась ночевать на улице. Впрочем, я все равно не спала. Я сидела в уголке между двумя большими домами и думала. Нет! Даже не думала, а все мое существо как-то странно отзывалось на то, что я только что пережила.
Знаешь, Зосима! Мне казалось, будто я качусь с какой-то высокой-высокой горы, качусь — и нет конца моему падению. Только в ушах звон, стук, камни сыплются. Так было всю ночь. Наутро я поняла, что в самом деле откатилась очень далеко от той жизни, которую вела раньше. Кругом меня было тихо, кротко и пахло страданием и святостью. Мне захотелось покоя, молчания, и я стала думать о месте, где можно было бы молиться и плакать… Мне захотелось быть как можно дальше от города, от Египта, от недавних веселых друзей!
Я еще раз прошла в храм, помолилась, потом тихо побрела по дороге вместе с другими богомольцами. Я спросила одного из них, куда они идут. Он ответил, что идут на Иордан, к тому месту, где крестился Христос. Я пошла с ними. Когда мы проходили город, встретились нам мои бывшие сожители по гостинице и начали кричать мне, где это я была ночью. Я молчала, опустив голову, и они, наверное, подумали, что обознались, потому что скоро прекратились расспросы.
Вышли мы утром, а вечером были у Иордана. Остановились мы в монастыре Иоанна Предтечи. Там отдохнули, искупались и на другой день приобщились.
Знаешь, Зосима, я приобщилась в первый раз в жизни! Как страдала я, когда подходила к Чаше! Казалось, я умру, если вкушу Тело и Кровь Христа. Все смотрели на меня, когда я подходила к Чаше — слишком уж я страдала. Но я приобщилась, и на душе стало свято, тихо, светло.
Новая жизнь понравилась мне. Так понравилась, будто проснулась я и в первый раз увидела утро, солнце, землю. Вышла я на берег Иордана, села у воды и задумалась. А на том берегу шумят деревья, и там так хорошо, что захотелось мне туда. Я села в лодку и переправилась.
Больше я не возвращалась в мир, Зосима! Как трудно было мне на первых порах в уединении! Кругом ни звука, точно в могиле, жжет солнце. Старая веселая жизнь отзывалась во мне. Иногда хотелось вина, мяса… И тело страдало. А как хотелось петь! Иногда вечерами все отдала бы, чтобы запеть веселую песню про Египет, про друзей, про радость. Но пустыня безжалостно обнимала меня, давила, гасила веселые мечты, и я стихала.
Это было на первых порах.
Потом все прошлое мне уже казалось сном, меня никуда не тянуло, тело высохло, как растение под лучами солнца, и тогда мне открылась другая жизнь.
В чем она, я не скажу точно, не умею сказать, но она прекрасна! На меня находит восторг — дивный святой восторг, и тогда мне кажется, что всю землю постигает великое счастье. Приходит на землю Христос с Богоматерью и учениками, исчезает страдание, ласкает солнце, и я не умею описать, какое вдруг наступает счастье.
Бывают времена, когда мне горько от сознания, что самая лучшая, молодая часть моей жизни погибла. Если бы я знала, я принесла бы ее сюда, в пустыню. И как бы я была тогда счастлива!
Иногда мне хочется, чтобы меня здесь нашли неверные и замучили за Христа. Иной раз кажется, что слишком уж долго я живу и пора умирать. Но, когда вспомнишь, как провела свою молодость, сделается больно и страшно, и ты думаешь, что Бог осудит за такую жизнь, и хочется еще жить — жить, молиться и плакать!
Так я живу здесь, Зосима!
— Сколько лет, как ты покинула мир? — спросил старец.
— Не знаю точно. Приблизительно лет сорок.
— Сорок лет! — ужаснулся Зосима.
— Сорок лет, сорок лет! — повторял он в раздумьи. — И за это время ты ни разу не видела человека?
— Ни разу. Ты первый!
И подумал Зосима, что она такая праведница, какой, наверное, никогда не видела у себя пустыня. И просветлел пустынник, потому что понял, что это Сам Бог устроил ему счастье — увидеть святую. Только казалось ему, что святая сама не понимает своей святости, своего величия — уж слишком прост и кроток был ее рассказ о себе.
Ему хотелось сказать, что она — дивная, великая святая, что она сделала самое трудное для человека — победила саму себя, свою молодость, радость. Но Зосима постеснялся сказать все это, только встал и молча низко поклонился ей.
— Зосима, не надо! — запротестовала женщина.
— Ты святая! — восторженно ответил Зосима.
— Ну, мне пора, — поднялась женщина, постояла немного в раздумьи и сказала:
— Вот что, Зосима! На будущий год приходи к Иордану и принеси с собой святые дары. Я знаю, ты священник. Мне хочется приобщиться. Вечером в Великий Четверг я буду ждать тебя у Иордана. Придешь?
— Приду! — ответил Зосима.
— Прощай! — сказала святая, тихо скрываясь в зеленых кустарниках, словно таяла.
Зосима упал на землю и целовал то место, где она еще так недавно сидела.
— Боже мой! Боже мой! — восторженно восклицал он. — Какая святость!
Когда он пришел в монастырь в Лазареву Субботу, все монахи были уже в сборе. Видя изможденное лицо Зосимы, они подумали, что он ходил в самую далекую пустыню и там спасался. О встрече же со святой пустынник ничего не сказал братии.
V
Пробежал год. Опять настал Великий Пост. Монахи разошлись по пустыне, а Зосима по болезни остался в монастыре. К середине поста он выздоровел, но уже не уходил в пустыню, а ждал, когда настанет Великий Четверг. Весь год он думал о своей неожиданной встрече, и чем больше раздумывал, тем все прекраснее вырисовывался пред ним образ пустынницы.
Казалось, что если бы он встретил ее теперь, он признался бы ей, что она теперь дороже всего для него на свете, и он пошел бы за ней всюду, чтобы поклоняться ей. В первый раз в жизни он встретил человека, так много претерпевшего во имя Христа и Его любви, обвеянного чистою, неземною красотою. Он, старый пустынник, просидевший в своей обительке полвека, был потрясен этим подвигом.
— Какая святость! Какая святость! — часто повторял он, сидя в своей келье, изготовляя корзины из приречного тростника.
В Лазареву Субботу монахи опять сошлись в монастырь, а Зосима начал собираться в путь. Он приготовил несколько хлебов, взял смоквы, рисовых зерен и в Великий Четверг после обедни отправился к заветному месту на берегу Иордана.
Пришел он под вечер. Иордан был тих, пустынен.
Кругом ни людей, ни лодок. Это заставило Зосиму призадуматься: как она перейдет сюда без лодки?
Вечер темнел. Иордан покрылся тенью, и вот сквозь сумрак увидел Зосима, что пустынница идет к нему, идет по реке, как по суше, и тонкое сияние стоит около нее. Он подумал, что заснул, и начал тереть глаза, но пустынница была уже около него и проговорила:
— Здравствуй, Зосима! Вот я и пришла!
Зосима смотрел на нее, широко раскрыв глаза, словно хотел понять: как она прошла по воде, словно по земле.
А она стояла, маленькая, кроткая, высохшая под солнцем, и глаза ее сияли, как звезды.
— Исполнил мою просьбу, Зосима? Дашь мне приобщиться?
— Да, да! — ответил Зосима. — Я дам тебе приобщиться, святая!
Он приобщил ее. А затем предложил поесть из того, что принес.
Она взяла несколько зерен и положила их в рот.
— Достаточно, Зосима! Теперь мне нужно спешить в пустыню. Прощай.
— Погоди, куда ты?
— Нельзя. Прощай!
И, как тень, скользнула в воду. Зосима видел, как она идет через реку и тонкий свет расстилается от нее.
— Погоди, молю тебя, погоди! — кричал с берега Зосима.
Она остановилась, немного подумала и сказала:
— Нет, нельзя, Зосима! Нужно спешить. Ты увидишь меня через год, если захочешь, опять в этой пустыне, где мы встретились с тобою в первый раз.
И, уже не останавливаясь, она перешла другую половину реки и скрылась в лесу. А Зосима стоял на берегу, протянув к ней руки, и звал ее — недосягаемую святость, мелькнувшую перед ним на закате жизни звезду, яркую и теплую…
VI
Зосима с нетерпением ждал, когда пройдут лето и осень, зацветет весна, и он уйдет в пустыню и опять встретит святую.
Наконец наступил Великий Пост. Вместе с монахами Зосима ушел в пустыню — в тот уголок ее, где когда-то в первый раз встретился со святой. Все здесь было по-прежнему — тихо, таинственно: цвели цветы и зеленели яркие, веселые кустарники.
Зосима быстро прошел пустыню вдоль, но никого не встретил. Пустынницы нигде не было видно. Он уже подумал, что она ушла отсюда, и сильно опечалился.
Но вот однажды на рассвете, когда вокруг было сыро от росы, и цветы, увлажненные росою, словно плакали счастливыми весенними слезами, он увидел на земле между кустарниками тело человека.
Зосима сразу догадался, что это она, догадался по верхней изодранной одежде, которую сам дал ей когда-то при первой встрече.
Быстро подошел он и действительно увидел ее. Глаза, прекрасные глаза, в которых было столько святости и страдания, были закрыты. Тело было совсем высохшее и маленькое, как тело юной девушки. Но лежала она свободно, мягко, как лежат усопшие: лицо смотрело вверх, руки были сложены на груди. Недалеко от нее цвела роза — нежная, тихая, чистая, и, казалось, пустыня воскурила в изголовье подвижницы свою кадильницу.
И заплакал Зосима. Не было у него каких-нибудь определенных мыслей и чувств. Было только очень тяжело на душе, словно вдруг кто-то ударил его в грудь огромным камнем. Плакал он долго, потом встал с земли и начал осматривать место, где можно было бы выкопать могилу. Ему понравилось место около того оврага, где она когда-то сидела, рассказывая свою историю, и он решил копать тут. Но чем копать? Он попробовал было копать обломком дерева, но дерево сломалось.
Он становился, не зная, что делать.
Впоследствии Зосима рассказывал, что, когда он стоял таким образом, не зная что делать, к нему подбежал лев и когтями вырыл могилу. И все верили этому, потому что пустынница была святая.
Приготовив могилу, Зосима опустил в нее тело подвижницы и, пропев погребальные песни, закрыл землей. Он долго стоял в раздумьи над пустынной могилой, в которую легла святость. Ему казалось, что он тоже скоро умрет и пойдет туда, куда ушла пустынница. И тогда они встретятся и вспомнят старую суровую пустыню около Иордана.
Вздохнув, Зосима пошел от могилы вглубь пустыни. И когда он опять проходил мимо тех кустов, где раньше лежало тело святой, он заметил маленькую дощечку.
Старец поднял ее и прочитал: «Погреби, отце, тело смиренной Марии».
«Мария!» — так вот какое имя было у нее!
Зосима счастливо засмеялся, словно святая опять близко подошла к нему.
Старец вернулся в монастырь уже поздно, на пасхальной неделе. Глаза его были красными от слез, руки тряслись, словно он только что похоронил кого-то очень близкого. Теперь он уже не стал скрывать своего знакомства со святой Марией и рассказал братии, как все было. Когда временами вместе с другими Зосима пел в церкви, и на душе было мягко и грустно, он вспоминал кроткую пустынницу Марию.
Она всегда представлялась ему как чистая, святая голубица, которую явил миру Господь. И чем больше он думал об этом, тем более ему становилось ясно, что во всех событиях, произошедших за последнее время в его старческой жизни, — с отлета ласточки до знакомства с Марией, — была странная, таинственная связь.
Он уже не проклинал себя за то, что сошел со скалы, на которой пробыл пятьдесят лет, что ходил в шумный, нечестивый город, — казалось, Сам Бог внушил ему мысль уйти из своей родной обители, скитаться и прийти к берегам Иордана, потому что иначе он никогда бы не встретил на своем пути чистую, прекрасную, полную страданий и святости Марию из Египта.


















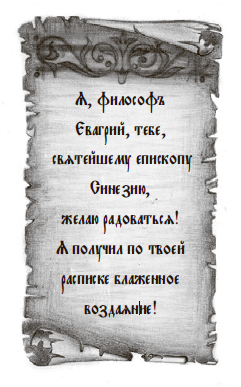









Комментировать