- Предисловие
- Часть I. Восточные сказания, старинные предания, древние легенды, повести, новеллы, притчи
- Вифлеемский младенец
- Слезы
- Бегство в Египет
- В Назарете
- Дары персидского царя волхва Артабана
- Странствующий еврей
- Страстная пятница
- Дочь Пилата
- Кончина праведника
- Письма Адины
- Воскресение и жизнь
- Фиалка
- Причащение в темнице
- Святой союз
- Подвиг матери
- «Я получил блаженное воздаяние...»
- Покаяние искусителя
- Повесть о праведном простеце-пастухе и о пришествии к нему Господа
- Генофейфа
- Братья
- Певец Богоматери
- Глаголы неба
- Райский цветок
- Сказание о старце Зосиме и Марии из Египта
- Часть II. Повести, рассказы, путевые воспоминания, психологические очерки, поучения, размышления
- Отрок-мученик
- Вторая жизнь человека
- На кладбище
- Жребий брошен
- Ошибка
- Молитва
- Истинный пастырь Божий
- Не дай, Господи, осуждать пастырей Церкви!
- Медведь
- Долг платежом красен
- Кто мой ближний
- Песни любви
- Письмо малютки к Богу
- Сила в немощи
- Чудеса Иоанна Кронштадтского
- Исцеление
- Непонятая молитва
- Рассказ матушки Серафимы
- Отец Сергий С.
- Из рассказов отца Сергия
- Вексель
- Подвиг
- Чудесная гостья
- Песнь печали
- Страннице
Часть II. Повести, рассказы, путевые воспоминания, психологические очерки, поучения, размышления
Отрок-мученик
Углицкое предание
Глава первая. Ванечка Чеполосов и Рудак-сирота
В древнем городе Угличе есть место по названию Яново-Поле. Находится оно на крутом берегу Волги. Среди домиков, глядевших на Яновом-Поле своими оконцами из бычачьего пузыря или из слюды на Волгу, в ту пору, когда царствовал на Руси царь Алексей Михайлович, Тишайшим прозванный, стоял уютный да обрядливый домик углицкого посадского человека Никифора Григорьевича, прозванием Чеполосова. Был то человек в Угличе почитаемый и с достатком. А достаток приобрел он кожевенным промыслом, издавна излюбленным угличанами. Была у Чеполосова кожевня своя: в ней дубили, мяли и даже тиснили кожи узорами.
Помогал ему в этом деле товарищ прозвищем Рудак, человек одинокий. Жил этот Рудак в слободе под Угличем. Был он до всякого промысла человек дошлый, хитроумный; был он человек книжный — многие темные угличане даже колдуном его почитали. А Никифор Григорьевич души в нем не чаял; угодил ему Рудак по кожевенному промыслу. Братенником, сябром называл товарища Чеполосов. Так именовали в старину совладельцев по земле или промыслу.
Семейных у Никифора Григорьевича была жена Анна да сынок по десятому году Ваня. Был и еще сын, да совсем маленьким помер. И жили мирно да ладно Чеполосовы на Яновом-Поле, полагая всю душу свою в отрока Ваню, которого уж и в науку отдали: посылали в школу к священнику церкви Димитрия Солунского.
Стояла эта церковь на месте, что называют теперь Солунским бором. Собирал в нее батюшка, настоятель её, углицких ребят и обучал их грамоте да слову Божьему, получая с родителей за труды свои рыбу да масло, да всякий иной запас.
Ходить в эту школу Ване Чеполосову было неблизко. И нередко провожал его туда Рудак, чтобы лихой человек мальчика не изобидел. Не по сердцу это было Анне, матери Вани. Облик ли темный да мрачный Рудака, говор ли угличан, что Рудак — чернокнижник, молчаливость ли его тому причиной, но не по нутру он был Анне. Говаривали в Угличе, что вся родня, все деды, прадеды Рудака были усланы в далекую Сибирь, в ледяной город Пелым, за участие в побоище народном, когда убили царевича Димитрия. Только мать его грудной девочкой, сироткой без роду-племени осталась в Угличе на чужих руках. Подросла она, благодетелям своим в тягость стала. А замуж ее никто не берет: и роду она опального, и приданого у ней рубаха посконная да крест медный.
Так бы и осталась она девкой-вековушей, да жил в ту пору в Угличе служилый человек. Был он когда-то приставлен при углицком замке, при покоях шведского королевича Густава.
Выписал из-за моря королевича Борис Годунов в женихи своей дочери Ксении, обещал ему королевство шведское у его брата отнять, да прогневался, что не хотел королевич веру свою переменить: услал его в Углич. Долго томился в Угличе королевич, полюбил он своего пристава. Взял его потом с собой в Ярославль, после в Кашин, куда перевезли Густава. В Кашине королевич умер, а пристав его вернулся в родной город. Тут он и женился на матери Рудака. Знал он ее еще девчонкой, когда она подростком стирала рубахи крепостной страже.
Но Рудаку и году не было, когда мать и отец его померли от частого в ту пору повального мора. Наследства же ему осталось всего: старая изба в слободе с бедной домашней рухлядью да книги, которые подарил своему приставу, умирая в Кашине, королевич Густав.
Подрос Рудак. Минуло ему 15 годов. Взвалил он суму со ржаной краюхою да отцовыми книгами за спину, взял посох и пошел по Руси хлеб себе добывать. Где он бродил, скитался — никому не ведомо. Годов через 20 вернулся он на родину грамотный, в кожевенном деле умелый.
Поступил он сперва в подручные Чеполосову, а потом и товарищем его по делу стал. И поселился он в старой отцовской избе — работящий, одинокий, молчаливый, рассказав только то Чеполосову о своих скитаниях на чужбине, что прожил это время в Москве у немца-седельника, где и обучился и грамоте, и ремеслу.
— Потом, ища, добыл себе сирота ум-разум, — говорил, вздыхая, про него Чеполосов.
И так любовно звучало в его устах это слово “сирота”, что не поворачивался язык у жены его Анны сказать худое про Рудака. А материнское сердце ныло, тосковало, когда она видела, как взглядывает “сирота” на её Ваню.
Глава вторая. Искуситель
Всею душою любили Чеполосовы Ваню. И не только как единственного сына. И обликом своим, и нравом он привлек бы к себе всякого. Был он мальчик здоровый, выносливый, но сложения нежного, для своих лет он был высок и казался тем более тонким и гибким.
Обучение в селе отроков происходило после обедни или после вечерни, летом — в церковных сенях, зимой — в батюшкиной избе. И сени в церкви, и изба её настоятеля были низкие, темные. Иногда зажигали лучину. В её свете седая голова учителя-священника точно живьем выходила из иконы. И Ваня с тайным благоговением присматривался к ней. Иногда учитель, наскучив вытверживанием азов по азбуковнику, раскрывал толстую, закапанную воском книгу и, водя согнутым старческим пальцем по большим писанным буквам, читал детям притчи из Прологов и жития из Четьих-Миней, хранившихся в ризнице Солунской церкви с незапамятных времен.
Но любимой книгой солунского батюшки было житие московского митрополита Петра, описанное митрополитом Киприаном. «Праведницы вовеки живут, и от Господа мзда их и строение их от Вышняго, и праведник, аще постигнет скончатися, в покое будет, и похваляему праведнику возвеселятся людие», — читал из этой книги нередко солунский батюшка, и голос его дрожал от волнения, а Ваня, слушая, бледнел, закрывал глаза и сидел неподвижно. Он сам не понимал, что с ним происходит.
Солунский батюшка строго иногда поучал не только словами, но и делом, бил ленивых и шалунов особой палкой, ставя их на колени на сухой горох или ущемляя между пальцами мочку горящего от боли детского уха. Скромному и прилежному Ване не выпадало этого на долю. Но видя, как терпят наказания другие, он бледнел и дрожал, точно сам испытывал их боль. И так хотелось ему вскочить и вырвать из руки батюшки начинавшее синеть ухо товарища! И замирал он на скамье с широко раскрытыми, тоскующими глазами. Прилежен он был не из-за страха наказания, не из одного желания радовать родителей. Он чувствовал к учению какое-то смутное благоговение. Он понимал уже, что грамота вела к Священному Писанию, а в житиях и притчах Священного Писания чуялось ему что-то, по чем как будто уже томилась непонятной жаждой его еще детская душа.
Рудак, провожая его в школу, а иногда и из школы, заходя за ним туда, ни о чем его не расспрашивал. Ни о родительском доме Вани, ни о школе. Рудак не любил говорить. Но, идя рядом с Ваней, Рудак никогда не молчал; говорил он о заморских землях, о которых слыхал в Москве, о мудром царе Годунове, — обликом таким же черным, как он, Рудак (передавали ему об этом старые люди), о смелом Лжедимитрии, о смуте на Руси. Все это было незадолго до того, как жил в Москве Рудак. И как-то странно выходило в его речах: точно Годунов и вправду был мудрый царь, точно самозванец и впрямь был царевич Димитрий, точно в смуту не одно зло шло от поляков.
Ваня слушал, но он мало понимал Рудака. Изредка вдруг у него словно с болью вырывалось восклицание:
— Ай, да как же? Царевича-то ведь у нас в Угличе убили… и орешки, которыми он играл в ту пору, как убили, в икону вделаны. Я видел.
Рудак будто не слышал таких восклицаний. Он только ненадолго мрачно умолкал. Умолкал и Ваня, бледнея и задумываясь.
А Рудак переменял речь. Он начинал рассказывать о том, какими бы птицами и зверями хотел он научиться тиснить кожи “золотные”, как он их называл, чтобы отправлять их к самому царю Алексею Михайловичу. Тишайший царь любил убирать свой дворец такими кожами и выписывал их из немецких земель.
Рудак описывал узоры для кожи: жар-птицу, сирин-птицу, птицу феникса, небывалых “слоней и драконов”, вепрей коледонcких, церберов трехшеих. И глаза его загорались, точно видел он вживь всех этих зверей.
И хотелось Ване спросить:
— Все эти звери ведь нечистая сила?
Но он потуплялся и молчал, точно боялся ответа Рудака. Ваня не знал, любит он или не любит речи Рудака. Страшно ему было порой слушать эти речи, еще страшнее чувствовать на себе взгляд Рудака, но его тянуло слушать эти речи. И когда Рудак умолкал и шел с ним рядом безмолвно, тяжело дыша и угрюмо смотря в землю, Ване делалось еще страшнее. И приходил он в школу после того, как его провожал Рудак, — тихий, бледный, затыкал уши от шума товарищей и жадно ждал прихода солунского батюшки с его посохом — “назидательной палицей”, как называл это учебное орудие сам батюшка.
И дивно было Ване: ему хотелось — после того, как он, идя в школу, наслушался речей Рудака, — чтобы эта назидательная палица стучала по синеющим от боли пальцам не шалунов, его товарищей, а его самого…
Глава третья. Калúки
Когда Ваня был не в школе, он проводил время дома. К Чеполосовым часто хаживали калúки (калúки — ред.) перехожие. Никифор Григорьевич любил этих странников. Анна, жена его, ворчала на них, называя их шатунами, тунеядцами. Но все-таки она их усердно поила и кормила. «Шатун, — думала она про себя, — а все как птица небесная — Божий человек».
Были эти люди одеты не лучше, чем работники в кожевне, которых видел и испугался Ваня. Но лица у них были совсем иные. Нередко оголодавшие, израненные, слепые — они смотрели даже невидящими глазами как-то ясно, тихо, невозмутимо. Когда калики жадно насыщались угощеньями жены его, Чеполосов молча созерцал, как они едят: грустная ласковость застывала у него на лице при этом. Когда же они и насытились, и достаточно отдохнули, — садился он на лавку, садил Ваню к себе на колени и говорил весело и приветливо:
— Ну, люди Божии, не обессудьте на хлебе-соли, спойте стих.
И запевали калúки перехожие про то, как:
Злой ненавистник враг
Вложи в зависть Святополка
Убить Бориса и Глеба…
Или о том, что:
О, Русь, о, Русь, прекрасная страна,
В тебе живут татаровия злыя.
Или о том, что:
Скоро будет тое времячко злого антихриста…
Люди Божии поют. Ваня снизу, с колен отца, смотрит в его лицо и видит, что лицо это покрылось точно туманом. И вдруг, как алмаз, светлая слеза покатится по бороде Никифора Григорьевича. И Ваня знает, отчего она покатилась. Он чувствует, как и его лицо точно погружается в сладостно нéжащий туман, и остается от этого тумана светлая росинка на его темных ресницах.
А калúки между тем затягивают любимый стих и Вани, и отца его:
Любезная моя мати, прекрасная моя пустыня,
Укрой меня, мати, в темныя ночи —
Научи меня, мати, Божью волю творити…
Ване кажется: и он, и отец его отделяются от земли на каком-то облаке и парят над этой пустыней, где
Как придет весна красная,
Все луга, болота разольются,
Древа листом оденутся,
Запоет птица райская
Архангельскими голосами…
И Ване чудится: то уж не калúки поют, а эти самые архангельские голоса. И он уже не Ваня Чеполосов, а тот царевич Иосиф, тот млад юноша, который хочет в пустыне «в младых летах потрудиться, нищим и босым быти, да со Христом жити, мать-пустыню никогда не покинути». И ширь мати-пустыни точно каким-то маревом охватывает Ваню…
И пропоют люди Божии все свои стихи, и пойдут от Чеполосовых обласканные и одаренные, а Ване все чудится, что он млад-юноша, удалившийся в мати-пустыню. Забьется он в угол за печью и слушает, как отец его своим грубоватым голосом мурлычет:
Про тебя, матерь-пустыня,
И Сам Господь знает…
Приходил иногда послушать калúк и Рудак. Слушал он молча, внимательно; лицо его бледнело, делалось угрюмым, строгим. Изредка по чертам его пробегала неуловимая, не то горькая, не то злобная усмешка, но чем дольше пели калики, тем реже была эта усмешка, тем больше бледнело лицо Рудака. И все пристальнее пригдядывалась к этому лицу Анна, мать Вани. Она одна замечала то, чего, может быть, не замечал сам Рудак: горячего взгляда, которым он впивался в личико Вани, дивно просветленное слушанием пения калик. И ныло, тосковало сердце матери тягостным предчувствием — чего, — она сама не знала, не ведала…
Глава четвертая. «Убогий Дом»
Был у Никифора Григорьевича и Вани один любимый день. То был день, когда угличане шли крестным ходом на место за городом, прозванное «Убогий Дом». Это было кладбище для тех, кто помирал в Угличе, не бывши прихожанином ни одной из его церквей. Прихожан в ту пору погребали в оградах их приходов.
Все прохожие, проезжие, странники, нищие, всякие безземельники и чужаки, отдававшие в Угличе душу Богу, погребались в Убогом Дому. Умирали они часто без крова, без близких, вдали от родных, — были они почти все люди убогие, — вот и прозвали место их вечного упокоения «Убогим Домом».
В определенные дни на это кладбище ходил крестный ход, и там служили общую панихиду. Благочестивые угличане почти целым городом следовали за крестным ходом и молились за души убогих покойников. Они брали с собою кутью на помин души и на могилах чужих, незнакомых людей творили поминки, словно по своим кровным родичам или приятелям задушевным. Стекалось в этот день на Убогий Дом много нищих. И крестный ход, сопровождаемый богомольными милостивцами, привлекал их, да и кладбище-то было как будто их — для их бездомных голов отведенное.
Чеполосов в этот день всегда забирал домашних с собою и шел благоговейно за иконами и хоругвями, на поясе у него обыкновенно висел кошель с грошами для раздачи нищим. Анна несла в платочке в резной деревянной чашке кутью, а Ваня — пучок красных и зеленых восковых свеч.
Учебы в этот день у солунского батюшки не было: все приходы участвовали со своим духовенством в крестном ходе. На кладбище, прослушав панихиду, Никифор Григорьевич раздавал гроши нищим. При этом лицо его тихо, умиленно светилось всей добротой души. Прослушав панихиду, пораздавши милостыню, Чеполосовы обыкновенно выбирали какую-нибудь самую сиротскую, полуосыпавшуюся в сторонке могилку без креста, без надписи. Они садились на нее и ели кутью, ведя беседу о горе да одиночестве человеческом. Ваня, подперев подбородок кулачком, слушал тихие, грустные речи отца, уходя взором в лесную даль, видную с Убогого Дома.
В этот день Ваню обыкновенно наряжали в лучший кафтанец из расшитой «травами» бледно-зеленой камки, в шелковую светло-голубую рубашечку, в сафьяновые цветные сапожки с загибающимися вверх носками, в шапку рытого бархата с куньей опушкой.
— Нарядись, нарядись, — говаривал Никифор Григорьевич, — к Божьим людям на могилку в гости идешь. Окажи им почтение.
И наряженный Ваня, тоненький, гибкий, с бледноватым задумчивым личиком, казался еще краше.
Когда он сидел на «убогой» могилке, слушая речи отца о судьбе человеческой на земле и за гробом, с кулачком у нежного подбородка, с темно-голубыми детскими очами, подернутыми недетской грустью и задумчивостью, он казался сказочным царевичем Иванушкой, тоскующим о сестрице Аленушке.
А матери его Анне он казался ангелом, ненадолго прилетевшим на землю. И болело ее сердце: чудилось ей — недолговечен ее Ваня. Но сама от себя она прятала эту боль. И оглянулась она кругом, чтобы разогнать вещую тоску-печаль…
Рядом с Убогим Домом возвышался бор — темный, тихий, с темно-сизыми или сизо-красными стволами вековых неподвижных дерев. Остатки этого бора и поныне осеняют окраину Углича и одно из его кладбищ.
— Ровно храм Божий при погосте, — говорил про этот бор Никифор Григорьевич, — дерева-то ровно столпы в храме.
И вставал он с могилы.
— Пойдем, вырежем крестик убогому, — звал он Ваню в лес.
И там, в глубине бора, обвеянный запахом трав и мхов, пропитанных земляною влагой, которую не сушило никогда не проникавшее туда солнце, вырезывал Чеполосов две хворостинки — одну длинную, другую короткую, выбирая их с красивыми извилинами.
Пока он их вырезывал, Ваня чутко прислушивался к стуку дятла, приглядывался к янтарным прозрачным каплям смолы, застывшей на коре сосен. И казалось ему, что он и вправду в высокой, необъятной, тихой церкви. Потом он нес хворостинки, вырезанные отцом, к убогой могилке, сколачивал их либо связывал крест-накрест и втыкал детскими ручонками в могилу. Уходя из дому в этот день, он всегда запасался веревками, гвоздиками и увесистым камешком вместо молотка.
— На крестик убогому запасаешь? — весело улыбался, видя это, Никифор Григорьевич.
Ваня только вскидывал радостно на отца свои светлые, тихие очи.
Ходил иной раз на Убогий Дом с крестным ходом и Рудак. Посидев с Чеполосовыми короткое время на могиле, он обыкновенно уходил в глубь бора. Словно его что-то тянуло туда — от людей. Взор его не то избегал, не то жадно искал личика Вани, похорошевшего и от праздничного наряда, и от грустного умиления на убогой могилке, в которую мальчик втыкал самодельный крест. И Рудак уходил в лес как будто и от этого личика…
Глава пятая. «Казнú сына твоего…»
Солунский батюшка, учитель Вани, любил попариться, забравшись в бане на полок. В том году, когда случилось то, о чем речь идет, старик-священник, слезая с полкá, поскользнулся. Среди густого пара горячо нагретой бани не было ничего видно. Стараясь удержаться, не упасть, батюшка вывихнул себе ступню. Случилось это как раз накануне крестного хода в Убогий Дом. И мыться-то батюшка пошел, чтобы очистить телеса перед этим ходом, который особенно чтили в Угличе.
Нога распухла. При помощи “назидательной палицы” (своего посоха) священник еще мог перебираться с места на место в избе, но был не в силах сделать далекий путь за город, пешком. Он послал трапезника своей церкви по домам учеников объявить это.
— Нечего им седни за попами таскаться, — ворчал больной батюшка, — ребятишки и в крестном ходу больше шалят, беса тешат, чем молятся, — и решил, против обычая, назначить учебу.
Трапезник зашел к Чеполосовым и передал приказ батюшки. Никифор Григорьевич взволновался. Шагая быстро по горнице и махая руками, он говорил:
— Что уж, единый-то день. Каждый год ходит малец на могилки, а тут на тебе. Садись за лавку.
Был при том Рудак в доме Чеполосова. Когда трапезник сказал приказ батюшки, он промолчал. Промолчал и на слова братенника. Промолчал и на слова Анны, когда она сказала трапезнику:
— Лег бы батюшка лучше, незачем ребят в этакий день нудить. Лег бы, коли хворь к ноге прикинулась, да травы бы подорожника к ноге приложил… Скажи ему…
Но, когда трапезник ушел и как будто уж решили, что Ваня завтра на учебу не пойдет, Рудак вдруг молвил глухим голосом:
— А ладно-ль, Никифор Григорьевич, батюшка, что вы супротив учителя-то пошли? Учитель-то — он священнослужитель. И ребенку повада: родитель-то супротив учителя… Мол, ребенку-то повада, баловство равно выходит…
Сказал это Рудак тихо, медленно, будто из самого нутра своего вытаскивая слова. Чеполосов словно потерялся. Вместо того, чтобы спорить с братенником, он как будто виновато, смешком сказал:
— Ишь заговорил… Ай повада? Ребенку-то?
— Оно, конечно, твое дело родительское, — продолжал так же слово за словом Рудак. — Но вспомни, чему учит родителя книга «Измарагд». Ты ее любишь прочитывать. Али, к примеру, поучение протопопа Силиверста, премудрого иерарха, душою самого царя Грозного повелевавшего?
И, напирая на каждое слово, Рудак прочитал наизусть текст «Домостроя»:
— Казни сына твоего от юности его, и даст ти красоту души твоея. И не ослабей, бия´ младенца, — задохнулся он на этих словах, но, будто опомнившись, прибавил. — Не о битиú говорю, а насчет повады, поблажки…
Никифор Григорьевич опустился грузно на скамью, точно его придавило это наставление. Все тяжело помолчали. Вдруг сам Ваня, который слушал все эти речи в темном уголке горницы, вышел вперед.
— Батюшка, — сказал он ласково, — уж ни то пойду я на учебу.
Почуялось Ване, что отцу охота его и на Убогий Дом сводить, да и против мудрых речей братенника не пойти. Почуялось ему, что борется душа отца его… Жаль стало ему отца.
— Вон и сам Ванюшка… — подхватил, весь задрожав, речь Вани Рудак. — Ступай, Ванюшка, в школу. Утречком я зайду, провожу тебя, а потом забегу за тобой. Оттоле вместе на Убогий Дом пойдем. — и Рудак жадно смотрел горящими глазами в очи Вани.
— А что-ж, Иванушка, и то… Мы вас там подождем на могилке какой ни на есть, — обрадовался Никифор Григорьевич.
Но жена его не дала ему договорить. Она бросилась к сыну, крепко обняла Ваню и заплакала.
— Чего ты, чего ты, старая? — заволновался Чеполосов.
Но она не говорила ни слова, только прижимала Ваню к груди.
— Родимая, что ты? — успокаивал ее сам Ваня, невольно дрожа от слез матери.
— Не ходи ты, родимый мой, — начала было сквозь слезы Анна.
Но Рудак, быстро схватив шапку и шагнув через порог, сказал:
— Я зайду, Иванушка, за тобой утречком.
— Заходи, заходи, братенник, — крикнул ему вслед Чеполосов.
Анна же упала в ноги мужу и стала причитать:
— Не пущай ты завтрева Иванушку, не пущай ты завтра родимого…
Никифор Григорьевич, поднимая жену с полу, поколебался.
— Не ходи, что-ль, Ваня. Ишь мать убивается. Ох, слезы бабьи: ровно горох из дырявого решета ни про что, ни за что просыпаются, — сказал он.
Но Ваня, подсев к матери, долго гладил ее по голове и, когда она утихла, почти шепотом вымолвил:
— Родимая, я пойду. Не убивайся ты попусту. Солунский-то батюшка болен теперь. Что ж его, больного-то, сердить-то, огорчать. Пожалеть надо его… Послушаться.
— Правда, Иван. Ишь ты какой. Обо всем подумал. И батюшку пожалел. Ступай, ступай завтрева, учись… Братенник тебя проводит, — обрадованный, решил окончательно Чеполосов.
Анна, молча утирая слезы и вздыхая, уплелась в горенку, где они с мужем спали.
Плохо спала она в эту ночь. Кряхтеньем да шептанием молитв мешала спать и мужу. И он часто беспокойно просыпался. Только Ваня спал глубоким сном, спокойно и безмятежно. На рассвете его что-то разбудило. Он раскинул руки, протянул их вперед и в полусне обнял шею матери. То ее поцелуй разбудил его. Наконец он проснулся совсем. Было уже светло. На лавке у постели лежала его праздничная одежда. В головах его стоял Никифор Григорьевич в шапке и опашне, с посохом в руках.
— Вставай, — сказал он ласково Ване. — Пора и на учебу идти. Скоро и братенник проводить тебя придет. Мать-то к ранней обедне ушла. И я пойду. Небось уж ход-то собираться начал. Попы-то все знакомые, хоругви-то все знаешь. Сердце радуется, глядя; подходят то те, то другие… — и, поспешно перекрестив сына, Чеполосов пошел.
Но он скоро вернулся. Ваня уже одевался. Отец, как будто забыв что-то, постоял возле него. Потом снова перекрестил его и снова пошел, растерянно бормоча:
— И чего это мать убивалась? И сирота-то… ишь, как вчера заговорил. Николи так не говорил… — и он ушел, качая головой, неохотно, медленными шагами.
Захватив азбуковник и указку, Ваня вышел из дома. У самого порога, на ярко-зеленой в лучах солнца лужайке он увидал бледного как мел, точно похудевшего за ночь Рудака.
— Оставь-ка припасы, — указал Рудак на книжку и указку. — Пораздумал я. Не пойдем к попу. Чего, в самом деле, один-то день? Пойдем, Иван, прямо на Убогий Дом.
Рудак говорил резко и отрывисто. Ване вдруг до того захотелось поскорее увидеть родителей, что он позабыл, что огорчит больного солунского батюшку. Ему даже не хотелось замедлять прогулку на Убогий Дом, относя азбуковник и указку в горницу. Он сунул их за борт кафтана и сказал:
— Ничего. И тут полежат.
Рудак внимательно посмотрел на него. 0н как будто что-то сообразил:
— И вправду. Пусть полежат. Так-то лучше.
Они пошли. Рудак не смотрел на Ваню. Он не говорил ни слова. Он шагал так быстро, как будто бежал от чего-то. Ваня задыхался, едва поспевал за ним. Вдруг он заметил, что они идут не той дорогой.
— Дяденька, — робко начал Ваня.
Рудак сейчас же понял его.
— А мы через бор, через слободку, мимо избы моей… Мне надо грошей захватить для нищих, — торопливо, волнуясь, заговорил он.
— Дяденька, у батюшки есть гроши, он тебе даст, — замирающим голоском тихо сказал Ваня.
— А мне на что его гроши? У меня свои деньги. Что у тебя, ноги отвалятся, что ли? И крюк-то мимо моей избы не велик, — резко оборвал его Рудак.
Ване вдруг показалось, что ноги его действительно отваливаются. Ему стало непонятно страшно. Но эти как будто отваливающиеся ноги несли его легкое тело вслед за Рудаком. Он не мог остановиться. Ноги его не отваливались, семенили, точно чужие. Он вдруг почувствовал, что в горле его защекотало. Потом его горло что-то сдавило, и, не в силах говорить, не зная, что сказать, он шел рядом с Рудаком. Рудак также молчал. Он не смотрел на Ваню.
Глава шестая. В избе Рудака
Ваня и Рудак подошли к дверям избы Рудака; на них висел тяжелый ржавый замок. Пока Рудак отмыкал его большим узорным ключом, Ваня глянул на слободу. Она была пуста. Весь народ, даже малые ребята, ушли с крестным ходом. Замок тяжело завизжал, загремел, и сильная, костлявая рука Рудака вдруг схватила Ваню за плечо и втолкнула его в избу. У внутренней стороны двери грохнула тяжелая железная щеколда.
Ваня очутился в полутемной, низкой горнице. По одной стене тянулась полка с большими книгами в кожаных обложках. Кожа от времени совсем почернела и покоробилась. А по полу, у той же стены, под полкой, возвышался «коник»-ларь. На нем лежал волосяной тюфяк, кожаная подушка была брошена, вместо одеяла — черная баранья шуба. Свет падал тускло из слюдяного окна. Бледной полосою тянулся он по земляному полу. Черные бревна стен точно вываливались внутрь. Ваня оглядывался и дрожал.
Рудак схватил его обеими руками за плечи и привлек к себе. Он сел на коник, держа Ваню, бледного, серьезного, перед собой. Рудак заговорил быстро, хрипло, весь сотрясаясь так, что и плечи Вани сотрясались в его руках:
— Иванушка, — говорил он, — я нарочно… Я хочу вовсе взять тебя от отца с матерью. Останься у меня. Я скажу, будто ты пошел без меня… не дождался… потерялся… украли… А ты будешь у меня… И никто не будет ведать. А потом… уедем… за море. Никто не прослышит, не прознает.
Рудак вдруг запнулся. Он сидел перед Ваней с пересохшим раскрытым ртом, точно ему дыхания не хватало. Глаза его в полутьме жилья светились, точно глаза кошки. Пальцы до боли впивались в плечи Вани. Рудак не замечал, что делает мальчику больно.
Ваня был бледен, тих. Он только втянул голову в плечи, точно ждал, что его начнут бить по ней. Глаза его, широко раскрытые, не мигая, смотрели в лицо Рудака. Вдруг его слегка посиневшие губы точно расклеились, и из них тихим стоном вылетело:
— Почто это ты, дяденька?
— Почто? — резким криком отозвался Рудак. Стискивая одной рукой по-прежнему плечо Вани, другою он повалил с низкой полки книги на коник. Они зловеще загремели, падая на рассохшиеся доски ларя. И, нагнув Ваню над книгами, Рудак опять заговорил, торопясь и задыхаясь:
— Почто? Мы с тобою будем учиться. Смотри. Таких книг ты и не видывал. И не увидишь у отца с матерью. Смотри. Вот творение мудреца Хебера. А это вот тоже мудреца. А вот опус маиус — значит “творение высшее” — монаха Роджера. Сие же книга Риплейюса, великого ученика паки великого мага Люллиуса, погибшего от руки горных африканцев.
Говоря все это, Рудак перелистывал тяжелые книги, все ниже наклоняя над ними Ваню. Мальчик дрожал под его рукой непрерывной, все более сильной дрожью, как осиновый лист на молодом, тонком деревце. Да и сам Рудак дрожал. Из книги Риплейюса, когда он ее перелистывал, выпал пучок пергаментных обрывков, написанных большими буквами.
— Вот, вот, — обрадовался Рудак, хватая этот пучок, — это я сам переложил на русскую речь. Я ведь разумел латынь. Я ведь в Москве у седельника-немца жил как сын родной… Полюбился ему… вот как ты мне… Латыни немец меня обучил. Не только словеса читать, но и в смысл проникать. Вот как я тебя хочу научить. Слушай, слушай. То мудрые словеса о том, как добывать состав прехитрых философов, сиречь мудрецов.
И, притиснув Ваню к себе, он, запинаясь, судорожно задыхаясь, точно с трудом глотая тяжелые слова, начал читать. Ваня чувствовал, что весь холодеет. Вдруг он с недетской силой вырвал плечо из пальцев Рудака и застонал, как смертельно раненый:
— Дяденька, дяденька. Почто губишь душу христианскую? Нечистые это книги. Диаволовы.
И слезы градом хлынули из глаз ребенка. Он повалился на колени. В странном порыве недетской мольбы, воздев руки, смотрел он на Рудака полными слез очами.
— Нечистые? Диаволовы? — воскликнул Рудак, вскакивая с ларя и роняя рукопись на земляной пол. — От королевича Густава Свейскаго дарованы эти книги родителю моему. Любил королевич науку великую, а не диаволову… Не то что великую, а великую из всех, алхимией именуемую. Не диаволы науку-то выдумали, а такие мудрецы, как Альбертус Магнус, слепцами колдуном называемый, но бывший бискупом христианским в немецком городе Колоне. Великий в магии, паки великий в философии; “сугубо великий в богопознании” — говорили о нем мудрые. Иванушка, и ты будешь мудр, и ты прозришь… Увезу тебя за моря. Будешь мне сынок, как был я немцу-седельнику… Аль солунский поп тебя всему обучит? Аль отец с матерью в мурье своей? Давно душа моя полымем по тебе загорелась. Мудрым тебя сотворю. Забудь отца с матерью. Будь моим чадом единым, Иванушка, Иванушка, — и, как безумный, Рудак ловил холодными пальцами еще более холодные руки Вани.
Мальчик уже ничего не мог говорить. Он только судорожно всхлипывал и лепетал:
— Дяденька, дяденька…
Вдруг лай собаки донесся из слободы чрез слюдяное окно. Рудак съежился, стиснул зубы. Одним движением сбросил он и тюфяк, и шубу с крышки коника и отмахнул эту крышку.
На дне коника лежали стеклянные и железные сосуды чудного вида: тигли, колбы, реторты, — все, что нужно для науки химии, — и, скорее шипя свистящим голосом, чем говоря, Рудак указал Ване на дно коника дрожащей рукой:
— Полезай туда. Идет кто-то.
Глаза его горели повелительным огнем, голос звучал неумолимо. Не сводя взора со страшных глаз Рудака, колотясь содрогающимся телом о доски ларя, Ваня, точно теряя сознание, перекинул ногу через его борт.
— Ежели пикнешь — задавлю, — слышал он над собой все тот же сдавленный шепот.
Вдруг он рухнул вглубь коника, сразу брошенный туда Рудаком. Над ним что-то гулко захлопнулось. Потом что-то загремело. Это гремел замок ларя, запираемый Рудаком, замок такой же тяжелый, громадный, ржавый, как и замок у дверей его мрачной, безмолвной избы.
Глава седьмая. «Иванушка потерялся…»
Родители Вани сидели на одной из могил Убогого Дома. Сидели они грустно, молчаливо. Они понимали, отчего: с ними не было Вани. Они так привыкли видеть в этот день умиленно-печальное личико сына среди могил убогих людей.
Вдруг Никифор Григорьевич увидел Рудака. Братенник спешил к ним быстрыми шагами, запинаясь за могилы, которые попадались ему на пути. Он был очень бледен. Едва Анна также увидала его, она закричала ему издали:
— Иванушка, Иванушка!
— Да неужели его нет с вами? — воплем вырвалось у Рудака, и он ударил шапку оземь, и сейчас же, не дав Чеполосовым сказать ни слова, быстро заговорил:
— Где ж это Иванушка? Я утречком-то замешкался дома. Прихожу к вам в дом. Он уже ждал, одевшись. Пошли мы. Не дошли до Митрия-то Солунскаго, говорит он мне:
— Спасибо, — говорит, — дяденька. Мне, — говорит, — один закоулочек остался, один добегу.
— А мне, грехом, домой надо было: грамотку насчет кож в Москву отписать. Ну, прибежал к себе в избу, отписал, понес грамотку к Ивашке Кополеву: слышал, что в Москву от воеводы гонцом бежит. Ну, думаю, захватил бы и мою грамотку. Да иду мимо Митрия-то Солунского; дай, мол, зайду, не отпустит ли поп Ваню. Захожу, а поп его и видом не видал, слыхом не слыхал. Не был, дескать. Побежал я на Яново-поле, спрашиваю челядинцев. «Не ворочался», — говорят. Побег сюда… И грамотку свою в пути потерял…
Лицо Рудака дергалось, глаза его бегали. Казалось, он никак не мог кончить свою речь. Но Анна оборвала его. Как волчица, у которой отнимают детеныша, ринулась она на Рудака, схватила его руками за грудь и криком закричала:
— Отдай, отдай Иванушку!
Едва оттащил ее от Рудака Никифор Григорьевич.
— Что ты, что ты, — увещевал он жену.
— Эх, братенник, — обратился он к Рудаку, — до Солунского батюшки не мог довести.
— Каюсь, каюсь, Никифор Григорьевич, батюшка, волосы на себе рву. Помру, да найду Иванушку. Зашалился небось либо где, — схватившись за волоса в отчаянии, молвил Рудак.
И нельзя было не поверить его отчаянию. Стоял он перед Чеполосовыми бледный, расстроенный, как человек в великом горе.
Меж тем вокруг на крики Анны собрались богомольцы угличане, которые еще замедлились на Убогом Доме. Были тут и дети, товарищи Вани, которые уже прибежали с учебы. Хорошо знали Ваню угличане. Любили его за лицо его милое да ясное, за нрав кроткий да ласковый. Пошел говор вокруг Чеполосовых.
— Иванушка Григорьичев потерялся.
Услышал те участливые восклики чужих людей Никифор Григорьевич и вдруг, только тут почувствовав весь страх за судьбу сына, горестно возопил:
— Потерялся, люди добрые, невесть где потерялся! Изорвалось сердце мое и материно!
А Рудак взглянул на толпу и крикнул:
— Пойдем, люди добрые. Помрем, а найдем.
— Найдем, найдем, — загудела толпа.
—Найдем, дяденька, — зазвенели и тонкие голоса товарищей Вани.
— И то! Помогите, люди добрые, — продолжал Рудак, — весь Углич, весь бор обегаем. Всю матушку-Волгу обшарим. Гайда, други.
И пошел он с кладбища, махая руками. И повалили за ним малые и большие, нищие и достаточные — Иванушку искать.
А люди, что постарше, попочтеннее, взяли под руки Никифора Григорьевича и жену его Анну, которая от горя, точно пьяная, шаталась, и повели их на Яново-Поле, к их дому. А привели домой, посадили на скамьи у стола — хуже заплакала Анна. Увидела она на столе, челядинцами накрытом, любимую снедь и питье Вани: уху шафранную, тавропчук севрюжный, поросенка тельного да потрох лебяжий, паточный мед да воду вишневую. Увидала она все это и залилась слезами, заколотилась в рыдании:
— Потрошок-то, потрошок-то лебяжий! Водичка-то, водичка вишневенькая! Любит их Ванечка-голубчик. Где-то его головонька победная?
Никифор Григорьевич сидел у стола, не шевелился, ровно окаменел. Отнялись у него силы самому искать идти, и жену в огорчении покинуть не решался.
Да и знал он, что почти весь город ищет его Ваню. Он и к воеводе спосылал, чтобы тот служилых людей и приставов на поиски отрядил. Воевода сейчас же приказ отдал. А губной староста, приятель Чеполосова, сам с челядью искать пошел. Закипел весь Углич, вся Волга, весь бор народом. И на лодках шестами шарят, не утонул ли Ваня, и по бору бегают, аукаются. Выйдет Никифор Григорьевич из дому, прислонится к косяку двери и только спросит у людей, что толпою так и стояли у его дома:
— Не видно, православные?
— Не видно… — глухо прогудит в толпе, точно толпа сама себя робеет.
— Погодь, друже, отыщут. Весь Углич ищет… Твой сябер, Рудак, кажись, из-под земли вырыть хочет, ровно полоумный, мечется, во все места заглядывает, — утешали Чеполосова купцы да посадские приятели его.
И снова шел он в избу, снова глядел на убивавшуюся в горе жену. Начало темнеть, затеплились звезды. Никифор Григорьевич совсем силы потерял. Уж и не выходил он из избы. Анна распустила, разметала свою косу. Лежмя лежала она на скамье. Уставилась очами в стену, как безумная. Не знали, что делать с ней, добрые соседки, которые все время были около нее.
Чуть не в полночь вошел в горницу Рудак. На нем лица не было. Одежда разорвалась, измокла. Он сквозь самую непроходимую чащу в бору лазил да по Волге в струге плавал, багром шарил. Взглянул на него Никифор Григорьевич и только вымолвил:
— Нету?
— Нигде, — прохрипел, как задавленный, Рудак.
— Это ты… ты!.. — завопила Анна, вскочив на ноги. Космы волос так и мотались вокруг ее головы.
Но Рудак, точно не видя ее, схватил руку Никифора Григорьевича. И вовремя. Несчастный отец ухватил со стола нож столовый, поднес его к горлу. Рудак вырвал у него нож и бросил под лавку.
— Микифора, Микифора спас, — отшатнулась от него Анна.
— А ты, — бросилась она на грудь мужа, — Иванушки нет… и ты еще… — И залилась она горючими слезами.
И Никифор Григорьевич заплакал. Как жемчуг, посыпались слезы из глаз его.
— Богу, Богу надо молиться! — воскликнул он. — Сегодня и вечерни не отпели.
И повалились оба, муж и жена, на колени, в передний угол перед иконами. Про вечерню Чеполосов помянул потому, что, по древнему домашнему уставу, каждый день со всеми домочадцами пел по служебнику и вечерню, и всенощную. И молча клали с хозяевами поклоны соседи и соседки, не покидавшие несчастных родителей. Всю ночь промолились Чеполосовы, не вставая с колен. А Рудак, едва они начали молиться, как змея, по стенке прокрался к выходу. Как безумный, побежал он к своей избе, которая весь день простояла на запоре.
Глава восьмая. Волхв-чернокнижник…
Брошенный Рудаком на дно коника, Ваня почувствовал, что под ним что-то хрустнуло, слабо зазвенев. Острая боль обожгла его руку, и по ней струйкой потекла теплая жидкость. Ваня не сразу понял, что, падая, разбил стеклянные сосуды и осколком ранил руку. Руку больно саднило. Но он этого не замечал. Он был совсем подавлен, и не столько жестокостью Рудака и этим гробом-ларем, как двумя другими горестями: сознанием горя родителей, потерявших его, а главное, бессилием оповестить их, что он, по крайней мере, жив.
Угнетал его и ужас при мысли, что Рудак — чернокнижник, волхв. В головке Вани странно путались почему-то именно теперь детская песенка, которую певал ему отец, прыгая с деревянной размалеванной куклой в руках, когда Ваня был совсем маленьким, и слова рукописи, прочитанной ему Рудаком.
«Алый лев», «зеленый лев», «черный дракон, пожирающий свой хвост», «огненная вода», «человеческая кровь» — все это крутилось в уме ребенка страшными картинами. И вдруг откуда-то издалека, из-за этих картин, доносится милый голос отца, трогательно-весело напевающий:
Барышня куколка,
Зачем вечор не пришла?
Побоялась тивуна.
И слезы лились, лились из глаз Вани. Вдруг в избе послышался шум. Над ларем что-то загремело. У Вани от ужаса сдавило горло. Крышка ларя поднялась, над ларем стоял Рудак. В комнате горела, слегка чадя, лучина. В слюдяное окно смотрела совсем черная ночь. Большие книги в темных кожаных переплетах, свалившись с ларя на земляной пол, в полутьме казались огромными жабами, заснувшими на земле. Рудак был бледен, но спокоен.
— Вылезай, — как-то беззвучно сказал он Ване.
Мальчик, дрожа, вылез из ларя. Рудак взял его руку холодной, как лед, рукой. Он заметил на руке Вани кровь.
— Обрезал? — глухо спросил он.
— Обрезал… — прошептал Ваня голоском, в котором дрожали слезы.
Рудак осмотрел рану. Он достал из небольшого деревянного кладня чистую холщовую рубаху, отодрал кусок холста и перевязал руку Вани. Ваня все время дрожал. Заботливость Рудака еще больше пугала его, чем жестокость.
— Слушай, — заговорил глухим, спокойным голосом Рудак, — я сказал отцу, что ты, мол, потерялся, совсем потерялся. Думают, волки загрызли. Отец с матерью плакали, теперь утихли… молятся… Видно, не больно тебя жаль. Теперь ты мой сын. Буду тебя укрывать здесь. Скоро уедем. Тебе все равно не вернуться на Яново-Поле. Покойник ты для отца-матери. Ты мое дитя, мое чадо… Обучу тебя всему… Поцелуй меня… Иванушка, — вдруг мягко задрожал голос Рудака.
Ваня молчал, потупившись. Дрожь била его все сильнее.
— Поцелуй же меня! — закричал Рудак, и сам весь затрясся.
— Дяденька, — зазвенел, как тоненькая струнка, голосок Вани, — запри меня опять туда. — И он указал трепетавшей рукой на ларь.
Рудак весь изогнулся. Точно зверь на свою добычу, готов он был броситься на Ваню, но отшатнулся.
— Ложись туда, — прохрипел он, — бросая в ларь свою баранью шубу, на которой он обыкновенно спал.
Ваня влез в коник, на шубу.
— Ешь, пей, — снова прохрипел Рудак, и в ларь упали краюха хлеба и плоская фляга с водой, заткнутая паклей.
— Дяденька, запри меня, — снова зазвенел голосок Вани.
— А-а… — зарычал Рудак и ринулся на ларь.
Ване показалось, что Рудак его разорвет. Ваня вскрикнул, но ларь захлопнулся.
И опять Ваня лежал в этом гробу. Опять слезы лились из его глаз. Он нащупал рукой у себя под боком флягу и хлеб, но решился не есть, не пить. По благочестивому обычаю, в день крестного хода на Убогий Дом он с самого утра не ел ничего. Только теперь, нащупав хлеб рукой, он почувствовал, как голоден. Но Ваня решился умереть с голоду, потому что умереть лучше, чем видеть красных львов и черных драконов, пожирающих свои хвосты, отчего получается человеческая кровь.
Но вдруг ему пришло в голову: «А тятя, мама?». Он умрет, а они без него? Он сам будет морить себя голодом, может быть, Господь Бог спасет его от дяденьки-чернокнижника?
И ему вспомнилось поучение, которое отец его читал вслух из книги «Измарагд»: «Аще Бог пошлет на кого какую скорбь, врачеватися Божиею милостию, да слезами, да молитвою…».
Ваня вдруг понял, что ему надо делать. Он украдкой, во тьме ларя неудобно сгибаясь, как мышка, изгрыз хлеб, выпил воду и начал читать одну за другой молитвы, каким научили его родители и солунский батюшка. Весь вытянувшись, неподвижно устремившись глазами во тьму, он шептал молитву за молитвой. Ему стало хорошо-хорошо. Слезы уже не текли из глаз, смачивая соленой влагой его стынущие губы. Они жемчужинами останавливались на его длинных ресницах.
Незаметно для самого себя он заснул. И приснился ему святитель Петр, житие которого читал в школе солунский батюшка. У ног святителя ползали зеленые львы, черные драконы, а святитель попирал их босыми ногами. И, весь сияя светлой улыбкой, он протягивал Ване руки. И то уже был не святитель, то был отец. Это он улыбался и протягивал руки, тихо-тихо напевая:
Барыня куколка,
Зачем вечор не пришла?
Но потом то был уже не отец, а что-то светлое-светлое, необъятное.
«Это Сам Бог», — подумалось Ване во сне.
Но это был только солнечный луч, упавший утром сквозь щель коника на личико Вани. Мальчик, разбуженный этим лучом, проснулся. Он забыл, что с ним было. От испуга, темноты и духоты в ларе он рванулся вверх и ушиб голову. Он снова лег, вспомнил все и понял, что ларь замкнут.
В ногах его стояла чашка с вареным горохом, около нее лежала свежая сайка; фляга опять была налита свежей водой. Ваня перекрестился, поел, попил, снова вытянулся во всю длину и начал шептать молитвы. Лежать было неловко, тело начало болеть, но в душе у Вани светилась радость. Он теперь был уверен, что святитель Петр освободит его. Даже свежую еду, появившуюся в ларе, он приписал чуду, ниспосланному святителем.
Он не видел, заснув после всех своих терзаний и волнений глубоким сном, как среди ночи Рудак подкрался к ларю, тихо-тихо отпер его, радостно улыбнулся, заметив, что Ваня съел хлеб и выпил воду, и долго-долго смотрел на бледное, заплаканное лицо спящего ребенка.
Лучина в избе тогда еще горела. Рудак так же тихо запер ларь, потушил лучину и просидел остальную часть ночи неподвижно в темноте у окна. Рано утром Рудак сам сварил с вечера принесенный горох, опять осторожно отворил ларь, опустил горох и сайку на дно его, наполнил снова водой флягу, опять долго-долго посмотрел на спящего Ваню — и снова запер ларь на замок. Потом он вышел из избы, замкнул и ее и пошел на работу в кожевню. Там он узнал, что мать Вани все плачет, отец же заказал сорокоуст по совету приходского священника:
— Ежели Ваня умер: в реке ли потонул, от зверя ли погиб, — так и следует на помин души. А ежели жив и где-либо блуждает, — стоскуется душа его от сорокоуста и позовет его в отчий дом.
Узнал также Рудак, что еще до свету ушли Чеполосовы к заутрене. Рудак поручил старосте по работам, уставщику в кожевне, досмотр в ней. Он велел сказать Чеполосову, что опять целый день будет искать Ваню в бору, и вправду он ушел в бор. Там он целый день в самой чаще сидел на мху без еды, только жадно глотал воду, которую черпал пригоршней из родника лесного.
Под вечер, когда в его слободе все полегли спать, Рудак вернулся в свое жилье. Он зажег лучик и отпер коник. Ваня днем то спал, то понемногу ел горох и сайку, то шептал молитвы, то грезил о своем спасении святителем Петром, в которое он окончательно поверил.
Теперь, ночью, он спал тихо, спокойно. Слез уже не было видно на его лице. Но едва Рудак открыл коник — открыл глаза и Ваня. За вчерашний день его светлые глазки глубоко ввалились на осунувшемся личике.
Несмотря на то, что они были теперь от твердой веры в спасение восторженно радостны, они показались Рудаку страшными. Он даже отвел свои глаза от них.
— Иванушка, — задрожал его голос, — вчерась я, помня тебя, родителя твоего от смерти оберег. Нож он на себя с горя занес. Отдернул я этот нож.
— Не ты, дяденька, отдернул, Бог твоей рукой отдернул, — тихо произнес Ваня, стараясь взглянуть в глаза Рудака.
— Дяденька, — продолжал он все так же спокойно, — слыхал ты, когда понесли мощи царевича Димитрия в Москву, кровь-то и закапала, так следом и капала?.. Бог-то что значит!
Глаза Вани, большие, светлые, впалые, упорно остановились на глазах Рудака.
— Иванушка, ведь смирился ты… вон поел, — точно не слыша речи Вани, глухо начал Рудак, опуская глаза.
— Бог и тятю спас. Тяте рано еще умирать. Увидит он еще меня, — не обращая внимания на слова Рудака, настойчиво продолжал Ваня. Но он не успел докончить своих слов. Страшная злоба исказила лицо Рудака. Он, точно не в силах более видеть глаза Вани, захлопнул крышку ларя.
— Погдядим, как увидит! Сорокоуст уже по тебе поют. Кричи, визжи здесь. Не услышат, не проведают. А услышат, — побоятся и сунуться ко мне. За волхва меня считают. И пусть считают. Пусть считают! — исступленно кричал Рудак, стуча по ларю кулаком.
А Ваня в ларе шептал молитвы.
Глава девятая. Злодейство
Прошло две недели. То были недели, страшные для Вани и Рудака. Рудак не изменял обыкновенной своей жизни. В шестом часу утра он уже был в кожевне, в шестом часу вечера он уходил оттуда домой. Только рабочие замечали, что всегда неумолимый, суровый, в первые дни пропажи Вани как будто умягчившийся, он становился все жесточе и злее.
Он худел день ото дня. Но, если худел и бледнел Рудак, худел и бледнел в своем гробу-ларе и Ваня. Худел и бледнел от постоянного лежания, от которого у него сделались пролежни. Они страшно ныли и саднили.
В руках и ногах Ваня чувствовал такое онемение, что порой ему казалось, они у него отвалились, отвалилось и все туловище и осталась только одна голова.
Отдыхал Ваня от лежания только в короткое ночное время. Рудак по ночам открывал ларь, позволял мальчику садиться на его стенку и беседовал с Ваней. Но от этих бесед еще больше, как воск, таял Ваня. Он сам почти постоянно молчал, только вскидывал на своего мучителя страшно ввалившиеся, огромные теперь глаза, голубые, кроткие, полные безропотной муки. Рудак же, то бегая по избе при свете лучины, как разъяренный зверь, то весь изогнувшись, как собирающаяся ужалить змея, говорил, говорил…
Он все увещевал Ваню покориться, признать его отцом. Он требовал, чтобы Ваня поклялся, когда Рудак выведет его из избы и посадит на коня, чтобы ехать за море, не крикнуть ни звука. Если Ваня поклянется в этом, они сейчас же уедут, уверял Рудак.
Он по-прежнему соблазнял Ваню «великими науками», которые, по его словам, были «не чернокнижие, а только сугубо дивные умствования разума человеческого». Кроме алхимии (науки об отыскании золота) и вечной жизни, Рудак говорил о звездочетстве, «кое судьбы человеческия ведает и от самого рождения человека мудрецам эти судьбы открывает».
— Мудрецы же записывают эти откровения в грамоты, гороскопами именуемые, и государи велят составлять себе эти гороскопы.
Рудак называл имена великих звездочетов.
— Смотри, смотри. Вот они, светила небесные. Будешь и ты читать судьбы человеческие по ним. Обучу тебя. Найду за морем наставников.
Ваня же глядел на звезды и думал:
— То ангельские души. Молятся они теперь за меня, — и молча слушал он прельщения Рудака.
А Рудак впадал в иные речи. Он вдруг валился на колени перед Ваней, ломал руки и говорил о своем одиночестве, сиротстве с малых лет, умолял Ваню полюбить его душою, как отца родного.
— Только старик-седельник, немец-латынец, и любил меня в юности моей, — стонал он. — Ни отца, ни матери, ни роду, ни племени не ведал я. Угнали мой род-племя в снега сибирские города Пелымя ледяного.
— Дяденька, тятя тебя любил, — кротко отвечал Ваня.
Но при напоминании об отце Вани мучительная злоба искажала лицо Рудака.
— Любил он, — горько смеялся Рудак. — На что мне его любовь, глупого да темного. Баба твой отец, дура-баба. И посылает же Господь эким… детей-ангелов. Кляну я твоего отца, за любовь твою к нему кляну. Пронзил ты мне сердце ликом своим, душою своею ясной. Мое ты чадо, по душе мое. Отрекись от отца, матери. Смотри, как я тебя жалею. Давно бы увез далеко-далеко. Что мне крик твой! Заткнул кляп в рот, скрутил руки-ноги, перекинул через седло — и пошел. Ночью бором, до Москвы. А там и за море. Деньги есть. С твоим же отцом в кожевне нагрёб. Да все жду чего-то. Ровно за руки меня кто держит. Боюсь, изведешься без отца, матери. Полюби меня, как чадо родителя. Не изведешься тогда, — молил Рудак.
Ваня слушал, молчал и улыбался. Он знал, кто держал его мучителя за руки. Чем больше он страдал, худел, чем он становился как будто бестелеснее, тем более проникался верой,что спасет его святитель Петр. Он понемногу ел пищу, которую Рудак каждый день ставил в ларь, почти беспрерывно читал молитвы и подолгу спал, хотя и слабым, чутким, но тихим сном.
Для потребности Рудак ставил ему лохань в ларь и ночью сам выносил ее. Запах от нее не мешал Ване спать. Во сне ему чудились ангельские лики, райские видения.
Рудак постепенно совсем ожесточился. Одной ночью он ударил упорно молчавшего Ваню. Мальчик не заплакал. Он только посмотрел пристально на Рудака. Злоба, как поток, сорвавший плотину, прорвалась в душе Рудака. Он стал часто бить Ваню. Царапал, щипал его, вытащил из-под него в ларе шубу, перестал выносить лохань, наконец, перестал класть в ларь пищу, ставил только одну воду.
— Покорись, покорись, — шипел он, стискивая зубы. — Не то увезу. Кляп в рот — и увезу.
Иногда же он, как безумный, целовал, обнимал Ваню и сам колотился головой о доски ларя.
От Вани осталась одна только тень. Весь в синяках, царапинах, пролежнях, изможденный, голодный, грязный, молча упорно смотрел он на Рудака. У него сохранились как будто одни глаза: громадные, голубые, неподвижные. Они, сквозь глаза Рудака, смотрели в какую-то даль и ждали, ждали чего-то. И снова запирал его в ларь Рудак. И бледные, запекшиеся детские губки снова неслышно шептали молитвы.
Наконец, на шестнадцатый день его заточения, ночью Рудак открыл ларь и крикнул, не смотря на Ваню:
— Выходи!
Шатаясь, едва держась на ногах, с трудом выбрался Ваня из коника.
— Завтра я отведу тебя к отцу, к матери, — глухо хрипел Рудак. — Но поклянись: скажешь им, будто заблудился в лесу. Пошел туда побегать и заблудился. Мол, ягоды, грибы ел, чуть не умер… И что я тебя нашел… и вот… пришел.
Лицо Вани просияло. Его огромные глаза наполнились дивным светом. Его строго сжатые губы двинулись не улыбкой.
— Дяденька, — тихо, но строго зазвенел его едва слышный теперь голосок, — лгать Господь не велел. Я скажу всю правду. Я попрошу тятю не злобиться на тебя, простить, помиловать тебя.
— Помиловать! — закричал Рудак. — Он, твой отец, помилует меня! Ты отверг, отшатнулся, а он помилует меня? Лгать не хочешь? По Господу жить хочешь? А меня, злодея, гадину, — помиловать?
И сам себя не помня, весь побелев, Рудак вытащил из-за голенища нож, который имел привычку, пряча от всех, носить при себе, и ударил им Ваню. Удар пришелся в висок. Длинный острый нож прошел через всю головку Вани, острие его высунулось из другого виска. Беззвучно, раскинув руки, упал Ваня навзничь. Кровь чуть-чуть выступила и запеклась на обоих висках, у острия и у рукоятки ножа. Пальцы Рудака в миг удара выпустили рукоять ножа, точно мгновенно ослабев. И с головкой, насквозь пронзенной, тело Вани без дыхания лежало перед злодеем. Глаза мальчика не закрылись. Огромные, ясные, голубые, они тускло, но спокойно смотрели вверх. Казалось, они дождались того, чего желали. Рудак нагнулся над мертвым телом. Он жадно смотрел в эти глаза.
Вдруг он, как безумный, оглянулся. Он понял, что эти глаза надо убрать, скрыть куда-нибудь. Он схватил тело, перебросил его через плечо, держа за ноги, теперь босые, бледные, как воск, детские ножки. Ваня уже давно сбросил в ларь сапожки со своих пропревших в грязи, изболевших ног. Тонкое тело ребенка все перегнулось за спиной Рудака, и голова повисла, смотря перед собой все теми же огромными, голубыми, успокоившимися очами.
Рудак выбрался из своей избы. Точно кошка, неслышными шагами пробрался он во мраке ночи бором, до топкого места на берегу Волги, близ Убогого Дома. На это место весенними разливами наносило много песку. Песок этот теперь от света полной яркой луны, не проникавшего лучами сквозь чащу бора, но лившегося над рекой со всей силой, казался серебристо-голубым.
В тиши ночи, утопая в голубом сиянии, Рудак зарыл тело Вани в этом серебристо-голубом песке. Когда он засыпал песком голову Вани, он низко наклонился над ней. Он точно хотел поцеловать ее. Но огромные, голубые глаза с этой чудной бледной головки, точно отрубленной (остальное тело все было засыпано) и окруженной, точно ореолом, блеском луны на песке, глянули в очи убийцы. Рудак стиснул зубы, закрыл глаза и вдавил эту голову в песок. Навалив на нее песку, бросился бежать прочь. Он бежал неслышными шагами, судорожными скачками по серебристо-синей песчаной глади, отбрасывая летучую черную, зловеще длинную тень.
Глава десятая. «Херувимская…»
Настал восьмой день по убиении Вани. Было раннее утро. Восток только забрезжил первыми лучами солнца. Все еще спали. Только пастухи уже выгнали стадо за город, на волжское побережье, на заливной луг рядом с песчаной прибрежной топью. Коровы и овцы мирно щипали траву. Пастух и его подручный пастушонок лениво бродили между ними. Пастушок, мальчик лет 14, круглый сирота, оперся о посошок и задумался. Он стоял лицом к песчаной топи. Было еще темновато. Топь казалась издали туманно-серой гладью. Над нею, действительно туманом плыла обильная утренняя роса. На заливном лугу, где стоял пастушок, пахло травой, влажной землей. Сироте-пастушку вдруг стало чудно хорошо на душе. Его ребячья смутная мечта уносила его куда-то далеко-далеко — куда, он сам не знал. Вдруг пастушок очнулся. Он широко раскрыл глаза, вытянул шею, посмотрел пристально вдаль… и закричал старшему пастуху:
— Дядя Анфим, а дядя Анфим! Гляди-ка!
— Что ты там, Афоня? — лениво отозвался Анфим, спокойный и медлительный, как все пастухи.
— Ох, дядя Анфим, стою я, это, задумался чего-то. Вдруг ровно Херувимскую запели. Почудилось это мне. Я ажно глаза закрыл — таково хорошо пели. Раскрываю глаза… гляжу… Смотри, смотри.., — и Афоня, точно не в силах окончить своего рассказа, запнулся и молча показывал на песчаную топь вдали.
Анфим прищурил свои старые подслеповатые глаза, подняв к ним пальцы щитком. Он тоже застыл в изумлении. На топи туманно-серых песков что-то мерцало сквозь редеющий туман, как одинокая восковая свеча. Она горела низко над самой топью. Бледное пламя ее было неподвижно. Она точно звала, издали манила своим кротким одиноким огоньком.
— Пойдем, пойдем. Поглядим, — вдруг заволновался Анфим.
Забыв стадо, забыв все, он торопливо заковылял старческими ногами к топи. Афоня молча побежал за ним. Чем ближе были они к свече, тем она казалась ярче. В ушах же Афони, по мере его бега, все громче и торжественнее звучала Херувимская. Но, когда они, увязая ногами в сыроватом песке, подошли к огоньку, свечи не оказалось.
На песке, высунувшись из-под него, лежала бледная похуделая детская ручка, и на рукаве из бледно-зеленой ткани горел ярким блеском серебристый позумент, которым был обшит рукав. Лучи солнца упали на него и переливались в его блеске.
— Афоня, Афоня, ведь это Григорьичев Иванушка! — сразу, ничего более не видя, воскликнул Анфим.
— Он, дяденька, он, — прошептал, перекрестившись, и Афоня.
— Беги, Афоня, сыщи Никифора-то Григорьевича: мол, сына нашли, — торопливо сказал Анфим.
И Афоня, ни слова не говоря, как стрела, побежал к дому Чеполосова. Но что-то ему подсказало, что бедный отец Вани теперь у ранней обедни, и Афоня на бегу свернул к приходской церкви Чеполосовых. И когда он, запыхавшись, схватывая шапку с головы, почти ворвался в церковь, он действительно увидел посреди нее на коленях Никифора Григорьевича. В это время как раз запели Херувимскую. Афоне казалось, что она звучала в его ушах все время, пока он бежал, и теперь только выросла в громогласно торжественный хор. Афоня, бледный, задыхающийся, подошел к церковному старосте.
— Григорьичева Ваню мы с дядей Анфимом нашли… Мертвенький, в песке зарыт, — прошептал он на ухо старосте.
Староста вскинул на него глаза, посмотрел в его лицо… и сейчас же подошел к коленопреклоненному Чеполосову.
— Никифор Григорьевич, — прошептал староста, наклоняясь к уху Чеполосова, — скрепись душой: пастухи Иванушку твоего мертвого нашли.
Бедный отец, изливавший в молитве свое горе, не поднялся с колен. Он сделал медленное широкое крестное знамение, возвел свои полные пережитой муки, но теперь покорно спокойные очи на старосту и сказал тихим, твердым голосом:
— Дайте мне дослушать Божественную Литургию.
Видя изумленный взгляд старосты, он прибавил:
— Бог, объявивый вам тело сына моего, и меня его зрения не лишит. — И снова, стоя на коленях, он углубился в молитву.
Староста отошел. Афоня, молясь в уголке храма, покорно и терпеливо ожидал. Богомольцев было немного.
Перешептывания старосты с Афоней и тихого разговора его с Никифором Григорьевичем никто не расслышал. Обедня продолжалась. Все молились. Но в храме чуялось какое-то неуловимое напряжение. Обедня кончилась. Священник, уже без ризы, в подряснике, показался в боковых вратах иконостаса. Чеполосов встал с колен и подошел к нему.
— Батюшка, — произнес он тихо, но ясно на весь храм. — Тело сына моего, Иоанна-отрока, обретено. Не откажи пойти на место обретения его с причтом отпеть литию.
Священник сделал глубокий поклон Никифору Григорьевичу и вернулся в алтарь. Вскоре он вышел в епитрахили, в сопровождении диакона и причетника. Диакон нес кадило, причетник — деревянное Распятие на высокой рукояти. Чеполосов подошел к старосте. Староста, глубоко взволнованный, молча указал на Афоню. Афоня, молча крестясь, пошел. За ним пошли все. И богомольцы, бывшие в храме, услыша слова Чеполосова священнику, пошли за причтом и несчастным отцом.
Все были потрясены до того, что даже не перешептывались. Но по мере того, как шли по Угличу, прохожие, крестясь, приставали к ним, точно сразу угадывали, куда идет это небольшое шествие.
Пришли к песчаной топи. Анфим-пастух стоял на коленях, низко опустив седую обнаженную голову.
Он осторожно отрыл руками голову Вани. Он смотрел на эту пронзенную ножом детскую головку, на это ясное, точно восковое лицо ребенка с открытыми большими голубыми очами, в которых как будто задремали вечный покой, вечная тишина. Анфим смотрел на это лицо, и старческие губы его неслышно шептали молитвы, на старческих глазах его дрожали слезы.
Шествие из приходской церкви медленно, безмолвно приблизилось к Анфиму. Видя по ножу, воткнутому в голову, явное убийство, все отшатнулись.
Один отец Вани не дрогнул. Тихо склонившись над телом сына, не сводя с него покорно скорбных очей, собственными руками отрыл он его из песку. Тлен не тронул тела.
— Может, от песку, — заикнулся было церковный староста.
Но все с суровым упреком посмотрели на него. Он робко умолк.
Отпели литию. Положили тело на носилки, сплетенные пастухами из молодых пахучих березок, которые нарубили тут же, на берегу Волги, и с пением псалмов понесли тело.
Когда несли по городу, угличане, уже прослышав обо всем, стекались со всех сторон. Не обменявшись ни словом, точно безмолвно согласившись, принесли тело не в дом Чеполосовых, а в приходский храм.
И положили его там, не трогая, посреди храма, на подставку для гробов.
Никифор Григорьевич протянул руки, чтобы вынуть из головы сына нож убийцы, но сейчас же отдернул руку.
— Пусть так лежит в храме, народу открытом. Может, и объявится… — сказал он, возведя очи к небу, и не договорил. Молча встал он на колени у тела сына.
Между тем соседи, оповестив мать Вани, ввели ее под руки в храм. Вошла она шатаясь, рухнула как сноп перед телом и зарыдала на весь храм.
— Он, он! — возопила она.
Все думали, что это она возопила про сына, узнав его. Она же возопила про Рудака. Как молния, догадка про убийцу поразила ее. Но, рыдая, затаила она эту догадку. Хотелось ей увидеть, придет ли Рудак к телу Вани, и как он взглянет на это тело.
А до Рудака также уже дошла весть.
Вбежал в кожевню, где был Рудак, рабочий и закричал:
— Иванушку хозяинова мертвого нашли!
Рудак пошатнулся. Глаза его стали огромными, страшными. Но он выпрямился, точно вырос, и неспешно пошел в храм, где положили тело Вани. И вошел он в храм, посмотрел недвижными очами на тело и отдал медленный земной поклон ему.
Молча смотрела на него Анна. Точно каменный, не дрогнув, постоял он в церкви и вышел.
— Он ли? — ныло мучительным вопросом в голове Анны, точно кровавая рана была в ее мозгу.
А в уголке церкви, не замеченный никем, стоял на коленях сирота-пастушок Афоня.
Он не плакал, не молился. Он издали пристально смотрел на личико Вани, и казалось ему: не то брата младшего нашел он в своей сиротской доле, не то ангела увидел. И сжимал он рукой у себя за пазухой веточку березки с клейкими, душистыми листочками — веточку от носилок, сплетенных им и Анфимом для тела Вани.
Глава одиннадцатая. Супостат
Прошло три дня. Тело Вани лежало в храме. Тления в нем не обнаруживалось. Правда, то было тело до крайности изможденное, истощенное еще при жизни. Но дивная головка ребенка, хотя и изуродованная пронзившим ее ножом, около которого на висках засохла кровь, эта кудрявая мертвая головка дышала неземной красотой. Глаза казались почти живыми, несмотря на их тусклость и неподвижность. Они глядели из-за шелковистых ресниц вверх под купол храма спокойно, уже ни о чем не вопрошая, точно они увидели все, все узнали, все постигли.
Народ валом валил посмотреть на убиенного отрока. Толпе иногда казалось при виде этой головки, этих глаз, что от тела Вани исходит благоухание. Вокруг церкви народ непрестанно волновался, как море.
Воевода и губной староста замучили за эти три дня служилых людей и приставов, ища убийцу. Воевода часто заходил в храм, где было тело Вани, и жадно вглядывался во всех, подходивших к покойнику. Воевода благоволил к Чеполосову, особенно с той поры, как Никифор Григорьевич, отбывая посадскую службу верного (присяжного) старосты при Царском кружечном (винном) сборе, показал свою честность и усердие. Да и не только из расположения к бедному отцу старался воевода найти виновного: непонятное убийство возмущало всех. Но никакие старания губного старосты и самого воеводы не могли открыть следов убийцы. Этому не помогли ни беспрерывные молитвы Никифора Григорьевича о том, чтобы «указание Божие явило супостата-губителя», ни нахождение тела в храме.
Анна, также почти не покидавшая храма, искала в нем, в толпе, только одно лицо. И она нередко видела это лицо. Рудак заходил в храм, смотрел на тело Вани и уходил. И не могла Анна ничего прочесть на его каменном лице. Но это лицо поражало угличан. Рудака нередко спрашивали: не болен ли он? Он отвечал глухо, но твердо:
— Меня томит дума лютая: кто убил? Кто убил?
— Как не томить, — сочувственно качая головами, соглашались угличане.
На третий день после обретения тела Рудак не пришел в кожевню на работу. Он послал мальчишку из слободы сказать, что к нему «хворь малая прикинулась, пересижу, мол, дома».
В этот день, после вечерни, хотели омыть, убрать тело Вани, положить в гроб и похоронить. В народе шел говор, что будто только ножа не вынуть из головы, будто сам Чеполосов уж пробовал вынуть нож, но нож не подался; и будто поняли, что нет человеческих сил, чтобы вынуть этот злодейский нож, впившийся в голову невиннoго страдальца.
Утром в этот день, за обедней, вокруг тела Вани собрались все наболее почетные люди Углича. Воевода стоял в головах тела, сумрачный, как туча. Губной староста виновато потупился за спиной воеводы.
Чеполосов, не вставая с колен, молился. Анна лежала пластом на церковном полу. Вокруг храма, как туча грозная, сгрудились и затихли угличане, обнажив головы при звуках пения, долетевшего до них из храма.
Литургия шла. Служили и соборный протопоп, и приходский священник, и солунский батюшка-учитель. Фимиам от кадила, как благовонное облако, окружал тело Вани. Наступило время проскомидии. Царские врата были заперты. Священнослужители находились в алтаре. Настала торжественная, благоговейная тишина. Вдруг в открытые окна храма с улицы донесся глухой гул, точно гром прокатился. Толпа, окружавшая церковь, разом зароптала, загудела, застонала.
Воевода бросился к окну. Он увидел в окно: толпа раздалась с ревом надвое, и между нею кто-то быстро бежал, точно сумасшедший. И тотчас же зашумели и бывшие в храме; кто-то дико ворвался в их толпу, растолкал ее и бросился к телу.
То был Рудак. Ворот его рубахи был разорван, волосатая грудь обнажена. Судорожно сжатая рука сдавила на этой темной груди нательный крест, точно хотела и его сорвать. Никто не успел опомниться в храме, как Рудак молнией пересек стеснившихся богомольцев, ринулся к телу, схватил рукоять ножа, торчавшую из головы, и, несмотря на то, что нож запекся и сильно присох в голове, одним взмахом вырвал его. И, кидая нож с размаху на пол, он воскликнул:
— Мой нож! Я — супостат!
Все ахнули, как один человек. Анна вскочила, вся вытянулась, и слезы градом хлынули из ее глаз, словно слезы облегчения. Никифор Григорьевич воздел руки и так и застыл с мучительной болью в лице. Но, когда Рудак рванул нож, голова убитого сильно тряхнулась и его раскрытые до этих пор очи закрылись почти прозрачными, бледными веками. Рудак это увидел. Все лицо его затрепетало. Левая рука, рвавшая с шеи нательный крест, выпустила его из пальцев, и вдруг, разом неудержимо зарыдав, он рухнул на колени перед телом Вани. И сквозь рыдания он восклицал громко, на весь храм.
— Простил, простил! Закрыл свои очи. Православные! Каюсь… Убил я… Мучил, терзал, бил, морил голодом, заживо, как в гробу, гноил… Но любил, любил. Один я… Один, как перст. Острупело сердце мое. Ровно безумного, потянуло к Иванушке: «Будь мой, будь мой. Отрекись от отца, матери. Отторгнись дому родительского. Пресыть душу мою любовью ангельскою». — И вот мучил-мучил. Потом пожалел. Хотел вернуть отцу, матери: «Солги, мол, солги… да не ведают окаянства моего». — Душонка-то, ровно червь, от страха суда человеческого закорчилась. — А он: «Не могу, умолю родителя простить, помиловать». Никифор Григорьевич! Сугубо грешен пред тобою! Ненавидел тебя за любовь к тебе Иванушки, скрывал, таил злобу, ненависть. А как подумал: «Ты, ты меня помилуешь», — полымя пошло по сердцу. Не стерпел, не снес… Убил… Зарыл… Таил… Тянуло, тянуло смотреть. И вот ходил в храм Божий… глядел на дело рук своих. Но не вынес… Не страха ради государева каюсь. Замучил меня Иванушка. Дни и ночи, дни и ночи открытыми глазами на меня смотрел… в душу-то мою. Пронзил он мне душу очами своими мертвыми… И вот закрыл… Простил, простил… — И Рудак, ползая на коленях перед телом Вани, заглядывал на его теперь закрытые глаза, точно еще не верил, что они закрылись.
Священство продолжало, по долгу своему, литургию, не прерывая ее. Богомольцы в храме, точно окаменев, слушали эту страшную исповедь под тихие возгласы иереев и пение клира. Чеполосов, вытянувшись, во все глаза смотрел на Рудака: мучительная боль не сходила с его лица. Анна тихо плакала обильными слезами. В окна церкви доносился все возрастающий рев толпы, стоявшей вне храма. И когда Рудак смолк, несмотря на рев, на пение клира, казалось, что в храме воцарилась мертвая тишина. И раздался голос воеводы:
— Взять за приставы. Заключить в темницу, в крепость. Учиним суд государев. Да чтобы народ не разорвал.
И выступили из толпы приставы, схватили, повлекли Рудака. Он точно не замечал, что его влекут. Он рвался, вытянув шею, и все смотрел, смотрел на закрытые очи Вани. Богомольцы отталкивались от Рудака, когда влекли его между ними. Когда его вытащили из храма, народ зарычал, как дикий зверь. Едва оберегли приставы Рудака от суда народного. И заперли Рудака в углицкий замок, в тот самый, где королевич Густав томился на чужбине, читая книги, доставшиеся от отца Рудаку. И, брошенный в оковах на солому, обливаясь слезами, Рудак не переставал шептать:
— Закрыл, закрыл… Простил, простил.
Глава двенадцатая. Сонное видение
Литургия кончилась. Воевода попросил Чеполосова отложить погребение до окончания суда над убийцей. Духовенство и народ разошлись, шумя, как море после бури, глухим раскатистым гудом-говором.
Чеполосовы пошли домой. Друзья и соседи окружали их. Никифор Григорьевич всю дорогу сокрушенно шептал:
— Ах, братенник, братенник.
Анна же все время повторяла сквозь слезы:
— Чуяло мое сердце, чуяло, вещее…
Друзья и соседи понемногу разошлись… Чеполосовы остались дома одни. Им нужно было отдохнуть. Много еще терзаний ждало их во время опроса и суда. Придется бередить и без того наболевшую рану.
Никифор Григорьевич лег в большой горнице на лавке, устланной ковром. Лежал он, подперев скорбную голову рукой. Сон не шел к нему.
Анна же, вся точно изломанная, упала на высокую, мягкую постель в своей горнице. Больше трех недель почти не знала она сна. Но Рудак повинился — точно гора свалилась с ее груди. Правда, в кровь раздавленная этой горой грудь ныла и болела; но то была боль хотя и глубокая, но уже тихая. Эта боль не гнала сна, она звала его, как ангела-утешителя. Опухшие, отяжелевшие от слез и бессонницы веки Анны сомкнулись, едва голова ее коснулась подушки. Она уснула; уснула тихо, глубоко. Но она спала и знала, что во сне ее ждет что-то небывалое, радостное и дивное, которое не поразит ее, не испугает…
И это дивное, небывалое начало свершаться.
Горница наполнилась благоуханиями. То не был запах цветов или фимиам ладана. То было незнакомое ей, неземное благоухание. Оно проходило в самую глубь ее души, как будто в этой душе невидимо, один за другим, расцветали небесные, чудные цветы…
Розово-золотистое сияние разлилось по всей горнице, ровное, тихое, не ослепительное, но упоенное светом. Оно становилось все ярче, светлее… Но розово-золотистый оттенок таял в нем, и сияние было уже серебристо-белое, точно отблеск от лебединого крыла, озаренного утренним солнцем. Но и эта белизна незаметно растаяла. Синева, глубокая, светлая, искристая синева, точно переполненная мириадами звездных лучей, выступила из-под исчезавшей белизны сияния. Невидимые цветы в душе Анны благоухали теперь с могучей силой. Анна была спокойна, она знала, что это значит.
Он должен был явиться к ней…
И он явился. Он точно выплыл из светящейся синевы. Он был в том же разорванном одеянии, босой, с подтеками, с ножом в голове. Но чем ближе несся он на невидимых крыльях к Анне из глубины этой чудной небесной синевы, тем более изменялся. Одежда его обратилась в белое, прозрачное, серебристое одеяние, похожее на подрясник, но без пояса; босые ножки стали совсем прозрачными, ослепительно белыми и нежными, бесконечно нежными; синяки и подтеки на лице исчезли, и нож тихо вышел из его головы, поднялся над нею. И то был не нож с поперечиной на рукояти, а светлый, золотистый крест, и сияние от этого креста дивным ореолом окружало его лицо.
А на лице этом Анна не видела ничего, кроме глаз. Закрывшиеся в храме, они теперь открылись. Как две голубых небесных звезды, сияли они. Все существо его матери как будто начало сладостно таять в блеске этих очей. И раскрылись его уста, нежные и бледные, как лепестки белых ландышей, и голос его, его земной, столь родной, столь милый для матери голос, нисколько не изменившийся, полный любви и кротости, ясно, раздельно вымолвил музыкально-певучими звуками:
— Скажи людям: пусть не казнят его, пусть отпустят, пусть не прольют крови. Прощен, прощен, прощен… — И это троекратное «прощен» точно уже не он произносит. Не он, ее просветленное, вознесенное на небо дитя, а какой-то невидимый хор.
И видит Анна: вырастают у него лучезарные крылья, и поднимается он все выше, выше, уносится все дальше, дальше. Уже как звездочка мерцает он вдали. Анна следит за ним, вытягивает голову, приподнимается в постели… И в жажде все видеть, видеть его, пока он совсем не унесся туда, в этот незримый, дивно поющий хор, в эту лучезарную небесную синеву, Анна растирает глаза и раскрывает их…
Темноватая горенка слабо освещена масляной лампадой перед образницей, киотом. Анна сидит на постели. Перед ней стоит Никифор Григорьевич. Он жадно смотрит на нее, он берет ее за руку.
— Не спалось мне, Анна, — говорит истомленным голосом он. — А ты… что с тобой?
— Ваню я видела! — восклицает Анна и, вся дрожа, рассказывает свой сон.
Молча, побледнев, широко раскрыв глаза, выслушал ее Никифор Григорьевич. Долго молчали они, когда она кончила рассказывать.
— Не могу я, не могу я.., — вдруг простонала Анна, — отпустить его, супостата, змею подколодную… Нам же и молить воеводу о том… — Она не могла договорить.
Низко опустив голову и потупив глаза, стоял Чеполосов.
— Сонное видение. Не всякому сонному видению верить подлежит, — как-то потерянно пробормотал он.
Они не глядели друг на друга. Они точно боялись взглянуть друг другу в глаза. Они опять молчали. Никифор Григорьевич медленно пошел прочь от жены в большую горницу. Как подкошенный, упал он в тоске на лавку, покрытую ковром.
Анна опять прилегла на постель. Но не смыкались ее очи. Широко раскрыв их, лежала она, и, точно змея, непонятная скорбь исподволь впивалась в ее сердце. Долго она так лежала. Вдруг в дверях появился Никифор Григорьевич. Он был бледен, как снег. Глаза его точно посветлели от тоски и ужаса. Анна вскочила с постели и бросилась к нему.
— Он и тебе явился? И тебе явился? — возопила она.
— Явился… Заснул я. Вдруг заснул… и видел все то же, что и ты. И тоже молвил Ваня: «Пусть отпустят… пусть не прольют крови». Но не печален был лик его… — простонал Никифор Григорьевич.
— Отпустить… не пролить крови… аспида… супостата… губителя… — воскликнула Анна и, боясь взглянуть на мужа, спрятала на груди его свое лицо.
Ее била сильная дрожь; зубы ее стучали. Дрожал и Никифор Григорьевич, прижимая к груди жену, точно оберегая ее от какого-то чудовища; и поникли они на постели рядом, прижимаясь друг к другу.
И опять дивные благоухания разлились вокруг них… И опять небесная синева выплыла из белого блеска и розового сияния. И опять явился он, видели его уже оба враз. Нож был снова вонзен в его голову. Подтеки снова выступили на лице, и глубоко скорбно было это лицо. Мука бесконечно горела в голубых глазах, в этих небесных звездах. И молвил он строго, повелительно:
— Если не отпустите, прольете кровь, не узрите меня ни здесь, ни в будущей жизни.
Как нож, ударили его слова в сердца родителей. Мгновенно оба раскрыли закрывшиеся в изнеможении очи. Яркий день сиял в окнах горенки.
Взглянули они в очи друг другу и поняли друг друга. Молча вышли из спальней горенки из своего дома. Молча и спешно пошли к съезжей избе. Знали они: рано утром назначил спрос Рудака воевода.
Дивное июльское утро освещало их путь своими лучами. Даже мрачную, низенькую съезжую избу, где в ту пору творили суд и расправу, точно молодило солнце.
Воевода вышел творить спрос на крыльцо съезжей. Губной староста стоял рядом с ним, на приступочке крыльца. Толпа угличан теснилась в отдалении перед крыльцом. Приставы отодвигали ее длинными палками, когда толпа напирала вперед.
Солнце играло лучами на золотистых, русых и серебряно-седых обнаженных головах.
И в одно и то же мгновение справа к избе подошли Чеполосовы, слева — приставы, которые приволокли из темницы Рудака. Его мертвенно-бледное лицо было спокойно, он походил на начавшего выздоравливать опасно больного. За ним, как послухи, шли свидетели-пастухи: Анфим и Афоня.
Анна и Никифор Григорьевич увидали Рудака. Разом опустились они на колени пред воеводой.
В один голос взмолились они:
— Воевода государев! Не казни! Отпусти злодея.
Толпа загудела. Воевода ушам своим не верил. Рудак поднял голову и задрожал. Анна же, не вставая с колен, ясно рассказала все три явления убиенного отрока.
— Великую муку, борьбу пережило наше сердце родительское в эту ночь… Казни жаждало оно злодею-губителю. Но покорило дитя наше злобу нашу…
— Отпусти злодея, воевода… Молю тебя, — воскликнул, не вставая с колен, Никифор Григорьевич, когда жена его кончила рассказ.
Мертвая тишина настала вокруг съезжей избы. Ужас напечатлелся на лице Рудака. Анфим и Афоня плакали, утирая рукавом рубахи слезы.
— Староста, — дрожащим голосом обратился воевода к губному старосте, — тебе ведомо убойное дело?
— Судья ли я в этом деле, воевода? Кажись, Сам Бог… — задрожал еще больше голос губного старосты.
И загудела толпа народная, как один человек:
— Сам Бог… Сам Бог…
Воевода окинул орлиным взглядом народ и сделал медленно крестное знамение.
— Волею государя моего, царя-батюшки, — вдруг, точно колокол, раздельно и веско загудел его голос, — по указанию Божию, отпускаю, людие, сего супостата… — он торжественно указал на Рудака рукою, на которой, как упавшая с неба звезда, сверкнул драгоценный перстень — царское жалованье.
— Отпускаю сего супостата на все четыре стороны, — продолжал воевода все громче. — Но паче всего повелеваю: приставы, служилые люди, и вы, люди всякого звания и промысла, люди малые и большие, отвратитесь от злодея, предоставьте его Судье Вышнему.
Рудак точно не понимал до сих пор, что вокруг него происходит. Но при этих словах воеводы он рванулся к крыльцу съезжей, упал к ногам воеводы и, хватая эти ноги руками, влачащими тяжкие цепи, закричал мучительным воплем:
— Не милуй меня!.. Казни меня! Пытай меня! Тяни из меня жилы. Лей мне на выю свинец топленый! Муки просит душа моя окаянная… муки, муки! — И он колотился головой о ступени крыльца, ловя ноги воеводы.
— Вот, она, кара Господня. Вот она, геенна огненная… — загудел народ.
Воевода же отшвырнул ногой Рудака, извивавшегося в тоске, в прахе, как червь.
— Гей, приставы, — крикнул воевода, — вышибите супостата из города, чтоб и окрест Углича его не было! Вышибите, не трогая злодея!
И навалились пристава на убийцу, сорвали с него цепи и затеснили его плотной стеной, не трогая руками; затеснили, погнали за заставу, за бор. И, шатаясь, падая и пятясь, Рудак отступал от них, стеная:
— Казните! Пытайте, убейте… Никифор Григорьевич… мать Анна… Умолите ангела Божьего послать на меня молнию огненную, да поразит, испепелит меня…
Но отвратили от него лицо Чеполосовы. Приставы его теснили, гнали все дальше от съезжей. И он умолк и вдруг побежал, спотыкаясь и падая. И шли за ним стеной приставы, а за ними, как туча темная, грозу затаившая, двигалась толпа народная.
Воевода же, губной староста, Чеполосовы, многие наибольшие люди, все точно в светлом оцепенении, точно созерцая видение, о котором рассказала Анна, пошли в храм, где лежало тело отрока. И вошли в храм, и омыли тело, одели одежды чистые и погребли тело в самом храме, где и поныне покоится отрок.
А Рудак все бежал; падал, поднимался, опять бежал. И гнали его приставы, и гудела вослед им толпа. Вдруг народ бросился в сторону: он ринулся в слободу, к избе Рудака. Обложили избу хворостом и подожгли, и сгорели и ларь, где томился отрок, и книги мудрецов: Гебера, Рожера, Бэкона, Альберта Великого, Риплея Кардопуса — все эти “сокровища” старого Запада, помутившие скорбную душу и мысль Рудака. А Рудак все бежал, падал, поднимался и опять бежал. Оставили его приставы только тогда, когда он скрылся в темной, непроходимой чаще.
Через месяц, охотясь с соколом в бору, воевода чуть не вылетел из седла. Конь его, внезапно захрапев, отшатнулся в сторону. Он наступил на мертвое тело, полуизъеденное уже червями, но голова была еще не тронута. Воевода узнал Рудака.
Не узнал только воевода, что Рудак в бору, где он когда-то рыдал ночами, истязая Ваню, добровольно, не ища пищи, уморил себя голодом.
По-разному это предание рассказывается народом в Угличе. Не совсем так оно записано и в монастырской летописи, но во всем, что в нем есть трогательного, возвышенного, доброго, и повесть эта, и летопись, и молва народная согласны.
В. М. Михеева
Вторая жизнь человека
Психологический очерк нашей будущей жизни
I
Стоял тихий летний вечер. Только что зашедшее солнце озаряло своими золотыми лучами верхушки домов и деревьев, придавая им желто-багровый, золотистый оттенок.
Тонкий, ароматный воздух наполнял собою все, лаская приятною негой и теплотой.
В открытые окна моего кабинета вливались эти благоухающие струи нежного и тонкого эфира.
Начинало понемногу темнеть. Вот показался серебристый месяц, тихо и плавно плывущий по небу. То тут, то там вспыхивали и мерцали фосфорическим светом далекие звезды. Я сидел задумавшись и изредка глядя на глубокую даль темно-синего свода.
В углу кабинета тихо мерцала лампада перед Ликом Спасителя в терновом венце, и ее свет, переливаясь через разноцветные камни оправы, как бы оживлял этот страдальческий облик.
Когда я на мгновение оторвался от своего созерцания и взглянул в ту сторону комнаты, то мне показалось, что кровавые пятна струятся по Лицу Спасителя и как бы тихие вздохи доносятся оттуда.
Я задумался, и вновь мне в голову пришла мысль о будущем существовании человека по окончании его земной жизни. В последнее время я нередко думал об этом под влиянием разных прочитанных книг о психофизической природе человека, о бессмертии его души и еще более — под влиянием современного отрицания загробной жизни человека. И вот теперь, в уединении и тиши своего кабинета, я задавался вопросами: Что будет с человеком после его смерти? Какова его будущая жизнь? Мне хотелось проникнуть за ту таинственную завесу, что отделяет потусторонний мир от взоров человека. Страстно желая как-нибудь получить ответ на эти вечные вопросы, я всею силою воли вызывал в своем представлении отошедшие образы тех, кого я любил при жизни. Мне хотелось видеть хотя бы облик их дорогих лиц.
Не знаю, долго ли я предавался этим думам, но вот какое-то новое неяснoe беспокойство стало овладевать мною. Что-то забытое и давно прошедшее смутно вырисовывалось в моем воображении, и как-то грустно и в то же время сладостно стало на душе.
Гуще и гуще сливались тени надвигавшейся ночи, и ярче выступал скорбный Лик Спасителя. Вдруг словно тихое дуновение ветерка повеяло по всему кабинету: что-то или кто-то незримый как бы пронесся мимо. Я вздрогнул. Против стола, стоявшего передо мною, я увидел лицом к себе знакомое очертание фигуры недавно умершего своего близкого родственника, с которым был очень дружен при его жизни. Фигура эта была как бы соткана из беловатого дыма и облака и пристально глядела на меня. Я словно оцепенел и в первое время не мог издать ни одного звука.
— Не бойся и не смущайся! — скорее почувствовал я в своем сознании, чем услыхал его слова, ласково обращенные ко мне.
— Ты так сильно желал видеть кого-либо из нас, и вот я получил возможность навестить тебя. Не сомневайся и верь, что я существо, а не призрак.
Эти слова — как бы тихий, но внятный шепот — подействовали на меня успокоительным образом, и я мало-помалу начал приходить в себя.
Я стал смелее разглядывать его и затем стал внимательно слушать его речь, с которою далее он обратился ко мне, предварив меня, что он знает, что меня волнует в последнее время, и поэтому сообщает все то, что может воспринять мой разум и чувства.
— Я, — сказал он, — начну с того момента, когда расстался с землей. Ты помнишь, конечно, наше последнее свидание во время тяжкой болезни моей, когда я, чувствуя, что больше не увижусь с тобой при прежних условиях земного существования, простился с тобой?
Я кивнул утвердительно головой.
— Ты, — продолжал он, — и семья твоя вскоре уехали, и вот наступила последняя ночь моей земной жизни. Я вполне ясно сознавал, что умираю: страхом и трепетом было объято сердце перед неизвестностью того, что будет. Как совершится самый факт смерти? Что будет потом? Да и будет ли? Вот что страшило меня.
По моему настоянию был позван духовный отец мой, перед которым я, сколько был в силах, открыл всю свою жизнь с самого раннего детства. Долго-долго беседовали мы, и я значительно спокойнее стал чувствовать себя после его напутствия. Почти твердо прощался я со своей семьей. Жена и дети не могли сдерживаться и, наклоняясь надо мною, горько плакали, а я, сколько мог, старался утешить их, хотя по правде-то у самого сердце рвалось на части.
Но вот что-то как будто стало стихать, стало останавливаться и открываться во мне. Я чувствовал, что в глазах моих темнеет и я как бы стремительно несусь в глубокую, бездонную пропасть. Инстинктивно схватил я руку моей жены и крепко сжал ее своими холодеющими пальцами. Чувствуя, что все более и более застываю, я наконец потерял сознание и представление обо всем меня окружающем.
Долго ли продолжалось это состояние, не знаю. Когда я стал вновь сознавать себя, то первое ощущение мое было таково: я чувствовал какую-то воздушную легкость в себе и необъяснимую возможность свободы, быстрого передвижения своего в любую сторону — свободу, не стесняемую ни пространством, ни временем. Это так заинтересовало и изумило меня, что я совершенно позабыл обо всем, что только что случилось со мной.
Воспользовавшись своим новым положением, я стремительно поднялся высоко вверх и стал носиться по разным направлениям. Я стал замечать еще нечто новое в моем существовании: я получил возможность видеть и проникать даже в самые отдаленные вещи и предметы; конечно, я после понял, что это было духовное видение вещей, а не телесное.
Далее я получил способность говорить, петь, кричать, но не звуками, а мыслями: я мог осязать все предметы, но не руками или ногами, а чувствами или ощущениями, которые во мне развились до поразительности. Все, прежде неуловимое и неосязаемое для меня, теперь я мог как бы обнимать своими ощущениями.
Силою воли я мгновенно преодолевал самые отдаленные пространства, и никакие вещественные препятствия не могли задержать меня. Вот почему ты и не заметил, как я явился сюда. Достаточно самого малого отверстия, самой малой поры, чтобы все мое теперешнее эфирное “тело” могло проникнуть куда угодно. Это “тело”, как ты видишь, имеет способность сжиматься и расширяться, свертываться и растягиваться по своему желанию, принимая снова вид и форму прежнего тела.
Для меня наконец стало ясно и прошедшее, и будущее. И так, никем и ничем не стесняемый и никем и ничем не задерживаемый, я предался полному испытанию своих способностей и чувствовал, что я поразительным образом как бы переродился весь.
Но вот, когда я освоился со своим новым положением, что-то мелькнуло в моем сознании: я почувствовал, что меня неудержимо влечет вниз, к чему-то мною оставленному и как бы потерянному.
Мгновение — и я в своем доме. Но что представилось моему мысленному взору? Я — здесь, в своем доме, и другое “я” лежит на столе, одетое во все чистое, почти новое, оно как бы спит глубоким сном. Зачем же кругом раздаются вопли и плач моей жены, моих детей? Зачем все они окружили стол, на котором лежит мое второе “я”? Тут только я понял и вспомнил, что я уже кончил с землею, что я, находящийся здесь и никем не замечаемый — это душа моя. Невыразимая грусть и тоска сжали мое сердце, хотя это ощущение я уже сознавал только духовно и, конечно, не мог ощущать телесно.
Кончив свои слова, мой собеседник остановился, как бы собираясь с мыслями. Я, воспринимая своим сознанием его слова, оправился от своего смущения и отчасти с удивлением, отчасти с любопытством слушал своего собеседника. Теперь, как я заметил, фигура его вовсе не сидела в кресле, а как бы колебалась в воздухе, только представляясь в сидячем положении. Мой таинственный и неземной собеседник продолжал:
— Когда я увидел слезы моей жены и детей, когда я почувствовал их скорбь и печаль, то у меня явилось желание дать знать о себе, о своем присутствии. И вот, как бы живой, я, обратившись к ним, стал громко говорить о том, чтобы они перестали горевать и плакать. «Ведь я же здесь, с вами, — говорил я им, — перестаньте».
Я называл каждого по имени, утешал их, но, к своему удивлению, заметил, что они или не слышат, или не хотят обращать на это внимания. Я усилил голос, стал кричать, подходить к жене, детям, обнимал их, но и это не производило на них никакого впечатления. Конечно, все это приводило меня в сильное горе, угнетение и печаль, ибо я уже позабыл о своем перерождении, забыл, что новое мое “тело” не материально, а лишь духовно. Тяжело и мучительно было мое состояние.
Но вот пришел мой бывший духовник, и началась молитва около моего тела. Эта молитва произвела на меня утешительное действие, я почувствовал облегчение своего угнетенного состояния. Затем мне, когда все мое семейство по окончании службы, утомленное от впечатлений и переживаний, успокоилось сном, помнится мое грустное скитание по всему жилищу. Невыразимое чувство одиночества, оставленности и забытости овладело мною, и в печальном настроении бродил я по своим комнатам, прикасаясь то к разным вещам и предметам, дорогим для меня при жизни, то к спящей жене и детям.
Наступило утро. Я вспомнил о своих прерванных земных делах и, вновь позабыв, что я невидим и не сознаваем людьми, начал, когда все проснулись, объяснять жене, что и как надо устроить из моих дел, как теперь ей самой распорядиться своей дальнейшей жизнью. И я с поразительной обстоятельностью развивал ей свои мысли и взгляды, а она, бедная, сидя перед моим письменным столом, грустно-грустно глядела на все, оставленное мною, конечно, не видя и не слыша ничего из моих усилий помочь ей.
Тоска, тяжесть и угнетение снова охватили все мое существо от сознания того, что меня не видят, не слышат, не понимают. Это состояние еще больше ухудшилось, когда собравшиеся родные и знакомые, кроме немногих, искренне горевавших от разлуки со мною, лицемерно высказав знаки участия, повысказывали между собой много такого про меня, что, конечно, сдерживались говорить при моей жизни. Были высказаны и обиды, и злорадство, и зависть, и споры о наследстве, и зложелательство.
Я, слыша все это, чувствовал, что многое из этого заслужил своим отношением к ним при жизни. Как хотелось мне перед всеми, мною обиженными, раскаяться и примириться, но я вспомнил, что только что получил урок, что все это будет тщетно.
Вот почему особенно утешительно подействовала на меня новая молитва о моем упокоении, которое действительно сошло на мою мятущуюся душу.
Когда в моем доме снова наступила тишина, я начал чутко вслушиваться в чтение, раздавшееся около моего тела. Это чтение слова Божия из Святого Писания впервые после обретения моего нового существования напомнило мне о чем-то необычайном, ожидающем меня.
Безотчетный страх овладел мною, моим сознанием от мысли об ответе, который мне придется дать за мою земную жизнь. Все мое существо трепетало от ужаса, и я невольно как-то стал искать защиты, поддержки где-нибудь на стороне, опоры в ком-либо, однородном со мною. Отчаяние и невыразимая тоска все более и более охватывали все мое существо.
Но вот, словно яркий луч, что-то как бы прорезало новое “тело” мое, и около себя я почувствовал какое-то существо. Я мог ощутить и в то же время видеть его своими духовными очами. Оно было несколько подобно мне, но, как я сознавал, неизмеримо выше и чище, и светлее меня. Неописуемый свет исходил из него, бесконечно добрым и ласковым было его выражение, и неземная красота и любовь виднелись в нем.
Приблизившись ко мне, оно ласковым и вместе сочувственным выражением стало внушать мне ободрение и утешение. Я понял, что это обитатель того мира, тот самый «Ангел-хранитель», о коем знали мы в земной жизни, что он есть у каждого из нас, но которого, конечно, мы не могли видеть по ограниченности своей природы и чувствовать по отдалению своему от него своими земными делами. Я ничего не мог выразить перед ним, и только ощущал то сладостное, успокоительное чувство, какое плачущее и горюющее дитя ощущает около своей любящей дорогой матери.
II
Наступило наконец время предания тела моего земле. Удручающее впечатление испытывал я от всего происходившего в это время. Я рвался, метался между семейством и родными, которые с горькими воплями прощались со мной, с моим телом.
Только Божественная служба и молитва за меня производили отрадное и успокоительное действие. О! Если бы знал духовный отец мой, какое утешение испытывал я от искренней молитвы за мою мятущуюся душу…
Когда гроб с телом моим стали зарывать в землю, то невольно я как бы чувствовал болезненное ощущение, невыносимую тяжесть во всем существе моем: как будто против моей воли тянуло и влекло меня в землю к телу.
Тяжело подействовало на меня потом так называемое поминовение, где собравшиеся почти совсем забыли, что привело их сюда, и вели себя так, что с горечью приходилось сознавать ненужность этого обычая, и с грустью я чувствовал, что также поступал сам при жизни, не сознавая, что этим причиняется лишнее страдание душе. Хотелось дать всем понять, что не это нужно для души. Находящийся все время со мной благожелательный мой покровитель дал мне понять, чтобы я отрешился от всего земного и готовился к предстоящему предъявлению себя Всемогущему Творцу и Создателю. Это вселило во все существо мое неописуемый страх и ужас. Я чувствовал свою неподготовленность, я сознавал свое недостоинство. Страшная робость и трепет за сознаваемую неправду своей земной жизни овладевали мною. Однако надо было следовать за моим спутником.
Мы стали подниматься за грань этого видимого мира. Теперь я вполне и окончательно понял, что все земное кончилось для меня. Передо мной открылась Вечность. Вечность, никогда не оканчивающаяся, а всегда только начинающаяся.
Невыразимым ужасом был поражен я от ее беспредельности. Все мое существо, все мои чувства, все мысли содрогались от этой бесконечности. И вот, по мере того, как мы поднимались, передо мной предстала картина всей моей прошедшей жизни, с самого раннего детства до последней минуты.
Как в калейдоскопе, как в бесконечной ленте вашего кинематографа, я видел всю свою жизнь, с ее страстями и увлечениями, с ее пороками и заблуждениями. Все это — до самых мельчайших подробностей: все мои дела, поступки, все речи, слова, мысли, чувства, ощущения, желания, даже не осуществленные, предстали предо мной с поразительной ясностью. И что я мог почувствовать к самому себе, когда увидел всю грязь, всю пошлость, преступность и безнравственность своих дел, поступков, желаний и ощущений?! Ведь если в земной жизни мы нередко испытываем укоры совести за уклонение от требований нравственного закона, хотя скоро и забываем их, то представь себе, что испытывал я и что будете испытывать вы все, когда увидите все это перед собой. К этому тяжело-мучительному состоянию присоединилось еще сознание того, что весь я со всей мерзостью своей жизни видим, как обнаженный, всеми окружающими меня существами.
Представь себе, если бы кто-либо из вас, покрытый язвами и гнойными струпьями, принужден был пройти обнаженным по городу и явиться в царские чертоги среди блестящего общества, что бы он почувствовал?
Подобно этому состоянию, только в неизмеримо худших условиях, находился я, ибо там, у вас, это имеет конец, а здесь — нет; здесь все вечно. И я старался не видеть всего этого, скрыться куда-нибудь, старался уменьшить скверность своей жизни, оправдать перед самим собою преступность и виновность свою.
Но куда бы не отвращал я свои мысленные взоры, всюду преследовали меня эти образы моей жизни, и сознание своей виновности все более и более увеличивалось. Но временно я чувствовал, впрочем, отдых и нравственное утешение после нестерпимых мук стыда и отчаяния, когда встречалось что-либо доброе и хорошее, сделанное мною в жизни, но, к сожалению, этого сделанного было так ничтожно мало, что отчаяние сильнее овладевало мною: сверхъестественный ужас и трепет сковали все существо мое при мысли о том, как я предстану перед Тем, к Кому возносилась душа моя.
О! Если бы можно было вернуться назад!
О! Если бы можно было начать новую жизнь — жизнь добрую, честную и нравственную!
Я изнемогал. Я как бы сгибался, падая под тяжестью преступности своей земной жизни.
Мой спутник, не препятствуя мне внутренне совершать всю мою жизнь, чувствуя мое отчаяние и угнетение, ободрил и успокоил меня, внушая надежду на милосердие, видя мое предсмертное раскаяние.
Мало-помалу видения моей жизни стали реже тревожить меня и наконец мы как бы миновали страшный и ужасный путь истязания и самообнажения. Мы поднялись в необычайные сферы, и я увидел такие вещи и такую жизнь, для изображения которых у вас, земных, нет ни образов, ни наименований.
Сколько бы я ни старался внушить тебе, что со мною было, по ограниченности своего ума ты ничего уяснить не сможешь. Могу только сообщить тебе, что слышал то, что на земле не может быть изображено ни какими-нибудь звуками, ни какими-либо голосами. Я видел бесконечное море непостижимого света — света, перед которым солнце светит слабее, чем свеча перед нами. Я встречал существа также духообразные, но чистейшие и светлейшие в совокупности всего того, что есть самого возвышенного, чистого и святого на земле.
Представь в своих мыслях все то, что гений человеческого ума мог придумать для изображения апофеоза славы и могущества, и у тебя не получится даже самого слабого понятия о том, что есть в действительности.
Одно скажу:
— Верь, живи, как должно, молись и надейся!
Сказав это, мой собеседник некоторое время помолчал, как бы дав мне возможность лучше запечатлеть его слова.
III
— …Следующим периодом моего загробного существования, — так после паузы начал мой собеседник, — было знакомство и общение мое, под руководством моего покровителя, с себе подобными же существами по природе, но светлыми, чистыми и добрыми. Они обитают в высших областях того мира, где в бесконечном свете живет Источник и Прообраз всякого добра, в сообществе таких же светлейших и чистейших существ.
Природа и жизнь этих существ — одно необъятное добро, одна невыразимая любовь. Непостижимый свет наполняет все их существо и сопровождает каждое их движение. Со многими из них я вступал в духовное общение и получил ответ на волновавшие меня мысли: отчего они не мятутся и не трепещут, подобно мне, отчего они так покойны, радостны и довольны.
Вера, искренняя, сердечная вера в Бога, любовь к Нему, их покорность Промыслу Божию, их любовь к ближнему, добрые слова, мысли и желания, которые они проявляли во время своей земной жизни, здесь получили свое полное развитие. Здесь они ясно совершают то, во что верили при жизни; для них подняты все таинственные покровы и завесы. Их ясным взорам открыт весь чудный план пути мудрости и могущества Божия.
Самые непонятные распределения Промысла Божия, самые, по-видимому, несправедливые и тягостные обстоятельства в земной жизни являются перед ними самыми целесообразными, по-отечески мудрыми. Вся мировая система открыта перед ними, они знают, по каким законам и с какой целью тяготеют в пространстве эти блестящие шары, множество которых смущало ваши взоры и мысли; они легко удовлетворяют свою любознательность и везде находят блестящее свидетельство Могущества, Премудрости и благости Творца.
Представь же себе, какие неведомые возвышенные наслаждения черпают они в этом откровении тайны мироздания. Но мало того. Своею праведной жизнью на земле они приготовили себе еще большее наслаждение. Они всегда видят, находятся в общении со своими друзьями, родными по духу, с теми, кои также, как и они, жили честно и правдиво на земле. Они испытывают радость, встречая там обращенных ими, их увещеваниями, их просьбами, молитвами на путь доброй жизни; все существо их ощущает постоянное утешение при встречах с ими облагодетельствованными: бедными, коим оказывали помощь, страдающими и больными, коих навещали, несчастными, коим оказывали поддержку и охраняли от уныния и падения.
Но верх наслаждения и блаженства этих существ составляет их живое общение с Богом и лицезрение Его, Которому близки они, как любящие дети — любимым родителям. Кроме сего, они находятся в непрестанном общении с высшими существами, и все положительные свойства добра и нравственности, какие они проявили в своей земной жизни, развиваются здесь до бесконечности, доставляя этим им полное удовлетворение. Вследствие всех этих свойств они имеют право и возможность ходатайствовать перед Всемогущим о всех земных, омраченных суетами мира. Конечно, все их блаженство, которое по справедливости есть райское, я объясняю постольку, поскольку может вместить твой разум. Полного представления о сем предмете ты вместить не можешь, как не может дитя, не развившееся умом, уяснить себе прелести и художественности какого-либо дворца и чертога. Созерцая их блаженное состояние, я чувствовал страстное, непреодолимое желание остаться с ними, разделить их блаженство, хотя и сознавал свое недостоинство; а это сознание, конечно, угнетало меня.
Но мне предстояло видеть еще нечто другое, о чем было сообщено, и что заставило меня мыслить с непреодолимым страхом и боязнью. Мне были показаны все ужасы, все беспредельные страдания, невообразимые муки существ, подобных мне, но живущих и действующих лишь одной злобой, одними отрицательными качествами, как жили и действовали они в земной жизни.
Мы со спутником очутились в глубине беспредельного мрака — мрака, перед которым ваша самая темная ночь была бы яснее дня. Мрак этот был как бы осязаемый, и силой своего сознания я ощущал весь ужас пребывания в нем. Я воспринял невыразимое страдание и ужасное отчаяние существ, обитающих там, мыслящих и действующих в нем.
Мой руководитель дал мне ясное представление и понятие о причинах, от коих происходит это состояние. Все то зло, все то худое, скверное и порочное, все страсти, заблуждения и чувственные порывы, которые мы не обуздываем в своей жизни, которым потворствуем и которые осуществляем, — все это развивается здесь в необъятных размерах, особенно если мы не чувствуем раскаяния, не чувствуем осознания всей мерзости своих поступков в течение своего земного существования. Самые малые недостатки, самые, по-видимому, невинные проступки обращаются здесь в беспредельное развитие к худшему. Их собственная настоящая злоба, которую преодолеть они уже не могут, тянет их туда, где живет бесконечная злоба — в сообщество таких же падших и отчаявшихся существ.
Все в этом сообществе чувствуют нестерпимую злобу и ненависть друг к другу. С бешенством и проклятиями устремляются они один на другого, считая друг друга виновниками своего падения и мучения. Все виды порока, все виды страстей, все зло, какое есть на земле, здесь развиваются до ужасающих размеров и находят воздаяние в муках и страданиях неудовлетворенности своих желаний. Такова ужасная и безотрадная участь всех неверующих, отрицателей и совратителей в неверие.
Удостоверившись в истине существования Божия, они в страшной злобе на самих себя, в невыразимом бешенстве на тех, кто их увлек на путь неверия, в проклятиях на все окружающее и в то же время в страстном желании освободиться от своих мук влачат свое печальное существование…
Особенно ужасна участь самоубийц, которые и здесь стараются избавиться от своей новой жизни, но тщетно. А все сладострастники, развратители, хищники, убийцы, корыстолюбцы, страстолюбцы и другие, мало обращающие внимания на голос совести, на голос нравственного закона, как бы в огне внутреннем, горят в ненасытной злобе, в невозможности удовлетворить свои страсти и пороки, которые, развиваясь до бесконечности, ищут, как бы проявить себя вне сферы существования.
С другой стороны, бесплодное и позднее сожаление о потерянной возможности блаженствовать, страстное желание как-нибудь помочь своим земным потомкам и предохранить их от гибели доставляют этим существам поистине адские муки, огненные, терзающие их вечно.
Неисчислимы и бесконечны здесь все ужасы, все страдания, скорби, печали… Ощущая и воспринимая все это своим сознанием, я стремился скорее удалиться, скрыться от юдоли плача и отчаяния — но куда?
Сознание мое подсказывало, что во всем, за что здесь страдают и мучаются, повинен и я. Не было здесь такой вещи, таких проступков, каких бы не совершил я во время своей земной жизни. Правда, я повинен был не всегда делом, но почти всегда желанием, которое нередко не осуществлял не потому, что считал грехом, а потому, что не предоставлялось случая или соблазна.
А мои худые речи, слова, мысли! Не виновен ли я в них? Мое сознание подсказывало, что да, виновен, ибо от мысли рождаются слова, а от слов — речи, от речи — дела. И я, хотя сам не делал того или другого, зато сколько слабых волею соблазнил своими словами и речами!
Вспоминая всю свою жизнь, видя снова всю свою земную деятельность, сознавая, как мало доброго, честного, хорошего сделано мною, и как много совершено в угоду своему эгоизму, своим страстям и похоти, я стал проникаться убеждением, что такая же участь должна быть и моим уделом — что решение моей судьбы будет ужасно. Это сознание своей ответственности вселило в меня такой неописуемый страх, такой невыразимый ужас, что я как бы зарыдал, как бы с воплем начал просить прощения и оставления грехов моей жизни. Страшная тоска, уныние и печаль начали овладевать мною, смертная скорбь и гнетущее чувство поражали все существо мое.
Зачем, зачем я жил не так, как должно?
Зачем легкомысленно и суетно проводил жизнь, часто забывая Бога и правду, заглушая голос совести моей?
Зачем нагло попирал предлагавшиеся средства исправления и улучшения?
В муках беспредельного отчаяния, которое все более охватывало меня, я начал искать средства и способы, как бы известить, как бы предостеречь своих, о коих я совсем было забыл под впечатлением всего происходящего со мною, об ожидающей их участи, если они не перестанут жить жизнью суетною, такою же, какой и я жил. Я тем более стал стремиться к ним, что видел снова их жизнь, все их поступки, знал все их мысли и желания.
Отчаяние мое увеличивалось еще более от сознания, что жизнь оставшихся жены и детей проходит под влиянием примера моей собственной жизни, под влиянием моего внушения, моих наставлений, уроков, данных во время земной жизни.
В конце концов я совершенно погрузился бы в бездну отчаяния, в мрак печали и уныния, если бы по временам не ощущал отрады, успокоения и утешения от молитв, совершавшихся по моей душе моим семейством и родными, особенно же утешение и нравственное ободрение чувствовал я, когда совершалась за меня святая Литургия. Каждый раз, когда совершалась эта служба за меня, я видел, как сглаживается, пропадает то или другое худое деяние моей жизни.
— Теперь, — продолжал мой собеседник, — я с трепетом и ужасом ожидаю решения своей участи, тебя же усердно прошу — не переставай сам и проси моих родных и знакомых, чтобы молили Всемогущего за мою грешную душу, да избавит Он меня от страшных мучений. Итак, дорогой, верь, молись и надейся! Мне же время отойти!
Я спросил, могу ли я еще когда-нибудь видеть его. Был ли он у своей семьи? Скоро ли увижу, если придет снова?
— Это не в моей воле, — были его последние слова, и его фигура, все удаляясь, как бы расплылась в тумане занимающегося рассвета.
В. Молчанов
На кладбище
Рассказ-размышление
Мы запоздали на прогулке.
Когда же пересекли наконец последний перед городом овраг, скользкий, темный, шумевший внизу весенней водой — вдали уже погасло небо, и земля прикрылась темно-синей одеждой. Была середина весны.
Все цвело, разлилась река, и в степях, не умолкая, журчали чистые снеговые ручейки.
— Поздненько! — сказал доктор. — А слышите, как шумит город?
Мы остановились. Где-то далеко-далеко стоял неровный оживленный гул, словно говорило много народа.
— Шумит. А здесь как спокойно! — замечаю я.
— Спокойно. А Вы были когда-нибудь весною на кладбище?
— Нет!
— Пойдемте. Следует побывать. Если на кладбище есть когда-нибудь поэзия, то это весной. И именно в сегодняшнюю ночь.
Мы поворачиваем с дороги и идем в сторону, где за низкою железною решеткой толпятся могильные кресты и памятники.
— И именно в сегодняшнюю ночь, — повторяет доктор, — когда церкви загудят и осветятся плошками, весь город наполнится шумом, будто вспыхнули огни во всех уголках его жизни, как тихо и грустно на кладбище! И в голове роятся какие-то странные мысли. Начинаешь мечтать о бессмертии, о иной жизни — прекрасной, яркой, разумной… На могилах под звон колоколов в воображении развертываются далекие, неведомые пространства, и так тянет туда, на свободу. Если бы были крылья, взмахнул бы раз, другой, поднялся высоко-высоко — свободный, смелый, чистый — и запел бы о бессмертии, о иных краях, о счастье! Сидишь где-нибудь на могильном холмике, а в голове бродят эти странные мысли!
Мы перелезаем через оградку и сразу попадаем в молчаливое спокойное царство мертвых. Везде кресты, могильные плиты, бугорки. Густо поселились покойники. Мы с доктором еле-еле продвигаемся между могилками. Вышли на маленькую площадку. Остановились.
— Спят покойники! — говорит доктор. — Природа воскресает каждую весну. Отчего же они никогда не воскреснут? Знаете, мне иногда кажется, что их зима — смерть, только лишь продолжительнее, чем зима в природе. И будет время, растопятся под весенним солнцем могильные бугорки, оживут покойники, засмеются — и какая тогда чудесная весенняя жизнь будет на земле!
— Может быть, может быть! – говорю я и сажусь на землю. Садится и доктор.
Ночь пришла и стала над миром — красивая, темно-синяя, осыпанная звездами. Но земля не засыпала. В ночи она цвела, ширилась, назревала, и в завтрашний день она откроется миру уже не той, что была вчера.
— Вам смешно? Но почему же человеку, видящему перед собой каждый день болезни, страдания, смерть, иногда не помечтать об иной жизни — о бессмертии? Надо помечтать, иначе плохо.
«Однако, какой же он странный», — думал я.
— Я не раз резал людей. До мельчайших костей, до тончайших нервов. И знаете — все это было не то. Передо мной были мозговые вещества, кости, нервы, но где были великие проявления человеческого духа, — не знаю. Я их не нашел. И если бы вскрыть Шекспира, Пушкина, Бетховена — опять налицо были бы только кости, мясо, нервы, мозг и только. Ничего похожего на волшебную мелодию музыки, на вдохновение поэта, на размах кисти художника. Ничего подобного. Словно это ушло, испарилось куда-то. Вы смеетесь?
— Пойдемте домой, сыро!
— Погодите, пожалуйста, погодите! Скоро к утрене зазвонят. Пойдемте на главную аллейку?
Главная аллейка белеет от недавно посыпанного песка. По бокам стоят старые вишни и цветут. А за ними — бугорки, бугорки, бугорки…
— Спят покойники! — вздыхает доктор. — И, конечно, не чувствуют, что настала ночь, расцвели деревья, разлилась река. Не чувствуют, что мы бродим здесь. Пройдут года, и мы заснем. Кто-нибудь другой придет сюда и тоже начнет философствовать. И он умрет. И так без конца. Скучно это!
— Что? — не понимаю я.
— Скучно, что впереди ничего ясного, нового, разнообразного. Думай, люби, поднимайся высоко над миром и старайся окинуть очами все, а конец всегда один — смерть. Даже как-то несправедливо!
Мы бродим взад и вперед по белой аллейке между цветущими вишнями в тиши могильных бугорков.
— Спят покойники! В эту мягкую весеннюю ночь, когда хочется любить и лететь на сильных далеких крыльях, они спят. Когда-то вся наша земля превратится в кладбище — обледенелое, тихое, пустынное и без крестов, памятников, бугорков… Будет бессмысленно носиться вокруг солнце.
Если бы знала вселенная, сколько на этом обледенелом комочке родилось светлых грез, сколько было выстрадано, как сильно было желание найти иную, прекрасную бессмертную жизнь!
Какая будет трогательная, прекрасная и грустная в своей замолкшей трагедии эта маленькая, заброшенная в громадной вселенной планетка Земля, со своими навек потухшими огнями!
И неужели во всей вселенной никто не взгрустнет над ней? Неужели все пусто, немо, мертво?!
То, что Земля когда-то угаснет, как огонек, — будет величайшим безжалостным преступлением!
И я верю: кто-то есть в мире, который откликнется на эту несправедливость и поплачет над Землею, над ее рано погасшими, как весенние цветы под морозом, мечтами, над ее страданиями! Я верю!
Звезды плывут в глубине, и вот роскошный ковер их стоит прямо над нашими головами.
Какие они большие, яркие, красивые! И словно живые. Переливаются, смеются, мерцают, будто играют оттуда, из далекого таинственного мира — смеются маленькой Земле, наивной и доверчивой, еще не обледеневшей, еще цветущей весенними цветами, еще грезящей о далеких лазурных краях.
В стороне от кладбища виднеются перелески, овраги, гумна, все тихо. Синее небо словно насторожилось и ждет чего-то! Чего? Быть может, чуда?
Там, далеко от кладбища, на городских улицах шумел народ, мерцали огни. В тон природе, воскресшей, расцветающей цветами, люди собирались праздновать свою весну. Над миром поднимался день Воскресения и сыпал от себя во все стороны блестящие яркие искры. И куда попадали они, — все светилось и горело, и неясная дымка бессмертия, как утренний рассвет, окутывала маленькую Землю!
— Сядем, — предлагает доктор.
Мы садимся на скамейку под цветущей вишней. Молчим. Тихо-тихо. Что-то шелестят вишневые сады. Где-то в углу кладбища наивно, по-детски лепечет ручей. Могилки встают одна за другою — грустные и одинокие, задумчивые. И тишина. Ночь обняла собой весь мир, и кажется, что мы видим большой странный сон: белые дорожки, убранные цветами, кресты, бугорки.
Сидим.
Доктор толкает меня. Я открываю глаза.
— Слушайте, звонят!
Внизу у реки гудит — тягуче, плавно, звонко — и отдается по воде так, что кажется, будто звуки идут откуда-то по реке. Перелески, овраги, гумна молчат по-прежнему, и оттого чудится, что они прислушиваются к полуночному гудению. Мы встаем со скамейки.
— Слушайте, слушайте! — просит доктор.
Долгое время стоим на одном месте и слушаем. Потом он начинает ходить по белой аллейке.
— Спят покойники! И уже не разбудит их редкий, чудный звон! А в народе есть поверье: в этот миг, когда звонят пасхальные колокола, покойники выходят из могилок, садятся на траву и слушают. И вспоминают то, что прожито.
Ходим. Где-то гудят колокола — победно, звонко, плавно, и как все это кажется далеко-далеко от тишины и грусти кладбища!
— Трезвонят! — говорит доктор.
— Христос Воскресе! Христос Воскресе! Вы верите? Нет? А я верю! Верю! Это так широко, так смело, так полно глубокого таинственного смысла.
Отчего так хочется жить, отчего так хочется мечтать и верить, что земля не погибнет, не обледенеет, что это вздор, призраки и только?! Отчего, когда я препарирую труп, я думаю: это не тот человек, который жил!
Смерть не берет всего: все разумное, светлое, бессмертное остается. Оно все больше осаждается на земле, как иней, и будет время — вся земля проснется в одно утро разумною, светлою, бессмертною!
«Христос Воскресе!» — это запев к той жизни!
Такой звонкий, красивый, вдохновенный запев!
Он поднялся над землею рано, еще вся земля спала и не мечтала об иной жизни. Он прозвенел неожиданно, смело, чарующе и поманил туда, вдаль, в иные края.
Пусть люди верят — Он зовет.
И если когда-нибудь люди совсем перестанут верить в Него, и Он не поднимется больше к небу в пасхальную ночь — это будет означать, что земля уже обледенела и бессмысленно носится по Вселенной в пространстве.
Пусть звонят! Пусть шумят! Это протест человечества против своего одиночества, смерти, бессмысленности.
Это вера. Милая, детская, трогательная вера в свою весну, в свое солнце, цветы, ласки, в то время, когда человечество узнает все, найдет счастье и отдохнет.
И, остановившись, доктор громко крикнул в сторону могильным бугоркам, перелескам, оврагам, гумнам:
— А-у! Хри-стос Вос-кре-се!
Жребий брошен
Повесть
I
Солнце, приближаясь к полудню, начинало нещадно припекать. Невзрачные деревенские собаки, возившиеся на пыльной улице с ребятишками, одна за другой лениво побрели в тенистые уголки, да и ребятишки, побросав бабки, шумной гурьбой сбежали к речке и, торопливо раздевшись, с веселым визгом и фырканьем бросились в воду, и по мелкой неширокой речке во всех направлениях замелькали их белые, как лен, головы.
Но в полях, тянувшихся позади села, с самого солнечного восхода кипела напряженная, непрерывная работа. Из маленького, хорошенького домика священника, приютившегося у самой церкви, вышел высокий, широкоплечий молодой человек в белоснежной косоворотке и в широкой соломенной шляпе с опущенными в защиту от солнца полями.
Медленно сойдя к речке, он несколько минут простоял в нерешительности, всматриваясь вдаль, в небольшой лесок, постепенно поднимающийся над скошенными лугами, потом энергично встряхнул головой и быстрыми шагами направился вперед, по животрепещущему навесному мосту, потом по твердо топтанной луговой тропинке и вскоре вступил в лес. Последний, хоть и занимал не больше трех десятин, был очень густ и состоял из старых деревьев. В нем всегда царили прохлада и таинственный полумрак. Пахло грибами и прошлогодним прелым листом.
Молодой человек с наслаждением полной грудью вдохнул освежающий влажный воздух и, замедлив шаги, снял шляпу. Легкий ветерок игриво приподнял с его лба прядь каштановых волос и откинул ее назад.
Юноша пристально вглядывался вперед — и вдруг с загоревшимися глазами бросился в чащу, почти бегом, не обращая внимания на хлеставшие его по лицу ветки. Минуту спустя он, улыбаясь и волнуясь, стоял перед красивой молодой девушкой, одетой в легкое розовое платье, сидевшей на складной скамеечке. Она опустила на колени книгу, которую читала, и, вопросительно глядя на него серьезными черными глазами, протянула ему свою маленькую, холеную ручку.
— Что скажете хорошего, Арсений Николаевич? — спросила она.
— За что Вы так церемонно меня называете? — упавшим голосом отозвался он, опускаясь подле нее на толстый пень.
— Ну, хорошо, Арсений! Да дело не в этом, — нетерпеливо возразила она. — Надеюсь, Вы помните наш последний разговор на этом самом месте?
— Еще бы не помнить!
— Ну и что ж?
— Ах, Наташа, я просто не знаю, что и сказать! — тоскливо воскликнул он и поник головой, сжав виски ладонями.
— Кто же знает? — с досадой спросила она.
Резкая, почти враждебная нотка прозвучала в ее приятном контральтовом голосе. Он с минуту помолчал, потом поднял голову и, умоляюще глядя на свою собеседницу, спросил:
— Скажите же окончательно: Вы меня действительно любите?
— Конечно люблю, очень! — ответила девушка.
Выразительные голубые глаза Арсения засияли счастьем. Он взял ее руку и горячо заговорил:
— Милая, дорогая, ведь это же самое главное! Бросьте свой гадкий петербургский скептицизм, не мучьте меня, скажите, что Вы согласны быть моей женой! Сил моих больше нет висеть между небом и землей каким-то ни к чему не пригодным бездельником!
— Я же Вам сказала, что готова хоть сейчас выйти за Вас замуж, но лишь на известных условиях.
— Да, я знаю: жить непременно в Петербурге, ездить по балам и театрам и полагать в этом весь смысл своего существования! — горько усмехнувшись, проговорил Арсений.
— К чему рисовать это в таких мрачных красках? Я вовсе не такая пустая светская кукла, как Вы думаете, иначе я бы Вас не полюбила, — но, сознаюсь откровенно, я не могу без ужаса представить себя женой сельского священника. Вечно жить в этой глуши среди грубых пьяных мужиков и назойливых баб, в бедности, без всяких развлечений… Нет! Это невозможно, я умерла бы через несколько месяцев или сбежала от Вас…
Не хмурьтесь, Арсений, я знаю, что это нехорошо, что я эгоистка, но ведь я совсем иначе воспитана, и теперь с этим ничего уже не поделаешь. Конечно, дело не в том, что вы семинарист и сын священника, а я смолянка и дочь генерала: это все пустяки; а просто я органически не способна жить так, как жила Ваша мать и, вероятно, будут жить и сестры.
— Значит, если я решусь быть священником, Вы бесповоротно оттолкнете меня? — укоризненно проговорил молодой человек.
— Нет! Не оттолкну, но не выйду за Вас замуж, хотя мне будет очень, очень тяжело расстаться с Вами.
Последние слова она произнесла почти шепотом, и на длинных ее ресницах повисли крупные слезы.
Арсений не отвечал и, нахмурившись, глядел в одну точку, нервно покусывая сорванную им травку.
— Ведь Вы же в самом начале нашего знакомства говорили мне, — минуту спустя продолжала Наташа, — что вовсе не стремитесь к священнической деятельности, да Вы и правы были: с Вашим талантом зарывать себя в этом захолустье — это просто грех! Вы должны учиться, работать. Из Вас выйдет крупный художник, Вы прославите свое имя.
— Действительно, в Петербурге и мне так казалось, но ведь все это, в сущности, такие пустяки! — тихо, как бы рассуждая сам с собою, возразил он.
Молодая девушка так круто повернулась в его сторону, что даже табуреточка скрипнула под ее тонкой фигуркой.
— Как пустяки?! — негодующе воскликнула она. — Талант, слава, прекрасные произведения искусства — это, по-вашему, пустяки? Что же тогда важно? Венчать и хоронить мужиков, которые едва отличаются от животных?
— Да, вот именно потому, что они мало отличаются от животных, — со страданием в голосе проговорил Арсений. — Наташа, дорогая, выслушайте меня хоть раз без предвзятой мысли, не осуждая заранее того, что я скажу, и Вы поймете мое душевное состояние. До сих пор я, в сущности, совершенно не знал деревенской жизни, хотя и приезжал сюда каждое лето на каникулы.
Тут я все время только гулял да читал, отъедался на обильных родительских хлебах, много рисовал, одним словом — жил барчуком, вот как Ваши двоюродные братья-лицеисты, которые теперь живут здесь с Вами. Поэтому я и собирался пойти на светскую службу или поступить в Академию художеств. Меня прельщал этот путь, а познакомившись с Вами и вскоре полюбив Вас, я даже считал, что иначе и быть не может. Я стал мечтать о том, чтобы сделать карьеру или же стать известным художником, и тем оправдать в глазах Ваших родителей мое скромное происхождение.
Кончив семинарию и приехав сюда, я так прямо и заявил отцу, что не буду священником. Страшно огорчился этим мой старик, даже заплакал…
Впрочем, об этом я Вам рассказывал…
Но вот уж не помню теперь хорошенько, как это началось, только я стал приглядываться к жизни крестьян, и стоило мне в нее пристально вглядеться, как сердце мое сжалось от безграничной жалости к ним. Да! Они грязны, часто жестоки и вообще не привлекательны, но зато как же они несчастны, Наташа, ах, как несчастны! Что это за жизнь? Жилища тесные, душные, неуютные, как тюрьма, ничего просветляющего, и лучшее утешение — водка. А уж про женщин и говорить нечего: это вечные мученицы, которые почти от колыбели и до самой могилы ничего не получают от жизни, кроме непосильного труда, болезней и нещадных побоев. Ничего, кроме этого!..
Вдумайтесь только, Наташа, в эти слова!
И никто не заботится об этом народе, никто о нем даже не вспоминает! А внести искру истинного христианского света в этот непроглядный мрак никому даже и в голову не приходит.
Больше всего тут мог бы помочь священник. А между тем, что же мы видим в большинстве случаев? Он только отправляет требы, а в остальное время так же далек от своей паствы, как любой чиновник от своего министерства в свободные от службы часы.
Конечно, одним своим влиянием поднять нравственный уровень целого села очень трудно, но возможно, и я в это верю. Для этого стоит только всего себя, действительно всего, отдать своим прихожанам, быть их истинным отцом, всегда думать о них, и никогда о себе — и, в конце концов, великое дело совершится, иначе быть и не может! Пусть на него уйдут целые года, даже десятки лет, но зато какое счастье поставить свой приход на высоту древней христианской общины!
Что все мои прежние честолюбивые, эгоистичные планы в сравнении с этой мечтой! И неужели Вы не хотели бы быть сотрудницей такого священника, Наташа? — с жаром закончил он, заглядывая в лицо молодой девушки.
Она внимательно слушала его, сложив руки на коленях, а когда он умолк, грустно взглянула на него, на его разгоревшееся лицо, такое вдохновенное, и со вздохом возразила:
— Эта мечта возвышенна и прекрасна, но я ее не способна разделить. Я не злая, я всегда охотно помогу нуждающемуся по мере моих сил, но отказаться от личной жизни я не могу. У меня нет на это ни сил, ни даже желания. Я хочу жить прежде всего для себя. Скорее, я откажусь от Вас, хотя мне это очень тяжело и так больно.
Она не докончила. Голос ее нервно зазвенел и оборвался. Она встала и начала дрожащими руками складывать свою скамеечку.
Арсений побледнел и тоже поднялся.
— Наташа! Это Ваше последнее слово? — спросил он, вплотную подходя к ней.
— Да, конечно… Что же мне Вам еще говорить? Решайте Вы сами, что Вас больше влечет: счастливая, яркая жизнь со мною или Ваш безумный подвиг, и, когда решите, напишите мне. До тех же пор нам лучше не видеться. Я уже устала следить за вашими колебаниями.
У нее из груди вырвался вздох, и она, замолчав, почти бегом направилась домой, путаясь в высокой густой траве.
Арсений затуманенным взором следил за нею до тех пор, пока она не скрылась в чаще деревьев, потом уныло побрел домой. Что-то словно оторвалось от его сердца, и он ясно почувствовал, что больше никогда не увидит любимой им девушки. Ему сделалось жутко. Будто все счастье его жизни вдруг ушло от него и весь мир показался ему пустым и холодным.
«Безумный подвиг!» — вспомнились ему слова Наташи.
«Может быть, и в самом деле мои мечты — безумие? — думал Арсений, — Что могу сделать я, один, самый заурядный человек? Проповеди, личный пример, тесное общение с крестьянами?.. Ведь и отец мой следовал всему этому, пока был здоров и крепок, однако крестьяне все так же темны и грубы. Правда, я образованнее отца, я много читал, но все же откуда мне взять столько нравственной силы, чтобы перевоспитать эту невежественную, суеверную толпу? Нельзя взваливать на себя непосильный груз. Только свою жизнь безвозвратно загубишь, а другим пользы не принесешь…»
И он совсем уже решил отказаться от священства, вернуться в Петербург и жениться на Наташе. Будущее начинало ему рисоваться в радужных, волшебных красках.
«…Разве я могу от нее отказаться? — размышлял он. — Чего стоит жизнь без личного счастья? Сколько всего прекрасного ждет меня! Любовь, слава, путешествия в Италию, в Испанию, в Дрезден… чудный мир искусства и красоты… и вообще весь мир лежит передо мною!»
Он присел на поваленное бурей дерево и замечтался, припоминая все подробности своего знакомства с Наташей. Он давал уроки в семье одних хороших знакомых ее родителей, и как-то раз в субботу, оставленный обедать в этом доме, познакомился с нею и долго разговаривал… С тех пор они изредка встречались там же и вскоре горячо полюбили друг друга. Впрочем, он тогда не знал, он и мечтать не смел о том, чтобы эта изящная барышня могла обратить внимание на него, увальня, едва знающего, как держать себя в гостиной. Но она не только обратила внимание на него, а даже ради него приехала сюда гостить к своей тетке, усадьба которой расположена в трех верстах от его родного села.
Здесь они стали почти ежедневно встречаться на прогулках и вскоре признались друг другу в своих чувствах. В первую минуту, не помня себя от радости, он решил немедленно же ехать в Петербург и хлопотать о поступлении в Академию художеств, но молодая девушка упросила его не торопиться и не обрывать в самом начале чудного лета, сулившего им столько мирной радости, прекрасных прогулок вдвоем.
Он остался, но не прошло и одной недели, как в его душе начался мучительный разлад между двумя одинаковыми по силе чувствами: любовью к невесте и непреодолимым влечением к тому тяжкому, но благородному подвигу, каким ему представлялась миссия священника в этом глухом селе.
Каждый день, а иногда и по несколько раз в день принимал он противоположные и, как ему казалось, окончательные решения, и снова передумывал, снова колебался, и всячески испытывал себя.
Стоило ему узнать о каком-либо лишнем проявлении крестьянской темноты, как его начинали мучить упреки совести, и он начинал говорить себе, что обязан слушать лишь голос долга и забыть о Наташе, которая и сама его скоро забудет, потому что очевидно, что вовсе не сильна ее любовь, если она не согласна отказаться для него от привычной ей жизни.
Но зато стоило молодой девушке ласково улыбнуться ему, близко заглянув в его глаза — и он совершенно лишался воли, готов был все забыть ради нее и ото всего отречься. Настроение его поминутно менялось сообразно с последним принятым им решением, и Наташа, не зная, на чем он в конце концов остановится, начала раздражаться. Каждая встреча между молодыми людьми кончалась теперь стычкой.
Сегодня он говорил как-то особенно горячо и откровенно, и — странное дело! — пока любимая девушка была с ним, он чувствовал, что счастье для него невозможно без того самоотверженного священства, каким он его только и понимал, и ему казалось легче расстаться с невестой, нежели покинуть этот народ, в жизнь которого он мог бы внести столько света и тепла.
Но как только он остался один, вокруг него словно все поблекло и потеряло всякий смысл, и он готов был бежать за Наташей и сказать ей, что только она одна ему нужна, что он хочет взять то счастье, которое посылает ему судьба, а там будь что будет.
Лишь под вечер, бледный и утомленный, вернулся Арсений домой. Увидев, что мать с сестрами накрывают в садике стол к ужину, он только тут почувствовал сильный голод и вспомнил, что ничего не ел с самого утра.
Отец Николай, крупный старик, очень похожий на сына, но сильно сгорбившийся и тяжело прихрамывающий на левую ногу, распухшую от ревматизма, пришел к столу хмурый и недовольный. Молча и торопливо поев каши и картофеля, он раздраженно заговорил, обращаясь к сыну:
— Вот уже два месяца, как ты живешь у нас. Между тем, я все еще не знаю, к чему ты себя готовишь? Кажется, мог бы принять за все это время какое-нибудь решение. А то что же: слоняешься, слоняешься, точно какой-то барчук-белоручка, и ни за что приняться не хочешь. Ну, не расположен быть священником, так и говори прямо; по крайней мере, один конец… Эх, не думал я, что у меня вырастет такой сын: ни Богу свечка, ни другое что-либо! Я-то все надеялся, что полюбуюсь на старости лет, как ты Господу служить станешь: чинно, истово, по-образованному. А вот оно какое, ваше хваленое столичное образование: только ломает человека. От нас, маленьких людей, ты отстал, а к важным господам не пристал.
В голосе старика, вначале звучавшем твердо и строго, послышались жалобные нотки. Он болезненно сдвинул свои густые, белые брови и стал крутить бороду худыми, узловатыми пальцами
— Я знаю, отец, что очень виноват перед тобою, — мягко ответил Арсений. — Прости меня. Больше я не буду колебаться. Я хочу быть священником, и чем скорее, тем лучше.
Проговорив это, он глубоко вздохнул и тотчас же почувствовал, будто гора свалилась у него с плеч. Колебаний как не бывало, и он сразу же понял, что возврат назад уже невозможен.
Отец Николай радостно встрепенулся и воскликнул с просветленным лицом:
— Ты серьезно говоришь?
— Разумеется, разве этим можно шутить?
Старик встал, широко перекрестился и, обняв сына, проговорил:
— Слава Тебе, Господи! Кончились мои сомнения и страхи! А я-то, Сеня, был виноват перед тобою, я думал, что ты… неверующий.
Последнее слово он произнес шепотом, как бы стараясь смягчить наносимую сыну обиду. Но юноша не обиделся и, целуя руку отца, просто возразил:
— Нет! Веры моей ничто не затемняло ни на одну минуту, но я был слаб… Так уж вышло, что мне приходилось выбирать между собственным счастьем и долгом. Труден был выбор, отец, я человек грешный, а счастье сильно манит.
— Ох, что-то я не пойму, о чем ты толкуешь? — снова встревоженный, заметил отец.
— Я потом тебе все расскажу, отец, а теперь мне еще больно говорить об этом, — тихо сказал Арсений, пряча лицо на плече старика. — Но ты не беспокойся: мое решение твердо, и я уверен, что никогда о нем не пожалею.
Отец Николай раздумчиво покачал головою, ласково погладил мягкие, густые волосы сына и, почувствовав, что тот беззвучно плачет, отвел его в сторону, к плетеному из ивовых прутьев диванчику, стоявшему под густым развесистым вязом.
Там было уже совсем темно, и, чтобы не смущать молодого человека, отец сделал вид, будто не замечает его слез, и спокойно заговорил деловым тоном:
— Теперь, Сеня, надо первым делом будет озаботиться о невесте.
Это замечание старика кольнуло Арсения в сердце, и холодок пробежал у него по спине: вместе с тем и как-то странно, будто даже неловко было ему слышать, что отец столь просто говорит о таком важном и бесповоротном шаге, как женитьба будущего священника. Но он тотчас же сказал себе, что так тому и подобает быть. Зачем усложнять этот вопрос? Если Бог пошлет ему хорошую жену, то он должен радоваться; если же дурную, то терпеть и стараться пробудить в ней хоть ту единую струну, которая есть даже в самых порочных и преступных людях.
Главное, надо вполне, без каких бы то ни было ограничений, отречься от самого себя — и тогда все станет легко и просто. И, подумав это, он бодро, почти весело ответил:
— Да, конечно. Только ведь я здесь никого не знаю.
— А твой старый батько на что? — отозвался совсем воспрянувший духом отец Николай. — Я уж давно навожу справки обо всех подходящих невестах, особенно нашего духовного звания. Правда, ты многих из них проморгал, ну да все же не все зараз повышли замуж. Вот, например, в Трехполье Ключинского уезда, — верстах в восьмидесяти будет от нас, — говорят, у священника есть три незамужние дочки, — так, может, которая-нибудь из них и приглянется тебе. Оно действительно, приход там неважный, из захудалых, но это только сейчас, а через два года около самого села пройдет железная дорога, и тут же станция будет, — так вот оно как поднимется, что твой уездный город разрастется. Это уж всегда так бывает.
— Мне все равно, я богатства не ищу! — возразил юноша.
— Знаю, что не ищешь, да и не подобает в нашем звании чрезмерно о мамоне заботиться, а все же пить-есть всякому человеку нужно, так отчего же и не поискать лучшего места, — наставительно проговорил священник. — А в Трехполье ты хоть сейчас после свадьбы можешь быть рукоположен, потому что я от верных людей слышал, что тамошний иерей совсем больной старик и только ради семьи крепится, а если бы нашелся зять на его место, так он хоть сейчас готов на покой.
— Вот и отлично, Бог даст мне там устроиться. Завтра будни, так если хочешь, поедем туда, не откладывая дела в долгий ящик. Довольно уж и так сидел я на вашей шее.
— Ну, что там… Не чужой же ты нам! — смущенно проговорил старик, которому было стыдно за резкие слова, сказанные сыну за ужином. — А только ехать я не прочь. Если уж ты решился, так что же медлить? Вот славно бы было, если бы ты на Воздвижение уже служил в своем храме! В Трехполье это престольный праздник.
— Так, значит, решено, завтра утром и отправимся, — сказал Арсений, вставая с диванчика. — Я велю Матреше пораньше нас разбудить, чтобы по холодку доехать.
— Да, да. Впрочем, ты ни о чем не хлопочи. Я сам всем распоряжусь. Ну, покойной ночи, спи! Спи себе с Богом. Спасибо, что успокоил меня, старика.
И отец Николай, привычным жестом благословив молодого человека, крепко обнял его. Арсений поцеловал руку отца и пошел в свою маленькую комнатку, «выкроенную», как он говорил, из чердака. Торопливо раздевшись в темноте, он подошел к единственному крохотному окошечку своей горенки и, облокотившись на подоконник, стал смотреть вдаль.
Стояла чудная, тихая, душистая ночь. С поля доносился крик коростеля и слышалось несмолкаемое стрекотание кузнечиков. Недавно поднявшаяся над горизонтом, еще красноватая луна заливала своим призрачным светом луга и верхушки поникших над самой рекою ракит, отбрасывая длинные туманные тени от малейшего предмета, возвышавшегося над землей.
Тоска и томление снова заставили дрогнуть сердце Арсения. То был последний и, может быть, сильнейший изо всех приступ всемирного недуга — жажда счастья, как его обыкновенно понимают люди.
«Ах, в такую бы ночь далеко, далеко уйти гулять с Наташей», — вдруг сказалось во всем его существе одно непреодолимое желание.
В эту минуту совсем где-то близко, очевидно, на соседнем дворе, послышалась грубая неприличная брань двух пьяных мужиков, потом глухие, медленные, по-видимому, с жестоким хладнокровием наносимые удары и бабий плач. Арсений вскочил и бросился к дверям, инстинктивно стремясь помочь обиженной женщине.
Но все тотчас же стихло. Только хлопнула дверь избы, да жалобно визгнула какая-то собачонка, вероятно, отпихнутая ногой хозяина. Молодой человек снова уселся у окна. Но за эти несколько мгновений его настроение совершенно изменилось.
«Вот чтобы такие безобразные диссонансы не врывались в чудную музыку природы, для этого я и должен жить, — думал он. — Душу свою надо положить на то, чтобы очеловечить такого вот Егора, чтобы он, вернувшись с ярмарки, домой пришел трезвый и добрый, и на те деньги, которые теперь пропивает, принес домой нужных покупок, подарков жене и детям, и чтобы вместо сороковки у него выглядывала из кармана полезная книжка…»
«Возьми крест свой и иди за Мной».
— Да, я пойду, Господи. Дай мне только силы, научи меня любить ближних моих больше, чем самого себя!
II
Не успел Арсений проспать и двух часов, как его разбудили. Солнце еще не всходило, предрассветный ветерок сдувал своим прохладным дыханием ночную росу с травы и кустов. Просыпающиеся птицы веселым чириканьем приветствовали все ярче и ярче разгорающуюся на востоке алую полосу зари.
Тщательно одевшись во все новое, молодой человек сошел вниз, где отец уже поджидал его за чаем.
Спустя полчаса они выехали со двора, напутствуемые благопожеланиями только что проснувшейся матушки, которая в ночном чепце выглядывала из окна спальни и крестила отъезжающих.
Ехать до Трехполья пришлось четыре часа с лишним, потому что дорога была тяжелая, ухабистая, а священническая лошадь не отличалась рысистостью.
Солнце уже стояло высоко в небе, когда наши путешественники остановились наконец перед священническим домом. Домишко был ветхим и невзрачным, с облупившейся краской и мутными оконцами. Да и вообще от всего села веяло бедностью и запустением.
Маленькая церковочка, красующаяся на холме, вполне соответствовала этой картине.
Сердце у Арсения сжалось, когда он подумал, что ему, может быть, суждено прожить здесь всю жизнь, но он тотчас же пристыдил себя, мысленно решив: «Я должен приложить все свои силы, чтобы все это переменилось, и приложу! Неужели нельзя горячей, искренней проповедью и примером собственной честной деятельности пробудить этих несчастных людей от их спячки, заставить их встрепенуться, полюбить труд, зажечь их души огнем той безграничной веры, которой переполнена моя душа, заразить их своей жаждой всего прекрасного и разумного? Конечно, можно, можно, и это будет!».
С такими мыслями он вылез из тележки вслед за отцом и стал подниматься на крыльцо. В сенях их встретил хозяин дома, маленький, тихий, поражающий своей худобою старик, отец Михаил Успенский. Он приветливо поклонился гостям, но в печальных его темных глазах проглядывало некоторое недоумение: он, очевидно, не узнал отца Николая. Тот назвал себя и, почувствовав внезапную неловкость, заговорил возможно громче и веселее, стараясь замаскировать ее.
— Давненько мы не виделись с Вами, отче Михаиле, давненько. Вот уж и сын мой подрос, тоже Богу послужить намерен. Взял его с собою… Веселее, знаете, ехать вдвоем.
— Как-же, как-же! Очень рад познакомиться с Вами, молодой человек! — ласково проговорил хозяин, протягивая руку Арсению. — Прошу пожаловать в зальце.
Гости прошли по его приглашению в смежную комнату. Там было чисто, но тесно и чрезвычайно бедно. При их входе со стула у окна поднялась и сделала книксен миловидная девочка лет четырнадцати. Отец Михаил с любовью взглянул на нее и отрекомендовал ее приехавшим:
— Это моя меньшая, Машенька! Прошу любить да жаловать.
Девочка покраснела, засмеялась и, плутовски покосившись на молодого человека, выскользнула в следующую комнату.
— Скажи матушке, что у нас гости! — крикнул eй вслед отец. — Пусть живее соберет нам обедать.
Затем он пригласил гостей садиться на диван, жесткий, как камень, сам сел перед ними на стул и начал добросовестно занимать их разговором.
Однако беседа плохо клеилась. Всем было как-то не по себе. Хозяин сразу понял, зачем приехали гости, и рад был повидать свежих людей, но стыдился того, что они, как был убежден он, принуждены будут уехать ни с чем, лишь напрасно потратив время на поездку.
Отец же Николай и Арсений чувствовали себя неловко потому, что словно обманывали радушного старичка, скрывая от него истинную цель своего визита и бесцельно рассуждая с ним о погоде и об урожае.
Приступить же сразу к тому, что их занимало, было неловко и даже невежливо, и они не знали, как выпутаться из такого положения.
Впрочем, первые намеки были вскоре сделаны с обеих сторон. Отец Михаил стал жаловаться на свои недуги и сетовать, что некому его заместить.
— Ну вот, как некому? — возразил отец Николай. — У Вас, я слышал, есть три дочки, так, наверное, которая-нибудь скоро выйдет замуж, надо надеяться, за хорошего человека, достойного нашего звания.
— Где там! Вторая моя дочь недавно уже вышла, только за студента, и уехала с ним в Петербург. А Машенька, сами изволили видеть, еще дитя, ей на прошлой неделе пошел всего пятнадцатый год.
— А старшая-то Ваша дочка? — спросил отец Николай.
— Старшая… — старик замялся, потупив глаза, но затем неохотно договорил:
— Она, изволите видеть, некрасивая очень, да и характера сварливого. Кто же ее возьмет?
Он вздохнул, и на его лице отразилась такая печаль, что Арсений, забыв всякое чувство неловкости, от души возразил ему на это:
— Что же такого? Не всем же быть красавицами. А характер, мне кажется, зависит от условий жизни: если улучшатся эти условия, то и характер у человека станет спокойнее.
Старик удивленно поглядел на юношу, и левый уголок его рта чуть дрогнул от сдержанной усмешки, ясно говорившей: «Легко тебе так рассуждать, а сам, небось, на ней не женишься».
Арсений понял его мысль и густо покраснел, не зная, что сказать. Paзговор снова вяло потянулся вплоть до обеда. За обедом гости познакомились с матушкой, толстой и подвижной особой, и их старшей дочерью, Евдокией Михайловной. Бедная девушка, уже не первой молодости, была действительно чрезвычайно некрасива: длинное, сильно попорченное оспой лицо с толстым носом и узкими глазками не имело в себе ничего привлекательного, а угрюмый взгляд исподлобья придавал ей почти отталкивающее выражение.
Однако Арсений с первой же минуты почувствовал, как его, напротив, потянула к ней какая-то непонятная сила. Этой силой была такая глубокая, всецело захватывающая сердце жалость, что в его сердце исчезли все недостатки Евдокии Михайловны, и он видел в ней лишь несчастное отверженное существо, за которым даже отец, очевидно, не признает права на нормальную женскую жизнь.
Он сел зa обедом рядом с девушкой и все время оживленно разговаривал, расспрашивая ее о хозяйстве, об ее занятиях и тех развлечениях, какие можно тут иметь.
Сперва она отвечала ему односложно и нелюбезно, по-видимому, удивляясь такому небывалому к себе вниманию, но потом постепенно оживилась, лицо ее просветлело, и она даже как будто сделалась красивее.
Ей было приятно, что этот видный, умный молодой человек разговаривает с нею, как еще никто не разговаривал, — охотно и дружелюбно, ничуть не поражаясь ее наружности, и некрасивые ее глазки не раз с благодарностью поглядывали на интересное лицо ее собеседника. Арсений же, со своей стороны, убедился, что Евдокия Михайловна была дельная, образованная девушка, любящая трудовую деревенскую жизнь и знающая толк в хозяйстве — одним словом, настоящая жена сельскому священнику.
После обеда матушка, сама себе не веря, но уже надеясь, что, пожалуй, сверх ожидания ей удастся пристроить и эту дочь, с несколько заискивающей улыбкой обратилась к молодым людям:
— Вам, небось, уж надоело сидеть в комнате? Дунечка, покажи Арсению Николаевичу наш садик, может быть, он там вишенок скушает прямо с дерева. А мы, старики, тут посидим да потолкуем.
Арсений охотно вышел в сад, продолжая начатый разговор со своей новой знакомой. Покрутившись с ней около получаса по узким дорожкам, поросшим травой и лопухами, он спросил, нельзя ли осмотреть церковь.
— Отчего же нельзя? Конечно, можно, — ответила девушка. — Пойдемте. По дороге возьмем ключ у сторожа.
Церковь оказалась вблизи еще более убогой, чем выглядела вдали. Покрывавшая ее белая штукатурка наполовину облупилась, покосившиеся ступени поросли мохом, а расшатанная дверь едва держалась на петлях.
Внутренний ее вид был нисколько не лучше наружного. Несколько стекол в окнах было выбито, а некоторые были оклеены хлебным мякишем.
— Что, не очень-то нравится Вам, художнику, наш храм? — горько усмехнувшись, спросила Евдокия Михайловна гостя, который печальными глазами оглядывал все это жалкое убранство.
— Да, больно видеть такое запустение! — с тихим вздохом отозвался он. Но вдруг его взгляд загорелся и он воодушевленно заговорил:
— Знаете, я хотел бы быть здесь священником, чтобы украсить этот храм живописью. На это ведь потребовалось бы совсем немного денег. Зато как бы здесь все изменилось, если бы я нарисовал на этих голых стенах те картины, которые уже давно вынашивал в душе.
Например, — ХРИСТА с ясным, ласковым и непременно прекрасным лицом, среди толпы прелестных светлоголовых ребятишек. Мне кажется, что тогда здешние крестьяне стали бы даже лучше молиться, а то ведь, по правде сказать, эта обстановка действует подавляюще.
— И Вы могли бы отречься от ожидающей Вас блестящей будущности, чтобы сделаться простым сельским священником и разрисовывать эту нищенскую церковь, когда, может быть, Ваши картины украсили бы царские дворцы? — воскликнула Евдокия Михайловна недоверчиво, с удивлением глядя на него.
— Не только мог бы, но даже так и сделаю, — просто ответил Арсений. — Я уже решил быть священником и распростился со всеми своими прежними эгоистическими мечтами. Кому принес бы я пользу, будучи известным художником? Правда, я чувствую, что мне удалось бы создать нечто значительное — к чему притворяться? — мне Бог действительно дал талант: но я и буду этим талантом служить Богу. Что стоит даже всемирная слава перед возможностью пробудить своим произведением какую-нибудь хорошую струну в сердце огрубелого, опустившегося человека!
Скажите, вы верите в то, что добросовестный священник может сделать много добра в деревне? — неожиданно спросил он свою спутницу.
— Да, разумеется, — немного растерянно ответила она и нерешительно прибавила:
— Мой отец, когда был моложе, то имел большое влияние на своих прихожан, но за последние годы они так распустились… Теперь это такой труд… Для этого надо очень, очень любить крестьян. Я знаю, что прежде были такие проповедники, которые своими словами могли совершенно перерождать людей. Только возможно ли это теперь? Наше время такое серое…
— Отчего же нет? — пылко возразил Арсений. — Для этого нужно лишь сильное, искреннее чувство, не останавливающееся ни перед какими личными жертвами, нужна живая вера, которая горами двигает. А причем же тут прежнее или нынешнее время? Люди всегда одинаковы.
Разговаривая таким образом, молодые люди вернулись в садик и сели на скамейку. Вскоре их позвали пить чай, а потом они снова уединились и говорили так, будто уже много лет были знакомы между собой.
Когда стало смеркаться, отец Николай собрался было ехать домой, но хозяева так радушно удерживали гостей, не отпуская их без ужина, что он не мог не остаться. Ему было здесь скучно и хотелось спать, но зато он радовался перемене, происшедшей с сыном, хотя в глубине души немало дивился ему. «Никогда бы я, будучи молод, не обратил внимания на такую непривлекательную девицу…», — думал он.
Между тем, Арсений, сидя с нею в потемневшем саду, говорил ей, слегка запинаясь, тихим и мягким голосом:
— Простите, Евдокия Михайловна, что я Вам говорю это при первой же встрече… Вы, конечно, подумайте… Я понимаю, что сразу нельзя решить… но… одним словом, я прошу Вас быть моей женой…
Она тихо вскрикнула и, пораженная, несколько минут молча смотрела на него широко раскрытыми глазами, потом вдруг закрыла лицо ладонями и зарыдала.
Он страшно растерялся и, придвинувшись к ней, заговорил умоляющим тоном:
— Ради Бога, простите меня! Я никак не думал, что обижу Вас. Если Вы не хотите, то и не будем говорить об этом. Пожалуйста, извините!
— Да разве я плачу от обиды? — прошептала она. — От обиды я не заплакала бы, потому что слишком давно привыкла к ним: но Ваши добрые слова просто перевернули мне душу!
Нет, это не обида, а такое счастье, о котором я никогда не смела и мечтать! Ведь я знаю, чтo я ужасно нехороша, я еще в детстве поняла это и была злая, завистливая, потому что никто никогда меня не любил.
Родители постоянно попрекали меня тем, что я всю жизнь просижy у них на шее, сестры на каждом шагу, может быть, и бессознательно, оскорбляли меня, и эти оскорбления, это постоянное подчеркивание того, что я не такая, как они, глубоко меня задевали.
Ведь душа-то у меня такая же, как и у них. На меня иногда нападало отчаяние, я чувствовала себя лишней на свете, всем только мешающей… Два года тому назад я бросилась в пруд и утонула бы, но меня вытащили и откачали. И тогда меня только выбранили за «скандальство», как выразилась маменька. Поверите ли Вы, что я буквально никогда и ни от кого не слышала ласкового слова? Правда, что и от меня его никто не слышал. И вдруг все это так изменилось с Вашим приездом… Мне просто не верится, что это не сон!
— Нет, это не сон! — ласково проговорил Арсений, беря ее руку. — Значит, Вы обещаете мне подумать о моих словах, не правда ли? Обещаете, да?
— Что же мне думать? — бесхитростно возразила она. — Но Вы должны хорошенько обсудить этот вопрос, и только тогда сказать моему отцу. Я была бы еще несчастнее прежнего, если бы Вы потом стали раскаиваться в необдуманном шаге.
— Я не раскаюсь, — спокойно сказал он. — Но, если хотите, я приеду опять через неделю.
— Хорошо.
В эту минуту с балкона послышался командирский голос матушки, звавшей молодых людей ужинать, и разговор их прервался на этом решении.
Сейчас же после ужина гости уехали, благодаря хозяев за радушный прием и прося навестить их.
Отдохнувший за день Пегашка бодро бежал по ночной прохладе, довольно-таки безжалостно встряхивая своих господ на бесчисленных рытвинах проселочной дороги.
— Ну что же ты скажешь, Сеня? — спросил отец Николай, как только они немного отъехали от священнической усадьбы.
— Скaжy, отец, что жребий брошен, — решительно ответил молодой человек. — Я сделал предложение Евдокии Михайловне и получил ее согласие. Но она хочет, чтобы я хорошенько обдумал этот шаг и не ранее недели приехал переговорить с ее отцом.
— Что ж, дай тебе Господь всего лучшего, сынок! — с невольным вздохом отозвался старик. — Уж очень неказиста твоя нареченная, да и старше тебя. Однако, если она девица обстоятельная, так оно, пожалуй, и лучше: хорошею женою будет, и счастье свое станет больше ценить, чем эти разные вертушки, которые на картинку похожи…
Арсений не слушал отца. Он задумчиво смотрел перед собою в ту сторону, где жила Наташа, где за смутной пеленой тумана, поднявшегося над рекою, ему рисовались недавнее прошлое и прежние мечты: счастье, любовь, роскошь, заманчивая Италия, быть может, всемирная слава… Но ему не было жаль того, от чего он безвозвратно отрекся. Напротив, в его душе росло и ширилось радостное праздничное чувство от того, что он сегодня сделал счастливым исстрадавшееся человеческое существо, и это казалось ему хорошим предзнаменованием.
Еще вчера манивший его путь, усеянный розами наслаждений, казался ему теперь тусклым, давно забытым сном, а нужным и желанным представлялся лишь новый избранный им путь, тяжелый и тернистый, но озаренный светом христианского подвига.
В. Павловский
Ошибка
Из путевых встреч
Весенний теплый вечер упал как-то сразу, темная пелена его легко укутала слабо волновавшееся море, слила резкие контуры горных очертаний берега, изменила даже размеры самого парохода, на котором я ехал.
На верхней палубе находилось мало пассажиров, но их не было видно; только красноватые точки закуренных папирос и сигар и тихий разговор, изредка прерываемый смехом и громкими восклицаниями, говорили об их присутствии.
Рядом со мной сидели: с правой стороны какой-то пожилой мужчина, закутанный, несмотря на теплую погоду, в пальто, с левой — тоже уже не молодой хохол, не то актер, не то провинциальный чиновник, очень оживленный, веселый, все время пытавшийся разговориться со мной.
Сосед справа настойчиво курил сигару и молчал, лишь изредка негодующе замечая, когда веселый смех другой группы пассажиров переходил в визгливый хохот:
— Ишь их разорвало, визжат, как поросята!
Сидевший слева стал внимательно вглядываться по направлению хохотавших.
— Ну их, ничего не видно, — махнув рукой, заметил он и затем, еще более оживившись, продолжал:
— В темноте действительно трудно кого-нибудь узнать, а вот как днем при белом свете могут люди не узнавать друг друга и ошибаться — трудно себе и представить!
— Ну, уж это редко бывает, — желчно буркнул мой другой сосед.
— Позвольте Вам доложить, что еще недавно самоличным свидетелем подобному факту соприсутствовал, — торжествующим тоном сказал первый, точно обрадовавшись возможности продлить разговор, — если желаете, расскажу, как это случилось.
И, не ожидая нашего согласия, он начал рассказывать: «Пришлось мне этак же вот, как и теперь, ехать на пароходе. Сел на него, как помню, вечером поздно, отыскал свою каюту и сейчас же залег спать. Целый день приходилось бегать по делам, очень устал, рад был улечься: тоже ведь не молодой человек! Крепко проспал всю ночь, но поднялся рано и выбрался на верхнюю палубу. Погода стояла чудная, на небе ни тучки, раннее солнце еще не палило, как обыкновенно летом на море, волн не было, пароход шел ровно, машина мягко постукивала, сирена не рвала нервов, а я с удовольствием расселся на раскидном стуле, забытом кем-то здесь с вечера, и наслаждался тем чудным состоянием покоя, которое можно испытывать только на море при подобных благоприятных условиях, присовокупив к ним еще одиночество.
Оно, впрочем, продолжалось недолго. Между медными поручнями лестницы, ведущей книзу, показалось сперва бледное, вдумчивое лицо с плотно надвинутым на лоб клобуком, а затем высокая худощавая фигура еще не старого монаха.
Окинув глазами широко раскинувшийся простор водной равнины, красивые очертания горной береговой полосы, монах сел в уголок на скамейку, вынул из кармана черной рясы небольшую книжку и погрузился в чтение, точно не замечая моего присутствия.
Мало-помалу на палубе появились другие пассажиры, послышался громкий разговор, стало людно и шумно, но инок по-прежнему не обращал на посторонних никакого внимания и, не поднимая глаз, продолжал читать.
Его неподвижная черная фигура казалась каким-то изваянием, только белые сухощавые пальцы правой руки методически перевертывали прочитанные листы, левая же рука твердо сжимала переплет книги. Не пошевелился он и при звуке колокольчика, сзывавшего классных пассажиров к завтраку. Один из них, проходя близко около монаха, нечаянно наступил ногою на раскинувшийся на полу конец его длинной рясы и извинился, но читавший, не отрываясь от книги, только оправил рясу и ничего не сказал в ответ.
Поднявшись снова после завтрака на палубу, я уже больше не видел монаха. Вероятно, он тоже ушел закусить в свою каюту, за общим столом его не было, т. к. мясное, поданное за завтраком, — не монашеское блюдо.
Немного позже полудня вдали на берегу показались золотые кресты храмов, а скоро и сам монастырь, куда я ехал, раскинулся на зеленом взгорье.
Картина превосходная, но долго любоваться ею не приходилось, нужно было собирать багаж и приготовиться к высадке с парохода, тем более, что пароход останавливается там в море довольно далеко от берега и монастырские баркасы переправляют пассажиров и багаж на сушу. Скоро загремели якорные цепи, пароход наш остановился. От берега отплыли баркасы с пассажирами, едущими из монастыря.
Кинули трап для чистой публики, для третьеклассников подошел отдельный бот, им пришлось во избежание задержки подниматься по веревочной лестнице, таким же образом совершалась и обратная процедура.
Прибывший на пароход распорядитель, грузный монах, вошел в капитанскую каюту по делу, а помощник его, юркий молодой послушник, начал сортировать cъезжающиx на берег пассажиров.
— Ну, ну, отец, ступай к тому сходу, — послышался его настоятельный голос.
Я обернулся и посмотрел. Сидевший утром со мною на палубе степенный монах хотел опуститься по трапу с остальными перво- и второклассниками в лодку, но, услышав приказание послушника, пошел к борту, где по веревочной лестнице спускались в другой баркас простые послушники. Он наклонился и посмотрел через борт: лодка была переполнена народом, сидеть не представлялось возможности, да и стоять было тесно. Монах вернулся обратно к трапу; его черную фигуру, видневшуюся среди других, сейчас же заметил воинствующий послушник и энергично замахал руками:
— Сказано, ступай туда, значит, и спускайся там, ишь какой строптивый, а еще инок! — крикнул он скромному пассажиру, не успевшему еще сказать ему ни одного слова. Последний послушно вернулся к веревочной лестнице, передал небольшой чемоданчик придерживавшему лестницу матросу и, подняв немного длинную рясу, стал спускаться в лодку. К пристани оба баркаса приплыли почти одновременно; наш причалил немного раньше, и я, выбравшись на сушу, медленно брел по пристани, любуясь красивыми, не знакомыми мне местами.
Товарищи мои, пассажиры второго класса, тоже не спешили, к нашей кучке присоединился и приехавший с нами монах. Он шел молча, внимательно оглядывая девственно-белый, красиво расположенный на горе монастырь, ряды тихих прудов налево от дороги, длинные аллеи из кипарисов. Легкая улыбка скользила по его умному лицу, когда взор падал на купы цветов, раскинутых повсюду. Северянина картина этой дивной природы захватывала, очаровывала богатством красок, очертаний, чудным благоухающим воздухом.
Мы подходили к воротам нижнего монастыря. Гостиница находилась тут же за воротами, направо. Монах продолжал идти вместе с нами.
— Не туда, не туда идешь, отче! — снова раздался резкий окрик послушника, командовавшего на пароходе. — Ну уж и строптив ты, в самом деле, как я погляжу! Налево ступай, вон туда, ниже, чего с господами богомольцами увязался!
Точно так же не ответив ни слова, наш путник молча поклонился нам и, повернув, пошел по дороге, указанной ему послушником. Очень может быть, этот немного странный для всех случай так бы и забылся, тем более, что у монашествующих свои правила, предписывающие им строго исполнять все условия чужой для них обители, но всесильный случай заставил меня и моих товарищей присутствовать в продолжении всей этой истории.
В прежнее время по монастырям, рассеянным по земле русской, никто и никогда не спрашивал паспортов: «богомолец», прибывший помолиться, — вот и весь паспорт; в редких случаях, когда вашей личностью заинтересуются, если вы сделаете большой вклад в гостиничную казну, или еще чем-нибудь особенным, спросят, — как ваша фамилия, и то осторожно, вкрадчиво. Теперь же, после 1905 года, повсюду требуют «письменный вид». Спросили и у нас. Младший гостинник понес наши паспорта к старшему, в его келию; мы пошли следом, чтобы после взять их обратно. Крепкий еще старик с густой волною рыжих, слегка тронутых сединой волос, напялив на нос серебряные очки, держал в руке большую пачку паспортов и, прочитав каждый из них, откладывал на стол. До наших «видов» добираться ему было еще долго, они лежали в самом низу.
— Не торопите меня, господа почтенные, дайте как следует все вычитать, — сказал он нам.
— Ничего, подождем, отец Авенир…
Больше двух десятков паспортных книжек, свидетельств и других «видов» лежало уже на столе, когда вдруг грузный монах, держа в руках новый «вид», неожиданно припрыгнул на своем табурете, на лице у него появилось расстроенное выражение, рука, державшая паспорт, затряслась, и широкий лоб сразу покрылся каплями пота.
Старый монах вторично внимательно перечитал так заинтересовавший его паспорт, испуганно шепча:
— Господи! Господи! Вот искушение какое! Что же тут и делать, как быть, недоумеваю!
Он растерянно озирался по сторонам, потом, осторожно положив на паспорта кипу уже раньше просмотренных, поднялся с табуретa, порывисто сорвал с гвоздя висевшую на стене рясу и, ничего нам не сказав, опрометью убежал из келии. Слышно было, как тяжелые сапоги его застучали по ступеням лестницы, трещавшей под его грузной фигурой. Взглянув в окно, мы заметили, как отец Авенир «на рысях» несется по кипарисовой аллее к верхнему монастырю.
Заинтересовавшись таким неожиданным поспешным бегством гостинника, я наклонился к открыто лежащему паспорту и с изумлением прочитал:
— «Архиепископ… й и …й Агний»!
— Да, история, — глубокомысленно заметил один из моих спутников, когда мы вышли из гостиницы на двор, горя нетерпением разузнать, чем же это все окончится, и посматривая на верхнюю дорогу.
Ожидать пришлось недолго. Скоро из кипарисовой аллеи показалось пять монашеских фигур. Иноки быстро шли к низу, длинные мантии их, видимо, мешали им двигаться еще скорее. Когда они поравнялись с нами, я признал в четырех пожилых иеромонахов, двое из них несли блюдо с крестом, другие держали еще что-то в руках, пятый был сам архимандрит-игумен, «ветхий деньми», но еще живой, деятельный старец. Невольное любопытство заставило нас присоединиться к шествию, и мы пошли за ними.
Архимандрит с монахами направились к другой гостинице, отведенной для помещения простых деревенских богомольцев. Не предупрежденный о посещении архимандрита, гостинник широко распахнул двери перед спешившими войти иеромонахами. Лицо его изображало тоже изумление. Нашего отца Авенира нигде не было видно, он не успел еще вернуться.
Большое помещение для простонародья было переполнено. В обители предстоял храмовой праздник, к нему много съехалось паломников, везде на нарах и табуретах сидел народ.
При появлении игумена с монахами в мантиях все быстро вскочили. В глубине общего помещения у последнего окна сидел мой давешний пароходный спутник; на подоконнике лежали бумаги, монах весь погрузился в работу, он что-то писал карандашом, не обращая внимания на шум при входе игумена с монахами.
Старые, но зоркие глаза игумена сразу отыскали того, кого ему было нужно. Минуя паломников, просивших его благословения, он продвигался к сидевшему у окна монаху. Когда шествие было уже недалеко от последнего, он поднял голову и посмотрел на вошедших. Ему было понятно их появление.
Не доходя несколько шагов до него, игумен с его спутниками опустились на колени, поклонились земле и в один голос промолвили:
— Прости нас, святый Владыко!
Монах быстро подошел к архимандриту, помог ему подняться, приложился ко кресту, поцеловал и его самого (когда он наклонился, из-за края его рясы выдвинулся край епископской панагии) и спокойно ответил:
— За что мнe вас прощать! Все мы грешны!
— Виновны пред тобою, что не признали…
Слабая улыбка скользнула по бледному лицу Владыки.
— Вины ничьей здесь нет! Никто вас не оповещал о моем прибытии, я проездом хотел помолиться вашим святыням, — продолжал он, благословляя иеромонахов.
— Просим, святый Владыко, в уготованное для Вас помещение…
— К чему это, мне и здесь удобно, — смиренно ответил тот в ответ.
Но, замечая, что монахи с настоятелем снова готовы упасть на колени, просто сказал:
— Исполняю Ваше желание, отец архимандрит и братия, — пойдемте.
И, предшествуемый игуменом с крестом в руках, направился из помещения гостиницы, благословляя ставших на колени паломников.
Только что он вышел на монастырский двор, как со всех колоколен раздался громкий перезвон колоколов, а с верхней дороги потянулась ему навстречу длинная лента крестного хода.
Мы тоже пошли вслед за архиереем. Проходя мимо какого-то строения, я случайно заметил боязливо смотревшего из полуоткрытой двери воинствовавшего на палубе послушника. Бледный, как полотно, он боязливо смотрел на проходившего мимо Владыку: невеселые, наверное, думы роились в его голове…
Войдя в собор, архиерей сразу преобразился: в величественном, с высоко поднятой головой Владыке трудно было признать нашего недавнего спутника, так скромно державшего себя на пароходе. Многочисленные иеродиаконы, кадящие перед ним по местному обычаю ручными кадильницами с серебряными бубенцами, блестящий клир священнослужителей, длинные ряды монашествующих и богомольцев невольно возвышали его над всеми.
Начался благодарственный молебен. Только что облаченный Владыка начал служить сам…
Мы вышли из храма».
— Да, бывают на свете разные истории, — процедил мой сосед справа, — не всем им возможно верить, но в этой я не могу сомневаться, потому что сам ей соприсутствовал.
Рассказчик и я с изумлением на него посмотрели.
— Я приехал днем раньше в эту обитель и знал, что преосвященный Агний прибудет на другой день, но так как он мне запретил предупреждать об этом, то я и умолчал, и вот что вышло!
Мы познакомились все трое друг с другом, и я убедился, как трудно судить по наружности: рассказчик, в котором я подозревал актера, оказался известным педагогом, а молчаливый старик — крупным чиновником духовного ведомства.
Г.Т. Северцев-Полилов
Молитва
Из воспоминаний проезжего
Я ночевал у отца Анатолия. Наши научники и грамотеи считают его «горе-священником» — так как он и умом скуден, и образования маленького, и ликом неказист, и проповеди у него нескладные, и мужицкая речь. «Но зато в Бога так верит, — говорили в ответ полюбившие его, — что чудеса творить мoжeт!».
Окна батюшкиной горницы выходили в сад. Была белая ночь, сирень цвела, раздавались хоры соловьев. Отец Анатолий стоял у окна и несколько раз оборачивался в мою сторону, видимо, ждал, когда я засну.
Я притворился спящим. Отец Анатолий снял с себя затрапезный заплатанный подрясник, облекся в белый, из-под которого были видны дегтярные, мужицкие сапоги. Он к чему-то готовился. Расчесывая рыжевато-пыльную бороду и такие же волосы, рука его вздрагивала. Мне казалось, что по его грубому крестьянскому лицу прошла судорога и между густыми бровями залегло раздумье. Оглянувшись еще раз на меня, он встал на табуретку, зажег огарок свечи и большой для его маленького роста сумрачной земледельческой рукой стал затепливать перед иконами все лампады.
Темный передний угол осветился семью огнями. Встав перед иконами, отец Анатолий несколько минут смотрел на эти огни, словно любуясь ими. От его созерцательного любования в горнице и в сиреневом саду стало как будто тише, хотя и пели соловьи. И вдруг эта тишина неожиданно вздрогнула от глухого вскрика и тяжелого падения отца Анатолия на колени. Он приник головой к полу и минут десять лежал без движения. Меня охватило беспокойство. Наконец он поднял лицо к Нерукотворенному Спасу — большому черному образу посредине, и начал разговаривать с Ним. Вначале тихо, но потом все громче и горячее:
— …Опять обращаюсь к Твоей милости, и до семидесяти седмин буду обращаться к Тебе, пока не услышишь меня, грешного священника Твоего! Подними с одра болезни Егорку, Господи… семь годков-то ему всего… пожить еще хочется… только и бредит лугами зелеными, да как грибы пойдет собирать и как раков ловить… Утешь его, мальчонку-то! Возьми его за рученьку! Обними его, Господи! Господи! Один он у родителей-то! Убиваются они, ибо кормилец и отрада их умирает!..
Господи! Как мне легко помыслить о Воскресении Твоем, так и Тебе исцелить младенца! Надоел я Тебе, Господи, мольбами своими, но не могу отступить от Тебя, ибо велико страдание мальчонки!
Отец Анатолий опять приник лбом, и уже всхлипом и стоном выговаривал слова:
— Помоги! Исцели! Егорку-то, младенца Георгия!
Он протянул вперед руку, словно касался края одежды стоящего перед ним Бога. Это было страшно! В бедной, вдовьей избе, среди суровой мужицкой обстановки, освященной лишь лампадными огнями, — священник, похожий на мужика, разговаривает с Богом и, может быть, видит неизреченное Его сияние!
Так молиться может только Боговидец!
Отец Анатолий положил три земных поклона и как бы успокоился. Несколько минут стоял он молча, изможденный и бледный, с каплями пота на сияющем лбу. Губы его дрогнули. Он опять заговорил с Богом, уже тише, но с тем же упованием и твердостью:
— …Aз, недостойный и грешный священник Твой, молил Тебя неоднократно, спаси от зловредного винопития раба Твоего Корнилия… и паки молю: спаси его! Погибает он! Жена его плачет, дети тоже… скоро пойдут кусочки собирать… Не допусти, Господи! Подкрепи его… Корнилия-то!
Прости такожде раба Твоего Павлушку… т. е. Павла, Павла, Господи! Я это все по деревенскому изъясняю. Огрубел мой язык… Так вот этот Павлушка… по темноте своей… по пьяному делу песни нехорошие пел про святых угодников. Проходя с гармоникой мимо церкви, плевался на нее. Ты прости его, Господи! Озари, Господи, душу его! Он покается…
И еще, Господи, малая докука к Тебе — награди здоровьем и детьми хорошими Ефима Петровича Абрамова… Он ведь за свой счет подсвечники в церкви посеребрил и обещал даже ризу мне новую купить, а то моя совсем обветшала… в заплатках вся… Благослови его, Милосердный… он ведь добрый! О чем же я еще хотел молить Тебя? Да! — вот урожай пошли нам хороший, и чтобы и травы, и былины были, и всякая овощь, и плод…
— …А Дарья-то Иванникова поправилась, Господи! Благодарю Тебя и воспеваю Пречестное имя Твое! Три зимы она лежала в расслаблении и скорби, а теперь ходит и радуется!
— Вот пока и все… Да вот еще что: спаси и помилуй гостя моего, зде лежащего, раба Твоего Василия… Ему тоже помоги… Он душой мается… И еще спаси и сохрани… раба Твоего… как это его по имени-то!
Отец Анатолий замялся и стал припоминать имя, постукивая по лбу согнутым пальцем:
— Как же это его?.. Вот память то моя стариковская! Да вот этого, что у Святой горы проживает… и пчельник еще у него… валенки мне подарил, добрый он… его все знают… борода до пояса у него. Ну как его величают?.. На языке имя-то…
Отец Анатолий постоял перед Господом в задумчивости и кротко сказал Ему:
— Ты все знаешь, Господи! Ты всех знаешь!.. Прости меня, Милосердный, за беспокойство! Тяжко, поди, Тебе, Господи, смотреть на нас, грешных и недостойных!
Отец Анатолий погасил лампады, оставив лишь гореть одну перед Нерукотворенным Спасом. Проходя к своему соломенному ложу, он остановился около меня и вздохнул:
— Спит человек! А спать-то пошел, видно, не помолившись… Эх, молодость! Ну что тут поделаешь? Надо перекрестить его… Огради его, Господи, силою Честнаго и Животворящего Твоего Креста и спаси его от всякого зла!
Истинный пастырь Божий
Повесть
Бог нам прибежище и сила! (Пс.45:2)
Велика рать Христовых верных служителей! Большая часть их, как пчелки, незаметно для мира трудятся на ниве Господней, но есть и такие, которые, как звезды небесные, ярко сияют благодатию Христовою. Благодарное потомство свято хранит память о таких подвижниках евангельской любви.
В назидание нам вот что передается об одном истинном пастыре, священнике села Спас-Чекряк Орловской губернии отце Георгии Косове. Поступив в этот приход, отец Георгий нашел здесь такую бедность и запущенность, что совсем собрался было уходить отсюда, чтобы не умереть с голоду, и особенно потому, что здоровье его было так плохо, что он кашлял кровью. Но он остался, и лишь потому, что отец Амвросий Оптинский удержал его от перехода. Повинуясь совету великого старца, отец Георгий остался в Спас-Чекряке, и с тех пор через него великая сила Божия совершается здесь. Устроен великолепный храм, трехэтажный дом трудолюбия, школа и дом странноприимный, толпы богомольцев теперь стекаются отовсюду. Как же все это совершилось?
Вот что рассказывал об этом сам отец Георгий:
— Когда я приехал сюда, меня оторопь взяла: что мне тут делать? Жить не в чем, служить не в чем, дом старый-престарый. Церковь того и гляди сама развалится. Доходов почти никаких. Прихожане удалены от храма и причта. Народ бедный, самому кормиться нечем. Что мне тут было делать?
Священник я в то время был молодой, к тому же слаб здоровьем. Матушка моя была бедная сирота. Поддержки ниоткуда не было, а на моих руках были еще младшие братья. Осталось бежать. Так я и замыслил.
На ту пору велика была слава отца Амвросия. Оптина от нас верстах в шестнадцати. Как-то по лету в одну из бессонных ночей задумал я пойти к батюшке. Собрался. Вмиг котомку на плечи, и пошел к нему за благословением уйти из прихода. Часа в четыре дня я был уже в Оптиной. Батюшка меня не знал. Прихожу в хибарку его, а там народу — тьма, дожидаются выхода батюшки.
Отошел я в сторонку и стал дожидаться. О цели своего прихода я никому не сказал. Смотрю, он выходит, да прямо меня и манит к себе.
— Ты, иерей, что там такое задумал? Приход бросить? Ты знаешь, Кто иереев ставит? А ты бросать? Строй новый да большой храм. И полы чтобы в нем были деревянные: больных приводить будут, так чтобы им тепло было. Ступай, ступай домой, дурь из головы выкини, да храм-то, храм строй, как я тебе говорю! Ступай, Бог благословит! — сказал и пошел с другими беседовать.
Я слова не смог выговорить. Пошел домой, как оплеванный. Что же это такое? Каменный храм строить мне? Я с голоду, почитай, умираю, а тут храм строить? Ловко утешил, нечего сказать! Домой пришел, отделался от вопросов сам не знаю как. Сказал только, что не благословил старец просить перевода. Что у меня тогда на душе происходило — и передать не могу. Напала на меня тоска неотвязная. Молиться хочу — молитва не идет на ум. С людьми, с женой не разговариваю. Задумываться стал. И стал я голоса какие-то слушать и ночью, и днем: «Уходи скорее. Ты один, а нас много! Где тебе с нами бороться! Мы тебя совсем по свету сживем!»
Дело дошло до того, что не то, что молиться, а мысли богохульные стали в голову лезть; придет ночь — и сна нет, а какая-то сила прямо с кровати сбрасывает. А голоса-то все страшнее да страшнее, все грознее и настойчивее: «Ступай, ступай отсюда!».
Я опять в ужасе, почти полупомешанный от перенесенных страхов, бросился к отцу Амвросию. Отец Амвросий, как увидел меня, да прямо с места, ни о чем меня не расспрашивая, и говорит мне:
— Ну, иерей, чего испугался-то? Он один, а Вас двое!
— Как же это так, — говорю, — батюшка?
— Христос Бог да ты, вот и выходит двое, а враг-то — он один. Ступай, — говорит, — домой, ничего впредь не бойся, да храм-то, храм большой каменный, да чтобы теплый, не забудь, строить. Бог тебя благословит!
С тем я и ушел. Прихожу домой — с сердца точно гора свалилась. И отпали от меня все страхи. Стал я молиться пред иконой Царицы Небесной, да и начал в одиночку в пустой церкви канон Ей читать, тот, что и теперь читаю. Кое-что из других молитв стал добавлять. Смотрю, так через неделю-другую один пришел в церковь, стал в уголке да со мной вместе и молится, а там другой, третий, и стала церковь наполняться народом. А как помер батюшка отец Амвросий, народ начал весь к Чекряку прибиваться. Советов от меня ищут. Без отца Амвросия жутко стало жить на своей-то волюшке, трудно человеку без слова утешения. Ну, да какой я утешитель! Вот отец Амвросий и впрямь был всяких недугов душевных и телесных, по великой милости Божией, врачеватель! Впрочем, по вере ищущего Господь ему не отказывает в его прошении и через недостойных пастырей, Им поставленных.
Вот рассказ посетителя села Чекряк (Сергея Нилуса) о том, как проходит день отца Георгия:
«Маленькая тесная церковочка, вида весьма древнего, уже была переполнена народом, когда я, запыхавшись, вбежал по ветхим ступеням ее убогого крыльца.
Народ стоял все более простой — мужики да бабы. Я подошел к свечному ящику. Нестарая повязанная черным платочком женщина продавала свечи. Я заметил, что все выложенные на ящике свечи были двухкопеечные. Народ подходил, брал свечи, клал деньги, сдачу не брал. Клали двугривенные, прозвенел чей-то полтинник. Я тоже положил рубль. Народу было много, но стояла тишина, полная сосредоточенного благоговения. Я взял три свечи и, пробираясь через толпу, пошел их ставить к «местным» образам на иконостасе. За левым клиросом у какого-то образа теплилось множество свечей, и было заметно, что вся масса жалась именно к этому образу.
Батюшки в храме не было видно. Положив низкий поклон, я поставил свечку святителю Николаю. Несмотря на тесноту в церкви, в ней было холоднее, чем на открытом воздухе. Перед образом Богоматери свеча моя, уже поставленная, свалилась и упала зажженным концом на шитое полотенце, украшавшее Лик Пречистой.
Из-за плеча моего порывисто потянулась чья-то рука, успевшая вовремя подхватить свечу. Я оглянулся и обомлел. В пол-оборота от меня стоял батюшка. Привычной твердой рукою он поставил мою свечу и, не глядя на меня, пошел оправлять и зажигать другие лампадки.
Но век мне не забыть того впечатления, какое оставила в моей душе эта первая встреча с ним. Я был потрясен, даже испуган: как если бы из образа Иоанна Крестителя, каким его обыкновенно пишут, вдруг вышел Сам Предтеча Господень и стал зажигать на моих глазах лампадки. Впечатлял облик отца Георгия.
Старая заношенная риза, темные, с небольшой проседью волосы, закинутые со лба назад непослушными, мелко вьющимися прядями, небольшие усы, открывающие характерный рот, в котором так и отпечатался характер стойкий, точно выкованный из железа, глаза небольшие, но горящие каким-то особенно ярким внутренним огнем, со взглядом, глубоко устремленным внутрь себя из-под глубоких резких складок между бровями. Вся фигура отца Георгия поражала сходством с тем, кто, по преданию, рисуется нашему верующему представлению как глас вопиющего в пустыне. И обстановка, окружающая отца Георгия, так напомнила ту пустыню, только не знойную пустыню Иордана, а нашу холодную, снежную.
Пока батюшка оправлял лампаду, я стал у правого клироса, где было немного посвободнее от толпы. я глаз не мог оторвать от отца Георгия. Вихрем в голове моей пронеслась вся история Христовой церкви на земле, вся история ее младшей дочери, Православной Русской Церкви, исполненная дивных образов верных ее воинов, несших ее победные венцы в борьбе с внутренними и внешними врагами, с врагами земными и врагами злобы небесной — бесчисленною ратью князя мира сего. Передо мной, очевидно было, предстоял один из таких воинов.
Порывистой, быстрой походкой отец Георгий вошел в алтарь. Через минуту он вышел оттуда, неся в руках аналой и толстую книгу в кожаном переплете. Толпа почтительно и бесшумно подалась назад и открыла доступ батюшке к левому клиросу. Все молящиеся как-то насторожились в благоговейном молчании. Тихо, проникновенно и вместе с тем властно раздался призыв отца Георгия.
— Три поклона Божией Матери! — и вся толпа, как один человек, во главе с батюшкой разом опустилась троекратно на колени. В отдаленном углу церкви раздалось чье-то тихое всхлипывание. Многие, как опустились на колени, так и остались в этом положении.
— «К Богородице прилежно ныне притецем, грешники и смиренные, и припадем в покаянии, зовущем из глубины души», — раздались слова знакомого молебного канона к Пречистой.
Какой проникновенный, исполненный беспредельной веры голос читал эти дивные покаянные слова!
Толпа замерла. Казалось, вся ее бесчисленная скорбь слилась в одно общее молитвенное напряжение, и голос отца Георгия уже был не его голосом, а голосом всей этой народной груди, захлебывающейся от едва сдерживаемых затаенных рыданий. И слезы, бесшумные, тихие, текли из глаз многих.
— «Моление теплое, и стено необоримое, милости источниче, мирови прибежище, прилежно вопием Ти: Богородице, Владычице, Предвари и от бед избави нас, едина в скорби предстательствующая!»
Это была теплая неотступная просьба. Чудилось, что Та, к Кому относилась эта просьба, была тут, с нами, что Она слышала нас, слушала благосклонно своего верного служителя, скорбела с ним, с нашими скорбями.
Прочел батюшка часть канона, взошел на солею, снял стаканчик лампады от образа святителя Николая и с лампадой этой в руках, не глядя ни на кого, все с тем же устремленным вглубь себя взором пошел по народу, знаменуя маслом из лампады на челе и на руках молящихся крест Господень.
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Как звать?
— Андреем, батюшка!
Отец Георгий, близко не дойдя до меня, пошел в сторону. Неужели я такой грешник? Мне стало жутко.
Отец Георгий внезапно очутился около меня.
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Как звать?
— Сергий!
Я было от неожиданности забыл свое имя. Батюшка крестообразно помазал мне лоб.
Какая-то молодая женщина сует батюшке в руки целую четвертную бутыль.
— На что берешь воду?
— Да я — дальняя, себе беру. И соседи просили.
— Во Имя Отца и Сына и Святого Духа! Не моя водица, а святая, Самим Господом освященная, помогает во хвори, от болезней!
И на все вопросы, на всякий крик сердечный давно наболевшего горя у отца Георгия находилось слово привета. В каждом его совете чувствовалось такое знание сердца человеческого, такое проникновение в самую глубь народного быта, что ни один человек не отходил от него не утешенным. Чувствовалось, что каждый получал утешение, и именно то, которого жаждала его душа.
Около часа простоял я в своем уголке, с невыразимым вниманием наблюдая эту удивительную, никогда не виданную картину. Я чувствовал, что утомился от долгого стояния, а батюшка, казалось, не чувствовал усталости: все тот же бодрый, участливый голос его раздавался по церкви. Что за удивительная сила духа! И этот человек «уж больно хвор был»! Часа два стоял я на церковном крыльце, дожидаясь выхода батюшки из церкви. Исповедники его задерживали. От начала канона прошло уже пять часов. Наступали ранние зимние сумерки. Прошли из церкви мимо меня две прилично одетые женщины.
— Скоро батюшка выйдет?
— Должно быть, сейчас! В церкви, кажется, никого нет.
Я остался один. Начинало понемногу темнеть. Весь народ попрятался от крепчавшего мороза по теплым уголкам, где кто мог найти себе местечко. Батюшка все еще не выходил. Наконец взвизгнула на застывших тяжелых железных петлях дверь, и отец Георгий вышел из церкви, разговаривая с каким-то человеком. Он сам запер церковные двери, попробовал замок, хорошо ли заперт, и, заметив, вероятно, мое ожидание, стал прощаться со своим собеседником.
— Бог благословит! Поезжайте с Богом! — говорил батюшка, пока тот принимал благословение.
Я тоже подошел под благословение. Как-то особенно, с каким-то особым дерзновением, широким иерейским крестом он благословил меня. Мы вдвоем пошли рядом.
— Батюшка, я издалека приехал! Можно к Вам зайти в дом? Мне очень нужно с Вами поговорить!
— Милости просим! Пожалуйте!
По дороге к дому навстречу нам подбегали богомольцы, кто с вопросом, кто за советом. Точно чутьем каким учуяли, что идет батюшка. Господи! Как это сил хватает у этого человека? Какое чисто ангельское терпение! Только у самого дома его оставили в покое.
— Погрейтесь, пока я переоденусь, у печки, а то Вы, я вижу, застыли.
У меня от холода действительно зуб не попадал на зуб.
В кухню кто-то вошел. Послышался разговор. Чей-то недовольный голос раздался довольно громко:
— Да дайте же Вы наконец батюшке хоть поесть!
— Да как же, покойничка-то проводить ведь нужно?
— Не уйдет Ваш покойник!
В эту минуту прошел мимо меня отец Георгий, направляясь в кухню, откуда слышался разговор. Я стоял и грелся около печки. В комнате было холодно. В кухне неприятные разговоры замолкли. Вошел батюшка.
— Вот дело-то какое. Надо ехать в село, поднимать покойника, пока еще не стемнело. Вы уж простите, зайдите часов в восемь…».
О духовной мудрости и прозорливости отца Георгия ходит много рассказов. Вот что слышал один наблюдатель от своего знакомого:
— Есть у нас в Болхове купец богатый. Народу он на своем веку обидел без конца. Чего говорить, и своим родным пощады не давал. Под старость богомолен стал: жертвователем сделался, на церкви да на монастыри жертвовал. Прослышал он, что отцу Егору из-за денег тесненько. Поехал к нему наш богатей, да и говорит батюшке-то: “Наслышался я, что деньгами вы нуждаетесь, так, пожалуйста, Вам от меня на построение храма двадцать тысяч рублей от нашего усердия”. А батюшка ему говорит: “Бог строит, а мы у него — приказчики. По-людскому спасибо тебе на жертве, ну а Хозяин твоих денег брать не велит”.
— Как так?
— Да очень просто: деньги Ваши больно человеческими слезами подмочены, а такие Богу не угодны. Родные твои кровные по миру гуляют, а ты думаешь у Бога от их слез деньгами откупиться. Не возьму от тебя и миллиона. Возьму, когда ублаготворишь тобою обиженных.
Что же Вы бы думали? Ведь привел на совесть богатея-то нашего: теперь всех своих родных, кого обидел, на ноги ставит — дворы им строит, деньгами ублажает. Сторонних-то, им обиженных, и тех разыскивает, чтобы обиды свои выправить. Вот как наш батюшка людей на путь наставляет! Одно слово — истинный пастырь Божий!
Журнал «Кормчий», 1904 г., №58
Не дай, Господи, осуждать пастырей Церкви!
Из путевых воспоминаний
В июне 1861 года по делам службы проезжал я через Саратовскую губернию.
Остановившись для ночлега в с. Н., чрезвычайно поражен был я видом лица одного дворника. Этот дворник (Егор Федоров) был роста высокого, бороду и волосы имел черные, левый глаз его был гораздо ниже правого, не закрывался веком и стоял неподвижно; правая половина рта находилась у него почти против правого уха.
Принимаясь за чашку чая, я спросил дворника, отчего у него такое изуродованное лицо (без сострадания, право, нельзя было на него смотреть).
— Это за грехи мои, ваше благородие, наказал меня Господь, как некогда Каина за убийство брата, — отвечал дворник. — Я прежде был лицом как и ваша милость, и вот только годов десять стал такой страшный.
— Вероятно, какая-нибудь болезнь повредила твое лицо?
— Вестимо болезнь, да только сам и накликал ее на себя. Коли угодно послушать — расскажу. Я ведь всем каюсь в своих грехах.
«Однажды наш отец Василий, покойник уже, дай Бог ему Царствие Небесное, в одно воскресение сказывал на обедне проповедь, чтобы мы не пили вина — вино и здоровье портит, и бедным делает, и родит много других грехов. А я тут же у обедни еще умом-то пересудил его, а дорогою из церкви домой много хохотал над поучением отца Василия, да к тому же и других вводил в смех.
На дороге был кабак. Я взял человек пять приятелей и туда, и, как бы назло отцу Василию, стакана по два больших выпили вина и разошлись по домам.
В этот же день у кума вечером были крестины.
На крестинах был и я. Тут, как только ухватились мы за стаканы с вином, я опять принялся пересмеивать отца Василия за его проповедь о вине. За мною и другие посмеивались, потому что все мы не любили покойного, так как он был строг к нам. Праздниками, бывало, просишь-просишь его присесть — не тут-то было, на свадебных пирушках и на поминальных обедах никогда не саживался, потому что не любил пьянства и пустословия. Коротко сказать: сам не пивал, и нас у себя не поил.
Я был сердит на него еще, ведь по его жалобе окружной ссадил моего отца с мирских старост за то, что батюшка мой однажды хмельной побил крестьянина. Наконец, когда голова моя от вина одурела, я взял в одну руку бумажку, а в другую — стакан с вином и, став на скамью, будто на амвон, начал молоть всякий вздор, передразнивая и пересмеивая отца Василия. Он, как старичок, говорил неясно — и я говорил, перекосив рот, громко смеялся, а за мною и все. Кума Авдотья одна молчала и еще сказала нам, что не перед добром мы так смеемся. Но мы ее не слушали.
Так и случилось. Лишь только слез я со скамьи, вдруг в глазах у меня потемнело, ноги подломились, и я упал на пол без чувств. Что со мной было в то время — ничего не помню. Рассказывали, что как упал я — начало меня ломать: рот передернуло на бок, глаза перекосились.
Все перепугались, куда и хмель девался. Что делать? Привезли священника отца Егора, а отца Василия побоялись позвать, хоть духовник-то мой был он. Отец Егор пришел, а я лежал без чувств, как мертвый. Он так и ушел. Через полчаса после ухода его я опамятовался. Ребята опять привезли отца Егора. Но лишь только он переступил через порог избы — меня опять начало ломать, и я опять стал без чувств. Отец Егор и тут ушел. А я после него пришел в память. И это повторялось со мною шесть раз.
Тогда уже все одумались и заговорили, что это не простая болезнь, а казнь Божия и для пробы, что будет со мною, послали за отцом Василием — моим духовником. Он пришел. Все мои приятели пали пред ним на колени и рассказали о том, что я делал и что случилось со мною.
Я был в памяти.
— То-то, ребятушки, — сказал отец Василий, — я говорил вам — не пейте много вина.
И потом, положивши три земных поклона, прибавил:
— Простите меня вы, а я вас во всем прощаю.
Затем он исповедал меня и приобщил Святых Таин.
И мне тут же стало легче: ломота и судороги унялись, а через две недели я был совершенно здоров. Только знаки казни Божией на моем лице остались и до сей поры на поучение православным. Теперь видите, ваше благородие, отчего у меня такое страшное лицо: это за смех над духовником так Господь наказал меня. О, не дай, Господи, никому осуждать и пересмеивать пастырей Церкви, а паче духовников…» Окончив свой рассказ, Федор залился слезами и ушел от меня…
Капитан П. Новосельский
«Странник», духовный учено-литературный журнал,
январь – февраль 1862 г.
Медведь
Рассказ
Mитрополита Кирилла везли в ссылку.
В одну глухую ночь он был выброшен из вагона на всем ходу поезда.
Стояла снежная зима. Митрополит Кирилл упал в огромный сугроб, как в перину, и не расшибся. С трудом вылезши из него, он огляделся — лес, снег, и никакого признака жилья. Он долго шел цельным снегом и, выбившись из сил, сел на пень. Мороз пробирал до костей сквозь изношенную рясу. Чувствуя, что начинает замерзать, митрополит стал читать себе отходную.
Вдруг видит — к нему приближается что-то очень большое и темное, всмотрелся — медведь.
«Загрызет», — мелькнула мысль, но бежать не было сил, да и куда?
А медведь подошел, обнюхал сидящего и спокойно улегся у его ног. Теплом повеяло от огромной медвежьей туши и полным доброжелательством. Но вот он заворочался и, повернувшись к Владыке брюхом, растянулся во всю длину и сладко захрапел.
Долго колебался Владыко, глядя на спящего медведя, потом не выдержал сковывающего холода и лег рядом с ним, прижавшись к теплому животу. Лежал и то одним, то другим боком поворачивался к зверю, чтобы согреться, а медведь глубоко дышал во сне, обдавая его горячим дыханием.
Когда начал брезжить рассвет, митрополит услышал далекое пение петухов.
«Жилье близко», — мелькнула радостная мысль, и он осторожно, чтобы не разбудить зверя, встал на ноги, но тот поднялся тоже, отряхнулся и вразвалку побрел к лесу. А отдохнувший Владыко пошел на петушиные голоса и вскоре дошел до небольшой деревеньки.
Постучавшись в крайнюю избу, он объяснил, кто он, и попросил приюта, пообещав, что за все хлопоты и расходы заплатит хозяевам его сестра.
Владыку впустили, и он полгода прожил в этой деревне. Написал сестре; она к нему приезжала, а потом за Владыкой приехали и совсем увезли.
Долг платежом красен
Рассказ
Наша семья жила под Москвой в Ново-Гиреево, там у нас был свой дом, а Богу молиться мы в Никольское ездили или в Перово, в свой же приходский храм не ходили — батюшка не нравился, и диакон тоже. Потом батюшка умер, а вскоре за ним и диакон, к нам же прислали нового священника, отца Петра Константинова.
Слышим от знакомых, что батюшка хороший, усердный. Когда он первый раз в храм вошел и огляделся, то только головой покачал, потом велел сторожихе воды нагреть и, подогнув полы подрясника, принялся алтарь мыть и убирать. Даже полы там своими руками вымыл, потом попросил на другой день прихожан собраться и помочь ему храм привести в надлежащий вид. Нам такой рассказ понравился, и в первую же субботу мама пошла ко всенощной посмотреть нового батюшку.
Вернулась довольная, говорит:
— Хороший батюшка, Бога любит!
После этого вслед за мамой и мы все начали ходить в свой храм, а сестра пошла петь на клирос.
Потом мы с отцом Петром подружились и он стал нашим частым гостем. Был он не очень ученый, но добрый, чистый сердцем, отзывчивый на чужое горе, а уж что касается его веры, то она у него была несокрушимой. Женат он не был.
— Не успел. Пока выбирал да собирался, невесты замуж все повыходили, — шутил он.
Снимал он в Гиреево комнату и жил небогато, но нужды не знал. Как-то долго его у нас не было, и, когда он наконец пришел, мама спросила:
— Что же Вы нас, отец Петр, забыли?
— Да гость у меня был, епископ. Только-только из лагеря вернулся и приехал прямо в Москву хлопотать о восстановлении. Родных у него нет, знакомых в Москве тоже не нашел, а меня немного знал, вот и попросил приютить.
А уж вернулся какой! Старые брюки на нем, куртка рваная, на голове кепка, и сапоги каши просят — и это все его имение. А на дворе декабрь месяц!
Одел я его, обул, валенки купил новые, подрясник свой теплый отдал, деньжонок немного, и вот три недели он у меня жил; на одной койке спали, другой хозяйка не дала. Подкормил я его немного, а то он от ветра шатался, а вчера проводил: назначение дали.
Уж как благодарил меня. «Никогда, — говорит, — твоей доброты не забуду». Да! Привел меня Господь такому большому человеку послужить!
Прошло полгода, и отца Петра ночью взяли. Был 1937 год. Потом его сослали на 10 лет в концлагерь. Вначале духовные дети ему помогали и отсылали посылки с вещами и продуктами, но, когда началась война, о нем позабыли, а когда вспомнили, посылать было нечего: все голодали. Редко-редко с большим трудом люди набирали посылки, а потом распространился слух, что отец Петр умер. Но он был жив и страдал от голода и болезней. В конце 1944 года его еле живого выпустили и дали направление в Ташкент.
— …Ехал я в Ташкент, — вспоминал потом отец Петр, — и думал: «Там тепло, дай продам свой ватник и хлеба куплю, а то есть до смерти хочется». А дорога длинная, конца нет, на станциях все втридорога, и деньги вмиг вышли. Снял с себя белье и тоже продал, а сам в одном костюме из бумажной материи остался. Холодно, но терплю — доеду скоро. Добрался до Ташкента и скорей пошел в Церковное Управление; говорю, что я — священник, и прошу хоть какой-нибудь работы, а на меня только руками замахали:
— Много вас таких ходит, предъяви сначала документы. Я им объясняю, что только из лагеря прибыл, что документы в Москве и я их не успел запросить, и опять прошу любую работу дать, чтобы не умереть с голода до того времени, пока документы придут.
Не слушают — выгнали. Что делать? Пошел у людей приюта просить. На улице-то ведь зима.
— Ты, — говорят, — вшивый, и того… умереть можешь! Что с тобой, мертвым, делать? Иди к себе!
Встал я на паперти в кладбищенском храме с нищими, чтобы хоть на кусок хлеба попросить — побили меня нищие:
— Уходи прочь! Не наш! Самим мало подают!
Заплакал я с горя. В лагере и то лучше было. Плачу и молюсь:
— Матерь Божия, спаси меня!
Наконец упросил одну женщину, и она запустила меня в хлев, где у нее свинья была, так я со свиньей вместе и жил, и часто у нее из ведра еду таскал.
А в церковь кладбищенскую каждый день ходил и все молился; не в самой церкви, конечно, туда бы меня не впустили, потому что я весь грязный был, рваный, колени голые светятся, на ногах опорки старые, а главное — вшей на мне была тьма.
Вот как-то слышу — нищие говорят, что приехал Владыка Н…й и сегодня вечером на кладбище будет служить. «Господи! — думаю, — неужели это тот Владыка, которого я у себя в Гиреево привечал? Если он, попрошу у него помощи, может быть, старые хлеб-соль вспомнит».
Весь день я сам не свой ходил, волновался очень, а вечером раньше всех к храму пришел. Жду, а сердце колотится: он или не он? Признает или нет? Молюсь стою.
Подъехала машина, вышел Владыка. Смотрю — он! Тут я все на свете забыл, сквозь народ прорвался и не своим голосом кричу:
— Владыка, спасите!
Он остановился, посмотрел на меня и говорит:
— Не узнаю!
Как сказал, так народ давай меня взашей гнать, а я еще сильнее кричу:
— Это я, отец Петр из Ново-Гиреево!
Владыка посмотрел на меня, всмотрелся, слезы у него на глазах показались, и сказал:
— Узнаю теперь. Стойте здесь, сейчас келейника пришлю, — и вошел в храм.
А я стою, трясусь и плачу. Народ меня окружил, давай расспрашивать, а я и говорить-то не могу. Тут вышел келейник и кричит:
— Кто здесь отец Петр из Ново-Гиреево?
Я отозвался. Подает он мне деньги и говорит:
— Владыка просит Вас вымыться, переодеться и завтра после обедни прийти к нему!
Тут уж народ поверил, что я и вправду священник. Кое-кто начал к себе звать, но подошла та женщина, у которой я в золушке жил, и позвала меня к себе.
Истопила черную баньку и пустила меня туда помыться. Пока я мылся, она пошла и у знакомых на владыкины деньги купила мне белье и одежду. Потом отвела меня в комнату маленькую с кроватью и столиком.
Лег я на чистое, сам чистый, и заплакал:
— Царица Небесная, слава Тебе!
Благодаря стараниям Владыки отец Петр был восстановлен в своих правах священника и назначен вторым священником в тот самый кладбищенский храм, от паперти которого его гнали нищие.
Впоследствии нищая братия очень его полюбила за простоту и щедрость. Всех он их знал по именам, интересовался их бедами и радостями и помогал им, сколько мог.
Один раз, когда я приехал к отцу Петру в отпуск, мы шли с ним красивым ташкентским бульваром. Проходя мимо одного из стоявших там диванчиков, мы увидели на нем измученного, оборванного человека. Обращаясь к отцу Петру, он неуверенно сказал:
— Помогите, батюшка, я из заключения.
Отец Петр остановился, оглядел оборванца, потом строго сказал мне:
— Отойди в сторону!
Я отошел, но мне было видно, как отец Петр вытащил из кармана бумажник и подал просящему.
Мне стало неловко наблюдать эту сцену, и я отвернулся, но мне был слышен приглушенный рыданием голос:
— Спасибо, отец, спасибо! Спасли Вы меня. Награди Вас Господи!
Кто мой ближний
Рассказ
Туманное раннее утро. Мелкий частый дождик. В воздухе пронизывающая сырость. Маленький дворик церковного дома, несмотря на сырую погоду, переполнен народом.
Дверь квартиры священника отца Петра Горемыкина теперь, как и всегда, открыта для знакомых, посетителей, только он сам уже не встречает с радушным приветом приходящих к нему. Добрые глаза его навеки закрыты, добрые уста его никогда уже не скажут слово утешения.
Он скончался вчера, а сегодня все прихожане собрались поклониться останкам горячо любимого пастыря.
Двор все наполняется и наполняется, несмотря на то, что побывавшие в доме уже уходят; другие появляются с улицы, и толпа все густеет. Да и не удивительно такое стечение народа — усопший был всем нам отцом и матерью родной. С редкой любовью и нежной заботливостью относился он к каждому и помогал, чем мог: кому советом и молитвой, кому деньгами и покровительством.
Все грустны: но странно, что входят все печальными, сумрачными, а выходят радостные, просветленные.
Одним из последних пришел во двор церковного дома студент. Глубокое горе было написано на сумрачном, не по летам серьезном лице. Видно было, что жизнь не баловала его, что тяжело приходилось ему подчас и что эта голова и руки уже успели довольно поработать на своем веку.
— Становитесь в очередь, так нельзя, — говорил кто-то в толпе.
В толпе обнаружилось движение, и мало-помалу все чинно вытянулись в длинную нитку, несколько раз обвившую двор внутри. Студент как-то тупо и безразлично смотрел на все это, и как пришел, так и встал одним из последних.
Ждать пришлось довольно долго. Мысли одна за другой пролетали в его уме. Давно ли, кажется, узнал он этого человека, а как сильно к нему привязался, с какой-то благоговейной любовью и сыновним почтением, и какую сильную роль сыграл в его жизни этот усопший!
Перед молодым человеком вставали картины недавнего прошлого, одна безрадостнее другой. Вот видит он последние годы в гимназии — перебивается изо дня в день. Он существует грошовыми уроками — семья бьется как рыба об лед. Он дотягивает, сдает экзамен и видит венец своих стремлений — университет. Гроши скоплены, он вносит плату за лекции — он принят.
Начинается новая пытка, новые поиски работы; казалось, что вот-вот он найдет выгодный урок; впереди маячила надежда получить место, жить с большой пользой для общества.
Но вот в один ужасный день мать заболевает сильно и опасно. Последние гроши уходят на ее лечение, но он не унывает — он содержит ее своими уроками. Однако болезнь затягивается, средства убывают, приходится брать плату с учеников вперед, дома некому присмотреть за больной. Поневоле приходится иногда не ходить на уроки, а ведь уроки — это насущный хлеб. Да только после бессонных ночей с больной душой и урок-то дается плохо.
Одним словом, через несколько времени студенту пришлось услышать вежливые отказы, и он с десятирублевой бумажкой в руке, с тупым сознанием полной безнадежности, понурив голову, добрел до дому. Матери становилось хуже. Ненадолго хватило этих десяти рублей. Занятий не находилось; студент рад был бы и дрова рубить, но и на это находились более сильные и умелые руки. Натерпевшись нужды и горя, видя, как мать угасает от истощения, он пошел побираться под окнами соседей. Он вымаливал гроши на лекарства, но окружающие были сами бедны и не много давали, а богатые не дали бы ничего. Вот в таком состоянии запала ему наконец в голову отчаянная мысль покончить разом с собою, чтобы не видеть более страданий дорогого человека, не будучи в силах их утолить, и не терзаться самому безысходной мукой.
С этой целью и с твердым намерением прекратить свои мучения ушел студент ночью на набережную реки, решив броситься в воду.
Как теперь помнит он эту страшную минуту.
В нем все застыло. Все, исключая тупое страдание. Он более не колебался. Смерть лучше этой невыносимой жизни. Мать… — все равно ей не выжить.
Кругом тишина. Вот он готов броситься в воду… как вдруг вблизи раздаются шаги. «Ах! — подумал он. — Помешают, придется подождать!»
Эти мысли неясно промелькнули у него в голове. Он не переменил позы и тупо ждал, пока шаги затихнут. В эту минуту кто-то ласково и твердо положил ему на плечо руку и чей-то голос, полный любви и участия, произнес:
— Голубчик, пойдем ко мне!
Он не шевельнулся. Он, казалось, не слышал, но внутри, где было одно больное место, эти ласковые слова как будто отделили от него какой-то отболевший член.
— Голубчик, пойдемте ко мне! — продолжал настаивать голос. В нем слышалась и просьба, и властное приказание, но такое нежное, сострадательное, такое сердечное, что снова душу его что-то резануло, и словно опять отделилось внутри него что-то отболевшее.
Бедняга еще раз услыхал тот ласковый призыв и наконец бессознательно двинулся за незнакомцем. Он не сознавал, что он делает, куда и зачем идет.
Невольно и как бы под гипнозом шел он за своим избавителем, шатаясь и едва передвигая ноги. Тот привел его в свой дом, ввел в свой кабинет и придвинул ему мягкое кресло. Тут только молодой человек безотчетно рухнул лицом на стол и горько зарыдал.
Долго рыдал он, и, казалось, слезы постепенно смывали все, что наболело в сердце, а ласковые слова незнакомца убаюкивали его. Добрый человек между тем приготовил ему постель, уложил его и успокоил холодным компрессом его горячую голову. Студент заснул в первый раз после многих бессонных ночей, заснул как убитый, но, когда проснулся, было темно. Он вскочил как ужаленный, вспомнив о матери.
— Где я? — вскричал он.
— У меня! — ответил, поднимаясь и подходя к нему, сидевший неподалеку священник. — Как я рад, что Вам лучше. Я стал уже бояться, не заболели ли Вы? Скажите, голубчик, что Вас заботит? Скажите, пожалуйста!
— Мать моя при смерти, а я здесь! — угрюмо ответил тот.
— Поедемте к ней сию же минуту, — предложил священник, помогая ему одеваться, — что же с ней? Не отчаивайтесь, Бог даст поправится!
— Ах, Вы не знаете! — вырвалось у студента, и он смолк.
Но священник тихо, осторожно и настойчиво расспросил студента, и тому пришлось рассказать. Он не мог устоять против испытующего, пристального взора пастыря душ. Поспешно вышли они из дома, наняли стоявшего на углу улицы ночного извозчика и поехали по адресу, данному студентом. Приезжают в одну из трущоб города, в большой дом с множеством квартир и ужасных углов, и там застают больную женщину в плачевном положении. В тесной и нетопленой, а поэтому крайне сырой комнате на плохонькой постели стонала она, беспомощно мечась в жару. Насилу отыскали огарок. Комната осветилась и стала еще непригляднее.
Священник подошел к больной, оглядел ее опытным взглядом и заметил, обратившись к студенту:
— Она больна от истощения, но не безнадежна! Вы об этом не думайте. Я уверен, что еще не поздно и мы ее выходим!
Больная, как бы в подтверждение этих слов, открыла глаза.
— Не желаете ли облегчить совесть исповедью? — спросил священник.
— Мы евреи, — поспешно и угрюмо сказал студент.
— Ах, я не знал, — ответил священник, — но это все равно, помолимся вместе. Вы по-своему, а я по-своему!
Он встал на колени и кротко помолился, осенив себя крестным знамением. Затем быстро встал, сказав студенту подождать его здесь у постели больной, и поехал в ближайшую аптеку. Там он взял всего, что могло подкрепить силы истощенной женщины, и поспешил вернуться.
Затем он поднес к ее устам прохладительное и вместе с тем питательное миндальное молоко. Больная прильнула к стакану и выпила молоко с жадностью. Тогда он разогрел на принесенной из аптеки спиртовке настой из крепкого бульона, положив туда немного белого хлеба, и дал его больной. Силы, казалось, мало-помалу возвращались к женщине, и через полчаса она могла уже сказать несколько слов. Сын ее все время не спускал глаз со своего благодетеля и едва мог удерживать радостные слезы при виде его хлопот около больной матери.
Между тем рассветало; священник протянул студенту двадцатипятирублевую бумажку, сказав:
— Сходите, купите дров, чаю, сахару, провизии, — все, что нужно, а я пока посижу у больной, а то мне скоро придется идти домой!
Как в чаду исполнил студент поручение. Возвратясь с запасами, он, как мог, благодарил своего благодетеля, но тот не дал ему договорить:
— Полноте, полноте, завтра я буду снова у Вас, привезу Вам еще денег и, быть может, доставлю Вам занятие. Вы не беспокойтесь, это мне со временем вернется! В этом я убежден!
Когда он вышел, Симонсон (так звали студента) не знал, что с ним делается: радость ли, недоумение ли брало верх в хаосе его мыслей. Он видел только избавление от нищеты рукой православного священника. И на другой день, и на третий день добрый человек посещал убогий угол, превращенный теперь в уютное жилище. Мать стала понемногу поправляться, а сыну доставлен был хороший заработок и взнос за лекции. Все пороги обил добрый отец Петр и нашел искомое. Теперь мать Симонсона снова принялась за работу. Студент продолжает учиться, а впереди его ждет обещанное место, выхлопотанное отцом Петром. Симонсон обеспечен, но в это время умирает отец Петр.
Мир праху твоему, добрый, необыкновенно добрый человек! Ты, пастырь православных, не погнушался всей душой войти в положение иноверца, ты не пожалел ни денег, ни хлопот, чтобы вытащить из ямы совершенно чуждого тебе человека, ты продолжал о нем заботиться и ни разу не попытался склонить его на переход в твою веру.
Он был индифферент, но ты, горячо верующий, ни словом не обмолвился при нем о вере, и между тем, какой громкий гимн хвалы Христу и Его любвеобильному учению пропел ты своим молчанием и своими делами! Дела твои проповедали за тебя!
С этими мыслями, влекомый очередью, вошел студент в комнату. Шедший перед ним положил земной поклон, осенив себя крестным знамением, и приложился к Святому Евангелию, лежавшему на груди усопшего иерея.
Симонсон тоже опустился на колени. Поднявшись, весь орошенный слезами, он жаждал взглянуть на дорогое ему лицо — но оно было покрыто воздухом…
«Так вот конец пройденного тобой пути, — подумал он, — спасибо тебе, учитель мой, спасибо!» — и он прильнул к его холодной руке, державшей крест, и, внезапно осененный, положил на себя крестное знамение и приложился ко кресту.
Вера, которая направляла такого человека, которая порождала такие дела, и есть истинная вера.
«Я пойду по твоим стопам, учитель мой! Я отдам весь свой излишек тем, кто нуждается, и если встречу несчастного, помогу ему, не рассуждая, как сделал ты!» — подумал он, выходя. А лицо его светилось неизведанной дотоле радостью!
Козельская
Песни любви
Рассказ
Он никогда не ходил в церковь, и отец Николай удивился, когда от него пришел работник.
— Барин, должно, помирает. Ослаб сильно. Просил, чтобы Вы к нему пришли. Понапутствовали, значит.
— Он сам так сказал? — не поверил священник.
— Сам! Так и сказал: «Чтобы батюшка ко мне пришел. Умираю я».
— Хорошо! — недоумевая, согласился отец Николай. — Я сейчас же зайду в церковь за Дарами.
Церковь была недалеко от квартиры отца Николая.
В полуденных горячих лучах она, казалось, тоже, как и люди, отдыхала. Кругом нее была тишина, груши опустили в изнеможении свои колючие ветви, покрывая ее маленькими душными тенями.
Небольшой ручеек тихо, как серебристая девичья ленточка, скользил под ними и, очевидно, изнемогал под тяжелым зноем.
В церкви было прохладно и сумеречно. В ее низких строениях, глубоких и каменных, как в роднике, хранилась прохлада. Иконы отпотели, и строгие старинные черты святых, казалось, плакали в тиши и уединении.
Отец Николай взял Дары, постоял в глубокой задумчивости перед Престолом и медленно пошел из алтаря туда, куда его звали — на необычное напутствие.
Когда отец Николай вошел во двор, больной сидел в больших мягких креслах на балконе. Балкон был широкий, весь обвитый широкими виноградными ветвями. Больной сидел неподвижно, и на фоне зелени лицо его было особенно бледное, с зеленоватыми тенями.
Он был большой барин. Еще недавно он жил где-то далеко-далеко от этого маленького захолустного городка, в шумном и ярком Петербурге, среди важных и умных людей. И потом, когда он, утомленный трудами и жизнью, переехал сюда, местные обыватели с любопытством видели в своем городке этих важных и умных людей, приезжавших к старику.
Старик был ученый, и про него говорили, что он написал на своем веку много хороших книг. И, как к ученому и хорошему человеку, к нему приезжали издалека люди посоветоваться, как надо жить.
Он был добрый. Когда к нему приходили за помощью, он никогда не отказывал. Только улыбнется грустно и ласково и даст. И даже не расспросит, на что нужны просящему деньги.
Он никогда не ходил в церковь. Дом его находился на площади, где с давних времен стояла маленькая, седая, как старушка, церковь.
Когда на ней звонил хрипло, по-старчески, праздничный колокол, и люди шли на зов его, — тихие и смиренные, старик сидел у окна, выходившего на площадь. Люди видели, что в руках у него книга, но он не читает, а смотрит вдаль на маленькую церковь. И в городке говорили, что старик «не верит».
Отец Николай поднялся на балкон и поздоровался.
— Здравствуйте! Вас, кажется, отцом Николаем зовут?
— Да, Вы просили прийти?
— Просил!
Старик откинул голову на спинку кресла и задумался. Он был весь в зеленых виноградных тенях, и оттого сам казался бледным, как тень. Отец Николай сел на стул и думал, как ему лучше приступить к делу.
Но старик предупредил его.
— Скоро умру! — тихо и ласково заговорил он. — Скоро! Да и пора уже. Чувствую, что сил нет: а без сил — зачем жить? Когда вещь изотрется, изорвется, ее бросают. Это правильно. Так и человек: пока есть силы, нужно жить, нужно работать, нужно бороться, нет сил — нужно умирать. Это так понятно.
Он остановился. Видно, ему было трудно говорить.
— Знаете, почему я позвал Вас? — вдруг спросил он. — Потому что Вы, Ваш Христос, вот та Ваша церковка доставили мне в последние часы жизни много хорошего, много счастливого. Не понимаете? Это, правда, вышло у меня необычно.
Хотите, я расскажу Вам, как я полюбил Христа и ту церковку? А не правда ли, эта церковка напоминает старушку, закрывшуюся платком от дождя? Очень напоминает. А ночью при луне она напоминает старую железную лампаду. Огонек такой маленький на кресте, а вся она черная, низкая. Так я хочу Вам рассказать, как я полюбил ее!
Видите, это началось в один вечер. Помню, было лето. Только что опала жара, и церковка прозвонила ко всенощной. У меня окно было открыто. Не помню, что, но я что-то писал. Кажется, письмо кому-то. Только пишу я, а у вас всенощная началась, и ко мне в окно доносится ваше пение. Пели вы там, что всегда поете. Слов мне не слышно, а только напев один доносится. И, понимаете, в тиши, по холодку напев этот такой звонкий. И трогательный. Должно быть, вы у Бога просили что-нибудь, потому что в мелодии просьба была такая покорная и смиренная.
На что я обратил тогда внимание, так это на простоту вашего пения. Бывало, в больших городах я иногда хаживал в церковь — послушать певчих. Не молиться, а певчих послушать. Как в театре. И они пели чудно, роскошно, как истинные артисты. Душу свою выливали в пении. Но простоты не было. Понимаете, этой самой простоты! Она ужасно подходит к религии. Без нее религия — один звук, одна форма, хотя и пышная, и наряженная. Да, вот в вашей церковочке пели и было видно, что вы в пении молились.
Очень это трогательно, скажу Вам. Когда человек искренне и просто обращается к Тому, Кого считает Господом, это даже умилительно. Вы там, в церкви, были как дети. И это меня глубоко тронуло. И потом всякий раз, когда церковка звонила, я всегда садился к окну и слушал. Много вы всяких песнопений пели. И, скажу я Вам, много в них было чудесных, как тихие вечерние цветы.
Вот под праздники вы всегда поете:
— Хвалите имя Господне…
Если бы Вы знали, как это трогательно. Ну точно дети, собрались вместе, схватились ручонками и глазками — огромными и чистыми, не моргая, прямо смотрят туда, к Богу. И так доверчиво, просто поют и приглашают:
— Хвалите имя Господне!
И напев долгий, задушевный, словно оттуда, из души, из самых сокрытых тайников тихо пробиваются эти порывы и льются глубокою, осторожною, кроткою волною — прямо к небу и звездам.
Вы там пели, а я здесь все понимал. И кто знает — быть может, тоже молился…
Хороша у вас еще песня — тоже вечерняя:
— Слава в вышних Богу!
Такая величественная, как ночное небо, унизанное звездами. Слушаешь ее, и кажется, что пред нею расступаются стены церковки, и она оттуда, от народа, прямо поднимается к Божьему Престолу.
Но что особенно хорошо бывает в вашей церковке — это утро. Кажется, что в это время в ней, маленькой, старой, убогой — поселилась золотистая сказка. И тогда хочется засыпать вас цветами — и Божий престол, и всех вас. Чтобы не прикоснулись к вам в этот золотистый момент грязь и дерзкая, святотатственная рука.
И как вы поете в то время!
Есть у вас песня о херувимах и о царе, идущем на страдания. От этой песни и до конца службы в вашей церковке точно какая-то лента тянется — пышная, узорчатая, с переменными красками.
Все там: и хвала, и благодарность, и молитва.
И все — в образе маленьком и тихом, как полевой цветок. И все натянуто до высочайшей степени, как самая высокая струна. Кажется, натяни еще — и не выдержит человеческая душа.
Хвала такова, что громы и молнии присоединяются к ней — в неведомом сильном порыве. Благодарность — так и кажется, что сердце изойдет благодарными слезами под нею, как весенний снежок под солнцем. Молитва — так до тоски, до смерти, до чуда.
Как вы поете в то время! И какою таинственною, какою сказочною кажется тогда ваша церковка!
В ваших песнях я полюбил Христа. Я стар, прожил жизнь, сказал людям свое слово и на склоне дней — полюбил Христа! И мне так хотелось бы перед смертью приобщиться его. Можно?
Старик, весь бледный от изнеможения, смотрел грустно и ласково. На лице была глубокая просьба.
— Можно! — с кротким вдохновением ответил священник.
— Можно! — повторил он настойчиво. — Он — Бог любви.
И, тихо склонившись над умирающим, священник приобщил больного Святых Христовых Тайн.
На другой день старик умер. Маленькая церковка проплакала над ним долгими, печальными перезвонами. Как видно, и она полюбила его, признала своим.
Письмо малютки к Богу
Рассказ
I
В бедной, полуразрушенной непогодами избушке, на самом конце большого города приютилась бедная, больная вдовица с тремя небольшими ребятишками. Самому старшему из них, Мише, было 9 лет. Младшему его братишке — 7 лет, а сестренке Наденьке — 4 года.
И вот с тремя своими детками перебивалась кое-как вдовица с помощью Божией и добрых людей.
Трудно ей жилось!
После тяжелой и мучительной болезни умер ее муж.
Оставшись одна, без родных, со своими малютками, она уже третий год перебивалась кое-какой работой — то поденщиной, то брала стирать белье на дом, а иногда и этой работы не было. Тогда приходилось еще что-нибудь придумывать. Порой они ложились спать голодные, поэтому сил у вдовы было мало, работать много она не могла.
И часто видела мать, как три пары худых ручонок протягиваются за кусочком хлеба, невинные глазки смотрят с мольбой:
— Мама, дай еще кусочек!
И она последнее делила между детьми, а сама оставалась голодная, лишь бы они были сыты, ее милые детки!
Вдова всегда просила Господа помочь ей ради пропитания своих детей.
— О, Боже милосердный, — помоги! — так часто молилась бедная мать.
Между тем время шло, убегали дни ее молодости и бедная женщина чувствовала, как силы ее все уходили день ото дня, и часто тяжелая дума тоскою сжимала ей сердце.
— А вдруг я..? Ой, зачем такие мысли! Душа моя что-то предчувствует…
— Ах, бедные миленькие детки, как они останутся без меня? — размышляла с тяжелой грустью и печалью на душе бедная вдова. — Кто приютит их? Кому они нужны?
Обливаясь слезами, говорила она из глубины души:
— Боже мой! Боже мой! — и с рыданием падала на шатающийся столик и восклицала:
— На Тебя одного надежда! Не оставь убогих Твоих до конца! — и горячо, покорно молилась бедная вдова перед святою иконой.
Но вот разразилось над бедной женщиной еще одно несчастье, которого она вовсе не ждала.
Пути Промысла Божия неисповедимы!
Часто случаются беды и напасти с нами в нашей жизни, и уже мы готовы жаловаться на них, роптать даже на Бога, не понимая бедным земным умом, что часто беды и напасти эти к нашей же духовной пользе склонятся.
Вот так было и с этой бедной вдовой, которую звали Анна.
II
Случилось это поздней осенью, когда начались морозы и задули холодные ветры. Однажды Семеновне, как чаще звали бедную вдову, посчастливилось. Она получила сразу несколько рублей долгу за свою работу и, обрадованная, принесла домой целый узел покупок.
Детки облепили ее. Она достала из узла большой кусок хлеба, при виде которого Миша и Гриша в восторге запрыгали по комнате, а Наденька протянула обе ручонки и запищала:
— Мамочка, кусочек!
— Погоди, погоди, дочка! Вот за чайком.
Но Наденька не хотела ждать, ей сейчас же захотелось заполучить «редкого гостинца». Восторгу детей не было предела, когда из узла появился еще пакет с гостинцами, откуда посыпались грошовые пряники, леденцы и конфеты. Между тем, Семеновна разожгла самовар, покрыла беленькой холстинкой старый стол, собрала на нем посуду для чая, разложила гостинцы. Когда самовар поспел, она сказала:
— Ну, детки, молитесь Боженьке и садитесь пить чай!
Детки встали с благоговением перед святой иконой, сиявшей в темном углу своею ярко вычищенной ризой, и стали повторять за матерью слова святой молитвы.
Потом вся семья уселась за стол, и в бедной хижине началось небывалое пиршество.
— Мама, нам это все Бог послал? Да? — спрашивал Миша.
— Да, милый!
— Как же Он тебе это дал?
— Помолишься Ему усердно со слезами, вот Он и посылает. Посылает невидимо через добрых людей. Найдется добрый человек, работу даст хорошую, в несчастье выручит.
III
Задумался Миша над словами матери и обещал в душе молиться Богу.
Не успели детки еще попить чаю, как хлопнула калитка и в хижину вошли полицейские с понятыми.
— Здесь Анна Швейцарова живет? — спрашивают.
Анна обомлела.
— Здесь, — говорит. — Я самая!
— Была ты сегодня у купчихи Ивановой?
— Как же, была, должок получила.
— Ну, вот что, родная, признавайся, ты у Ивановой золотое кольцо и брошку украла?
Семеновна затряслась даже при этих словах.
— Владычица Матушка! — заплакала она. — Отроду я чужих вещей не брала. Как это можно!
Тут полиция принялась за обыск. Все скудное добришко Семеновны перевернули вверх дном, все перетрясли! В каждую щелочку заглянули.
Семеновна ничего не видела от слез и причитаний.
Ребятишки, ничего не понимая, жались к матери, как птенчики в бурю жмутся под крылышки своей матери.
Кончили полицейские обыск. Конечно, ничего не нашли, но пристав сказал:
— Родная, пойдем с нами, мы тебя должны в участок представить!
— Отцы родные! — завопила Семеновна. — Как я малых деток брошу! Ничего я у купчихи не брала, вот икону святую сниму!
— Не надо нам иконы, мы и так тебе верим, да нам нельзя. Купчиха тебя обвиняет, вот в участке дело разберут, не виновата окажешься — так тебя и отпустят.
Долго плакала бедная женщина; наконец, понимая бесполезность своих причитаний, собралась она, перекрестилась, поцеловала своих деток-малюток и сказала, уходя:
— Мишенька! — а сама обливается горькими слезами. — Сынок мой! Ты у меня умный, смотри за детками, на тебя их оставляю. Попроси соседку, она вам утром печку истопит. Да молитесь усерднее Господу Богу. Он, Милосердный, не покинет в беде сироток.
Детишки горько плакали:
— Мамочка, куда ты? — цепляясь за подол своей матери слабыми ручонками.
Только Миша один был бледен и серьезен.
IV
Нахлынула беда на убогую хижину. Уже три дня прошло с тех пор, как увели бедную женщину, и детки оставались все время одни. Два первых дня сердобольная соседка приходила к ним утром. Она топила печь, пекла что-нибудь, поила их чаем и, смотря на них, горько плакала:
— Какие же вы несчастные, малютки!
На третий день соседке пришлось уехать в деревню и детишки остались одни.
В этот день Миша старательно обыскал все ящики и полочки, но нашел только вчерашний остаток хлеба да старую, сморщенную морковку. Все это он разделил между Гришей и Наденькой, когда они стали плакать и просить хлеба, хотя сам страшно хотел есть. Но он помнил слова матери и считал себя единственным покровителем деток.
Покуда Наденька и Гриша доедали последний кусочек хлеба, Миша погрузился в глубокую думу. Да, его маленькой голове было о чем подумать. Хлеба не было ни крошки. Как быть? Что же предпринять? О себе он не думал. А вот Наденька, Гриша… Они, бедняжки, не ели уж давно вволю хлеба.
В эту минуту грустных размышлений Мишу вдруг осенила счастливая мысль:
— Маменька говорила, что Боженька посылает все, что только надобно человеку, если у Него усердно попросишь! Чего же лучше, как у Боженьки хлебца просить!
Тогда Миша подошел к божнице и посмотрел в лампадку, есть ли там масло. Масла было немного. Миша зажег лампадку, потом встал перед иконой на колени и со слезами усердно стал просить Господа о помощи.
Его молитва была несложна:
— Господи, пошли нам хлебца. Нам негде взять. Пошли сироткам хлебца, Господи! Есть очень хочется! Господи! — и по худому личику Миши текли горячие слезы.
Долго он молился и ждал в сердечной простоте, что вот отворится дверь и явится все необходимое.
Но ничего не явилось, а маленькое сердце стало наполняться отчаянием.
И вдруг Мише пришла в голову наивная мысль, что, быть может, Бог не слышит его. Он вспомнил, что далеким людям, живущим в других городах, присылают письма. Вспомнил это Миша и встрепенулся. Снова надежда загорелась в его сердце. Он решил написать письмо Боженьке. От мысли до исполнения было недалеко.
Разом он отыскал в мамином сундуке пожелтевший конверт и клочок бумаги. На этом клочке он стал выводить карандашом непонятные каракули, которым он научился самоучкой. Однако, когда он написал, все же можно было разобрать следующие слова: «Боженька! Маменьку у нас взяли, остался у нас один Ты! Нынче мы весь день голодные! Пошли нам хлебца, пока наша маменька не вернется!»
Написавши так, запечатал Миша письмо в конверт и на конверте написал: «Боженьке».
Гриша и Наденька с большим любопытством наблюдали за работою своего брата.
— Я ухожу! — сказал им Миша. — Сидите без меня смирно, скоро у нас хлеба будет вволю!
V
Вышел Миша на улицу и направился к тому месту, где висел зеленый почтовый ящик. Ящик этот висел на большой и многолюдной улице.
Подойдя к ящику, Миша хотел опустить письмо, но ящик был для его роста высок, и Миша никак не мог достать до отверстия. Он то становился на цыпочки, то подпрыгивал, то с соседнего крыльца старался достать ящик, но из всех его стараний ничего не выходило.
— Зачем ты шалишь тут, мальчик? — спросил вдруг Мишу чей-то ласковый, но серьезный голос.
Миша оглянулся и увидел старичка-священника, который остановился и с любопытством наблюдал за мальчиком. Миша отвечал сквозь слезы:
— Мне надо опустить письмо, а я не могу достать!
— Письмо! — Ну, дай я опущу его!
Священник взял письмо и хотел опустить его в ящик, но вдруг он заметил, что марки нет на конверте.
— Мальчик! — сказал священник. — На твоем письме нет марки!
— Марки? — в недоумении спросил Миша.
Тут священнику бросился в глаза и самый адрес на конверте: «Боженьке!»
— Это что такое? — изумился священник.
— Это я писал к Боженьке, — отвечал Миша, вдруг залившись слезами. — Мы сегодня ничего не кушали, а маменьку у нас увели! Я у Боженьки хлебца прошу… Боженька даст!
Задумался и прослезился священник. Затем, взявши за руку Мишу, сказал:
— Пойдем к тебе!
Дорjгой священник купил хлеба, сушек, чаю, сахару, и, когда они пришли в хижину Семеновны, Наденька и Гриша забили в ладоши и запрыгали от радости, увидевши хлеб.
— Бедные детки! — думал священник.
Затем он расположился в доме и ушел только тогда, когда накормил, напоил ребятишек и нашел им по соседству добрую женщину, которая согласилась на время ухаживать за ребятишками. Уходя, священник увел с собой и Мишу.
VI
На другой день был праздник.
Священник, прежде чем подпустить к кресту, попросил прихожан выслушать его. Долго и искренне говорил он о том, как крепка должна быть вера христианская, и в заключение рассказал трогательную историю о письме Миши к Богу.
Миша стоял все время около него и слушал.
Прихожане плакали во время рассказа священника. Когда же священник предложил благодетелям помочь бедному сиротке и его семейству, то щедрые приношения в изобилии посыпались на церковную тарелку.
Более 200 рублей было собрано в пользу Миши.
Так услышал Господь молитвы Миши и воздал ему сторицей!
Купчиха Иванова была в церкви во время этого происшествия. До глубины души тронул ее рассказ священника, и она раскаялась в своем поспешном обвинении, поняв его неосновательность и свой грех перед Богом. И тотчас по возвращении домой купчиха отказалась от обвинения. Семеновна тут же была освобождена.
Купчиха, чтобы хоть немного загладить свой поступок, послала ей в тот же вечер 100 рублей.
Священник настоял отдать Мишу в школу.
Нельзя передать словами радости бедной матери! Будучи под стражей, она ни на минуту не усомнилась, что сиротам ее поможет Господь Бог! И Бог их защитил!
И теперь она с горячими слезами, слезами благодарности и веры молилась Богу, а вместе с ней молились и ее малютки. В великой радости женщина благодарила Господа милосердного, что Он не оставил ее детей без Своей Милости!
Сила в немощи
Рассказ
«В здравом теле живет здравый дух», — сказал в древности один мудрец, и это изречение имеет и до сих пор самое широкое распространение.
Материалисты, не признающие господства духа над телом, опираются на это изречение, как на базу; жизненный же опыт иногда доказывает, что оно не может быть принято за аксиому: бывают примеры, когда вполне здоровая душа обитает в слабом, болезненном теле. Конечно, никто не может отрицать той тесной неразрывной связи, какая существует между психическим и физическим миром человека.
Каждый из нас знает из своих собственных наблюдений, что малейшее уклонение нашего организма от его нормального состояния отражается на душевном расположении и, наоборот, всякое душевное волнение имеет влияние на деятельность организма; и все-таки, повторяю, бывают в жизни примеры, доказывающие самым ярким, наглядным образом господство духа над телом. Один из таких изумительных примеров представлял собою недавно скончавшийся крестьянин Псковской губернии, который был известен под именем болящего Матвеюшки. Целых сорок три года пролежал он неподвижно на спине, испытывая при этом сильнейшие физические страдания (у него был суставной ревматизм).
Он слег на двадцать первом году своей жизни, а умер шестидесяти четырех лет. И при этом никто и никогда не слыхал от него ропота или жалобы.
— Матвеюшка! — спрашивали его иногда. — Как ты можешь так терпеть? Почему ты никогда не ропщешь?
— Да разве я враг себе! — отвечал он. — Зачем я буду отнимать у себя награду от Бога? Ведь кто жалуется на тяжесть своего креста, тот теряет свою награду.
Матвеюшка родился в 1840 году в нескольких верстах от Изборска, в бедной крестьянской семье.
До 16 лет он был совершенно здоров.
— Мне кажется, — сказал он, — что у меня с самых юных лет было предчувствие тех страданий, которыми Господу было угодно наградить меня впоследствии. Нередко без всякой причины мне делалось грустно… Я очень любил играть на свирели, и, когда другие предавались около меня веселию, я брал свирель и уходил куда-нибудь подальше, где люди не могли бы найти меня, и играл. Такая грусть находила на меня в юности! Теперь же я этого чувства более не испытываю. Слава и благодаренье Богу за все!
Сколько христианской мудрости в этих словах!
Душа Матвея испытывала смущение, пока она шла, так сказать, навстречу своему жизненному кресту. Когда же ей пришло время поднять его на себя, она покорно склонилась под Божию Десницу и успокоилась.
На семнадцатом году от рождения Матвей, работая осенью на уборке льна, сильно простудился. Явились страшные ревматические боли ног и рук: его скрючило, и он стал ходить с палкой. Эта простуда стала для него роковой, хотя он одно время и оправился настолько, что родители его даже женили. Но вполне здоровым он более себя не чувствовал. И на двадцать первом году жизни он слег навсегда, чтобы не вставать до смерти.
Он пролежал сорок три года с ногами, скрюченными вбок. Даже руки не действовали, только в пальцах сохранилось небольшое движение. Лежал он совершенно неподвижно, на спине, на жестком тюфяке, набитом соломой, без подушки; от постоянного лежания на затылке его сделалось углубление.
Замечателен тот факт, что, несмотря на такое продолжительное лежание, у Матвеюшки не было ни одного пролежня. Исхудалое тело его было мраморной белизны. Белья он не носил. Вместо сорочки на него надевали передник и покрывали одеялом. Кормили его, как малого ребенка, с ложечки. Вообще, положение его было совершенно беспомощное, и он хорошо это сознавал.
— Погодите немного, — сказал он за несколько дней до своей кончины, — я скоро освобожу вас от себя: 15-го я отойду.
Так прострадал Матвеюшка сорок три года, и при этом сохранил вполне здоровую душу, светлый разум и прекрасную память. Он был не только терпелив и безропотен, но и чрезвычайно отзывчив ко всему, что делалось вокруг него. Прикованный к своему ложу, как распятый, на нем он принимал участие во всех печалях и нуждах тех, кто к нему приходил.
И в самом деле, этот страстотерпец, этот живой труп, несмотря на свою абсолютную неподвижность, приносил много пользы и добра людям. Все страждущие и обремененные черпали в его примере силы для несения своего собственного креста: Матвеюшка был для них как бы живой проповедник. Кроме того, он за свои долгие безропотные страдания удостоился от Бога особого дара — он умел влиять на людские сердца, умел дать совет, успокоить, сказать доброе слово.
От всего, что касалось лично его, он отказывался. Лежа сорок три года в своей каморке на жестком, как камень, тюфяке, он принимал приношения только для того, чтобы оказывать помощь беднякам и своим родным, чтобы они им не тяготились. Добра, которое оказывал Матвеюшка всем, кто к нему приходил, и не исчислить. Можно ли не возрадоваться и не умилиться душой при таком поучительном примере?
Точно чувствуешь какое-то проникновение в тайну Божьего о нас промышления и задаешь себе вопрос: не представлял ли собою Матвеюшка особенного орудия любви Бога к людям? Если бы он был здоров, мог ли он сделать так много добра и быть таким хорошим и умным? Не для того ли нужны были его страдания, чтобы живым примером дать людям доказательства владычества души и ее бессмертия и того, что сила Божия и в немощи совершается? Если душа, еще будучи связана с телом, так покоряет его, то какой силой себя она почувствует, когда от него освободится!
Что же поддерживало Матвеюшку в его страданиях? Из какого источника он черпал себе силы? Вместо ответа припоминаются слова другого подобного ему страдальца, поэта Козлова, который жил за 90 лет до него. Слепой, параличный, он 32 года пролежал в постели и тоже никогда не жаловался и не роптал. Силы для несения своего креста он черпал в религии:
Меня не крест мой ужасает,
Страданье верою цветет.
Сам Бог наш крест нам посылает,
А крест наш — Бога нам дает.
Глубокая искренняя вера в Бога, в продолжение жизни в загробном мире и уверенность, что все, что посылает нам Господь, служит нам ко благу, — вот те чувства, которые одушевляли поэта.
Такими же чувствами была наполнена и душа Матвеюшки. Но между ними была большая разница. Козлову был послан Богом небесный дар поэзии. Она выражалась его словами – как вестник милости небес, незримый, тайный, но понятный, вливала в него отраду и, как «огненной струей», оживляла его сердце. К тому же поэт имел поддержку в горячо любившей его интеллигентной семье. А Матвеюшка был совсем безграмотный, и вся его семья состояла из одной жены, которая по слабости здоровья ухаживать за ним не могла, не говоря уже о нравственной поддержке.
Ухаживали за ним посторонние люди.
«Ради Христа».
В особенности самоотверженные услуги оказывала ему одна деревенская девушка, Дуня. За последние десять лет она была при нем почти безотлучно — поворачивала, кормила с ложечки, читала ему Священное Писание, и таково было ее христианское к нему милосердие, что когда он умер и она освободилась от добровольно принятого ею подвига, то вместо того, чтобы радоваться, оплакивала Матвеюшку самыми искренними слезами.
— Тяжело мне было с ним, — говорила она, — но зато и хорошие минуты были. Чудно проводили мы с ним кануны праздников. Все уйдут ко всенощной, и я стану читать ему акафисты; он слушает, а слезы так и текут у него из глаз. Я их ему вытираю и сама плачу; и так сладостно тогда становилось на душе — точно Сам Христос был тогда с нами.
Чрезвычайно симпатичен еще тот факт, что ни сам Матвеюшка не считал себя «святым», ни его почитатели не возводили его на эту высоту, как это нередко случается в подобных случаях. Сам он считал себя величайшим грешником и говорил, что он достоин еще больших страданий.
— Да какие же грехи у тебя могут быть, Матвеюшка? — говорили ему.
— Что вы, что вы! — возражал он. — А в мыслях-то разве я не грешу? Да еще как грешу!
Так жил, так страдал Матвеюшка, и Господь за то, что он до последнего вздоха остался Ему верен, даровал ему блаженную кончину. Вот подробности последних дней его жизни. За последнее время страдания Матвеюшки усилились: к ревматизму прибавилась еще каменная болезнь, и муки доходили до того, что ушные раковины его за ночь наполнялись слезами! Но за последние четыре дня страдания уменьшились. Самая кончина была тиха и безболезненна — страдалец точно заснул.
Умер он 15 июня в 4 часа утра, как и сказал окружающим его еще 12-го числа:«Времечко мое пришло, скоро освобожу вас — 15-го отойду от вас!».
Предсказание это в точности исполнилось…
Интересно знать, какое научное объяснение дали этому факту неверующие люди? Приготовляясь к переходу в вечную жизнь, Матвеюшка неоднократно причащался, соборовался, со всеми прощался и обратился к батюшке с трогательной просьбой:
— Оставьте мой гроб после отпевания еще на сутки в церкви, чтобы все живущие в дальних деревнях могли успеть проститься со мною.
13 июня он был утешен посещением архимандрита Мефодия из Псковско-Печерской обители.
Благостный старец и прежде несколько раз навещал болящего Матвеюшку и всякий раз приносил ему духовное утешение, но на этот раз свидание старцев было особенно трогательно. Они знали, что на земле им более не свидеться, и просили друг у друга прощения:
— Прости, батюшка! — говорил больной.
— Прости, Матвеюшка! — отвечал архимандрит, кланяясь ему и троекратно его лобызая. — Помолись за меня у Божьего Престола.
Кончина Матвеюшки была спокойна: видимо, он радовался, что приближается час его освобождения.
Отпевали его в соборе три священника и на руках несли гроб до могилы. Пути было всего полверсты, а несли его в продолжение почти двух часов: такая масса народу сопровождала его, и по дороге служили 18 панихид. Несмотря на громадное стечение народа, был полный порядок. Слышались только рыдания и скорбные возгласы:
— Матвеюшка! Зачем ты нас покинул?
Все три священника сказали надгробное слово. Вот выдержка из слова отца Александра Дегожского:
«…Милый и драгоценный духовный сын мой! Раб Божий Матвей! Не хочется мне отпустить тебя из храма сего в могилу без надгробного слова, хотя сказать его мне будет нелегко. Твой гроб производит потрясающее впечатление на всех. Приготовленный продолжительной болезнью, умягченный самими страданиями, очищенный и облегченный Святыми Таинствами Покаяния, многократного Причащения и Елеосвящения, бестрепетно встретил ты смерть свою! Меня же Господь привел быть свидетелем твоей твердой и теплой веры в Бога и тех святых чувств, которыми полна была твоя душа во время твоего Причащения Святых Тайн.
Эти минуты были так высоки и трогательны, что они глубоко запали в мою душу. О них я, как твой духовный отец, буду свидетельствовать на Страшном суде Божием. Да и могли ли мы ожидать чего другого при твоей кончине, когда вся жизнь твоя, чистая, добрая, безупречная, служила залогом твоей безупречной кончины?
За тебя и твою судьбу, наш друже, мы не страшимся. Мы веруем, что Господь Иисус Христос, в Которого ты веровал всем сердцем, Которого любил всем помышлением твоим, милостиво презрит на тебя, но одно печалит нас — разлука с тобой… Вот уже и нет тебя между нами. Вот уже и смежились твои светлые очи, в которых, как в зеркале, отражалась твоя душа.
Вот уже сомкнулись твои уста, из которых я и семья моя, и все почитатели твои слышали так много утешения и задушевных речей.
Дорогой мой духовный сын! Нет тебя больше с нами, и тяжка эта утрата для меня и семейства моего: в лице твоем мы имели молитвенника, полезного собеседника и утешителя в скорбные минуты жизни. Но более всего печалюсь я, что лишился великого помощника и благотворителя по украшению созданного твоим попечением храма Божия. К кому я теперь обращусь, когда храм этот, жилище Божие, потребует ремонта?
Утешаю себя одним, что ты, наш друг, и за гробом нас не оставишь своей теплой молитвой и испросишь мне благословение Всевышняго и Его великую милость!
Душа твоя была открыта для всех: в ней не было таких уголков, которые прячутся от посторонних.
Мир праху твоему! Вечное блаженство твоей душе! До радостного свидания! На земле мы более не увидимся, но ты всегда будешь жить в наших воспоминаниях и молитвах!».
К этому слову не остается ничего прибавить, само по себе оно может служить лучшей характеристикой Матвеюшки. Светлое, бодрящее чувство испытываешь, знакомясь с жизнью подобных людей, в особенности в наше время. Из груди вырывается облегченный вздох, и хочется воскликнуть:
— Не надо унывать, не надо падать духом при виде царящего повсюду зла!
Велик и силен тот народ, в недрах которого еще таится такая духовная мощь, который еще являет из себя таких богатырей духа, каким был покойный крестьянин болящий Матвей!
1906 г.
Чудеса Иоанна Кронштадтского
Рассказ М. А.
Нас у отца с матерью было двое: я и сестра Настенька. С сестрой мы очень дружили, но характерами были разные: она на кавалеров заглядывалась и рано замуж вышла, а я о монастыре мечтала и все старалась черным платочком покрыться. Особенно хотелось мне попасть в Иоанновский монастырь — он был под покровительством отца Иоанна Кронштадтского, и сам батюшка там часто бывал запросто, а я его с детских лет почитала и любила. Он бывал у нас в доме, хотя люди мы были самые что ни на есть простые — отец курьером при банке служил. И предсказание он отцу очень интересное сделал, но об этом после расскажу.
Так вот, мечта моя сбылась, приняли меня в Иоанновский монастырь. Находился он в Петербурге, на самом краю города, на берегу небольшой речки Карповки, и был очень красивый и благоустроенный; его строило купечество в знак своей любви к отцу Иоанну, и денег на него не пожалело. А когда землю монастырскую отводили, то игумения попросила дорогого батюшку, чтобы разом дали землю и под сестринское кладбище, но батюшка грустно так головой покачал и сказал:
— Не потребуется оно вам.
Игумения очень удивилась, но спрашивать не посмела, а ведь так оно и вышло. Ни одна сестра не успела в монастыре умереть, все по белу свету разбрелись…
Монастырь наш был городской, богатый, и послушания у нас были, конечно, не такие, как в сельской местности. Пришла я в монастырь молоденькая, здоровая. Ну, проверили, к чему я имею способности, чтобы знать, на какое послушание меня ставить. Я рисовала неплохо и петь могла. Определили меня в рисовальный класс и на клиросе петь первым голосом поставили. И такая на меня тягота от этого пения нашла, что сказать не могу, а петь приходилось много.
Вот как-то приехал к нам дорогой батюшка. Окружили мы его по обычаю, а он так ласково с нами беседует. Увидел меня и спрашивает:
— Как, Варюшка, живешь? Не скучаешь? — а я не утерпела да и говорю:
— Хорошо. Не скучаю. А вот на клиросе до смерти петь не люблю!
Отец Иоанн пристально на меня посмотрел и сказал:
— В монастыре надо трудиться и без ропота нести послушание. А пение ты полюбишь, еще октавой петь начнешь.
— Что вы, — говорю, — какая там октава, у меня же первый голос.
А он только усмехнулся и все.
Идет время. Я пою на клиросе, мучаюсь, но пою. Осенью ушел старый регент, а на его место нового назначили. Был он знаменит на весь Петербург, а к нам пришел по любви к батюшке. Прослушал он всех нас, клирошанок, по отдельности каждую и говорит мне:
— Почему Вас заставили петь первым голосом, у Вас ведь бас?
С этим словом он задал мне тон. Я запела, да так свободно и легко, что от радости рассмеялась. И начала я петь в басах, а потом у меня октава открылась. Регент очень мой голос ценил, а я петь стала с большей охотой и только дорогого батюшку вспоминала, как он мою октаву провидел.
А то еще со мной был такой случай. Появилась у меня на шее опухоль. Сначала небольшая, а потом стала увеличиваться, уж мне голову опускать трудно стало, и чувствовать я начала себя плохо.
Показала опухоль матушке игумении, она забеспокоилась и сказала, что повезет меня к доктору. Но тут не прошло и двух дней, как вечером приезжает в монастырь отец Иоанн. Мы его торжественно встретили и сразу пошли петь молебен. Так уж было заведено, что батюшка по приезде первым долгом молебен служил.
Иду я с клирошанками в церковь, а игумения меня останавливает, подводит к отцу Иоанну и говорит:
— Дорогой батюшка, помолитесь о Варваре, она ведь у нас заболела! — с этими словами подняла мой апостольник и показывает ему опухоль. Батюшка внимательно посмотрел, потом рукой по ней провел и говорит:
— Ничего, Бог даст, пройдет! Иди, Варюшка, пой!
Пропели мы молебен, потом батюшка с нами долго беседовал, затем меня позвали в трапезной помогать, и к себе в келию я вернулась позже обыкновенного.
Стою, раздеваюсь, апостольник сняла и по привычке опухоль свою разгладить хочу, тронула рукой, а ее нет. Я — к зеркалу: гладкая шея. Глазам своим не верю, ведь с кулак была. Едва утра дождалась — и скорей к игумении. Посмотрела она на мою шею, перекрестилась и только сказала:
— Благодари дорогого батюшку.
У нас в Иоанновском монастыре было такое правило: в определенные дни и часы нас могли навещать родные и знакомые. Вот как-то к одной из сестер пришла в приемный день ее знакомая молодая девушка.
Сидит с ней, беседует, но по всему видно, что она не в себе: бледная, расстроенная и отвечает невпопад, будто ее какая-то тяжелая мысль мучает. Подивились мы на нее, но расспросить ничего не успели, так как узнали, что дорогой батюшка приехал.
Обрадовались мы страшно, и все скорей на лестницу побежали бесценного гостя встречать. И девушка эта вместе с нами вышла. А батюшка поднимается по лестнице такой озабоченный, но со всеми ласково здоровается, а когда поравнялся с этой девушкой, то остановился и так громко ей сказал:
— Из-за тебя ведь приехал, а уж торопился как!
Мы, конечно, этих слов не поняли, а девушка, видимо, смутилась и даже как бы испугалась. А он продолжает ей говорить:
— Сейчас молебен служить будем, а потом я с тобой поговорю. Никуда уходить не смей, слышишь? — уже грозно ей под конец сказал и пошел облачаться.
Отпели мы молебен, помолились, и девушка с нами. Потом батюшка вышел, взял ее за руку и говорит:
— Ты, безумная, что это задумала, а? Иди-ка сюда.
Отошли они в сторону, и долго он ей что-то говорил, а девушка страшно плакала. Потом батюшка повеселел, благословил ее и, слышим, говорит:
— Ну, успокоилась? — А она благодарит его, руки целует и в ноги ему поклонилась.
Попрощался отец Иоанн со всеми и сказал:
— Больше у меня здесь сегодня дел нет! – и уехал.
Ну, а мы, конечно, девушку давай расспрашивать, о чем с ней дорогой батюшка говорил. И она нам рассказала, что был у нее жених, и уже свадьбу назначили, но он увлекся другой, а ее бросил. Горевала она ужасно и решила себя жизни лишить, под поезд броситься. Долго не могла с силами собраться, чтобы это сделать, но вот в этот день, как к нам прийти, твердо решила с собой покончить. Но очень ей было тяжело, и она напоследок зашла к нам в монастырь с тем, чтобы от нас уже прямо на вокзал ехать. А дорогой батюшка издалека почувствовал ее горе, приехал и принялся бранить ее, что она на такой шаг решилась. Когда она пообещала ему не делать задуманного, он ей сказал:
— Ты скоро замуж выйдешь за хорошего человека, и детки у вас будут!
Веселая она от нас ушла, радостная. А потом вскоре после этого замуж вышла и хорошо жила с мужем, и дети у них были.
Исцеление
Сейчас это маленькая сгорбленная старушка в черной бархатной скуфейке и длинной монашеской мантии. Ей 84 года, но она еще бодро двигается, опираясь на палочку, и не пропускает ни одной церковной службы. Зовут ее мать Людмила. Много лет тому назад она была высокой стройной послушницей, но все окружающие смотрели на нее с жалостью: каверны (язвы) покрывали ее легкие, и она “доживала последние дни”. Так сказал известный таллинский врач, к которому ее возила матушка игумения. Терпеливо ждала молодая послушница своей смерти.
Как-то в ясный весенний день в монастырь приехал отец Иоанн. Радость охватила насельниц. Найдя удобный момент, игумения, держа под руку, привела к нему больную.
— Благословите, дорогой батюшка, нашу больную, — попросила она.
Отец Иоанн внимательно посмотрел на больную девушку, сокрушенно покачал головой и сказал:
— Ах, какая больная, какая больная! — и, не сводя с больной пристальных глаз, он коснулся ее груди и сделал такой жест, как будто собирал вместе какую-то расползшуюся ткань. Собрал, крепко сжал пальцами и даже повернул их в сторону, чтобы было покрепче.
Потом дотронулся до другого места на груди и, покачивая головой, повторил тот же жест, затем перевел руку дальше, и таким путем он, сокрушенно вздыхая и молясь, как бы стягивал невидимые окружающим раны. Потом благословил больную и очень просто сказал:
— Ну, слава Богу, поживешь, и долго поживешь, правда, болеть будешь, но это ничего!
Никто не придал особого значения странным действиям великого батюшки, но все заметили, что после его отъезда больная начала поправляться.
Через год после этого случая матушка игумения поехала в Таллин и захватила с собой выздоравливающую девушку, чтобы показать для проверки тому врачу, который предсказал ей скорую смерть.
Старый врач был очень удивлен, увидев свою пациентку выздоровевшей. Внимательно осмотрев ее, он попросил разрешения сделать рентгеновский снимок легких. А потом, рассматривая его, он качал головой и говорил:
— Ничего не понимаю! Ваши легкие были испещрены язвами, но какая-то могущественная рука починила их, затянув смертельные каверны и покрыв их рубцами. Вы давно могли умереть, но вы живы и будете жить. Доброе дитя, над вами совершено великое чудо!
Записано со слов матушки Людмилы
Непонятая молитва
Мой отец с большим предубеждением относился к отцу Иоанну Кронштадтскому. Его чудеса и необыкновенную популярность объяснял гипнозом, темнотой окружающих его людей, кликушеством и т. п.
Жили мы в Москве, отец занимался адвокатурой. Мне в это время минуло четыре года, я был единственным сыном и в честь отца назван Сергием. Любили меня мои родители безумно. По делам своих клиентов отец часто ездил в Петербург. Так и теперь он поехал туда на два дня и по обыкновению остановился у своего брата Константина. Брата и невестку он застал в волнении: заболела их младшая дочь Леночка. Болела она тяжело, и, хотя ей стало лучше, они пригласили к себе на дом отца Иоанна отслужить молебен, и с часу на час ожидали его приезда. Отец посмеялся над ними и уехал в суд, где разбиралось дело его клиента. Вернувшись в 4 часа обратно, он увидел у братниного дома парные сани и огромную толпу людей. Поняв, что приехал отец Иоанн, он с трудом пробился к входной двери и, войдя в дом, прошел в зал, где батюшка уже служил молебен. Отец стал в сторону и с любопытством стал наблюдать за знаменитым священником. Его очень удивило, что отец Иоанн, бегло прочитав положенное перед ним поминание с именем болящей Елены, стал на колени и с большой горячностью начал молиться о каком-то неизвестном тяжело болящем младенце Сергии. Молился он о нем долго, потом благословил всех и уехал.
— Он просто ненормальный! — возмущался отец после отъезда батюшки. — Его пригласили молиться об Елене, а он весь молебен вымаливал какого-то неизвестного Сергия!
— Но Леночка уже почти здорова! — робко возразила невестка, желая защитить уважаемого всей семьей священника.
Ночью отец уехал в Москву. Войдя на другой день в свою квартиру, он был поражен царившим в ней беспорядком, а увидев измученное лицо моей матери, испугался:
— Что у вас здесь случилось?
— Дорогой мой, твой поезд не успел, верно, отойти еще от Москвы, как заболел Сережа. Начался жар, конвульсии, рвота. Я пригласила Петра Петровича, но он не мог понять, что происходит с Сережей, и попросил созвать консилиум.
Первым долгом я хотела телеграфировать тебе, но не могла найти адреса Кости. А Сереже делалось все хуже и хуже. Три врача не отходили от него всю ночь и наконец признали его положение безнадежным.
Что я пережила! Никто не спал, так как ему становилось все хуже, я была как в столбняке. И вдруг вчера после четырех часов дня он начал дышать ровно, жар понизился и он уснул. Потом стало еще лучше. Врачи ничего не могут понять, а я тем более. Сейчас у Сережи только слабость, но он уже кушает и в кроватке играет со своим мишкой.
Слушая мою мать, отец все ниже и ниже наклонял свою голову: вот за какого тяжко болящего младенца так горячо молился вчера отец Иоанн Кронштадтский.
Рассказ матушки Серафимы
Вся семья наша отца Иоанна чтила и уважала глубоко, в особенности мой отец. Он был знаком с ним лично и всякий раз, приезжая из Москвы в Петербург, бывал у него и подолгу беседовал.
В тяжелые для отца Иоанна годы, когда на него с большой силой обрушились его противники и многие из друзей и почитателей отвернулись от него, отец сохранил к нему свое глубокое чувство.
Батюшка ценил отношение моего отца и, в свою очередь, любил его. Как-то отец, уже будучи архимандритом, в обществе своих друзей (тоже искренних почитателей батюшки) приехал к нему в дом. Батюшка встретил их очень радушно и, несмотря на то, что чувствовал себя уже плохо, долго и оживленно беседовал с гостями.
Потом вдруг прервал разговор и, повернувшись к моему отцу, сказал:
— Помни день Трех Святителей! — а затем опять обратился к гостям и продолжал прерванную беседу.
Когда настал час расставания, батюшка обнял отца и опять сказал:
— Помни день Трех Святителей!
Это было последнее свидание, так как вскоре дорогой батюшка скончался. Отец рассказал нам о словах батюшки, и мы все с великим страхом ждали наступления дня Трех Святителей, так как были уверены, что в этот день отец умрет, и он сам этого ждал и готовился к смерти. Но день прошел благополучно, даже был особенно какой-то светлый и радостный, только с этого времени отец каждый год ждал себе смерти именно в день Трех Святителей. Он очень готовился к этому дню и проводил его в посте и молитве.
Прошло много лет. Отец погиб трагически, и мы, несмотря на наши старания, не могли узнать ни даты его смерти, ни места могилы. Меня, и в особенности мою сестру, очень печалило, что мы не знаем дня его кончины. И вот сестра начала молиться, чтобы ей открылось, когда умер наш отец. Долго она просила, и наконец, во сне ей явился сам отец. Он вошел в комнату и, как бы отвечая на давно заданный вопрос, сказал:
— Ну конечно, в день Трех Святителей!
Отец Сергий С.
Мои воспоминания…
С отцом Сергием я была знакома около трех лет. Встречи наши были довольно редки, так как он жил в глухой деревне под Муромом, а я в Москве, и все-таки он сумел мне дать чрезвычайно много, хотя мог дать гораздо больше, но мешала несоразмерность наших духовных сил.
Многое из того, что мне говорил отец Сергий, я просто не понимала, я очень многое забыла, многому не придавала значения, и оно стерлось из памяти, и сохранились только мелочи. Вот этими мелочами, жалкими крохами неиспользованного богатства мне хотелось бы поделиться, но повторяю: только по моей вине они ничтожны.
Первое, что поразило меня в отце Сергии, это то, что его Бог не был грозным или карающим. Он не может быть таким. Он же — Любовь, но, чтобы стать близкими к Нему, мы должны переполнить наши сердца любовию!
— Следите за своим сердцем, — учил отец Сергий, — не допускайте в него ни злобы, ни осуждения. Старайтесь увидеть в людях хорошее и сказать им об этом. Никогда не бойтесь перехвалить человека, так как в каждом заложены пласты добра, о которых человек сам и не подозревает. Давайте ближним больше, чем они, по Вашему мнению, заслуживают, относитесь к ним лучше, чем они того достойны. Чаще, как можно чаще читайте «Богородице Дево» — читайте везде: в поезде, на работе, дома. Она наша Заступница.
Любите преподобного Серафима, этого дивного святого, который, обращаясь к людям, говорил: «Радость моя». И поставьте себе за правило ежедневно во имя его делать людям что-либо хорошее. Не сможете сделать большого дела — делайте малое, не можете и такого — ну, тогда хоть улыбнитесь человеку от всего сердца и пожелайте ему доброго!
Отец Сергий заставлял меня перед причастием читать длинное правило, два акафиста и канон. С непривычки я изнемогала от такого требования.
Один раз мне было особенно трудно, так как отец Сергий приехал к нам неожиданно вечером и сказал, что будет причащать меня на другой день утром. Вечер прошел в интереснейшей беседе.
Когда я собралась уходить (отец Сергий ночевал у нас, а так как комната у нас была маленькая, я уходила к знакомым), было около первого часа ночи.
— Завтра в семь часов утра я жду Вас, — сказал отец Сергий, отпуская меня.
— Но когда же я успею прочесть правило? — с тревогой спросила я. Он мягко улыбнулся и позволил ограничиться двумя молитвами, которые я знала наизусть, и одним акафистом.
Я ушла, а на другое утро ровно в семь часов стучалась в свою дверь. Мама впустила меня, и я с удивлением увидела, что отец Сергий дочитывает правило ко Святому Причащению. Когда он кончил, я спросила:
— Разве Вам тоже полагается читать эти правила перед тем, как причастить человека?
— Нет! Я читал их за Вас, так как видел, что Вы устали, а без их прочтения я не имею права допустить к таинству!
У отца Сергия была своеобразная манера исповедовать: он становился лицом к иконе и спиной ко мне. Стоя за этой широкой спиной, я каялась Богу, а отец Сергий был как бы звеном, и было это значительно и страшно. Поучений и указаний во время исповеди он не делал никаких, а только слушал и спрашивал, но как! Один грех я никак не могла выговорить и решила утаить. Закончилась исповедь, и вдруг он спрашивает:
— Все?
— Да!
Тогда с болью в голосе он настойчиво повторяет:
— Все ли?
Мне стало жутко, и я назвала свой грех.
— Каждый день читайте благовещенский акафист Царице Небесной, — сказал мне однажды отец Сергий. — Это самый древний акафист, впоследствии он явился образцом для всех акафистов. Пожалуйста, читайте его и помните, что когда я умру, то как радостно будет моей душе в те минуты, когда вы будете произносить эти восхваляющие Царицу Небесную слова!
— Если перед Вами станет задача, куда идти: к больному или к Литургии, то, не сомневаясь ни одной минуты, идите к больному. И помните еще, что Литургия — не наш труд перед Богом, а награда, и нам ее надо заслужить.
Я жаловалась отцу Сергию, что мне очень трудно ежедневно молиться утром и вечером.
— Очень трудно, — усмехаясь, согласился отец Сергий. — Вот я тоже постоянно нужу себя к этому. И сегодня, например, пора на молитву стать, а я все разговариваю.
На другой день после отъезда батюшки мама мне сказала:
— Это тебе для поддержки отец Сергий говорил, что ему тоже трудно себя принудить Богу молиться, а на самом деле он молится после твоего ухода целыми часами. Погасит свет и думает, что я сплю, и как начнет поклоны класть, так и не счесть.
Отец Сергий поучал меня рассказывать о себе все — от мелочей до больших поступков и самых сокровенных мыслей. Постепенно я к этому привыкла, и открытие помыслов стало уже новой потребностью.
В то время я была очень увлечена К., и мы хотели соединить наши жизни, несмотря на массу препятствий. Отец Сергий относился к моему выбору настороженно. Он не верил в искренность чувств К. Не отговаривая меня окончательно, он ставил передо мной ряд требований, при невыполнении которых отказывался дать свое благословение. Надо сказать, что при своей исключительной доброте и мягкости отец Сергий в принципиальных вопросах и вопросах веры был абсолютно неумолим. Как-то я после мучительного разговора с К. попросила отца Сергия:
— Помолитесь, чтобы мы с К. поженились.
— Хорошо! — согласился отец Сергий и уехал к себе в деревню. Вернувшись через два месяца, он мне осторожно сказал:
— Мне очень больно Вас печалить, но за К. Вы замуж не выйдете!
— Почему? — поразилась я.
— Я трижды молился об этом у престола, и трижды моя молитва, как камень, осталась внизу и не поднялась кверху.
Слова отца Сергия сбылись. Я не вышла замуж.
Наступил 1937 год. Начались аресты. Я сказала отцу Сергию, что я большая трусиха и боюсь тюрьмы и ссылки. Я ждала порицания, но отец Сергий мягко посмотрел на меня и улыбнулся:
— А как я боюсь, Вы даже и не представляете! Я ведь уже два раза был в концлагере и знаю, что это такое. Один раз меня оттуда брат Владимира Ильича вызволил. Бояться не стыдно, все мы люди, и люди слабые, а вот малодушествовать нельзя, Бог-то ведь с нами и нигде нас не оставит!
Вот и все, что я оставила в памяти об отце Сергии.
Еще поделюсь тем немногим, что он рассказывал о себе, а также о разных лицах, которых он знал, и событиях, в которых он участвовал. Располагаю эти рассказы в хронологическом порядке.
Из рассказов отца Сергия
О своем детстве
Родителями отца Сергия были русский помещик и грузинская княжна. Умерла она вскоре после рождения отца Сергия. И, кроме него, осталось еще двое детей: сестра Ольга и брат Алексей.
Заботу о детях взяла на себя родная сестра матери и переселилась на постоянное жительство в осиротевшую семью. Дети начали называть ее мамой. И она действительно сумела заменить им умершую мать. Еще будучи мальчиком, отец Сергий любил ходить в церковь, а если его не брали с собой взрослые, он убегал туда тайком.
Так он сделал и в одну из суббот — убежал вечером в Кремль ко всенощной. Служил отец Валентин Амфитеатров. Во время «Хвалите» проходя с каждением ко храму, он увидел одиноко стоящего кудрявого мальчика. Остановился около него:
— Как тебя зовут?
— Сережа.
— С кем ты пришел?
— Я один.
Отец Валентин полез в карман, вынул пряник и подал мальчику, а через несколько минут к нему подошел церковный сторож и сказал:
— Пойдем, Сереженька, домой, батюшка велел тебя отвести, а то родители, верно, беспокоятся.
И действительно, дома все сбились в ног в поисках Сережи.
Я не помню, какое высшее учебное заведение окончил отец Сергий, кажется, филологический факультет Московского университета. Помню только, что он прекрасно знал литературу. Из поэтов он выше всех ставил Пушкина и Тютчева. Будучи молодым человеком, отец Сергий прислуживал в храме, в котором служил какой-то очень высокой жизни священник. В одно из воскресений, торопясь к Литургии, отец Сергий поссорился с матерью из-за какого-то пустяка и, рассерженный, ушел в храм. Перед началом обедни батюшка вместе с диаконом и отцом Сергием стали у престола и запели «Царю Небесный». Вдруг батюшка прервал пение и, обратясь к сослужащим с ним, спросил:
— Кто из вас не мирен? Ведь Дух Святый не идет к нам!
— Я поссорился с мамой, — смущенно сказал отец Сергий.
— Иди и помирись, — строго сказал священник.
Как был отец Сергий в страхе, так и выбежал из алтаря. На его счастье, мать стояла в храме.
— Прости! — обратился он к ней.
Она с нежностью поцеловала его в голову.
— Простила! — радостно сказал отец Сергий, вернувшись в алтарь.
— Ну, и слава Богу, — ответил батюшка и торжественно начал «Царю Небесный!».
О патриархе Тихоне
Одно время отец Сергий был иподиаконом патриарха Тихона. Святейший очень любил его и ласково называл Сережей. Патриарх в то время находился как бы под домашним арестом и не имел права выходить за пределы Донского монастыря.
Жил он в помещении, расположенном над святыми воротами. При нем неотлучно находился его келейник, у которого в городе была семья. По средам Святейший отпускал его повидаться с родными и до утра следующего дня оставался один. Это было всем известно. И вот в одну из сред, ночью, кто-то настойчиво постучался в покои Святейшего. Дверь открыли. Электричество не горело, в прихожей было темно. Убийцы бросились на открывшего, тот закричал и быстро смолк. Сделав свое страшное дело, преступники побежали вниз по лестнице, а наверху со свечой в руках старый Патриарх силился поднять своего послушника, который по странной случайности не ушел в тот день домой. Горько плакал Святейший над убитым и велел похоронить его рядом с тем местом, которое определил для своей могилы:
— Пусть под землей будем лежать как братья, ведь он принял на себя смертный удар, предназначенный мне!
Так и было сделано: под землей они лежали рядом, а на земле их разъединяла стена храма, так как Патриарх лежал внутри его, а послушник снаружи.
О митрополите Петре
Отец Сергий хорошо знал покойного митрополита Петра. До принятия монашества он был светским человеком и занимал ответственный пост в Святейшем Синоде. Известен он был среди духовенства как человек большой силы воли, умный, образованный, ревностно оберегающий интересы Церкви и глубоко верующий. Женат он не был. Как-то патриарх Тихон вызвал его к себе и сказал:
— Друже! Принимай монашество, а потом будешь моим местоблюстителем!
Будущий митрополит Петр затрепетал от неожиданности и смущения и ответил категорическим отказом, ссылаясь на свою светскость, неподготовленность и недостоинство.
— Зачем Вам я? — доказывал он Святейшему. — Среди окружающих Вас иерархов столько достойнейших, а Вы остановили свое внимание на таком ничтожестве, как я.
— Мне ты нужен для Церкви! — настаивал Патриарх.
Спор длился много дней. Наконец Святейший победил. По принятии монашества будущий митрополит в какой-то исключительно короткий срок прошел все степени иерархии и получил сан митрополита Крутицкого и Коломенского с наречением имени Петр.
На банкете, устроенном в его честь, присутствовал и отец Сергий. Он рассказывал, как к новому митрополиту подходили один за другим с бокалами в руках собратья, презирая в нем его светское прошлое и молниеносное вступление на такой высокий пост.
Митрополит Петр поеживался от получаемых им колкостей, облеченных в цветистость парадных поздравлений, и сидел серьезный и грустный. Последним к нему подошел, кажется, митрополит Трифон. Петр поднял на него усталые глаза, ожидая, видимо, услышать еще одно горькое слово, но митрополит Трифон сердечно обнял его и сказал:
— Твое имя Петр, что значит «камень». Будь же камнем!
Растроганный митрополит Петр встал, клятвенно протянул руку и сказал:
— Буду камнем!
Он сдержал клятву…
О гробнице Александра I
Не знаю, почему отец Сергий был в числе тех лиц, которые присутствовали при вскрытии царских гробов в соборе Петропавловской крепости в Петрограде.
— Было жутко и интересно, — блестя голубыми глазами, с увлечением рассказывал он, — а когда вскрыли гробы Елизаветы, Екатерины, Павла, так и пахнуло 18-м веком от роскоши костюмов…
— А что было в гробу Александра I?
— Он был пуст!
В Киево-Печерской Лавре
— Моя жизнь в Киеве совпала с бегством за границу русской аристократии и буржуазии, — вспоминал отец Сергий. — Жил я в Киево-Печерской Лавре и был дружен с игуменом и казначеем. Как-то они попросили меня помочь им снять и уложить в тайник чудотворный образ Успения Божией Матери, который висел над Царскими вратами в Успенском соборе Лавры.
Они боялись, как бы в это тревожное время кто-нибудь не надругался над святыней или бы не похитил ее. Втроем вынули образ, заменили его копией и спокойно разошлись по своим кельям. Наступила ночь. Я лег спать, но сон бежал от меня, и какое-то чувство беспокойства стало охватывать мою душу. Я вертелся с боку на бок. Наконец почувствовав, что сил моих больше нет, вышел на лаврский двор. Ночь была лунная. Светлая. Вижу, по двору ходит отец казначей. «И ему не спится», — подумал я и подошел к нему. Он обрадовался, увидев меня, и сказал:
— До чего на душе неспокойно, и сам не могу понять, от какой причины. Вот вышел, а то в келии прямо оторопь берет.
Прохаживаемся вместе, а беспокойство во мне все растет. Вдруг видим, открывается тихо дверь и из покоев выходит игумен.
— Смотри, и ему не спится, — сказал я казначею.
А игумен, увидев нас, быстро подошел. При свете месяца мне было видно, что он встревожен, даже больше — потрясен чем-то.
— Как хорошо, что вы оба здесь, а ведь я за вами шел!
— Что случилось? — в один голос спросили мы.
— Страшное! — игумен прижался спиной к стене и тяжело дышал:
— Сейчас во сне пришла ко мне Царица Небесная и строго так сказала: «Хочу пострадать!».
Идемте, поставим Ее чудотворный образ на место — это Ее воля!
Молча, взволнованные и робкие, мы вынули из тайника образ и поставили его на свое место.
Об изгнании бесов
Отец Сергий был близок с одним стареньким батюшкой, отличавшимся очень высокой духовной жизнью. Он обладал силой изгонять бесов, и отец Сергий часто присутствовал при случаях исцеления батюшкой бесноватых. Он поражался, как этот маленький, хрупкий старичок расправлялся с духами злобы. Однажды, уже будучи молодым священником, отец Сергий пришел к батюшке и, не застав его дома, сел отдохнуть, ожидая его. В это время привели бесноватую. Она кричала и билась. Отцу Сергию стало жаль женщину, и он решил, не ожидая батюшки, сам изгнать бесов. Прочитав над несчастной все положенные молитвы и заклинания, он приказал бесу выйти, и услышал насмешливый вопрос: «А ты кто, что мне повелеваешь?»
— Ужас объял меня, — вспоминает отец Сергий, — и с тех пор я зарекся никогда не изгонять их, так как для этого надо иметь огромную духовную силу и всегда подвизаться в посте и молитве.
Случай в деревне
Это произошло где-то в деревне.
Был вечер. В избе сидели и до хрипоты спорили верующие и сомневающиеся. Собравшихся было несколько человек, в том числе и отец Сергий.
Разговор коснулся бесов.
— Если беса позвать, то он сразу тут как тут, — доказывал кто-то из присутствующих.
— Что же, если я позову его, он сразу тебе и явится? — возражал другой.
— Явится, — настаивал первый.
— В телесном виде? — посмеивался противник.
— А там уж как придется, может и в телесном.
— Хорошо, я сейчас его кликну, — заявил отрицавший. И кликнул.
Все замерли. Тихо стало в избе. Вдруг за дверью, выходившей на двор, раздался топот. Вот он все ближе. Напряжение в комнате доходит до предела. Еще раз что-то стукнуло, и черная морда барана просунулась в дверь. Все вскрикнули. А сомневавшийся потерял сознание.
Исповедь
Отец Сергий в двадцатых годах священствовал в Загорске. Однажды, поздно вернувшись домой, он услышал от квартирной хозяйки, что за ним дважды приходила какая-то женщина. Усталый и голодный, он сел ужинать.
— Опять за Вами пришла эта женщина, — прервала ужин хозяйка.
— Зовите!
Вошедшая поздоровалась и тихо сказала:
— Я от … (отец Сергий никогда не называл ни имени, ни фамилии этого человека). Он умирает и просит Вас прийти к нему.
Отец Сергий взял все необходимое и пошел. Человек, к которому его звали, был ответственным работником. Встретил он отца Сергия на пороге своей комнаты:
— Спасибо, что пришли, я очень боялся, что не успею увидеть Вас. Я умираю!
— Но я вижу Вас на ногах, хотя и очень бледного, но бодрого и далекого от смерти.
— Нет! Я умираю, давайте поспешим, мне надо многое рассказать Вам, все, что сделано мною.
И вот этот человек с бледным лицом, порывистыми движениями, взволнованный и торопящийся, взволновал и отца Сергия. Началась исповедь, которая длилась всю ночь. Сначала отец Сергий принимал ее стоя, потом сел в кресло, а исповедующийся ходил из угла в угол и говорил. Он рассказал всю свою жизнь, открыл все совершенные им поступки.
— Мне было страшно, — вспоминал отец Сергий, — временами мороз бежал по коже, а он все говорил и говорил, все глубже и глубже вводя меня в свою жизнь. Брезжило утро, когда он кончил и вопросительно посмотрел на меня. А я с полным сознанием того, что поступаю именно так, как надо, сказал:
— Властию, мне данною, прощаю и разрешаю.
Он встал на колени и заплакал. Расстались мы близкими друг другу.
Вернувшись домой, я уснул, как убитый, а днем пошел навестить своего исповедника. Меня встретила его жена и тихо сказала:
— Он умер вскоре после Вашего ухода.
Потрясенный милосердием Божиим, давшим этому человеку возможность очиститься от грехов, я земно поклонился его телу и вышел.
Напутствие умирающему
Была осень. Отец Сергий лежал в своей деревенской квартире на печке, как вдруг подъехала телега и кто-то застучал к нему в окно.
— Кто там?
— Батюшка, отец помирает, причастить надо, поедемте, — попросил юношеский голос.
Отец Сергий взял Святые Дары, оделся и вышел.
— Это ты, Ваня? Что с отцом?
— Плохо! Кричит на крик: бесы на него наступают. Просит, чтобы Вы скорее приехали.
Лошадь долго везла их по непролазной осенней грязи в соседнюю деревню, где жил умирающий.
Когда подъехали к его избе, у которой толпился народ, то даже на улице были слышны дикие, полные ужаса крики.
Перекрестившись, отец Сергий вошел внутрь. На широкой кровати метался еще не старый человек, отмахиваясь и иступленно крича. Увидев отца Сергия, он с мольбой протянул к нему руки:
— Спаси, батюшка, наступают, проклятые, хватают меня, стращают! Спаси, сил моих нет!
Отец Сергий исповедал несчастного, причастил и, взяв его за руку, начал молиться. Тот успокоился.
— Отошли, — шептал он, — только по углам грозятся, но сюда не подходят. Сиди, отец, рядом со мной, не уходи, а то опять они меня хватать будут!
Так и провел отец Сергий всю ночь, держа умирающего за руку и усердно молясь. Под утро тот спокойно умер.
Дети отца Сергия
Наступил страшный 1937 год. Отцу Сергию в то время исполнилось 44 года. Детей у них с женой было четверо, и ожидали пятого. Детей своих отец Сергий любил очень, и когда говорил о них, лицо его светилось какой-то особенно нежной улыбкой. Как-то вечером он сидел у нас, и моя мама спросила его:
— Отец Сергий, как Вы, имея большую семью, решились стать священником? А если Вас возьмут и сошлют, то на кого Вы оставите своих детей?
Отец Сергий вздрогнул, ясными глазами посмотрел на мою мать и, широко, как на кресте, раскинув руки, проникновенно ответил:
— На Царицу Небесную! Если я погибну, то на Ее Сына. Так неужели Вы допускаете мысль, что в таком случае Она оставит моих детей? Никогда! Спасет и защитит!
Через 2 месяца отца Сергия взяли, и он погиб.
А дети? В 1946 году я встретила его дочь Таню и сына Алешу, и они рассказали мне, что их старший брат стал офицером и без единого ранения прошел всю Отечественную войну, сестра Варя блестяще закончила институт и получила ответственное место на одном из уральских заводов. Туда она увезла и мать. Третий сын отца Сергия, родившийся без него, назван в честь его Сергеем. По словам Алеши, это очень одаренный юноша.
Я твердо верю, что все они до самой своей смерти останутся под покровом Царицы Небесной!
Вексель
Рассказ
Девочку звали Саррой. Она была дочерью очень богатых евреев. Кроме нее, было еще пять человек детей. Семья жила в провинции. Отец был крутого нрава, и дети его очень боялись, боялась его и жена.
Однажды отец вышел из дома, собираясь отправиться по какому-то делу, и, сунув руку в карман пиджака, вынул вчетверо сложенную бумагу.
— Эх! Не хочется возвращаться! — сказал он.
— Сарра, возьми этот документ, он очень важный, и отнеси в мой кабинет, — позвал он пробегавшую мимо него дочь. — Положи на письменный стол и придави книгой. Да не потеряй, а то голову оторву! — крикнул он ей вдогонку.
Сарра положила бумагу в карман платья и только было направилась к кабинету, как ее позвала старшая сестра посмотреть, какую шляпку подарил ей жених.
Посмотрев подарок, Сарра увидала в окно, что во дворе собрались дети соседей и готовится интереснейшая игра. Забыв обо всем, она присоединилась к играющим. Бумага лежала в ее кармане, а она прыгала и играла до позднего вечера. Сброшенное ею на ночь платье горничная отнесла в стирку, а утром дала ей другое.
Садясь за чайный стол, отец спросил Сарру:
— Где та бумага, которую я тебе вчера дал?
Только сейчас Сарра вспомнила о ней.
Начались поиски, но Сарра хорошо знала, что они бесполезны: бумага была в кармане ее платья, и она ее не вынимала, а потом платье взяли в стирку. Несомненно, бумага размокла, и ее выбросили. Трясясь от страха, она во всем призналась отцу. Он посмотрел на нее и жестко сказал:
— Это был вексель на 10 тысяч рублей. Через две недели я должен его опротестовать. Мне нет дела до того, что его нет, он должен быть. Достань, где угодно… или…
Сарра закрыла глаза от ужаса. Отец никогда не грозил зря. Начались дни бесцельных поисков и мук. Вначале этими поисками были заняты все в доме, но, поняв бесполезность, — оставили. Сарра потеряла сон и аппетит. Она перестала играть с детьми, пряталась от всех в дальних уголках огромного сада. Охотней всего она сидела на том месте, где их участок соприкасался с небольшим двором старой русской женщины.
Та жила одна в бедной хибарке, хозяйства у нее не было, бегала только пестрая кошка, и весело зеленел огород. Качали ветками три яблони, и пышно раскинулись кусты смородины. Женщина постоянно была занята делом на своем убогом дворе, но часто оставляла работу и, став во весь рост, молилась. Ее доброе лицо во время молитвы делалось еще добрее, часто слезы текли из глаз; она не замечала их, а только осеняла себя крестом. Сарра в заборную щель наблюдала за ней, и, когда женщина молилась, Сарре делалось вдруг легко и радостно и страх перед отцом уходил, но вот женщина кончала молитву, и снова страшные мысли овладевали Саррой, и она шла на речку искать на ее берегах место, откуда она бросится в воду.
Когда-то, когда было особенно тяжело, Сарра пришла в заветный уголок сада и, повторяя движения женщины, попробовала молиться сама. Она не знала, как это делать, и, неумело крестясь, говорила:
— Русский Бог, помоги мне!
Потом она начала Ему жаловаться на свое несчастье и снова просила помочь. Так она начала делать каждый день, что, однако, не мешало ей продолжать ходить на речку, где она предполагала окончить свою жизнь, так как расправа отца была для нее страшнее смерти.
Прошло две недели. Наступило утро рокового дня. Сарра не спала ни одной минуты, и, как только рассвело, она оделась, оглядела спавших с ней в одной комнате сестер и тихо вышла из дома.
Солнце только поднималось, во дворе не было ни души, в такую рань все еще спали. Последний раз оглянулась Сарра на родной богатый дом, на сад, на большой двор, весь в надворных постройках, и пошла к калитке. Отбросив засов, решительно взялась за ручку.
Что это? В ручку была продета свернутая вчетверо бумага… Вексель! Неужели это тот, что отец дал ей две недели тому назад? Но ведь он размок в кармане ее платья и его выбросили! Как же он мог попасть сюда? Забыв страх перед отцом, забыв все на свете, Сарра с криком бросилась в спальню родителей. Всклокоченный, еще не очнувшийся от сна отец выхватил из ее рук бумагу.
— Вексель, тот самый вексель! — закричал он на весь дом. — Где ты его взяла?
Трясясь всем телом, Сарра рассказала. Отец опять принялся рассматривать документ. Все правильно, ни к чему нельзя придраться, только он чем-то неуловимым отличается от пропавшего. Как будто другая бумага, иной почерк. В доме все проснулись и сбежались в спальню, радостные и возбужденные. Только Сарра не радовалась со всеми: новое чувство чего-то великого и непонятного переполняло ее душу. Она опять ушла в свой уголок в саду.
— Это сделал Ты, русский Бог! — шептала она, и ей не хотелось идти домой, а хотелось сидеть здесь в тишине и думать об этом необыкновенном Боге, который пожалел ее и сотворил чудо.
Днем отец Сарры опротестовал вексель и получил деньги. В доме было весело и шумно.
После этого события Сарра очень изменилась: она стала серьезнее, молчаливее. Мысль о русском Боге не давала ей покоя, но она знала, что для того, чтобы стать к Нему ближе, надо креститься. Набравшись смелости, она пошла к священнику и попросила окрестить ее.
Священник отказался:
— Ты, барышня, еще несовершеннолетняя, и без согласия родителей я не имею права это сделать.
Расстроенная, Сарра пошла к другому священнику и тоже получила отказ. Отказал и третий. Легко им было говорить — согласие родителей. Сарра прекрасно понимала, что если бы она заговорила об этом с ними, то в ответ последовали бы только проклятия. Отец и мать были ревностные евреи, дед был раввином. Семья родителей была одной из самых уважаемых и богатых в городе, отец постоянно жертвовал на синагогу, и в доме у них все жили, строго выполняя все требования иудейской веры.
В волнениях и тайных молитвах к русскому Богу прошел год. От подруги Сарра узнала, что недалеко от их города есть женский монастырь.
— Поезжай туда и проси игуменью, чтобы тебя окрестили! — посоветовала подружка.
Сарра решилась идти на этот шаг и порвать с семьей.
— Мне скоро шестнадцать лет, я не ребенок, проживу как-нибудь. Бог поможет!
Собрав все свои деньги (отец давал иногда) и кое-какие вещи, Сарра ночью убежала на вокзал. Доехав до нужной станции (монастырь находился в нескольких километрах от железной дороги), Сарра пошла в монастырь. Она боялась, что если начнет нанимать извозчика, то это обратит на нее внимание, а как пройти в обитель, подруга ей рассказала, т. к. не раз бывала там с бабушкой. В пути Сарре повезло: попались богомольцы, шедшие туда же; они ей указали, и как пройти к матушке игумении. С бьющимся сердцем переступила Сарра порог игуменских покоев. Молодая послушница, с любопытством оглядев ее, пошла доложить матушке.
От волнения Сарра не могла стоять:
— Боже, помоги! Боже, помоги! — шептала она, повернувшись лицом к образу.
Не слышала она за своей молитвой, как открылась дверь, вошла матушка и, остановившись, принялась рассматривать пришедшую.
Наконец под ее пристальным взглядом Сарра обернулась, протянула ей руки и с плачем упала на колени.Долго разговаривала с ней игумения. Рассказ Сарры тронул ее чуткое сердце, но самостоятельно решить вопрос о ее крещении она не могла. Оставив девушку в своих покоях, игумения немедленно поехала к епископу.
— Крестите, мать, девушку! И оставляйте ее у себя, а то дома ее со свету сживут. Делайте все без согласия родителей. Если родные приедут, девушку не отдавайте, грозить станут — посылайте ко мне.
Так и сделали, как сказал Владыка, и родным, когда они приехали за Саррой, ответили так, как было велено.
Прошли годы. Сарра никуда не уезжала из приютившего ее монастыря, а вступила в число сестер обители и пошла трудным монашеским путем.
Умерла она схимонахиней, прожившей в схиме много лет, и передала этот рассказ одному священнику, который рассказал его моему знакомому, а тот — мне.
Подвиг
Рассказ-быль из жизни одного профессора
I
В нашей монотонной и, правду сказать, довольно пустой жизни (я говорю о себе и еще нескольких друзьях) суббота была особенным днем, когда отходили как-то на второй план повседневные заботы и мелкие развлечения, когда от праздных и суетных по свойству своему предметов, занимавших нас в течение недели, мы на короткое время отдалялись в область обсуждения того, что важно и ценно в мире, и что всегда неудержимо привлекало к себе пытливую любознательность человеческого ума, оставаясь, однако, в большой своей части неразгаданной тайной и до сего времени.
В этот день собрались мы у нашего старого профессора Архипа Ивановича и проводили вечер в разговорах на высокие отвлеченные темы. Религия и ее история, нравственные нормы в их последовательном развитии, обязанности человека к себе подобным и к своему Создателю, способы и пути духовного самоусовершенствования, идеи любви и сострадания как единственно правильные и безошибочные двигатели всякого человеческого поступка — вот что служило предметом горячего обмена мнениями и порою нескончаемых молодых споров, нередко затягивающихся до того момента, когда на смену ночной темноте приходил и брезжил в оконные стекла мутный, расплывчатый полусвет хмурого петербургского утра.
Мы спорили, а старый профессор сидел в своем глубоком вольтеровском кресле и сосредоточенно слушал наши голоса, поднимавшиеся часто в пылу увлекательной беседы до крика. Сидел, обводил всех внимательным взором своих не потерявших еще блеска очей из-под нависших и какими-то кустами торчащих седых бровей и… молчал, давая полную возможность высказаться всем без исключения желающим. И только под конец, когда становилось ясно, что взглядов спорящих примирить нельзя, что сами они не могут найти почвы, которая бы объединила и согласовала нередко совершенно противоположное миросозерцание, старик вмешивался и с широким, плавным жестом руки начинал говорить.
Неторопливо, в ясных, отчеканенных выражениях, развивал он перед слушателями ту или иную мысль, высказывал ту или иную точку зрения на предмет кипевшего перед тем спора и обычно разрешал все наши сомнения и разногласия.
Обычай собираться у Архипа Ивановича по субботам вел свое начало со времен университетских. Еще там, слушая его лекции по истории философских учений, мы как-то привыкли заходить к концу недели к нему в уютную небольшую квартирку, где он жил одиноко, давно овдовевший, бездетный старик, чтобы на свободе и в тишине поговорить с профессором о том, что было непонятно на его лекциях, или вызывало сомнения, или, наконец, просто почему-либо особенно интересовало.
Выходило всегда так, что заходивших было несколько человек. Подавался чай, завязывалась интересная товарищеская беседа, и нередко мы засиживались у старого профессора до глубокой ночи.
Шло время. Студенты кончали университет, выходили на широкую дорогу самостоятельной жизни и работы. Сменялись поколения субботних посетителей профессора, но по-прежнему жива была традиция у студентов: за всякими справками, со всякими вопросами идти к Архипу Ивановичу именно в субботу, — и так сами собой образовались у него эти постоянные собрания в конце недели во время обоих учебных семестров.
А часто бывало и так, что, окончив университет, человек все же не порывал связи со старым любимым наставником и в субботу аккуратно являлся к восьми часам на знакомую квартиру и занимал свое обычное место за столом. Таким гостям особенно рад бывал добрый и умный старик…
Странные ощущения испытывали мы в эти вечера. В маленькой, такой уютной столовой ярко и приветливо светила висячая большая лампа. Мерно тянул свою однообразную песенку громадный, специально для этих суббот заведенный профессором самовар. Лилась живая речь старика, звавшего к высоким идеалам добра, человечности и правды… И казалось, что там, за стенами дома, за плотно закрытыми ставнями окон, бушует и мечется, хохочет и рыдает одновременно то разгульная и страшная в хаосе этого дикого разгула, то страдающая и молящая о сострадании к себе жизнь, а здесь, в этой тихой комнате, собрались на совет те, кто хочет прийти на помощь бьющейся в судорогах страдалице, кто рвется всей душой на ее призывные стоны; собрались, чтобы выслушать наставления мудрой старости, чтобы научиться у нее, как и чем можно помочь гибнувшим детям жизни…
II
В одну из таких суббот зашла речь о подвижничестве, и на эту интересную тему сразу же закипел ожесточенный спор. Одни из споривших горько оплакивали подвижничество первых времен христианства, когда уход в пустыню от мира и его образов был не только главным условием всякого подвига, но и почти единственной его формой. Особенно горячо и пылко защищал древний подвиг совсем молодой еще студент, грезивший во сне и наяву о поездке на Восток, в Палестину, в Египет — в те места, где впервые засветился робко и несмело невечерний свет христианского учения.
— Отрешиться от людей и от всякого общения с ними, — говорил он взволнованно, поблескивая глазами, — уйти в глухие дебри, куда никогда не доносятся шум и кипучая сутолока человеческих поселений; среди вечного безмолвия окружающей пустыни вести борьбу за существование с суровой природой и ее дикими обитателями; довольствоваться самым скромным, самым ничтожным удовлетворением только таких потребностей тела, без которых и самая жизнь его невозможна; отказаться от всякой радости земной, от всякого наслаждения плотского; забыть свою бренную оболочку и смотреть на нее, как на тяжелое бремя, мешающее торжествующей жизни духа, и со всем тем непрестанно мыслить лишь о совершенстве духовном, непрестанно желать возвращения к Отцу, непрестанно стремиться к Небу, к Источнику вечного, немеркнущего Света, — вот идеальная форма подвижничества истинного, в настоящем смысле этого слова ныне уже забытого человечеством.
Так говорил наш юный товарищ, и с ним соглашались многие и находили красоту неисчерпаемую и в жизни отшельников древней Фиваиды, и в житии наших родных подвижников, создавших среди непроходимых крепей русских, северных лесов очаги истинной веры, засиявшие потом пламенным маяком для всех концов и тогда уже беспредельной по размерам своим Московской Руси… Вспоминали выдающихся своими подвигами отшельников, и сетовали на наше время, сухое, материальное и безверное, и скорбели о том, что нет ныне духа и веры и что ни на ком не может остановиться теперь взор с благоговейным уважением, и поклонением, и желанием подражать и учиться подвигу в жизни.
Но молодому студенту и сторонникам его мнения возражали многие и утверждали, что уход из мира нельзя считать необходимым условием подвига, особенно теперь, в современный нам век.
— Все развивается и совершенствуется в мире, — говорили они. — Как младенец с каждым прожитым годом изменяется и приобретает новые познания, так и душа человеческая, обогащаясь опытом жизни и перенесенных несчастий, постоянно меняется и начинает другими духовными очами смотреть на окружающий мир. Как знание человеческое, расширяясь новыми открытиями и завоеваниями, отвергает то, чему ранее верило и учило верить других, как самая внешняя жизнь людей с каждым веком получает новые формы даже в самых мелочных и неважных своих проявлениях, так точно и подвиг с течением времени должен был выражаться не в том, в чем проявлялся раньше, много столетий тому назад.
И дальше говорили они, что ныне уже и не может быть отшельников древности, что нет больше пустыни в настоящем смысле этого слова, что распаханы и засеяны давно некогда непроходимые дебри, что изменилась жизнь на земном шаре, и что сами люди уже не теми глазами взглянули бы на поселившегося где-нибудь с целью созерцательной жизни человека…
И еще прибавили они, что ныне и самый подвиг в такой форме, в какой выражался раньше, не принес бы пользы прочим людям, не послужил бы им на поучение и не вызвал бы подражания.
— Разве только забота о собственном спасении должна вдохновлять человека, идущего на подвиг? — спросил кто-то из нас. — Разве только тревога и сокрушение о собственной греховности мучит человека, понявшего в духовном смысле назначение настоящей жизни и не пожелавшего жить так, как живут все прочие?
Нет! Тысячу раз нет! Если просветлено его сознание неведомым нам светом, если дано ему видеть тщету и ничтожность наших стремлений, — он не имеет права таить в себе и для себя только это великое сознание…
Возвысившись над людьми, он, как евангельский пастырь, должен скорбеть о том, что другие еще не возвысились, еще не прозрели. И, заботясь непрестанно о дальнейшем очищении и укреплении своего духа, он, вместе с тем, должен стараться поднять из пропасти заблуждения и тьмы всех своих близких…. А его близкие — это все люди… Значит, подвиг должен заключаться в том, чтобы быть живым уроком людям и вместе с тем — живым примером.
— Подвиг, — закончил взволнованно говоривший, — это значит стремиться облегчить всем, кому только можно, духовное прозрение, духовное очищение. Подвиг — это значит, забыв себя и свои блага, быть опорой всем, желающим опереться. Подвиг — это значит быть гласом непрестанно вопиющего в житейской пустыне о несовершенстве нашей жизни, о необходимости ее исправления и возможного улучшения.
Долго еще продолжался спор. Как-то задела всех эта тема, и мы, не обращая внимания на быстро бегущие часы ночи, выясняли вопрос со всех сторон, со всех точек зрения, — и не могли выяснить, и не могли примирить разноречивые противоположные взгляды.
А старый профессор, о котором мы в пылу увлечения словно совсем позабыли, будто и не было его в комнате, сидел на своем обычном месте, смотрел на горячившуюся молодежь своими пытливыми глазами и молчал.
Наконец, заговорил и он.
— Дети! — старик всегда называл нас детьми, хотя в числе присутствующих были люди, и сами имевшие детей. — Дети! Я долго слушал ваши споры, и теперь мне хочется ответить не на отдельные заявления некоторых из вас, а на то, в чем вы все сходитесь одинаково. А такой общей точкой соприкосновения является ваше утверждение, что в наше время нет больше подвижников, но самое слово «Подвиг», хотя еще и существует в словарях, но совершенно вычеркнуто из действий людей, и что все вы, оглядываясь на окружающую вас жизнь, нигде и ни в чем не могли заметить подвига и всего того, чем подвиг характеризуется. И вы все, дети, не правы!…
Мы с немым удивлением переглянулись. Нам казалось, что все наши утверждения могли быть оспариваемы и опровергаемы, но только не это. Мы были убеждены, что единственная непреложная крупица истины, высказанная нами, и заключалась именно в этих словах, на которых все сошлись без различия в своих мнениях.
А профессор с этого пункта и начинал свое возражение, так как, очевидно, он был с нами не согласен. И мы с нетерпением стали ждать, какое еще новое откровение приготовил седой старик, к словам которого так давно мы привыкли относиться с глубочайшим уважением, почти что благоговением.
— Вы не правы прежде всего в том, что так узко и односторонне толкуете самое понятие подвига. Из ваших слов вытекает, что подвиг — это действие или состояние, обусловленное исключительно религиозным побуждением и направленное исключительно на религиозные же цели. Подвиг, по вашему мнению, может быть только для и ради Бога. С мыслью о Боге он начинается, и во имя Бога существует, и в Боге заканчивается. Да, таково действительно и было подвижничество религиозное, таковым действительно оно являлось и в пустынях Египта, и в дремучих лесах нашего севера. И, конечно, такого подвига теперь почти не существует.
Я не стану говорить, почему это так, и не об этом совсем хочу сейчас говорить. Я обращу ваше внимание на другое, — на то, что нельзя смешивать два разных понятия: «подвижничество» и «подвиг», как это вы сейчас делали в вашей беседе. Потому что, кроме подвижничества, о прекращении которого так горевал наш юный друг, есть и теперь, и раньше, и всегда был в жизни подвиг в полном смысле этого слова, этого прекрасного и, мне бы хотелось прибавить, святого слова. И беда только в том, что если сразу легко заметить и найти подвижничество, то очень трудно бывает обнаружить подвиг, всегда незаметный, всегда скрытый и невидимый не только для всех людей, но даже и для тех немногих, кто, идя по своему жизненному пути, зорко в то же время озирается и на соседние тропы, по которым шагают другие…
Профессор замолчал. Мы его не перебивали, понимая, что старик собирается с мыслями. Так прошло несколько минут.
III
— Вот, начал он, — вспоминается мне одна старая история. Это не притча, и не сказание, и не вымысел, а подлинный факт из жизни, только случайно ставший известным и мне. Не хотелось бы тревожить воспоминаниями давно минувшее, но это как раз относится к предмету нашего разговора.
…В далекие теперь времена моей молодости был у меня друг, товарищ со школьной скамьи. Человек редкого благородства и редких душевных качеств… Последние наши университетские каникулы проводили мы с ним в глухой деревушке средней полосы России, куда завлекло обоих желание хоть ненадолго отдохнуть от культурной жизни, от шума больших городов и их нервной сутолоки, от газет, от всего того, что треплет душу и нервы, что утомляет, в конце концов, пуще всякой самой тяжелой работы… Здесь, среди тихого покоя заброшенной глуши, в безмолвии необъятых лугов, на лоне задумчиво наливавшихся нив, под сенью немолчно шелестевшего свою непонятную вековечную песню леса, в обществе людей простых и непосредственных, как и сама вскормившая их мать-природа, думали мы отдохнуть, успокоиться, поздороветь душой и телом.
Особенно мы любили под вечер, когда приходит на землю величавая тишина сумерек, и в мягком полусвете их теряют резкость своих очертаний все предметы, уйти далеко, где на распутье трех бегущих в разные стороны дорог стоял среди беспредельной равнины простой деревянный крест со срубом, под которым вделан был кем-то неведомый образ.
Тут, под этим крестом, вокруг которого не тронутая никогда плугом и не езженная никогда земля пышно возрастила полевую траву и множество разных диких цветов, — садились мы и сидели долго в полном безмолвии, пока не спускалась на поля темнота летней ночи.
Было непонятно хорошо и отрадно сидеть под этим милым простым крестом. Сначала от села, оставленного далеко позади, доносились неясные шумы и звуки деревенской жизни. Порою проходили или проезжали мимо запоздавшие с возвращением крестьяне или случайные путники — и все, как один, при виде креста осеняли себя его знамением. Но потом затихало село, исчезали прохожие, никто не нарушал безмятежного покоя безлюдной дороги, никого не было за много верст кругом нас… И тогда оставались мы с другом, затерянные в равнинности полей, одни лицом к лицу с природой, с тайной чуткой ночной тишины, с нашими полудумами-полугрезами, в которых чувство невыразимого покоя странно смешивалось с какой-то грустью, непонятной и безотчетной, Бог знает, по ком и по чем…
Наверху, в темной бездне неба, вспыхивали мало-помалу одна за другой звезды, и трепетные их лучи тянулись переливчатыми нитями к земле, и в ответ им тянулись наши притихшие души неведомыми ходами к небу и тонули в пространстве вселенной.
Мы смотрели на звезды, и невольно приходили мистические мысли, и казалось по временам, что это — лампадки вселенной, зажженные чьими-то руками перед престолом Самого Творца. И так проходили часы, и замирало в великом покое сознание, и не хотелось уходить и возвращаться к действительности жизни…
Замолк на этом месте старый профессор. Видимо, хлынули мощной волной воспоминания, захватили сердце и душу, воскресили нездешние, давно забытые образы. Смотрел он широко открытыми глазами на нас, но сам, быть может, видел в эту минуту простор полей и стоявший среди этого простора крест и две фигуры под ним на земле, зачарованные, забывшиеся, утратившие в сладком мареве летней ночи представления о месте и времени, слившиеся всем существом своим с природой и потонувшие в ее нежных объятиях.
Дрогнуло что-то и в наших душах. Здесь, в городе, вдруг пахнуло на нас ароматами родных полей и овеяло неисходной печалью русской равнины.
— Да! — оторвался от своей задумчивости профессор. — Так проводили мы вечера. Но не в этом дело. Простите старика, что немного отвлекся. Однажды, направляясь к любимому нашему месту, наткнулись мы на странное зрелище. Недалеко от креста стоял нарядный, почти городской экипаж, запряженный парой лошадей; около него возился над чем-то кучер, а рядом беспомощно озирались две женщины; приблизившись, мы узнали причину остановки экипажа: сломалась ось, которую и старался починить как-нибудь кучер.
Познакомившись и разговорившись с дамами, мы узнали, что это были мать с дочерью, возвращавшиеся от знакомых из города к себе в имение. Фамилия Ракитских нам была хорошо известна: мужики нашего села часто упоминали ее в своих разговорах, и мы знали, что носивший ее помещик жил верстах в трех от села, был женат, имел сына и дочь и слыл хорошим человеком. Но мы, невзирая на это, никогда не пытались завязать знакомства с соседями, дорожа одиночеством и возможностью проводить свое время как вздумается…
Так как все усилия кучера оставались бесплодными и починить ось своими средствами он не мог, мы предложили ему съездить на одной из лошадей в село за помощью, а сами остались с дамами и прошли с ними к нашему кресту около которого и провели два часа, пока, наконец не был исправлен экипаж и они не получили возможность уехать.
Так неожиданно для нас состоялось наше знакомство с Ракитскими, просившими нас навестить их в имении.
IV
С этих пор наша жизнь в этом деревенском захолустье резко изменилась. Днем по-прежнему мы проводили время одни: то на рыбной ловле, то собирая появившиеся в лесу грибы, то просто бродя по лугам и там же, в лугах, отдыхая. Зато вечером с неизменной точностью отправлялись к своим новым знакомым, с которыми как то удивительно сблизились. А если в урочный час нас не было в их имении, то немедленно у нашей избы появлялся тот самый экипаж, поломка которого послужила поводом и первопричиной знакомства, и мы все равно должны были оказаться уже в имении.
Ежедневная трехкилометровая прогулка туда нас ничуть не утомляла, а возвращения домой, часто поздней ночью, по озаренным бледным светом луны лугам, на которых уже высились там и сям смётанные стога сена, — как раз хватало, чтобы поделиться впечатлениями проведенного вечера.
Семья была на редкость милая и симпатичная. Отец — образованный, передовой человек — помимо многих других качеств, особенно подкупал своим отношением к соседям-мужикам, недавно лишь крепостным рабам, непривычно и странно еще чувствовавшим себя независимыми и свободными от хозяев… Он обращался с ними как с почти равными людьми, — а это по тем временам было большой и даже исключительной редкостью.
Мать — бесконечно добрая и любящая, как и отец, души не чаяла в своих детях, особенно в дочери Марии, или, как чаще ее называли, Фиалочке…
Она действительно была фиалочкой. Небольшого роста, вся хрупкая, точно как фигурка старого саксонского фарфора, девушка поражала всех впервые ее видевших каким-то прозрачным цветом лица и огромными синими глазами, — будто вечернее небо отражалось в их такой же, как и это небо, бездонной глубине… Нельзя было назвать ее красавицей, но таилась в ней странная, неизъяснимая прелесть и чаровала тем больше, чем дольше продолжалось знакомство.
И еще удивляло одно: она была вся какая-то скромная и незаметная, и нетрудно было пройти мимо нее в толпе и вовсе не обратить внимания, как часто порою не обращает внимания прохожий на затерявшуюся в траве весеннюю фиалку, невидимую среди других, более ярких и кричащих о себе цветов, но хранящую в себе тайну неведомого очарования и ласковой нежной красоты.
Невзирая на свою молодость, на вольную и счастливую жизнь, на полное отсутствие горестей и забот, — была эта живая Фиалочка тиха и застенчиво стыдлива, и веяло от нее такой же тихой печалью и какой-то нездешней ласковой грустью, и казалось почему-то, что она — случайный и недолгий гость на этой земле, слишком для нее грубой и реальной, и что скоро, скоро она уйдет отсюда туда, в неведомые страны, которым нет имени, порог которых — смерть…
Время в имении у Ракитских проходило быстро и хорошо, хотя, может быть, несколько однообразно: пили чай, потом ехали куда-нибудь кататься на лошадях или на лодке по протекавшей тут же неподалеку Оке, потом возвращались домой, ужинали и долго засиживались на широкой террасе или в саду за нескончаемыми разговорами на самые разнообразные темы. И так каждый день.
Мало-помалу видеть Фиалочку ежедневно становилось для меня потребностью. Где-то в тайниках души зарождалось чувство, где-то в неведомых глубинах сердца назревала потребность нежить и холить этот полевой цве-точек, посвятить ему жизнь, находить свое счастье в заботе о нем и в обмен получить только право на ласку, получить хоть крупицу любви этого хрупкого существа, становившегося для меня все дороже, все милее и все необходимее.
И именно поэтому я раньше всех заметил, что сама Фиалочка как-то тянулась к моему другу, как тянется к солнцу первая, еще нежно-зеленая травка весной.
Он был ей полной противоположностью: высокий, здоровый, как у нас говорят, «кровь с молоком», жизнерадостный, вечно смеющийся, стряхнувший на приволье долгой деревенской жизни недавнюю усталость и городскую апатию — результат непомерных трудов, и потому особенно остроумный и свежий не только телом, но и духом. Он был — дуб. Она была только былинкой. Он был орел — она казалась по сравнению с ним только ласточкой. И, быть может, именно поэтому так влекло ее к нему, и я видел с болезненной отчетливостью, как постепенно вырастало у нее чувство большой и серьезной любви, при наличии которого рушились мои несмелые грезы, разбивалась безнадежно уже лелеемая в тайниках души мечта — назвать Фиалочку своей женой.
Однажды, уже в начале августа, поехали мы, по обыкновению, кататься на лодке, но попали под сильную грозу и вернулись домой промокшими насквозь, до последней ниточки. Возвращаться в деревню было невозможно: нас обогрели и обсушили в имении, дали что-то из платья хозяина, чтобы переждать, пока просохнет наша одежда, а потом и ночевать оставили, благо громадный помещичий дом мог вместить таких случайных гостей не один даже и десяток.
На другое утро мы узнали, что Фиалочка расхворалась. К чаю она не вышла, а перед обедом уже поскакал верховой за доктором в город, и следом за ним туда же — экипаж.
Вечером, после отъезда врача, товарищ мой отправился в село, а я остался с матерью сидеть на террасе. Фиалочка заснула, приняв какое-то лекарство, и Елена Павловна вышла подышать свежим воздухом после целого дня возни с больной. Тут-то я и узнал печальную тайну Ракитских: Маруся была больна чахоткой. В то далекое время лекарства против этого недуга не знали, но тогда даже и не пробовали бороться с туберкулезом, а попросту смотрели на чахоточных как на обреченных, стремясь только облегчать их страдания, а вовсе не лечить. И так именно смотрели на свою Фиалочку и Ракитские, знавшие, конечно, ее болезнь, но тщательно скрывавшие ее от самой больной.
Прогулка оказалась для девушки роковой.
Однажды свалившись в постель, она уже долго не могла поправиться и окрепнуть. Проходили недели, а наша Фиалочка все недомогала, хотя совершенно не отдавала, разумеется, отчета себе в том своем состоянии, и единственным утешением ее был мой друг, беседы с ним, его рассказы, его веселая, непринужденная болтовня, которой он старался занимать и развлекать больную.
Довольно было ему не прийти один вечер, как Фиалочка словно увядала, будто цветок, лишенный солнца и его животворного тепла.
Один раз прихворнул как-то и сам Веригин, так звали моего товарища. Проболел он всего с недельку, простудившись на купании, но за это время вся истосковалась и истомилась бедная Фиалочка, лишенная даже возможности, благодаря собственной болезни, самой приехать и навестить любимого человека. Каждый день из имения являлся посыльный справиться о здравии Яши и передать то коротенькую записочку, то длинное письмо от Фиалочки, для которой если не видеть, то хоть письменно общаться с Веригиным стало потребностью властной и необоримой.
Встреча их после недельной разлуки была трогательно нежной, так что даже прослезилась и ушла потихоньку мать, — и я, один я видел эти слезы бедной Елены Павловны. Ее сердце словно чуяло беду, и беда эта действительно пришла.
Чувство Фиалочки было слишком очевидно и проявлялось с бесконечно милой и простой непосредственностью, что так гармонировало с ее кроткой, почти детской по наивности натурой. Знал его и мой товарищ, и на эту тему мы однажды заговорили:
— Да! — сказал он. — Я отношусь к Фиалочке со всей лаской и нежностью, на которые я только способен… Я готов сделать для этой милой девушки все, что могу, но я ее не люблю так, чтобы жениться на ней, чтобы связать с ней всю мою жизнь.
— Но она, кажется, любит тебя.
— Я знаю это. Но что же делать? Вот скоро уедем, забудет и успокоится. Ведь она так молода, тысячи людей еще встретит на своем пути. Не только «света в окошке», что твой покорный слуга, — закончил он шутливо.
И на этом наша беседа оборвалась. Но я думал иначе. Мне казалось, что натура Фиалочки глубже и цельнее, чем полагал мой друг, и время показало, что я не ошибся.
Скоро встала с постели и сама Фиалочка. Время потянулось по-старому, с той только разницей, что прохладные вечера конца августа уже не позволяли нам проводить столько времени на воздухе, и мы чаще сидели дома у Ракитских: я — с матерью или отцом, или, еще чаще, с обоими одновременно. А Веригина Фиалочка всегда утягивала к себе в комнату, и там они проводили целые часы, никем не тревожимые, выходя только к общему столу.
Но пора было подумать и об отъезде. На девушку это сообщение произвело, видимо, ужасное впечатление. Закручинились и старики, не столько, мне кажется, собственно, от нашего отъезда, сколько от того, что это так подействовало на их дочь.
Тянули мы время, сколько было можно, но, наконец, в один хмурый уже сентябрьский день последний раз пришли мы к Ракитским, чтобы проститься: наши товарищи писали, что занятия уже начались, что съехались все профессора, открылись правильные семинарии, словом, учебная машина заработала своим регулярным, из года в год повторяющимся ходом.
Не буду описывать прощание…
Что было у Фиалочки и Веригина — даже и теперь не знаю: ушли они опять в комнату девушки наверху и опустились нескоро; она — вся заплаканная, вся поникшая, словно подрезали цветку его тонкий стебелек, он — тоже видимо расстроенный, утративший свою обычную веселость…
Обняли мы стариков и отправились в неблизкий, но необходимый путь.
V
Прошло три месяца со времени нашего отъезда. Из писем от Ракитских-стариков я знал, что Фиалочка снова слегла и упорно не могла поправиться, что доктора эту болезнь ставили в связь и с удручающим ее недугом, но главным образом — с тем тяжелым потрясением на нервной почве, которое причинила ей разлука с любимым человеком.
Сами собой мы догадывались о главной причине недуга. Потом письма мне стали приходить как-то реже, усиленные занятия заставили меня позабыть о переписке до некоторой степени, а Веригин, продолжавший все время переписку, несмотря на всю нашу близость, избегал передавать содержание писем, и этим заставлял меня уклоняться от разговоров на больную, видимо, для него тему. Но только ясно было заметно, что какая-то тайная дума гложет его непрестанно: мало-помалу исчезла его непринужденная веселость, пропала та энергия, с которой он, бывало, отдавался занятиям, и на смену им появились так несвойственные моему другу тяжелая сосредоточенная задумчивость, апатия ко всему, стремление уединиться и в полном безмолвии пережить что-то, что оставалось загадкой для меня и о чем я не смел расспрашивать даже на правах долголетней, испытанной дружбы.
Наконец все это завершилось странным, самым неожиданным образом. Уже в первых числах декабря сидели мы в небольшой поистине студенческой комнате и собирались заняться чаепитием, как вдруг прислуга сообщила, что Якова Петровича спрашивает какая-то неизвестная дама. «Ну, проси ее сюда», — сказал удивленно Веригин. И вслед за тем в комнату вошла, к нашему несказанному удивлению, Елена Павловна — мать Фиалочки.
Но как вам описать, дети, эту разительную перемену в женщине, которую еще так недавно мы оставили почти молодой, свежей, без единого седого волоска на голове! Перед нами теперь стояла настоящая старуха с целыми прядями седины, осунувшаяся, согнувшаяся, словно легло на ее плечи тяжкое бремя многих горестных годов, прожитых в тоске, в нужде, в постоянных физических лишениях, в вечной нравственной муке.
Пошли расспросы; засиделись мы за разговором до глубокой ночи и узнали печальную повесть, от которой невольно набегала слеза на глаза и хотелось плакать над горем этой матери, всю душу полагавшей в счастье обожаемой дочери и день за днем с тоской следившей за медленным, но верным и неуклонным увяданием любимого существа.
Короче говоря, Фиалочка безумно полюбила Яшу и, не встретив ответного чувства, угасала теперь в разлуке, таяла с каждым месяцем, приближаясь к роковой грани, подтачиваемая, с одной стороны, своим злым недугом, а с другой — неисходной, безутешной тоской, в которой не светилось ни одним лучом даже проблеска надежды на лучшие времена. И был беспощадно суров приговор всех врачей!
— Быть может, при хороших условиях, при спокойной жизни, при полном душевном равновесии, в атмосфере ничем не омрачаемого счастья, организм нашел бы в самом себе достаточно сил, чтобы справиться с болезнью и выйти из тяжелой борьбы победителем. Но теперь, когда, видимо, больная чем-то удручена, когда психика ее подавлена, когда все существо ее погружено в мрачную апатию, в безнадежное безразличие, надежды нет никакой, смерть близка и неизбежна…
Выслушали мы эту печальную повесть, и потом сидели все трое долго-долго в молчании, отдавшись каждый своим нерадостным думам. И было уже недалеко утро, когда вдруг каким-то надтреснутым, но звенящим голосом, как звенит безжалостно разбитый ценный хрусталь, заговорила мать, обращаясь к Яше:
— Яков Петрович! Спасите мою дочь! Яков Петрович, в ваших руках ее жизнь, ее счастье… И не только ее: ведь ее жизнь — это и наша жизнь, и ее счастье — одинаково и наше счастье.
И, когда поднялся он, изумленный, потрясенный, и хотел что-то сказать, она не дала ему заговорить, она остановила его умоляющим жестом, и вслед за тем из уст ее полился беспорядочный, бессвязный поток слов, перемешиваясь с рыданиями, с судорожным смехом, словно прорвалась плотина, долго сдерживающая реку горя, и теперь эта бездонная река хлынула мощной волной и неслась без удержу, все затопляя в своем стремлении: и гордость, и самолюбие матери, и женскую стыдливость, и ту застенчивую деликатность, которая была отличительным свойством матери Ракитской и которую от нее восприняла по наследству ее дочь Фиалочка.
Она просила Веригина пощадить жизнь Маруси, вернуть ей ее душевный покой, дать ей единственное, что могло явиться для нее одновременно и счастьем, и могучим средством в борьбе с чахоткой — его любовь.
Она умоляла Веригина, если даже он не любит Фиалочку, сделать вид, что полюбил, притвориться, разыграть роль, хотя сама и не понимала, как можно не полюбить ее дочь. Она соблазняла его приданым и их состоянием, которое хотела все без остатка отдать Веригину, и сейчас же сама извинялась и просила прощения за эти неосторожные слова, заметив, с какой оскорбленной гордостью откидывается он в своем кресле…
Она указывала ему, что Фиалочка привлекательна и как женщина, обращала внимание на изящество и грацию ее хрупкой натуры, говорила, путаясь и сбиваясь, и краснея, об ее женском темпераменте и о том, как страстно и безумно любит ее дочь. Она даже намекала, что женитьба его ни к чему не обязывает, что ей не нужно его подлинное чувство и верность, лишь бы он делал вид любящего и преданного мужа, лишь бы неотступно был около Фиалочки, для которой быть с ним — значило жить, а потерять его — умереть.
И было страшно смотреть на эту обезумевшую от горя мать — женщину идеально честную и добрую, которая теперь была способна совершить что угодно ради счастья обожаемой дочери, ради того, чтобы любой ценой купить для нее то, в чем единственно она только и нуждалась: любовь любимого безгранично, но не любящего ее человека, и постоянную совместную жизнь, постоянное присутствие и некоторое внимание. И приходила в сердце жалость, такая же безмерная жалость, как безмерно было ее горе, — и хотелось рыдать вместе с нею над непонятой жестокостью жизни, над бессилием человека в борьбе со своими чувствами, над этой молодой и такой красивой жизнью, которая теперь гибла где-то там, далеко, в печальных, занесенных снегами равнинах.
Замолчала мать, истощив все слова, и молчала, обессиленная и опустившаяся, и только тихо плакала мелкими слезами — мелкими и неустанными, как иногда плачет осеннее небо целыми неделями мелким и неустанным, холодным и скорбным дождем. Молчали и мы, потрясенные этой сценой.
Как-то весь сгорбился, словно сложился в своем кресле Веригин. Уставился в одну точку широко открытыми, не мигающими глазами и затих. А я смотрел на него и будто знал его свинцовые думы.
Многого просила у него эта женщина. Перед ним только что открывались горизонты жизни, перед ним только что всходило его солнце. За спиной был почти оконченный университет, и вместе с его окончанием выходил он на широкую дорогу вольной, независимой, самостоятельной жизни. Образование, молодость, здоровье, красота, неисчерпаемая жизнерадостность, неиссякаемая веселость — этот могучий сотрудник в борьбе со всякими невзгодами на житейском пути, — целый рай самых светлых надежд, целый сонм самых радужных ожиданий — вот с каким багажом, вот с каким оружием, обеспечивающим победу, выходил Веригин на поле жизненной брани.
А там, дальше, рисовался неведомый еще, но уже постигаемый юной мечтой образ какой-то женщины — милой и желанной, и бесконечно дорогой, подруги на всю жизнь, подруги на горе и радость, и нес с собой бездну упоительного счастья, еще неизвестного и неиспытанного, и потому манящего с особенной силой.
Но скрестили тайные силы его путь с путем этой «нездешней» девушки и поставили на распутье перед страшным выбором: собственное счастье — ценою горя и даже смерти молодого существа, ценою безвыходного отчаяния двух стариков, для которых она — единственный светлый луч на закате прожитой жизни, или счастье и жизнь Фиалочки, так фатально брошенной под колесницу его жизни, счастье и радость безграничная этих стариков, но ценою своей воли, ценою отказа навсегда от блаженства взаимной любви, от всего того, чем красива и заманчива молодая жизнь.
И я ставил мысленно себя на место Веригина и не мог ответить, как бы я поступил. А он все сидел — безмолвный и опустившийся, и весь какой-то расслабленный, словно вдруг вынули у него все кости, и не могло от этого держаться прямо лишенное скелета тело, сидел и молчал. И вместе с ним молчала мать, не спуская взора с этого помертвевшего лица, бесконечно ей дорогого и одновременно бесконечно ненавистного, страшного и загадочного. Потом Веригин заговорил, и так странно зазвучал его голос, сразу ставший мне чужим и незнакомым, будто раньше никогда я и не слыхал, как говорит мой единственный и самый близкий товарищ:
— Идите, Елена Павловна. Дайте мне подумать. Я ничего не могу сейчас Вам сказать.
И она покорно поднялась и ушла, не говоря ни слова, даже не прощаясь. А вслед за ней ушел и Веригин, — и я не посмел остановить его и спросить, куда он идет.
Много часов пропадал он где-то, вынашивая решение. Утомленный, весь разбитый и физически от бессонной ночи, и нравственно — этой тяжелой драмой, я заснул, а когда проснулся, то уже снова наступил вечер, но Яши все еще не было. Вернулся он около полуночи, разделся, подошел зачем-то к зеркалу, потом повертел в руках лежавший на столе ножик, и вдруг также безмолвно бросился мне на шею и зарыдал…
Остановился на этом месте старый профессор. Дрогнуло что-то у него в голосе, до сих пор таком ровном и привычно звучном, и сейчас же отозвалось и у нас в душах. Застыла в комнате тишина, и ни один звук несколько минут не тревожил этого величавого затишья, в котором только чуть заметно, словно стараясь ярче оттенить глубину безмолвия, потрескивала начинающая тухнуть лампа. Но скоро справился с волнением старик: досадливым движением смахнул с глаз непокорную слезинку и сейчас же снова заговорил прежним ровным голосом. Из этих рыданий я и без слов понял, что Яша принял решение. Понял я, и какое решение он принял, потому что в рыданиях этих чудилось мне прощание его со своими заветными грезами, с лучшим, о чем мечталось на заре расцветающей молодости.
Яша оплакивал свое личное счастье, потому что бесспорно решил принести себя в жертву ради других, ради жизни бедной Фиалочки, ради спокойствия закатных дней стариков.
VI
Рождественские каникулы мы с Яшей провели, разумеется, в «Зеленой долине» у Ракитских. В присутствии Веригина Фиалочка расцветала не по дням, а по часам, особенно теперь, когда в голосе его появилось столько желанных для нее ноток нежной ласки и привета.
Было почти жутко смотреть на это возвращение к жизни человека, приговоренного наукой к смерти, но воскрешенного к жизни могучей силой любви. Становилось страшно при мысли, какой неведомой, непостигаемой по своей неизмеримой мощности силой подчас так неосторожно и безрассудно играют люди, с легким сердцем говорящие о любви там, где ее и нет в помине.
А Яша стал прежним веселым, жизнерадостным Яшей. Раз приняв решение, и приняв его безропотно и совершенно сознательно, он силой воли заставил себя забыть о всем тяжелом, с чем неизбежно было связано это решение, и старался извлечь из создавшегося по его желанию и свободному выбору положения все лучшее и наиболее светлое, что оно способно было дать его сердцу и душе.
Накануне Нового года они объяснились и были объявлены женихом и невестой. И в доме словно вдруг загорелось жаркое летнее солнце, и этим солнцем была Фиалочка со своим счастьем.
Нельзя было взвесить и измерить силу ее любви, и от этого словно начало звенеть ответным чувством и сердце Веригина, как отвечают эхом горы на брошенный в их теснины колокольный призыв. И отвечают тем сильнее, чем сильней был этот призыв.
Про стариков нечего было и говорить, они уже не жили, а как-то млели от счастья в лучах счастья своей дочери, полные одним им.
В половине января мы вернулись в университет, на Пасху снова приехали к Ракитским, а летом, после сдачи Веригиным и мною последних экзаменов, была свадьба Фиалочки и моего друга.
Обеспеченные материально, они надолго уехали за границу и ограничивались лишь короткими письмами. Но и по этим письмам я видел, что на первых порах Фиалочка сумела снискать если не любовь, то, во всяком случае, самое нежное и вместе с тем пылкое увлечение Яши, и от этого мысленно я радовался за своего друга и надеялся, что, может быть, он, сам того не ведая, нашел истинное, настоящее счастье, принося в то же время счастье и другим.
Но искупление все же пришло. Я пропускаю несколько лет, пять или шесть, потому что и так уж мой рассказ затянулся не в меру, да и не относятся события этих лет непосредственно к нашей теме. Но конец рассказать надо.
Когда свыклась Фиалочка со своим счастьем и перестало уже оно действовать на нее, как сильное и могучее лекарство, как какое-то духовное шампанское, которое сразу возбуждает и поднимает все скрытые силы организма, снова поднял голову притихший на время коварный туберкулез. И стала Фиалочка таять по-прежнему медленно, но неуклонно, слабея с каждым годом, с каждым месяцем…
Ни доктора, ни лекарства, ни только что вошедшее в практику климатическое лечение — ничто не могло остановить этого угасания, как ничто не может задержать настойчивого осеннего увядания природы. И оправдалась на Яше старая, неизмеримая бездна народной мудрости, хранящая в себе поговорку: «Муж любит жену здоровую, брат любит сестру богатую».
Его, молодого, полного сил и огня, рвущегося к делу, к здоровому веселью и здоровому труду, тяготила и угнетала та больная атмосфера, в которой волей-неволей приходилось ему жить. Как ненужный и жестоко обременяющий придаток, стесняла его больная жена. Фиалочка связывала его решительно во всем, подрезала ему крылья, тянула к земле, но, благородный, как средневековые рыцари, он не давал прорваться себе ни даже в едином слове, намеке и, страдая внутренне, одиноко переживал свою от всех таящуюся драму, был с женою неизмеримо кроток и ласков, и весел, словно светлым счастьем была возня с больной и непрестанный мелочный уход за ней во время недомоганий.
А там, будто чтобы довершить горькую чашу, пришло и другое несчастье: запутался в хозяйстве тесть, не справился с новыми условиями деревенской жизни и в одно прекрасное утро рухнул, как мощный старый дуб, увлекая в своем падении и других.
Пошло с молотка имение, прекратилась постоянная помощь тестя, и одновременно в дом Веригиных постучалась нужда. Она, может быть, и не чувствовалась бы при нормальных условиях, если бы были здоровы муж и жена. Но при болезни Фиалочки заработка Веригина не стало хватать на ту жизнь, какую только и могла вести угасающая теперь больная.
И вот тут хлебнул Яша, мой бедный и любимый Яша, горя столько, что захлебнулся им и едва оправился. Но, рыцарь духа всегда, он остался верен себе, и в это тяжелое время отправил жену куда-то в заграничную санаторию, и остался один, и зажил тоскливой безрадостной жизнью неженатого и не холостяка. Весь заработок уходил туда, к Фиалочке, на поддержание последних месяцев ее существования, а сам он ютился где попало, думая о работе, и только о работе. Отказывая себе во всем, последние гроши посылал он жене, навязанной некогда ему против воли, чтобы хоть этим скрасить жалкий остаток ее жалкой теперь жизни.
А в письмах, в ежедневных, многолистных письмах, по-прежнему играла его жизнерадостность, натянутая, фальшивая, деланная, — играла для того, чтобы во мраке тусклого санитарного режима, во тьме тягостной для Фиалочки разлуки с ним явиться лучом света и согреть нежным теплом так много любившее его сердце женщины, только в этой любви и повинной перед ним.
И так — два долгих мучительных года.
Разметавшая нас с ним по разным углам отечества судьба как раз в это время свела снова вместе, и вот тут-то я узнал все то, что сейчас рассказываю.
И хотелось плакать при виде этого нового для меня Яши, угрюмого и вечно сосредоточенного в себе, на смену яркой веселости которого пришла и осталась навсегда черная тоска забот и грусти о возможном, но потерянном по собственной воле счастья.
И еще хотелось поклониться этой удивительной мощи духа, этому подвижническому терпению, с которым безропотно и покорно нес свой тяжкий жизненный крест человек, и не делал даже попытки избавиться от него или хоть чуточку облегчить свою боль.
А забвение найти было так легко. Только поискать вокруг родственной женской души, только оглянуться на окружающий мир и на секунду забыть о Фиалочке, и пожелать воспользоваться тем, что этот мир мог дать.
Но для этого слишком целен как натура был Веригин, слишком много было в нем благородной внутренней гордости, которую так охотно склонны люди называть глупостью и неумением жить. И потому, повторяю, даже попытки не делал он в этом направлении.
Скоро я должен был покинуть город, где жил Яша, и только из коротких, угрюмых писем его знал, что жива еще умирающая Фиалочка, что два раза ездил он туда, в санаторию, и что он по-прежнему влачит существование, быть может, более тяжелое, и даже наверное более тяжелое, чем житие отшельника в пустыне…
Профессор почти закончил свой рассказ. Он мельком взглянул на молодого студента, так защищавшего недавно древнее подвижничество и продолжил:
— Еще через несколько месяцев я получил от Веригина краткое сообщение, что его жена умерла, и затем на несколько лет он пропал из виду, и я не знал даже, где мой Яша и что с ним.
Встретились мы в Петербурге нечаянно. В этой самой комнате просидели целую ночь, перебирая давно минувшее прошлое, и здесь же во второй раз в жизни рыдал на моей груди старый друг, оплакивая эту разбитую так жестоко жизнь.
Долгие годы тоски и заботы наложили на него навсегда свою печать, вытравили из души его всю былую жажду жизни, всю энергию, весь такой богатый по началу запас сил. Не захотел он жениться второй раз и остался одиноким бобылем. Не захотел также, утомленный и потрепанный духовно, применить свои недюжинные способности на каком-нибудь широком и видном поприще.
И так и остался доживать свои дни, молодой еще по годам, но такой безмерно старый и безмерно уставший по дням перенесенного горя.
Профессор сделал маленькую паузу и потом коротко, как-то отрывочно добавил:
— Два года тому назад Яша умер…
Сказал и поник старой седой головой, и замолчал, замолчал грустно надолго. Утомил его длинный рассказ, и устала душа снова переживать то, что когда-то болело свежей раной, что успело потом затянуться целебной пленкой времени и что снова сегодня разбередил старик ради поучения своих чужих по крови, но близких и милых по духу детей.
Давно успела потухнуть лампа, но не заметили мы этого, заслушавшись профессора, и не заметили еще и потому, что в комнате не стало темно: пришло утро и глянуло в окошки туманной, белесоватой мглой.
Пора было идти, но не двигались мы с места, не пускали нас встать и нарушить тишину комнаты образы бедной Фиалочки и незаметного подвижника Веригина, словно воскрешенные рассказом профессора, живого бытописателя былых печальных дел.
И только внутри нас, в глубине наших сердец, громко звучали рыдания о том, что так много горя в жизни, и что бессильны мы, слабые, смертные люди, в борьбе с этим горем.
Сергей Качиони
Чудесная гостья
Рассказ
Таинственная пасхальная ночь с первыми призывными ударами колокола, возвещающего миру о Воскресении Христа, эта чудесная ночь с ее бесчисленными огнями, зажигавшимися везде, начиная с переполненных молящимися храмов и кончая ярко освещенными комнатами, где вокруг накрытого стола собралась тесным кружком вся семья, эта ночь уступила место теплому солнечному дню.
Пасха в 1880 году стояла поздняя, и снег уже почти везде растаял на лугах, между проталинами уже пробивались молодые побеги зеленой травы. Теплый весенний ветер шумел в ветвях деревьев, на которых начинали завязываться почки; от этого ветра разливались вешние воды, а он словно опьянял собою носившихся в воздухе грачей, крики которых сливались с веселым трезвоном колоколов. Это было настоящее светлое Воскресение, и природа просыпалась от зимнего сна, как будто праздновала свое обновление.
Только одного дома не коснулось праздничное веселье. Это был длинный одноэтажный дом барского типа, стоящий почти на краю города. Большой тенистый сад его отлого опускался к наполненному водою рву. На другой стороне рва виднелись остатки крепостных валов — Зареченск был одно время крепостью — на которых кое-где росли деревья. Под тенью их летом мирно паслись коровы, принадлежащие небогатым зареченским обывателям, домики которых ютились в этой части города.
Когда Андрея Ильича Батурина, бывшего в течение почти двадцати лет бессменным предводителем дворянства Н-ской губернии, упрекали в том, что он выстроил себе дом в такой глуши, он только усмехался, говоря, что воров не боится, а те из гостей, кто пожелает пожаловать к нему, не откажутся сделать круг; таких же, что почтут себе это за обременение, он и сам не позовет.
Батурины были все люди гордые, но радушные и гостеприимные; в просторных темноватых покоях предводительского дома выросло и воспиталось не одно поколение, наполняющее их жизнью и движением. Теперь же в большой парадной зале никогда не разжигали огонь, хрустальные подвески люстры и старинная штофная мебель были скрыты под чехлами, и только портреты предков — дедушек в напудренных париках и шитых камзолах и бабушек с мушкою на щеке и томною улыбкою на алых устах — хмуро глядели в своих позолоченных рамах, словно сожалея о минувшем времени.
Теперь хозяйкою дома осталась вдова последнего предводителя — Варвара Ильинична Батурина, которую Бог не благословил потомством; старшая дочь ее, вышедшая замуж за богача, рано умерла бездетною, а единственный сын убился при падении с лошади. Что же касается ее младшей, любимой дочери, то даже само ее имя было строго запрещено произносить при доме… Варвара Ильинична была женщина гордая, властолюбивая, взявшая себе за правило не обинуясь высказывать людям правду в глаза, хотя она почла бы себя смертельно оскорбленной, если бы кто вздумал применить это правило по отношению к ней самой.
В городе ее побаивались и уважали едва ли не наравне с архиереем. Никто, за исключением разве каких-нибудь смельчаков, проникшихся новыми идеями, не ставил в укор Варваре Ильиничне ее отношения к дочери, и, хотя на кухне шептались втихомолку и жалели ласковую барышню, никто не намеревался громко упомянуть о ней — Батурина минуты не оставила бы его у себя в доме.
Проводив обедавших у нее гостей и лично приглядев за порядком, Варвара Ильинична прошла в свою спальню, где перед громадной божницей, уставленной иконами в дорогих окладах, теплились лампады разноцветного стекла.
Батуриной было лет пятьдесят; высокого роста и худощавая, она обладала величественной поступью и проницательным взглядом, а на ее строгом, благообразном лице никто не видел улыбки с того дня, как дочь ее сбежала из дома со своим учителем музыки.
Варвара Ильинична подошла к столу и, взяв одну из лежавших на нем книг духовного содержания, опустилась в кресло у окна, шумя своим тяжелым муар-антиковым платьем. Но ей как-то не читалось, мучительные думы неотвязно преследовали ее, затемняя смысл прочитанного, и наконец она с сердцем отложила книгу и глубоко задумалась. Этот день был полон для нее тяжелых воспоминаний. Не в такое ли тихое послеобеденное время, в первый день Пасхи ее постиг, семь лет тому назад, тот удар, всю тяжесть которого знает только одна она, так как из чувства гордости она сумела скрыть перед людьми свое горе.
Ее считают бессердечной, «каменной» — пускай.
Но если она никому не подала и вида, если не отвечала ни на одно из писем дочери и зятя с мольбой о прощении, это еще не значит, что она не страдала. У нее до сих пор звучат в ушах рыдания ее любимицы — Раи, умоляющей мать дать согласие на ее брак с любимым человеком. Но неужели она растила и холила свою дочь, воспитывала ее, как княжну, с боннами и гувернантками, для того, чтобы отдать ее какому-то Артемьеву, человеку без рода и племени, нищему музыканту, перебивавшемуся грошовыми уроками? Батуриной выйти замуж за этого проходимца, осмелившегося поднять глаза на подобную невесту! И хотя бы в нем покорность была, сознание собственного недостоинства и того расстояния, которое разделяло их… Но нет, он сделал предложение как равный, он говорил так спокойно, с таким достоинством, как человек, имеющий право добиваться руки богатой девушки старинного дворянского рода!
— Я люблю Вашу дочь ради ее самой, — сказал он, — и мне не нужно для нее денег. Если Вы пожелаете помочь нам вначале, я буду Вам очень благодарен. Нет — я буду стараться своими силами. Только, умоляю Вас, не откажите мне в своем благословении. Раиса Павловна такая чуткая и нежная натура, она так любит Вас, что не будет знать ни минуты покоя, если Вы откажете в нем.
Она до сих пор слышит его спокойный и мягкий голос. Видит его глаза, смотревшие ей в глаза своим открытым взглядом. И хорошо же она ему ответила, сказав, что дочь ее никогда не будет женой нищего проходимца, которому она платит как лакею, и что, если он не уйдет сейчас же, она велит вышвырнуть его вон. Как он побледнел! Не от страха, нет, а от негодования. Как разгорелись его глаза!
— Отказать мне Вы можете, но оскорблять не имеете права!
Когда на зов ее явились в дверях двое выездных, он прибавил, что убьет первого, кто осмелится коснуться его. Так они и пропустили его.
Кажется, после такого срама человеку оставалось бы только убраться из города подобру-поздорову, так как и в других домах, где были барышни, обучавшиеся у него музыке, его запрещено было пускать на порог.
Но не тут-то было. Нашлись у него и друзья, и заступники. Сам председатель палаты приезжал просить за него. Говорил, что у молодого человека есть талант, что он пробьет себе дорогу, что они так искренне любят друг друга. Небось, не то бы заговорил, если бы у самого дочь вздумала выйти замуж за его письмоводителя или за лакея, а в своих стародворянских понятиях Варвара Ильинична считала всяких артистов, за деньги появлявшихся перед публикой, едва ли выше лакея. Она не из таких, что поддаются на слова.
Чтобы скорее покончить с этой блажью — вспоминает Варвара Ильинична — объявила она дочери в пасхальную субботу, что уже дала за нее слово их соседу, богатому, но немолодому помещику Анютину, избранному предводителем. Это было всегда желанием Батуриной — видеть дочь предводительшею. Слава Богу, средства для поддержания своего положения у них найдутся, хотя с освобождением крестьян доходы поуменьшились, но все-таки приданое Раисы — первое во всей губернии, да и у жениха капитал порядочный. Партия подходящая.
Как снег, побелела Раиса Павловна, услышав это решение. Упала она на колени перед матерью и горько заплакала, пряча лицо в складках ее платья. Молила она отказать нелюбимому жениху, но Варвара Ильинична помнила, что девичьи слезы — вода. Ей лучше было судить о счастье дочери, и она заявила, что завтра, в первый день Пасхи, на парадном обеде поздравит Анютина и Раису как жениха и невесту.
Так бы все и сделалось, если бы перед самым обедом Раиса Павловна, очевидно, нашедшая возможность дать о себе весточку избраннику, не исчезла из своей комнаты. А в то время гости уже собирались в зале, жених привез букет, — словом, скандал вышел полный.
Не простит Варвара Ильинична дочери такого позора, который она навлекла на ее гордую голову. Батурина поднялась с места, слабый румянец проступил на ее лице, потерявшем свое обычное бесстрастное выражение. Зачем она вспоминает обо всем этом? Тем не менее в памяти ее продолжает неотступно развертываться картина прошлого, и сердце попеременно сжимается от тоски и негодования, но тоска берет перевес.
Вспоминает она, как через несколько дней она получила от дочери письмо, в котором та извещала ее о своей свадьбе и просила простить ее, просила ее с такой душевною мукою, сказавшейся в каждом слове, что она тронула бы самого сурового человека. Но Варвара Ильинична сожгла письмо и ничего не ответила. Несмотря на это, она помнит его содержание от слова до слова.
Следующее письмо было из Москвы. Дочь писала, что у Дмитрия нашлись друзья, достававшие ему хорошие уроки, сама она тоже помогала ему. Он два раза выступал в концертах с большим успехом. Живут они безбедно, но разрыв с матерью сокрушает ее сердце. И много таких писем получала Варвара Ильинична в течение пяти лет. Из одного она узнала, что у Артемьевых родился первенец — дочь, названная в честь бабушки — Варварой, красавица с черными глазами и с пепельными волосами.
Однажды написал Варваре Ильиничне и зять, очень горячо и почтительно просивший за жену, здоровье которой потрясено нравственными страданиями. И на это письмо не последовало ответа. А вслед за тем вести от Артемьевых прекратились. Теперь уже будет два года, как она ничего не знает о своей дочери. И, хотя она ни разу не ответила на ее письма, с прекращением их ей стало как будто еще тяжелее.
Еще сегодня, разбирая почту, она напрасно ожидала найти конверт, написанный знакомым, когда-то столь дорогим ей почерком. Жива ли? — вдруг встал в голове Варвары Ильиничны вопрос, от которого холодный пот выступил у нее на лбу. Почему она ранее не думала об этом? А теперь эта мысль с быстротою молнии пронзила ее мозг, оставив за собой впечатление ужаса.
Может быть, муж не позволяет писать, или обеднели они, нуждаются очень и не хотят сознаться? Уж какая там обеспеченность в музыкальном деле! Есть уроки — и сыт человек, а прекратились они — и жить нечем. И в то время, когда она окружена довольством и роскошью, ее дочь, ее избалованная любимица, может быть, терпит горькую нужду! И прежде эти мысли приходили ей в голову, но еще никогда они не были так ясны и определенны, никогда не преследовали ее так упорно. Неужели это предчувствие? Жгучая тоска вдруг овладела ею, и, не в силах будучи оставаться на месте, Батурина пошла в соседнюю комнату с балкона, спускавшегося несколькими ступенями в сад, по аллеям которого когда-то бегали резвые ножки ее девочки.
Сегодня все наводило ее на печальные думы. И, остановившись у балконной двери, она не отрываясь глядела на сад, на светло-голубое с разорванными облаками небо, на ручеек, серебристой лентой сверкавший на дне оврага. Ее неудержимо потянуло в сад. Не беспокоя никого, Варвара Ильинична пошла в переднюю, где надела тальму и калоши, и спустилась с балкона.
Глубокая тишина царила кругом. Сюда не доносились звуки веселья с улицы, даже ветер утих. Ни шороха, ни звука; сквозь безлиственные ветки деревьев сквозила бледная лазурь неба. Тени ложились длиннее и гуще. Еще не вечерело, но в воздухе уже чувствовалась близость прохлады. Варвара Ильинична медленно продвигалась вперед, жадно вдыхая весенний воздух. Ноги ее вязли по временам в мягкой глине аллеи, еще не успевшей просохнуть. Ее охватило впечатление этой тишины, этого полного безлюдия.
Странное чувство все более и более овладевало ею, несмотря на ясное сознание, что все это происходит наяву: иногда ей начинало казаться, что она видит какой-то сон, от которого она хотела бы и не может проснуться. Долго ли она проходила таким образом, она сама почти не отдавала себе отчета. И только ощущение сырости заставило ее очнуться от забытья. Она стояла в нижней аллее сада, огражденного с нижней стороны рва каменной оградой, в которой была проделана калитка.
Варвара Ильинична огляделась вдруг и вздрогнула: из кустов прямо навстречу к ней двигалась какая-то легкая белесоватая тень. Она уже подняла руку, чтобы осенить себя крестным знамением, но вдруг сама устыдилась своего страха. Перед ней стояла девочка лет шести в легком белом платье. В обыкновенное время Варвара Ильинична очень изумилась бы тому, что ребенок мог проникнуть в запертый со всех сторон сад, но в том странном душевном состоянии, в котором она находилась, она почти не почувствовала удивления; притом ее так поразила наружность этой вдруг внезапно явившейся гостьи, что она не в силах была думать ни о чем другом.
Действительно, девочка поражала своей удивительно неземною красотой. Ее бледное, прозрачное личико с расплывшимися по плечам пепельно-белокурыми волосами казалось изваянным из мрамора, так оно было спокойно. Большие темные глаза, также необычайно ясные и спокойные, глядели, казалось, в иной, нездешний мир.
— Как ты попала сюда и как тебя зовут? — спросила наконец Варвара Ильинична с легкою, непонятною самой себе дрожью в голосе.
Вместо ответа девочка неопределенно указала рукой по направлению к ограде, как бы поясняя, что она явилась оттуда, и затем, отступив назад, снова показала одной рукой на калитку, между тем как другой она поманила Варвару Ильиничну, как бы приглашая ее идти за собой.
— Ты зовешь меня? — спросила Батурина с тем же жутким чувством.
— Да.
То не был обычный детский звонкий голос. Он походил скорее на тихий вздох ветра в прибрежных камышах, на нежное журчанье ручейка, и вместе с тем в нем было что-то светлое и звенящее, как пение лесной пташки. Она снова повторила свой призывный жест с такой мольбою и вместе с тем так повелительно, что Варвара Ильинична почувствовала, что она не в силах противиться велению, побуждавшему ее следовать за девочкой. Она задала еще один вопрос:
— Как тебя зовут?
— Варя.
И это имя не удивило Варвару Ильиничну. Она словно ожидала услышать его. Повинуясь неопределенной силе, она двинулась вперед, вслед за девочкой. Ее белое платье в нескольких шагах мелькало впереди. Таким образом они вышли в калитку, прошли тропинкой вдоль оврага, миновали мостик, который вел к валам.
Никто не встретился им по дороге, место было пустынное, но Варвара Ильинична не отдавала себе отчета, насколько могла оказаться опасной такая прогулка. Гораздо позже, рассказывая об этом происшествии в кругу семьи, она говорила, что действовала в то время почти бессознательно, как человек, находившийся под влиянием сомнамбулизма.
Поблизости вала находился небольшой одноэтажный дом, в котором, насколько было известно Варваре Ильиничне, никто не жил за последнее время, и теперь она удивилась, увидев сквозь спущенные занавески слабо мерцавший огонь. Оглянувшись еще раз, девочка в белом поднялась на крыльцо и исчезла во мраке коридора. Варвара Ильинична с сильно бьющимся сердцем последовала за ней. Напрасно она искала ее глазами: девочка более не появлялась.
Охваченная смутным чувством ожидания и страха, Варвара Ильинична тихо отворила дверь. В довольно большой комнате, где уже начали сгущаться сумерки, прямо против двери сидела за столом молодая женщина, уронившая голову на руки. Плечи ее судорожно вздрагивали от глухих рыданий. Рядом с ней, прижимаясь щекой к ее черному платью, стоял мальчик лет четырех, старавшийся, очевидно, обратить на себя внимание.
Хотя лицо молодой женщины и было закрыто, но грациозный очерк головы с подобранной на затылке густой каштановой косой был слишком знаком Варваре Ильиничне, сердце которой, казалось, на минуту перестало биться. И когда, вздрогнув при звуке отворяющейся двери, молодая женщина подняла исхудалое, влажное от слез лицо, вся глубокая материнская любовь и жалость, так долго подавляемая ею, поднялась с невероятной силой в душе этой гордой женщины.
Слезы, жгучие слезы раскаяния хлынули из ее глаз. Раиса Павловна поднялась с места… С секунду мать и дочь молча смотрели друг на друга, и затем неудержимым порывом Варвара Ильинична протянула к ней руки:
— Дитя мое, моя Рая!
Обе женщины молча плакали в объятиях друг друга. Все было прощено и забыто.
— Мамочка, — заговорила Раиса Павловна, — Сам Бог Вас привел в такую минуту, Он даровал мне это утешение, когда я думала, что никто не свете не сможет утешить меня. — И она снова зарыдала.
— Он прислал за мною одного из Своих ангелов, — тихо сказала Варвара Ильинична. — Где же Варя, моя внучка? Ведь я узнала, это она привела меня сюда.
Раиса Павловна вдруг подняла голову с плеча матери и смотрела на нее широко открытыми обезумевшими глазами.
— Но ведь это она приходила за мной, — продолжала Батурина, не замечая ужаса на лице дочери.
— Она приходила за Вами? — спросила Раиса Павловна. — Боже мой, да разве Вы не знаете? Пойдемте, — и она, схватив мать за руку, повела ее в соседнюю комнату. Там на столе у образов между двух паникадил стоял маленький белый глазетовый гроб, у изголовья которого молился высокий мужчина с красивым, носившим на себе печать глубокого горя лицом.
А между складок кружев и кисеи, усыпанных весенними цветами, Варвара Ильинична увидела бледное, поражавшее неземной красотой и неземным спокойствием личико, с рассыпанными по плечам белокурыми волосами, личико девочки, ее странной спутницы.
Варвара Ильинична упала на пол в глубоком обмороке. Шесть недель Батурина была между жизнью и смертью, но ее крепкий организм и заботы о ней дочери, забывшей в уходе за нею свое собственное тяжелое горе, победили недуг. Она встала с постели уже другим человеком. Болезнь состарила ее сразу лет на десять, а непреклонный характер ее заметно смягчился под влиянием перенесенных ею нравственных потрясений.
Как же появились Артемьевы в этом городке?
По желанию Раисы Павловны, жаждавшей перемирия с матерью, Артемьевы приехали в Зареченск на Страстной неделе, чтобы добиться свидания с Варварой Ильиничной, но уже дорогой старшая их девочка Варя, болезненный и слабый ребенок, почувствовала себя нехорошо. Один из быстро действующих недугов, которыми бывают подвержены нервные дети, унес ее в три дня. Она скончалась в пасхальную субботу, к отчаянию обезумевших от горя родителей.
Артемьевы поселились временно в Зареченске. Варвара Ильинична примирилась с зятем и научилась ценить и уважать его. Живет она теперь только для своих детей. Она любит и маленького Митю, но лучшая, нежнейшая привязанность ее сердца принадлежит внучке, безвременно погибшей Варе, похороненной по желанию Варвары Ильиничны в старом саду Батуриных — ее она не иначе называет, как своим отлетевшим ангелом.
Каждый день зимой и летом перед закатом солнца, когда вечерние тени ложатся гуще и длиннее и ветер шумит в вершинах деревьев, Варвара Ильинична ходит молиться на могилу внучки, чистая жизнь которой явилась примирительной жертвой, положившей конец долголетнему отчуждению в этот памятный им день Светлого Христова Воскресения.
О. М. Чумина
Песнь печали
Рассказ-быль
Произошло это неожиданно, случайно, как происходит множество несчастий. Со сталелитейного завода в лабораторию технологического института прислали для испытания кусок металла, и наблюдавший за работами профессор поручил сделать это исследование Петровскому — студенту последнего курса.
С обычной своей аккуратностью Петровский приступил к исследованию: влил в колбу серной кислоты, опустил туда металл и затем налил сверху воды. Серная кислота стала быстро нагреваться. Алексей Иванович, так звали Петровского, начал прикреплять колбу к штативу, который приходился немного выше его глаз. Пока Алексей Иванович вертел винтик, из головы у него не выходили жена, дети. Младший Ваня уже второй день был болен. Задумавшись, Петровский нажал лишний раз винтик, колба треснула и… серная кислота брызнула ему в глаза.
Крик, невероятный крик ужаса и боли пронесся по лаборатории, и, когда товарищи кинулись к Петровскому и стали обливать его водой, уже все было кончено. Лицо у него было изуродовано, глаза выжжены…
В больнице, усыпленный хлороформом, несчастный забылся на то время, пока на его изуродованное лицо накладывали маску, но, когда он проснулся и вспомнил происшедшее, снова крик ужаса вырвался из его груди. Был еще и момент, когда его внутренние страдания достигли высшей степени… Жену Петровского, явившуюся в больницу с детьми, предупреждали, упрашивали, чтобы она не тревожила больного слезами. И, пока Петровского не ввели в приемную, она обещала и старалась быть спокойной и сдержанной. Но когда он, закутанный с головой во все белое, вошел под руку с фельдшером, весь затихший, сгорбленный, — она не выдержала.
— Алеша! — бросилась она к нему с рыданиями.
Тогда снова крик вырвался из его груди, и был этот крик, словно предсмертный стон раненого зверя: таилось в нем безграничное отчаяние, звучал великий ужас сознания непоправимой беды… Петровскому вдруг стало до болезненности ясно, что уже никогда-никогда в жизни не увидит он жены и детей — тех самых жены и детей, которых он видел еще утром: словно жестокая непроходимая стена встала между ними, и никогда никакими усилиями ему не пробить этой стены… И, сев на подставленный фельдшером стул, он безудержно стонал и плакал. Плакали дети, рыдала несчастная молодая женщина, и по лицам привыкших к чужим страданиям фельдшера и сиделок тоже текли слезы…
Когда Петровский вышел из больницы, наступили новые страдания: пришла нужда. Алексей Иванович женился еще на первом курсе на бедной девушке-сироте, и жили они на то, что он зарабатывал уроками и частными работами. Ждали окончания курса как исполнения дивной мечты; верилось, что тогда настанет обеспеченная, спокойная, радостная жизнь.
Теперь впереди ожидала только нужда со всеми ее тяжелыми последствиями… Обращаться к содействию других не хотелось. Начали придумывать, что делать. Трудно было что-либо придумать, но наконец выход был найден: Петровский решил заняться уроками музыки. Он хорошо играл на скрипке и на рояле, много занимался музыкой еще в гимназии, не бросал этих занятий и в технологическом институте.
Нелегко было найти уроки слепому, но добрые люди нашлись и у Петровского начали заниматься некоторые из его знакомых. Затем жена усердно принялась за рукоделие, надеясь со временем открыть собственную мастерскую. Так прошло три месяца.
Несколько раз товарищи Алексея Ивановича по институту хотели устроить между собой подписку в его пользу, но он каждый раз решительно от этого отказывался и просил не обижать его. Но вот одному из друзей пришла в голову счастливая мысль: устроить по окончании курса литературно-музыкальный вечер, пригласить Петровского играть на нем и выдать ему за это весь чистый сбор.
Сначала Алексей Иванович отказывался, но потом, уступая настойчивой, слезной просьбе жены, согласился. Когда это согласие было получено, товарищи приняли меры к тому, чтобы сбор на вечере был возможно больший: ездили к состоятельным людям, обрисовывали им положение семьи несчастного слепца, указывали на тяжелое его состояние и на грозное будущее. Это оказало свое действие, и почетные билеты, за которые всегда платили хорошо, были скоро раскуплены по дорогим ценам.
Наконец настал долгожданный вечер. С тяжелым сердцем шел на него Алексей Иванович. В этот вечер он будет в последний раз со своими студенческими товарищами, с которыми провел пять лет. До этого дня они время от времени заходили к нему, и хотя он их не видел, ему приятно было с ними поговорить, в беседе с ними развеять свое постоянное тяжелое, угнетенное настроение. И вот сегодня он в последний раз будет с ними. Особенно тяжело было то, что именно принятием милостыни от них закончится их последняя встреча. Они уедут создавать свою здоровую, радостную, светлую, зрячую жизнь, а он, вечный слепец, останется со своей несчастной семьей, с темнотой, с тяжелыми думами…
Под левой рукой он держал скрипку, за правую его вела жена, прежде полная, миловидная, теперь высохшая, состарившаяся. И когда они вошли в подъезд, у вешалок, где шумно раздевались гости, раздался сдержанный, но чутко схваченный обостренным слухом Петровского шепот:
— Вот он. Видите? А это его жена.
— Он будет играть на скрипке. Он хорошо играет. Это теперь его хлеб.
Одно мгновение Петровский хотел повернуться и уйти обратно, и уже сделал резкое движение, но потом сдержал себя, и с опущенной головой прошел с женой сквозь строй любопытных. Номера программы следовали один за другим, и наконец настала его очередь. Когда ему сказали об этом, сердце его сильно забилось, но потом внутри все стихло и он в сопровождении двух товарищей спокойно вышел на эстраду.
Других исполнителей встречал гром рукоплесканий. Гробовая тишина встретила Петровского, и он понял эту тишину: перед его страданиями благоговейно смолкла толпа… И оттого, что здесь, в зале, в этот миг он встретил сочувствие своему горю, ему стало еще более жаль себя и то, о чем он вышел поведать, вновь с властной силой захватило его.
Высокий, стройный, в черном сюртуке, он прижал скрипку к лицу и, подняв смычок, тихо опустил его.., и в зале среди гробовой тишины раздался грустный, нежный звук. О горе, покорном, безропотном горе поведал он. Звуки, лившиеся за первыми, казалось, заботливо окружили его, и чудилось, что душа страдальца жалуется на свою судьбу, рассказывает о ней. Но не протестом, а тихим смирением дышит ее рассказ.
Под тихие первые звуки избранной им сонаты Алексей Иванович вновь переживал свое горе, ставшее таким привычным, беспросветным. Ему, как всегда, когда шли эти звуки дивной сонаты, стало жаль себя, вспомнилось прежнее: счастливое детство, годы юности, любовь трудная, но с надеждами, дальнейшая жизнь…
Нарастали звуки, и с ними росла боль в груди, закипали слезы, рождался, зрел протест против злой, безжалостной судьбы. Кому он вредил своим тихим, скромным счастьем? Кто имел право прийти и так безжалостно, так безнадежно, навсегда разбить его жизнь, убить всякую мечту о лучшем, всякую мысль о просвете? Кто в силах понять ту бездну страданий, то отчаяние, когда на смену смеющемуся, ласковому солнцу пришла вечная тьма? О! Будь он проклят, тот день, отнявший у него радость всей жизни, разбивший счастье всей его семьи!
Уже давно замолкли тихие, покорные звуки, и на смену им пришли другие, скорбно-рыдающие, печально-гневные, грозно-требовательные.
Скрипка рыдала… Рыдания — глухие, надорванные, — бились в этом затихшем зале, как разбушевавшееся море в час грозного прибоя. С каждым мгновением этот прибой все нарастал. И вот… раздался новый звук.
О! Это не был голос скрипки — это был крик измученной страданиями души — тот крик, что впервые раздался тогда, в миг гибели всей жизни, и теперь с нечеловеческой силой вырывался из-под смычка.
Петровский не кончил сонаты.
Он опустил скрипку и со слезами на незрячих глазах, неловко поклонившись, ушел с эстрады.
Никто не протестовал, никто не шевельнулся, и в этом снова сказалось сочувствие великому горю…
В комнате для исполнителей плакал, склонившись на стол, Петровский. Его окружили товарищи, успокаивали, подавали воду. Другие приводили в чувство Наталью Васильевну, бывшую в глубоком обмороке. Ее не видел теперь Алексей Иванович…
И тут в комнату вошел старик — профессор консерватории. Осторожно ступая, он подошел к Петровскому и опустил ему на плечо руку.
— Мой друг! — сказал он. — Вы спасены. Я слушал Вашу Песнь Печали. Так играть, как играли Вы, может только талант. С завтрашнего же дня я прошу Вас отдаться моему руководству. О семье вашей не беспокойтесь…
Теперь Алексей Иванович — знаменитый скрипач.
Его концертов ждут с нетерпением, и когда он, слепой, весь в черном, появляется на эстраде, то публика в напряженной тишине ждет первых звуков его скрипки. В них веет дыхание великого таланта и прекрасная человеческая тоска по тому, что где-то высоко-высоко. И, наверное, нет ничего на свете чудеснее, светлее, трогательнее и выше этой тоски, потому что зажечь другую душу огоньком печали — значит послужить хотя бы немного большому человеческому делу.
Этой тоске, этой Песне Печали нет имени, нет определенного образа — она многоименна и многообразна. Она огромна, прекрасна, светла и непорочна, потому что сокрушает гордое человеческое сердце и зовет его к самому высокому — к сочувствию, состраданию, милосердию и Божественной Любви…
Н. Клименко
Страннице
Скажи мне! Тебя, одинокую,
Кто встретит в чужой стороне?
Кто теплый приют в ночь глубокую
Даст бедной, прозябшей тебе?
Укроет тебя кто, безродную,
В день летний от сильной жары?
Из чаши водою холодною
Омочит уста кто твои?
Идешь ли чрез поле далекое,
Чрез тихие воды ручья —
Везде пред тобою широкая
Спокойно дорога легла.
Не знаешь весь век утомления,
Для Бога оставила все.
Полна ты святого смирения
Псалтирь — все богатство твое!
Забыв свою жизнь безотрадную,
Ты свято хранишь свой обет,
Как меч, жизнь караешь развратную,
Для всех ты пример и совет.
Ты Бога, живя здесь, прославила,
Всегда прибегая к Нему,
И сильная вера поставила
На твердый путь душу твою!
Пестряков
* * *
Что там? Ангел светлокрылый
Держит крест в своей руке?
Нет! То храм отчизны милой
Перед нами вдалеке!
И невольно умиленье
Наполняет грудь мою,
Там найду я утешенье
И оставлю скорбь свою!
Там, с любовью в кротком взоре,
На меня посмотрит Тот,
Перед Кем и скорбь, и горе
Изливает наш народ.
Кто Един не прогоняет
Никого от врат Своих,
И живет, и укрепляет
Посреди тревог земных!
Козубовский


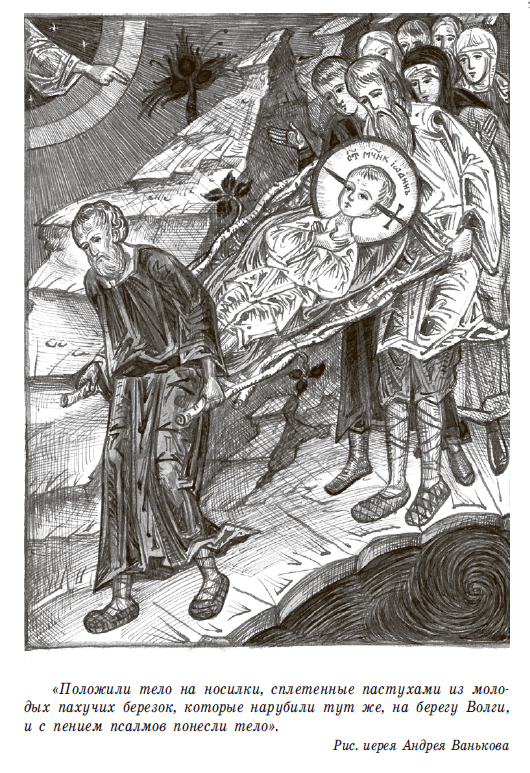
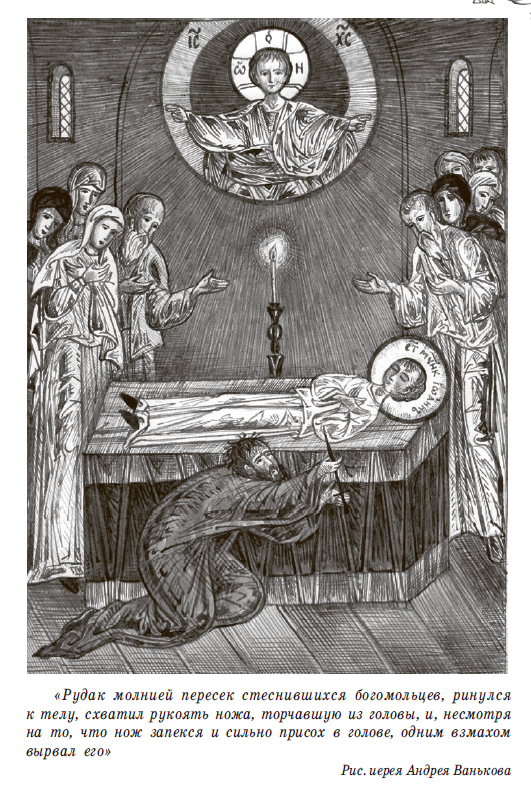
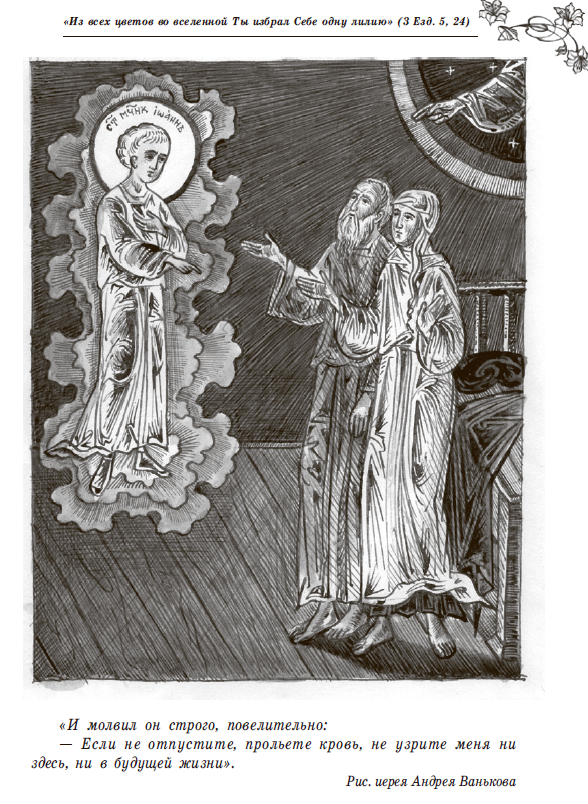


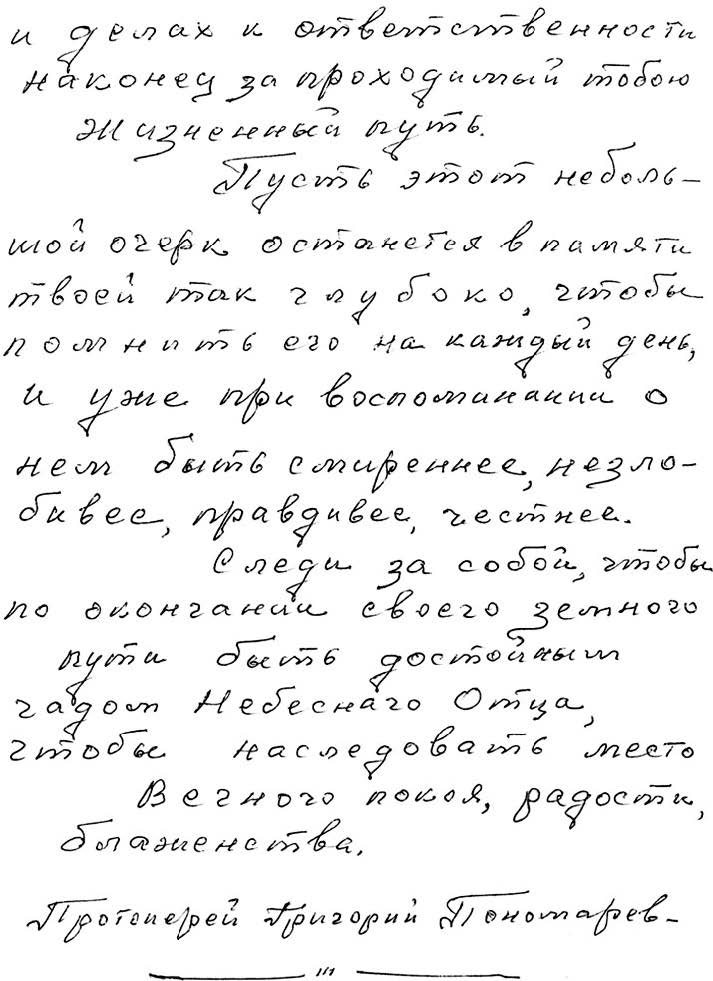

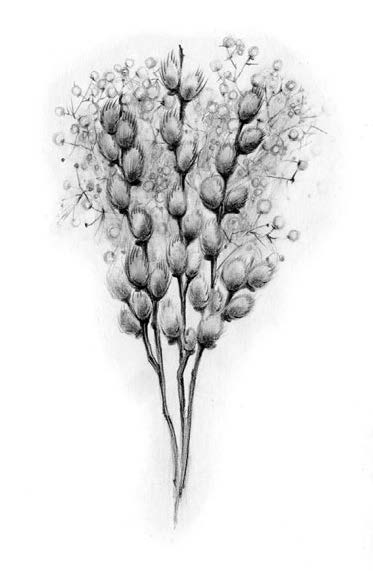
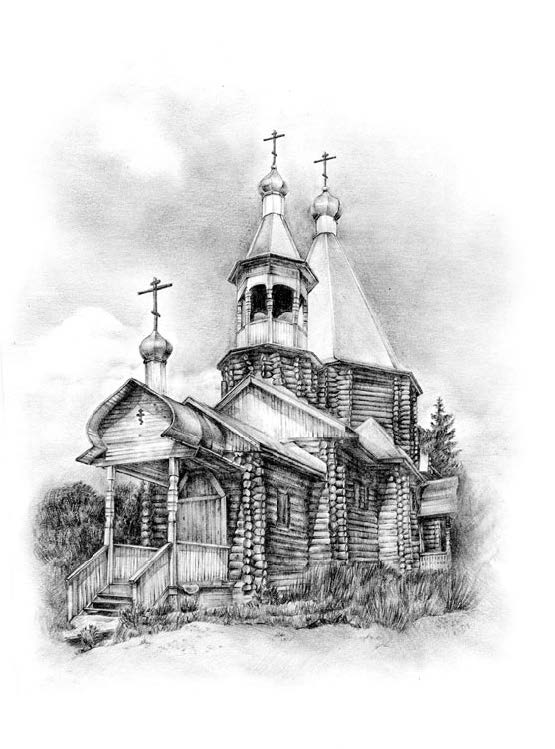




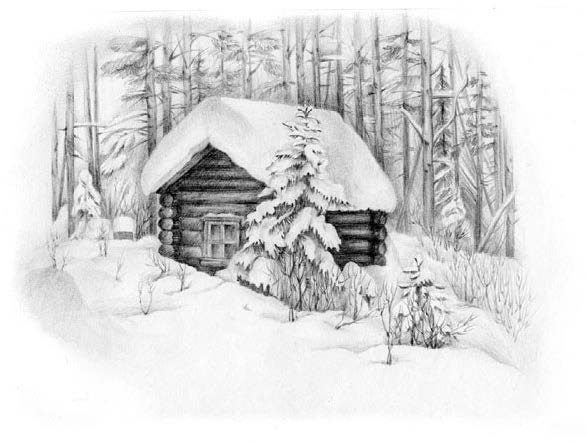
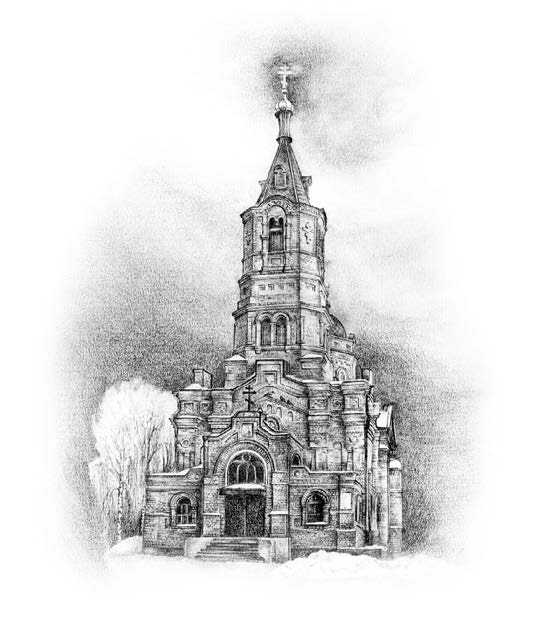










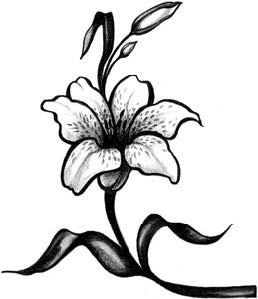
Комментировать