- Аннотация
- Предисловие
- Укротитель императорских львов
- Два брата
- Глава I. Пред страхом смерти
- Глава II. В золотой клетке
- Глава III. Последняя угроза
- Адриан и Наталия
- Вместо предисловия
- Глава I
- Глава II
- Глава III
- Глава IV
- Глава V
- Глава VI
- Глава VII
- Глава VIII
- Глава IX
- Глава Х
- Глава ХI
- Глава ХII
- Глава ХIII
- Глава ХIV
- Глава ХV
- Глава ХVI
- Глава XVII
- Глава XVIII
- Глава XIX
- Глава ХХ
- Глава XXI
- Глава XXII
- Глава XXIII
- Глава XXIV
- Глава XXV
- Глава XXVI
- Глава XXVII
- На Голгофе
- Сестры Фабиолы
- Глава I. Посвящение
- Глава II. Мать Вивии
- Глава III. Рабыня — христианка
- Глава IV. Видение
- Глава V. Борьба и жертва
- Глава VI. Месть
- Глава VII. Пастух в горах
- Глава VIII. Восстание
- Глава IX. Христиан ко львам
- Глава Х. Тертуллиан перед сенатом
- Глава XI. Допрос
- Глава XII. В темнице и на арене
- Сестра Фива
- Глава I. Бессильные боги
- Глава II. В Рим
- Глава III. Павел Тарсийский
- Глава IV. Счастье Юлии
- Глава V. Одиночество
- Глава VI. Фива — христианка
- Глава VII. Обращение Юлии
- Глава VIII. Начало скорбей
- Глава IX. Римские новости
- Глава Х. Плевелы среди пшеницы
- Глава XI. Болезнь Юлии
- Глава XII. Посланница апостола языков
- Глава XIII. Апостол Павел в Риме
- Глава XIV. Господь близко!
- Глава XV. Грустные вести
- Глава XVI. Смерть святого апостола Павла
Аннотация
«из архива духовных чад протоиерея Григория Пономарева (1914-1997)»
Перед вами — седьмой сборник рассказов под общим названием «Лилии полевые…»
Книга вышла в серии «Из архива духовных чад протоиерея Григория Пономарева (1914-1997)» и названа «Лилии полевые. Адриан и Наталия. Первые христиане» по названию церковно-исторической повести протоиерея Димитрия Алексича, вошедшей в сборник. В основу седьмой книги «Лилии полевые. Адриан и Наталия…» легли повести, рассказы, легенды первых времен христианства малоизвестных авторов дореволюционной России. Тексты произведений заимствованы и перепечатаны из православных журналов, издававшихся в конце ХIХ и начале ХХ вв. в России под грифами «От Санкт-Петербургского Духовного Цензурного Комитета печать дозволяется». Авторы большинства рассказов мало известны или имена их скрыты, так как в традициях имперской культуры России авторские тексты зачастую подписывались либо одной фамилией автора, либо именем, либо инициалами, либо литературным псевдонимом писателя.
С 2005 года по настоящее время православной редакцией «Звонница» подготовлено к печати семь сборников «Лилии полевые…», содержание которых наполняют рассказы и повести из архива зауральского священника Григория Пономарева (1914-1997 гг.) и его духовных чад. Отец Григорий перешел в мир иной вместе со своей супругой Ниной Сергеевной (в девичестве Увицкой) в один день 25 октябри 1997 года.
Пять книг этой серии ранее получили грифы издательского совета РПЦ.
Книга «Лилии полевые. Адриан и Наталия. Первые христиане» — сборник, составленный курганской писательницей Еленой Кибиревой из рассказов, собранных ею в библиотеках Северной столицы. Продолжая дело о. Григория, она более двадцати лет трудилась в научных фондах русских библиотек С.-Петербурга и откопировала более 20 000 страниц православных рассказов, повестей и легенд из истории христианства, большинство которых не переиздавались в России после революции ХIХ века. Ссылки на первоисточники и авторов взяты из архива зауральского исповедника веры о. Григория Пономарева, репрессированного за служение Господу нашему Иисусу Христу и Его Церкви в середине ХХ века. Тексты заново отредактированы, иллюстрированы черно-белыми карандашными рисунками. К рассказам даны примечания с обьяснением церковно-исторических терминов и малопонятных слов. Книга предназначена для семейного чтения.
Предисловие
Дорогие читатели!
Редакция «Звонница» представляет вам седьмой сборник серии книг для семейного чтения «Лилии полевые. Адриан и Наталия…» Мы рады новой встрече с вами и предлагаем погрузиться в чтение рассказов и повестей об исповедниках и христианских мучениках, живших в первые века христианства после пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа.
Обратим к вам, дорогие читатели, слова протоиерея Димитрия Алексича, в переводе с сербского, написавшего церковно-историческую повесть о святых мучениках раннего христианства «Адриан и Наталия» (изд. 1897 г.):
«Представить жизнь и подвиги святых христианских мучеников — дело далеко не бесполезное и не лишнее, в виду тех многих и многих десятков и сотен тысяч христиан, которым это описание может сослужить хорошую службу в деле спасения их душ. Благодаря истории, они могут извлечь из этого достоверного описания много поучительного и назидательного…» («Адриан и Наталия», Д. Алексич, стр. 90 настоящ. изд.).
Все рассказы и повести седьмого сборника «Лилии полевые…» объединены одним призывом: «Быть свидетелями Божиими, как свидетельствовали о Нем исповедники первых веков христианства».
«На Господа наша надежда, — пели первомученики, когда их вели на расправу диким зверям, — и что может сделать нам вся злоба людей! Христос наш Избавитель, и Он не оставит нас! За Него мы рады принять смерть, и Он украсит нас венцом мученичества! О, сколько радости умереть за Того, Кто столько страдал за весь мир! Да будет благословенно имя Его!» («Сестры Фабиолы», К. И. Семенов, стр. 450 настоящ. изд.).
Нам, жителям ХХI века, как и первым христианам, принявшим учение Христово, предуготован путь исповедничества, сражения за веру Крестом даже до крови.
Церковное предание хранит примеры жизни последователей Христа из первых апостольских времен, как свидетельства верности христианских мучеников Распятому Господу, и герои этих рассказов живут на страницах нашего нового сборника.
«Свидетельство о Боге — всегда опасность и риск, — пишет протоиерей Александр Шаргунов. — Быть свидетелем никогда не бывало легким. Чем неистовей ярится отступнический мир, тем ярче свидетельство, потому что Бог дает силу для свидетельства…».
Господь, действительно, дает нам силу веры — как через примеры первых мучеников христианства, так и через подвиги исповедников и новомучеников Российских, прошедших тяжкие испытания в годы богоборчества. Исповедники черпали эту силу из поколения в поколение от своих пастырей и святителей церкви, связь с которыми не прерывалась со времен Крещения Руси. Даром Духа Святой Троицы они черпали эту силу от непрерывно возносимой в алтарях Божиих молитвы к Небесному Царю, от заступничества за народ Божий православных монархов, от церковных преданий, хранимых Церковью.
Примером такого исповедничества служит жизнь зауральского митрофорного протоиерея Григория Александровича Пономарева (1914-1997 гг.), репрессированного в сталинское время и отбывавшего наказание в лагерях и угольных шахтах Колымы. Осужденный, как враг народа, отец Григорий только через шестнадцать лет вернулся из лагерей Крайнего Севера на Большую Землю, чтобы всею своею жизнью «свидетельствовать о Боге»…
Далеко за пределами Курганской области прославил Господь имя отца Григория Пономарева — исповедника веры. В народе батюшку еще при земной его жизни почитали как чудотворца и молитвенника. Его ежедневным, неотступным правилом было — ранний подъем в четыре часа утра, молитвенное стояние с чтением нескольких акафистов и канонов, исполнение намеченного плана по переписыванию десятков страниц духовных текстов, сугубые молитвы по прошениям и запискам, Божественная литургия в храме; далее — требы, поучительные беседы с паствой, хлопоты по храму, хозяйственные заботы… Спать в доме батюшки ложились далеко заполночь.
Духовные книги в годы репрессий священства в прошлом веке были запрещены богопротивными властями. Но отец Григорий, выезжая на учебные сессии в Духовную Академию Санкт-Петербурга, привозил из северной столицы в Курган тяжелые чемоданы с библиотечными книгами; он перепечатывал под копирку и переписывал вручную сотни и тысячи страниц свято-отеческих рассказов, повестей, притч, древнехристианских легенд и наставлений, сшивая их в самодельные книжицы. Эти тетрадки он дарил своим чадам, давая духовную пищу каждому по его потребе. Большинство рассказов из архива отца Григория уже опубликованы в сборниках книг «Лилии полевые…».
Во всем помощницей и спутницей отцу Григорию была кроткая и смиренная матушка Нина Сергеевна, урожденная Увицкая. И отец Григорий, и матушка Нина воспитывались в семьях потомственных священников и с юности стали свидетелями жертвенного служения Богу своих родителей, новомучеников и исповедников Российских — преподобномученика Ардалиона (Пономарева) и священномученика Сергия Увицкого, прославленных в сонме Уральских святых.
О подвиге отца Григория, более 40 лет прослужившего в храмах Свердловской и Курганской областей, и о его земном служении Церкви Христовой и Богу написана книга по воспоминаниям его дочери Ольги Григорьевны «Во Имя Твое…», а также издан двухтомник «Исповедник веры протоиерей Григорий Александрович Пономарев (1914-1997 гг.). Жизнь. Поучения. Труды» (Ольга Пономарева, Елена Кибирева. Звонница. Курган, 2006 г.).
Отец Григорий и матушка Нина Сергеевна (в девичестве Увицкая) прожили вместе 61 год и почили во Господе в один день 25 октября 1997 года, явив своей смертью пример истинно христианской кончины. Они похоронены в один день и в одной могиле во дворе Свято-Духовского храма, где служил батюшка, в пос. Смолино г. Кургана Курганской и Белозерской епархии. Он жил среди нас, свидетельствуя о Христе Распятом терпеливым несением своих скорбей и самой своей смертью.
«Свидетельство о Христе — нашу жизнь во Христе — нельзя откладывать на завтра, — пишет отец Александр Шаргунов. — Оно должно начаться с сегодняшнего дня… Как и нам стать свидетелями не одними только словами, а всею жизнью нашей, верностью Господу даже до крови? Ибо только такое свидетельство может быть услышано омертвевшим от безверия миром» («Сражение за веру»).
Сегодня в России строят храмы и освящают православные алтари. Но разве не беснуется отступнический мир в своем безумии в новое время? Разве не те же тираны из античного мира восстают против христианства, разрушая Церкви Божии, растлевая души не окрепших? Разве не уничтожаются ими города и земли древних христиан?
Поистине, мы живем во времена первохристиан.
«Я боюсь, — говорит героиня одного из рассказов этого сборника, первомученица, — не слишком ли долго продолжается мир, не слишком ли ослабели наши сердца? Не нужна ли борьба, чтобы их снова укрепить? Вихрь… может в один день, если его сюда направит дыхание Господне, разразиться над нашими головами, и тогда, без сомнения, ты, как и я, будем одинаково призваны на арену. Наступит великий день исповедания…» («Сестры Фабиолы», К. И. Семенов).
Исповедницу, не поклонившуюся жреческим богам, под крики безжалостных римлян, растерзали дикие звери на арене Колизея. Она стала свидетелем Бога, исполнив призвание «наполнить мир присутствием Христовым».
«За веру надо сражаться!» Готовы ли мы?
«Ты не знаешь, как велика сила Господа, — отвечала мученица своим тиранам, — и какую крепость Он может дать тому, кто следует Его Кресту и учению».
Нам есть чему учиться у первых христиан.
Обезумевшие от ненависти римские патриции требовали в сенате: «Смерть христианам! Христиан ко львам!»
«Где же преступления, — говорил в защиту христиан Квинт Септимий Тертуллиан, — за которые вы нас желаете преследовать? Правда, мы не признаем ваших богов, не посещаем ваших храмов, не приносим жертв. Но это потому, что мы познали лживость учения о ваших богах. Мы отвращаемся от всех тех пороков, которые совершаются у вас во имя религии и которые я не в состоянии назвать, так как при одной мысли о них краска покрывает мое лицо. Мы не принимаем участия в ваших зрелищах, потому что безысходным последствием их бывает потеря стыдливости и добродетели. Мы избегаем ваших театров, потому что они служат школой всяких пороков. И в то время, как вы отправляетесь на эти зрелища, подвергая явной опасности честь ваших дочерей и жен, мы остаемся дома, предаваясь молитве, чтобы Господь помог нам стать чище и возвышеннее. За что же вы желаете подвергнуть нас позорному преследованию?.. “Христиан ко львам”!? Но каким бы преследованиям вы нас ни подвергли, мы не изменим своему учению, которое проповедует высочайшую Истину» (там же).
Это подлинные слова христианского писателя-теолога Тертуллиана, извлеченные из его трудов.
И сегодня наши пастыри вопрошают нас: «Что вы, христиане, стоите и жалуетесь на мир и не несете миру слова жизни? Что вы ищете защиты от мира, в то время как ваше призвание — наполнить его присутствием Христовым? Восходя к Отцу Небесному, Христос завершил свой путь мучительной смертью. И точно так же первые ученики. И как показали наши новые мученики и исповедники…» (прот. А. Шаргунов).
Рассказы и повести из ранних веков христианства, которые ты прочитаешь в этом сборнике, дорогой читатель, приведут тебя во времена безумных римских тиранов, которые, удерживая власть, употребят все свои силы на то, чтобы усидеть на троне. Они все сломят и свергнут на своем пути к славе и могуществу. Они все принесут в жертву идолу… Они прибегнут к помощи абсолютного зла и сами станут абсолютными злодеями.
Они будут гнать христианство, и уже гонят нас!
Мы должны обрести силу, чтобы не быть малодушными и не обратиться в бегство перед возможными испытаниями, преред сражениями.
Завтра мы придем в храмы Божии и соборно пропоем «Царю Небесный…», призывая Духа Святого как силу свыше, без которой мы не сможем стоять в вере.
«Без этой силы свидетельство невозможно, — учат нас духовные отцы. — С силой, которую дает Дух Святой, все будет иначе. Ибо это Он свидетельствует в нас, Он делает нас мужественными и непоколебимыми среди наших сражений. Вопрос всегда только в одном: каким покаянием, какой верностью Господу среди новых испытаний можем мы стать достойными принятия этого дара» (Протоиерей Александр Шаргунов, «Сражение за веру»).
Аминь.
Елена Кибирева,
автор-составитель, член Союза Писателей России
8 июня 2025 года.
День Святой Троицы. Пятидесятница

Укротитель императорских львов
Рассказ из времен раннего христианства
Префект[1] Бассус[2] стоял возле императора и с жестокой улыбкой смотрел на рабов, вытаскивавших тела убитых и посыпавших свежими опилками красные пятна, пестрившие на арене. Начиналась самая интересная часть программы. До сих пор разнообразные развлечения этого дня были довольно обыкновенны: борьба, поединок двенадцати пар гладиаторов из двух знаменитых гладиаторских школ; охота Актеона[3], изображаемая в лицах, причем роль Актеона играл красивый грек, обвиняемый в отравлении хозяина. Все это только разожгло страсти громадной ревущей толпы, наполнявшей все мало-мальски сносные местечки огромного театра.
Теперь наступила очередь христиан.
Уже неделю праздновалось рождение императора, соблаговолившего устроить торжество для всей Византии[4]. Лицинию[5] было не по себе. Он поссорился с императором Константином, управлявшим западной частью государства, в то время как он сам управлял восточною. Он готовился начать гражданскую войну и собирал войско со всевозможной поспешностью, но ясно чувствовал, что народ не на его стороне. Неделя зрелищ была последней попыткой привлечь сочувствие черни. Лициний сбросил с себя наружное христианство и всенародно обратился к старым богам. При усердной помощи своей правой руки Бассуса, префекта Византии, император приказал схватить нескольких христиан и собирался предать их смерти, и не толпами, как это водилось обыкновенно, но поодиночке, чтобы лишить их взаимной поддержки.
Страдания несчастных должны были довести чернь до высшей точки возбуждения.
Бассус деятельно помогал Лицинию, но император не подозревал об истинной причине такого рвения своего помощника. Дело же было простое, весьма обычное для тех дней. Себялюбивый римлянин увидел христианскую девушку; ее редкая красота привлекла его, и он замыслил погубить ее чистоту. И чем более девушка отталкивала Бассуса, тем сильней росло в нем желание обладать ее прелестью, и когда она решительно объявила префекту, что он ей до того отвратителен, что она скорее готова умереть, чем покориться ему, страсть того обратилась в ненависть, и он заточил ее в тюрьму. И первой жертвой, выведенной ко львам, должна была быть она.
Арзасий, молодой персиянин, укротитель львов, вернулся из подземельных пещер, в которых жили дикие звери, и сам наблюдал за загороженным входом в конце арены, готовый по данному знаку поднять решетку, отделяющую диких, голодных животных от их жертв.
Лициний дал знак, вестники протрубили, большие железные ворота на противоположном конце арены распахнулись, и Кандида[6], христианка, в длинном белом одеянии спокойно вышла на арену цирка.
Глаза всего сборища устремились на нее. Бассус нагнулся вперед и со злой улыбкой бросил к ее ногам венок из алых роз. Но Кандида ничего не замечала. Ее губы тихо шевелились в молитве, а прекрасные глаза упорно смотрели на клочок голубого неба, видневшийся промеж натянутого парусинового навеса.
Руки ее были крепко сложены на груди.
Бассус обернулся к Лицинию.
— Как эти христиане любят рисоваться! — насмешливо заметил он. — Дай знак, государь, впускать зверей, пусть их появление нарушит ее благочестивое настроение.
— Я не знал, что ты интересуешься ею, Бассус, — произнес император, взглянув на любимца.
Префект зло рассмеялся.
— Если не невеста римлянина, то невеста диких зверей, вот и все, — отвечал он.
Лициний улыбнулся на замечание царедворца и махнул рукой. Арзасий низко поклонился и, подбежав к концу площадки, поднял решетку клетки, и в ту же минуту два темногривых льва выскочили на арену с ужасным ревом, ударяя себя хвостом по бокам, и налитыми кровью глазами посмотрели на скамьи, усеянные народом.
Они шли, огибая арену, и вдруг один из них присел и прыгнул по направлению мальчика, бросившего в него камень, но стена была слишком высока, и животное с грозным рычанием упало обратно.
— Смирно, Юпитер! Смирно, Юнона! — закричал от решетки, которую собирался опустить, укротитель, обернувшись на крик мальчика.
— Ну! Начинайте же борьбу, — произнес Арзасий и разом остановился при взгляде на девушку, предназначенную на растерзание зверям.
Христианка опустилась на колени на самой середине арены и в порыве совершенно понятного страха скрыла лицо в складках своего платья. Раньше юный перс бесстрашно смотрел на борьбу своих львов с людьми, но нынче, в первый раз со времени своей трехлетней службы, ему приходилось видеть беззащитную девушку, обреченную на ужасную гибель. За последнее время преследования христиан утихли, а в далекой Персии, будучи мальчиком, он мало слышал о ненависти, питаемой римлянами к христианам, и еще менее понимал.
Львы послушались его слов, быстро обернулись и, увидев девушку, оба огромных зверя припали к земле и начали тихонько подкрадываться к ней. Словно кошки, подбирающиеся к какой-нибудь ничего не подозревающей птичке, они все ближе и ближе подползали к ней. Толпа смотрела, притаив дыхание, и на недолгое время водворилась тишина, нарушаемая лишь вздохом и подавленным рыданием. И вдруг среди молчания прозвучал детский крик… Прозвучал звонко и пронзительно:
— Кандида! Кандида! Посмотри, они идут!
Это был тоненький голос родной сестры страдалицы, голос единственного ей родного существа, оставшегося на свете: родители Кандиды умерли, и она взрастила оставшуюся сестренку скорее как мать, чем сестра.
Восклицание пробудило Кандиду. Нет, любящий ребенок не должен видеть ее смерть, ее тело, жестоко растерзанное львами. И в минуту, когда животные готовились прыгнуть, она поднялась на ноги и, собрав все силы, самым повелительным голосом крикнула:
— Есфирь, иди домой! Сейчас же ступай домой!
Она произнесла слова громко, отчетливо, чтобы ребенок, сидевший на самой верхней скамейке, мог ее услышать. Она говорила повелительно, желая скрыть невольную дрожь в голосе.
Но слова Кандиды имели неожиданное, странное действие. Львы, приученные слушаться голоса Арзасия, отлично поняли приказание: «Ступай домой». Они повернулись и пошли к своему логовищу.
Вздох облегчения и удивления пролетел над толпой, посреди которой было несколько христиан.
Как один человек, поднялись они на ноги и сделали хорошо известное движение большим пальцем, и театр наполнился криками:
— Чудо! Чудо! Пощадить, пощадить ее. Львы отказываются! Лициний, услышь нас!
И пока все ожидали ответа, Бассус бросился вперед, потеряв окончательно всякое самообладание.
«Она не вырвется, — думал он, — если это только будет зависеть от меня». И он начал горячо убеждать Лициния, чтобы тот приказал стрелкам поранить львов небольшими стрелами, дабы те бросились на жертву.
Лициний колебался. Бассус же, схватив горящий душистый факел, стоявший близ царского трона, бросил его на арену. По счастью, факел упал в двух шагах от напуганных шумом львов, продолжавших отступать.
Упавший факел брызнул целым дождем огненных брызг прямо в глаза одному из животных, и оно отскочило назад с гневным ворчанием. Между тем несколько камней, брошенных вольноотпущенными приспешниками Бассуса, жаждавшими выслужиться, разозлили львов. Они обернулись к беззащитной девушке, готовые обрушить свою злобу на первый попавшийся предмет.
Шум собрания возрастал. И в ту минуту, когда все махали руками и стучали ногами, Арзасий выскочил на арену и бросился бегом к Кандиде. На бегу он окликал львов по их именам и, добежав, наградил Юпитера ударом ноги, а Юнона, узнав господина, со злобным рычанием отскочила, при его приближении, в сторону.
Бассус, стоя наверху царского места, дико размахивал руками и что-то говорил, но за ревом толпы никто его не слышал. Когда же Арзасий криком и ударами загнал диких зверей в логовище, неся на руках Кандиду, префект погрозил кулаком укротителю львов, завернулся в тогу и исчез по особой лестнице, ведущей от царского места на арену.
«Вот таким образом, — говорит старый историк, — Арзасий, не будучи еще христианином, выказал свое расположение к ним».
Перс отвел Кандиду в дом одного из своих друзей и послал за маленькой Есфирью, чей голос, по воле милосердного Бога, спас сестру.
Поутру Арзасий был несколько удивлен ранним посещением своего приятеля, одного из дворцовых рабов. Он принес неожиданное и удивительное известие: Лициний, по возвращении домой, узнал, что император Константин, его соперник, идет на него, объявляя открыто себя защитником христианства.
В припадке бешенства, император охотно выслушал Бассуса, советовавшего ему захватить Арзасия за его самопроизвольное освобождение императорской узницы, и назло Константину немедленно захватить христиан — всех, кто попадется под руку, — и предать их смерти.
Конечно, Кандида должна быть схвачена первой.
— Отдай ее мне, государь, — говорил Бассус. — Я так буду обращаться с ней, что она не раз позавидует, что не умерла на арене!
Раб, подслушавший весь разговор, пришел еще до зари предупредить друга.
Арзасий был сообразительный и деятельный молодой человек, и раньше, чем раб вернулся во дворец, Арзасий уже был там, где Кандида провела ночь, и в нескольких словах уговорил молодую девушку бежать с ним, отклонив самым решительным образом все ее возражения и сомнения. Час спустя, Есфирь сидела уже на осле, ведомом персом, между тем как Кандида, переодетая негритянкой, шла возле, неся корзину с фруктами, словно на продажу.
Через два дня они переправились через море и были вне всякой опасности, в Никомидии[7].
Легко себе можно представить, каково было бешенство Бассуса, когда он узнал, что обе жертвы ускользнули от него. Конечно, он не преминул бы разыскать их во что бы то ни стало и погнаться за ними, но он был вынужден заняться нуждами страны, не терпевшими отлагательства: Константин действовал быстро и уже шел на Византию. Со всевозможной скоростью префекту приходилось собирать войска и идти против врага.
Битва завязалась под Адрианополем[8]. Константин оказался победителем, оттеснив Лициния в Византию, оттуда в Халкидонию[9], разбил его вновь под Хрисополисом[10], где Бассус был тяжело ранен, и положил конец войне, разрешив побежденному императору удалиться в Фессалонику[11]. Бассус же, по странной случайности, удалился с остатком состояния, истощенного войной, в Никодимию.
Константин стал императором и навсегда положил конец римским преследованиям.
* * *
В течение войны, длившейся месяцы, Арзасий стал учеником Кандиды и христианином; получив место городского стража, он попросил Кандиду выйти за него замуж. Но та пыталась отказаться: ей не хотелось связывать его в то время, когда он начинает новую жизнь, хотя она и полюбила его как человека, который спас ее от смерти и позора. Кандида стала работать, чтобы прокормить сестру и себя. Время быстро проходило.
Мир был заключен, и велика была радость по всему свету, когда христиане узнали о своем освобождении.
Прошел год с тех пор, как Кандида стояла лицом к лицу со смертью. И вот однажды, в чудный весенний вечер, она возвращалась домой почти с пустой корзиной плодов и цветов, а рядом бежала ее сестренка. Ужасы прошлого были почти забыты, и она шла, спокойная и счастливая, по многолюдной площади, направляясь к кварталу, где она жила. Арзасий обещал покатать их по реке, когда взойдет луна, и они должны были поторопиться с ужином, чтобы не задерживать его.
Вдруг, свернув с площади на боковую улицу, Есфирь схватила сестру за руку.
— Посмотри! — с легким страхом шепнула она. — Кто это там?
Кандида взглянула в указанном направлении. По ту сторону дороги стоял мужчина, пристально смотревший на нее. Сразу она не узнала его. В поношенной и потертой тоге, с жесткой бородой на некогда чисто выбритом лице, раскрасневшись от вина, беспечно стоял Бассус. Удивление и ненависть мелькнули на его лице. Кандида же с легким вскриком схватила руку Есфири и, притянув ее к себе поплотнее, поспешно сказала:
— Идем, милочка, не смотри на него! Поспешим скорее домой!
Приближаясь к дому и заметив, что преследователь не отстает от нее, Кандида бросилась бежать. Вбежав в дом, она захлопнула на засов тяжелую дверь.
Что теперь она будет делать? Как убежит она, когда старинный враг нашел ее и стоит тут у дверей? Как известить Арзасия? Заглянув в маленькое дверное окошечко, она увидела префекта, смотревшего на окно со злой, довольной улыбкой на лице. К ее ужасу, перейдя дорогу, он сел под тенью портика[12]. Неужели он станет сторожить, когда она выйдет?
Но все же надо предупредить жениха.
Кандида вошла в комнату, поставила корзину на пол, вынула пергамент и принялась писать.
«Горячо любимому Арзасию, — писала она. — Бассус префект здесь и нашел меня. Он пошел следом за мной и теперь сторожит у моих дверей. Не приходи сегодня, чтобы он не нашел тебя. Каким образом мы можем бежать?» Покончив с письмом, она обратилась к Есфири, ничего не подозревавшей о грозившей им опасности и спокойно приготовлявшей незатейливый ужин.
— Есфирь, — сказала Кандида, пытаясь говорить спокойно, — сегодня вечером мы поиграем в новую игру. Беги вот с этой запиской к Арзасию. Но ты не пойдешь через дверь. Я буду там тебя сторожить, и ты должна попытаться пройти не замеченной мною. Можешь ли ты перебраться через стену, что позади дома?
Есфирь кивнула, с интересом слушая сестру.
— Ну и отлично. Там ты и проберешься. Теперь ступай и запомни: если я тебя увижу, тогда все пропало. Сделай все, как скажет тебе Арзасий.
Поцеловав дитя, восхищенное новой игрою, в которую входило лазанье через стену, Кандида закрыла лицо руками; ребенок скользнул прочь из дому и бесшумно исчез, как проворный мышонок.
Кандида облегченно вздохнула и, желая показать Бассусу, что она дома, вынула из корзины завядшие цветы и, отворив дверь, через которую она вошла, постояла с минуту на пороге на виду у префекта и бросила цветы на дорогу.
Бассус поднялся на ноги.
— Нежнейший привет, моя давно потерянная из виду красавица, — насмешливо произнес он и, перейдя дорогу, поднял цветы, с насмешливым почтением прижимая их к губам. Но Кандида вошла в дом и снова закрыла дверь.
Арзасий весьма удивился, получив записку, но сейчас же раскинул умом и сообразил, как поступить. Он прекрасно знал, что Бассус станет вредить Кандиде или ему, но исподтишка. Значит, Кандида днем, на работе, была вне опасности, а охранять ночью было уже его дело. Подождав немного, Арзасий повел Есфирь назад по незнакомой дороге. Он перелез через стену, и Кандида впустила его через ворота заднего двора. Молодая девушка, хотя и просила жениха держаться подальше, но при его появлении облегченно вздохнула и позволила прижать себя к груди с большей горячностью, чем всегда. Какое было для нее утешение чувствовать, что у нее есть покровитель и защитник.
— Он все еще здесь? — спросил жених.
— Да, здесь.
— Ну тогда в настоящую минуту ты вне опасности.
И в нескольких словах Арзасий раскрыл свой план.
Кандида должна тотчас же повенчаться с ним. Это даст ему право охранять и защищать ее, когда представится опасность. Но Кандида не соглашалась, страх и упрямство удерживали ее.
— Какое я имею право выйти замуж, когда мне грозит опасность и когда даже в спокойное время я отказываюсь от замужества? — воскликнула она.
— Самое лучшее право, моя голубка, право слабого, когда он знает сильного, — право, данное мною тебе, когда я сказал, что люблю тебя.
Кандида улыбнулась.
— Прости меня, мой дорогой. Подожди немного. Дай мне яснее рассмотреть мою дорогу. Дай нам посмотреть, что собирается предпринять Бассус. Если уж нам ничего нельзя будет придумать, то ты женишься на упрямой девушке и станешь поступать, как захочешь.
Арзасий поцеловал невесту.
— А теперь, — сказал он, — мы освободимся от соглядатая. Я покину тебя, но лишь для того, чтобы охранять твое жилище по ту сторону и до того дня, когда я буду иметь право охранять его изнутри.
И с этими словами он снова перелез через стену.
Несколько минут спустя, за спиной префекта, в тени портика, появилась фигура, закутанная в длинный плащ.
— Не оглядывайся, — произнес некто, угрожая префекту кинжалом. — Не годится бывшему преследователю христиан сидеть ночью вне дома. Теперь совсем иное время, чем было в языческой Византии.
Префект с проклятиями вскочил на ноги.
— Нет, не оглядывайся, мой кинжал у твоего затылка, и если ты вздумаешь познакомиться с твоим благожелательным другом и добрым советчиком, то, быть может, найдешь лишь своего убийцу.
Бассус неспокойно зашевелился. Он не мог узнать голоса и понять, каким образом незнакомец подошел к нему.
— Почему ты меня знаешь? — спросил он наконец.
— Префект Византии пользуется громкой известностью среди Никомидийского народа. Многие из них помнят о цирковой арене. Подумай, умно ли сидеть на страже у дома, где живет существо, которое ты некогда мучил и терзал?
Бассус, подавив бешенство, попытался отвечать с былым хладнокровием:
— Благодарю тебя, неведомый друг. Быть может, со временем я отвечу на твой вопрос.
И, собираясь уходить, префект поправил плащ.
Арзасий видел, как под плащом сверкнул клинок и, насторожившись, пустил в ход последнее оружие.
— И если ты внезапно обернешься, то мой свист созовет немало людей. Я здесь останусь, займу твое место и обещаю, что стану хорошо сторожить.
Целый поток ругательств вырвался у Бассуса, но он знал, что побежден, и, горделиво выступая, он вышел из портика и обогнул угол дороги.
С этого дня Бассус замыслил во что бы то ни стало завладеть Кандидой. Он вскоре раскрыл, что его неведомый противник не кто иной, как бывший укротитель львов, и его ненависть к Арзасию еще больше возросла, когда он вспоминал, как тот заставил его покинуть дом Кандиды.
Но теперь было гораздо труднее достигнуть своего, чем прежде, когда он был могущественным, влиятельным префектом Византии. Его собственная прислуга была слишком малочисленна, доходы уменьшились, и у него не было друзей.
Задуманный план он был принужден приводить в исполнение сам, при помощи нескольких рабов и его главного помощника, старого гладиатора, который из остатков привязанности последовал за своим господином в его падении. Этому-то человеку Бассус поведал о своем замысле, и, согласно его желанию, гладиатор отправился в трактир, где сходились члены местной гладиаторской школы, в поисках человека, который мог бы найти дикого льва и доставить его в дом Бассуса.
Гладиатор, вызвавшийся найти дикое животное, нашелся. Торг был заключен. Оба приятеля сидели и пили вино, быстро опорожняя кубки. Ниссус, слуга Бассуса, изрядно перепив вина, развязал язык и начал хвастаться своими былыми победами на арене. Другие же посетители питейного дома столпились вокруг и всё угощали да угощали его, желая выведать, зачем его хозяину Бассусу понадобился лев, ведь львы были редкие и дорогие животные. Приятель Ниссуса, сам старый гладиатор, был главой школы и вел большую торговлю всем, что требовалось для цирковой арены: львами, рабами, дикими животными и актерами. Но чем больше пил Ниссус, тем тверже хранил тайну хозяина. Видя, что он не очень податлив, его приятель принялся подсмеиваться над его падением, так что скрытые язвительные насмешки скоро привели Ниссуса в бешенство.
— Клянусь богами! — закричал он наконец. — Я не хуже вас. Пустите только меня на арену, привяжите мне одну руку, дайте железную перчатку атлетов, трезубец или что хотите, и я пошлю человека, который посмеет противостоять мне, в ад к его отцу!
Взрыв смеха, облетевший комнату, еще больше разозлил Ниссуса.
— Собаки! — заревел он. — Вы смеетесь над поверженным львом! Щенята вы и больше ничего! Я докажу вам, что старый лев еще умеет показать свои когти.
И с этими словами он вскочил на ноги, выхватил меч и набросился на близстоящего человека
Но гладиаторы и атлеты, привыкшие встречать опасность лицом к лицу и смеяться над ней, держались только за бока от смеха; некоторые из них окружили взбешенного Ниссуса и, вопреки его сопротивлению и угрозам, вытолкали на улицу.
— Протрезвишься, так приходи, старый лев, — крикнули они ему вслед и закрыли дверь.
Ниссус же остался посреди улицы, потеряв рассудок от пьяного бешенства, с обнаженным мечом в руке. Он с руганью и ревом ударял им по столбам, так что все встречавшиеся ему разбегались от него в разные стороны.
Видя это, он расхохотался безумным смехом и помчался за бегущими, разгоняя их по домам.
Так несся он из улицы в улицу, охваченный жаждой крови. Наконец на улице, где торговали фруктами, в его затуманенном мозгу мелькнула внезапная мысль.
— Уж не здесь ли торгует проклятая Кандида? — вскрикнул он, приостанавливаясь на мгновение. — Разве не она причина моего позора?
И он повернул свой бег назад, намереваясь отыскать ее и покончить со своими воображаемыми проблемами.
С сумасшедшим криком бросился он по улице, опрокидывая шалаши, стойки, разбрасывая фрукты, цветы. Покупатели и покупщики[13] с криком разбегались при его появлении… И вдруг внезапно он очутился лицом к лицу с девушкой, которую искал. Сумятица настала так внезапно, что она не успела подняться из-за своего небольшого лотка.
— Ага, я нашел тебя… Теперь ты не убежишь! — завопил пьяный безумец и, прыгнув через столик, растянулся у самых ее ног.
— Помогите, помогите, — закричала Кандида, призывая кого-нибудь на помощь, и защитник мгновенно очутился возле нее.
Арзасий покинул невесту всего несколько минут перед этим. Привлеченный шумом, он поспешил назад. Быстро загородив ее собой, он ожидал, когда Ниссус, несколько ошеломленный своим падением, встанет на ноги.
— Ниссус? Из Византии? — холодно и отчетливо прозвучали эти слова над ухом гладиатора. — Вольноотпущенник Бассуса?
— Ниссус, это опасное место. Разве тебе не сказал об этом твой господин? Здесь живут христиане.
Гладиатор растерянно схватился за голову.
— Кто ты?
— Друг Кандиды. Как можешь ты так выдавать своего господина на людях?
Слова привели Ниссуса в себя. Гладиатор опомнился и, внезапно протрезвев, заговорил извиняющимся тоном:
— Уверяю тебя, достойный… достойный друг Кандиды… — не могу никак вспомнить твоего имени… — Ни я, ни мой господин ничего не замышляем против прекрасной Кандиды. Скажи, кто эта госпожа? Пусть будет ко мне благосклонна. Убеди ее, что нет против нее никаких заговоров, планов, замыслов… — ничего подобного… и затем прощай.
С этими словами, произнесенными с пьяной торжественностью, его голос замер в неясном бормотании.
Ниссус повернул назад и направился к дому своего господина. Опасность миновала, и народ вновь стал собираться к покинутым лавкам.
Прошла неделя. Бассус не подавал признаков жизни. Получив льва, он поместил его на заднем дворе. План его был готов, но он не сообщал его даже Ниссусу, покаявшемуся в том, как близок был он к разоблачению замыслов господина. Лежа ночью с открытыми глазами, Бассус только и мечтал об отмщении…
Арзасий же неустанно думал об опасности, угрожавшей его милой невесте.
Но вот однажды ему приснился странный сон. Он увидел свой город весь в развалинах, а церковь, любимая христианами, падает, погребя под своими обломками священников и народ. Видение было до того реалистично, что Арзасий на другой же день отправился к епископу и попросил его предпринять меры предосторожности, на случай, если сбудется его сон. Но епископ лишь усмехнулся и отверг его опасения, объяснив сон жаром или переутомлением. Но вечером того же дня Арзасию вдалеке послышались наяву раскаты грома. Гневное ворчание природы живо и ярко вызвало в нем воспоминание тревожного сна. Кроме того, он был уверен, что беда грозит и Кандиде, и усердно молил Бога пронести все несчастья мимо нее.
Когда он отпирал башенные ворота, где он жил, к нему подошла поджидавшая его старая негритянка и протянула записку.
— Вот письмецо, — проговорила она и прошла дальше по дороге, предоставив молодому человеку разбирать послание в сумеречном свете.
«Тысяча приветствий от Бассуса прекрасному укротителю императорских львов! — Арзасий невольно вздрогнул при чтении этих слов. — Быть может, достойному Арзасию небезынтересно узнать, что час тому назад красавица Кандида получила записку, предлагавшую ей явиться к ее возлюбленному, и сообщавшую, что он опасно ранен убийцей, подкупленным Бассусом, и лежит в башне и нуждается в ее заботливом уходе. Можешь себе представить тревогу прелестного создания, и с какой поспешностью она, накинув плащ, поспешила к своему милому. Но когда она переступила порог своего дома, там поджидал ее иной возлюбленный, постарше, под портиком, хорошо известным тебе, и она пошла с ним, будучи принуждена к тому силой, и теперь находится в его доме. Какова трагедия! Ей приходится произвести выбор: быть игрушкой Бассуса или добычей его льва. Боги, это звучит, как повторение той же истории, но только теперь нет уже более юного укротителя зверей, чтобы вмешаться. Да ниспошлет тебе Морфей[14] приятных сновидений, мой милейший Арзасий».
У Арзасия вырвался хриплый крик, и он ринулся вниз по ступеням башни на улицу. Над его головой грохотал гром. Ужасная новость была так неожиданна, что у него не возникло никакого плана, как спасти положение, в котором оказалась его прекрасная невеста; он не мог даже собраться с мыслями… Все, что он понял из письма, это то, что она должна сделать выбор, и он не сомневался, каков он будет. Надо спешить к дому врага и сделать отчаянную попытку спасти ее.
Достигнув дома префекта, Арзасий принялся искать хоть какой-нибудь вход. Пройти через ворота, конечно, было немыслимым делом. Сбоку он увидел небольшое оконце, заделанное решеткой, футов[15] на семь от земли. Казалось, это был единственный путь. Арзасий подпрыгнул и уцепился за прутья решетки, их было четыре, он потряс их, но усилия его были напрасны, и, наконец, в отчаянии он соскочил на землю. Снова пошел он к переднему фасаду дома и, к его удивлению, увидел ворота открытыми. Что бы это могло значить?
Арзасий крадучись перешел дорогу, поднялся по ступеням на кончиках пальцев. В передней никого не было, из помещения рабов не слышалось ни звука. Повсюду тишина. Он не знал, что Бассус отпустил рабов, желая привести в исполнение свое подлое намерение касательно беззащитной девушки, не рискуя быть уличенным, и потому Арзасий не мог постичь, зачем открыты ворота. Он живо заключил, что рабы где-нибудь внутри смотрят на пытку Кандиды. Арзасий вошел. Зал был пуст, он прошел через него по коридору на задний двор. Приближаясь к двери, он услыхал все усиливающийся рев льва. Молодой человек толкнул дверь и вошел.
У фонтана, посреди двора, стояла привязанная Кандида. Большой нубийский лев, прикованный к столбу близко от нее, пытался схватить ее когтями вытянутой лапы. Здесь не было ни Бассуса, ни рабов — никакого иного звука, кроме отчаянного львиного рева и громовых раскатов. Арзасий вошел во двор, и едва он переступил порог, как дверь мгновенно захлопнулась за ним. Он попался!
Насмешливый хохот долетел до его слуха, а сверкнувшая молния помогла ему увидеть, что Кандида была без чувств. Арзасий бросился к ней и, не обращая внимания на льва, гневно зарычавшего при его появлении, развязал веревки, связывавшие ее, и осторожно опустил на мраморный пол. Между тем лев старательно обнюхивал его и пытался дотянуться до перса.
— Привет тебе, Арзасий! — прокричал голос, заставивший молодого человека обернуться.
Наверху на балконе стоял Бассус.
— Я очень сожалею, что проглядел, когда ты пришел. Зачем ты трудился над окном? Мои рабы, эти лентяи, получили праздничный отпуск от своего снисходительного господина. Но когда я увидел, что ты решился доставить мне удовольствие своим посещением, я мог лишь открыть ворота и предоставить им безмолвно пригласить тебя войти.
— Поганый пес! — произнес Арзасий и, повернувшись спиной к врагу, занялся бесчувственною девушкой.
— Нет, не думаю, чтоб тебе удалось привести ее в сознание, — насмешливо произнес Бассус. — Оставь ее умереть, не подозревая о грозящей ей судьбе. Посмотри, здесь совсем как в амфитеатре. Цепь, к которой привязан лев, кончается кольцом, надетым на столб, — ты заметил это? Как только я кончу говорить, я спущусь в подвал, — он находится на аршин под твоими ногами, — и отпущу столб обратно в подземелье, оставив льва на свободе. Дикое животное уже неделю как ничего не ело и не пило.
Арзасий поднялся на ноги. Он понял, что он действительно пропался…
У него не было с собой оружия!
Бассус исчез. Лев упорно натягивал цепи, стараясь приблизиться к Арзасию, а Кандида лежала у ног перса. Молодой человек едва успел в быстрой молитве поручить свою душу Богу, как в ту же минуту столб зашевелился и ушел в землю. Лев был на свободе.
Арзасий приготовился защищаться, лев прыгнул к нему, но вместо того, чтобы впиться зубами ему в руку, животное потерлось головой об него, изогнув спину, проявляя все знаки расположения.
Царь Небесный! Это был один из львов, привезенных им самим в Византию год тому назад! Едва только Арзасий узнал животное, он подвел его к фонтану напиться. Бассус был прав: животное томилось жаждой. Когда лев утолил жажду, Арзасий поднял на руки Кандиду и вновь увидал Бассуса на балконе.
— Бог помог мне! — воскликнул Арзасий. — Лев — мой! И знает меня. Смотри, он не трогает меня!
Бассус нагнулся, стараясь разглядеть позу льва.
— Ах! — закричал он, гневно ударив себя по лбу кулаком. — Но ты не уйдешь от меня, собака!
И повернувшись, он исчез в доме и через мгновение влетел в ту самую дверь, через которую вошел Арзасий.
— Ты беззащитен и безоружен! — закричал Бассус. — Так умри же, раб!
И бросился на него с поднятым мечом.
Держа Кандиду в левой руке, Арзасий в ту минуту, когда Бассус приблизился, внезапно отскочил в сторону и ударил его кулаком, но удар не произвел должного действия, префект только покачнулся… И в эту минуту лев бросился на Бассуса.
Арзасий кинулся к двери со своей беспомощной ношей. Там, на улице, он мог бы быть в сравнительной безопасности. Но когда он бежал через приемную, он слышал за собою в темноте шаги префекта. Бассус, охваченный злобой, убил льва, но лев тоже успел нанести ему рваную рану, которая опасно кровоточила. И теперь он, стиснув зубы и превозмогая смертельную боль, молча преследовал свою добычу. Он знал, что у Арзасия тяжелая ноша, и надеялся быстро достичь его. Арзасий же надеялся найти по ту сторону на улице людей, которые помогут ему. Но там не было ни души. Все улицы были пустынны.
Гром гремел с нарастающей силой, и казалось, что над городом нависла угрожающая ему стихийная опасность. А между обоими врагами завязалось состязание, кто из них быстрее достигнет своей цели. Они не бежали, а, скорее, волочились, как раненые звери: один — медленно удалялся, придерживая руками дорогую ношу, другой, еле справляясь со смертельной раной, изо всех сил старался настичь его…
Тем временем поднялся сильный ветер, который привел в движение черные грозовые тучи. Крупные, тяжелые капли дождя начали падать на землю.
В воздухе запахло серой…
Арзасий чувствовал, что силы покидают его, и, призвав на помощь все небесные силы, он ускорил шаг, переходя на бег, чтобы поскорее укрыться в своем доме.
Бассус тоже напрягал силы и, желая настичь врага, сделал последнее отчаянное усилие схватить его.
Они оба задыхались, а воздух казался им душнее, чем когда-либо. И вот, когда враг уже был на десять шагов позади него, Арзасий плечом толкнул башенную дверь своего дома, осторожно неся впереди себя несчастную Кандиду. У него не было сил и времени захлопнуть ее за собой, и он взбежал по ступенькам наверх, надеясь найти в своей комнате меч. Но там было так темно, что он даже ощупью не смог бы отыскать там оружия. Тогда он положил бесчувственное тело девушки на пол и прикрыл ее собой. Бассус же ворвался в комнату и, рассмотрев в сумраке, что его враг стоит безоружен, с криком ринулся на него, подняв свой окровавленный меч.
В это мгновение сверкнула ослепительная огненная стрела, осветившая комнату голубоватым светом, и блеснула на стальном мече бывшего префекта.
Затем последовал громовой удар, заглушивший посмертный крик Бассуса и поколебавший башню до основания… Арзасий пошатнулся. Удар за ударом, стрела за стрелой небесного огня, и к вящему ужасу ему показалось, что сама земля задрожала и заколебалась. Это рухнула церковь. Арзасий слышал лишь глухой гул и не знал, в чем дело. Поднялись крики женщин и детей, поблизости рушились дома. А башня, в которой укрылся укротитель императорских львов, лишь колыхалась и качалась, словно была центром бури…
Рассвет застал Арзасия, его невесту Кандиду и ее сестру Есфирь за двенадцать миль за разрушенным городом. Никогда, о, никогда, не вернутся они к развалинам того города. Они, скорее, выберут унылую жизнь где-нибудь в голой пустыне, чем постоянно будут вспоминать об этой ужасной ночи…
Далее тихо и мирно потекла жизнь молодой четы, Арзасия и Кандиды, среди христиан в катакомбах Едессы* (*город, юго-восток Турции, центр раннего христианства). Их обвенчал христианский священник, и жизнь их была поучительна для многих.
М. Аверкиев
Журнал «Отдых христианина», №4 1906 г., стр 24-45
Два брата
Михаил Горев
Рассказ из первых веков христианства
Глава I. Пред страхом смерти
С самого раннего утра стоял пасмурный, дождливый день, и сердитый ветер, злобно шипя, набрасывался на прохожих в своих яростных порывах. Деревья гнулись и жалобно скрипели. На хмуром небе нависали серые, мрачные тучи.
У ворот римского цирка толпился народ. Наступали праздники, и кесарь Максимиан готовил для жителей Рима необычайное зрелище, выписав из Азии диких зверей. На съедение им были обречены новые государственные преступники, последователи Распятого — все те, кто непоколебимо чтил истинного Бога, отказавшись поклониться идолам, и тем нарушили указ великого кесаря. Сотни зверей будут выпущены на круг Колизея, и пред ними предстанут кроткие, безоружные «еретики». Сотни стонов вырвутся из измученных, усталых сердец, и алая кровь грозными потоками оросит арену цирка.
«Когда будут игры? Какая их программа? Сколько слонов, львов и пантер будет выпущено на арену? Какие христиане преданы на смерть?» — вот вопросы, которые волнуют толпу, в тревожном ожидании стоящую пред воротами цирка и ведущую непрерывные толки о предстоящем празднестве.
В это время вдали на дороге показались два фургона, завешенные белым полотном. Их сопровождал отряд воинов на породистых лошадях. Разговоры в толпе моментально смолкли, и все взоры устремились на необычный кортеж. Фургоны между тем приближались, из одного из них уже доносилось грозное рычание диких зверей.
Тяжелые ворота заскрипели и распахнулись настежь.
— Сюда? — отрывисто спросил один из воинов.
— Да, — ответил привратник. — Ты откуда?
— С гор.
— А что везешь?
— Поваров и мясо.
— Ну, брат, ты ошибся. Нам ни поваров, ни мяса не нужно.
— Однако ты примешь и то, и другое.
— Посмотрим.
— Будь уверен… Вот я покажу тебе сейчас поваров.
И с этими словами солдат приподнял полотно. В громадной железной клетке, на подстилках лежали усталые, изморенные долгой дорогой звери. Здесь были и львы, и апеннинские медведи[16], и огромные волки с блестящими острыми клыками.
Привратнику сделалось жутко. Он в страхе зажмурил глаза и инстинктивно подался назад.
— Неужели?! — сорвалось с его трепещущих уст.
— Да, мясо для них приготовлено, — спокойно ответил воин и хотел было опустить полотно, но в это время один из медведей проснулся.
Вытянувшись во весь свой гигантский рост, испуская страшное рычание, он в бессильной злобе потрясал лапой один из прутьев клетки. Глаза его горели диким непримиримым огнем. Вид его был ужасен.
— Вот видишь, — сказал с усмешкой солдат. — Рекомендую тебе одного из самых лучших поваров. Не правда ли, такой силач может приготовить довольно порядочный бифштекс?
У привратника захолонуло сердце, ему до мучительной боли сделалось жаль ни в чем не повинных христиан. Ведь и он сам так любил Распятого, преклонялся пред Его дивным, никогда раньше не слыханном учением, трепетал при мысли о той грозной каре, которая ждет бесчеловечных мучителей.
Но он должен был рассмеяться.
— Ты не лишен остроумия, — заметил он воину, поспешно закрывавшему полотном клетку и направившемуся к другому фургону.
— Ну-с, теперь, если хочешь, посмотрим и мясо! Только я уверен, что оно произведет на тебя не такое сильное впечатление…
И воин приподнял плотно.
Странное зрелище представилось глазам изумленного привратника. В железной клетке на вязках соломы лежали полуобнаженные христиане. Их было шестеро: две довольно пожилых женщины, молодая, миловидная девушка, убеленный сединами старик и двое юношей.
Изможденные, мертвенно-бледные лица, впалые вдумчивые глаза, тихое заунывное пение — все это, как ножом, резануло по сердцу доброго привратника.
«Да они невинны…» — думал он.
«Они святые…» — говорила ему совесть.
«Святые!» — плакали и деревья под напором злобного ветра.
«Святые! Святые!» — грохотал где-то вдалеке встревоженный гром, и красно-багровая молния освещала своим ярким светом изможденные лица христиан и скорбного, тоскующего привратника, пристально вглядывающегося в лица невинных жертв людской страсти, бесчеловечной злобы мучителей. И когда красно-багровая молния еще раз осветила землю, привратник задрожал и в тайном страхе отпрянул назад…
— Марк!.. Аврелий!.. — чуть слышно прошептал он.
И видно было, что юноши-христиане тоже узнали привратника, вздрогнув от радости.
Только один из них тихо сказал:
— Маркелл!
«Спасти! Спасти их… — мелькнуло в голове привратника. — Но как? Где средство ко спасению?! Ведь это почти невозможно…»
Маркелл мучился в догадках, чем он может помочь этим детям. Ему до боли сделалось жаль невинных юношей, которые были ему когда-то друзьями, и он перебирал в уме средства к их освобождению от лютой казни.
Воины между тем отошли от фургона к привезенным зверям. Один из медведей, будучи чем-то раздражен, ухватился лапами за прутья клетки и, грозно рыча, мял их, как жалкие ветви. На его страшный рев откликнулись и дремавшие до сих пор другие звери. Воины грозными криками старались усмирить животных, но все усилия их были тщетны, и страшный рев десятка зверей оглашал стены мирного Колизея, смешиваясь со зловещими раскатами грома приближавшейся грозы.
— Отвезите их в цирк! — предложил один из воинов, и тотчас же солдаты поворотили лошадей, въехав под темные своды цирка.
Привратник оглянулся. Вблизи никого не было.
— Марк, Аврелий, помните! Маркелл думает… — проговорил он скороговоркой, торопливо приблизившись к фургону и также торопливо скрываясь за воротами цирка.
Он очень хотел помочь этим братьям. Но сможет ли? Да и какую судьбу выберет себе каждый из них…
Скоро христиан увезли. Толпа расходилась. На землю наползала мрачная ночь. Тени густели. Небо чернело и становилось все более грозным. Пугливая молния на мгновение прорезала ночную мглу, и страшные раскаты грома потрясали холодный воздух.
К цирку между тем направлялся новый кортеж.
В сопровождении десятка богато вооруженных воинов ехал Кальпурний, любимец кесаря, его правая рука. Это был человек крепкого телосложения, с коротко остриженными волосами. Его черные глаза, оттененные густыми ресницами, горели необыкновенной решимостью; вся вообще фигура была воплощением силы и власти.
— Привезли медведей с Апеннин? — грозно спросил он у привратника Маркелла, который поспешил почтительно вытянуться пред своим господином.
— Точно так.
— А узники?
— Они уже заключены в темницу.
— Проводи меня к ним!
Маркелл пошел вперед по направлению одной из мрачных камер сырого подземелья Колизея, а за ним следовал Кальпурний в сопровождении своей роскошной свиты.
Когда привратник отворил тяжелую дверь и ввел вельможу в низкую сырую темницу, тот брезгливо поморщился. На вязках соломы лежали исхудалые, изморенные долгой дорогой «преступники».
— Посвети, — проговорил Кальпурний Маркеллу.
Тот приподнял факел, и вельможа вперил свой пристальный взор в лежащего на соломе изможденного старца.
— Кто ты? — спросил он, измеряя его холодным взором.
Старец молчал.
— Ты хочешь сказать: «Раб богов»?! — допытывался Кальпурний.
— Нет, — поднимаясь, ответил тот. — Я признаю единого истинного Бога, о Нем же живем, движемся и есьмы, имя Которого я исповедую пред тобою и во имя Которого крещен водой и Духом.
Кальпурний сдвинул брови. Глаза его запылали неподдельным гневом.
— Презренный! Разве не слышал ты, что наши кесари приказали делать с дерзкими ослушниками царевой власти, разве не дрожишь при мысли о тех адских муках, которые тебя ожидают, если ты не отречешься от Распятого. Опомнись! Остановись! Не заходи слишком далеко в своем безумии.
Старец поднял свои исхудалые руки к небу, в глазах его светилась неземная радость, бесконечный покой.
И он тихим, дребезжащим голосом заговорил:
— Смерть за Страдальца Христа будет для меня величайшей наградой, бесконечной радостью. Об этом ведь я только молился, в том были все мои грезы, мечты. Так неужели ж?!.. О радость, счастье!..
Старик зарыдал. Кальпурний дал ему выплакаться.
Когда стихли рыдания, старец снова заговорил:
— Стар я. С каждым днем силы слабеют, безвозвратно покидают меня. Дни мои сочтены. Одной ногой уже в могиле стою. Скоро, скоро удалюсь я туда, откуда никто не приходит. Туда, где сладостная награда ждет благочестивых страдальцев за веру.
Глаза старца лихорадочно заблестели, все лицо его приняло отпечаток божественной красоты и запылало святым восторгом. Он схватил за руку сановного вельможу и, близко наклоняясь к его бесстрастному лицу, быстро зашептал:
— Кальпурний… Кальпурний… Ты ведь язычник, ты и понять не можешь, какое наслаждение терпеть и умирать за правду! Умирать за Того, Кто велел любить врагов, Кто говорил, что в Боге мы все равны, Кто обещал вечное счастье потерпевшим за Него. Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Аз успокою вы[17]… Успокою… Успокою… Кальпурний! Как дорог, как сладок быть должен этот покой.
И, гордо выпрямившись, он добавил:
— Нет! Делай, что хочешь… Я христианин, христианином и умру.
Кальпурний вскипел. Гнев душил его в своих мучительных захватах. И если бы было то в его власти, он здесь же, на месте убил бы старика.
— То, что ты сказал сейчас, — злобно шипя, прохрипел вельможа, — есть вместе с тем и ужасное признание. Если ты не возьмешь сию же минуту своих дерзких, кощунственных слов обратно, клянусь тебе: завтра львы и леопарды иступят свои когти на твоем жалком теле. Подумай, старик! Что готовишь ты себе своим проклятым безумием? Ведь, право, становится жаль тебя. Ну-ка, откажись скорее от своих заблуждений… Откажись!..
И последнее слово Кальпурния, стонущее и крикливое, затерялось в низких сводах подземной тюрьмы, оставшись безответным.
— Я христианин, — твердо повторил старец, прикладывая руку к своей трепетной груди. — Я христианин, и, как ученик Распятого, за Бога готов всегда умереть.
— Ну так и умрешь, — гневно вскричал Кальпурний и обратился к женщинам.
А те, изнуренные и сгорбленные, с седыми всклоченными волосами, с уже потухшим взором шепча молитвы, сидели беспомощно на грязной тюремной соломе.
— Женщины! Во имя кесаря дарую вам свободу, если вы отречетесь от Христа.
Женщины молчали. Ни один мускул не дрогнул на их исхудалых лицах. Жалкие, изнуренные, они устремили свои окаменелые взоры в одну точку, не замечая ничего вокруг.
— Женщины! Отрекитесь от Христа, и вы свободны, — еще раз прокричал Кальпурний.
Тогда одна из них подняла на вельможу свой тихий, беззлобный взор, и от него стало жутко Кальпурнию.
— Господин, — спокойно сказала она, — делай с нами, что хочешь, но не желай, чтобы мы отреклись от того, что дало нам узреть Свет Истины, показало новую жизнь, толкнуло на путь искания Правды Небесной. Нет, господин, мы не откажемся, не отречемся. Кто хоть один раз изведал всю радость нашей веры, тот никогда, даже перед самыми лютыми муками, не отречется от Христа. Что сказал бы ты, Кальпурний, если бы мы стали просить тебя отказаться от язычества и перестать служить своему монарху? Нет, скорее перестанет светить солнце и погаснут на небе звезды, чем мы отречемся от веры в Господа Распятого.
Кальпурний, сдвинув брови, гневно воскликнул:
— И на самом деле, для вас померкнет солнце, погаснут звезды, не далее как наступит завтрашний день. Ваши сердца, окаменевшие в заблуждениях, опутанные какой-то адской силой, завтра же станут пищей африканских пантер.
— Бог наша защита!.. В Его руках наша жизнь, наша судьба, — набожно поднимая свой взор, ответила другая женщина.
— Погибнешь! — прошептал Кальпурний и обратился к юношам.
— Вы кто такие? — спросил он их, окидывая своим мрачным взглядом.
Один из них быстро вскочил с земли и бесстрашно выступил перед Кальпурнием.
— Я Марк Фламиний, это — мой брат, а это сестра!..
Вельможа перевел глаза на молоденькую девушку, которой на вид можно было дать не больше 15 лет, и замер в восхищении.
Подобной красоты среди узников Колизея он еще не встречал. Ее миловидная русая головка грустно опустилась вниз. Светлые волосы обрамляли ее белоснежное личико и длинными локонами спускались на плечо и на хрупкую шею.
Темная камера сырой тюрьмы казалась светлей от присутствия в ней этой дивной девушки с ясным, спокойным взором.
На челе у вельможи расправились складки, и он, подойдя к узнице, погладил ее по голове.
— Как тебя зовут, девушка?
— Ирина…
— А твоего второго брата?
— Аврелий.
— Откуда вы родом? Где ваши родители?
Лицо девушки вдруг омрачилось, как бы от тяжкой душевной боли и, не ответив Кальпурнию ни слова, она стала громко рыдать.
Марк подошел к ней и, крепко обняв сестру, поцеловал ее в высокий лоб.
— Не спрашивай ее о родителях, — сердито сказал он вельможе.
— Почему?
— На это тебе гораздо лучше может ответить тот, кто привез нас сюда.
Кальпурний вскинул вопросительный взгляд на воина, которому было поручено охранять фургоны, и тот поспешно подал ему свиток пергамента, где было написано следующее:
«Я, начальник провинции Сицилийской, исполняя волю моего повелителя и великого нашего кесаря, продолжаю искоренять во вверенной мне провинции уже, к счастью моему, остатки преступной христианской ереси. Одних казню мечом, других, более дерзких и фанатичных, предаю мучениям, третьих, наконец, заключаю в темницы. Как это ни грустно, но я должен донести, что новая вера находит себе последователей и ярых поборников не только среди жалкого простонародья, но и людей высокопоставленных, обладающих несметным богатством и, кроме того, осыпанных вашими почестями, могущественнейший повелитель.
На сих днях я имел случай убедиться в этом на семействе Фламиниев.
Эти известные люди, вероятно, благодаря злодейским чарам, были вовлечены в преступную ересь и не только сделались ее последователями, но и стали открыто провозглашать новое учение в ущерб интересам религиозным и государственным. Я, конечно, тотчас же принял необходимые меры и заключил семью Фламиниев в тюрьму, потребовав от них немедленного отречения от веры в Распятого. И только когда они категорически отказались исполнить законное мое требование, я решил для назидания остальных предать их казни, а детей — Марка, Аврелия и Ирину — отправить в Рим, чтобы было чем развлечься нашему могущественному кесарю Максимиану[18] после трудов государственных, когда на сцену цирка будут брошены эти последние птенцы Фламиниева стада».
Кальпурний начал читать довольно громко, но под конец стих до шепота. Скоро он окончил чтение и, свернув пергамент, отдал его своему приближенному.
— Марк, Аврелий, Ирина! — сказал он. — Подойдите ко мне!.. — и голос его артистически дрогнул, а из глаз демонстративно выкатилась слезинка.
Молодые люди подошли.
— Вы еще молоды, — ласково начал он говорить им. — Поступить с вами так же, как со старшими, не позволяет мне моя совесть. Пойдемте!.. Я сейчас вам покажу, что ждет вас, если вы будете пребывать в ослеплении и в своем безумии не послушаете моих отеческих советов.
И с этими словами он сделал знак воинам. Те в ту же минуту окружили Фламиниев, направившись через узкий коридор на арену цирка.
Крик удивления вырвался из груди Марка.
Такого громадного здания ему еще не приходилось никогда видеть.
— Боже, какое величие! — воскликнул он, озираясь по сторонам. — Ведь, право, можно подумать, что это здание строили не люди, а существа, одаренные какой-то адской, сверхчеловеческой силой.
Кальпурний просиял.
Он был доволен тем первым впечатлением, которое произвел на узников гигантский Колизей.
— Нет, друг, — заговорил он более ласково и мягко, — это здание строили жалкие рабы, взятые в плен Веспасианом[19] в блестяще оконченную им иудейскую войну.
— Но такое грандиозное величие! Это колоссально! — продолжал восхищаться пораженный Марк.
— Да что про это и говорить! Ведь в цирке могут свободно поместиться до 390 тысяч[20] (данные автора) зрителей. На одну только арену можно выпустить 300 наездников, 500 пеших гладиаторов, да несколько десятков слонов.
Насколько Марк с удивлением и любопытством, настолько же Ирина с ужасом и тайным страхом разглядывала роскошные, богато убранные ложи. Несколько десятков дымных факелов заливали эти ложи ярким светом, и они горели тысячью разнообразных огней, отраженных в их золотых, драгоценных украшенях.
С арены узников ввели в одну из боковых лож, куда за ними вскоре последовал и Кальпурний.
— То что вы сейчас увидите здесь, на арене, запомните хорошенько. Это все приготовлено для тех, кто упорно остается глухим ко всем моим увещеваниям и, пренебрегши велением кесаря, в позорном ослеплении чтит Распятого, дерзко отрекшись от наших великих богов. Помните, на съедение голодным зверям будете брошены и вы. И твое нежное тельце, Ирина, обнаженное пред взорами многотысячной толпы, растерзают хищные пантеры!..
Ирина в страхе прильнула к груди Марка и громко зарыдала.
В это время в глубине темного входа раздалось зловещее рычание какого-то дикого зверя. Железные ворота раскрылись, и на арену выскочило несколько голодных африканских львов. Испуская грозное рычание, они полными непримиримой злобы глазами смотрели на стоящих в ложе людей, как бы готовясь сию же секунду броситься на них.
Подавляя крик ужаса, Ирина закрыла руками свое миловидное личико, Аврелий отступил в глубину ложи, а Марк стоял, словно окаменелый.
Но вот в его прекрасных глазах блеснул огонь необычайной решимости, он расправил свои могучие плечи и громко вскричал:
— Дайте меч… Меч!.. И я, клянусь, усмирю всех этих диких зверей.
Кальпурний нахмурил брови.
— Сумасшедший! — недовольным тоном воскликнул он. — Неужели ты не видишь, что погиб бы раньше, чем успел поднять свой сверкающий меч?
— А я тебе говорю, что чувствую сейчас в себе страшную силу… Я… я… и без меча готов броситься на этих голодных животных.
— Безумец, — прошептал еще более недовольный вельможа и дал знак загнать в клетку выпущенных зверей.
Но вот на арене появились пантеры.
С диким ревом, сверкая налитыми кровью глазами, в которых мелькал по временам зеленый огонь, они с ловкостью кошек кружились по арене, разбрасывали острыми когтями красный песок и, блестя своими белыми клыками, хищным взором смотрели на ложу бедных братьев и сестры Фламиниев, поминутно разевая свою огромную пасть.
Аврелий еще дальше отошел вглубь ложи. Его лицо носило на себе отпечаток неподдельного ужаса и было мертвенно-бледным. Только один Марк по-прежнему оставался спокойным и грозно смотрел на зверей.
Вскоре зрелище изменилось. Вся арена была вдруг залита выпущенной из скрытых бассейнов водой, и в ней плавало множество крокодилов и гиппопотамов. Эти отвратительные животные своим видом больше всего напугали Ирину. Бедная! Она прильнула к пораженному Марку и, трепеща от страха, в горьком отчаянии заламывала пред ним свои белые руки.
— Возьми… возьми меня отсюда! Боже мой! Я боюсь.
На лице Кальпурния заиграла довольная улыбка. Он весь просиял от неожиданной радости и, видя отчаяние девушки, не сомневался более в успешном окончании возложенного на него кесарем поручения, не сомневался в том, что эти птенцы Фламиниев отрекутся от веры в Распятого и славу, роскошь, богатство предпочтут сырому подземелью и ужасам позорной смерти на арене цирка.
— Ты можешь быть свободна… Это зависит от тебя самой. Скажи только одно слово, и почести, богатство, спокойная жизнь будут вечно уделом твоим. Не противься. Скажи! Неужели ж хочешь обречь ты себя на съедение этим мерзким зверям?! Образумься, пока не поздно, пока есть возможность чистосердечным раскаянием загладить ошибки своего постыдного суеверия.
— Какое же это слово? — спросил Марк, поддерживая горько рыдавшую у него на груди Ирину.
— «Я не христианка», — торжественно изрек вельможа. — Отрекитесь от веры в Распятого, и вы все будете свободны. Кесарь помилует вас. Мало того, он будет заботиться о вашем семействе как самый нежный, любящий отец.
Ирина вздрогнула.
Гордо выпрямившись, она подошла к Кальпурнию и сквозь душившие ее слезы громко вскрикнула:
— Нет… нет… Никогда!.. Я христианка!.. Я люблю Распятого Иисуса!
Ее голосок, молодой и звонкий, как серебристый звук арфы, огласил мрачный Колизей и затерялся где-то в высоких сводах. Глаза Ирины блестели неземным огнем, лицо было неприступным, грудь мерно вздымалась от мучительных порывов душившего ее негодования.
И Марк залюбовался ею. Такой ему еще никогда не приходилось видеть Ирину.
— Дорогая сестра! — вскричал он, бросаясь к ней. — Сестра моя Ирина! Я горжусь тобою…
Только один Аврелий во все время не проронил ни слова. Взволнованный и бледный, с дико блуждающими глазами, с облаком грусти на челе, он в беспокойстве посматривал то на возбужденных брата и сестру, то на вскипевшего гневом Кальпурния. И Бог знает, какие страшные мысли роились в его молодой голове.
— Богами Древнего Рима, — кричал между тем вельможа, — Юпитером Капитолийским[21], богинями Юноной[22] и Минервой[23], всем тем, что есть страшного и святого на свете, клянусь вам страшной клятвой в том, что если вы в безумном своем упорстве не отречетесь от веры в Распятого, то прежде чем солнце вторично озолотит своими яркими лучами башни Колизея, вы погибнете ужасной смертью в присутствии тысяч зрителей. Здесь, на этой самой арене, которую вы видите перед собой, этим самым грозно рычащим зверям вы будете брошены на съедение. Злые леопарды будут точить об ваши жалкие тела свои острые когти; львы и пантеры будут на глазах у всех рвать ваше мясо, и хладный народ встретит вашу позорную смерть тысячью рукоплесканий и восторженными криками. Заклиная вас всеми римскими богами, всем, самым дорогим на свете, отрекитесь от Распятого, скажите последнее слово, не заставляйте меня прибегать к жестокости и смерть вашу считать искупительницей за ваше упорство и безумие…
Но Фламинии не могли ничего ответить. Марк и Ирина, плотно прижавшись друг к другу, стояли, как два каменных изваяния. На их лицах не было теперь ни прежней гордости, ни бесстрашия. Неприступные и равнодушные к предстоящим своим страданиям, они светились каким-то удивительным упорством и непонятной уверенностью в себе, словно надеялись на промысел Всемогущего Неба, ждали в помощь себе Ангела мира, который освободил бы молодые жизни от страшной гибели и ранней мучительной смерти.
Зато Аврелий был всецело возбужден. Яркая краска заливала его молодое лицо, руки дрожали, сердце неудержимо билось в трепетной груди. Видно было, что в нем происходит страшная внутренняя борьба, на что-то хочет он решиться, но не хватает сил, что-то пробует сказать, но слова замирают на дрожащих устах.
Эта внутренняя борьба не укрылась от взгляда зоркого Кальпурния. Лицо его сделалось более мягким, довольная улыбка заиграла на устах, и он, подойдя к Аврелию, ласково обнял его.
— Юноша! — заговорил он. — Я вижу на твоем лице проблеск благоразумия, я замечаю, что ты начинаешь понимать всю нелепость служения Распятому, все то безумие, охваченные которым хотят завтра предстать пред многотысячной толпой твои брат и сестра. Юноша! Обратись к ним, спроси, почему Марк и Ирина на заре своей жизни, в расцвете своих юных сил хотят погибнуть мучительной смертью, почему они пренебрегают моими советами и теми милостями кесаря, которыми тот их несомненно осыплет.
И Кальпурний, близко наклонясь к смущенному Аврелию, не спуская с него глаз, торопливо зашептал:
— Подумай… Завтра эта сцена обагрится их молодой кровью, завтра многотысячная толпа будет в восторге любоваться, как львы и леопарды с ревом бросятся на осужденных… Завтра… Завтра… Подумай! Будь благодетелем своего брата и сестры. Юноша, спаси их. Это твой прямой долг, прямая обязанность.
И Аврелий не устоял…
Все его лицо, так недавно бывшее мертвенно-бледным, теперь покрылось густой краской. Он дрожал, как в лихорадке. Жажда жизни и страх смерти боролись в нем со стыдом и голосом его сердца.
— Господин, — пролепетал он наконец, весь дрожа от волнения.
Кальпурний еще ближе наклонился к нему.
— Говори, говори все, — ласково сказал он, и в голосе его звучала плохо скрытая радость.
— Господин! Сжалься над моим братом и сестрой, а я… я…
Но Аврелий не мог закончить. Слова замерли на его устах, а вместо них раздались глухие рыдания.
— Ну ты?.. Ты… Что?
— Я… — подавляя рыдания, глухо простонал тот, — я за их жизнь сделаю все, чего потребовал бы ты от меня.
— Отречешься от Христа?
— Да… — едва слышно проронил Аврелий и, обессиленный, упал как мертвый.
— Обморок, — недовольно проворчал Кальпурий и, подозвав стражу, громко сказал ей:
— Увезите юношу в мой дворец. Чтоб ухаживали за ним, как за моим родным братом. Пусть не будет у него ни в чем недостатка; богатство и роскошь должны стеречь его столь дорогой покой.
И воины уже подошли к Аврелию, чтобы поднять бесчувственное тело, как вдруг внезапно выступил вперед Марк и, загораживая грудью дорогу, грозно вскричал:
— Нет, никогда я не дам тронуть его. Он христианин! Отречение у него ты вымучил, безжалостный Кальпурний. И горе тебе! Он христанин! Слышите! Хри-стиа-нин!
— Христианин, — кричала и Ирина, заслоняя собой брата и проливая целые потоки слез.
— Нет, он уже не христианин, — загремел Кальпурний. — Он ваш спаситель. Если бы не он, завтра львы и пантеры растерзали бы ваши жалкие тела и наказали за безумие. А Аврелий? Аврелий уже отрекся от Христа…
— Позор ему! — горько воскликнул пораженный случившимся Марк.
— Боже, сжалься над ним, — плакала Ирина.
А воины, холодные и бесстрастные, чуждые людскому горю, людским беспросветным рыданиям, выносили из ложи бесчувственного Аврелия, уже не христианина.
Даже спокойный Марк и тот зашатался, не имея сил подавить душившие его рыдания.
— Ирина! — воскликнул он. — Дорогая сестра Ирина! Так Аврелий отрекся от Христа?! О Боже! Зачем дожили мы до той ужасной минуты, зачем раньше львы и леопарды не растерзали нас и не дали нам блаженного покоя в смерти за Христа? Зачем?
— Замолчи! — крикнул на Марка Кальпурний. — Твои сожаления только ухудшают вашу участь. За упорство ты будешь сидеть в темнице рядом с пантерами и львами, а Аврелий пойдет по дороге к власти и почестям. Уже сегодня он вам делает благодеяние тем, что спасает вашу жизнь.
— Позор для него за такое спасение! — воскликнул Марк.
— А для тебя жизнь и горькое прозябание, — ответил Кальпурний и, хлопнув дверью, вышел из ложи.
Через несколько мгновений Марк и Ирина были заключены в одну из мрачных камер сырого подземелья Колизея.
Глава II. В золотой клетке
В роскошных палатах Кальпурния, где стены блестели сверкающим золотом и высокие мраморные колонны поддерживали расписанный фресками потолок, там, в глубокой тоске и одиночестве томился бедный Аврелий — отступник от Христа, отрекшийся от райского блаженства. Сквозь проделанное в потолке широкое отверстие виднелось голубое небо, и целый сноп лучей врывался в комнату, наполняя ее своим веселым светом. Гигантские картины украшали внутренность комнаты, и прекрасные статуи богов горделиво высились на залитых светом блестящих треножниках.
Аврелий поднялся со своего мягкого цветного ложа, протер глаза и стал в изумлении разглядывать незнакомую обстановку. Никогда не видевший ничего подобного, он приходил в неописуемый восторг и радовался, как малое дитя. Мягкое цветное ложе казалось ему верхом роскоши после невыносимо жесткой подстилки в тюрьме, а яркие солнечные лучи особенно милыми после мрачного подземелья Колизея.
— Как я попал сюда?! — задавался вопросом Аврелий, и в его голове с быстротою молнии пронеслись тяжелые воспоминания вчерашнего дня. Скорбные и тоскливые, они ножом резанули сердце юноши, и от них вдруг сделалось невыразимо горько на душе.
Схватив себя за голову, Аврелий поднялся с мягкого ложа. Кровь прилила к его горящему, как в огне, лицу, в висках стучало, всего его била нервная дрожь.
Но, чу… Что это? Откуда-то издалека льется дивная гармония звуков. Звуки тают, плывут и, окутанные нежной скорбью, замирают за колоннами роскошных покоев. Это были чудные звуки арфы. В них слышалось столько томления и неги, так тихо и грустно звучали они, что Аврелий почти машинально опустил было поднятые руки и, замерев на месте, слушал их, как очарованный. Нежные звуки музыки то высились, то опять стихали, становясь бесконечно грустными, и вдруг наконец замолкли.
Очарование кончилось, и, пробудясь, Аврелий не мог устоять против поднявшегося в его душе непреоборимого любопытства. Ему захотелось непременно узнать, откуда раздавались звуки, кто так дивно играл на божественной арфе.
Напрасно он обходил комнату, тщетно стараясь найти кого-либо за высокими креслами, напрасно звал дивного певца и музыканта. Никто не откликался. И комната, пустая, молчаливая, как будто насмешливо дразнила Аврелия своей величественной красой.
А в душе его одно за другим пробуждаются страшные воспоминания; все недавно пережитые события стоят перед ним как живые. И вспоминается ему ужасная минута, когда из страха смерти, из страха перед дикими зверями он, Фламиний, отрекся от Распятого Христа. Ему видится полный презрения взгляд храброго Марка, слышатся тихие слезы Ирины и грозный голос Кальпурния.
— Стыд… Позор… — шепчут дрожащие уста Аврелия, и он в испуге озирается кругом.
* * *
Та же комната, роскошная и молчаливая, те же стены, украшенные холодными картинами, та же гробовая тишь. Аврелий срывается со своего места, он хочет бежать куда глядят глаза, лишь бы вырваться из столь постылой клетки, он хочет возвратить свою дорогую свободу. Роскошная комната кажется ему сырым подземельем. Ему душно в ней, он задыхается в бессильном гневе на выудивших у него ужасное признание — на тех, кто оторвал его от брата и сестры. Он мучается страшной мукой богоотступника и предателя Страдальца Христа.
— Нет, никогда… Вон отсюда… Бежать… бежать… Найти сестру и брата. Каких бы ни стоило усилий, но бежать надо… Я не могу здесь оставаться… Мне жутко, — шепчет Аврелий, трясясь от нервного волнения, и, стиснув кулаки, бросается вперед.
А где-то вдалеке опять раздается дивный аккорд. Чарующие звуки арфы, нежные и бесконечно тоскливые, опять просятся в душу юноши.
Мелодия, скорбная и неземная, опять наполняет дворец своими неслышными вздохами… И замирает Аврелий. Бесконечно печальный, он прислушивается к этим нежным звукам, что дивной струей разливаются по комнате, и чувствует, как далеко куда-то отходят гнев и тоска, как неземной покой и безмятежное счастье овладевают его тревожной душой.
В горящих гневом глазах зажегся добрый огонь, на устах его заиграла радостная улыбка тихого счастья. Аврелий, сам того не замечая, садится на ложе и, оперевшись головой об изголовье, глубоко задумывается. Музыка уносит его в волшебный мир грез и фантазий, он видит себя в кругу родной семьи, слышит голос любимой матери, смотрит в ее дорогое лицо, чувствует теплоту и нежность материнской ласки, и так хорошо и сладко ему…
Еще мгновение, и лицо Аврелия искажается от ужаса. Он в страхе отшатывается назад. Пред ним — картина мученической смерти родителей, разрушения отчего дома, в котором он родился и вырос и с которым сжился всею своей детской душою.
А музыка не умолкает. Громче и громче раздаются дивные звуки; они манят, зовут к себе очарованного юношу, сулят ему радость, покой. И Аврелий ищет дивного певца, чтобы поклониться божественному вдохновению. Непреоборимое любопытство гложет его сердце в своих тревожных захватах.
Взор юноши падает на широкую портьеру, закрывающую вход в следующую комнату.
— А, вот ты где, божественный певец… Наконец-то! — радостно издает он восторженный крик и стремглав бросается к портьере.
Дрожащей рукой он отдергивает ее расшитый золотом край и в изумлении отступает назад.
То, что он увидел, было, скорее всего, сном, чем действительностью.
Окруженная десятком невольниц, на мягком диване сидела прекрасная римлянка. Задумчивые взоры красавицы были устремлены в бесконечную даль, а на ее хорошеньком личике играл легкий, здоровый румянец.
В руках она держала золотую арфу, струны которой так приятно звенели, так манили к себе, чаровали юношу. Ближе и ближе подходил он к римлянке, но, странное дело, ее божественная краса не останавливала взоров Аврелия.
Горящие лихорадочным блеском глаза юноши были устремлены на жалкую рабыню, одну из тех невольниц, что живым кольцом сидели у ног своей госпожи и повелительницы. Смущенный и растерянный, он смотрел и не верил своим глазам. Так это было все странно и необычно… Дрожащие уста его тихо шептали:
— Ирина здесь… Ирина… Может ли быть это?! Нет, я не верю…
Но не поверить было трудно. Миловидное личико, правильные черты лица, светлые волосы с длинными, спускающимися на плечи локонами, — все это было только у Ирины, у его дорогой сестры. Надо было верить, и Аврелий поверил. С восторженным криком, весь дрожа от радости, он бросился к невольнице, чтобы обнять дорогую сестру, выплакать на ее груди все горе, всю тоску и муку исстрадавшейся души, всю горечь бедного, усталого сердца.
«Ирина!» — хотел было крикнуть он, но голос осекся, крик замер на полуслове, и лицо исказилось ужасом.
Аврелий почувствовал на своих плечах две сильные, мускулистые руки. Кто-то, причиняя ему боль, схватил его, как малого ребенка и, держа под мышки, понес к тому самому ложу, на котором юноша провел тревожную ночь. Теперь только, когда Аврелия силком успадили на его ложе, он мог разглядеть своего обидчика: перед ним стоял огромный негр с черной курчавой головой, с покорно опущенными руками.
— Кто ты?! — весь дрожа от гнева, спросил Аврелий.
Негр молчал и спокойно смотрел в противоположный конец комнаты, разглядывая, по-видимому, сильно заинтересовавшую его какую-то картину. Аврелия это странное молчание негра взбесило еще больше.
— Я спрашиваю тебя, кто ты?! Наконец, должен же ты мне ответить, по какому праву запрещаешь переступать порог той комнаты, чтобы обнять дорогую сестру?!
И Аврелий покраснел от гнева и досады, когда пришлось ему вторично спрашивать ненавистного негра.
В страшном волнении он даже хотел подняться с ложа. Негр и на этот раз не проронил ни слова. Только впился в его плечи своими мощными руками и, когда юноша привстал с постели, посадил на место.
Нельзя описать того негодования, которое вдруг охватило бедного юношу. Все лицо его пылало от гнева, и по временам на нем выступали красно-багровые пятна. Взбешенный Аврелий, не помня себя от обиды и отчаяния, оттолкнув негра, стремглав бросился туда, откуда неслись звуки чарующей музыки, где сидела в ногах прекрасной римлянки горячо им любимая, дорогая сестра.
И когда юноша был уже почти у своей заветной цели, когда лишь один порог отделял его от той комнаты, где раздавалась дивная музыка, черный негр опять схватил его и, подняв кверху, с силой бросил на мягкое ложе.
У Аврелия закружилась голова, сотни искр замелькали в его изумленных глазах, а негр, все такой же величественный и равнодушно-спокойный, покорно стоял подле него.
Наконец-то Аврелий понял, а чем дело: этот негр был приставлен к нему, чтобы не впускать его в комнату, где сидела Ирина и дивно игравшая на арфе красавица-римлянка. И лишь только понял это Фламиний, он уже не делал ни малейшей попытки к бесполезному сопротивлению; наоборот, он как-то странно притих и только в его пристальных взорах, которые он устремлял на ненавистного негра, светился злобный, непримиримый огонь. И когда смотрел Аврелий на черное мясистое лицо невольника, лютая ненависть глодала его сердце, злые помыслы захватывали его и становились еще более мучительными от сознания того, что негр нем, что он не может проронить ни слова и понять всего того возмущения, которым была полна душа юного Аврелия…
В это время портьера, из-за которой лились чудные звуки музыки, зашевелилась, и в дверях показались два мужа. Один из них был одет в великолепную пурпуровую тогу. По его гордой осанке, красивым глазам, которые горели властным огнем, можно было узнать в нем повелителя Максимиана, другой был Кальпурний, уже известный нам любимец кесаря.
Максимиан гордо входил в комнату с высоко поднятой головой, с пристально устремленными вперед глазами. На почтительном расстоянии от него следовал Кальпурний.
Вдруг Максимиан остановился и вскинул на Аврелия свой острый, пылающий неподдельным гневом взгляд. И лишь только черный негр заметил сердитый взгляд кесаря, как неслышно отошел вглубь комнаты и там остановился, как неподвижное каменное изваяние.
— Так значит, Кальпурний, завтра в цирке начнутся игры? — проговорил Максимиан, продолжая, должно быть, еще раньше начатый разговор.
— Да, кесарь, — с деланной скромностью ответил Кальпурний и низко опустил свою голову.
— А хватит ли христиан, чтобы вдоволь насытить голодных зверей и жадный до кровавых зрелищ народ?!
— Да. Ведь вчера еще привезли их целый фургон…
— А сегодня?
— И сегодня ожидаем. Из сицилийской провинции обещали прислать десятка два несчастных последователей Распятого.
— Хорошо, — в восторге потирая руки, проговорил Максимиан.
— А это, однако, кто? — спросил он, вперяя в Аврелия свой пристальный, сердитый взор.
— А это вот и есть тот самый юноша, о котором я говорил тебе сегодня за столом. Это Аврелий Фламиний, господин.
— Фламиний?! — удивленно протянул кесарь и ближе подошел к Аврелию, страшно пораженному всем происходившим в комнате.
Аврелий инстинктивно подался назад.
— Юноша! Знаешь ли ты, как меня зовут?
— Не знаю, господин!
— Ну, а как ты думаешь?
— Я вижу, что ты, должно быть, знатное лицо в государстве, что занимаешь какую-то высокую должность. Но как тебя назвать, я, право, не знаю.
Ответ Аврелия, по-видимому, страшно понравился Максимиану. Он ухмыльнулся и, ласково потрепав юношу по плечу, проговорил:
— Хорошо. Будь уверен, что Марк-Аврелий-Валерий-Максимиан-Геркулий будет всегда помнить о тебе.
Если бы внезапно раздался страшный удар грома, если бы великолепное здание роскошных покоев Кальпурния сотряслось в своих основаниях и внезапно обрушилось, Аврелий не был бы так поражен, как услышав слова этого напыщенного горделивого человека, одетого в пурпуровую тогу. Растерянный и сконфуженный, весь трясясь от какого-то необъяснимого страха, он дрожащими устами тихо шептал:
— Максимиан… Сам Максимиан… Кесарь…
Страх парализовал все его существо. Бледный и трясущийся, он только и мог, что моментально отпрянуть назад и тут же, на месте, упасть на колени.
Кесарю это понравилось. Он любил всеобщее поклонение и всегда, когда появлялся среди толпы, нарочно напускал на себя грозный, неприступный вид, чтобы только привести в трепет боязливых подданных.
Заметив растерянность юноши, он подошел к нему и, положив на плечо свою руку, начал тихо, но ласково говорить ему:
— Слушай, Фламиний! Я умею быть не только грозным, неприступным властелином, но и кротким, любящим отцом. В моих руках не только громы гнева, но и лавры ласки и милости. Не далее как сегодня мой любимый слуга Кальпурний поразил меня, по правде сказать, довольно неприятной новостью. Ну скажи на милость, Аврелий! Ведь ты происходишь из знатного рода, сын известных во всей Римской Империи родителей, и ты… ты… поддаешься чарам христианства, отрекаешься вдруг от наших богов и ни с того ни с сего исповедуешь веру Назарянина, Того Человека, Которого Понтий Пилат приказал в Иерусалиме распять на Кресте, и Которого христиане в позорном ослеплении признают своим Богом. Как мог ты быть обманут? Как не отличил истинного пути от ложного? Как мог променять издревле чтимых нашими предками богов на какого-то Распятого Назарянина? Но слава Юпитеру Капитолийскому! Он спас тебя и спас в ту самую минуту, когда ты стоял на краю страшной пропасти, когда тело твое готовы были растерзать хищные пантеры. Ты отрекся от презренной веры последователей Назарянина и, оставшись нашим подданным, снова возвращаешься под своды нашего священного храма.
Аврелий вздрогнул. Тихие образы окровавленных родителей, закованного брата, невольницы-сестры выплыли откуда-то издалека и как живые встали пред взорами смутившегося юноши. Ему стало больно. Он презирал себя. Легкое облачко грусти набежало на его чело, но его не заметил кесарь, который продолжал:
— Я могу достойно наградить тех, которые отреклись от всех заблуждений новый веры, я осыплю их золотом, почестями, одарю их драгоценными камнями, сделаю самыми счастливейшими в свете людьми. Аврелий!.. К тебе мое слово, к тебе первая милость, первая благодарность за отречение от тьмы невежества и заблуждений. Тебе говорю: ты вскоре поднимешься по лестнице государственных должностей, ты вскоре займешь знатное положение в Риме. Это предсказывает тебе кесарь… Верь ему! Если ты хочешь просить его о чем-то, проси сейчас. Кесарь обещает исполнить все, о чем бы ни просил ты его сию минуту.
Аврелий вздрогнул.
— Господин! — произнес он слабым, дрожащим голосом и вдруг весь покраснел.
— Говори! Сегодня я могу выслушать тебя. Говори же. Пользуйся моей добротой.
Но Аврелий молчал.
Видно было, что он что-то хочет сказать, но не решается. Лицо его было бледно, губы дрожали, из глаз готовы были посыпаться крупные слезы, и грудь мерно вздымалась от душивших рыданий.
— Господин! — решился, наконец, проговорить Аврелий. — У меня есть сестра и брат, которые сегодня же должны быть отданы на растерзание голодным зверям. Пожалей их, господин! Освободи!
Кесарь нахмурил брови; в глазах его загорелся недобрый огонь.
— Сестра твоя свободна, — мрачно проговорил он, — но о брате не вспоминай.
И голос его замер в высоких сводах комнаты, как унылый звон похоронного колокола.
Но Аврелий обрадовался.
Он кинулся к Максимиану, схватил его за руку и, наклонясь к самому лицу кесаря, порывисто зашептал:
— Сестра моя свободна?! Свободна, говоришь ты?! Так это не сон?! Значит, я видел уже ее. Значит, глаза мои не обманули меня и я не сошел с ума?! Это она! Дорогая, так горячо любимая мною Ирина… Ах, я хочу ее видеть. Хочу! Поймите! Хочу, хочу…
И, возбужденный, весь объятый непреодолимым желанием радостной встречи с сестрой, он готов был броситься в соседнюю комнату, но его остановил грозный вид кесаря.
— Стой! — сердито вскричал и Кальпурний. — Должен же ты быть благодарен кесарю за все те милости, которыми он совершенно незаслуженно осыпает тебя. Подумай: ты увидишь сестру, припадешь на ее грудь, выплачешь всю скорбь наболевшей души, исстрадавшегося сердца и, наконец, поселишься вместе с ней в одном из роскошнейших дворцов Рима. Но все это ты получишь на одном условии.
Аврелий вздрогнул.
— На каком?! — испуганно спросил он.
Кальпурний окинул юношу спокойным взглядом и холодно проговорил:
— Ты должен нам указать место подземных собраний христиан. Нам известно, что эти собрания довольно часто происходят вблизи Рима.
Аврелий побледнел. Сердце сжалось от мучительной боли, и где-то в груди заныло. Он не решался ничего ответить. Потупив взоры, юноша покорно стоял пред своими мучителями, которые сгорали от нетерпения.
— Колеблешься? — проговорил Кальпурний.
И кесарь добавил:
— Помни, что Максимиан умеет и карать. Одно мое мановение, и погибнешь ты, сестра и твой брат.
— Никогда, — весь сотрясаясь от внутренней душевной боли, вскричал Аврелий. — На смерть Ирины и Марка я ни за что не соглашусь. Пусть живут. А я… я сделаю все, что вы потребуете от меня.
Лицо Кальпурния просияло от радости.
— Я не ошибся в тебе, Аврелий, — ласково проговорил он, подойдя к юноше и положив ему на плечо свою руку. — Теперь ты можешь повидаться с сестрой.
— А Марк?! Марк тоже будет свободен?!
— Если он поступит так же благоразумно, как поступил ты в данную минуту.
Краска стыда появилась на лице Аврелия.
— Марк так не сделает, — грустно проронил он.
— Ну, в таком случае он будет томиться под мрачными сводами сырой, холодной тюрьмы. Но он не умрет, его не растерзают голодные львы и гиены. Благодаря тебе, я дарую ему жизнь.
— Спасибо, господин, — воскликнул Аврелий и, протянув вперед свои бледные руки, кинулся к широкой портьере.
— Ирина! — кричал он. — Ирина! Иди ко мне. Я спас тебя, я дал тебе свободу, дал тебе счастье.
Но голос его заглушил чей-то злорадный, сотрясающий воздух смех, который вдруг раздался в конце комнаты. Кесарь и Кальпурний переглянулись и посмотрели в ту сторону, откуда послышался смех, но там, кроме негра, никого не было. Да и тот стоял, как чудовищная бронзовая статуя, неподвижно устремив куда-то вдаль свои холодные, безжизненные глаза.
— Это на дворе, вероятно, — проговорил Кальпурний, провожая кесаря.
— Быть может. Но мне показалось, что это в комнате, — ответил Максимиан, выходя из дворца своего любимца Кальпурния.
А Аврелий, радостный и возбужденный, уже скрылся за портьерой. И оттуда несся его восторженный крик:
— Ирина! Дорогая, милая Ирина! Сестра моя! Ирина!..
Но его призыв остался без ответа. На него не откликнулся серебристый голос Ирины. Почему? Бог знает. Может быть, неожиданная радость лишила ее голоса.
Но только странная вещь! — исполин-негр, подняв свои руки вверх, неудержимо смеялся, сотрясаясь от злорадного смеха. Это и был тот самый смех, который так неприятно поразил слух кесарев…
Глава III. Последняя угроза
В подземельях Колизея, в одной из тесных тюрем, куда не проникали солнечные лучи и где царил вечный мрак, вечная темнота, на каменном сыром полу лежал несчастный, до истощения исхудавший Марк, который, невзирая на угрозы Кальпурния, оставался глухим ко всем его уговорам и ложным обещаниям.
Он помнил мученическую кончину своих безмерно любимых родителей, которые были преданы на смерть по указу кесаря Максимиана; их слова, обращенные к нему за несколько минут до смерти, как единственное наследие, как единая просьба, неизгладимыми буквами запечатлелись в его памяти.
— Марк! — говорил ему отец в ту саму минуту, когда уже палач стоял с обнаженным мечом. — Марк! Ты самый старший из детей, на тебе лежит священная обязанность позаботиться о том, чтобы имя наше осталось незапятнанным, чтобы никто из нашего рода не отступил от веры, за которую мы принимаем мучения и горькую смерть. Смотри. Ни ты, ни Аврелий, ни Ирина не поступайте иначе, как поступаем сейчас мы, ваши родители, если Господь сподобит испытать вас в твердости вашей прославленной веры.
И это помнил Марк. Помнил ужасную минуту прощания с любимым отцом, с ненаглядной матерью, помнил, что обещал им тогда. И теперь, когда наступил день испытания, Марк ни за что не поступится тем, что завещали ему родители, что обещал он им исполнить в последние минуты их жизни.
— Нет! Нет! Лучше смерть, чем отречение от веры Христовой, — шептал он дрожащими устами и нервно проводил рукой по разгоряченной голове.
И вдруг послышались чьи-то шаги. Марк вздрогнул. Ему показалось, что кто-то приближается к его двери. Но странная вещь, все его существо охватила безмерная радость — так опостылел ему вечный мрак, так захотелось увидеть хоть один луч, хоть одну искорку света.
Он оглянулся и стал прислушиваться.
Кругом могильная тишина, кругом ни одного человеческого звука, ни одного движения. Только по временам раздавался ужасный рев заключенных в железные клетки медведей, слышался вой волков и леденящее душу рычание голодного льва.
Звери были уже несколько дней не кормлены, чтобы с большей яростью могли броситься в дни цирковых зрелищ на безоружных христиан и тем большее удовольствие доставить жадной до всего кровавого римской развращенной знати.
Звери были заключены по соседству с Марком, и это соседство было ужасно. Когда слипались усталые веки юноши и тихий безмятежный сон слетал к его измученном телу, чтобы одарить его тихим покоем и в светлых грезах заставить позабыть о горе и о страшных мучениях, вдруг неожиданное рычание льва или вой волка оглашали ночную тишь, заставляя сжаться все существо злосчастного Марка. Он вскакивал — ему казалось, что где-то в темноте притаилось страшное чудовище, которое готово броситься на него и проглотить в своей ужасной пасти. Он дрожал. Страх его усиливался, и ему было невыносимо жутко.
Бог знает, отчего было страшно ночью храброму Марку, отчего чудилось ему ужасное страшилище, но, я думаю, страх этот происходил от сознания, что злой Кальпурний, которого Марк ненавидел всеми силами своей души, мог уничтожить его одним мановением руки, впустив в мрачную темницу какой-нибудь потаенной норой голодного зверя. Кальпурний был способен на это. Марк ждал от него всего грязного и худого, до чего только мог додуматься озверевший в своей жестокости наперсник Максимиана.
Кальпурний был ужасный человек, без сердца, без души, без проблеска разума. Удивительно, каким образом этот бессердечный человек до сих пор не понес заслуженной кары и остается в живых. Ведь не было, кажется, на свете ни одного человека, который столько зла причинил бы ближним и вместе с тем сохранил такое спокойствие на сумрачном, бесстрастном челе.
Марк лежал на полу, смотрел в вышину, и думы его кружились в медленном хороводе, сменяя одна другую. Он думал о Кальпурнии. Но вдруг совершенно незаметно думы его приняли совсем другое направление. Марку вспомнилась Ирина. Ее дивный образ, нежный и кроткий, как живой, встал пред его глазами.
— Неужели и она, так же, как и я, томится в тюрьме? — в горьком отчаянии воскликнул до глубины души взволнованный Марк. — Я перенес бы все муки, я пошел бы на самую лютую казнь, лишь бы она была свободна, лишь бы она, дорогая моя сестра, не знала горя, нужды и лишений.
Но что это?! Лицо Марка вдруг страшно перекосилось, и он весь вздрогнул, словно от невыносимой физической боли. Страшная горечь переполнила его усталое сердце, сжимая в своих мучительных захватах. В голове у него зашумело, словно весь Колизей, обрушился на бедного юношу. Марк вспомнил об Аврелии и о его легкомысленном поступке.
— Изменник! — вскричал он с болью на сердце. — Никогда не ждал я от тебя подобной трусости и преступного малодушия…
Марку до глубины души сделалось жаль несчастного брата. И он тихо шептал в отчаянии:
— Бедный… бедный…
И еще о многом думал несчастный Марк, но думы его были мрачные, какие обыкновенно бывают у людей, не знающих светлого будущего и безвозвратно похоронивших прошлое.
В это время в коридоре подземелья раздались тяжелые шаги, которые становились все ближе и ближе. Было ясно, что кто-то приближается к темнице и к той именно камере, где томился Марк. Скоро заскрипели тяжелые засовы, и в глазах Марка блеснул яркий свет фонаря, который, прорезая подземный мрак, осветил сырую тюрьму. Отвыкший от света Марк на минуту заслонил глаза рукою и только тогда, когда раздался хриплый голос, называвший его по имени, он взглянул на стоявшего пред ним вооруженного мужа.
Это бы Кальпурний. Окруженный стражей, он стоял посредине тюрьмы и звал Марка по имени. Красноватый свет фонаря озарял его высокую фигуру, и было видно его нахмуренное чело, мрачный взгляд и насупившиеся брови.
Марк приподнялся на локте и удивленно посмотрел на Кальпурния.
— Марк… — снова окликнул тот юношу.
— Я, — отозвался узник. — Говори, что тебе нужно.
Кальпурний приблизился. Он был крайне возбужден.
— Я в последний раз говорю тебе… — мрачно и глухо начал любимец кесаря. — Пользуйся, безумец, теми благодеяниями, которыми одаряют тебя боги; теми милостями, которыми готов тебя осыпать наш добрый кесарь в случае твоего отречения от веры в Распятого. Слушай: великий Максимиан внял мольбам твоего брата Аврелия, который просил и за тебя, и за сестру твою Ирину. Я приношу тебе свободу — свободу во имя кесаря. Можешь точно так же, как и брат твой, который внял голосу разума, пользоваться богатствами и роскошью, только поступи так же благоразумно, как он: отрекись от ереси христианской. Кесарь поручил мне сказать, что ему очень хотелось бы иметь в числе своих телохранителей обоих Фламиниев, потомков знатного рода, сыновей богатых родителей. Он говорит, что в самом скором времени возведет вас и еще в более высокие должности, только отрекитесь от своих заблуждений. Воскурите фимиам пред Юпитером Капитолийским, принесите жертву священным богам.
Кальпурний закончил речь. Он с нескрываемым нетерпением смотрел на молчавшего Марка.
— Что же ты?! Ответь! — сказал он наконец, не будучи в состоянии побороть свое нетерпение.
Марк поднялся с земли и, сотрясаясь от гнева, заговорил резким, взволнованным голосом:
— Кальпурний! Я прошу у тебя минуту внимания. Выслушай все, что я скажу тебе сейчас, и в другой раз не беспокойся посещать подземелье, так как от того, что я сейчас скажу, я никогда не отрекусь… Кальпурний! Ты знаешь меня. Я христианин, сын родителей, которые на моих глазах были замучены по указу того самого кесаря, который хочет осыпать меня своими милостями, окружить благодеяниями и быть моим благодетелем. Нет! Это ложь! Я не верю твоим словам! Не могу поверить и кесарю, так подло, так безжалостно расправившимся с моими родителями. Тот человек, который умертвил невинного отца, дорогую, горячо любимую мною мать, не может и с сыном их поступить иначе. Мне не нужны его милости, за которые он требует, чтобы я отрекся от того дорогого, что осталось еще у меня на свете. Умерли мои родители, но живы в памяти их последние, обращенные ко мне слова. Обезглавлены дорогой отец и ненаглядная мать, но огненными буквами горит пред моими глазами их последний завет. Нарушить его я не могу. Знай: умру, исполняя его… А кесарю?.. Кесарю Максимиану, бывшему простому солдату, а теперь бесчеловечному правителю и невежде, передай, что Марк Фламиний никогда своей веры и совести не продаст. Жизнь и смерть человека — в руках Божиих. Если Он предназначит мне жить, то не грозны уже будут мне указы кесаря. А если предстоит мне смерть, то умереть я могу везде, и умереть даже бесславно. Но за мученический венец, которым Господь украшает верных, я воздам Ему, Всеблагому и Вышнему, славу… Слава, слава Ему вовеки! Богу нашему слава вовеки! Аминь.
Недобрым огнем засветились глаза Кальпурния.
Его злое лицо пылало гневом. И если бы было то в его власти, он здесь же, на месте убил бы дерзкого юношу. Но жизнь Марка находилась в руках кесаря, который всеми силами старался привязать к себе молодых Фламиниев, осыпать их различными почестями, возвести на высокие государственные должности, так как ему очень хотелось, чтобы в Риме сложилось непререкаемое мнение: «Максимиан действительно карает христиан смертью, но отрекшихся от веры он награждает, как двух братьев Фламиниев».
Была и другая цель у Максимиана привязать к себе Марка и Аврелия, и эта цель была, пожалуй, самая важная. Уже давно в римском народе раздавался глухой ропот тысяч недовольных чрезмерною жестокостью кесаря. Ропот этот рос с каждым днем и грозил уже перейти в открытое восстание, и Максимиан видел, что власть его висит на волоске. Но привязать к себе Марка и Аврелия значило перетянуть на свою сторону как их симпатии, так и большинства недовольных, то есть, другими словами, прочно закрепить свою власть и могущество в Риме.
И Кальпурний, как ближайший слуга кесаря, как любимец своего господина, перед которым не было ни одной тайны, превосходно понимал, что заставляет Максимиана относиться к молодым Фламиниям с притворной лаской и неискренним расположением. Вот почему, несмотря на то, что после дерзкого ответа Марка все его существо кипело неподдельным гневом, все же посягнуть на жизнь юноши он не решился.
Но я с уверенностью могу сказать, что если бы кто другой осмелился так дерзко говорить, как один из родных братьев Марк, — это были бы последние слова говорившего. Гордый Кальпурний, как собака, приверженный Максимиану, не простил бы таких слов никому.
А теперь, с трудом подавляя гнев и изо всех сил стараясь быть спокойным, он тихо подходил к Марку и так же тихо говорил ему:
— Юноша! После того, что я слышал от тебя, мне бы не следовало больше с тобой говорить. Но убедись, еще раз убедись, как безгранично велика доброта кесаря! Он до последней минуты хочет остаться твоим другом и доброжелателем, он не хочет твоей гибели.
— Отстань! Уйди! — нетерпеливо прокричал совершенно раздраженный юноша.
— Ну так слушай и выбирай, — сердито протянул Кальпурний. — Жизнь или смерть! Кесарь объявляет тебе, что если ты сегодня не отречешься от своих религиозных заблуждений…
— Но ведь это вера! — вскричал взволнованный Марк, прерывая на полуслове речь Кальпурния. — Это не заблуждение! Это вера, которая не позволяет причинять ни малейшего вреда ближнему… Вера, которая учит прощать даже врагам…
Кальпурний вскипел. Сердитым жестом прервал он горячую речь юноши.
— Довольно! — вскричал он. — Ты неисправим! Ты ослеплен! На тебя уже ничто не действует. Ты во власти каких-то страшных демонских чар. Слушай же!.. Кесарь до утра оставляет тебя в живых и то благодаря разумному брату Аврелию, который просил за тебя…
— Но какой ценою? — простонал Марк.
Кальпурний лишь ядовито усмехнулся и продолжал:
— Завтра начинаются зрелища в цирке. Ты первый будешь выведен на цирковую арену. Безоружный, даже без палки в руках, ты будешь поставлен лицом к лицу с голодной пантерой. О, тогда мы все увидим, защитит ли тебя твой Бог против клыков, которые острее меча, против ее страшных когтей, которые опаснее отравленных кинжалов. Но прежде чем выпустить на арену пантеру, я спрошу тебя, Фламиний, в последний раз, отрекаешься ли ты от веры в Распятого? И если ты в присутствии кесаря и римского народа ответишь, что не отрекаешься от проклятой ереси… О, тогда страшись! По данному мною знаку откроются двери клетки, и ты сейчас же с растерзанной грудью падешь у ног разъяренной пантеры. Я закончил. Теперь глубокая ночь. Несколько часов отделяют тебя от смерти. Приготовься к ней или… отрекись от Христа.
— Никогда! Никогда! Нет! Я христианин и христианином и умру, — вскричал несчастный Марк и, изнуренный, обессиленный тяжелой внутренней борьбой, упал на холодную, сырую землю тюрьмы.
— Безумец! — прохрипел Кальпурний в бессильном гневе и, круто повернувшись, вышел из тюрьмы.
За ним последовала стража. Скоро снова заскрипели ржавые запоры тюремных дверей, и глубокая тьма объяла лежавшего без чувств, обессиленного Марка.
Кругом тишина. Ни звука не слышно. Кальпурний со стражей уже давно оставили подземелье.
Тихо… Тихо… Только страшный рев льва, разбуженного бряцанием мечей сопровождавших Кальпурния воинов, как отголосок далекого грома, пронесся по темному подземелью цирка. И казалось, что зловещий рев этого дикого царя пустыни был последним словом, последней угрозой от покидавшего Колизей Кальпурния.
Журнал «Отдых христианина», №6, 1905, стр 43-62; №7, 1905, стр. 135-148; №11, 1905, стр. 74-83
Адриан и Наталия
Церковно-историческая повесть Протоиерея Димитрия Алексича
1897
Перевод с сербского
Вместо предисловия
Как все меняется на Божьем свете!
Если бы люди не имели науки, именуемой «история», они бы никогда не могли даже и представить себе того, что произошло с поколениями, предшествовавшими им. Мало того, они бы не могли никогда уяснить себе всего того, что они переживают в данную минуту, и завеса будущего не подымалась бы перед их очами.
Впрочем, и теперь есть много людей, для которых и прошлое, и будущее — равно темны и непонятны. Они не считают историю достоверною наукою, а на факты, представляемые ею, смотрят, как на измышления праздного ума или плод больной фантазии.
К счастью, таких людей очень мало и с ними не нужно считаться: они принадлежат к числу тех «блаженненьких», которые до сих пор еще сомневаются, что земля вращается вокруг солнца и вокруг самой себя. Разумеется, они и на историю смотрят, как на сплошную сказку.
Но нам, людям знающим и понимающим историю, делается тяжело на сердце, когда мы сравним теперешнее с прошлым. Где сильная Вавилония[24], великая Македония[25], Персидское царство[26] и Римская империя? Где они? Все это исчезло и в прах превратилось. А на заходе кровавой звезды Рима современникам не верилось и не грезилось еще распадение его на два государства, как не могли они представить себе и перенесение грозного византийского престола в малоазиатский городок — Никомидию![27] И человека, не знакомого с историей, кажется, невозможно было убедить, что нынешнее незначительное местечко в азиатской части Турецкого государства, Исмид, с малым количеством жителей и бедными, жалкими постройками, шестнадцать столетий тому назад было столицей нынешних восточно-римских цезарей и носило имя Никомидии!
Да! Славной в истории Никомидии!
Неужели и это ложь, неужели и это выдумка?
Нет! Не ложь и не выдумка это, а великая истина. Об этом говорит история и свидетельствует современное положение, а такие свидетели не лгут, и переспорить их нет возможности!
Да! Мы не можем, не смеем не верить историческим данным, ибо история есть такая книга, которой с благоговением верят все живущие на свете и которая всем нам служит как учитель жизни.
История показывает нам множество примеров; она говорит нам о том, что и как происходило на белом свете, и, между прочим, она говорит и о тех святых душах, которые живот свой положили за истину христианской веры. Мы подразумеваем здесь имена святых мучеников — Адриана и Наталии.
Представить жизнь и подвиги святых христианских мучеников — дело далеко не бесполезное и не лишнее, в виду тех многих и многих десятков и сотен тысяч христиан, которым это описание может сослужить хорошую службу в деле спасения их душ. Благодаря истории, они могут извлечь из этого достоверного описания много поучительного и назидательного. А раз этот рассказ может принести хотя самую малую пользу христианам, сочинитель безмерно счастлив и с избытком уже вознагражден за свой труд.
Протоиерей Димитрий Алексич
Глава I
Если бы ты, дорогой читатель, захотел увидеть картину полного счастья, которым только может наслаждаться на земле человек, и если ты еще сомневаешься в возможности такого счастья, то я бы советовал тебе идти в дом Адриана, претороначальника[28] в Никомидии, этой новой столице царей Великого Рима. Здесь, в этом доме, ты можешь увидеть счастливого человека и счастливую женщину, увидеть яркий отблеск их счастья.
Трудно описать счастье этого прекрасного человека словами! Ни высокий чин, ни положение его в обществе, до которых он возвысился еще в ранней юности, — теперь Адриану только 28-й год, — ни огромные богатства его, ни даже высокое происхождение и родство со знаменитейшими фамилиями в государстве — не создавали счастья Адриану. Это все только дополняло его, но самое счастье его составляла его молодая, прекрасная супруга Наталия.
Ах, как хороша была супруга Адриана!
Сама судьба распорядилась так, чтобы Наталия была верною подругою жизни для Адриана. Высокое происхождение ее и богатство ее отца, прирожденная доброта, нежность и мягкость характера — все, все внушало к ней любовь, все располагало ее быть любимой мужем. И сама она старалась о том, чтобы быть достойной своего супруга, которого она любила всею своею душою. Она была счастлива со своим Адрианом и все свои усилия прилагала к тому, чтобы и его сделать счастливым, и успела в этом. Адриан и Наталия действительно были счастливы в полном смысле этого слова.
Адриан принадлежал к одной из древнейших и богатейших фамилий великого Рима. Брак его с Наталией соединил его с другой, не менее славной и древней фамилией. Семья его жены, насчитывавшая множество членов, заменила ему его собственную семью, которой он лишился еще в ранней юности. И действительно! Новые родные горячо полюбили и привязались к Адриану; они искренно радовались его счастью, искренно называли его своим сыном и братом. Все гости, все приезжие на свадьбу так же радостно приветствовали его, сулили ему долгую жизнь и счастье — и все это делалось искренне и от души, без всяких расчетов или видов на богатство и связи молодого человека. Расточавшие свои похвалы и ласки не нуждались ни в том, ни в другом, так как всего этого имели в достаточном количестве. Разумеется, встречая со всех сторон только ласку и привет, Адриан был сильно растроган.
Все симпатии, вся любовь, все ласки, которыми осыпали Адриана, естественно, переносились и на его невесту. Оба молодых супруга положительно были завалены подарками и приношениями, причем каждому из них доставалось всего в равной мере и все подарки были одинаковы и драгоценны.
Сверх всего этого, свадьба Адриана и Наталии была почтена и императорским двором в Никомидии. Помимо различных мелких драгоценностей, император прислал Адриану драгоценный меч с золотой насечкой и в серебряных ножнах, а императрица — Наталии — золотой венец, весь усыпанный дорогими каменьями и стоивший по крайней мере в пять раз дороже, чем подарок императора, и увеличивший красоту юной невесты до какого-то чудесного, сказочного невероятия.
Радости Наталии и удовольствию Адриана не было конца, когда настали самые свадебные празднества. Они заботились только о том, чтобы гости были веселы и ни в чем не терпели недостатка.
Огромный дом Адриана, или, лучше сказать, дворец, кишмя кишел гостями; роскошные яства и вина сменялись, как бы по волшебству, одно другим. На свадьбе Адриана веселилась целая Никомидия и после свадьбы в городе только и толку было, что о том, какие веселые дни пережила столица римских императоров.
Три дня продолжались веселые свадебные празднества в доме Адриана.
Гости выходили из-под гостеприимного крова домой на весьма лишь короткое время, только для отдыха, а затем опять шли на трапезу и беседу. За все это время торговцы и трактирщики города по большей части и не открывали своих лавок и гостиниц, а чиновники и прочие служащие получили отпуск и в полном составе присутствовали на свадьбе Адриана.
Наконец торжество окончилось, гости разъехались, и молодые остались дома одни. Рассматривая подарки, Адриан сказал своей восхищенной супруге:
— Не думаешь ли ты, моя дорогая, что подарки эти, полученные нами от дорогих наших сограждан, и нас со своей стороны обязывают чем-либо отблагодарить их: за любовь — любовью, за ласку — лаской, и показать им, что мы глубоко понимаем и искренне ценим их душевное расположение и привязанность к нам и вполне достойны их любви?
И, сказав это, он привлек к себе Наталию и тихо поцеловал ее в лоб. Наталия же поглядела на Адриана взглядом, полным нежности, полным любви, и ничего не ответила на его вопрос.
— Чем же, — продолжал опять Адриан, — чем же мы можем приобрести себе любовь и сочувствие дорогих наших сограждан, дорогая Наталия?
— Добрыми делами и хорошею жизнью, милый друг мой! — ответила, наконец, Наталия.
— Эти речи подсказало тебе мое сердце, — радостно воскликнул Адриан. — Пусть это будет руководящим правилом во всю нашу жизнь. Поклянемся, что мы исполним его — и ты, и я, каждый в отдельности, — поклянемся, что мы никогда не изменим ему, но еще постараемся провести его и в жизнь других людей!
И как говорил Адриан, так они и сделали: жизнь этих молодых, искренно любящих друг друга супругов была сама воплощенная добродетель. Это внушало к ним великую любовь и уважение, которые они и встречали на каждом шагу со стороны своих сограждан, а взаимная любовь и согласие делали их счастливыми.
Да! Адриан и Наталия были счастливы, совершенно вполне счастливы!
Глава II
Дом Адриана принял совершенно другой вид, когда в него вошла Наталия. Пока Адриан был холост, его хозяйством и домоправительством заведовали старые, опытные и преданные ему слуги. Казалось, Адриан был доволен ими и никогда не вмешивался в их распоряжения. Оно и немудрено: утром рано, уходя на службу, он отдавал своим челядинцам и доверенным все нужнейшие приказания и затем удалялся, озабоченный делами в своем звании претороначальника. Являлся он домой очень поздно и спешил подкрепиться ужином, а затем шел спать, — и так все это продолжалось изо дня в день. Большую часть дня занимали письмоводство и составление рапортов, которые предоставлялись им главнокомандующему или заведующим императорской квартирой, а за отсутствием их — лично самому императору. Иногда, правда, выдавались свободные дни, в которые он не бывал занят службой, но это случалось не часто, и тогда он целый день сидел дома. Но бывало и так, что по целым суткам он не заглядывал на свою квартиру; почивать же дома ему приходилось очень редко. Понятно, что иногда, придя домой, он с неудовольствием замечал у себя различные непорядки: незапертое окно, разбитую посуду, нечистоту на дворе, сломанные деревья в саду.
Все это происходило, по мнению Адриана, потому, что во всем доме не было хозяйского глаза, который бы за всем присмотрел; не было заботливой руки, которая бы все наставляла и направляла в доме, ибо на слуг, хотя и весьма преданных Адриану, все-таки нельзя было положиться. Одним словом, Адриан заметил, что его дому недостает деловитой хозяйки.
Это мнение молодого человека было блистательно доказано появлением в его доме прекрасной Наталии. Не прошло и года, как Наталия вошла в его дом полноправной хозяйкой и госпожою и приняла в свои руки бразды домоуправления, но чудная перемена произошла в хозяйстве Адриана.
Сам дом Адриана, как кажется, изменил даже свой первоначальный вид: все в нем издали уже дышало довольством и великолепием, а внутренность его была восхитительна: в особенности хороши были приемные залы и гостиные, а также и комнаты обоих молодых супругов! Сам император, зачастую посещавший дом Адриана, не скрывал своего удовольствия по поводу порядка и опрятности дома, необычайной чистоты двора и красивой распланировки огромного сада.
— Ты, Адриан, имеешь теперь все, чтобы возгордиться своим счастьем, — сказал однажды Максимиан[29], посетив своего претороначальника. — Не богатство, доставшееся тебе от отца, не богатство, которое принесла тебе в приданое твоя жена Наталия, но великолепие твоего брачного семейного счастья и спокойной жизни делают тебя счастливым. И счастливее тебя, по моему мнению, вряд ли найти человека!
— Ваше Величество, изволите шутить со мною? — скромно ответил Адриан. — Богатства мое и моей жены совсем не настолько велики, чтобы им можно было позавидовать. В Никомидии есть много богатых людей, кроме меня, и еще более таких, которые неизмеримо богаче.
— Не о богатстве вовсе и речь, — возразил Максимиан, улыбаясь. — Неужели ты думаешь, что твое счастье я полагаю в твоих несметных богатствах?
— Нет, Ваше Величество, — отвечал Адриан, — я хорошо понимаю вашу речь и готов даже дать объяснение того, как я понимаю ее, если только, Ваше Величество, Вы позволите мне это сделать. Осмелюсь ли я?
— Говори, мой верный, говори, мой дорогой друг! Ты знаешь, как я люблю слушать твои дельные речи, ведь ты всегда готов прийти на помощь ближнему, всегда исполнен доброго и благого совета. Говори же и теперь, я тебя слушаю!
— Мое домашнее благополучие, — продолжал Адриан, — тоже не должно никому внушать зависть, так как никакой и ничьей заслуги в этом нет. Это составляет обязанность моей жены, и она до сих пор, по крайней мере, точно исполняла и исполняет ее. Так что, право, мне кажется, что ни с той, ни с другой стороны завидовать мне никому не приходится: богатство мое есть чистая случайность, а второе, то есть домашнее благоустройство, есть такое счастье, которого каждый легко может достигнуть. И ни то, и ни другое не составляет моего счастья, но…
— Но Наталия! — добавил со своей стороны император, громко захохотав.
— Ваше Величество изволили сказать истину, — ответил Адриан спокойно, — мое счастье действительно составляет Наталия, все же остальное служит только дополнением этого счастья.
— Мне уже только одно нравится в тебе, Адриан, что ты не возгордился своим счастьем настолько, чтобы позабыть службу. Но с тех самых пор, как ты женился, ты стал еще более рачителен, полезен и незаменим в своей должности, — ответил император.
И действительно! Адриан с самого первого дня своей женитьбы обнаруживал еще большее и небывалое до той поры рвение к своей службе. Все делалось до такой степени точно, исправно и аккуратно, что даже сам Максимиан однажды выразился о своем претороначальнике так, что во всей его империи нет такого претороначальника, который бы в своей деятельности сравнился с Адрианом. И слова эти император сказал среди близких к нему людей, людей почтенных и знатных во всей империи.
Таким образом, женитьба Адриана оказала самое благотворное влияние и на его домохозяйство, и на его службу. Последней он отдался весь, исключительно, с каким-то особенным пылом. Он выходил из дому и направлялся в канцелярию с рассветом. Возвратившись же домой, он мог спокойно отдыхать, наслаждаясь обществом своей милой и прекрасной супруги. Он видел, что Наталия не только вполне заменяет его, как хозяина дома, но даже во многом принимает почин на себя и образцово ведет хозяйство. И между ними по вечерам завязывался разговор мирный, невинный, спокойный. Адриан рассказывал о своей жизни до женитьбы, Наталия делилась с ним воспоминаниями о своем детстве и девичестве. Так мирно проводили время молодые супруги.
Дом Адриана был не только домом счастья и союза двух молодых сердец: он был, поистине, дом милосердия. Огромные доходы с имений, которыми владел Адриан, большое жалование, получаемое им, согласно званию, которое он носил, наконец, остаточные суммы, образовавшиеся от сокращения штата их прислуги, но в особенности, большая экономия, которой придерживалась Наталия, — все это, взятое вместе, давало им гораздо более того, что они проживали и могли прожить.
К тому же ни Адриан, ни его супруга не имели в своих душах и тени того, что зовется себялюбием или еще худшим именем — сребролюбием. Поставивши себе за правило сделать как можно более добра своим ближним, они не хотели скапливать излишек своих богатств для себя, не хотели также и пускать своих денег в оборот или приобретать себе новые богатства, как то делали другие богачи, но весь остаток употребляли на дела благотворительные, преимущественно для раздачи городским нищим и убогим.
Глава III
Благотворительность Адриана и Наталии могла бы вестись еще гораздо шире, если бы молодые супруги не боялись того, что скажут о них посторонние люди, а именно они боялись упреков в мотовстве, роскоши и расточительности, — как раз в тех самых грехах, в которых они не были и повинны.
Поэтому они жертвовали в пользу бедных только от своих избытков, ничуть не уменьшая и не сокращая расходов. Делалось это так: обыкновенно Наталия, как домоправительница, составляла смету о приходе и расходе на каждый месяц. Затем, согласно этой смете, она вела месячные книги и по истечении срока представляла их на рассмотрение своего супруга. По проверке счетов и книг Адриан обыкновенно отделял всю сумму чистого дохода и отправлял ее к председателю комиссии о призрении бедных города, который уже и распределял ее в пособие неимущим семьям граждан. Разумеется, при Наталии сумма этих доходов, а следовательно и пособий нищей братии, увеличилась уже настолько значительно, что Адриан не переставал изумляться ее экономии и хозяйственным знаниям. Он не мог понять, каким это образом так бережлива его молодая супруга, и однажды как-то вечером, смеясь, сказал ей:
— Скажи мне, пожалуйста, как это ты так бережлива? Я как ни думал сам об этом, все-таки понять не мог. Не объяснишь ли этого мне ты?! Если бы и главный министр финансов был так же бережлив, как ты, и прилагал бы такие же заботы об императорской кассе, как ты о моем имуществе, то, право, она бы была много полнее, чем теперь!
Прекрасная супруга Адриана весело засмеялась на его слова и, взявши его за руку, тихо сказала:
— Да! Если бы императорский министр финансов так же хлопотал о счастье и благосостоянии подданных своего государя, как мы с тобой хлопочем и заботимся о счастье наших ближних, то и я уверена, что касса государственная была бы много богаче, чем она есть теперь; да и сам император в тысячу раз более был бы любим своим народом, чем это мы видим ныне! Как ты думаешь, Адриан?
И Адриан, вместо всякого ответа, привлек к себе на свою супругу и крепко поцеловал ее в душистое чело и милые, ясные глаза.
С того дня прошло несколько месяцев, и вот молодые супруги однажды совершенно случайно узнают, что деньги, ежемесячно отправляемые ими на имя председателя комиссии о призрении бедных, не раздаются бедным, а присваиваются чиновниками, служащими в комиссии, и употребляются ими на свои собственные нужды. Это привело Адриана и Наталию в такое сильное негодование, что они решились никогда больше не посылать денег для раздачи бедным в комиссию о призрении нищих. Вместо того молодые супруги решили благотворить бедным в столице другим образом, а именно: по взаимному соглашению они решили разослать по всей Никомидии особые листки, коими городские бедняки приглашались по известным дням приходить в дом Адриана и получать от него или от его жены посильное по нуждам каждого пособие, если только они принесут с собой удостоверение о бедности, написанное в городской управе и скрепленное ее печатью.
С тех пор дом Адриана стал осаждаться целыми толпами бедняков, и Наталия не знала ни одной минуты отдыха и покоя, то кормя одного, то перевязывая раны другому, то одевая третьего. Каждый бедняк уходил из дома никомидийского претороначальника со слезами благодарности и радости на глазах и с сердцем, полным благословений и благожеланий гостеприимной кровле молодых супругов. Наталия окончательно отдалась делу благотворения и так скоро освоилась с ним, что менее чем через два месяца могла уже составить себе полный список всех неимущих семей в городе.
Ее дело стояло на твердых основаниях и со временем получило особую систему. Адриан с удовольствием смотрел на ее деятельность и однажды в порыве душевного волнения сказал ей:
— Благодарю тебя, дорогая Наталия! Ты вполне поняла меня и наградила меня неизмеримым счастьем. Мое всегдашнее желание было — жить для ближнего. Ты поняла его и осуществляешь его на деле. С этих пор мой дом действительно стал домом милосердия!
Глава IV
В течение всей своей счастливой совместной жизни Наталия всегда привыкла видеть Адриана бодрым и веселым. Все время, когда он был дома, они проводили в беззаботных, нежных разговорах. Наталия, точно птичка, щебетала своим ласковым певучим голоском, мило смеялась… Но вот вдруг она заметила в муже серьезную перемену. Эта перемена поразила ее в самое сердце и заставила сильно страдать.
С некоторых пор она стала замечать, что Адриан как будто чуждается или боится ее общества. Он стал угрюм и неразговорчив, грустен и задумчив. Он как-то нехотя здоровался и прощался с женой, целуя ее в лоб… Казалось, будто и на это у него не хватало времени. Даже самые отлучки Адриана на службу резко изменились: то по целым дням он не выходил из дома, молча и сосредоточенно просиживая у себя в комнате, то, уходя с раннего утра, возвращался лишь поздно вечером. И не только по вечерам прекратились их милые беседы, но даже и на случайные, мимоходом услышанные им вопросы жены он почти ничего не отвечал. Так, во время обеда он зачастую столь сильно углублялся в свои мысли, что не замечал стоявших перед ним кушаний, которые остывали и иногда уносились со стола нетронутыми.
Странное поведение Адриана сильно действовало на Наталию. Часто, оставаясь дома одна, в отсутствие мужа, она плакала, горько плакала, но никогда не показывалась печальною на глаза его, чтобы не огорчить тем своего любимого супруга. Перед ним она была даже весела, шутлива, смеялась, без умолку болтала, стараясь угодить Адриану всем, чем только могла, но, к великому своему горю, мало успевала в том и не могла развлечь своего супруга. Наконец, Наталия была уже не в силах более притворяться. Печаль и безысходная грусть сломили ее нежное женское сердце, и она однажды, во время обеда, подойдя к Адриану, сквозь слезы спросила его:
— Я давно заметила, что ты сильно грустишь, мой Адриан. Я боюсь, не случилось ли с тобою какого-нибудь зла. Быть может, ты болен, или тебя чем-либо огорчили?..
Адриан рассмеялся, но этот смех еще более расстроил Наталию, так как в нем она ясно прочитала ответ Адриана: «Зачем ты меня спрашиваешь? Неужели тебе так хочется терзать мое сердце?»
— Скажи же мне, прошу тебя, — продолжала Наталия, — что с тобой? Не мучь меня этой неизвестностью, которая, положительно, меня убивает.
Она встала на колени около своего супруга, взяла его за правую руку и стала глядеть ему прямо в глаза.
— Зачем ты такая любопытная, моя милая Наталия? — сказал Адриан, медленно водя рукою по черным прядям шелковистых волос своей прекрасной супруги. — Видишь, я, слава Богу, здоров, и ты также здорова. Чего же тебе еще бояться или заботиться? Я немного действительно встревожен и огорчен, но это огорчение и тревогу мне причиняет моя служба, а отнюдь уже не ты. Я счастлив твоею любовью и счастлив, что могу отвечать тебе на нее тем же, то есть своею любовью. Если что меня и расстраивает в службе, так это одно обстоятельство, которого, кажется, все равно не избежать. Но только ты не грусти, будь спокойна и весела. Ты и впредь навсегда останешься моею любовью, моим покоем и отрадой.
— Но какое же это такое обстоятельство в твоей службе, которое так мучит тебя и не дает тебе покоя и про которое ты говоришь, что его никак нельзя избежать? Быть может, тебе дали какое-нибудь неприятное, несогласное с твоими взглядами и убеждениями или оскорбительное, низкое для твоего сана поручение? Так успокойся, мой милый, не огорчайся, не грусти! Мы проживем с тобой и без твоей службы! Лучше лишиться ее, чем иметь какие-либо тяжелые и неприятные обязанности.
— Да! Если бы я мог, я бы оставил службу! — в раздумье проговорил Адриан.
— Отчего же нет? — весело сказала Наталия и засмеялась. — Слава Богу, мы так богаты, что можем просуществовать и без твоей службы!
— Ах! Совсем не в этом дело, дорогая моя! Я прекрасно знаю, что мы так богаты, что можем прожить на свои собственные суммы, но различные другие причины заставляют меня еще на некоторое время оставаться на службе и не покидать своего поста!
— А какие это причины? — с любопытством спросила Наталия, заглядывая мужу в глаза.
— Ах, мало ли какие!.. Тебе вовсе об этом не надо знать!
— Нет, скажи мне… Я тоже хочу их знать!
Любопытство Наталии росло все сильнее и сильнее, но Адриан притворился сердитым и перестал отвечать на все ее вопросы. А она неотступно просила его открыть ей всю истину, плакала и целовала ему руки и наконец заклинала его своей любовью сказать ей правду.
Адриан сначала молчал, потом смеялся над просьбами Наталии, потом сердился; но ничто не помогало. Тогда, видя невозможность скрывать далее, он сказал твердо и решительно, придав суровое выражение своему голосу:
— Ну, смотри же, после не упрекай меня, что я все рассказал тебе!
— Нет, нет! — отвечала Наталия. — Только говори, Бога ради! Я слушаю тебя!
— Так ты хочешь знать те причины, которые заставляют меня оставаться на службе, несмотря на то, что я с радостью покинул бы свой пост?
— Да, да! — подтвердила Наталия, кивая головой.
— Ну, так слушай же. Ты, по всей вероятности, ничего не знаешь о том, что происходит у нас в Никомидии? Потому-то ты и весела так и беззаботна, как птичка. А если бы ты знала настоящее положение вещей, то никакое веселье не пошло бы тебе на ум!
— Что же такое случилось в городе? — спросила Наталия, испуганно глядя на мужа.
— Не перебивай меня! — ответил Адриан серьезно и тихо отстранил Наталию от себя. — В столице весьма и весьма даже неспокойно. Брожение умов идет всюду — не только в Никомидии, но и по целому государству. Злые люди день и ночь только и стараются о том, чтобы поддерживать волнение между гражданами и раздувать опасное пламя возмущения не только здесь, но и далеко по окрестностям. Разумеется, им это выгодно, но каково же нам, мирным людям, не посвященным в их постыдные замыслы? Уже и теперь нет любви и согласия между гражданами. Зависть и ненависть царствуют всюду; подкапываются один под другого, с тем чтобы погубить и уничтожить своего противника, а самому завладеть его местом. Страшно даже и подумать, что делается! Честь отдельных лиц, жен, семьи ни во что не ставится — разврат полный… Брат идет на брата, отец на сына. Ужас, ужас! Мятеж чистый. Но весь этот пламень таится еще внутри. Что же будет, когда он прорвется наружу? Кажется, он сожжет и проглотит у нас все…
— Адриан, ведь это страшно! — перебила его речь Наталия, вся побледнев.
— Страшно, Наталия, очень страшно! Но все это еще ничего, пока только граждане не ладят между собой. Пока чиновники строят друг другу козни при дворе и в канцеляриях — это еще все-таки беда не важная. Но что ты скажешь, если это брожение проникло и в войско, если злые люди постарались деморализовать даже и войско? Здесь уже гибель всему государству, здесь полное разорение и смерть!
— Да! Это ужасно, Адриан! — прошептала Наталия, подняв на мужа свои большие печальные глаза.
— Вот видишь, я только напугал тебя! Впрочем, ты сама виновата, ты сама хотела этого! — сказал Адриан, привлекая к себе жену и целуя ее. — Полно! Стыдно тебе печалиться, раз ты уже сама упрекала меня в том. Оправься же, прошу тебя, и слушай дальше, если хочешь!
— Да, да! Говори, прошу тебя! — живо подхватила Наталия, и глаза ее опять заблестели. — Я хочу все знать, хочу нести ту самую тяготу, которую несешь ты. Не бойся за меня! Я сильная. То был не страх перед лютой опасностью, но боязнь за то, сумею ли я в минуту опасности быть верной подругой и помощницей тебе, моя радость, мой герой? Твой рассказ меня не пугает; я приготовилась слушать его. Но меня пугает моя женская слабость: сумею ли я выдержать предстоящее, возможно, и нам испытание. Теперь же я ничего не боюсь, как бы ни был страшен твой дальнейший рассказ. Об одном только прошу тебя: рассказывай мне все, ничего не скрывая, как бы это ни было ужасно.
— Хорошо. Слушай же дальше. Я расскажу тебе об этом подробнее. Я уже говорил тебе, что неповиновение, обособленность, зависть и все другие низкие пороки проникли в войско. Это великое несчастье для государства, но для нас, горожан, это еще более великое несчастье. Слушай внимательно и пойми, что я хочу сказать этим. Как ты знаешь, в политическом отношении мы повинуемся одной власти, но в отношении религиозном или церковном — двум: языческой и христианской. Оба этих вероисповедания имеют своих вождей, свои храмы, своих священников и приверженцев. Соревнование между этими двумя областями не могло бы быть опасно для существования государства, если бы вопрос о вере не был предметом споров, или, по крайней мере, если бы государство стояло на той стороне, где больше здравого смысла, где чище верозаконие и нравственные принципы, где лучше организация, и на стороне тех, кому принадлежит будущность. Но в том-то и дело, что у нас, к несчастью, этого нет! Государство не относится безразлично к вопросам веры и стоит не на стороне здравого смысла, но на стороне отживших преданий, не имеющих ни будущности, ни пользы для народа, и поддерживаемых в народе исключительно лишь с низкоэгоистичными, корыстными целями.
— Языческий первосвященник, — продолжал Адриан, — теперь сильно напуган успехами христианства, он обратился к властям с ходатайством о защите истинной прадедовской веры, опирается на сильную дворцовскую партию и, наконец, вкрался в доверие самого императора.
— О, если бы ты знала, — сокрушался Адриан, — сколько клеветы сыплется теперь на христиан, в каких только черных красках ни описаны они теперь перед императором: будто бы они и государственный переворот замыслили, будто бы они и республику домогаются провозгласить. И чего только еще ни измыслили на них, пока, наконец, напоследок не успели убедить императора Масимиана принять самые строгие меры против этих опасных сектантов и лишить их той силы, которою они обладают теперь. То есть, попросту, расстроить их крепкую организацию, убивши их вожаков и рассеявши повсюду наиболее влиятельных из членов Никомидийской паствы. Но и на этом противники христиан не остановились. Христианство всюду будет строго преследоваться, и над последователями его будет учрежден совершенно особый надзор. Кроме того, моя дорогая Наталия, императора вынудили и еще на одну жестокую и, по моему мнению, позорную меру — убиение здешнего христианского владыка Анфима…
Адриан замолчал
— Дальше, дальше! — произнесла Наталия, видя, что Адриан приостановился.
— Ну, а затем созовут всех христиан и станут предлагать им изменить своей вере. Кто согласится, будет почтен, а на остальных воздвигнут гонение и умертвят их. Какой несчастливец этот владыка Анфим. Старец он добросердечный, доверяется всем и каждому, ко всем снисходит, но, к сожалению, он окружен со всех сторон низкими, бесчестными людьми, ежечасно готовыми предать его в руки врагов. Многие его священники, дьяконы, клирики — люди с дешевою, продажною совестью, и добра от них ждать нечего. Правда, есть и достойные священнослужители и миряне, но их уже заблаговременно постарались отделить от владыки.
— Бедный старец, — пожалела и Наталия. — А что же говорит император относительно преследования христиан?
— Касательно этого предмета при дворе еще ничего не решили определенного. Ты помнишь, что не далее, как еще вчера вечером, я так поздно вернулся домой? Все эти дни были совещания во дворце, а вчера вечером и я был приглашен на них. То же будет и сегодня, и завтра и еще долго, пока окончательно не обсудят хода всех действий против христиан. На вчерашнем совете император решительно говорил против христиан, но относительно преследования их выражался с великою осторожностью и весьма уклончиво. Я держался своего мнения, независимого ни от кого, тем более от Максимиана, и сказал ему, что для государства было бы величайшим несчастьем поднять гонение на людей, ни в чем не повинных, исправно платящих подати, людей, в руках которых будущность нашей империи и всего мира. Максимиан надулся, но я не обратил на это особенного внимания и продолжал развивать свой взгляд, который считал вполне соответствующим современному положению вещей. Все меня слушали, но, как образец того, насколько они поняли мою речь, скажу тебе, Наталия, что все семь городских трибунов[30], с каким-то нелепым сарказмом на лице, не постыдились в присутствии императора и всего избранного совета громогласно обвинить меня возмутителем государственного и общественного спокойствия и открытым приверженцем христианства. Что ты скажешь на это?
— Неужели? — спросила Наталия с беспокойством. — Но что же было далее?
— Да ничего особенного, если не считать того, что я навлек на себя гнев языческого первосвященника, который тотчас же и стал мне возражать, уже с явной враждебностью. Но меня ничуть не пугают ни гнев, ни его оппозиция, и доводы его отнюдь для меня не убедительны. Я все равно также буду защищать христиан, как защищал их вчера в совете императора.
Немного подумав, он добавил:
— Я делаю это еще потому, что вижу, что престол его окружен ненадежными людьми, нетвердыми в своих убеждениях и мыслях и весьма легко поддающимися влиянию окружающей обстановки. Люди корыстные, низкопоклонные и льстивые окончательно завладели императором, и что будет дальше, неизвестно.
И далее он продолжил, обращаясь к жене:
— Вот что, дорогая Наталия, и заставляет меня не отказываться от моей службы.
Он ласково глядел на жену, ожидая ее ответа.
— Согласна ли ты со мной?
— Согласна, согласна! — говорила Наталия, прижимаясь к Адриану. — Иначе и поступить нельзя, дорогой мой! Нет, нет! Не оставляй службы, защищай тех несчастных, коим нужна твоя защита!
Она крепко обняла Адриана.
Глава V
Опасения Адриана были вполне основательны. Языческий первосвященник не остановился на первом опыте. Видя, что дело его не двигается вперед, он пустился на следующие хитрости.
В одно утро во дворце только и разговора было о том, что христиане ради успеха дела своей секты решили умертвить цезаря и хотят поторопиться исполнением своего нечестивого решения. Фанатики кричали, требуя мщения христианам и их казней. Голоса недовольных становились все слышнее и слышнее, а верховный жрец от удовольствия потирал руки и втихомолку посмеивался, торжествуя свою победу. Он стоял в стороне и, по-видимому, не принимал никакого участия во всем этом движении, а между тем все делалось по его почину.
Язычники кричали, что всякий успех христианства будет в ущерб целости государства, что всякие попытки христиан к усилению и распространению своего учения будут гибелью для государства и что, наконец, разве можно терпеть, чтобы учение, последователи которого прибегают к таким средствам, как посягательство на драгоценную жизнь священной особы возлюбленного монарха, чтобы такое безнравственное учение дозволялось проповедовать безбоязненно и безнаказанно?
Некоторые указывали при этом еще и на то, что богатства, накопленные христианской общиной в Никомидии, легко могут послужить христианским жрецам для возбуждения восстания в городе и для найма убийц императора, если только это последнее злодеяние не совершит собственнолично какой-либо из фанатичных поклонников Христа. Эти и подобные им слухи успели возмутить, ожесточить и, наконец, привести в ужас несчастного Максимиана, и верховному жрецу было дано знать об успехе его проделки. Последний, не медля нимало, явился во дворец и как бы случайно стал опять говорить о зловредности христианской веры, о лицемерии и двоедушии ее последователей, которые прикидываются только набожными и думающими о Царствии Небесном, а на самом деле все помыслы свои направляют к тому, чтобы разрушить империю, свергнуть с престола Максимиана и, если возможно, умертвить его, а на развалинах монархии основать свое собственное коммунистическое государство, одну колоссально-гигантскую общину людей, где бы не было ни императора, ни вельмож, ни правителей, ни войск, но где бы народ управлялся сам собой, по собственной своей воле.
Рассуждая на этот раз, по-видимому, спокойно и равнодушно, великий жрец превосходно успел в своих намерениях. Известно, что даже самый маленький и незначительный человек, и тот готов решиться на крайность, если дело повернется настолько серьезно, что станет грозить его жизни, здоровью или достатку. Если же при этом человек занимает какой-либо служебный или общественный пост, то опасения его делаются еще понятнее: он, как утопающий за соломинку, хватается за всякое средство, лишь бы только удержать в своих руках ту власть, которой он в настоящее время обладает.
Что же мы скажем о том человеке, который обладает такой властью, выше которой уже нет на земле?
О, разумеется, он употребит все свои силы на то, чтобы удержаться на престоле, он все сломит и свергнет на своем пути к славе и могуществу, он все принесет в жертву своиму идолу — своему «я».
Так точно и Максимиан.
Услышав от верховного жреца об опасности, угрожающей как его трону, так и лично ему, он стал часто совещаться с ним о мерах, ведущих к охранению его жизни и власти и, наконец, так сильно подпал под влияние этого человека, что дня не мог обойтись без него.
А великий жрец, со своей стороны, весьма хорошо этим воспользовался.
Между тем во дворце государя совещания шли одно за другим, но решений еще не последовало и мер никаких не принималось. Максимиан, видимо, терял голову и не знал, что ему делать, за что ухватиться. Он часто советовался со своим другом, стариком Диоклетианом (тогда в Никомидии было два государя и оба с одинаковой императорской властью — Диоклетиан[31] и Максимиан), что ему делать, но старый друг успокаивал его только тем, что советовал выжидать время и присмотреться к обстоятельствам, полагая, что эти последние повернутся благоприятнее для дел империи, нежели для христиан. На самом же деле, Диоклетиан сам выжидал время, стараясь захватить власть в свои руки, чтобы править империей единолично, не делясь ни с кем ни почестями сана, ни богатствами.
Но положение Максимиана поистине стало невыносимым. Все мысли его настроились так, что он видел повсюду только зло, коварство, низкие и преступные замыслы. Он почти сходил с ума, наяву и во сне представляя себе самые страшные и мрачные картины: то ему казалось, что христиане уже врываются к нему во дворец, то он воображал, что уже свергнут с престола и заключен в сырую, тесную и смрадную темницу, и что враги приходят к нему, чтобы мучить, терзать и пытать его, а потом ведут на казнь, позорную и бесславную.
И все это — и думы, и видения, — повергало его в такой сильный страх, что часто ночью он вскакивал со своего роскошного ложа, весь в поту и, трясясь, выбегал в сад, чтобы освежиться ночной влажностью, после чего уже боялся вновь засыпать.
Несчастный человек! Он страшился потерять власть и вскоре лишился ее. Он с ужасом думал о своей смерти, а после все равно сам прибегнул к ней[32].
Как бы то ни было, но Максимиан все-таки много думал о своем положении, рассуждал о различии вер: христианской и языческой, а так как Бог не отказал ему в здравом смысле, то он скоро и приходил к заключению, что христианство отнюдь не может быть враждебно и опасно его императорской власти, так как оно не идет войной против существующего порядка, а, скорее, действует увещеванием. Придя к такому выводу, Максимиан успокаивался, развлекался и даже бывал весел, у него являлся аппетит, он с удовольствием ел и мирно спал.
Но все это продолжалось лишь весьма короткое время, только до первого прихода языческого первосвященника, который новыми измышлениями запугивал робкое и податливое сердце императора и снова ввергал его в то тягостное состояние, из которого ему стоило стольких трудов выйти.
Дела, однако, не могли оставаться в таком положении. Несколько совещаний прошло даром, Максимиан почти не принимал в них участие. Это давало право многим высказывать свои мысли, не вполне согласные с мнением большинства. Пользуясь молчанием или уклончивыми ответами императора, совещавшиеся вели шумные и оживленные прения. Каждый старался привлечь на свою сторону Максимиана и доказать ему, что вот его-то мнение и есть настоящая, искомая истина. Между ними были и такие сановники, которые безбоязнено и мужественно, лицом к лицу, высказывали императору свои мнения, хотя эти мнения не могли нравиться большинству, да, вероятно, расходились и со взглядами самого Максимиана, настроенного совершенно иначе.
Император в одно из заседаний совета и постарался доказать им это в длинной и резкой речи, прямо обращенной к ним. Друзья христианства поневоле должны были замолчать, а враги торжествовали победу и строили козни против этих благородных людей. Черные тучи собирались над их голосами, и они уже видели, как постепенно падало, а наконец, и вовсе пало их влияние, и они находятся в опале, но они держали себя так же независимо и неустрашимо и так же безбоязненно и открыто высказывали свои мнения, как будто с ними не произошло ничего особенного. Эти немногие благородные люди были из не христиан — претороначальник Адриан, а из христиан — весьма близкие к императору люди — Дорофей и Горгоний.
Глава VI
Между тем в государстве происходили важные мероприятия. Изо всех концов империи присылались списки христиан с означением, кто состоит из них на государственной службе и в каком именно звании и чине. Прежде всего, конечно, был доставлен список христиан, проживающих в Никомидии, и оба государя пришли в ужас, увидя, что все, что было лучшего в государстве, все, что окружало их престол, все это оказывалось на стороне христианства. Весь цвет войска, дипломатический корпус, правители городов и целых областей, генералитет, военные трибуны и прочие, — все были христиане. Наконец, свита, прислуга и самые близкие к императорам люди во дворце, те, на кого так особенно они надеялись и кому в минуты откровенности поверяли государственные и личные тайны, и те были христиане, и те были, значит, на стороне врагов империи и императоров.
И Диоклетиан, и Максимиан были настолько сильно поражены сделанным ими открытием, что долго не могли прийти в себя и только в недоумении спрашивали друг друга, что им теперь делать и что предпринять?
По теории великого жреца выходило, что христиане, все, от первого и до последнего, должны быть истреблены, но, очевидно, и сам великий жрец был введен в заблуждение, думая, что христианство исповедуется сравнительно небольшим и притом непривилегированным кружком людей. Великий жрец, вероятно, окончательно растерялся бы, если бы увидел список лиц, исповедующих христианство! Здесь были самые громкие и великие во всей империи имена, то были люди, известные знатностью и древностью своего происхождения, или из новых, прославившиеся своими победами над внешними врагами империи и государственною мудростью во внутренних делах ее.
Вопрос был в высшей степени затруднителен.
С одной стороны, малодушие и ненависть нашептывали гонение и всеобщее избиение последователей и чтителей ослиной головы[33], а с другой стороны, государственная мудрость и простой практический здравый смысл советовали императорам не подниматься на напрасную борьбу, не слушать голоса заинтересованного лично в этом деле корыстолюбивого и славолюбивого верховного жреца и не подвергать опасности существование самой империи, которая уже и без того шаталась на своих основаниях, и если еще держалась, то исключительно лишь благодаря стараниям тех именно лиц, против которых и воздвигалась теперь буря. В числе многих клевет, к которым прибегали враги христианства, лжесвидетельствуя против христиан, была придумана и нелепая, кощунственная сказка, будто бы последователи Распятого Бога поклоняются ослиной голове.
Много раз совещались между собою оба императора, но все еще не могли прийти к соглашению, что им начать делать? Им странно дико казалось поднять гонение на тех людей, которые не только не разрушают общественный строй и порядок, но еще сами поддерживают его и старательно заботятся о процветании империи и ограждают императорскую власть. Но запавшее в души обоих императоров семя злобы, ненависти, страха и сомнений нашло для себя благодарную почву и не замедлило пустить в ней ростки.
Злоба и безотчетная ненависть против христиан росла в них не по дням, а по часам. К этому примешивался еще низкий и постыдный, почти животный страх за свою жизнь и за свое благополучие. Страх видеть всюду шпиона, изменника или наемного злодея заставил императоров замкнуться в самих себя. Они боялись с кем-либо советоваться, не знали, в ком найти точку опоры и доверенное лицо. Кто им остался верен? Никто, решительно никто. Они отовсюду окружены врагами и извергами, и это несчастное предубеждение заставляло их скрывать свой низкий страх перед людьми близкими, перед своими приближенными, даже, наконец, перед Советом.
В таком жалком состоянии находились оба императора. Только в беседе друг с другом они отводили свои души, только тогда они чувствовали себя бодрее и сильнее. Несчастные! Они даже были лишены общества живых людей, общества себе подобных, они добровольно ушли от света и сами себя заперли в тесную тюрьму взаимного общения друг с другом. Только оставаясь наедине, они чувствовали себя спокойнее. А там, за пределами их жилья, нескольких душных комнат, избранных ими для своего пребывания, грозно бушевал и ярился темный мир людской, все помыслы которого исключительно были направлены к одной только цели: унизить и растоптать их роскошную диадему[34], лишить их власти, почестей, славы и жизни.
Наконец, это одиночество стало нестерпимо для них. Они начали думать, не созвать ли им снова Совет, но исключительно лишь из язычников, и поступить во всем согласно с их мнениями?
Несколько раз поспоривши и даже один раз крупно поссорившись, друзья остановились наконец на последнем способе помочь своему положению.
Максимиан уже заранее решил, что гонение необходимо и притом гонение наистрожайшее и наибесчеловечнейшее. Но, заглянувши в списки христиан, он несколько дней еще колебался, придумывая и приискивая в своем уме, кто бы из язычников мог заменить тех, кто, по его мнению, должен был пасть под секирой палача?
Мысль эта была тяжела для правящего императора, так как все те, кого он уже осудил на казнь, были люди почтенные, всеми любимые и уважаемые, известные безмерной честностью, верностью и другими добродетелями, были в полном смысле этого слова столпами государства, уже расшатанного и падающего. И таких людей он не мог найти между язычниками, так как те, напротив, отличались всевозможными пороками.
Но сердце человеческое непостижимо. Те же самые христиане, о которых Максимиан знал, что они люди уважаемые и почтенные, друзья порядка и законности, те же самые христиане представлялись вновь глазам его людьми лживыми, бесчестными и презренными, казались корыстолюбцами, любостяжателями и развратниками только потому, что они были христиане. Они являлись перед его глазами бунтовщиками, которых следовало всюду разыскивать, казнить и истреблять вместе с их семьями и даже имуществом. Вот до чего додумался несчастный Максимиан.
Но где же достать императору такого человека, который бы, нимало не задумываясь, строго и точно исполнил бы все то, чего требовал от него Максимиан?
Где взять такого человека?
И Максимиан тяжело задумался, перебирая в уме имена своих сотрудников и приближенных. На одном имени он остановился, подумал с минуту и вдруг радостно воскликнул, потирая от удовольствия руки:
— О, я нашел себе помощника! Я нашел! Вот моя правая рука, вот совершитель моей воли! Победа — моя!
Не прошло и часа, как Максимиан вступил в беседу о мерах против христиан с военачальником Ветурием, свирепым и безбожным фанатиком-язычником.
Глава VII
Не без причины Адриан ничего не говорил Наталии о том, что делалось при дворе. Он не хотел пугать ее рассказами о намерениях Максимиана и о страшных приготовлениях к гонению. Это было ему самому настолько тяжело, что он рад бы был хоть немного забыться от действительности. К сожалению, этого нельзя было сделать. Благородная душа его страдала страхом за других, за тех, коих теперь ждало ужасное испытание. Он боялся за то, все ли будут мужественны, все ли будут в силах перенести это испытание и не упасть, не изменить своему Богу, своим убеждениям.
Тем не менее Адриан обещал своей жене рассказывать все, что только ни предпринималось против христиан при дворе кесаря. Он видел, что она страдает, ничего не зная, и ощутил некоторый упрек в своей душе за то, что ничем не делится с Наталией, горячо ему преданной и любимой. Ему самому было бы легче поделиться с ней своей печалью, своим страданием. Наталия своими советами и нежным вниманием могла бы поддержать его в тяжелой борьбе, и он, как это часто бывало и прежде, придя домой усталый и сумрачный, раздраженный или печальный, всегда находил в ней нравственное врачевство, которое успокаивало его душу и разгоняло печальные мысли, теснившиеся в его голове.
Но Наталия еще не была посвящена в последние события, произошедшие в Никомидии и при дворе, она ничего не предчувствовала и по-прежнему оставалась только верным советником и другом Адриана, не пытаясь расспрашивать его и навязываться со своими ласками, но ожидая во всем откровенности от него. Она настолько была уверена в искренности мужа, что не пыталась расспрашивать его, хотя видела, что что-то новое и грозное надвигается на ее спокойную, веселую, беззаботную, счастливую жизнь. Но Адриан молчал и делался только все сумрачнее и сосредоточеннее.
Дни шли за днями в доме Адриана в обычном порядке, только уж прежней веселости не замечалось в Наталии. Она стала молчалива, серьезна, почти никуда не выходила и подолгу сидела в своем кабинете, как бы что-то раздумывая или соображая. Даже домашние мало видели ее, так как она почти не оставляла свою комнату. Мало-помалу в доме воцарился поистине мертвый покой, потому что и прислуга боялась лишними разговорами или песнями нарушить молчание и спокойствие своей госпожи.
Ей еще не было известно, что предпринял Максимиан, в ее душе теплилась слабая надежда, что благонамеренными людьми будут предприняты все меры, чтобы продлить мир и безопасность в государстве, она цеплялась за эту мысль и веровала в нее, желая, чтобы честь умиротворения империи исключительно принадлежала ее мужу. Но черные тучи все гуще надвигались и вились над Восточно-Римской державой, и буря грозила разразиться ежеминутно. Предупреждающих, приближающихся ударов грома Наталия, впрочем, еще не слыхала.
Однажды Адриан вернулся домой настолько задумчив и печален, что позабыл даже поздороваться с Наталией, что он всегда делал, когда возвращался домой. Это показалось Наталии странным и вместе с тем неприятно поразило ее. Ей сделалось тяжело от такой забывчивости мужа, но она ничего не сказала и выжидала, что он ей станет говорить. Но он молчал, а лицо его выражало столько отчаяния и горя, что Наталия, схватив его за руку, быстро увела его к себе в комнату и поспешно спросила, не спуская с него глаз:
— Что это с тобою сделалось, мой Адриан? Ты даже позабыл поздороваться со мною… Что с тобой случилось?
Адриан крепко пожал руки Наталии и, тяжело вздохнув, проговорил:
— Прости меня, моя дорогая Наталия! Но то, что случилось сегодня, настолько потрясло меня, что я до сих пор еще еле держусь на ногах. Дай мне хоть немного отдохнуть, а потом я все стану рассказывать тебе по порядку.
Он тяжело опустился на близстоявшую софу, закрыл глаза и замолчал. Холодный пот выступил у него на лбу, а он весь дрожал, как в лихорадке.
— Что такое случилось с тобой, мой друг? Говори же скорей, не мучь меня! — проговорила, наконец, Наталия глухим, упавшим голосом.
Адриан молчал.
— Говори же! — почти крикнула Наталия.
Тогда Адриан открыл глаза и пристально посмотрел на нее.
— Решен, наконец, вопрос о христианах, — медленно начал он. — Разрешил его в самом ужасном смысле сам Максимиан и тотчас же энергно приступил к делу их истребления. Нашел он и помощника себе: военачальник Ветурий взял на себя почин в этом гнусном и кровавом деле!
— Что ты говоришь, Адриан? — воскликнула Наталия с ужасом и закрыла лицо руками.
— Христиане, — продолжал Адриан, — внешне совершенно спокойны, но в силу декрета Максимиана должны быть все истреблены, и эту постыдную услугу взялся совершить наш расторопный и кровожадный, наш страшный Ветурий.
— А когда это было решено? — спросила Наталия.
— Это решено вчера ночью, а сегодня уже отдан приказ, и начались действия по исполнению этого приказа. Ветурий позвал на совет всех офицеров здешнего гарнизона и прочел перед ними императорский указ, которым отныне навсегда воспрещается открытое исповедание христианства по всей империи. Затем Ветурий, уже от себя, призывал офицеров последовать этому указу и действовать во исполнение оного. На это некоторые из присутствовавших отвечали Ветурию, что указ расходится с их убеждениями, так как они сами принадлежат к тем людям, которые исповедуют христианство, и просили ходатайствовать перед кесарем об уничтожении этого декрета. Но Ветурий грубо перебил их и потребовал безусловной покорности и повиновения императорскому указу, присовокупив, что все, кто не желает исполнить его и отречься от христианства, не могут уже более оставаться на государственной службе…
— А потом что?
— Затем он предложил офицерам обдумать их слова и его предложение оставить государственную службу и дал им для этого всего только один час времени, категорически требуя от них ответа.
— И вообрази же себе, что было дальше, — оживился вдруг Адриан и, встав со своего места, принялся взад и вперед ходить по комнате. — Через час времени все лучшие офицеры, наихрабрейшие люди во всем войске, лучшие стратеги и тактики нашей великой армии, одним словом, цвет и украшение Римской державы, подали в отставку и, как милость, просили исключить их из списков армии. Казалось бы, Максимиан должен был понять все это и переменить свою тактику, но он предпочел оставаться и далее все в том же гибельном для него и для всех нас заблуждении и…
— И что же дальше? — торопилась Наталия.
— Ветурий принял от всех прошения об отставке и отнес их к Максимиану. Но по дороге многие из придворных останавливали его и вручали ему так же свои отставки. Император, когда узнал об этом, пришел в величайшую ярость, видя, что многие патриции[35] и трибуны[36] отказались повиноваться указу и лучше желают потерять службу, чем отречься от христианства. Говорят, что он даже воскликнул: «О! Для них это так дешево не пройдет! Пусть они не думают, что отделаются отставками: всем голову долой!» Но затем, одумавшись, он сам вышел ко всем нам. И вот тут-то возник спор. Начался он из-за того, что некоторые из патрициев и придворных, наиболее близкие к императору люди, не побоялись прямо и мужественно, даже немного в резкой форме высказать ему, что они не согласны с его мнением о пользе истребления христианства. Император сердился, страшно кричал и спорил с ними. Более всех оспаривал императора Горгоний, который представлял ему самые убедительные доводы, что Максимиан погубит свое государство, и предостерегал его от этого необдуманного и опасного шага. Но все было напрасно! Максимиан ничего и никого не слушал или, вернее, не хотел слушать, кипятился все более и более и смотрел на всех нас, присутствовавших, такими глазами, как будто хотел всех проглотить. Горгонию же досталось более всех. Император бесился и кричал на него, топал ногами и сжимал кулаки, осыпая этого прекрасного человека и старого, идеально честного, почтенного служаку грубыми ругательствами. Натешившись вволю, он ушел обратно в свои комнаты, взяв прошения об отставке офицеров и пригласив следовать за собой Ветурия, а нам приказал оставаться во дворце и ждать его возвращения. Почти два часа он сидел в своем кабинете с глазу на глаз с Ветурием, затем тот удалился, вероятно, домой, а император опять вышел к нам в приемную, еще более раздраженным, как показалось нам, чем был раньше. Это, впрочем, тотчас же и не замедлило обнаружиться…
— И что же говорил далее император? — почти шепотом спросила Наталия.
Максимиан продолжал по-прежнему беситься и грозил непокорным и непокоряющимся его указу. Он горько жаловался на то, что отовсюду окружен изменниками и предателями, намекая на тех, которые заявили ему, что они христиане, но более всего он негодовал на Горгония, грозил, ругался и вообще вел себя до такой степени неприлично, что я видел это в первый и, вероятно, уже в последний раз, и если бы он обратился ко мне таким же образом, как к Горгонию, то, клянусь честью, я бы не позволил ему этого и расправился бы с ним иначе.
При этих словах на бледном лице Адриана вспыхнул румянец, глаза заблестели, и он, гордо выпрямившись и остановившись перед своей супругой, с достоинством указал на свой меч.
— Что ж было далее, Адриан? — спрашивала Наталия, краснея и опуская глаза.
— А было вот что. Почти половина всех придворных и других чиновников и патрициев тотчас же стали просить об отставке. Император ответил, что это, конечно, воля наша — служить или не служить государю и государству, — и что неволить он никого не может и не хочет, но он знает, как ему надо поступить с государственными изменниками. Затем он, попросту говоря, прогнал нас всех от себя, и я теперь прямо оттуда…
Адриан замолчал. Наталия тоже молчала, она была положительно убита этим рассказом. До сих пор она еще питала слабую надежду на лучший исход вопроса о христианах, теперь и эта надежда была разбита и в будущем не представлялось ничего утешительного. Сердце ее мучительно сжалось.
Она взглянула на Адриана, хотела что-то сказать, но вдруг из глаз ее ручьем хлынули слезы. Адриан заботливо подошел к ней и тихо положил свою руку на ее плечо.
— Что с тобой, моя дорогая? Отчего ты плачешь? — спросил он ее своим ласковым и вкрадчивым голосом, с нежным упреком и печалью глядя на нее. — Разве ты забыла, что обещала и должна быть хладнокровной?
Он сделал сильное ударение на последних словах.
Наталия продолжала плакать.
— Не плачь, моя дорогая! — продолжал утешать ее Адриан. — Твои слезы ничему тут помочь не могут… Катастрофа, во всяком случае, неизбежна.
— Ах, несчастные, несчастные! — сквозь слезы проговорила, наконец, Наталия, качая головой. — Несчастные христиане! Ни за что, ни про что так погибнуть!
— Полно, Наталия, успокойся! Что ж делать, если император так хочет?!
— А разве невозможно что-либо еще предпринять, чтобы отклонить это общее, ужасное несчастье? — спросила Наталия, вдруг оживляясь.
— Нет! Ничего нельзя сделать! — решительно ответил Адриан.
— Ах, если бы я могла, я бы сама пошла к Максимиану и на коленях умоляла бы его отказаться от этого ужасного предприятия…
— О, дитя, дитя! — глухо проговорил Адриан, и горькая усмешка искривила его губы. — В детской головке детские мысли! Знай же, Наталия, что если целый сонм государственных людей, понимающих и защищающих интересы Римской империи, не мог отвратить Максимиана от его пагубных для целости державы замыслов, то что же могла бы сделать ты, слабая женщина? Оставь эту мечту и не думай об этом!
Он нервно повернулся и отошел от Наталии.
И в самом деле, благородная сама по себе мысль Наталии была совершенно несостоятельна. Прежде чем решиться на какую-нибудь крайность, нужно было терпеливо дожидаться дальнейших событий и тогда уже действовать согласно с обстоятельствами. Но это было крайне трудно и не было в характере обоих супругов.
В этот день они были так взволнованы, что даже не могли обедать. Роскошный, изысканный и обильный яствами обед римского патриция был предоставлен в полное распоряжение его многочисленной прислуги. Но и рабы, и отпущенники нехотя воспользовались предоставленной им милостью. Их мысли заняты были одним: отчего господа их так сильно огорчены, что не приступили даже трапезе ? Эта мысль не давала покоя прислуге и она, в свою очередь, тоже лишилась аппетита.
Это был очень невеселый день в роскошном дворце Никомидийского претороначальника.
Глава VIII
Обнародование императорских указов и других служебных известий не было особенной диковинкой для граждан новой столицы римской империи Никомидии. Они привыкли, что их государи к прежним титулам своим «самодержца» и «кесаря» присоединяли все новые и новые, как-то: «непобедимые», «великие», «первосвященники», «трибуны», «консулы», «проконсулы», «отцы отечества», «благочестивые», с присовокуплением имен местностей, где были одержаны победы, имен покоренных народов и их вождей, и количества павших неприятелей. О таких победах, на самом деле существовавших, но также иногда и не существовавших в действительности, императоры любили объявлять весьма часто. В конце концов Никомидийские граждане перестали даже интересоваться ими и, быть может, только из одной учтивости или даже из боязни, когда проносился слух о какой-нибудь новой победе «непобедимых кесарей», посылали к ним во дворец депутации.
Депутации поздравляли обоих императоров с воинскими успехами и доблестями (иногда чисто фиктивными) и благодарили их за заботу об охранении жизни верноподданных, их имущества и границ государства, которые к этому времени почти не раздвигались, а только действительно охранялись, хотя иногда и урезались стараниями воинственных соседей, отовсюду окружавших империю. Впрочем, никомидийские граждане слышали только об успехах римского воинства, слухи же об уронах, которые оно часто терпело, почему-то до них вовсе не доходили.
Как бы там ни было, но объявление последнего указа кесаря взволновало всю Никомидию, и народ огромными толпами собрался послушать глашатая и его секретаря, объявлявших указ во всеуслышание по стогнам[37] и торгам шумной столицы. По всем улицам, переулкам, рынкам и дорогам, ведущим в окрестности города Никомидии, на столбах были вывешены доски, на которых читался указ, производивший множество оживленных толков среди горожан и поселян ближних деревень и собиравший к себе толпы народа.
На лицах всех без исключения граждан Никомидии ясно читались недоумение и скорбь, на лицах огромного большинства — недвусмысленный страх. И недоумение, и грусть, и страх нагонял на лица людей указ, довольно туманно объяснявший причины гонений той веры, которая уже давно никем не преследовалась, но зато весьма ярко грозивший ужасными наказаниями за убеждения, иметь которые никто уже не считал для себя преступлением. Такой страшный, кровавый и кровожадный указ читался жителями Никомидии впервые.
Указом этим императоры окончательно воспрещали всенародно исповедовать христианскую веру, объявляли, что все офицеры и чиновники, не отрекшиеся от христианства, исключены из государственной службы, и, наконец, сообщали народу, что по их повелению христианские церкви и молитвенные дома будут разрушены до основания.
Вслед за тем в Никомидии начались разные беспорядки и наконец произошло такое крупное волнение, о каком раньше никто и помыслить не мог.
Случилось же именно следующее. Среди белого дня, на центральной площади города, обыкновенно малолюдной, а в данный момент полной народу, один из императорских чиновников читал уже известный нам указ, как вдруг из толпы граждан выделился Иоанн и, подойдя к чиновнику, выхватил из рук его декрет и тут же, на глазах всех, изорвал его на куски.
— Это такая-то нам плата за наши победы над сарматами[38] и готами[39]? — воскликнул он, с гневом глядя на чиновника и бросая лоскутья изорванного декрета на землю.
— Славной же платы дождались мы, братья! — прибавил он, обратясь к горожанам.
— Что это?! — воскликнул перепуганный чиновник. — Какая дерзость! Что ты сделал с императорским указом? Знаешь ли, что тебе за это будет?
— Пусть это будет и императорский декрет, — отвечал Иоанн, — но если это дело безбожное, то его следует уничтожить, хотя бы оно происходило от самого императора.
— Держите его, держите его, — закричал чиновник, указывая на Иоанна.
И два воина схватили Иоанна.
Но на помощь ему подоспели граждане, и дело могло принять весьма дурной оборот, если бы сам арестованный не крикнул:
— Оставьте, братья, не мешайтесь в это дело. Вы этим сами можете навлечь на себя несчастье. Я пойду к императору и скажу ему прямо в глаза, что он безбожник и враг и себе самому, и всему своему народу.
Все отступились от Иоанна, который продолжал, обращаясь к окружающим его воинам:
— Меня вовсе не нужно связывать и вести силой. И не думайте, пожалуйста, об этом. Я сам пойду вперед вас на двор к кесарю, а вы только сопровождайте меня.
И Иоанн действительно пошел вперед, за ним чиновник и воины, а далее уже несметная толпа народа.
В то время, когда на площади случилось это событие, Ветурий вторично созвал офицеров Никомидийского гарнизона и прочел им второй указ кесаря, которым увольнялись от службы все те, которые решили не отрекаться от христианства.
— Мы добровольно подали в отставку, — заметил один из военных трибунов, — зачем же в императорском декрете читается, что мы увольняемся от службы потому, что не отреклись от христианства?
Ветурий бросил свирепый взгляд на мужественного трибуна.
— Да, это правда, — сказал он, помолчав немного. — Вы подали в отставку, но император не пожелал принять ваших просьб. Но так как вы остаетесь при своем и продолжаете придерживаться нелепых заблуждений этой христианской секты, то император исключает вас из своей службы. Но быть может, я так думаю, — некоторые из вас образумятся и, уступив давлению, будут с честью продолжать свою службу, на пользу родине и государю. Император таких простит и помилует, его милость неизреченна, предупреждаю вас.
— Благодарим за такую милость! — воскликнули некоторые из офицеров, поняв насмешку. — Мы изгнаны со службы, хорошо же…
И, не дожидаясь приглашения Ветурия разойтись, они повернулись к нему спиной и стали уходить. Только некоторые, отпоясав свои мечи, с гневом бросили их перед Ветурием и поспешили к выходу вслед за своими товарищами.
Ветурий весь кипел и трясся от гнева.
— Дорого же вы заплатите за вашу дерзость, господа! — сказал он, обращаясь к тем немногим, которые еще не успели уйти вслед за прочими. — Скоро вас постигнет и моя месть, вместе с той казнью, которая ждет вас, согласно декрету императора!
— Знаем, знаем мы вас! — со смехом отвечали некоторые из молодых военных трибунов. — Знаем, как вы страшны, и, даже не поглядев на Ветурия, они скрылись за дверями и скоро вышли из дома.
В это же время и у императора происходило совещание, результатом коего было изгнание со службы многих патрициев и разных придворных чинов, кои порешили не отступать от христианства, но претерпеть гонение и даже смерть, чтобы не заслужить от современников и будущих поколений прозвища вероотступников.
Наконец и при самом дворе случилось обстоятельство, приведшее обоих императоров в сильнейший и яростный гнев. Один из дворцовой прислуги, по имени Петр, еще очень молодой человек, как доносили императорам, издевался над ними и в особенности над их указом, который он называл фиалом[40] ярости сатаны и диавола, говоря, что только безумные могли сочинить и написать его, изрыгнув столько несправедливой хулы на христианскую веру. При этом он осыпал непристойными ругательствами и таковыми же эпитетами как сам указ, так и священные особы обоих римских государей. Императоры повелели арестовать и привести к ним Петра. И когда Петр так же дерзко вел себя перед лицом императоров, то они попробовали устрашить его угрозой казни и пыток. Но так как и это не повлияло на него, то императоры повелели предать его смертной казни, выбрав для этого один из самых мучительных ее видов.

Это последнее повеление императоров произвело страшный переполох по всей Никомидии, одновременно став известным как по окраинам, так и по окрестностям, как ближним, так и дальним. Всюду распространились страх и уныние, никто не был уверен в завтрашнем дне, и все дрожали за свою судьбу и безопасность.
А между тем те, кому бы наиболее следовало опасаться за свою судьбу, по-видимому, нисколько не тяготились своим положением и не боялись последствий грозного императорского указа, хотя и почти исключительно направленного против них.
Мы говорим об исключенных из службы чиновниках, придворных и офицерах и некоторых близких к императорам людях. Они спокойно жили в своих домах, по-видимому, вовсе не заботясь о том, что не только дни, но даже часы их жизни уже сочтены неумолимым роком, и что смерть уже витает над их обреченными ей в жертву головами.
Но эти люди были совершенно спокойны.
Глава IX
Между тем власти энергично приступили к самому страшному делу — к делу разрушения церквей. Все церкви были уже заранее запечатаны и охраняемы большими отрядами воинов. Когда же приступили к самому разрушению храмов и других молитвенных зданий, то не только площадки перед ними, но и все ближайшие к ним улицы были окружены войсками, под прикрытием которых рабочие занимались своим ужасным делом.
Сообщение по улицам, таким образом, было прервано и власти этим воспользовались, чтобы делать обыски, аресты, допросы, доносы и тому подобное. Воины вторгались в дома и квартиры частных лиц, хватали священников, диаконов, клириков и мирян, большинство из них отводили в тюрьму, но некоторых, пользуясь отсутствием всякого контроля над своими действиями, прямо убивали и пытали, вымогая от них деньги, бесчестили их жен и дочерей. Дерзость и наглость воинов простерлись до того, что от их свирепости страдали не только христиане, но и сами язычники… Отовсюду слышались вопли против господствующей анархии и против неистовства, чинимого представителями «солдатского царства».
За короткое время Никомидия уже представляла из себя страшное зрелище.
«Мы никогда не доживали и не думали дожить до таких ужасов, какие мы видим теперь», — говорили старожилы-горожане и со страхом помышляли о завтрашнем дне. Отовсюду слышались страшные рассказы о том, что воинам в награду за аресты будет отдано все имущество христиан: их дома, честь их жен и дочерей; наконец, право продавать и обращать их детей в рабство, а найденных рабов освобождать и отпускать на волю; производить допросы и следствия, прибегая в нужных случаях к употреблению пытки.
Но воины в этом случае превысили даже данные им полномочия. Нашлось много недобросовестных и безнравственных людей, которые клеветали и лжесвидетельствовали для того, чтобы воспользоваться наградою за донос или имуществом, или частью его у христиан.
Таким образом погибло множество лучших людей даже среди самих язычников. Воины врывались в их дома, грабили все, что попадалось им под руку, бесчестили женщин и, под конец, предавали смерти всех обитателей дома самыми жестокими муками: вешая, отрубая головы, иссекая мечами или сжигая их живьем на медленном огне; иногда топили в колодцах и бассейнах, женщин вешали за волосы, вбивая в подошвы и ступни ног мелкие гвозди и острые шпильки, вырезая ремни из спин, и умерщвляли их всякими зверскими способами.
Рисунок Маргариты Мальцевой
Не лучше было положение и тех, которых запирали в тюрьмы, а потом отводили на суд к императорским судьям. Судьи же действовали во всем согласно императорскому указу. Когда к ним приводили подсудимого, они не спрашивали его о преступлении, так как по большей части такового и не было, а ограничивались только одним вопросом: «Ты христианин?» — и, получив утвердительный ответ, немедленно же изрекали смертный приговор, руководствуясь при сем словами императорского указа и для устрашения прочих. В дальнейшее же разбирательство дела они не входили и не принимали во внимание ни пола, ни возраста обвиняемых. Всех равно ждала мученическая смерть, а перед смертью еще иногда и тягчайшие поругания.
Темницы были переполнены, и мест, чтобы сажать «преступников», в тюрьмах не было. Но несмотря на страшное истребление христиан в силу смертных приговоров, число заключенных нисколько не уменьшалось, а со дня на день увеличивалось. Ввиду этого власти решили не только не останавливать неистовство воинов, но наоборот, всемерно поощрять эти зверства. Истребивший большее число «преступников» награждался, сообразно званиям и богатствам истребленных. Таким образом, у убийц появилось некоторого рода соревнование, а вместе с тем могла установиться и правильная статистика жертв и некоторый контроль за точным исполнением императорского указа.

Однако несмотря на страшное, свирепствовавшее в Никомидии гонение, несмотря на избиение множества священников и других клириков Никомидийской церкви, владыку Анфима еще не трогали. Наконец, пришла очередь и до этого почтенного, всеми гражданами уважаемого человека: нашлось и для него место в одной из темниц, несмотря на переполнение их.
Ужасна была картина, когда этого седого, разбитого дряхлостью и болезнью старца (он страдал параличом) грубые воины повлекли из дома в темницу. Никто не пришел проститься с ним, никто не проводил его. Наоборот, все попрятались или разбежались, все отшатнулись от него, и несчастный старец остался совершенно один. Когда воины выводили его со двора, он в последний раз в жизни оглянулся на свое жилище и долго смотрел на него, как бы прощаясь с ним и благословляя его перед разлукой. Оно так на самом деле и было. Владыке Анфиму не суждено уже было вернуться обратно в свое обиталище.
Несчастный старец почувствовал себя сиротою, покинутым своею паствой, оставленным всеми, дорогими для него и любимыми людьми, и горько, безутешно заплакал. А грубые воины насмехались, били и толкали владыку. Для них была чужда святость его сана, и они смотрели на старца только как на влекомого ими государственного преступника, хотя все его преступление именно и состояло в том, что он принял на себя и с честью носил этот сан.
Если грубых воинов, оскорблявших владыку Анфима, еще можно было бы оправдать тем, что это были язычники, то какое же оправдание мы приищем для тех, которые называли себя верными, гордились своими высокими (быть может, воображаемыми) христианскими доблестями, а в горькую минуту бросили своего архипастыря, выдали его смертельным врагам христианства, а сами попрятались по домам, терзаясь низким, малодушным страхом? Какое имя мы дадим таким людям, как мы назовем их?
И в то самое время, когда владыку Анфима запирали в темную, тесную и затхлую конуру никомидийской тюрьмы, только в это время его паства, его «достойные» ученики и сподвижники стали показываться из убежищ, где они скрывались во время ареста своего архипастыря.
Теперь собралась вся паства, все словесные овцы, лишенные своего архипастыря. Теперь только поняли они всю утрату, постигшую их, и их бледные лица, со следами еще недавнего малодушного страха, вдруг оросились горькими, неудержимыми и неутешными слезами.
— Потеряли мы теперь своего владыку, — заливаясь горькими слезами, простонал один священник. — Что мы, несчастные, будем делать? Пропадем и мы все!
— Пропадем! — возопила вся паства.
— О, если бы мы не оставили его или не отдали бы, но разделили одинаковую с ним участь… И в самом несчастье есть счастье, братие. — Последуем за ним!
— Последуем! — рыдали в толпе, теснясь около говорившего священника.
Всеми вдруг овладело раскаяние.
— Братья! Не оставим его, пойдем к нему… Вспомните: во время мира и покоя церковного вы были верны ему, а теперь, в минуту нашего тяжкого испытания, вы бросили его и предали злодеям, как Иуда Христа!
Толпа слушала красноречивого проповедника, все прощались друг с другом, просили один у другого молитв. Но сам оратор, кажется, позабыл, что в числе предавших архипастыря был и он. По крайней мере, обличая других, он не счел нужным сам признаться в своем грехе принародно. Впрочем, и то было хорошо, что он с успехом взывал к лучшим чувствам других людей. Но, как бывает в каждом деле, и здесь нашлись несогласные.
— В чем мы будем каяться? — спрашивали эти последние. — Неужели вы думаете, что наш владыка выше Христа, а мы лучше апостола Петра?.. Кажется, мы никакого преступления не сделали тем, что не последовали за своим архиереем в темницу? Так поступил и святой Петр, отказавшись от Христа! А мы, по чувству смирения, не должны возвышаться своими делами над святыми, а тем более над апостолами…
Голоса этих «смиренных», благонамеренных и благоразумных людей пересилили мнение большинства. Толпа рассудила, что лучше покориться обстоятельствам и каждому отдельно ожидать своей участи, а пока разойтись по домам и не выходить из них без особой нужды, дабы не накликать на себя беды.
Глава Х
Казни в Никомидии происходили ежедневно и были так страшны, что многочисленные толпы зрителей, людей невежественных и лакомых до всяких забав и кровавых потех, и те даже вполне искренно приходили в ужас и негодовали на это безумное истребление населения, тем более что большинство казненных страдали невинно, за одно только имя христианина.
Негодование все росло и росло. Власти стали опасаться бунта, но казни не прекращались: на место одних жертв и палачей являлись другие, и так казалось, что этому и конца не будет. Класс лазутчиков и доносчиков увеличивался со дня на день, и жизнь и честь каждого гражданина висела на волоске. Стоило только не понравиться первому встречному сыщику, и донос уже готов, а там обычное: пытка, разорение и мучительная смерть.
Все улицы города были покрыты войсками, точно в военное время. То там, то сям видны были сильные отряды, окружающие какой-нибудь дом, откуда слышались крики, стоны, рыдания, плач, а иногда дикие ругательства и грубый, зверский хохот палачей.
Рисунок Маргариты Мальцевой
В толпе воинов, окружающих дом, на дворах, в самом доме всюду мелькали злорадные лица гнусных, бездушных доносчиков. Изредка встречались группы воинов, предводительствуемые шпионами, которые шли с торжествующими лицами и вели за собой целые толпы христиан. Шпионы, натешившиеся своими жертвами, шли веселые, в ожидании получить богатые награды за свое усердие; воины — тоже. Но арестованные по большей части имели страшный вид: с окровавленными лицами, со связанными назад, как у преступников, руками, в изорванных одеждах, — они едва передвигали ноги. При этом отстающих или усталых воины били воловьими жилами или камнями по ногам или кололи копьями, или с ругательствами ударяли по лицу и плевали в глаза. Часто то же самое делали с несчастными и некоторые из встречающихся по пути язычников-фанатиков.
Но еще ужаснее были казни и сами места для них. Тут все было полно свежей человеческой крови, а на лицах, встречающихся в этом месте, был написан невыразимый ужас. Сами дома здесь были забрызганы кровью.
Там, на этой самой площади, где Иоанн всенародно разорвал императорский декрет, вырвав его из рук читавшего его императорского чиновника, были устроены виселица и громадный костер. На этом костре и окончил свою жизнь Иоанн.
На Малом Торгу (так называлась одна из Никомидийских площадей) была совершена казнь над придворным служителем Петром. В землю вбили четыре бревна по краям и пятое в середину, на которое и положили Петра, привязавши его руки и ноги к каждому из крайних бревен. Привязав его толстым канатом и раздев донага, его били воловьими жилами с такою силой и до тех пор, пока не обнажились кости. Тогда его сняли с бревна и положили на решетку, которую понемногу раскаливали[41] на угольях.
Иногда решетку снимали с угольев и предлагали ему отречься от христианства, но он упорно отказывался изменить своей христианской вере. Тогда решетку опять ставили на уголья, а его поливали расплавленной серой.
Это продолжалось до тех пор, пока Петр не умер, удивив своей твердостью и выносливостью даже самих своих мучителей. Далее были повешены Дорофей и Горгоний, оба рядом на одной виселице и повернутые лицом к окнам роскошного дворца императоров.
Седого владыку Анфима, уважаемого и любимого всеми, даже язычниками, казнили на третий день ареста отрублением головы.
А помимо этих главных жертв одновременно погибали под руками палача и множество других, терзаемых и мучимых всенародно на площадях и улицах города. Население Никомидии заметно поредело. Погибли не только все христиане, но недосчитывались и многих язычников, в особенности тех, которые обладали большими богатствами, но при этом не имели возможности принадлежать к сильным мира сего.
Множество христиан спасли себе жизнь тем, что принесли жертвы идолам и были окроплены языческой кровью принесенных в жертву идолам животных. Так они и их семьи избежали пыток и поруганий; дома их не были разграблены и, кроме того, сами они получили еще от кесарей богатые подарки.
Некоторые из них, окончательно заглушив в себе угрызения совести, стали сами весьма ревностными шпионами и доносчиками, погубив своих братьев и увеличивая накопленные богатства.
Глава ХI
Оставшиеся в живых после этой ужасной бойни немногие христиане Никомидии завидовали участи погибших. Между тем, по дошедшему до нас свидетельству современного беспристрастного историка, «палачи утомились от беспрерывных казней, орудия пыток иступились и переломались, колеса зазубрились и мечи заржавели, а на сооружение новых костров уже не хватало дерева и других горючих веществ, так как леса и рощи, окружающие со всех сторон Никомидию, были вырублены; сами судьи утомились, допрашивая подсудимых, и доносчики выбились из сил, перебегая из дома в дом, а оттуда в преторию или к грозному Ветурию…» (Евсевий Кесарийский)[42].
Христианские храмы были разрушены и всякие собрания христиан, безусловно, воспрещены. Но и сами христиане, как мы уже выше сказали об этом, боялись выходить из домов, страшась навлечь на себя гнев властей и новые ужасы новой, бесконечной и беспощадной бойни…
Но злоба язычников и бесчестных людей искала новых жертв и, наконец, нашла их… Несколько подкупленных рабов и злодеев донесли Никомидийским властям, что в одной из пещер в окрестностях города тайно собираются христиане и тайно молятся своему Богу, совершая в честь Его жертвоприношения и другие, воспрещаемые законом, действия и обряды.
Доносчикам немедленно же было отдано приказание схватить и привести означенных христиан, не щадя ни пола, ни возраста. А для этой цели к ним придан был сильный отряд воинов.
Сказано — сделано! Христиан действительно нашли в указанном месте, всех похватали, связали и повели на судилище. Всех арестованных было 23 человека!
На беду, это случилось еще в одно из языческих празднеств, когда сам Максимиан отправлялся в капище, чтобы принести жертву богам. Воины вошли в город и поравнялись с императорским дворцом в то время, как Максимиан вышел на крыльцо и садился в колесницу, намереваясь ехать в языческое капище.
Увидя связанных людей, он остановился и, подозвав к себе воинов, осведомился у них, что это за люди, которых они связали и ведут? Узнав же, что схваченные все принадлежат к ненавистной ереси — заблуждению христианскому, — Максимиан разгневался, но вскоре оправился, желая подействовать на «преступников» ласкою.
Он начал издалека, похвалив твердость, с которой они исповедуют свои убеждения, но не преминул также высказать и свое удивление тому, что такие мужественные и убежденные люди стоят за подобные заблуждения.
Выразив это, император с жаром стал доказывать преимущества старой (то есть языческой) веры отцов. Он говорил много и долго, просил и требовал, чтобы они отрекались от христианства для спасения самих себя и для целости государства и, наконец истощив все доводы и все свое красноречие, выразил надежду, что убедил их и что они примут его отеческие советы к сердцу, стараясь во всем следовать примеру его «божественности».
Высказав это, Максимиан остановился в ожидании ответа со стороны христиан, но они безмолвствовали и стояли перед ним неподвижно, сосредоточенно глядя в землю. А когда Максимиан прямо предложил им отправиться вместе с ним в языческий храм и там принести жертву перед идолами, то в ответ получил от всех единодушный клик:
— Не хотим, государь…
Что тогда стало с Максимианом! Сначала он позеленел, потом покраснел, но от гнева не мог сказать ни слова и только безмолвно двигал губами.
Наконец дар слова возвратился к нему.
— Это измена… Бунт… — закричал он. — Почему вы отказываетесь?
— Не можем, государь… — так же громко, твердо и согласно ответили христиане.
— О, несчастные! — завопил Максимиан и поднял кулаки.
С минуту он стоял в нерешимости. Потом огляделся вокруг себя и обратился к толпе воинов с вопросом:
— Кто из вас сумеет обратить этих несчастных к познанию света истинной веры?
Хитрый и лицемерный вопрос этот был понят воинами как нельзя лучше. Трое из них, вооруженные длиннейшими бичами, сделанными из толстых, как канат, воловьих жил, тотчас же выступили вперед.
— Ударьте их. И ударьте хорошенько! — бесился Максимиан, топая ногами и потрясая в воздухе кулаками.
Началось страшное истязание несчастных христиан. Воины повалили их на землю, волочили за концы веревок, которыми они были связаны, били по чему попало. Удары сыпались и по лицу, и по рукам, и по спине… Воины топтали их ногами и кололи копьями и мечами.
Но христиане, заглушая свои стоны, беспрерывно повторяли:
— Мы страдаем и терпим все это за имя Христа Спасителя…
Эта ужасная сцена тянулась настолько долго, что Максимиан уже потерял всякое терпение. Он сел в колесницу, торопясь к богослужению в языческий храм, и хриплым голосом прокричал своим воинам:
— Дети мои!.. Бейте их камнями по лицу! Выбейте у них, окаянных, все зубы, чтобы они не могли более твердить имя Этого ужасного своего Христа!
Воины с жаром бросились выполнять приказание императора и с таким усердием принялись за указанное им дело, что били не только мучеников, но даже друг друга, в общей схватке не разбирая и не видя, где лицо преступника-сослуживца по оружию и по позорной роли палача. Текла кровь несчастных христиан, но теперь текла также кровь и их лютых мучителей — грубых и жестокосердных воинов. Многие из них отступили с окровавленными лицами и руками…
— Что ты делаешь, господин! — слабым голосом сказал один из мучеников, обращаясь к импероатору. — За что ты так страшно мучаешь нас, ни в чем неповинных людей? Погляди, что ты сделал и со своими верными слугами, со своими воинами, которых ты сейчас только сам назвал своими детьми… Боишься ли ты Бога, государь? Ведь Он, Всемогущий, очень хорошо знает все, что делается здесь, на земле. Он слышит и видит Своим Божественным Разумом и очами… Он разрушит твой престол и жестоко покарает и тебя самого за твою жестокость. На тебя нет управы на земле, так пусть Сам Бог явится тебе за нас мстителем.
— Что?.. — воскликнул Максимиан. — Про кого это ты так говоришь? Не про меня ли, твоего государя?
— Про тебя! — ответили все христиане единогласно.
— Про меня?! А знаете ли, что я придумаю для вас самую страшную изо всех смертей, какой еще не видела Никомидия? А?
— Волен ты, император, делать, что хочешь, — ответили ему христиане, — но ты можешь мучить нас в продолжении только нескольких часов, нескольких дней, пусть даже в продолжении несколько недель и месяцев. Но, в конце концов, страдания наши кончатся. А тебя, несчастный государь, ждут вечные вечные муки, которые никогда не прекратятся.
Выслушав ответ христиан. Максимиан побледнел от злости и негодования, но не мог придумать, что ему теперь предпринять. Он несколько раз подходил к колеснице, останавливался, всматривался в каждого мученика, как бы желая запомнить черты его лица, и при этом зловеще молчал. Придворные и стража, толпясь около него, также молчали, словно пораженные страхом. Молчали и христиане, не желая более говорить со своим мучителем. Наконец, Максимиан сел в колесницу, велел вести себя в языческий храм, а воинам, сопровождавшим христиан, крикнул:
— Ведите их, дети мои, в тюрьму! А я поеду помолиться богам, чтобы они научили меня, что мне делать с этими негодяями — ослушниками и воли богов, и моей воли! Дальнейшие приказания вы получите от претороначальника Адриана!
Воины повели христиан к темницам, а Максимиан поехал к площади, где блистал и возвышался великолепный языческий храм в честь богов — покровителей Римской империи.
Глава ХII
По прибытии на место, христиане тотчас же были заключены в темницу, а придворной канцелярии повещено обо всем случившемся, о месте и времени ареста преступников и о числе арестованных.
Начальник канцелярии, претороначальник Андриан, немедленно отправился допросить подсудимых. Ему нужно было выслушать доносчиков и при сопоставлении их ответов с ответами христиан установить факты и степень виновности каждого из арестованных в отдельности.
Адриана сопровождал также и секретарь канцелярии. Когда оба чиновника вошли в темницу, ужаснейшую из всех темниц в Никомидии, более страшную, чем гроб и могила и сама смерть, они нашли христиан, спокойно сидевшими на полу и вполголоса беседовавшими между собою. Это сильно поразило обоих чиновников. Они переглянулись между собой, и Адриан, сделав один шаг вперед, громким и твердым голосом поздоровался с осужденными преступниками. Получив от них в ответ такое же приветствие, Адриан немедленно приступил к допросу. Секретарь писал, а Адриан предлагал вопросы.
Но чем более углублялся Адриан в отыскивание правды, — не внешней правды их ареста, а внутренней правды, причин, повлекших за собою это несчастие, — тем более и более он чувствовал их невинность, тем более и более сердце его располагалось к ним. И начавши допрос суровым голосом и надменным тоном неумолимого следователя и верховного судьи и начальника, он мало-по-малу снизошел до тона доверительно-спокойно беседующего друга. Он уже не спрашивал их о мнимых преступлениях, но беседовал об истинах христианской веры.
Христиане говорили с жаром, и образ Сына Человеческого, Сына Божия, этот кроткий, всепрощающий образ Божественной Любви, становился необыкновенно дорог и знаком ему. Когда же христиане рассказывали о своих муках и страданиях, то Адрианом овладело горькое чувство, так что его душили слезы. Он не мог усидеть спокойно на своем месте и быстрыми шагами ходил по сырой и мрачной комнате тюрьмы.
Постепенно, по мере вдумчивого углубления в ответы христиан, он стал чувствовать их правдивость и испытал на себе непреодолимое желание разделить с ними свою участь. Но не столько истины самой веры Христовой убедили его, сколько смирение, с которым христиане относились к своим страданиям и вообще к своей судьбе, беззаветная надежда, с которой они упоминали имя своего Бога и Его Сына Иисуса Христа, ради Которого терпели муки и поругания, ожидание вечных наград в небесном Царстве за временные земные муки, наград, которые ожидают праведников, твердо вынесших испытания и устоявших против соблазнов и обольщений; наконец, искренняя вера в истинность своих убеждений. Все это будоражило Адриана, и он рад был слушать христиан и готов был слушать их без конца.
Когда допрос был окончен и секретарь составил протокол обо всем случившемся, то подал его Адриану для подписи.
— Что же? Разве уже все готово? — спросил Адриан, как будто изумленный.

— Все! — отвечал секретарь. — Допрос снят со всех христиан.
— Я не имею права подписывать его, — произнес Адриан спокойно и тихо, но твердым голосом. — Протокол этот, по моему мнению, не закончен, а когда он будет и закончен, то все-таки я не буду иметь права подписать его, ибо подпись моя ничего решительно не значит… Садись и продолжай писать…
— Но что же я буду писать дальше? — спросил секретарь, с изумлением глядя на Адриана и не понимая, чего еще требует от него претороначальник.
— Пиши следующее, — произнес Адриан повелительным тоном и несколько раз прошелся по комнате.
— «Когда был поднесен этот протокол для подписи Никомидийскому претороначальнику Адриану, — диктовал Адриан своему секретарю, — то он сказал следующее: “И я тоже христианин!”».
— Что ты говоришь? — воскликнул глубоко пораженный секретарь и даже привскочил на своем месте.
— Пиши, что я тебе приказываю, — спокойно сказал Адриан и усмехнулся. — Я тоже христианин, я тоже верую в Христа Бога!
— Но я не могу писать этого, — протестовал несчастный секретарь.
— Быть может, что ты и не можешь, но ты должен, — твердо сказал Адриан.
— По службе! — прибавил он.
— Ах! — произнес секретарь и с отчаянием посмотрел на Адриана:
— Что ты сделал, что ты сделал, Адриан!
— Пиши, дорогой мой! — заговорил Адриан мягким голосом, положив ему руки на плечи. — Я понимаю тебя и твое отчаяние, но чему быть должно, того не минуешь… Прошу же тебя: пиши, что я тебе приказал.
Секретарь плакал навзрыд, но долго еще не соглашался исполнить приказание Адриана. Наконец, спокойствие Адриана и напоминание о долге службы превозмогли желание испуганного секретаря, и он дрожащей рукой приписал последние слова Никомидийского претороначальника к составленному им протоколу.
Новый христианин без колебания подписал свой смертный приговор, а его подпись скрепил секретарь. Адриан же подошел к нему и крепко пожал ему руку.
— Полно, друг мой, — тихим голосом сказал ему Адриан. — Не беспокойся… Много ли значит: одним человеком больше или меньше на свете? Я добровольно назвал сам себя христианином, твоя совесть не должна мучить тебя, что ты меня погубил. Будь весел по-прежнему, только прошу тебя: почаще вспоминай твоего товарища Адриана.
— Ах! — простонал секретарь. — Никогда я не забуду этого дня. — Это день несчастья в этой жизни.
Он не мог более говорить от слез и, плача, вышел из комнаты. Адриан же остался в тюрьме…
Глава ХIII
В тот же самый день Максимиан сидел в своем кабинете и прилежно читал полученные утром донесения провинциальных чиновников. В дверь кто-то постучался, и вошедший адъютант доложил, что императора желает видеть государственный секретарь. Такое посещение, возвещавшее о чем-либо необычном в текущих делах Империи, а тем более в неуказанное время, не могло понравиться Максимиану, и потому он довольно грубо обратился к адъютанту с вопросом:
— Да что же, разве он не может обратиться к кому-либо другому, помимо меня? Неужели дело настолько важно?
— Я и сам не хотел принимать его, — вежливо отвечал адъютант, склонившись перед императором, — но государственный секретарь говорит, что дело настолько важное, что не терпит отлагательства.
— Что еще там такое? — проговорил император недовольным голосом. — Наверное, какая-либо мелочь, которая в глазах этого беспокойного человека кажется чем-нибудь необычайным. Но так как он все равно оторвал уже меня от дела, то пусть войдет сюда. Посмотрим, что это за важная новость.
Адъютант отворил двери в кабинет и попросил господина государственного секретаря пожаловать пред очи наибожественнейшего и наисветлейшего императора. Государственный секретарь был бледен и казался испуганным и растерянным. Максимиан смерил его с ног до головы долгим и строгим испытывающим взглядом.
— Ну, чего тебе надо? — спросил он тоном, в котором можно было легко угадать, что он намерен обойтись с таким важным должностным лицом далеко не любезно.
Этот тон и взгляд маленьких, воспаленных и злобных глаз императора еще более смутил несчастного государственного секретаря, и он начал дрожащим от волнения голосом:
— Божественный император! Я знаю, что ты, быть может, и не поверишь моей речи, но я говорю истину и заверяю твою светлость, что верный доныне слуга твой Адриан-претороначальник…
Чиновник остановился и нерешительно глядел на императора.
— Ну, что же с Адрианом? — спросил император, видимо, озадаченный и раздосадованный внезапным перерывом в речи государственного секретаря.
— Я боюсь, государь, что ты не поверишь, но я говорю истину: Адриан — христианин!
Эти слова так глубоко потрясли Максимиана, что он как будто застыл на своем месте. Он изменился в лице, и в широко распахнутых глазах его светилось искреннее, непритворное и притом безграничное изумление и сожаление. Вслед за тем на лице его выразилась досада, которая сменилась сначала гневом, потом сожалением, потом отчаянием, наконец — горем…
Но надо всем этим брало верх изумление.
Максимиан отказывался верить своим ушам.
— Что? Что ты сказал? — упавшим голосом проговорил император, глядя на государственного секретаря, и быстро приподнялся с кресла.
— Он христианин, государь!
— Нет! Этого не может быть! — воскликнул Максимиан с искренним чувством.
— Адриан не может быть христианином! — продолжал он со все более возрастающим волнением. — Нет! Это клевета!
Настала мертвая тишина. Только Максимиан крупными шагами ходил по комнате взад и вперед. Адъютант и государственный секретарь, стоял у двери кабинета, с трудом затаив дыхание, с минуты на минуту ожидая грозы.
Но грозы не произошло. Максимиан успокоился или старался успокоиться на той мысли, что на Адриана, на его любимого Адриана-претороначальника, возведена нелепая и постыдная клевета. Он решил сам убедиться в этом и лично допросить Адриана. Поэтому, обратясь к адъютанту, император уже мягким голосом и даже с улыбкой, столь редкой гостьей на его злобно-суровом лице, отдал ему приказание:
— Пойди, Вогий, и позови ко мне тотчас же Адриана. Я сам спрошу его обо всем. Возвращайся и ты вместе с ним.
— А ты, — обратился он к государственному секретарю, стоявшему у дверей и смиренно ожидавшему приказаний, — иди в приемную и дожидайся там, пока я тебя не позову.
— Идите же!
Адъютант и государственный секретарь вышли из кабинета. Оставшись один, Максимиан подошел к столу, уселся в кресло, опустил голову на руки и глубоко задумался. Да и было от чего задуматься императору! Его сильно встревожила мысль, что любимый им высший офицер гвардии, его претороначальник, лицо из наипочетнейших во всей империи, и вообще такое, на которое он более всего полагался и которому доверял так много важных тайн, государственных и частных, — что это лицо могло быть изменником-христианином. В глазах Максимиана эти два понятия имели одинаковое значение.
Но помимо тревоги, Максимиана волновали и другие чувства. До сей поры Адриан был верен ему, был его правой рукой в военном совете и на бранном поле. Кем он заменит его теперь? Адриан был для него дорог, как милый и добрый сын, послушный и исполнительный по отношению к своему императору, и Максимиану было горько и тяжело считать этого милого и дорогого ему человека изменником.
«А вдруг это правда?» — думал он. И император почувствовал себя как будто осиротевшим…
Но тотчас же в холодной пустоте своего сердца он обрел и новое успокоение, — новое чувство, которым вполне утешился. Это новое чувство, к сожалению, было в нем далеко не новостью, это было требование жестокой, неумолимой мести… Но в его отношениях к Адриану оно действительно было новостью.
А между тем он думал: «Что, если весть о принадлежности Адриана к этой ужасной секте окажется не клеветой, а правдой? О! Тогда моя месть обрушится на него всею тяжестью. Этого нельзя так оставить! Я заглушу в своем сердце все мои чувства к нему, я выдумаю для него самые страшные муки и казнь».
И дух его, как злой ворон, пошел витать по всем областям и окраинам великого Римского государства. Всюду ему грезились бунты, восстания, опасность для его драгоценной жизни.
«Они злоумышляют против меня! Я должен истребить их!» — думал он про христиан, и черные мысли так овладели всем его существом, что он, как бешеный, соскочил со своего кресла и принялся большими шагами ходить вдоль и поперек по комнате, как раненный олень, мечась то в ту, то в другую сторону.
— О, христиане, христиане! — говорил он сам с собою. — Что это за гадкая, презренная секта! Чего они хотят от меня, от своего государя? О, злые убийцы, варвары, негодяи! Буду ли, не буду ли я на престоле, кара богов все равно вас постигнет, не минет ваших голов. Но что же теперь я предприму против них, если прежние ужасные меры прошли бесследно для их уничтожения? Поистине, это изумительно, но не согласиться с этим невозможно: секта растет и множится, несмотря ни на какие гонения и преследования. Вот депеши, полученные мною сегодня с час тому назад… О чем пишут мне мои верные наместники по префектурам[43] и провинциям? Во всех донесениях я нахожу — будто все они писали под копирку, — что, несмотря на все их старания, количество христиан в провинциях не только не уменьшается, но еще даже увеличивается, и я не знаю, что мне еще предпринять против них. Ужасы, имевшие место у нас в Никомидии, не только не испугали безумцев, но как будто придали им еще больше храбрости, еще больше силы… Все эти казни: вешание, колесование, сожжение, насилие, тюрьма и ужасные пытки, которым были подвергнуты христиане, не привели решительно ни к чему. Что же я буду теперь делать против них? Прекратить гонения? Это невозможно! Это бы значило добровольно отказаться от своей короны, от власти, которую я добыл с таким трудом. И я лучше попрощаюсь со своей жизнью, чем откажусь от престола. Нет! Это невозможно, этого не будет! Я продолжу гонение, чтобы с корнем вырвать эту гнусную ересь, хотя бы для этого мне пришлось истребить более половины всего населения империи.
Максимиан замолчал и тяжело вздохнул. Он был страшно утомлен и физически, и нравственно: холодный пот крупными каплями покрывал его чело.
Шатаясь, он подошел к креслу, тяжело опустился в него, закрыл глаза и свесил голову на грудь. Казалось, император уснул, но это продолжалось недолго. Внезапно из приемной раздались быстрые и решительные шаги нескольких людей, которые, по-видимому, направлялись к кабинету. Император поднялся с кресла и стал прислушиваться. Дверь из приемной растворилась, и в кабинет вошли два человека. То были Вогий и Адриан.
Войдя в кабинет, они воздали императору военную честь, после чего Вогий, по мановению руки императора, удалился, а Адриан остался лицом к лицу с Максимианом в его кабинете.
Настали минуты томительного молчания. Максимиан устремил глаза на молодого претороначальника и долго всматривался него. И вправду, Адриан невольно привлекал к себе взоры каждого. Глядя на него, трудно было даже определить себе, что более всего могло понравиться в нем: высокий ли рост его или гордая осанка и поступь воина, или его прекрасное, полное благородства и мужества, с одной, и добродушия, с другой стороны, лицо, или черные глаза, полные огня и проницательности, или, наконец, его роскошное одеяние и блестящее, дорогое оружие? Но все это до такой степени действовало на постороннего зрителя и очаровывало его, что ему стоило больших трудов отвести глаза от лицезрения этого превосходного во всех отношениях человека.
И Максимиан в настоящую минуту находился под влиянием этого могучего чувства: очарования личностью и вообще всею внешностью Адриана. И хотя каждый день по несколько раз он виделся со своим претороначальником, но так же, как и в первый раз, он теперь еще раз подумал про себя: «Вот это настоящий идеал воина!»
Максимиан кашлянул и повернулся на своем кресле.
— На тебя, мой милый Адриан, — начал он тихим голосом, — возведена постыдная клевета. Это мне тем более удивительно, что, как мне известно, врагов у тебя нет, а между тем не более часа тому назад господин государственный секретарь рекомендовал мне тебя с совершенно небывалой стороны: со стороны ослушника моей воли — лживого и презренного христианина. Будь добр, мой дорогой Адриан, рассей все мои сомнения. Я вполне уверен в тебе, но все-таки хотел бы и из твоих уст услышать отрицание этой безумной клеветы. Ну, что же?
— Государь! — произнес Адриан, твердо и гордо поднимая свою красивую голову. — Государственный секретарь не солгал тебе, и это не клевета. Я действительно христианин!
Максимиан как будто окаменел, услышал, что наиболее близкий к нему человек с таким хладнокровием и смелостью, так безбоязненно признается в тягчайшем из всех преступлений — в государственной измене.
— Да ты, что же это, шутишь, что ли? — спросил Максимиан едва слышным и дрожащим от волнения и страха голосом. — Понимаешь ли ты, что ты говоришь и в чем сознаешься? И еще перед кем? Перед своим императором!
— Перед тобой, государь, я всегда и всюду был откровенен. Ничего я от тебя не скрывал и никогда я тебе не лгал. Не лгу и теперь. Да, это правда! Я действительно христианин!
— Но ты не можешь быть христианином! Ты должен исповедовать ту религию, которую исповедует твой император, которая есть столп и основание нашего государства и моего престола!
— Государь! — сказал Адриан с убеждением и постепенно возвышая голос. — Волен ты говорить, что хочешь, но я тебе скажу только одно: и христианская вера могла бы быть столпом твоего государства. Таким же столпом, как и языческая, если только еще не крепче. Ты бы смело мог опереться на этот столп, и он бы не рухнул под тяжестью империи, и почва не ускользала бы у тебя из-под ног так, как ускользает она из-под них теперь. Скажи мне правду, государь, неужели ты так привязан к своей религии, неужели она удовлетворяет тебя, неужели ты еще веришь в своих устаревших богов?
— Ты не смеешь так разговаривать со мной! — вспылил Максимиан и вскочил со своего кресла. — Но если уже пошло на то, чтобы мне договариваться и объясняться с тобою, изволь, так и быть, я скажу тебе. Верю ли, не верю ли я своим богам, до этого нет тебе дела, но вот чему я не верю, то это твоим медовым речам. Я знаю, что все вы, христиане, таковы! Этими речами вы хотите обольстить и усыпить меня, чтобы я перестал бодрствовать над благосостоянием врученной мне всемогущими богами империи. Тогда вы, поссорив меня с моим народом, свергнете меня с престола и, поставив на него одного из своих, сами станете распоряжаться империей, как хотите. Но уверяю вас, что вы этого не достигнете! Запугать меня мудрено! Пересилить меня невозможно! Я недаром — «Непобедимый цезарь!». Но ты? Ты? Как осмелился ты стать на сторону моих врагов? Как у тебя достало духу изменить мне, отплатить мне черною неблагодарностью за всю мою любовь и благодеяния, которые я так щедро изливал на твою голову?
Максимиан в сильном волнении несколько раз прошелся взад и вперед крупными шагами по комнате.
— Государь! Было много случаев, когда я выражал тебе свою благодарность за твою любовь и внимание. Мало того, я готов для тебя по первому твоему слову жизнь положить и все отдать тебе — все, что только можно отдать. Но прежде всего, я все-таки христианин и не могу изменять Христу и христианам даже ради твоей великой любви ко мне. Мое место среди них, государь!
— И ты будешь с ними, если ты так сильно этого желаешь, — сказал Максимиан дрожащим от злобы голосом. — Подожди только немного, подожди… Но только ты жестоко ошибаешься, если думаешь, что христиане могут быть твоими друзьями! Как ты ни уверяй меня в этом, я тебе все равно не поверю.
— Думай, государь, как хочешь, — снова с твердостью сказал Адриан, — но я тебя уверяю, что христиане для тебя более полезны, нежели язычники. Поверь мне! Я не лгу…
— А кто заразил христианством тебя, мой верный слуга? — спросил Максимиан, остановившись перед Адрианом и скрестив на груди свои могучие руки.
— Никто меня не заразил. Я сам просветился христианином, — возразил Адриан спокойно, выдерживая на себе суровый и испытующий взгляд Максимиана. — И я уже не могу молиться бездушным истуканам бездушных богов, но всем сердцем своим и всем разумением молюсь живому Богу, Который и есть только Один, сотворивший мир и человека в шесть дней…
— Довольно! — крикнул Максимиан.
Он отошел на несколько шагов от Адриана и несколько секунд молча рассматривал его, качая головой. Мало-помалу взгляд его наливался злобой и ненавистью и становился все страшнее и страшнее.
— Довольно! — продолжал он глухим голосом. — Меня этими бреднями не уверишь, да мне они и не интересны. Не желаешь ли ты отказаться от христианства? Право, это будет много лучше и для тебя, и для меня…
— Нет! Я не желаю! — громко и звучно проговорил Адриан с оттенком некоторой торжественности.
— Но тогда ты уже не будешь более моим верным слугою и высшим офицером двора. Тебя постигнет та же злая судьба, как и всех твоих друзей-христиан, — промолвил император так же торжественно.
Он подождал немного, ожидая ответа со стороны Адриана, но последний безмолвствовал. Император с минуту тоже поколебался, затем с сожалением посмотрел на Адриана и, обратившись к двери, захлопал ладоши.
— Вогий! — позвал он.
Адъютант появился на пороге кабинета.
— Позови господина государственного секретаря, — приказал император, — да приходи сам сюда.
Через минуту оба вошли в комнату.
— От сего часа, — тожественно сказал Максимиан, обращаясь к вошедшим, — известный вам Адриан-претороначальник лишается своего высокого звания. Вместе с тем он лишается и трех прав и знаков отличий, которые сопряжены с его достоинством.
И, обратившись к Адриану, император прибавил:
— Сними свой меч, который ты носишь так недостойно!
Адриан молча отпоясал свой меч и передал его Вогию, а тот Максимиану.
— Тебе, Вогий, — продолжал Максимиан, — ставлю в непременную обязанность снять с Адриана все знаки отличия, которые он носил как претороначальник.
— А тебе, — обратился он к государственному секретарю, — приказываю поступить с Адрианом так же, как и со всяким другим государственным преступником-христианином. Прямо отсюда, из дворца, ты отведешь его, связанного, в темницу. Потребное для этого количество воинов имеет дать тебе Вогий. Идите же и исполните все то, что я повелел!
Все трое вышли из комнаты.
Не прошло и четверти часа, как того же самого Адриана, который вошел во дворец в блестящей одежде и вооружении претороначальника, со всеми знаками, украшениями и драгоценностями, сопряженными с его высоким саном, выводили вон и препровождали в темницу шесть здоровых и грубых воинов. Только теперь во внешности его последовала перемена. Помимо цепей, которые при каждом шаге его глухо звенели на его руках и ногах, он был простоволос, босоног и выглядел так странно, так жалко и униженно, что в этом избитом, истерзанном и обесчещенном человеке едва ли бы кто-нибудь признал молодого, блестящего претороначальника.
Мы говорим: «избитого»… Да! Страшно сказать, но это именно так и было! Лицо его было покрыто синяками и царапинами, а плечи носили следы ужасных ударов плетей и воловьих жил. Одет же он был в самое жалкое отрепье, нищенское рубище. Такое уже было тогда ужасное время, что жестокие воины не поцеремонились с бывшим своим начальником, до сих пор в такой степени любимым ими, что они считали его своим отцом, защитником и покровителем. А теперь же эти самые дети не погнушались взяться за ремесло палача и применить все свои познания в этом постыдном ремесле. При этом наглость воинов уже не знала пределов.
Как бы то ни было, но граждане, видевшие эту ужасную картину, положительно отказывались верить своим глазам, и в этом избитом, презренном человеке, которого влекли теперь в темницу шестеро грубых негодяев-палачей, видеть своего любимого, чтимого, молодого супруга прекрасной Наталии — знаменитого Никомидийского претороначальника Адриана.
Глава ХIV
А между тем это была истина, но этой истины Наталия даже еще и не предчувствовала.
В то время как ее прекрасного супруга влекли в одну из ужаснейших темниц города Никомидии, Наталия спокойно сидела у себя дома, рассматривая новый драгоценный убор, который прислал ей для покупки ювелир.
Окончив осмотр, она позвала служителя и приказала ему пойти к домоправителю и передать ему, что убор куплен. Этими словами домоправитель извещался, что он должен уплатить ювелиру все требуемые им деньги.
Служитель в дверях комнаты столкнулся с некоторым человеком, который бежал в кабинет Наталии.
Увидев незнакомого человека, служитель спросил его, что ему нужно. Последний, от усиленной ходьбы и растерявшись от предложенного ему вопроса, стоял молча и тяжело переводил дыхание.
Между тем занавес, скрывавший покои прекрасной Наталии, отдернулся, и она остановилась на пороге, с изумлением глядя на подошедшего, лицо которого было бледно и печально, а глаза заплаканы.
Служитель повторил свой вопрос.
— Кто ты такой и чего ищешь?
— Я гражданин Никомидии, — с трудом проговорил спрошенный человек. — Я знаю господина Адриана и пришел передать госпоже Наталии одну весть…
Он закашлялся.
— Весть? Какую весть? — спросил служитель с изумлением.
— Какую это весть принес ты? — спросила Наталия, подходя ближе к говорившему.
— Худую весть, госпожа! — отвечал пришедший человек. — Знаешь ли ты, где теперь господин Адриан?
— То есть как это, где он? — спросила Наталия с изумлением. — По всей вероятности, он во дворце или в канцелярии.
— Нет, госпожа! Он не в канцелярии. Он посажен в темницу!
— В темницу?! — воскликнула Наталия, пошатнувшись. — Что ты говоришь? В какую темницу?
— Да, госпожа, уверяю тебя! Не далее получаса тому назад воины вели его в темницу. Ох! Какая это была ужасная картина. Я и сам едва узнал его!
Слова эти как громом поразили Наталию. Она слушала и не верила своим ушам.
— Но что ты говоришь? — произнесла она, наконец, тяжело переводя дух. — Да ты знаешь ли моего Адриана? Быть может, ты не о нем говоришь?
— Знаю, знаю, госпожа, и я никак не мог ошибиться. Вот потому-то я и пришел к тебе, чтобы предупредить тебя о несчастии, которое постигло и тебя, и твоего супруга! Он отставлен от должности, лишен всех чинов и отличий, одет в рубище, лишен чести и доброго имени, избит… Ах, какая это ужасная картина! Его вели босого, с непокрытой головой. Ах…
И гражданин закрыл лицо руками.
— О, Боже! — воскликнула Наталия, пораженная этой вестью в самое сердце, и схватилась за голову. — Да возможно ли это?
Она стояла еще несколько минут перед Никомидийским гражданином и наконец спросила глухим голосом, разделяя каждое слово:
— А не знаешь ли ты, добрый человек, за что так страдает Адриан?
И она исподлобья посмотрела на гражданина.
— Знаю, — отвечал тот. — Он исповедал христианского Бога перед самим императором. Мне рассказали об этом те самые воины, которые вели его в темницу. Они говорят, что он сделал это добровольно, после того как сам допрашивал христиан.
Гражданин замолчал, с участием глядя на жену бывшего претороначальника.
Наталия как будто ожидала этого рокового известия. Она низко опустила голову, лицо ее было бледно, а в широко открытых глазах блестели слезинки.
— Ну, прощай! — сказала она обреченно незнакомцу и, медленно повернувшись к нему спиной, вошла в свою комнату.
Окинув ее взглядом и дав знак служителю выйти, она тяжело опустилась на софу и задумалась.
Все слышанное ею казалось ей ужасным и невероятным. Она была так потрясена и расстроена, что даже не могла плакать, голова ее тяжело опустилась на грудь, она почти мгновенно побледнела и осунулась; ноги ее подгибались, руки дрожали и отказывались служить ей, взгляд потускнел.
Наконец, она разразилась отчаянными рыданиями. Слезы ручьями лились по ее прекрасному лицу. Но вот она немного пришла в себя. Слезы словно облегчили ее.
— Ах! — воскликнула она, вслух разговаривая сама с собою. — И тебя, мой дорогой господин, постигла такая же участь, как и всех других христиан! О, злая судьба! За что же он, лучший из людей, должен погибнуть, скажи мне? За что же должна я овдоветь во цвете лет? Зачем я останусь сиротою?
Слезы душили ее. Она закрыла лицо руками.
— О, мой Адриан, мой добрый господин! — продолжала она изливать свою жгучую скорбь. — Для чего ты погубил себя? Для чего мне, бедной, оставаться теперь жить без тебя?
Долго еще плакала Наталия, долго жаловалась на свою судьбу, но наконец и слез, и жалоб уже не хватало, и она, утомившись от долгих рыданий, тихо прислонилась к спинке дивана. В ней самой теперь совершалась чудная перемена. Придя в себя и немного оправившись, она стала рассуждать.
— Итак, — говорила она, — Адриан в тюрьме. В тюрьме за то, что он христианин. Другого преступления на нем нет. Только это одно. Но, по-моему, христианство вовсе не такое преступление, каким его делают. Оно не может бесчестить человека, как говорят его противники. Христианство мне знакомо и светлее, чище, нравственнее этого учения я не знаю никакого другого. Кроме того, множество честных людей отдавали ему всю свою душу и погибали за него на плахе или на кострах. Они умирали спокойно, с сознанием своей правоты и истины своего учения, с чувством собственного достоинства и исполненного долга. Я помню все рассказы о таких героях. А теперь и мой господин будет в числе их. Но я об этом даже никогда и не думала, и не смела думать. А между тем это совершилось! О, мой дорогой Адриан!
И вспомнив о своем супруге, молодая женщина опять заплакала.
— Но что же такое «христианин»? — заговорила она опять, перестав плакать и отирая слезы. — Какое преступление скрывается за этим именем? Неужели веровать в Пророка Божия Христа и в то, что Он есть Сын Бога Живаго, есть преступление? Но ведь тогда и я христианка, тогда и меня надо сажать в тюрьму, пытать и мучить? Я много раз разговаривала об этом с моим господином, и к чему же приводили все наши разговоры? О, всегда к одному! По моему мнению, вера христианская всегда была, есть и будет сама Божественная истина! Адриан всегда разделял это мнение! И сейчас он готов пострадать за эту истину!
Произнеся эти слова, Наталья опять зарыдала. Но это уже не были слезы горечи и ужасной, неутолимой скорби, это были радостные слезы. Наталия в первый раз сознательно почувствовала в себе, в своей душе, что она может назвать себя христианкой!
Эта мысль успокоила ее, она перестала плакать.
Между тем по дому Адриана разнеслась весть о том, что господин заключен в тюрьму. Вся прислуга была перепугана и попряталась по разным углам дома, а служанки, подойдя к покоям Наталии, стояли в дверях с печальными пугливыми лицами и посматривали на госпожу, ожидая с ее стороны каких-либо распоряжений.
Наталия приказала им приготовить себе ванну, а также самые лучшие свои и дорогие одежды и другие принадлежности туалета, а когда все требуемое было готово, она умастилась ароматами, причесалась, надела свои наряды и вышла из дома. На дворе ее нагнала прислуга.
— Госпожа! Уж не покидаешь ли ты нас? — заговорили они, останавливая ее и умоляющими взорами глядя ей в лицо.
— Госпожа! Если ты уходишь, то возьми и нас с собой, — уговаривали служанки, окружая Наталию и целуя ей руки и одежду.
— Нет, друзья мои! — говорила Наталия, тронутая до слез. — Я никуда не ухожу и скоро вернусь домой. Хочу только навестить своего и вашего господина.
И сказав это, Наталия вышла из ворот дома и отправилась в тюрьму. Она шла по улице с таким спокойным выражением на лице, что многие знакомые, встречаясь с ней, говорили друг другу:
— О, бедное дитя! Бедная Наталия! Она, вероятно, еще ничего не знает о своем муже и о том, чему он уже подвергся и что его ожидает!
Но Наталия знала. Темница была на противоположном от дома Адриана конце города, и когда Наталия подошла к этому ужасному зданию и оглядела его со всех сторон, то побледнела от страха.+
Перед дверьми тюрьмы стояли на страже два тяжело вооруженных воина.
— Могу ли я войти в темницу? — робким и тихим голосом спросила Наталия одного из стражей, избегая, его прямого взгляда. Я бы хотела навестить своего мужа!
— Поди, спроси у тюремщика. Это его дело. — грубо и нехотя ответил воин и махнул рукой по направлению к темнице.
Наталия зашла к темничному сторожу и упросила его отворить ей темницу, для того чтобы повидаться с мужем. Тюремщик вышел к ней, неся в обеих руках ключи от темничных дверей. Старик долго не поддавался на ее просьбы, но наконец, тронутый ее мольбами и слезами, отпер двери и впустил ее внутрь тюрьмы, а сам тотчас же ушел в свою сторожку.
Невозможно представить себе того чувства, которое овладело душой Наталии, когда она очутилась в огромной, но низкой и темной, сырой, как подвал, комнате, сверху, снизу и с боков устланной каменными плитами. Свет проникал сверху из маленьких, более похожих на щелки окошечек, и дозволял видеть только одни очертания огромных, массивных столбов, поддерживающих своды тюрьмы.
Когда Наталия вошла в тюрьму, то эта тьма и тяжелый, спертый воздух так страшно поразили ее, что она вся задрожала и непременно бы упала на сырой и холодный пол темницы, если бы чья-то услужливая, любящая рука не удержала ее. Какой-то человек подошел сзади к Наталии и поддержал ее под спину.
Это был Адриан!
— Не бойся, моя Наталия! — заговорил он ободряющим голосом, тихо звеня на ходу ножными кандалами. — Пойдем! Успокойся немного и расскажи мне, как ты попала сюда? Я глазам своим не верю, что вижу тебя!
— Чему же ты удивляешься, мой друг? — серьезно ответила Наталия. — Неужели ты думаешь, что твоя Наталия способна отказаться от тебя только потому, что тебя постигло это страшное несчастье? Нет! Твоя жена никогда не откажется от тебя и пойдет даже за тобой в тот надзвездный мир, в который, вероятно, скоро будет суждено перейти тебе, если нужна эта жертва.
— Что произошло с тобой, Адриан? Расскажи мне все откровенно, — и она с надеждою глядела ему в лицо.
Но вдруг свет померк в ее глазах, и Наталия, прислонившись к плечу Адриана, горько заплакала.
— Не плачь, моя дорогая подруга! — утешал ее Адриан, обнимая за плечи. — Со мною не случилось ничего дурного, а только то, что стало таким обычным у нас в настоящую пору в Никомидии и что постигло уже многих честных людей Римской империи. Ужасного тут ничего нет, и не я первый, не я последний!
— О, хорошо знаю это! — сказала Наталия, перестав плакать. — Ты в темнице потому, что ты христианин.
— А как ты смотришь на это, Наталия? — спросил Адриан с заметным беспокойством и тревогой.
— Мой милый! — ответила Наталия с живостью. — Я не только одобряю твой поступок, но еще жалею, что никак не могу увидеть этого кровожадного Максимиана, чтобы, со своей стороны, тоже исповедать перед ним Христову веру. Я сама христианка, мой дорогой Адриан!
— Ах, Наталия! — воскликнул бывший претороначальник, обнимая ее, — мы должны благодарить Бога за то, что Он, Милосердный Творец наш, дал тебе такую душевную красоту и свободу мысли и ума, которые не допускают тебя до грубых заблуждений и ошибок и помогают тебе инстинктивно находить желанный исход и спокойную пристань. Но Наталия, мы здесь не одни. Вон там еще есть люди, которые страдают, так же как и я, за христианство! Пойдем к ним. Это мои друзья и соратники, мои товарищи по заключению.
Наталия устремила взор во мрак, окутывавший всю темницу. Теперь только она заметила, что там есть люди. Она увидела группу христиан, спокойно сидевших на земле и тихо беседовавших между собою.
Их было 23 человека. Эти люди были именно те, допрашивая которых, Адриан сам признал себя христианином. Встречая Наталию, они не могли подняться с полу, так как тяжелые оковы крепко держали их, делая излишними все попытки встать.
Наталия вступила с ними в разговор и не переставала изумляться их мужеству, спокойствию и смирению, которое они выказывали к своей участи. Ни ропота, ни упрека не вырывалось из их уст. К своему ужасному, безвыходному положению они относились совершено спокойно, не находя его тяжелым и воссылая хвалу создавшему их Господу Богу, Божественному Сыну Его Иисусу Христу и Святому Духу. Наталия вынесла самое отрадное впечатление из разговора с ними, укрепляя их в желании мученического подвига и сама укрепляясь к перенесению предстоящего ей тяжкого испытания.
Между тем минуты свидания с дорогим Адрианом были сочтены. Наталии надо было уже идти домой, и глаза ее опять затуманились печалью. Сердце мучительно сжалось, и она, заплакав, обратилась к Адриану со следующими словами:
— Адриан, я прощаюсь с тобою. Мне время уходить! Не отчаивайся на том опасном и полном терний и соблазнов пути, по которому Господь велит тебе идти. Пусть ни муки, ни прельщения не заставят тебя отречься от Христа! Теперь я оставляю тебя. Да благословит же тебя Бог, дорогой мой супруг!
Она склонилась к нему на плечо и заплакала.
— Будь спокойна, дорогая моя Наталия! — отвечал Адриан слегка дрогнувшим голосом. — Если бы я хоть один только раз помыслил об отступничестве, то поверь мне, я уже не был бы тут и вернулся бы к тебе с прежним саном претороначальника, и с новыми почестями был бы принят во дворе.
— Максимиан умеет вознаграждать верных своих слуг, — прибавил он и горько усмехнулся.
— А когда вас поведут на допросы и на пытку, кто мне даст знать об этом? — спросила Наталия, отирая крупные слезы.
— Я сам тогда приду к тебе, — ответил Адриан.
— Спасибо тебе, друг! Ну, а теперь прощайте, братья-христиане! Прощай, мой Адриан!
Она крепко обняла и поцеловала его.
— Прощай! — ответил Адриан и долго смотрел на нее, как бы запоминая эти дорогие для него черты.
Наталия опустилась на колена, приподняла тяжелые оковы мужа и прижала их к губам. Слезы душили ее, грудь судорожно поднималась, а в глазах блистал огонь. Она поцеловала железо и в каком-то непонятном для нее самой трепете произнесла сильным твердым голосом:
— А вы, кандалы, не тяготите слишком ноги моего милого господина!
Сказав это, она тихо встала с колен и вышла из темницы, не оглядываясь назад. Силы, и физические и нравственные, покидали ее. Однако, очутившись на свежем воздухе, Наталия вскоре пришла в себя.
Между тем тюремщик замкнул ворота тюрьмы и теперь стоял подле нее. Наталия внимательно посмотрела на него. Это был глубокий старик со сморщенным, как печеное яблоко, но весьма добродушным и симпатичным лицом. Тяжелая и бессердечная служба тюремщика была ему далеко не по нраву. Честный и добрый старик часто оплакивал судьбу проходивших через его службу узников. И теперь, стоя перед Наталией, он усиленно моргал своими подслеповатыми глазами, полными слез, сдерживая свои искренние переживания за безвинных узников. Ему не хотелось, чтобы такая знатная госпожа обратила внимание на его грусть, но в то же время он не мог оторваться от ее прекрасного, одухотворенного страданием лица.
Но вот Наталия внезапно повернулась и прямо, в упор взглянула на него. Старик быстро отвернулся. Наталия тоже. Но за этот короткий миг и тот, и другая поняли друг друга!.. Наталия нервно подернула плечами и опустила в руку тюремщика несколько мелких монет. Старик, плача, склонился и поцеловал ее тонкую, благородную ручку. Наталия тихими и медленными шагами вышла из тюрьмы и направилась в свой дом, теперь осиротевший…
Глава ХV
Положение заключенных не поддается никакому описанию!
По их собственным воззрениям, они были весьма счастливы: душа их была чиста и спокойна, совесть ни в чем их не упрекала; они страдали за истину, и среди них не было ни одного предателя или отступника, который бы променял веру Христову на тленные блага сей жизни. А старый тюремщик по-своему выказывал им свою любовь, извещая их о всем, что делалось в городе, а также и о том, какие перемены могли ожидать их в ближайшем будущем.
Но о развязке, то есть о смертной казни, или, как говорили сами христиане, о венце мученическом, что-то уже долго не было слышно.
И вот однажды, крадучись, тюремщик вошел в тюрьму, затворив за собою двери. Тщательно озираясь по сторонам и ощупывая перед собою путь, он, наконец, остановился и громко произнес:
— Эй вы, братья-христиане, тут ли вы все или, чего доброго, поразбежались?
И он добродушно рассмеялся.
— Здесь, старче! — ответило несколько голосов.
— Ну-ка, зажгите-ка, друзья, огоньку, а то здесь у вас ничего не видно. Следует вам одну очень важную новость сообщить.
В голосе старика слышалась грустная нота.
Буковый[44] факел вспыхнул легким пламенем и обдал все помещение струей едкого и удушливого дыма. Тюремщик подошел к осужденным, которые с нетерпением ожидали услышать от него ту важную новость, которая привела его к ним.
Но какую картину представляли они теперь?
Оставались они в том же положении, в котором их доставили грубые и жестокие воины в это ужасное здание, называемое темницею, в этот каменный подвал, где скорпионы были их единственными друзьями, где неумолчно раздавался только звук одних оков, которыми они были опутаны, — та единственная, давящая и томящая сердце музыка, на которую они были осуждены!
Увы! Несчастные мученики сильно изменились с тех пор. Вместо свежего румянца, пылавшего когда-то на их щеках, лица их были бледны и измождены. От сырого и влажного воздуха каменных стен тюрьмы они страдали изнурительной лихорадкой, и вместо здоровых и сильных мужей это были теперь еле дышащие и двигавшиеся скелеты, ноги которых были покрыты ранами, причиненными тяжестью оков. Они казались теперь пришельцами с того света. Да это, впрочем, так и было! Люди эти уже не принадлежали этому миру. Но они все-таки были бодры и веселы и, ободряя друг друга, не переставали говорить о тех высоких небесных наградах, которые ждали их за кратковременные муки на земле.
Но один из этих людей, осужденных на муки, казался бодрее их всех и мог тихо прохаживаться по тюремной камере. Этот человек был Адриан.
— Ну, какая же новость? — спросил Адриан тюремщика.
— Один из воинов сказал мне, братья-христиане, что завтра утром вас поведут на допрос к самому кесарю Максимиану.
Слова эти темничный сторож произнес нерешительно и с боязнью, что они произведут на заключенных слишком тяжелое впечатление, но, к изумлению своему, он увидел написанную на лицах всех узников непритворную радость. Христиане поздравляли друг друга с наступлением конца своих страданий, а сидевшие на земле, близко один к другому, обнимались между собой.
Тюремщик остолбенел от изумления.
— Наконец-то, — произнес один из христиан. — Слава Богу, удостоились мы венца!
А другой прибавил радостным голосом:
— Слава тебе, брат наш во Христе, что ты принес нам эту дорогую, желанную и радостную для всех нас весть!
— Неужели это может веселить вас? — с нескрываемым удивлением и ужасом сказал тюремщик.
— А то как же? — возразил один. — Ведь ты знаешь, старче, что мы идем предстать не пред очами кесаря, «а в сретенье Господе на воздусе», к Самому Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, Сыну Божию?
— Ах, дети, дети! — не то с укоризной, не то с сочувствием произнес старый тюремщик, и горькие слезы полились из его подслеповатых глаз. — Не знаете вы сами, что вы делаете!
— Нет! — с живостью заговорил Адриан, подходя к старику и обнимая его. — Не плачь, старик! О чем ты жалеешь? Брось! Ты тут ни при чем! Наоборот, и я, и все мои товарищи много обязаны тебе: ты обращался с нами не как тюремщик, а как добрый отец со своими милыми детьми. Не печалься же! Что нам суждено, того не миновать. Да мы, к тому же, и счастливы. Ты слышал, что сказал мой товарищ? Мы идем навстречу к своему Богу, чтобы в лицезрении Его разделить с Ним покой, ждущий всех праведных людей.
— Ах, мой милый юноша! — говорил тюремщик сквозь рыдания, обнимая Адриана. — Я плачу из-за неправды, которая делается здесь, на белом свете. Я жалею вашу молодость.
— Утешься, добрый человек! — сказал Адриан. — Перестань плакать, утри слезы и дозволь нам кое о чем посоветоваться.
— Охотно! — отвечал старик и отошел от Адриана, предоставив узников самим себе.
— Братья! — сказал Адриан, обращаясь к товарищам по заключению. — Вы обещали жене моей, Наталии, известить ее о том, когда нас поведут на допрос и муки. Ныне настало это время. Следовательно, нужно исполнить ваше обещание. Но как мы сделаем это, братья?
— Не иначе, как это мы решили, и тогда ты пойдешь к ней сам и расскажешь об этом, — ответил один.
— Да! Только так это и возможно сделать! — подтвердили и все остальные.
— Но я в оковах и содержусь под стражей, — отвечал Адриан. — Как же я могу уйти к Наталии?
— Да это очень легко сделать! — вмешался в разговор старый тюремщик, который стоял в отдалении до сего времени, слушая весь разговор Адриана с христианами. — Я могу снять с тебя оковы и выпустить тебя из темницы попозже к вечеру. Сходи домой, только потом возвращайся сюда, иначе я не смогу тебя выпустить!
— Спасибо тебе, старик! — воскликнул Адриан веселым голосом.
— Смотри же, возвращайся, — настойчиво говорил сторож. — А то мне, старику, не сносить головы!
— Успокойся, старик. Не бойся! Ведь если бы я захотел уйти отсюда, я бы давно уже это сделал, и ты знаешь, каким путем. Но я не уйду, потому что этого не желаю! Будь спокоен и если можешь, то отпусти меня сегодня же!
— Хорошо! — отвечал старик. — Я верю тебе!
И он пристально посмотрел на Адриана.
— Если ты все еще сомневаешься, — произнес Адриан, хорошо поняв его тревожный взгляд, — то я сам могу и не идти, но только попрошу тебя отправиться ко мне в дом и сказать моей Наталии, что утром нас поведут на допрос.
— Но как же я решусь принести госпоже Наталии такое черное известие? Нет, я этого не сделаю, а лучше отпущу тебя. Иди ты сам и скажи ей все, что ты знаешь, а я принять этого на себя не могу. Только смотри же, возвращайся!
Христиане, а с ними и Адриан, улыбнулись.
— Полно, старик! — сказал один из христиан, обращаясь к тюремщику. — Не обманет Адриан! Вернется! Но как же ты выпустишь его из тюрьмы, когда у ворот стоит сильная стража!
— О! Этого нечего опасаться! — отвечал тюремщик, смеясь. — Я приглашу воинов к себе и угощу их вином, а когда они напьются и заснут, то я сниму с Адриана оковы и выведу его из тюрьмы. К утру он вернется и никто ничего не узнает.
— Отлично! — обрадовались христиане.
Сказано — сделано. Когда совсем уже стемнело и в городе прекратилось всякое движение, тюремщик зазвал к себе воинов и усиленно стал угощать их разными закусками и напитками, а когда они уже вдоволь упились, то он незаметно проскользнул в тюрьму, расковал цепи Адриана и вывел его на улицу, напомнив ему на прощание еще раз:
— Смотри же, возвращайся! Прошу тебя именем твоего Бога, твоей молодости, твоей прекрасной супруги. Пожалуйста, возвращайся!
И старец с надеждою смотрел на удалявшегося Адриана.
Глава ХVI
Лето 303-го года было нестерпимо жаркое. Тем приятнее были для никомидийцев прохладные августовские ночи, светлые, как день, полные неги, благовоний и лунного блеска.
В эти чудные дивные ночи Никомидия не спала. Несмотря на то, что с наступлением сумерек движение на улицах приостановилось до утра следующего дня, никомидийцы, пользуясь праздничным временем, целыми обществами проводили время на террасах и открытых кровлях своих домов или в садах, наслаждаясь влажным воздухом малоазиатской ночи, ярко-синим, полным звезд небом и коротким сиянием месяца.
В числе прочих и Наталия, гуляя по домашней террасе, отдавалась чувству созерцания пышно ликующей природы. С самого дня ареста Адриана она безвыходно сидела дома и никуда из него не отлучалась. Ее мысли были неразлучны с Адрианом; она похудела, согнулась и состарилась в эти несколько ужасных дней, но все еще была бодра и крепка духом, уныние только изредка овладевало ею.
Однажды поздно вечером она сидела перед раскрытым окном в своей комнате и со слезами на глазах смотрела на полный и сверкающий серебром месяц. Ночь была чудная: именно одна из тех ночей, которые только и знакомы нам, жителям юга, — влажная, сияющая, благовонная ночь.
Мысли толпою теснились в голове Наталии и, наконец, вылились в душераздирающем вопле:
— А ты, мой милый, мой дорогой Адриан, не имеешь теперь ни воли, ни возможности любоваться всеми этими красотами нашей дивной, божественно-роскошной природы!
Как раз в это время сильный стук в двери заставил ее очнуться от забытья.
— Кто там? — произнесла она дрогнувшим голосом. — Войди!
В двери вошел один из ее домовых служителей.
— Госпожа! — начал он нерешительным и несмелым голосом. — Могу ли я сказать тебе радостную весть? Наш господин возвращается!
— Что? — воскликнула Наталия. — Что ты говоришь? Какой господин?
Она быстро поднялась со своего места и подошла к служителю.
— Да вот идет наш господин Адриан! — продолжал слуга радостно и с улыбкой счастья на лице. — Он сию минуту здесь будет.
— Откуда ты это знаешь?
— Я сам видел, как он шел сейчас по главной улице, и опередил его, чтобы принести тебе эту радостную весть.
— Да вправду ли это Адриан?
— Он, госпожа!
— Хорошо! Иди!
Служитель вышел, а Наталия заперла двери и вернулась опять на свое место, к окну.
— Откуда он? — рассуждала она сама с собой. — Как он выбрался из темницы? Убежать он не мог, так как, во-первых, на подобную низость он ни за что не решится, а во-вторых, и темница тверда, и оковы тяжелы, и стража многочисленна, бдительна и сурова. Но быть может… Боже мой…
Она не договорила и, склонившись к окну, глухо зарыдала. «Быть может, — думалось ей, — он отказался от Христа, опять возлюбил тленную жизнь, опять идет свободным… и претороначальником… А друзья его, христиане, продолжают страдать в темнице… Он навеки закрыл для себя вход в Царство Небесное. Он предал христианство. О, Боже!».
Она горько заплакала при одной мысли, что ее дорогой, любимый муж Адриан вдруг сделался бесчестным человеком. Она так отдалась своему воображаемому горю, что не услышала, как чья-то сильная рука стучится к ней в дверь уже довольно долгое время. Наконец, она стала прислушиваться. Нервы ее начали успокаиваться, а новый сильный стук в дверь заставил вздрогнуть и в испуге подняться со стула.
Вслед за тем она услышала милый голос, звавший ее:
— Наталия! Дорогая моя Наталия!
Радость и страх овладели ею. Она подбежала к двери. Но вдруг страшная мысль остановила ее:
«А что если я отворю предателю?».
— Наталия, Наталия, отвори же, — слышался умоляющий голос снаружи.
Наталия не шевельнулась и продолжала прислушиваться.
— Сестра Наталия! — продолжал Адриан настойчиво. — Отвори мне, я хочу видеть тебя. Еще, еще один раз, быть может последний, я хочу увидеться с тобой, а там я готов идти в сретение моему Господу и предстать перед Его престолом. Отвори же, умоляю тебя. Время дорого! Друзья ждут меня в темнице и старик-тюремщик беспокоится о моем возвращении.
Эти слова вывели Наталию из оцепенения. Сердце ее сжалось, но вместе с тем она и радовалась внезапному свиданию с Адрианом, и притом не в мрачной и смрадной темнице, а здесь, у себя в доме, в ее уютном и роскошном кабинете. Она с легкостью газели подбежала к дверям, отперла их и встретила своего дорогого и столь позднего нечаянного гостя.
— А ты не освобожден, мой милый? — спросила она, обнимая Адриана и с любовью глядя ему в глаза.
— Нет, дорогая моя! — ответил он, целуя ее лоб, уста, плечи и руки.
— Но как же ты сюда попал?
— Нужно же было исполнить, мой друг, обещание, которое я дал тебе, — известить тебя о том, когда нас поведут на муки. Ведь ты помнишь это? И вот друзья мои благословили меня на мой путь к тебе, а старик тюремщик снял с меня на это время оковы, чтобы я мог беспрепятственно дойти до своего дома. Стражники же теперь все у него. Он их поит вином…
— А я, — прервала его рассказ Наталия, — подумала, уж не отрекся ли ты от Христа…
— И так испугалась этой мысли, — прибавила она по детски наивным шепотом.
— О, дитя! — проговорил Адриан тихим голосом, лаская и целуя ее. — И как это достало у тебя духу так думать обо мне? Неужели же ты меня еще не знаешь? Это стыдно жене Адриана! Я никогда этого не сделаю!
— Ну, иди же в комнату, — сказала Наталия и, введя его в свой кабинет, усадила на диван, а сама уселась с ним рядом.

— Я еще незадолго до твоего прихода сидела вот у этого окна и смотрела на ясное небо и на этот чудесный серебряный месяц. Жалела, что ты не можешь наслаждаться теперь его лицезрением и должен оставаться в своем сыром и мрачном подвале.
— Нагляжусь я на него еще вдоволь! — проговорил Адриан, улыбаясь. — Но теперь мой долг приготовиться в тот далекий путь, который ведет в надзвездное Царство, который освещается невещественным и немерцающим, могучим светом Святой Троицы, втрое сильнейшим, чем все светила мира, взятые вместе, и при начале которого теперь я стою.
Наталия побледнела, понурила голову и глубоко задумалась.
— Я пришел к тебе, дорогая моя Наталия, сказать, что завтра нас ждут муки и пытки.
Наталия вздрогнула и глухо зарыдала.
— Что с тобой, дорогая сестра моя?! — спросил Адриан с легким укором. — Неужели ты боишься за меня?
— О нет, мой добрый и милый господин, — отвечала Наталия голосом, в котором послышался и трепет, и восторг. — Я уверена, что за муки, которые ты претерпишь здесь, на земле, за эти кратковременные страдания ты получишь неизъяснимое блаженство там, в Царствии Небесном.
И Наталия вдруг остановилась.
— Что же ты не говоришь дальше, Наталия? — проговорил Адриан тихим голосом и пристально посмотрел ей в глаза. — Время идет. Говори мне все, что ты думаешь. Я скоро уйду и, быть может, в этой жизни мы с тобой больше не увидимся.
Он замолчал, глядя на нее.
— Что же я еще скажу тебе? — отвечала Наталия. — Сам милосердный Бог заботится о нас, Своих верных рабах. Но я тебе хотела сказать, мой Адриан, не хочешь ли ты повечерять со мной?
— Не могу, моя дорогая сестра! Мне пора вернуться. И мои друзья, и тюремщик ждут меня. Прощай, моя Наталия!
Адриан встал с дивана, Наталия тоже поднялась за ним, держа его за руку.
— До свидания, моя милая Наталия!
— До свидания, Адриан! Пусть Спаситель наш Иисус Христос придет к тебе на помощь и укрепит твои силы в предстоящем подвиге. Завтра мы увидимся с тобой!
Еще один поцелуй, и молодые супруги расстались.
Адриан вышел на крыльцо, а Наталия, прислушиваясь к звуку его шагов, долго смотрела ему вслед, и когда Адриан, наконец, скрылся из виду, она тихо склонилась к окну и зарыдала. Восходящее солнце застало ее спящей, с головой, опущенной на руки.
Глава XVII
Между тем в помещении тюремщика шло широкое веселие. Стражники усиленно угощались, а так как гостеприимный хозяин уставил перед ними целый стол кувшинами и амфорами с вином, то солдаты пришли в такой восторг, что позабыли и службу, и дисциплину. Не заботясь более о карауле, они расселись по скамьям, отпоясали свои мечи, сложили в сторону оружие и весело пировали, смеясь и разговаривая между собой.
Во всей этой дружеской беседе не принимал участие один только человек — сам хозяин.
Человек скромный, бедный и расчетливый, он не особенно любил такие пирушки, и потому-то на лице его читались суровость и неудовольствие, несмотря на то, что он частенько и усердно упрашивал своих гостей не церемониться, а кушать и пить все, что есть на столе.
Но вместе с тем он был возбужден, как человек, который боится какой-либо опасности. Он не мог усидеть на месте и часто вставал, переходя с места на место.
«Как курица, которая готовится снести яйцо», — говорили солдаты, смеясь.
Он часто выходил из комнаты и подходил к дверям темницы, долго смотря в ту сторону, с которой должен был прийти Адриан.

Уже бледнел месяц и на востоке загорался день, когда старец, выйдя на улицу и опять долгое время напрасно прождав Адриана, сумрачным вернулся в комнату, где пили и громко распевали песни захмелевшие солдаты. Старик отер крупные капли пота, струившиеся с его лба, и проворчал сквозь зубы:
— Ну а что, если он не придет? Что я тогда, несчастный, буду делать? Ведь погибну я, горемыка.
И при одной мысли об этом старец содрогнулся.
Воины вообще не обращали внимания на частые отлучки старика и продолжали себе благодушно веселиться. Но в какой-то момент беспокойство тюремщика было настолько велико и так ясно читалось на его лице, что солдаты с удивлением обратили на это внимание. Беспокойство старика сообщилось им, и десятник, который был потрезвее всех остальных и, как начальник, внимательнее относился к своей службе, подойдя к старику, тихо спросил его:
— О чем ты, дедушка, так беспокоишься?
— Ни о чем! Что ты?! О чем мне беспокоиться, когда нам так весело.
— Да! Но ты так часто выходишь из комнаты, что мне даже стало страшно, не убежали ли заключенные из тюрьмы!
Десятник сказал это спроста, но тюремщику показалось, что он как-будто на что-то намекает, что-то знает или, по крайней мере, о чем-то догадывается. Ему вспало на мысль[45], уж не узнал ли он, чего доброго, что Адриан отпущен?
Старик струсил, но пересилил свой страх и спокойным, равнодушным тоном ответил десятнику (хотя придать этот тон ему было нелегко):
— Что ты говоришь? Как они могли убежать, когда ключи от темницы у меня, и к тому же они крепко скованы?! Там они все. Там и Адриан с ними вместе.
И он вытащил из-за пояса огромную связку ключей и показал их воину, как бы удостоверяя его в справедливости сказанного.
— Да нет, нет, старик! — говорил десятник, смеясь. — Я ведь только пошутил, я тебе верю.
И сказав это, воин предался самому шумному веселью, а старик, немного успокоившись, по-прежнему время от времени выходил из комнаты и смотрел в ту сторону, откуда ждал Адриана.
Наконец, уже перед самой зарей, выйдя из своего помещения, старик-тюремщик издали увидел Адриана, медленно возвращавшегося в темницу. Увидя его, старик от радости не знал, что и делать.
Забыв свои лета, он со всех ног бросился навстречу к Адриану, обнял его и горячо поцеловал, говоря:
— Вот и спасибо тебе, голубчик, что ты сдержал свое слово и вернулся! Спасибо тебе!
— И тебе спасибо, старик, что ты пустил меня домой, — проговорил Адриан, смеясь и целуя старого тюремщика. — Ты не можешь себе представить, какую доставил мне этим радость. Я бы никогда не позволил себе покривить душой и, дав в чем-либо слово, не сдержать его. Ни вера, ни честь моя не позволят мне этого!
Тюремщик отворил темницу и впустил в нее Адриана, которого с нетерпением ожидали остальные его товарищи по заключению. За Адрианом вошел и он и вновь заковал его ноги в оковы. Затем, пожелав заключенным спокойного сна, он отправился к себе, тщательно заперев дверь темницы на ключ.
«Как бы теперь избавиться мне от моих гостей, — думал он, взявшись за скобку дверей своей комнаты. — Ведь они теперь все поголовно пьяны. Что мне с ними делать? На стражу они все равно встать не могут, а оставить их у себя не хочу. Да теперь они и не нужны мне».
И в самом деле, положение тюремщика было затруднительным, тем более, что он еще боялся неожиданной поверки караула.
О том, что они выпили все его вино, он не жалел, так как это только облегчило его трудную задачу — отпустить Адриана домой. Но теперь, если бы попойка все еще продолжалась, тюремщик не очень-то порадовался бы этому. Как мы уже сказали, он был человек расчетливый, гостьбищ[46] и попоек не любил, и всякий лишний расход был для него разорением…
С этими мыслями он взялся за скобу двери и пошел в свою комнату. А воины и не подозревали, что в эту минуту думает о них старик-тюремщик, и продолжали себе благодушно веселиться, допивая последние амфоры.
Уже стало светать, когда наконец десятник встал со своего места и, ударив ладонью по столу, обратился к присутствующим со словами:
— Время нам, братья, расходиться. Кто из вас может держаться на ногах, советую идти и встать на стражу, а остальные могут спать. Пройдет еще немного времени и явится смена, а тогда мы уже должны быть трезвы. Этого вы и достигнете, одни — отдыхая, а другие — вдыхая свежесть утреннего воздуха. Итак, пора! Расходитесь, братцы, и дайте покой нашему дорогому хозяину, которого поблагодарим хорошенько за угощение. Спасибо тебе, дядя! Да сохранять тебя боги!
Тюремщик с удовольствием прослушал эту речь. Он очень устал, устали и его гости, и всем был необходим живительный отдых. Шумной толпой поднялись воины из-за столов и теснились к выходу. Но тут старый тюремщик остановил их.
— Время, дети мои, уходить, это так, правда, и я с этим согласен, — проговорил он, — и у меня даже разболелась голова от этого жара, разговоров, шума, крика и песен, так что я даже буду рад, что вы уйдете, но еще одно слово.
— Ну, — проговорил десятник, — чего же еще нужно тебе? Говори.
И он лукаво посмотрел на солдат, подмигивая и, как бы, говоря:
— Ну, послушаем, что-то скажет этот чудак!
— Так вот, постойте, — медленно продолжал старик. — Выпьем мы еще одну чарку на легкий сон.
И он, отойдя в сторону, вынул большой мех с вином и передал его десятнику.
Десятник, получив мех, отхлебнул из него вина, затем передал его следующему, а тот своему товарищу, и мех стал переходить с рук на руки, пока, наконец, все вино, содержавшееся в нем, не было выпито. Тогда солдаты шумной гурьбой вышли из комнаты тюремщика и разошлись по разным углам тюремного здания.
— Ну, все хорошо уладилось, — проговорил тюремщик довольным голосом, когда остался один. — А ведь я мог сильно пострадать. Однако порядочно они опустошили мой погреб, вина ни капли, припасы вышли все, и если бы за все это я сам расплачивался, то хоть помирай с голоду. Полное разорение. Но так как за все заплатит добрая госпожа Наталия, и заплатит вдесятеро, в чем я уверен, то мне нечего бояться. Из ее нежных ручек немало перепадет мне златниц. Ах, какая это славная, добрая госпожа! Да пошлют ей боги здоровья и счастья!
Рассуждая таким образом, старик собрался спать.
Мало-помалу все в этом грозном здании затихло и только изредка тишину нарушали: в комнате тюремщика — громкое храпенье спавшего, а на улице — окрики стражи да понемногу просыпавшийся к деятельности город. Вскоре яркое солнце залило все улицы Никомидии своим ослепительным блеском, затопив и окрестности, и раскаленным шаром всплыло над городом.
Веселым щебетанием встретили его птицы, радуясь наступившему дню.
Глава XVIII
День был чудный, но уже с самого утра начался такой зной, что все предыдущие, нестерпимо жаркие дни могли почесться[47] прохладными в сравнении с тем, что ожидало никомидийцев на этот раз. Роскошное, ликующее утро уже жгло своим раскаленным дыханием. Все, кому не было особенной нужды выходить из дому, укрылись в самые тенистые и прохладные уголки своих жилищ, опасаясь солнечного удара. Движение на улицах почти прекратилось, так как песок проездных дорог так сильно раскалился, что жег ноги лошадей, и животные отказывались ступать по нему.
Все замерло, все дремало, всюду была тишина.
Тем более странно было видеть в эту пору одинокую женскую фигуру, шествовавшую по улицам, ведущим к темнице, где находился Адриан. Женщина эта, одетая весьма просто, без всяких украшений на платье, в левой руке над собой несла большое опахало, а в правой держала тоненький, весь расшитый и пропитанный духами платок, который часто прикладывала к своему пылающему от зноя лицу и стирала крупные капли пота, катившиеся по щекам и челу.
Читатель уже догадался, конечно, что эта просто одетая женщина была не кто иная, как Наталия. Излишне прибавлять, что и в этом простом, темном одеянии жена бывшего претороначальника была так же хороша, сохраняла ту же величественную и благородную осанку, как и тогда, когда она была окружена почетом, блеском и великолепием, присущим ее сану и богатствам.
Наталия намеренно оделась в это простое, темное платье, она не хотела привлекать к себе чьих-либо любопытных или участливых взоров. С этой целью она отправилась в темницу даже одна, без слуг и рабов, шла пешком и даже сама несла довольно тяжелый пук страусиных и павлиньих перьев, служивших ей опахалом.
Идти приходилось очень далеко, а страшный зной и тяжесть опахала так изнуряли ее, что на длинном пути от дома до темницы она не единожды отдыхала. Дойдя же до темницы, она почувствовала себя совершенно обессилившей. Прежде всего она зашла к тюремщику.
Старик изумился, увидя ее так просто одетой.
— Что с тобой, милостивая госпожа? Я едва узнал тебя! — воскликнул он. — Как это ты решилась шествовать сюда одна, без слуг, без носилок?
Наталия, ничего не отвечая на его вопрос, спросила его, пустит ли он ее и сегодня в темницу к Адриану, или, быть может, такие свидания уже запрещены начальством? При этом Наталия незаметно положила на стол старика несколько мелких золотых монет.
Маленькие глаза тюремщика заметили эту благостыню, и он, осклабившись и склонясь пред милостивой госпожой Наталией, вытащил из-за пояса огромный ключ и стал возиться около тяжелой двери, отворяя ее.
— Милостивая госпожа, — говорил он, гремя затворами, — для тебя, такой доброй, все можно сделать. Прошу тебя, дай мне подержать покаместь (устаревш., разговорн. — прим. авт.) твое опахало; оно, как видно, тяжелое, а ты устала.
— Мне слишком жарко, но я вовсе не устала, — ответила Наталия, отклоняя эту дружескую услугу. — Но прошу тебя, если можно, впусти меня в темницу. Я хочу видеть своего мужа и хочу скрыться от зноя.
Старик прекратил свои расспросы и молча отомкнул двери или, лучше сказать, ворота тюрьмы. Наталия быстро проникла под темные своды, но старик-тюремщик остановил ее на пороге, говоря:
— Подожди, госпожа, я сейчас принесу тебе светильник, а то в этой мгле ты ничего не увидишь.
Он быстро сбегал к себе и вернулся с зажженным факелом, который и подал ожидавшей его Наталии. Дымя едким факелом, молодая женщина вошла в тюремную комнату. Тюремщик запер за ней дверь.
Адриан радостно встретил свою прекрасную супругу, нежно приобнял ее и вместе с ней пошел к своим друзьям, заключенным христианам, которые с восторгом приветствовали Наталию. Это был их Ангел-хранитель, светлый луч сияющего майского солнца, нечаянно попавший в их смрадную, темную яму, в этот каменный мешок, который с ее приходом всегда делался для них царским дворцом. Но они не могли подняться к ней навстречу, им мешали тяжкие оковы, опутывавшие их тела.
Глава XIX
Подойдя к христианам, Наталия опустилась на земляной пол, воткнула в землю факел и отвязала от пояса небольшой ящичек, который поставила около себя и начала бережно отпирать ключом. Ящик почему-то долго не отворялся, христиане и сам Адриан с любопытством смотрели на Наталию и недоумевали, что могло бы заключаться в таинственном сундучке?
Но дело скоро объяснилось, Наталья отперла ящичек и стала вынимать из него один за другим бинты и платочки, а затем склянки с бальзамами, маслами, мазями, сиропами, пластырями и с другими укрепляющими здоровье лекарствами.
— Пришла я к вам, братья, — начала Наталия, — с целью принести возможное облегчение. Решила помочь вам, чтобы вы легче могли перенести предстоящие вам страдания. Еще в прошлый раз я видела, как жестоко истерзали ваши ноги эти страшные оковы; вам нужна скорая помощь, и я постараюсь дать вам ее сегодня.
С этими словами она приступила к своему великому делу любви и милосердия.
Молодая женщина говорила правду. Тяжелые оковы разъели мясо на ногах мучеников и образовали на них глубокие раны, которые от грязи и отсутствия свежего воздуха и света засорились и наполнились червями. Черви, кишащие в их ранах, еще более усиливали страдания заключенных, но несчастные терпели их в молчании, зная, что стоны и жалобы не облегчат их тяжелого положения. Исходом из него могли быть или освобождение из тюремного заключения и возвращение домой, или смерть. Но первое могло совершиться только в том случае, когда бы они отступили от христианства, на что никто из них, несмотря на соблазны императора, согласиться не мог, и потому единственным исходом для них оставалась смерть, которой осужденные ждали со смирением.
Тем не менее они были рады, когда увидели лекарства, принесенные Наталией, и почувствовали облегчение от первых же перевязок, сделанных ею.
— Спасибо тебе, сестра наша во Христе! — говорили они, обращаясь к жене Адриана. — Да благословит же тебя Господь Бог за всю ту доброту, которую ты на нас изливаешь в таком изобилии! Пусть Господь наш Иисус Христос покроет тебя и защитит от всякого зла и неблагополучия, если на тернистом пути жизни тебя ждут испытания! Да будет благословенно имя Бога нашего, научившего тебя служить Его славе и пославшего тебя к нам на помощь! Да будет благословенно имя Господне отныне и до века. Аминь!
Что касается до Адриана, он был вне себя от радости при виде смелого и прекрасного поступка Наталии. Он любовался, глядя, как нежно, старательно и любовно занимается его жена милосердием, дивился умению, с каким она перевязывала раны его друзьям, и приписывал все это Промыслу Божию, пекущемуся о людях.
Он подошел к Наталии и горячо обнял ее.

— Сестра моя, — сказал он громким и дрожащим от волнения голосом, — я и не думал, что ты способна к такому самопожертвованию. Не ждал я и такого мужества от слабой женщины, воспитанной в роскоши и вдали от жизни, полной бед, лишений и треволнений. Все это подвиги святой и высокой души — святой по своей простоте и высокой по вложенным в нее началам! Твоей души, моя дорогая Наталия! В знак той великой благодарности, которую я к тебе питаю, я, в присутствии товарищей по заключению, позволяю себе дать тебе, моя Наталия, братский поцелуй.
— Не велика, конечно, эта награда, — продолжал он задыхающимся голосом, — но прошу тебя, прими ее. Здесь, в тюрьме, я лишен всего — званий, почета и достатка, только мою любовь я и могу дать тебе, этого мучители мои от меня не отнимут…
Адриан был переполнен чувствами и не мог более говорить. Он подошел к Наталии, они нежно обнялись, скрепив чувства поцелуем. Наталия заплакала, а узники-христиане, глубоко растроганные их любовью, только прятали глаза, скорбя не за свою судьбу, а за горечь расставания этой любящей пары…
Затем Наталия, омытая слезами, снова приступила к исполнению своего христианского долга. Бережно, с факелом в руке разглядывала она язвы на ногах больных, затем очищала их от гноя и червей и, смазав лекарством, накладывала на кровоточащие раны чистые повязки. Христиане как дети радовались, получая облегчение.
Дело милосердия уже приближалось к концу, как вдруг перед темницей послышались крики и звон оружия. Вслед за тем двери темницы отворились и осужденные увидели отряд вооруженных воинов. Вместе с воинами шли несколько человек, которые несли страшного вида орудия пыток. Это были бичи, клещи, воловьи жилы, зубья, деревянные и железные пилы, вилы, плети и решетки для поджога тел мучеников.
С шумом ворвались воины в темницу и, как лютые звери, смотрели на христиан. Вид страшных орудий распалил в них дикие инстинкты, так что они с нетерпением ждали того момента, когда им дозволят приступить к истязаниям.
Некто, в офицерской одежде и со значками отличия, грубо и размашисто вошел в темницу. Толпа раздалась. Центурион[48] кричал, бранился и неизвестно за что ударил одного из воинов. Наконец, обратившись к христианам, сурово крикнул:
— Эй, кто из вас Адриан-претороначальник? То есть бывший претороначальник? — произнес он, гордо поглядывая вокруг себя и с намерением упирая на слово «бывший».
Между воинами раздался смех. Начальник дерзко смотрел на христиан и нагло взглянул на Наталию, которую он только теперь заметил.
— Это я, — отозвался Адриан, вставая с пола и гремя тяжелыми кандалами.
— Вперед! — скомандовал офицер и запретил солдатам смеяться.
Солдаты выстроились в каре[49], Адриан встал между ними.
— Прощайте, братья! — произнес он с чувством, обращаясь к христианам. — Один Бог только знает, увидимся ли мы с вами еще хоть один раз!
Наталия бросилась к Адриану, крепко обняла его и, задыхаясь от слез, тихо прошептала:
— Да будет над тобой сила Господа Иисуса, мой дорогой, мой милый супруг и друг. Пусть Он, Всемогущий, даст тебе столько мужества, столько крепости, чтобы ты мог перенести все те пытки и муки, которые достанутся тебе на долю от этих слуг антихристовых, твоих злых мучителей!
— Да сохранит тебя Бог, Адриан, и да спасет Он твою душу! — сказал один из заключенных. — Ты первый из нас удостоишься венца мученического, а мы все, вероятно, скоро последуем за тобой!
— Дай Бог! — с чувством подтвердил другой, крестясь и крестя издали Адриана.
— Ты страдаешь во славу Бога, ты страдаешь за имя Христа Спасителя, за имя Сына Божия! — прибавил третий. — Адриан! Памятуй лишь, что за кратковременные страдания здесь, на земле, ты получишь вечные награды там, на небе. Только не отрекись от христианства, постарайся предстать чистым и праведным пред нелицеприятным Судьей нашим — Господом…
Он перекрестил Адриана.
— Ну, довольно, — грубо прервал офицер.
Адриан твердым шагом направился к дверям. На пороге он на минуту замедлил свой шаг, обернулся и еще раз сказал своим друзьям и жене:
— Прощайте! Прощай, моя дорогая Наталия!
С этими словами он вышел из тюрьмы, следуя за рядами воинов, а тяжелые двери темницы с глухим шумом замкнулись за ним.
Между тем в темнице воцарилась мертвая тишина. Наталия и осужденные напряженно прислушивались к шуму, доносившемуся до них с улицы и от ворот тюрьмы. Там кричали и спорили солдаты, слышались отдельные возгласы, ругательства и дикие, бессмысленные крики, да уныло и однообразно звенели на ходу оковы Адриана. Мало-помалу шум становился все тише и глуше, звон оков понемногу замирал в отдалении. Затем еще раза два или три донесся этот печальный и режущий душу звук и наконец исчез. Мертвая тишина водворилась и внутри. Ее первая прервала Наталия:
— Простите меня, братья мои во Христе! — сказала она, кланяясь заключенным. — Я так была взволнованна всем, что здесь произошло, что и позабыла о своей обязанности, которую добровольно приняла на себя. — Но я так страдаю, так трепещу, думая о страданиях моего доброго господина.
Она горько заплакала.
Оправившись немного, Наталия продолжала еще с большим рвением свое дело. Ухаживая за страдальцами, она как будто хотела забыть свои собственные страдания, но слезы неудержимо текли по ее бледному и прекрасному лицу и орошали ноги мучеников.
А когда работа Наталии была окончена, она тут же, около христиан, мирно улеглась на сыром и холодном полу и, закрыв глаза, забылась тяжелым и нездоровым сном. Скоро, впрочем, она в испуге вскочила на ноги и с ужасом стала осматриваться кругом.
— Что с тобой, сестра? — спросили христиане, крайне удивленные и испуганные ее поступком и растерянным, почти безумным видом. — Что с тобой? Чего ты испугалась? Расскажи нам!
— Ах, братья мои! — отвечала Наталия жалобным голосом. — Увидела я такие ужасы, что мне страшно даже о них вспоминать, а не то что говорить. — Но я все-таки должна вам о них рассказать.
— Что же ты нам расскажешь? — спросили христиане с любопытством. — Говори, сестра! Мы с нетерпением готовы тебя выслушать!
Наталия стояла, опустив голову. Она с минуту помолчала еще и затем тихо проговорила:
— Во сне мне явился… Я видела… моего Адриана.
— Ну и что же? Говори, говори, сестра, — повторяли осужденные, с тревожной радостью глядя на бледное и растерянное лицо Наталии.
— Что мне говорить? — отвечала Наталия протяжно. И вдруг она вся как-то выпрямилась и пошатнулась.
— Ах! — воскликнула она, неловко наклонившись вперед и вытягивая руки.
Глаза ее расширились, она произнесла шепотом:
— Он уже удостоился небесного венца мученического. Я видела его во сне, бледного, окровавленного, но с улыбкой на устах.
Наталия вскрикнула и без чувств повалилась на пол…
Вся эта необычная сцена просто потрясла узников-христиан. С одной стороны, высокая духовная радость о том, что друг и брат их во Христе, дорогой Адриан, уже, быть может, вкушает теперь райские дары, с другой — недавняя помощь их страданиям, поданная Наталией, сделали то, что некоторые из них, вдруг почувствовав в себе облегчение и возврат прежних юношеских сил, вскочили на ноги и бросились к Наталии на помощь, приводя ее в чувство.
— Помолимся, братья, — сказал один из христиан, — чтобы Бог даровал нам, рабам Своим, и брату нашему, мученику Адриану, силы, терпение и кротость в перенесении лютых телесных мучений, как подобает христианам, а сестре нашей Наталии — мужества и самоотвержения в перенесении нравственных страданий, и да пошлет Он ей утешение и венец праведницы в небесах.
— Помолимся! — воскликнули все и вместе с Наталией воспели восторженную хвалу Богу.
Глава ХХ
В этот же самый день, с раннего утра Максимиан сидел в своем кабинете. Лицо его было озабочено и имело озлобленный вид. Окна в кабинете были отворены, и благовонный воздух разносился из сада, освежая удушливый зной. Максимиан подошел к одному из раскрытых окон, постоял около него, затем вернулся к письменному столу и сердито уселся в кресло, пробормотав:
— Кажется, и сегодня будет сильная жара!
Он сидел довольно долго, но, отдохнувши, снова принялся за свою обычную работу: за прочтение хартий[50], лежавших перед ним на столе. Вероятно, известия, полученные им из провинции, были далеко не утешительные, так как лицо его, злое и темное, становилось все мрачнее и мрачнее. Наконец он уже не мог более сдерживать себя и в бешенстве вскочил с кресла, бросив на пол одну из хартий, которая наиболее разозлила его.
Вне себя от гнева он быстрыми шагами стал ходить взад и вперед по комнате, не имея возможности произнести ни одного слова. Злоба душила его, он дико озирался по сторонам.
— Пропало мое государствование! Пропал Рим! — воскликнул он. — Христианство усиливается, всюду проникает, грозит захватить всю империю. Теперь оно утвердилось там, где прежде о нем не было и помину. Что же могут сделать мои наместники, мои верные слуги, когда я сам, вот здесь, в своей столице, в своем дворце, ничего не могу сделать с этой ересью? Я, непобедимый кесарь, стою во главе непобедимых легионов[51], но мне изменяют лучшие офицеры и чиновники, — изменяют те, на кого я рассчитывал! Крамола[52] растет. Что делать?
Максимиан отер холодный пот со лба и, подумав немного, крикнул:
— Вогий!
Адъютант показался в дверях кабинета.
— Ну? Что с Адрианом? — спросил император насмешливо. — Как он поживает?
— Он в темнице, государь! — ответил Вогий тихим голосом.
— И он остается христианином? — спросил раздраженный император.
— Так точно! — ответил Вогий.
— Пошли за ним солдат! Пусть они приведут его. Да на случай упорства, пусть принесут и орудия пыток.
— Слушаю, — отвечал Вогий и вышел отдать нужные распоряжения.
Максимиан опять уселся в кресло и продолжал просматривать столь рассердившие его хартии.
Выражение лица его часто менялось: то бледнело, то краснело. Сегодня он получил большое количество депеш, как никогда. Депеши были срочные и интересные, но самого тяжелого содержания.
Давно уже император не получал таких неприятных известий, и поэтому был сильно расстроен. И если бы даже в эту минуту он столкнулся с кем-нибудь из тех людей, которых он ценил и уважал, то и эта встреча не доставила бы ему удовлетворения и радости. Что же сказать о тех несчастных, на которых мог обрушиться его императорский гнев?
И вот в эту-то страшную минуту Адриан приближался ко дворцу жестокого императора.
Звон тяжелых оков и шум на дворе возвестили Максимиану о приближении его несчастной жертвы. Он бросил хартию, которую просматривал, встал со стула и вышел из кабинета.
Через несколько минут Адриан был перед Максимианом. Как непохоже было это свидание на те, когда Адриан был наверху могущества и славы. Взор кесаря затуманился, он стоял, молча и с сожалением разглядывая Адриана. «А какой это был прекрасный воин и придворный», — думал он, и горькая усмешка искривила его губы. Но Адриан стоял перед Максимианом со спокойным и бесстрашным лицом! И Максимиан в самом деле мог полюбоваться им.
Несмотря на долгое заключение в сырой и мрачной тюрьме Никомидийской, Адриан не потерял своей величественной осанки и благородного вида, он по-прежнему смотрел прямо и гордо, не опуская глаз пред императором. Присутствие Максимиана ничуть не испугало его, и когда он поднял глаза и открыто, без страха посмотрел на императора, то в них читалась холодная строгость и презрение к кровожадному человеку.
Это спокойствие смутило Максимиана. Он понял, что не таков гордый дух Адриана, чтобы его могли сломить кандалы и тюрьма, и решил подействовать на Адриана насмешкой. Еще несколько секунд стояли они молча друг против друга. Наконец, император прервал молчание. Кровь бросилась ему в голову, и он хриплым голосом проговорил:
— Итак, мой милый, ты пришел сюда для того, чтобы отказаться от христианства? Хвалю тебя за твою верность императору! Я знал, что Адриан, как провинившееся дитя, придет просить прощение к своему отцу! Не правда ли?
И сказав это, Максимиан дико захохотал.
Адриан спокойно посмотрел на императора и так же спокойно ответил:
— Я пришел сюда, государь, по твоему повелению.
— Ну, и по-прежнему упрямишься и называешь себя христианином?
— Напрасно ты, государь, выражаешься так! Христианство есть та широкая и спокойная ладья, которая через волны бушующего моря наших человеческих страстей выносит на себе ищущих спасение людей и доносит их до тихого пристанища блаженной жизни за гробом. Быть христианином еще не составляет, по-моему, преступление, в самом названии этом нет ничего гнусного и позорного, и тебе, государь, христиане никакого зла не сделали и не сделают.
— Что? Тебе не кажется гнусным, что ты являешься разрушителем того, что существовало за много веков до нас, что служило устоем империи? Тебе не кажется гнусным — быть бунтовщиком? — закричал Максимиан.
Он помолчал немного и затем насмешливо прибавил:
— Адриану, кажется, нравится быть христианином! Он не находит в этом имени ничего позорного для себя или бесчестящего его род. Ну что ж? Быть может, это звание и много почетнее звания претороначальника! Что ж, Адриан, тогда тебе придется воспользоваться и всеми теми почестями, которые сопряжены с этим высоким званием, — теми почестями, которыми пользуются от меня и все прочие христиане!
— Ха-ха-ха! — злобно засмеялся император. — А ведь тебе, Адриан, за все то высокое духовное наслаждение, которое ты испытываешь теперь, пожалуй, придется перенести и некое малое телесное огорчение? А? Что скажешь? Впрочем, ты сам, по собственной охоте, заслужил его! Не лучше ли было заблаговременно отказаться от христианства! Ну, да дело сделано, а раз сделано, ты можешь выйти отсюда.
— А вы, — сказал император, обращаясь к страже, приведшей Адриана, — постарайтесь исправить этого христианина и вернуть его на путь истины и спасения тем, что имеете в своих руках. Проводите его с честью на двор, где я прикажу выдать ему пышную и величественную награду за его непоколебимую верность мне и моему престолу. Идите же и выполняйте то, что я вам приказал. Я буду смотреть в окно.
Выслушав речь императора, Адриан спокойно и с достоинством поклонился ему и вышел из комнаты.
В этот же миг целая туча ударов обрушилась на него. Но он шел медленно, прямо и с гордо поднятой головой, как будто не чувствуя ударов и боли от них.
Воины шли за ним по пятам, нанося ему тяжкие удары, но он ни на минуту не ускорял своего шага, а, напротив, как будто еще замедлял его.
Так дошли они до окна Максимианова кабинета, а император стоял у окна и смотрел на эту ужасную картину истязаний своего бывшего и некогда так любимого им претороначальника.
— Ну что же, долго ты намерен оставаться христианином? — спросил его Максимиан, высовываясь из окна и кровожадно улыбаясь.
— Я умру им, государь… — ответил Адриан слегка дрожавшим голосом.
— Плохо же вы исправляли его! — заметил император воинам. — Нет ли у вас с собой еще чего-нибудь, что оказало бы большее влияние на христианскую спину?
После этих слов произошла небольшая передышка: воины как бы советовались между собой, выбирая орудие мучения. Наконец, после краткого, но жаркого спора, воины стали колоть Адриана своими копьями во все части тела, прорывая и раздирая кожу до крови.
Между тем еще от предыдущей пытки, когда воины наносили Адриану жестокие удары, у него потоками лилась кровь из носа, ушей и рта.
После продолжительных истязаний измученный Адриан пал, наконец, на землю замертво и лежал без движения, весь покрытый ранами и кровью.
— Остановитесь! — закричал Максимиан воинам, боясь, что под их ударами Адриан умрет, и затем громко спросил:
— Ну, а ты, безумный человек, еще и до сих пор признаешь себя христианином?
— Да, государь, я — христианин! — едва слышно ответил Адриан.
Эти слова привели Максимиана в ярость.
— Бейте и мучьте его, как знаете! — закричал он воинам, нервно кусая губы и сжимая руки до боли.
— Бейте, мучьте! — хрипел он, чувствуя, что его самого оставляют силы и что взор его от ярости мутится и тускнеет.
Тогда воины со всех сторон набросились на Адриана и, как дикие звери, стали топтать его, быть копьями, палками и другими орудиями, бросали в него камнями, волочили по земле и истязали всевозможными способами. Все это они делали для того, чтобы заслужить милость императора.
На Адриане не было, что называется, ни одного живого места, а грудь и спина были так истерзаны, что глядеть на них было страшно. Удары падали с такою силою, что кровь мученика брызгала во все стороны на стоявших рядом истязателей. Сами палачи с ног до головы были запачканы кровью своей жертвы. По рукам их струилась кровь мученика. Они же, все более зверствуя и изощряясь в пытках, удивлялись, откуда у этого христианина столько крови…
Максимиан, оправившись немного, снова подошел к окну. Когда он увидел всю эту страшную картину на дворе и истерзанного мученика, то, быть может, в первый раз во всю свою жизнь им овладел ужас. Возможно также, что именно в этот самый день этот бездушный человек, который с недосягаемой высоты своего престола мучил, казнил и умерщвлял без всякого милосердия огромные толпы безвинных людей, почувствовал тень раскаяния в своей кровожадности…
Взглянув вниз, он вздрогнул и отшатнулся от окна. Бледное лицо его покрылось краскою стыда или негодования, и он громко и грозно отдал воинам приказание закончить свою кровавую потеху. Адриан лежал без голоса и движения в море своей собственной крови.
— Христианин ли ты еще? — громко крикнул Максимиан, уже не допрашивая Адриана, а просто желая убедиться, жив ли он еще, или уже жизнь оставила его.
— Христианин, и умру им, государь… — едва слышно отвечал Адриан.
— Отнесите его в темницу, — сказал, понизив голос, Максимиан и, шатаясь, весь бледный, отошел от окна, дрожа, как в лихорадке, и стирая с лица крупные капли холодного пота.
В то же время четыре воина скрестили копья и, положив на такое военно-походное ложе Адриана, понесли его в темницу.
Глава XXI
Страдальческая участь, постигшая Адриана, глубоко поразила жителей Никомидии. Повсюду только и слышались разговоры о последнем христианском процессе, мысли всех витали около «несчастного» Адриана.
— Неужели Адриан в темнице? — спрашивали друг у друга обитатели Никомидии.
— Этого быть не может!
— Адриан-претороначальник?
— Наш дорогой Адриан?
— Неужели он может быть в чем-либо обвинен?
— Неужели он — изменник или государственный преступник?
— Ах! Он страдает невинным!
Но на эти вопросы никто не решался отвечать.
Головы всех с тяжелой думой опускались на грудь.
Лишь только бессовестные люди, искавшие обогащения за счет казненных мучеников, говорили:
— Но ведь он — христианин…
И вопрошавшие, и сомневающиеся молча расходились по домам, дабы бесплодным сожалением о злополучии некогда дорогого им человека не навлечь на самих себя лютых бед и злосчастий. А в скором времени о несчастной судьбе Адриана уже знала и открыто, не стесняясь, сожалела вся Никомидия.
Многочисленные родственники и друзья его лили горькие слезы о его страданиях в ужасной темнице, а все бедняки города Никомидии глухо роптали и волновались, так как вся та богатая помощь, которую они получали из дома Адрианова, из «дома милосердия» всей Никомидии, прекратилась в тот же самый день, как Адриан был брошен в темницу.
Беспрестанно расспрашивая друг друга об Адриане, жители Никомидии уже хорошо знали, в каком положении он находится и как живет в своем заключении. Узнали, наконец, и о том, что Наталия посещает его, оказывая ему и другим христианским узникам всяческую благотворительную помощь. Эти рассказы, проникая в народ, превращались в христианские легенды и сказания, а люди были настолько взволнованы, что имена Адриана и Наталии тысячу тысяч раз на день повторялись, напутствуемые благими пожеланиями.
Но этим, однако, дело не ограничилось: несколько женщин, родственниц заключенных христиан, побуждаемые высоким чувством христианской любви, последовали смелому примеру Наталии. Они сговорились между собой, собрали повязки, лекарства и съестные припасы и отправились в темницу, в коей томились узники. Это случилось как раз в тот день, когда Адриана повели на допрос к кесарю.
О том, что Адриан будет приведен для допроса к самому кесарю, а затем подвергнут пытке, хорошо знала вся Никомидия еще за час до самого допроса. Весть об этом произвела страшное волнение по всей Никомидии.
Когда воины шли за Адрианом в темницу, неся с собой многочисленные орудия пытки, то они не преминули сообщить торговцам о цели своей страшной прогулки по городу. Немедленно же за проходом солдат торговцы затворили все магазины города, укрепили их болтами и, боясь восстания недовольных, завалили все двери и проходы к ним. Хозяева гостиниц и таверн сделали то же самое, большая часть из них сами затворились в своих домах, трепеща за свою жизнь и за целость своего имущества. Многим же, кроме того, было тяжело видеть мучения Адриана. Но среди этих людей нашлись и такие, которые отправились ко дворцу цезарей, желая все увидеть своими собственными глазами и дождаться конца или развязки так глубоко взволновавшего их дела.
А между тем женщины приближались к темнице.
О том, что Андриан будет предан пытке, они слышали мимоходом, но не обратили особенного внимания на эту весть. Поэтому они надеялись застать Адриана в темнице и не слишком торопились. Но, увы! Адриана они уже не нашли на месте его заключения.
Глава XXII
Мы оставили христиан, товарищей Адриана по заключению и Наталию, в тот самый момент, когда они, преклонив колена, молились Всемогущему Богу о ниспослании им сил в предстоящем трудном подвиге.
Внезапно они прекратили молитву, так как необычайный шум перед дверями темницы отвлек их от их благочестивого занятия. Несколько женских голосов, казалось, спорили о чем-то с тюремщиком, густой голос которого гремел и покрывал их.
Христиане и Наталия стали прислушиваться. Сначала они думали, что это вернулись воины, которые ранее увели Адриана. Но голоса женщин поразили их; не слышали они также и шума оружия, и обычных ругательств грубых и жестокосердых солдат, и звона цепей, надетых на ноги Адриана. Тогда они поняли, что кто-либо из родственников пришел навестить их, и сильно обрадовались. Обрадовалась с ними и Наталия, которой было очень приятно, что у нее нашлись последователи. Двери темницы с шумом распахнулись, и глазам заключенных предстала неожиданная картина. Они так изумились, что не могли сказать и слова, и только смотрели на входящих, широко открыв глаза. Понемногу они пришли в себя и встретили вошедших радостными криками.
А в тюрьму вошли, во-первых, старый сторож с доброй улыбкой на сморщенном лице, а за ним виднелась целая вереница плачущих женщин, в которых заключенные узнавали, кто жену, кто мать и сестру. Все эти женщины были с узелками и мешочками и еще издали, с порога тюремной комнаты, улыбались своим мужьям, братьям и детям и простирали к ним руки.
— Вот я вам и гостей привел, — весело сказал темничный сторож, пропуская женщин и затворяя за ними двери тюрьмы.
— Восхвалим Господа Иисуса! Жив Господь наш отныне и до века! — раздавались громкие приветствия со стороны женщин.
— И есть, и будет! — отвечали христиане.
— Мы пришли, — сказала одна из женщин, обращаясь к осужденным, — воодушевленные примером нашей милой и дорогой сестры Наталии, чтобы помочь ей, и послужить вам в облегчении телесных язв, носимых вами во имя Христово.
— Хорошо сделали, что пришли к нам. Вы — наши добрые сестры! — произнес один из заключенных, не давая договорить женщине.
— Так, так! — подтвердили другие.
В это время тюремщик принес три светильника, которые разом осветили тюрьму. Женщины расположились около узников, развертывая принесенные ими узелки.
Вдруг около тюрьмы опять послышался шум. Опять растворились ворота, и четыре воина вступили в темницу, неся на скрещенных копьях истерзанного и окровавленного Адриана.
Наталия поднялась с пола и несколько секунд стояла молча, шатаясь и бессознательно глядя на эту ужасную картину. Очнувшись, она схватилась руками за голову, пронзительно вскрикнула и бросилась к воинам, вносившим полумертвого Адриана…
Она опустилась на колени перед окровавленным телом своего господина и, покрывая поцелуями его руки и лицо, плача и ломая руки, восклицала:
— О, мой дорогой друг, мой милый господин!
— Утешься, Наталия, — с трудом произнес Адриан. — Я не отрекся от христианства и сподобился пострадать за имя Христа.
— О, пусть будет благословен твой терновый[53] путь! — прошептала Наталия, заливаясь слезами.
Но воины грубо оттолкнули ее.
В это время вошел в темницу офицер, тот самый, который дерзко кричал на Адриана в момент его ареста. Он с удивлением посмотрел на женщин, пристально вглядываясь в каждую, как бы желая запомнить черты их. Затем позвал тюремщика и сурово спросил его:
— А зачем здесь эти женщины? Ты службы своей не знаешь?
— Прости меня, господин, — отвечал старик, испугавшись строгого начальника. — Я впустил этих женщин потому, что они жены заключенных христиан.
— Но как же смел ты их сюда впустить? — горячился офицер, сжав брови и сердито топая ногами. — Как ты смел? Я тебя спрашиваю.
— Да почему же и нет? — отвечал старик, оправдываясь, и в его голосе послышалось более удивление, чем страха. — Ведь этого мне никто не запрещал…
— Хорошо. Завтра же ты получишь об этом указ, — грубо перебил его центурион и вышел из тюрьмы вместе с тюремщиком.
Воины осторожно положили Адриана на землю и вышли. Долго еще было слышно, как кричал на старика центурион, но наконец все стихло.
Когда водворилась тишина и тюремщик вновь запер ворота тюрьмы, то все оставшиеся в темнице подошли к Адриану. Ужасная картина предстала глазам присутствующих. Адриан лежал без движения, как мертвец, он был весь покрыт кровавыми ранами, а из ран, которые были так глубоки, что в них легко могли войти пальцы рук легко, торчали щепы и занозы от палок, которыми били Адриана. Эта картина была невыносима человеческому взору. Как будто дикие звери рвали тело страдальца.
Христиане, припавши к мученику, с плачем целовали его руки и восклицали:
— Брат наш, брат во Христе! Мир тебе!
Но тем не менее и эта ужасная картина не поколебала мужества христиан, а напротив, закалила их в перенесении предстоящих им скорбей. Они сочувствовали Адриану, потому что он уже вынес муки за имя Христово, и с нетерпением ожидали своей очереди, готовясь так же мужественно перенести все пытки, не озлобляясь, но с радостью ожидая встречи с Господом. Такое же точно настроение сообщилось и Наталии. Она вдруг почувствовала в себе новые силы и утверждение в вере.
— Милые подруги! — воскликнула она громким голосом, обращаясь к окружающим ее женщинам. — Идите сюда, перевяжем раны моему дорогому господину.
Женщины тотчас же последовали ее приглашению. Они осторожно перевязали раны Адриана и настояли, чтобы он принял несколько глотков вина, принесенного одной из них. Тогда Адриан открыл глаза и с трудом осмотрелся вокруг себя.
— Спасибо тебе, Наталия, за ласку твою и за любовь ко мне, — слабым голосом сказал он, обращаясь к своей жене.
Наталия, не выдержав, горько заплакала, а Адриан с трудом повернул лицо свое к женщинам и произнес:
— Благодарю, вас, дорогие сестры! Пусть за эту великую любовь вашу наградит вас Господь и Спаситель наш Иисус Христос!
Женщины, слушая его слова, тоже заплакали.
Адриан же обратился и к своим товарищам по заключению.
— И вам, братья мои во Христе, я приношу свою благодарность, — говорил он тем же тихим голосом. — Вы делите со мною тягость моего заключения. Вам я обязан еще и за то, что через вас, через вашу твердость в вере и я сделался учеником Христовым.
Он остановился и перевел дух.
Христиане, не переставая, плакали, думая, что он умирает. И действительно, речи его походили скорее на прощальные слова умирающего.
Глава XXIII
Но когда прошли первые излияния скорби, одна из женщин, обращаясь ко всем, громко сказала:
— Братья и сестры! Время идет, и, быть может, мы должны будем скоро покинуть этот храм вашей славы и ваших страданий. Поэтому приступим к трапезе, так как и вам, братья мои, давно уже не видевшим своих домов и семейств, будет приятнее разделить ее с нами.
Предложение это всеми было принято с радостью.
Тотчас же все расположились на полу, уставленном блюдами с разнообразными яствами. Эта скромная трапеза имела домашний характер и прошла довольно оживленно. Один только Адриан не мог принять в ней участия и Наталья взяла на себя труд накормить его.
После обеда наступило прощание. Женщины ушли, унося с собой тревожное чувство об участии дорогих заключенных, и обещали осужденным вновь вернуться на другой день.
Но когда наступил следующий день и женщины действительно вернулись к темнице, то тюремный сторож, не допуская их даже до двери, громко объявил им новый императорский указ, которым на будущие времена воспрещалось посещать узников в темнице их женам и вообще каким бы то ни было родственникам.
В опасные и трудные минуты жизни человек иногда решается на такие меры, о которых ему и на мысль не придет в обыкновенное время. Так и Наталия нашла, казалось, средство обойти императорский указ, воспрещавший женщинам навещать своих мужей в темнице.
Ее сердце горело желанием послужить своему дорогому и измученному пыткой господину, и она, не рассуждая долго, решилась на опасную попытку еще раз пробраться в тюрьму и увидеть Адриана.
Быстро сообразив, что нужно делать, Наталия позвала к себе одну из вернейших и преданнейших своих служанок. Эта женщина служила еще родителям Адриана, на ее скромность и опытность Наталия могла вполне положиться. В комнату вошла старая сгорбленная летами женщина. Наталия усадила ее подле себя и начала с ней беседовать.
Неизвестно, о чем именно беседовали между собой молодая госпожа и старуха-служанка и долго ли длилась их беседа, но только кончилась она тем, что старуха встала со своего места и, взяв ножницы, срезала длинную и густую косу Наталии.
Спустя час из дома бывшего претороначальника вышел красивый молодой человек, почти мальчик, одетый хотя бедно, но настолько опрятно, что легко мог быть принят за слугу или отпущенника какого-нибудь небогатого господина. Этот юноша смело направлял свои шаги к главной тюрьме Никодимии и был не кто иной, как сама любящая жена Адриана — Наталия.
Она прошла в таком виде через всю Никомидию и никому из встречавшихся ей по пути не приходило и в голову, что этот прекрасный статный юноша — вовсе не мужчина, а женщина, и при этом еще богатая и знатная женщина.
Достигши тюрьмы, Наталия прежде всего зашла в комнату тюремщика. Тюремщик при появлении ее встал и пристально посмотрел на молодого человека. Лицо его показалось старику знакомым, но он не мог припомнить, где он видел этого юношу. Пока он раздумывал об этом, Наталия приблизилась к нему и, по своему обыкновению, положила ему на стол несколько крупных золотых и серебряных монет.
— Здравствуй… — сказала Наталия, улыбаясь.
Старик узнал голос Наталии, но от изумления едва проговорил:
— Боги да сохранят тебя под своим покровом, мой сын! Да только сдается мне, что ты… не мужчина… Или уж я стар становлюсь?
Наталия постаралась улыбнуться.
— Не старишься ты, дядя! Я действительно Наталия, жена Адриана, но я знаю тебя, как человека доброго, и уверена, что ты пропустишь меня к моему господину. Тебя не проведешь, да и обманывать тебя грех! Другое дело воины. С теми нужно действовать осторожно.
И она с мольбой посмотрела на старика.
Ее просьба, а также и вид золота, подействовали на тюремщика. Подумав немного, он, наконец, поднялся с места и, взяв ключи, промолвил, обращаясь к Наталии:
— Ну, идем, моя добрая и милостивая госпожа! Все я, старик, сделаю для тебя.
И повел ее в темницу.
— Ох, нелегка моя служба, — бормотал он, гремя ключами и затворами.
Наталия вошла в темницу и, поздоровавшись с христианами, которые встали при ее виде, опустилась на колени около истерзанного Адриана и покрыла слезами и поцелуями его руки и голову. Адриан открыл глаза.
— Кто это? — произнес он слабым голосом.
— Адриан! Неужели ты не узнаешь меня, свою жену, свою Наталию? — спрашивала молодая женщина, глядя ему в глаза.
— Ах, это ты, моя дорогая Наталия! — ответил Адриан с улыбкой.
— Я, мой милый, мой дорогой друг, муж и господин!
— Благодарю тебя, моя верная супруга! Спаситель наш вознаградит тебя за твое самоотвержение…
Глава XXIV
В то время как христианки, по примеру Наталии, под видом молодых людей, посещали заключенных в тюрьме города Никомидии, во дворце императора Максимиана происходили совершенно другие сцены.
Император был по-прежнему суров и сосредоточенно молчалив. Блестящие приемы и аудиенции прекратились, и только два человека из приближенных к императору имели к нему доступ во всякое время и не боялись беседовать с ним о текущих делах в государстве.
Эти два человека были Ветурий и Вогий.
Впрочем, с недавнего времени Ветурий все реже и реже стал появляться на глаза Максимиана, так как вести, приходившие к императору из разных окраин государства, становились более утешительными. Префекты и проконсулы писали императору, что число христиан постоянно уменьшается и что в самое короткое время их и вовсе не будет в Римской империи.
Казалось, эти известия могли бы утешить императора. И действительно, они разогнали морщины на его суровом и вечно мрачном челе. Будь всякий другой человек на месте Максимиана, он непременно высказал бы или, по крайней мере, в глубине души своей ощутил бы сожаление о таком множестве погубленных людей. Максимиан же отнесся к этому совершенно равнодушно, или, точнее сказать, даже радовался истреблению своих «врагов», каковыми считал христиан.
Вот и теперь Максимиан с удовольствием прочитывал депешу, полученную из одной отдаленной провинции, правитель которой извещал его об энергичных мерах, предпринятых им против исповедников противного римскому императору христианства.
Прочитав полученное известие, Максимиан встал со стула, походил некоторое время по кабинету и наконец подошел к дверям.
— Вогий! Поди сюда! — закричал он в зал, отворяя двери своей комнаты.
Через несколько секунд адъютант вбежал в кабинет и, отдав воинскую честь императору, безмолвно и как вкопанный остановился на пороге комнаты, ожидая, когда Максимиан обратится к нему с вопросом или с приказанием.
— Что… — заговорил император, медленно пропуская слова сквозь зубы, — что слышно об Адриане и остальных его друзьях-христианах?
— Они, государь, в темнице. Адриан лежит без движения и не сегодня-завтра умрет. Прочие также на очереди, — отвечал Вогий.
— Ну и отлично! Чего же еще ждать? А женщины что же, ухаживают еще за ними, и по-прежнему проводят дни и ночи в темнице?
— Нет, государь! С тех пор, как отдан приказ не впускать женщин в темницы, еще ни одной не было там. Не было также и попыток проникнуть к христианам с помощью подкупа сторожа или часовых. Только несколько молодых людей ежедневно навещают темницу, стараясь облегчить участь узников.
Но Вогий еще даже не договорил, как император уже вспыхнул.
— Как? Молодые люди? Какие молодые люди? Откуда? Зачем? Кто их пускает? Это измена, Вогий! Быть может, эти мальчишки тоже христиане?
— О нет, государь, успокойся! Это родственники осужденных и приходят они только для того, чтобы провести с ними время и несколько облегчить тяжесть их оков и горькой тюремной жизни…
— Но ведь в таком случае они могут заразиться христианством от осужденных, Вогий. Тогда и с ними мы будем иметь множество затруднений и неприятностей. Подумал ли ты об этом? Вероятно, нет. А я думаю, что дальнейшее пребывание христиан в тюрьме совершенно для нас неудобно и не соответствует нашим интересам. Итак, советую тебе, Вогий, позаботиться о том, чтобы дело их было поскорее закончено!
— Осмелюсь доложить твоей божественности, государь, — робко и почтительно заметил Вогий, — что дело уже давно бы могло быть покончено, если бы христиане могли предстать пред судом, но, к сожалению, этого сделать невозможно. Что же повелишь, государь? Повелевай, я слушаю.
И Вогий склонился на одно колено пред Максимианом. Максимиан слегка задумался. Но это замешательство продолжалось недолго.
— Я покончу с ними сейчас же! — сказал император, понемногу входя опять в свое нормальное состояние, то есть злобное возбуждение. — Решать так решать. Один удар — и всему конец! Иди сейчас же и приготовь все, что нужно к казни. Да выбери род казни посуровее, так как ослушники моей воли заслуживают самых жестоких наказаний и пыток. Приговор можешь исполнить и в тюрьме. Не нужно никаких официальностей…
Вогий встал с колен.
— Но государь, как же это без всякого суда и приговора? — воскликнул он, крайне удивленный.
Это замечание еще более увеличило гнев императора Максимиана.
— Иди, негодяй! Делай то, что я повелел! — прохрипел он, бесцеремонно выталкивая адъютанта из дверей своего кабинета. — Какой тебе еще суд, какой приговор! Я сам тебе суд, сам приговор! Убирайся, пока цел да голова еще на плечах держится. Понял ты это?
— Понял, государь! — отвечал трепещущий Вогий и тотчас же удалился.
Максимиан живо подскочил к окну и перевесился вниз, чтобы наблюдать за происходящим во дворе. Через несколько минут из дворца двинулось по направлению к темнице страшное шествие, состоявшее из небольшого отряда пеших воинов, окружавших телегу, нагруженную огромной железной наковальней и несколькими тяжелыми чугунными молотами.
Как только шествие двинулось и двор кесаря опустел, Вогий снова вошел в кабинет Максимиана и быстро отрапортовал императору, что все, что было приказано его божественностью, исполнено в точности.
Но император не обратил внимание на слова адъютанта. Он жадно следил за всеми движениями удалявшихся воинов-палачей, представляя в своем развращенном воображении все невыносимые муки, которые должны были перенести несчастные узники-христиане, томившиеся в тюрьме Никомидии.
А муки действительно предстояли ужасные!
Глава XXV
Между тем воины-палачи, достигнув темницы, сняли с телеги наковальню и молоты, отворили дверь в темницу и, войдя в нее, расставили эти ужасные орудия пытки и смерти среди христиан.
С ними вместе вошла и темничная стража. Тут же около христиан находились и жены узников, переодетые в мужскую одежду.
Расположившись полукругом у двери, воины скрестили копья, из среды их выдвинулся офицер и, обратившись к узникам, произнес:
— Христиане! Вы осуждены на жестокую смерть. Нам приказано убить вас наиболее тяжелой и позорной казнью. С этой целью и принесены сюда эти страшные орудия — наковальня и молоты. Вам будут раздроблены руки и ноги, а напоследок головы, дабы вы умерли в нечеловеческих муках. Такова воля кесаря, и преступить ее мы не можем. Но и милость кесаря к вам неизреченна: он обещает вам прощение всех ваших преступлений, возврат к прежнему благополучию и награды всем, кто отречется от Христа и своей веры. Следовательно, спасение ваше зависит от вас самих, в противном же случае жаловаться на кого-либо вы не имеете права. Я сказал вам все, теперь ваша очередь отвечать мне.
С величайшим смирением выслушали христиане эту жестокую речь, и один из узников просто и кратко ответил на нее:
— Мы останемся христианами, а ты делай то, зачем послан сюда!
— Итак, друзья, за дело, — приказал офицер, повернувшись к воинам.
Воины окружили христиан.
Между тем Наталия, не покидавшая Адриана ни на минуту и с ужасом смотревшая на страшные приготовления к казни и на все, что происходило около нее, наклонилась к своему мужу и тихо прошептала:
— Господин мой! Не лучше ли было бы, чтобы ты первый дал пример всем этим христианам, как нужно умирать за имя Христово? А то, быть может, среди них найдется и такой, который из страха перед муками или ради кратковременной прелести земной жизни отречется от Небесного Царствия и лицезрения Божественного лика Христа нашего Спасителя?
На самом деле, Наталия не столько боялась за других, сколько за того же дорогого ее мужа, за Адриана. На одну только минуту в ее голове блеснула тягостная мысль о том, что больной Адриан, вдруг увидев страшные приготовления к мучительной смерти, может пасть духом и отказаться от Христовой веры. И вот, она тут же обдумала план, чтобы силой своей души и многолюбящего сердца помочь Адриану войти в Небесное Царствие, врата которого уже были раскрыты для него.
Она предложила Адриану умереть первым.
И Адриан, давно готовый принять мученический венец, не выразил ни малейшего сопротивления…
— Да, я дам пример, мой верный и дорогой друг! Скажи центуриону, что я первый готов принять свою участь, — ответил Адриан.
Наталия с кротким взором обратилась к распоряжавшемуся казнью офицеру:
— Мой господин просит тебя, центурион, чтобы над ним первым свершили вы уготованную ему лютую казнь, как повелел ваш император.
Офицер равнодушно пожал плечами.
— Странное желание у твоего господина, — сказал он с насмешкой, — но, впрочем, его воля, я не могу в этом ему противоречить.
— Ну мы готовы, поторопись тогда…
И центурион, повернувшись к воинам, продолжал безжалостно шутить над обреченными.
Между тем Адриан, приподнявшись с помощью Наталии, подошел к страшной наковальне[54].
Два воина схватили его за плечи, один обхватил поперек тела, чтобы приковать к наковальне, а Наталия, спросив сначала позволения у Адриана, потом у офицера, взяла его правую руку и, поцеловав, положила ее на страшную наковальню. Кровавая драма началась.
Адриан, закрыв глаза, тихо молился.
Воин с силою взмахнул огромным молотом и опустил его на руку Адриана. Удар был страшен и раздробил кость руки пополам. Адриан вскрикнул и лишился чувств.
Следующий удар раздробил правую ногу, и палач отсек ее острым концом молота. Наталия, все еще не теряя присутствия духа, помогла положить на наковальню левую ногу своего супруга-мученика. И эту ногу палачи раздробили тяжелым молотом, а затем отсекли от тела.
Мы опускаем здесь занавес на все отвратительные сцены зверского убийства, варварской и бессмысленной жестокости. Как правило, за раздроблением и отсеканием ног при избрании таких жестоких казней узникам следовало и поочередное отсечение рук.
Наталия не отходила от Адриана ни на минуту и приняла его последний вздох. Он умер прежде отсечения правой руки, бросив последний потухающий взор на Наталию. Он умер мужественно, удивив своею стойкостью и терпимостью не только друзей, но и врагов.
Когда ему отрубили левую руку, Адриан уже не слышал и не чувствовал страданий, он был мертв.
Таким же точно образом были замучены и все другие христиане. Воистину, страшное зрелище представляла темница, полная изуродованных тел, раздробленных и валявшихся повсюду рук и ног.
Воины ушли, ушла с ними и стража, уже более ненужная здесь, так как стеречь было более некого. Настала мертвая тишина, лишь изредка прерываемая горьким плачем христианских жен.
В дверях темницы показался старый тюремщик.
— Ах вы, мои бедные! — бормотал он, глядя на женщин, на трупы их родных людей и качая головой. — Жаль мне вас, но что же делать?
— Однако, время уже идти вам обратно домой, говорил старик. — Всякий час теперь нужно ожидать, что от кесаря придет приказ, как поступить с телами избиенных. Худо будет и мне, и вам, если вас застанут здесь. Чего доброго, пожалуй, узнают, и тогда… Ну, да что об этом толковать! Уходите! Ваших мертвых теперь неутомимый работник, лодочник Харон[55], перевозит уже через реку Стикс[56] в царство вашего славного Христа.
Женщины тотчас же вышли, а Наталия, потихоньку от прочих, взяла правую руку Адриана и бережно, как святыню, обернула ее платком и скрыла под своим плащом. Старый тюремщик не заметил этой пропажи…

Глава XXVI
На другой день вышло от императора Максимиана приказание сжечь публично тела всех усопших христиан, а прах их по сожжении развеять по ветру.
Но Господь не допустил этого поругания над своими верными рабами. Случилось следующее.
Тела христиан были вывезены ночью из темницы и сложены на главной площади города Никомидии в громадной железной печи, но по какой-то странной случайности приставить к ним стражу никто и не подумал.
В полночь явилось несколько людей, которые длинными копьями вынули тела мучеников из этой печи и перенесли их на галеру богатого Никомидийского купца и банкира Константина, который, случайно уцелел от гонения. Он был христианином и, опасаясь за свою жизнь и за целостность своего огромного богатства, решил искать безопасность в бегстве на европейский материк, а именно в Византию. Там он хотел с честью предать земле тела мучеников и получил на это благое дело согласие со стороны их родственников.
На следующий день, когда Максимиан проснулся и, по обыкновению, кликнул Вогия, дежурный адъютант, войдя, объявил ему об исчезновении с площади тел казненных христиан.
— Как? Что ты говоришь? Этого быть не может! Куда же они могли исчезнуть? Поди, ищи их, да зови сюда Вогия! — закричал Максимиан на адъютанта.
— Слушаю! — ответил офицер и быстро вышел, чтобы отдать воинам нужные распоряжения.
Но как ни старались приспешники императора с Вогием во главе отыскать тела замученных христиан или, по крайней мере, виновников их похищения, все было напрасно, таковых не нашлось, а галеру Константина, мирно стоявшую в гавани, никто не стал и осматривать, полагая, что она битком набита драгоценностями, но отнюдь не мертвыми телами.
Император свирепствовал и был так сильно разгневан, что в течение целых двух дней не пускал к себе Вогия. Вогий и его адъютанты были в отчаянии.
Между тем в Никомидии случилось еще одно очень странное происшествие.
Случай этот произошел с трибуном Антонием, одним из наиболее любимых и приближенных к императору лиц. Над этим трибуном довольно зло подсмеялась проказница-судьба.
Трибун этот уже наслаждался полным и всесовершенным благополучием на земле: он был богат, происходил из хорошей и знатной фамилии, занимал почетное и независимое положение в городе и, в особенности как ревностный язычник, был любим и почитаем самим даже императором Максимианом. Одного только не хватало счастливому трибуну города Никомидии — красивой, знатной и богатой жены.
Он решил добыть и это последнее счастье, и потому после очередного городского совета он подошел к императору Максимиану и, опустившись перед ним на одно колено, просил как милости, говорить.
— Говори, говори, мой верный трибун, чего ты желаешь, — одобрительно и с улыбкой заметил император.
— Государь, — начал трибун довольно несмелым голосом и сильно покраснев. — Твой покорный и верный тебе раб хочет просить тебя об одной великой для него милости.
— Говори же, Антоний, о какой? — сказал Максимиан, слегка удивленный.
— Дозволь мне, о государь, взять в жены себе одну из вдов казненных тобою христиан.
— Которую же это именно? — спросил император и сердито сдвинул брови.
Антоний испугался не на шутку, заметив неудовольствие Максимиана, и начал уже раскаиваться в своем неуместном и, как ему теперь показалось, опасном плане, но раз он уже начал говорить и Максимиан ждал его ответа, нужно было окончить разговор, и Антоний еще более несмелым и упавшим голосом проговорил:
— Прости, государь, я вовсе не имел намерения оскорбить твой божественный слух упоминанием имени этих нечестивых христиан. Я говорил только о Наталии — жене бывшего претороначальника города Никомидии казненного тобою Адриана.
К удивлению всех присутствовавших при этой сцене, лицо Максимиана прояснилось. Он ласково кивнув головой молодому, стройному и красивому трибуну и громко рассмеялся. Веселость божественного императора привела придворных в неопискемое восхищение, а он, повернув свое сияющее лицо к толпе, окружавшей его, весело проговорил:
— Вот, хвалю выбор трибуна. Какой у него быстрый и верный взгляд на вещи. Из всей Никомидии выбрать себе красивейшую и богатейшую женщину! О, да ты, трибун, молодец! Ну, поздравляю тебя, мой новый претороначальник! Ты теперь будешь занимать эту должность, и я уверен, что ты послужишь мне много вернее, чем служил Адриан. Ведь ты неоднократно предупреждал меня о том, чтобы я боялся этого изменника. Итак, тебе по праву принадлежит все имение казненного, движимое и недвижимое, и даже сама жена его, моя прекрасная подданная Наталия! Пусть это будет тебе наградой за твою верную службу.
— Но все это нужно оформить известными действиями, — продолжал император уже более серьезным тоном, — и ты, Вогий, тотчас же отправляйся к Наталии и скажи ей, что я приказываю ей выйти замуж за нового претороначальника Антония, бывшего трибуна Никомидийского. Понял ты меня?
— Понял, — отвечал Вогий, почтительно склоняясь.
— Скажи, что я приказываю! — повторил насмешливо император.
— Слушаю! — отвечал Вогий и отправился к скорбящей Наталии.
Не прошло и часа, как Вогий уже вернулся во дворец и предстал перед императором.
— Ну что? — спросил его Максимиан.
— Наталия просила вас, государь, дать ей три дня, чтобы оплакать своего любимого мужа. Затем она с радостью исполнит ваше приказание.
— Хорошо! — сказал Максимиан, успокоившись. — Ты Вогий, достоин награды.
Но на другой день и Вогия, и самого императора ждало крупное разочарование.
Еще поздно ночью прибежал во дворец один из воинов городской стражи и громко требовал, чтобы его проводили к Вогию.
Но Вогия во дворце не было. Стражник прибегал еще два раза, но так же безуспешно, как и в первый. Наконец, уже утром явился во дворец Вогий. Но он, по-видимому, уже знал о происшедшем и тотчас же распорядился, чтобы его пропустили к императору.
— Что тебе нужно? — спросил Максимиан, свирепо глядя на своего адъютанта.
Он был не расположен выслушивать о каких бы то ни было новостях.
— Случилось, государь, нечто странное и невозможное. Минувшей ночью Наталия исчезла из своего дома.
— Что? — воскликнул император, вскакивая со своего кресла. — Что ты говоришь? Возможно ли это?!
— Не знаю, государь, но это так. — Стражник, который мне донес это первый, рассказывает, что задолго еще до первой стражи[57] мимо него проходила какая-то женская тень, но он не придал этому значения, в противном случае, остановил бы женщину.
— А куда отправилась эта женщина?
— Она шла по направлению к дворцу.
— Ну так это и была Наталия! — воскликнул Максимиан. — И она ушла в гавань! Вогий! Ее необходимо схватить, и пусть мое приказание выполнит ее же жених. Пусть Антоний схватит ее и держит у себя в доме до завтрашнего утра, а завтра или она будет его женой, или я прикажу ее бросить в раскаленную печь.
— Слушаю! — ответил Вогий и вышел из комнаты.
Несмотря на все это, план Антония овладеть Наталией разрушился — она была уже на пути в Византию.

Глава XXVII
Вот как это случилось.
По уходу Вогия, Наталия долго плакала, покрывая поцелуями утаенную ею с места казни руку Адриана. Наконец она встала, оделась по-дорожному и, незаметно от прислуги, удалилась из дома через сад, только ей одной известной тропинкой.
Она спешила в гавань, где стояла еще галера тайного христианина Константина, уже совсем готовая к отплытию в Византию.
Нервы Наталии достигли наивысшего напряжения, силы покидали ее и едва она достигла галеры, как почти без чувств упала на первую корабельную скамью.
Рослый и красивый мужчина подошел к ней и, осторожно держа ее за руку, помог ей подняться.
— Кто ты? — спросил он приятным и мягким голосом, обращаясь к несчастной женщине.
— Я — Наталия, вдова бывшего претороначальника города Никомидии Адриана. Хочу уехать в Византию. На твоей галере, добрый человек, если ты владелец ее, находится тело моего мужа, которое ты взял, чтобы похоронить. Я также хочу лечь рядом с ним в землю.
— Я — Константин, — ответил мужчина, — и вдова претороначальника Адриана всегда будет дорогой гостьей на моем корабле. Но зачем у тебя такие мрачные мысли, зачем ты думаешь о приближении смерти? Ты так еще молода, у тебя впереди целая жизнь.
— Поздно теперь говорить об этом, — отвечала Наталия печальным голосом, в котором слышалась горечь об утерянном муже. — Жизнь моя так подорвана, что у меня одна только молитва к Господу Иисусу: «Пусть поскорее окончатся мои страдания, Господи Иисусе Христе! Прими меня в обители Свои».
Разговор на этом кончился, и галера вышла из гавани. Ночь была светлая, полный месяц стоял на небе.
Как только галера очутилась в открытом море, Наталия попросила Константина свести ее в трюм, где лежали нетленные тела мучеников.
Она быстро отыскала среди них тело своего возлюбленного супруга и с благоговением припала к нему.
— О, мой дорогой супруг! — воскликнула она, плача и сжимая в руках окровавленные останки Адриана.
Долго она плакала, долго рыдала, но усталость взяла свое, и Наталия тихо заснула среди святых останков никомидийских мучеников.
— Оставьте ее! — сказал Константин, видя, что некоторые из христиан, бывших с Наталией, пытаются разбудить ее. — Пусть отдохнет!
Христиане оставили ее в покое.
Сон ее был продолжителен.
Она вдруг очнулась, глаза ее светились радостью…
Она села на полу, возле тел святых мучеников, широко распростерла руки, как бы готовясь принять кого-то в свои объятия, и вдруг, громко воскликнула:
— О, Адриан… Дорогой, милый Адриан!..
И опрокинулась на пол.
Христиане слышали этот восторженный крик и толпою бросились к святым останкам. Но Наталия была уже мертва, дух земной жизни покинул ее.
После непродолжительного совещания христиане решили похоронить святые тела Адриана и Наталии вместе, но отдельно от прочих никомидийских мучеников-христиан.
После продолжительного плавания галера Константина спокойно вошла в просторные воды Византии…
Протоиерей Димитрий Алексич
На Голгофе
(легенда)
Темная ночь, словно черная птица, спускалась на землю. За далеким, синеющим лесом красно-багровая зорька догорала своими последними огнями. Бледные, как ночные тени, стояли деревья, печально поникнув своей нежной листвою и не колышась.
Где-то вдали жалобно играл рожок пастуха, слышалось блеяние овец, мерный лай заснувшей было собаки.
Заря догорала… Тени густели… Ночь, страшная, безпросветная[58], овладевала заснувшей землей.
На вершине Голгофы, озаренные мягким светом выплывающей из-за туч луны, безмолвно стояли три креста.
Посреди двух разбойников на крестном древе висел Страдалец Христос, опозоренный, осмеянный жалкими рабами греха. Его кроткое, изможденное лицо было бледным. Тяжкие страдания не давали покоя Его ослабевшему телу, но ни одна черточка на лице, ни один мускул не выдавал их. Лицо было по-прежнему спокойно, оно все еще не утратило отпечатка своей царственной красоты.

Кроткими, полными безконечной* любви очами взирал Божественный Учитель на стоявшую у Его Креста Пречистую Матерь. Святые уста Его тихо шептали молитву, и открытая грудь мерно вздымалась от тяжких страданий.
Тихо все… Ни звука не слышно…
Только порой у Креста раздаются рыдания.
То плачет исстрадавшаяся, бедная Мать, глядя на мучения кроткого, безгрешного Сына, распятого беззаконными людьми на Кресте.
Вот пронесутся они, скорбные рыдания, огласят ночную тишь и, как стон оборванных струн, смолкнут, смущенные и растерянные. И опять тихо.
Тихо и жутко кругом. На каменистом, пустынном утесе, вдали от Голгофы, окруженный тысячами своих верных слуг, сидел дьявол.
Его злобное лицо носило на себе отпечаток довольства. Дьявольская улыбка подчас играла на его немых устах. И пустынный, каменистый утес оглашался раскатистым хохотом.
Дьявол ковал цепь…
Занятый своей работой, он пугливо посматривал на Голгофу, на вершине которой чернели кресты.
Но там тишина. Ни одного звука не долетает оттуда, ничто не говорит о смерти Христа.
И дьявол торопится…
В каком-то нервном возбуждении удлиняет цепь, кует кольцо за кольцом, пробует крепость их, примеряет цепь на самом себе.
А восток уже начинал алеть… Вспыхнув красивой зарею, загорелся, запылал кровавым пожаром.
Ночные тени бледнели. Окутанные легкой дымкой тумана, из ночной мглы выступали и развесистые, красивые кедры, и каменистые утесы, и Голгофа со своими мрачными крестами.
Вздох облегчения вырвался из груди дьявола.
Окончена работа! Готова цепь!
В нее он закует тело безжизненного Христа и тем одержит победу над светом. Зло надсмеется и над пророками, и над Христом, не выпустив их из своего мрачного царства смерти и духовной тьмы.
А Христос страдал. Тяжкие мучения, как ножом, резали его тело, кровь застывала, язвы на руках и ногах становились больше, красней, и из них алыми струйками сочилась горячая кровь.
Его лицо было мертвенно-бледным. Глаза закрыты. Крест окружала толпа…
Пристально смотрел на Голгофу дьявол, видел все страдания Христа и ликовал в душе.
Он уже не сомневался более, что Христос не выдержит страданий и телесная слабость возьмет перевес над Его могучим духом; то великое дело, на которое снизошел Он с неба, будет не выполнено, разбито и осмеяно.
И громко бренча только что изготовленной кованой цепью, дьявол неудержимо смеялся.
Громкие раскаты его сатанинского хохота оглашали утренний воздух, взбадривая и возбуждая склоненных пред ним мрачных слуг.
«Боже, Боже мой, вонми Ми, вскую оставил Мя еси?» — донеслись слова Божественного Страдальца с Голгофы…

Полные безпросветной* скорби, печальные и надтреснутые, они тихо замерли в утреннем воздухе, как стон измученной души.
И дьявол даже не поверил своим ушам. До того легкою казалась ему победа над светом, до того скорым — торжество греховной мглы.
Еще миг, еще минута тяжких страданий Христа, и победа будет одержана дьяволом, греховная темень победит зародившийся было свет…
И, ликуя в душе, он накидывает на себя тяжелую цепь, чтобы примерить ее в последний раз.
— Да, хороша, крепка и надежна, — шепчут его дрожащие уста…
— Отпустите, — приказывает он своим слугам, не будучи в состоянии выдержать тисков гремучей цепи.
«Отче! прости им… Не ведают бо, что творят…», — доносится со Креста последняя, трогательная мольба Страдальца…
— Так значит дух, могучий и безтрепетный*, жив еще в Нем?.. Значит, я ошибся?! — проносится по каменистому утесу громкий дьявольский стон.
— Отпустите же… Отпустите… Сбросьте с меня цепь, — молит он своих бесов.
Но напрасно. Страшно испуганные, низко присев, прижавшись к земле, смотрят они на ярко горящее солнце, видят, как начинает оно меркнуть, слышат, как трясется земля, и не двигаются с места.
— Свершилось! — раздался мощный глас со Креста.
И засверкала молния…
Страшные удары грома потрясли холодный воздух, задвигалась, словно лишенная своего основания, земля, крепче сковалась на дьяволе его цепь…
— Отпустите… — неслись истеричные дьявольские крики, переходящие в жуткий рев…
Но цепь не слабела…
Только земля разверзла под ним свои недра и приняла в них скованного, пораженного, громко стонущего дьявола вместе с его слугами…
Михаил Горев
Журнал «Отдых христианина», № 3, 1906 год
Сестры Фабиолы
Повесть из истории гонения христиан
Глава I. Посвящение
Солнце склонялось к западу.
Легкий вечерний ветерок слабо рябил синюю поверхность моря, омывающего Карфаген[59], — гордый и счастливый Карфаген, который древние называли второй славой и лучшей красотой мира после Рима.
Толпы рабочих и торгового люда, закончив длинный трудовой день, медленно двигались по дороге, ведущей от гавани в город и засаженной по обеим сторонам фиговыми и масличными деревьями. Большинство этого люда громко разговаривали между собой о торговле, о том, какие ожидаются в гавани корабли, с каким грузом и сколько потребуется времени на их разгрузку. Другие говорили о том, что с некоторого времени сделалось не перестающей злобой дня, — а именно, о новой религии, которая, начав с бедняков и рабов, все более и более распространялась и среди других классов.
Говорили о том, какие жестокие преследования предпринимались против последователей этой религии, но что преследования эти мало помогали делу. Указывали на знатнейшие фамилии, увлекшиеся этим новым вероучением, и даже называли нескольких сенаторов, которые будто бы тайно держались христианства. Иные же, забыв торговлю и религиозные вопросы, с жаром говорили о могуществе Карфагена, о его прошлой независимости и о том, что он и теперь еще мог бы поспорить с Римом. Они сильно воодушевились, когда заходила речь о славном Ганнибале[60], который когда-то с таким мужеством отстаивал независимость Карфагена, и осыпали порицаниями имена тех, которые предались римскому орлу.
Поодаль от этих групп, совершенно незаметно, шел один человек. Он тоже медленно продвигался по направлению к городу, но по всему видно было, что он не принадлежал ни к разряду карфагенских купцов, ни к чернорабочим морской гавани. На вид это был человек довольно преклонного возраста; одет он был в длинный плащ, какие тогда обычно носили философы.
Казалось, шедший всецело погружен был в глубокую думу и шел, решительно не замечая тех красот природы, которые щедрой рукою рассыпаны были вокруг него. В его высокой стройной фигуре, в его мужественных и правильных чертах лица сказывалась суровая решимость души, привыкшей к полному самообладанию и господству над собой. Широкий открытый лоб уже изборожден был морщинами, а длинные волосы, ниспадавшие густыми прядями по плечам, серебрились сединой. Однако в живых, проницательных глазах светились ум и энергия, свидетельствовавшая о мощи его души, остававшейся, несмотря на годы, юною и деятельною.
Его звали Септимий Тертуллиан[61].
Дойдя до поворота дороги, от которого начиналось предместье города, Тертуллиан направился по широкой улице, ведшей к цитадели[62], находившейся в центре Карфагена.
По обеим сторонам улицы возвышались громадные дома, нередко напоминавшие своей роскошью дворцы, а около них толпились целые полчища рабов, очевидно ожидавших выхода своих господ. Здания, предназначенные для зрелищ, публичные бани и термы[63], построенные из мрамора и украшенные статуями и барельефами, давали знать, что в этой части города живет наиболее знатное сословие аристократов. За цитаделью виднелись величественный фасад и медные ворота храма Юноны[64], того храма, площадь которого неоднократно обагрялась кровью невинных мучеников. Говорили, что внутри храма находились неисчислимые богатства, что на каждом шагу там сияло золото и драгоценные камни, свидетельствовавшие о безумных затратах религиозного заблуждения. Город, по-видимому, не пожалел средств, чтобы воздвигнуть нечто вроде второго Капитолия[65].
Тертуллиан с полным равнодушием смотрел на окружающую его роскошь, на всю эту суету и тщеславие языческой жизни. Только проходя мимо театра, он на минуту остановил свой взор на громадных стенах этого колоссального здания, очевидно думая с негодованием о тех позорных зрелищах, которые ежедневно привлекали сюда целые толпы народа.
Когда он проходил мимо храма Юноны, случилось, что верховный жрец в полном облачении и в сопровождении окружавших его младших жрецов медленно сходил по ступеням храма. Тертуллиан невольно остановился, он не мог побороть в себе того чувства возмущения, которое являлось у него всегда при виде языческих жертвоприношений.
— Нечестивые божества, — произнес он с гневом. — И вы, безумные служители их, долго ли будете оскорблять величие Христа, моего Господа? Когда же, наконец, придется мне увидеть победу Креста, сияющего над этими низверженными развалинами?
К счастью, слова его не были услышаны теми, которые сопровождали шествие, так как в противном случае, без сомнения, все сопровождавшие мгновенно набросились бы на нечестивого христианина и разорвали бы его в клочья. И кто знает, быть может, это обстоятельство послужило бы сигналом к новому жестокому гонению на христиан, уже столько раз потрясавшему юную христианскую церковь.
Спустя некоторое время Тертуллиан постучался в дверь одного дома, который впоследствии усердием верующих обращен был в прекрасную базилику[66].
Из-за двери тотчас же выглянула черная фигура нубийского[67] невольника, который с тупым равнодушием пропустил пришедшего вперед.
Дом, в который вошел Тертуллиан, носил на себе все признаки тогдашнего новейшего строительного искусства, свидетельствуя о тонкой изобретательности художника, щедрой рукой сочетавшего в одно целое все то лучшее и привлекательнейшее, на что способна была современная ему архитектура. Особенное внимание обращали на себя богато отделанные мрамором фасад и портик[68], и затем атрий[69], или внутренний двор, вокруг которого тянулся длинный ряд алебастровых колонн, украшенных редкими по художественности изображениями цветов, растений и животных. Все новейшее, что могло изобрести тогдашнее стремление к роскоши, все богатейшее, что в состоянии был дать Восток: мягкие ковры самой тонкой отделки, высокие бронзовые канделябры, бюсты, вазы, треножники, картины, сохранившие всю свежесть красок, статуи в нишах, столы из благоухающего дерева, — все здесь соединилось вместе, чтобы очаровывать взор и льстить тщеславию.
Навстречу Тертуллиану вышла молодая рабыня и провела его во внутренний покой к хозяйке дома. Тертуллиан, пройдя длинный ряд колонн и помещений, очутился в уютной комнате, которая, очевидно, предназначена была служить детской. Здесь, на богатой софе, рядом с которой находилась небольшая колыбель, сидела молодая женщина. Она держала на руках маленького ребенка, с которого не сводила глаз, очевидно, любуясь спящим малюткой. Она была так погружена в это созерцание, что даже не заметила прихода постороннего человека. При всем расцвете молодости, при всем блеске красоты, которую еще более оттеняла матовая бледность ее лица — следствие недавно перенесенной болезни, — по ее высшей степени скромной и кроткой фигуре легко было заметить, что она принадлежала к последовательницам новой религии, столь очищающей и возвышающей сердце женщины. Но будучи лишь недавно обращена в христианство, она, по-повидимому, не успела еще всецело проникнуться духом этой религии.
При всей своей добродетельности и чистоте, она не успела еще побороть в себе прежних привычек к роскоши и пышности. Вокруг нее повсюду виднелись богатые украшения, драгоценности, золото, которые так мало гармонировали с кротким и смиренным видом молодой христианки. Одна только колыбель малютки, судя по богатству работы и украшений, стоила столько, что на затраченную сумму можно было бы прокормить не один месяц целую семью бедняков.
— Мир с тобой, Вивия, — произнес кротко, но вместе с тем с укоризной Тертуллиан. — Желал бы добавить: дочь моя, — да не решаюсь.
Молодая женщина быстро подняла глаза и, увидев знакомое лицо своего учителя, с радостью, светившейся во всем ее существе, встала и, подходя вместе с ребенком, приветливо ответила:
— И с тобой мир да будет, отец мой! Но я вижу, что ты чем-то недоволен. Скажи, чем я могла огорчить тебя, что ты даже не удостоил меня назвать дочерью, как называют меня другие братья-христиане? Пусть не омрачает тебя то счастье, которое мне послал Бог! Лучше благослови счастливую мать и ее ребенка.
С этими словами она опустилась на колени и протянула Тертуллиану малютку, который весело и беззаботно перебирал ручонками.
— Всемогущий Господь, Отец неба и земли, пусть благословит тебя и твое дитя! — произнес торжественно Тертуллиан. — Ты спрашиваешь, почему я так сурово тебя назвал. Но при входе в твой дом мой взор повсюду встречает столько великолепия, пышности и блеска, что мне всегда кажется, будто я попал в жилище язычницы.
— Посмотри кругом себя! — продолжал он. — Здесь, среди этой обстановки, ты должна соблюдать святые заповеди, должна вспоминать о жизни Господа, Который снизошел на землю, чтобы искупить тебя! Здесь ты должна возносить свои молитвы и изливать свою душу…
— Да, ты верно сказал, отец мой, — отвечала Вивия. Здесь я часто и охотно предаюсь размышлениям о святом учении, которое я слышала от тебя и честных служителей Господа. Верь словам слабой дочери твоей: здесь я проливала слезы благодарности, думая о благодеяниях Господа, Который даровал мне милость увидеть свет Евангелия. Воспоминания о тех страданиях, которые перенес возлюбленный Сын Господа Иисус Христос за людей и за меня, всегда живут в моем сердце. Добрый ангел, который, я думаю, всегда находится при мне, — мой свидетель того, как часто, повергшись ниц, я молила и молю Господа, чтобы он удостоил меня милости очиститься спасительной водой крещения, хотя бы за это счастье таинственного второго рождения мне пришлось заплатить своей кровью.
— Не будь надменна, Вивия, — продолжал Тертуллиан. — Надменность от дьявола, сына гордыни, и она-то и ведет к отпадению от истинной веры. Тому бывали многие примеры. Пока ты не на кровавой арене, ты смело смотришь на страдания и смерть. Но эти богатства, которые ты любишь, эта изнеженность, без которой ты до сих пор не можешь обойтись, наконец, само супружество, которым ты по праву гордишься, разве всего этого не достаточно, чтобы поколебать сердце слабой женщины, чтобы отторгнуть от истины не окрепшую еще новообращенную? А этот ребенок, на котрого обращена вся твоя привязанность, от которого ты с нетерпением ждешь первой улыбки, первого безсвязного лепетания! Что если тебе этого ребенка, которого ты боготворишь… Что если тебе этого ребенка придется…
— Остановись, отец мой, — с мольбой в голосе прервала его Вивия. — Не уничтожай слабое создание, которое просит тебя о помощи. О, это правда… Это дитя дороже для меня, чем все на свете! Одна мысль о том, что я могла бы быть лишена его, сжимает мое сердце невыразимым ужасом. Но все же, с тех пор, как я познала Христа, моего Спасителя, я не изменю Ему, хотя бы для этого пришлось пожертвовать и этим, самым дорогим для меня существом. Если Господу угодно будет потребовать от меня такой жертвы, то я надеюсь, что Он даст и необходимую для этого силу и решимость…
Вивия остановилась, не в состоянии будучи сразу побороть целый поток чувств, вызванных ее высоким признанием.
Да, она, без сомнения, готова умереть за Христа, столько страдавшего за людей и искупившего их Своею кровию. Но естественное чувство матери, — чувство, которое наполняло счастьем и радостью все ее существо при одном взгляде на это крошечное создание, это чувство заставляло теперь болезненно сжиматься ее сердце. В кроткой фигуре, в глубоких задумчивых глазах видна была решимость истинной христианки, но бледность, покрывшая ее лицо при произнесении последних слов, говорила и о ее чувствах матери. Она крепко прижалась к ребенку и с особенной нежностью стала покрывать его поцелуями.
Тертуллиан некоторое время безмолвно смотрел на мать и дорогое для нее существо, и нежное страдание, по-видимому, готово было проникнуть в его душу. Но мысль о высоте служения, к которому призван искупленный человек, мысль о том, что все земные утехи и радости должны быть оставлены, раз дело идет о вечном спасении, о том, к чему исключительно призван в этом мире человек, эта мысль не дала возобладать проявившимся чувствам Тертуллиана. И он продолжал:
— Вивия, пусть Господь сохранит тебя от необходимости приносить такую жертву. Но мы, слабые смертные, не можем сказать, что нам предстоит. Сердце же человека всегда — глубокая пропасть, полная страшной таинственности… Я верю, что ты помнишь свои обеты, что ты постоянно желаешь воспринять благодать крещения и что ты, как тебя тому наставляли, всегда просишь этого в молитвах своих. Но если ты в достаточной мере постигла дух Христовой религии, которой ты окончательно желаешь себя посвятить, скажи, к чему весь этот блеск, вся эта роскошь, это излишество дорогих материй и камней, которые столько же противны всякому смирению, сколько и оскорбляют христианскую кротость? После того как женщина удостоилась счастья познать истинного Бога, пышность и блеск не должны более иметь в ее глазах значения. Простота, благородная скромность в одеждах — это единственное украшение, которого она должна желать. Разве ты не знаешь, Вивия, что вся эта суетная пышность служит лишь наглядным доказательством женского тщеславия, которое осуждается перед Богом? Надо предоставить золоту его естественное назначение, и не надо так высоко ценить то, что варвары, которые были мудрее в этом случае, чем мы, настолько мало ценили, что выковали из него цепи для своих пленников. Чем эти камни, которые считаются драгоценными, лучше, чем всякий другой камень? Неужели только потому, что они редки и что излишнее людское прилежание придумало их полировку, женщина должна привешивать их к своим ушам и поражать других их пустым блеском? Я знаю, Вивия, что предрассудок и в этом случае ставит свои возражения; но ты напрасно станешь указывать на свое положение, на свои богатства, на свое воспитание. Ты должна знать одно: что пред Богом все мы — и ты, и я, — ничтожные песчинки, жалкие грешники. Мы не должны ничем гордиться, мы потеряли на это право: наше место прах… Последняя из твоих рабынь, если она более добродетельна, чем ты, гораздо выше тебя в очах Того, Кто смотрит не на внешний блеск.
— Скажи, Вивия, — продолжал Тертуллиан, — неужели ты думаешь, что эти богатства, эти сокровища, в которых ты полагаешь все свое благополучие, даны лишь для того, чтобы ты могла удовлетворять всем причудам своей изнеженности, всем сумасбродным капризам своего тщеславия? Если Господь с такою щедростью наделил тебя ими, то Он предназначил им и более высокую цель, которой ты еще не сознаешь. Посмотри кругом себя, сколько бедных! Оставь языческим женщинам употреблять на себя всю роскошь, ты же сделай из своих богатств другое употребление. Надели хлебом голодающих, которые стоят пред твоим домом, раздай одежды несчастным матерям и дочерям, которые впали в нищету, выкупай пленных…
Вивия молчала, кротко внимая суровым словам христианского пресвитера. Она чувствовала, что слова эти истинны; что весь блеск этой жизни, которым она так часто увлекалась некогда и которого не могла вполне оставить и теперь, ничтожен и не заслуживает внимания. Но неужели же ей отказаться от всего того, к чему она так привыкла? Неужели ей навсегда бросить эти платья, эти украшения, которые так шли ей? Ведь все это так невинно. И она отвечала:
— Отец мой, я с благоговением чту добродетель твоей души. Эта добродетель так же велика, как и твоя вера, она столь же возвышенна, как и твой ум. Но зачем ты так много требуешь от слабой женщины, которая лишь недавно познала свет Христовой истины? Без сомнения, сердце мое еще не вполне свободно от пристрастия к драгоценностям, которые мне достались по наследству. Но с тех пор, как я перестала посещать языческие богослужения, я могу открыто засвидетельствовать, если только меня не обманывает собственное чувство, что всякие порочные склонности стали чужды моему сердцу. И если я все же до сих пор не оставляю этих украшений, то единственно лишь с той целью, чтобы не показаться слишком непривлекательной в глазах моего дорогого мужа да нескольких подруг, с которыми я еще поддерживаю светские отношения. Ведь смешно же было бы, в самом деле, отец мой, если бы я стала одеваться так, как одеваются мои рабыни! И наконец, не достаточно ли уже того, что сердце мое остается чистым?

— К чему говоришь ты мне все это, — с живостью возразил Терлуллиан. — Неужели ты думаешь, что я способен обманываться так, как ты обманываешься сама? Ты взгляни в глубины своего сердца и дай себе ясный отчет в своих влечениях. Украшая себя с величайшей тщательностью нарядами, ты, сама того, быть может, не сознавая, удовлетворяешь своему тайному и весьма опасному влечению нравиться, и тому, чтобы на тебя обращались посторонние взоры, а это влечение не есть невинное. Оно исходит из дурного источника, оно от греха, который живет в нас. Оно заключает, хотя ты, быть может, этого не сознаешь, весьма большую опасность в себе, оно будит опасные страсти, которые никогда не умирают в сердце человека. Зачем, дорогая Вивия, ты желаешь подвергать себя этой опасности? Не будь слишком самонадеянна! Корень спасения, непроницаемая броня его — это недоверие к себе. Не в телесной красоте следует искать прославления, ибо все телесное рождено из праха и в прах обратится. Только в одном случае тело может послужить к славе… Именно — когда его рубит меч палача, или когда его разрывают на куски зубы диких зверей в амфитеатре, или когда оно медленно обугливается на огне — за имя Христово! Нет, Вивия, не обманывайся: то, что от плоти, — плоть.
— Ты слишком строго судишь, отец мой, — отвечала Вивия. — Нет спору, что все, что ты говоришь, слишком возвышенно. Но моя слабость не выносит твоих слов, мое сердце противится их слишком большой суровости. Ибо, повторяю, я не вижу, в чем может быть преступление, если мысль моя невинна?
— Пусть будет так. Пусть ты непорочна в своих мыслях, — отвечал Тертуллиан, — но уверена ли ты, что так же чисты будут мысли и у тех, кто посмотрит на тебя с вожделением? Не слышала ли ты на христианских собраниях, что говорит апостол: «Есть люди, “глаза которых исполнены любострастия”[70], и они не знают покоя в грехах своих!» Таких людей, Вивия, немало; даже среди наших братьев христиан много еще встречается слабых. Не должно ли тебе бояться, чтобы своим блеском не возбудить страстей в их сердцах? Знай, что на суде Господнем придется отвечать не только за свою душу, но и за души тех, которым мы дали повод к соблазну…
— Но и помимо этого, Вивия, — продолжал пресвитер, — не надо забывать о тех условиях, среди которых мы живем. Как для тебя, так и для меня будущее закрыто непроницаемой завесой, и Господь не дал мне, как Своим возлюбленным пророкам, ключа к Его разгадкам. Да сих пор обширная африканская церковь пользовалась милостью Божией, и в то время, как в соседних странах лились целые потоки крови наших мучеников, мы наслаждались миром. Но, я боюсь, не слишком ли долго продолжается этот мир и не слишком ли ослабели наши сердца? Не нужна ли борьба, чтобы их снова укрепить? Вихрь, который пощадил нас, может в один день, если его сюда направит дыхание Господне, разразиться над нашими головами, и тогда, без сомнения, ты, как и я, будем одинаково призваны на арену. Наступит великий день исповедания… Скажи, Вивия, готовы ли эти нежные руки заменить браслеты тяжелыми цепями из железа?
Молодая женщина сидела, опустив глаза. Она чувствовала, как под влиянием одушевленной речи этого самоотверженного служителя Христова у нее замирают последние остатки самолюбивых желаний и тщеславных влечений. Великий образ Искупителя заполнил ее душу. Этот образ давал особенную силу каждому слову ее сурового учителя.
Несомненно то, что христианину, просветившемуся светом истинного учения необходимо оставить все, даже малейшие привычки этого греховного языческого мира. Иначе они будут связывать ту свободу духа, которая дарована всякому истинному последователю этого учения; они будут всегда удерживать его незаметными путами в греховном рабстве.
Вивия чувствовала, что она должна отдать себя всецело во власть искупившего ее Христа. Ей надо отбросить все прежнее. Надо окончательно побороть все прежние привычки. Она сознавала, что ей предстоит еще нелегкая борьба с собой.
Она робко окинула взглядом окружавшую ее роскошь и остановилась на ребенке, который, прижавшись к груди и согретый теплом материнского тела, безмятежно спал, убаюканный речью взрослых.
— Вивия, — продолжал после некоторого молчания Тертуллиан, — знай, что все, что я говорил тебе, я говорил не от себя лишь, но и как посланный от нашего епископа, моего и твоего отца. Его душа, как и моя, неутешно скорбит, что ты, восприняв с такой любовью святое учение, до сих пор не можешь всецело отрешиться от старых привычек прежней жизни. Подумай, Вивия, о том огорчении, какое ты доставляешь нам и всем твоим братьям по вере. Пусть с этого же дня тебя оставит языческая роскошь. Пусть всесильный Господь поможет тебе начать новую простую жизнь.
— Мир с тобой, Вивия. Я свое поручение исполнил…
Проговорив эти слова, Тертуллиан вышел.
Глава II. Мать Вивии
Вивия принадлежала к одной из знатнейших и древнейших фамилий Карфагена.
По матери она считала в числе своих предков знаменитого некогда Гамилькара Барка[71], который в течение нескольких лет предпринимал опустошительные набеги на Италию, равно как не раз спасал свое отечество от нападений диких и свирепых нумидян[72].
Отец Вивии был потомок гордого и сурового Ганно, находившегося в непримиримой вражде с Ганнибалом, могуществу которого он завидовал. В настоящее время это был бодрый старик лет за 60 с лишним. В юности он изучал законы и красноречие, но слава ученого его мало интересовала. Ему хотелось воинственных почестей на поле битвы, где он мог быть спасителем отечества. Судьба благоприятствовала ему: почти 50 лет он оставался полководцем, счастливо сражаясь с разными врагами отечества. Неоднократно раненный, он дважды почтен был торжественным триумфом. Теперь он находился вне военных дел, участвуя лишь в заседаниях сената и живя жизнью частного человека, который пользовался высоким уважением граждан за свои прежние заслуги.
Еще в молодости, когда Ганно находился среди войск, и особенно потом, когда стал участвовать в правлении городом, ему неоднократно приходилось слышать разговоры о появившейся новой религии. Но, мало вникая в религиозные вопросы, он судил по этой религии лишь по тем слухам, которые до него доходили.
Говорили, что христиане отличаются строгой нравственностью, что в известные дни они устраивают общие собрания, чтобы совершать какие-то таинственные обряды, что они охотно помогают больным и несчастным и что у них не позволяется, раз кто посвящен в их обряды, ходить в языческие храмы и принимать участие в жертвоприношениях. У них даже будто бы существует закон, чтобы тот, кто принадлежит к их религии, жертвовал всем, — имуществом, положением, даже самой жизнью, но чтобы он ни в каком случае не соглашался признать тех божеств, которых почитали все остальные.
Еще ему передавали, и он склонен был верить этому, что христиане, прикрываясь видом высоконравственных людей, на самом деле на своих собраниях, которые они окутывали непроницаемой завесой таинственности и которые обычно совершались в глубокую ночь, предавались отвратительным преступлениям, умерщвляя будто бы маленьких детей и съедая еще не остывшие части их тел. Ввиду всего этого, он чувствовал презрение ко всем последователям новой религии и ненавидел даже самое имя Христа, хотя имел несколько случаев лично убедиться в их верности при исполнении ими своего долга на войне и на службе, и не прочь был бы их и не преследовать.
Мать Вивии, носившая имя Юлии, хотя воспитана была в языческой религии, но еще в ранние годы обнаружила ненависть к языческой распущенности и порочности. С самых ранних лет она выделялась кротостью, рассудительностью и добрыми поступками. Разнузданность, господствовавшая в языческих храмах, в театрах, на собраниях, возбуждала в ней отвращение, заставляя возмущаться ее девственную чистоту.
Она как бы самой природой была научена, что скромность и стыдливость должны составлять необходимые свойства всякой женщины, что в молодые годы следует повиноваться мудрым и заботливым попечениям родителей, что когда она станет взрослой и выйдет замуж, она должна вести хозяйство в доме, заботиться о детях и своей нежностью делать счастливым мужа. Поэтому она всегда избегала такого общества, в котором она видела склонность к шумным удовольствиям.
Богато одаренная от природы, она, по тогдашнему обычаю, окружена была целым штатом заботливых прислужниц. Она появлялась к общим обедам, где собирались все члены семьи, остальное же время любила уединенно проводить в своей компании, где с несколькими рабынями занималась вышиванием узоров или брала арфу и задумчиво наигрывала свои песни. Такая склонность к уединению в скором времени заставила многих молодых людей прекратить свои ухаживания, что не составляло им особенного лишения, так как в большинстве случаев многие из них гнались лишь за состоянием невесты.
Юлия мало знала отца. Всю свою привязанность она перенесла на мать, да еще на маленькую сиротку, приходившуюся ей родственницей и выраставшую в их доме, которая была на 10 лет моложе ее. Она сидела над ее колыбелью, разделяла с ней свои детские игры, осушала ее первые детские слезы, утешая ее в ее маленьких горестях… И вообще она настолько успела привязаться к ней, что, кажется, ни на одно мгновение не могла с ней разлучиться.
В одной и той же комнате они оставались днем, в одной же комнате спали и ночью. Когда же Юлия выходила в поле или гуляла по берегу моря, с ней всегда находилась и Потамиена — так звали сиротку.
Они всегда вместе ходили по улицам Карфагена, держась за руку, сопровождаемые старой рабыней, которая приставлена была следить за ними.
Жители города, видевшие их, добродушно улыбались и удивлялись этим двум неразлучным подругам.
Но вот однажды Юлия пришла или, вернее, принесена была домой одна! Потамиена, любимая сиротка, маленькая сестра, исчезла, и никогда о ней более никто ничего не слышал. Горе Юлии было так велико, что многие месяцы родные опасались за ее здоровье. Однако она желала жить еще для матери, которая осталась теперь для нее единственным утешением, хотя и не переставала оплакивать свою потерянную подругу.
Почти двадцать лет прошло со времени этого ужасного удара, и все же, как только кто-нибудь произносил имя Потамиены, на глазах Юлии всегда показывались слезы.
На семнадцатом году, повинуясь воле матери, Юлия вышла замуж за Ганно, который, имея верное и возвышенное сердце, принес ей огромное состояние, славное имя и блестящее положение. Обладая не меньшим состоянием, чем ее муж, Юлия имела возможность содержать свой дом наравне с лучшими домами Карфагена, а то уважение, каким пользовался среди окружающих Ганно, сделало этот дом местом собрания высшего света.
Дом Юлии как нельзя более гармонировал с ее строгой добротой и непорочной простотой сердца. Но, при ее кротком нраве и внутренней чистоте, эти многочисленные и шумные собрания, где по большей части все разговоры вращались около предметов удовольствий и развлечений или разных мелочных интриг, причем нередко обсуждались такие вещи, о которых следовало бы говорить с большей пристойностью, в скором времени сделались для нее настоящим мучением. Она никогда не могла привыкнуть к такому легкомысленному способу времяпровождения, поэтому, как только сделалась матерью, окончательно перестала появляться в этих собраниях.
Забота о детях, которых, как сама она говорила, не может ни на минуту оставить на чужом попечении, служила для нее в данном случае извинительным предлогом. Правда, сам Ганно хорошо знал настоящую причину этой перемены, но он не желал огорчать любимую им женщину и потому предоставил ей полную свободу.
Освободившись от тягостных приемов, Юлия деятельно занималась внутренним хозяйством дома, наблюдая за рабами и заведуя доходами от многочисленных имуществ, которые Ганно всецело передал на попечение любимой жены.
Будучи совершенно не похожа на своих сверстниц, находившихся в одинаковом с ней положении, которые думали лишь о том, как бы доставить себе побольше удовольствий, Юлия считала для себя величайшей радостью оказать поддержку тем, кто по тем или другим обстоятельствам находился в стесненном положении.
Еще намного ранее принятия ею христианства она отличалась высокой добродетельностью, и этим объясняется то, что она впоследствии с такой готовностью приняла новую религию, которая во главе всех заповедей ставила братскую любовь людей друг к другу, чего вовсе не знал языческий мир и что у языческих мудрецов считалось слабостью.

Она обращала свое попечение по преимуществу на вдов и сирот и разного рода несчастных, которые стекались к ее дому со всех концов города, чтобы получить от нее помощь. Своим заботам она умела придавать значение искренней сердечной участливостью; у нее всегда было в запасе доброе слово, чтобы утешить чье-то страждущее сердце, когда оно в этом нуждалось.
Юлия имела несколько детей, которых сама воспитывала. Двое из них умерли совершенно маленькими, третьего же ребенка унесла в могилу жестокая болезнь на седьмом году. Этого сына, которому она посвятила столько заботы и бессонных ночей, она долгое время горько оплакивала.
Но у нее оставалось еще трое детей, и Юлия, при всей своей скорби, не забывала, что они требуют так же ее попечения и участливости. Это были два мальчика, которые в данную пору вступали уже в юношеский возраст и второй год посещали одну из лучших школ Карфагена, и дочь, которая была старше их и представляла собой вылитую мать. Нежная и спокойная, полная привязанности к своим братьям, она была особенно замечательна своей добротой по отношению к рабыням, которые ей прислуживали. Она охотно разделяла с ними некоторые работы, а когда кто-нибудь из них тяжко заболевал, она обязательно навещала больную.
Вивия, как, вероятно, догадался читатель, что речь идет именно о ней, имела, однако же, и некоторые недостатки. В высшей степени чувствительная, она раздражалась всяким противоречиям, хотя это раздражение продолжалось у ней недолго и она никогда не питала чувства мести. Сознание собственных достоинств, которыми она богато была наделена от природы, рано развило в ней задатки самолюбия. Она любила блистать в обществе, зная наперед, что все прислушиваются к ее словам и обращают на нее внимание.
Однако в ее характере было много непостоянства и неопределенности. Иной раз она сильно воодушевлялась и действовала решительно, будучи способна на величайшее самопожертвование, но это воодушевление быстро проходило, и тогда она впадала в обычную вялость.
Мать Вивии прилагала все заботы, чтобы устранить эти недостатки, так как боялась, чтобы с течением времени они не развились в дочери слишком сильно и таким образом не испортили бы ее доброго от природы сердца. Вивия слушалась матери, так как явно сознавала свою неправоту во многих случаях и обещала исправиться. Но чтобы окончательно искоренить эти недостатки, Вивии недоставало высших религиозных побуждений, которых она не могла найти в языческой религии.
Не благоприятствовало ей в этом отношении и то, что природа как бы слишком наделила ее всеми своими дарами. Наряду со знатным происхождением и выдающимся положением, с ее живым и одушевленным характером соединялась еще необычайная красота. О красоте Вивии говорил весь Карфаген: сам отец гордился, что имеет такую красивую дочь и даже говорил об этом в ее присутствии. Не много после этого требовалось, чтобы в ней развилось тщеславие, и она уже в в 14 лет едва ли не более всего остального занята была тем, как бы еще усилить свою привлекательность разными нарядами.
Она весьма любила украшать себя драгоценными камнями, золотыми браслетами и ожерельями, дорогими платьями с тонким и искусным шитьем. Надо, однако же, сказать, что это стремление к внешнему блеску нисколько не затрагивало ее внутренней чистоты. Несмотря на свою светскую жизнь, она оставалась в душе невинным ребенком, которого всякое нецеломудрие столько же оскорбляло, сколько и отталкивало.
Глава III. Рабыня — христианка
Между рабынями, которых Юлия получила от матери в свое распоряжение, когда выходила замуж за Ганно, находилась одна, по имени Руфина, бывшая в тех же летах, как и ее молодая госпожа. Белый цвет ее лица говорил, что она была не африканского происхождения и впервые она увидела свет под мягким небом Европы. Сосредоточенная и несколько угрюмая, хотя вместе с тем почтительная или снисходительная, смотря по тому, обращалась ли она к своим господам или подругам, в общем она держала себя вдали от шумных удовольствий. Улучив свободную минуту, Руфина обычно уходила в свою отдельную комнату или в сад, выбирая те части его, где нельзя было никого встретить. Нередко окружающие слышали, что она поет на каком-то неизвестном языке, и хотя пение это было непонятно, но оно производило весьма приятное впечатление. В нем чувствовалась какая-то особенная привлекательность, в переливах ее голоса выражалась либо спокойная радость, либо тихая грусть. Нередко пение ее прерывалось слезами, а в иные дни оно казалось более жизнерадостным, хотя такие дни были редки.
Весьма понятно, что все это вызывало сильное любопытство у ее подруг, которые делали разные предположения об этих ее особенностях. Одни объясняли это тем, что она занимается, вероятно, какими-нибудь чарами или колдовством. Другие, напротив, видели в ней дочь какого-нибудь короля варваров, несчастно попавшую в плен. Но в общем все недолюбливали ее, так как не могли равнодушно перенести того предпочтения, которое явно оказывала Руфине их госпожа.
— Что касается меня, — сказала однажды старая рабыня-негритянка, с хитрыми и злыми глазами, — то я хорошо знаю, отчего у нее вся эта грусть и нелюдимость. Я проследила каждый шаг ее, и теперь ее поведение для меня не тайна. Скромная Руфина, в сущности, лишь влюблена, и я даже знаю, кто предмет ее страсти. Это раб Ревокат, которого вы, конечно, все знаете и не раз видели, так как он часто приходил к нашему господину с поручениями от своего господина.
— Это для нас новость, — сказало несколько рабынь в один голос. — И кто бы мог думать, что Руфина, скромная Руфина, может так скрытничать!
— Да-да, — продолжала старая рабыня. — То, что она влюблена и состоит в связи с Ревокатом, это несомненно. Я хорошо помню, что их привезли в Карфаген вместе на одном корабле, и когда их продавали на площади, то они желали попасть к одному и тому же господину. Но это не удалось, и я сама видела, как они, бедняжки, заливаются слезами от такого несчастья. Но оказалось, что судьба разделила их не совсем… Мне не раз приходилось замечать, что когда Руфина поет в саду, за стеной с другой стороны стоит Ревокат и слушает. Несомненно, что эти песни, непонятные для нас, не что иное, как песни любовников, которые поются на их земле. Мне кажется даже, не задумывают ли они план бегства, чтобы потом беспрепятственно жить друг с другом.
Открытие старой негритянки как нельзя более пришлось по вкусу остальным рабыням. Скоро это открытие доведено было до сведения госпожи, причем лицемерные рабыни говорили, что для чести дома следовало бы положить конец этой любовной связи.
Руфина давно уже пользовалась полным доверием госпожи. Юлия нередко подолгу удерживала ее у себя, чтобы с ней побеседовать, чего не делала ни с одной из других рабынь. Кроме того, ей одной позволялось ходить за детьми, которых никому другому Юлия не доверяла. Не удивительно, поэтому, что сообщение рабынь сильно подействовало на Юлию.
— Руфина, — сказала она ей однажды с упреком, — зачем ты меня обманываешь? Разве я была когда-нибудь неласкова с тобой? Я считала тебя за лучшую и преданнейшую рабыню, а ты, оказывается, обманываешь меня.
— Добрая госпожа, — отвечала Руфина, — ты всегда была слишком ласкова ко мне, и я всю свою жизнь буду питать к тебе привязанность. Но обманывать тебя! О нет, я этого не имела даже в мыслях!
— Тогда скажи мне: ты знаешь раба, которого зовут Ревокатом и который иногда приходит к нам с поручением от своего господина? Правда ли, что он нарочно остается здесь дольше, чтобы иметь случай свидеться с тобой и что эти свидания бывают более продолжительны, чем сколько-то позволяет благопристойность, тем более еще, что они происходят наедине? Я неохотно верю худым слухам, но эти тайные свидания едва ли могут говорить в твою пользу. Какое у тебя к нему отношение и почему предпочитаешь ты переносить насмешки подруг и, быть может, подвергнуть вполне заслуженному гневу моего мужа, чем оставить Ревоката? Последуй моему совету, Руфина, и оставь этого Ревоката. Я его не знаю, но думаю, что у него не много достоинств.
— Добрая и бесценная госпожа, — отвечала Руфина, — я готова принести жертву, которую ты от меня требуешь и не поступать более вопреки твоей воле. Но если ты позволишь сказать мне несколько слов в оправдание, то я открою тебе, что Ревокат мой родной брат. Мы родились в одной и той же стране и в один день; одна кровля покрывала наши колыбели, и одна грусть нас питала! Первые годы наши мы провели неразлучно и выросли друг подле друга в надежде, что нас разлучит одна лишь смерть. Сладкая надежда! Но увы, несчастье уничтожило эту надежду, едва успели мы перейти в юношеский возраст. Если тебе угодно будет обратить внимание на черты его лица, то ты увидишь в нем много сходства со мною. Другие говорят даже, что большего сходства между братом и сестрой трудно и ожидать.
В словах рабыни чувствовалась неподдельная искренность и в то же время печаль.
— Довольно, Руфина, — сказала Юлия, протягивая руку, которую рабыня покрывала поцелуями, — довольно. Я вижу, что ты честная девушка, и я вполне верю тебе. Я напрасно послушала этих противных прислужниц, которые не любят тебя за твою скромность. С сегодняшнего дня я не буду считать тебя рабыней; ты будешь по-прежнему оставаться всегда при мне и помогать мне в присмотре за детьми; ты так любишь их, и они привязаны к тебе. Особенно Вивия, которая после меня лишь к одной тебе идет с такою же охотой! Со своим братом ты, конечно, можешь встречаться, когда захочешь. Что же касается твоих подруг, которые мне наговорили про тебя, то я прикажу их наказать построже!
Руфина поблагодарила госпожу за такое доверие к ней, простой рабыне, и в то же время просила, чтобы она не наказывала подруг.
— Я никогда не принимала участия в их развлечениях и удовольствиях, — говорила она. — Я редко бываю вместе с ними, и это могло дать им повод думать о мне худо.
Юлия была удивлена этим великодушием Руфины, и пожелала знать подробно историю ее жизни до того времени, как она сделалась рабыней.
— Моя история, благородная, госпожа, — сказала она, — имеет мало привлекательного. Это история несчастного существа, которое совершенно незаметно проходит свой путь на земле и ничего не оставляет после себя, когда умирает. Прежде чем достигнуть Карфагена, я должна была проплыть огромное море, которое отделяет меня от моей далекой родины. Я родилась в крайних пределах Галлии[73], недалеко от тех мест, где находится британский остров, куда, говорят, еще Цезарем приведены были победоносные войска, покорившие мое отечество. Все, что я слышала о своем племени, это то, что римляне назвали его варварским, хотя и не знаю, почему; может быть, по той причине, что галлы долгое время оставались непобедимым и даже не раз подступали к стенам самой римской столицы. Мой отец был старый воин и не раз рассказывал мне и Ревокату о геройских подвигах многих галльских предводителей, но я была тогда маленькой и ничего из этих рассказов не запомнила. Моя мать занимала нас более увлекательными рассказами, которые лучше сохранились в моей памяти.
— Мне было десять лет, когда отец умер, — продолжала Руфина. — Я не видела последних минут его жизни, потому что он за свое упорство против римлян был закован в цепи и силой взят из дома, в котором мы жили, после чего через несколько дней голова его пала под острием меча. Бедная вдова, моя матушка, оставшись с двоими детьми, которые еще не в состоянии были помогать ей, должна была много трудиться, чтобы хоть кое-как поддерживать свое и наше существование. Маленький участок земли, оставшийся после отца, при помощи сострадательных соседей давал небольшую помощь. После пяти лет неустанных трудов, мать отошла в другой мир, чтобы снова соединиться с тем, которого она никогда не переставала оплакивать. Наше горе не имело границ, так как в пятнадцать лет мы остались круглыми сиротами, у которых был лишь небольшой клочок земли да ветхий домик, но и на это имущество вскоре заявил притязания бывший неумолимый кредитор матери. Без какой бы то ни было поддержки, без друга, который бы мог нас защитить, мы безжалостно были лишены и этих последних крох, будучи принуждены оставить единственно дорогое для нас оставшееся на свете место рождения и могилу матери. Но и здесь еще, как оказалось, не закончились все наши бедствия. Деньги от продажи земли и домика оказались недостаточными для того, чтобы покрыть долг, и мы были проданы в рабство, так как это допускалось законами нашей земли. Мы были отправлены на корабле в Африку. Путь был слишком длинный и крайне тяжелый, особенно для нас, обреченных в рабство. Несколько раз нашему кораблю грозило бедствие бури, и мы рисковали потонуть в необъятной пучине. Ревокат и я не боялись смерти, мы даже радовались, что можем умереть вместе, как бы в одной и той же могиле. При каждом ударе молнии матросы дрожали от страха и бежали внутрь корабля, мы же с ним спокойно смотрели на бушевавшее море и огненные языки, прорезывавшие потемневшее небо. Нам не страшны были оглушительные раскаты грома и громадные волны, выраставшие стеной по сторонам корабля. Но Всемогущему Богу не угодно было, чтобы мы умерли. Мы прибыли благополучно в Карфаген, и здесь, несмотря на просьбы и горькие слезы, первый раз мы были разлучены друг от друга. Я сделалась рабыней твоей матери, Рековат же попал к другому господину. Вот, добрая госпожа, и вся моя история. Как видишь, она мало занимательная для тебя, потому что в ней слишком много горя.
— Ты ошибаешься, Руфина, — отвечала Юлия. — Несчастная судьба твоей семьи и тебя самой вызывает во мне участие и весьма меня трогает. Скажи мне еще одно: что это за песни, которые ты иногда, я слышу, поешь?
— Я не знаю, как более понятно объяснить для тебя их, добрая госпожа, — сказала Руфина. — Я никогда не была в ваших храмах и не видела ваших жертвоприношений. Религия, которой следуют в Галлии, по крайней мере та религия, которой научена я, не похожа на религию, которая теперь господствует в Карфагене. Но я думаю, что и у вас, кроме жертв и церемоний, употребляются также песни, которые поются жрецами и повторяются народом. В моей земле существуют священные песни, которые поются священниками и народом во время религиозных служений. Еще в детстве нас тщательно учили этим песням, и мы привыкли к ним. Эти песни прекрасны, — они чисты, возвышенны, так хорошо влияют на душу! У нас их поют все, — и хлебопашец, идущий за плугом, и женщина, которая не спит над колыбелью… Их лепечут своими чистыми голосами дети! Эти песни, из которых многие дошли до нас от отдаленного времени и которые все составлены богодухновенными мужами, служат нам для выражения наших религиозных чувств и мыслей. В них воспевается величие почитаемого нами истинного Бога, Который создал все существующее и поддерживает его Своей благостью. Им создана и земля, и необъятный океан, и звери, и птицы, и растения и, наконец, и сам человек. Сколь велика непостижимая доброта нашего Господа, Властителя неба и земли! От века Он простирает Свою неизменную любовь на все существующее. Его отеческая любовь объемлет всех людей, весь род и все поколения. Очи Его на всех, кто чист душой и любит добро. Если даже в темницу поведут такого, Он не оставляет его и там! Он любящий Отец, который никогда не покидает Своих детей. Все это служит содержанием для наших песен, возносящих наш ум и сердце к нашему Господу. Но в этом мире много горя! Как мало в нем счастливых! Слезы, страдания составляют удел этой жизни человека! Наши песни в этом случае не оставляют человека без утешения. Они умеряют его скорбь, они облегчают его страдания. Что может быть печальнее участи раба или рабыни, как я, и все же песни эти вносят в душу мир и отраду! Но нет, я не в силах, добрая госпожа, передать тебе всего того, что испытывает всякий, соблюдающий нашу религию, от этих дивных песнопений.
Юлия была глубокого взволнована этой вдохновенной речью своей рабыни, с таким увлечением говорившей о своей религии и чудесных песнях. Образ истинного Бога, Которого чтит эта религия и Который воспевается в песнях, поразил ее ум своим величием. Он создал все, Он обо всем печется, как любящий Отец. Для Него нет ни бедных, ни богатых; несчастные, калеки, рабы — это тоже Его дети! Да, такое учение прекрасно, ведь она сама так любит помогать всем несчастным!
— Как чудно и возвышенно учение твоей религии, которой следуют в твоей земле! — сказала она задумчиво. — Кто научил всех вас этой религии? Вероятно, у вас есть какая-нибудь особенная школа?
— Нет, добрая госпожа, — отвечала Руфина. — У нас и подобия нет тех школ, какая у вас здесь в Карфагене. Всему, что я знаю, я научилась от отца и от матери и еще от одного старца, который приходил к нам из далекого города. Этот старец переходил из одного города в другой и из одной страны в другую, наставляя всех, как истинно веровать. Он ничего не требовал за свое учение и считал для себя высшей наградой, когда следовали его учению. Ах, как увлекательно говорил он! Где мне, ничтожной рабыне, изобразить всю силу духа этого с виду немощного старца! О, если бы, добрая госпожа, ты хоть один раз послушала его простые, но дивные речи! Они не изгладились бы из твоей памяти на всю жизнь, и ты бы сказала, что наша религия есть истинная, которой должен следовать всякий человек. Впоследствии, я слышала, что этого великого старца безжалостно умертвили враги его, которым их злоба помешала воспринять его учение.
— Я давно уже предполагала, что ты принадлежишь к новой секте, сказала Юлия. — Теперь я вижу, что в твоей вере есть много прекрасного, чего нет в нашей. Следуй, Руфина, этой религии, которую ты узнала еще в детстве. Я чувствую, что многое из этой религии я склонна была бы принять сама, но меня смущает, что в ней есть нечто строгое. Но, может быть, придет время, когда и я усвою это прекрасное, хотя и строгое, учение.
Руфина желала отвечать Юлии, но в это время вошла другая рабыня и сказала госпоже, что ее настойчиво желают видеть несколько человек по управлению домашним хозяйством. Юлия отпустила Руфину и направилась к ожидавшим ее людям.
Глава IV. Видение
В этот и следующий дни Юлия казалась задумчивее обычного. Ганно и дети напрасно спрашивали ее о причине такой перемены, — она избегала всяких ответов. Совершенно погруженная в размышления, она все время думала о простых, но трогательных словах своей рабыни, а ее ум никак не мог освободиться от светлых образов возвышенной веры и жизни христиан.
Было уже сказано, что Юлия одарена была природной склонностью к добродетели; все порочное вызывало в ней отвращение, и окружавшее ее язычество с его извращенными нравами, с вечной погоней за шумными удовольствиями не находило в ее душе отклика. Она никак не могла примириться с тем фактом, что языческая религия вполне покровительствовала такой ненормальной жизни, так как не только оправдывала порок, но даже возводила его в степень религиозного культа. Все направлено было к удовлетворению низких потребностей тела, о развитии же духа и возвышенных духовных интересов заботились мало. Государство имело в своем распоряжении целую армию рабов, которые должны были всецело служить прихотям более богатых классов, а сами не могли даже и думать о каком-нибудь сносном человеческом существовании. Бедняки и несчастные оставались без всякого участия в их судьбах и жизненных проблемах, хотя бы им приходилось умирать с голоду. Напротив, среди христиан жизнь была целомудренна, они всегда проявляли самое близкое участие в жизни другого человека во всяком его горе и страдании. Во всем у них соблюдалась строгая умеренность и воздержание. Богатые здесь не так относились к своим рабам, а равно не оставляли без помощи бедных. Между всеми христианами господствовал мир и тихое довольство, и казалось, будто у них было одно сердце и одна душа.
Юлия, имевшая благородный и возвышенный ум, не могла не заметить этой глубокой разницы между язычеством и христианством. Она чувствовала, что сама всецело склоняется на сторону новой религии, которая так соответствовала всем ее душевным наклонностям.
Чем больше она рассуждала об этом, тем более ощущался в душе ее путь к доступу истинного света. Ей оставалось лишь преодолеть окружавшие ее предрассудки, чтобы не бояться мнения великосветского общества и неудовольствия своего супруга. Но случай вскоре помог завершиться этому высокому делу, начало которому положено было бедной христианской рабыней.
Вивия, дочь Юлии, имевшая к этому времени около двадцати лет от роду, внезапно заболела тяжким недугом. Как любящая мать, Юлия убивалась дни и ночи, чтобы спасти свое дитя от угрожавшей ей смерти. Обессиленная и измученная опасениями, она нередко тут же засыпала у изголовья больной. Во всех этих мучительных заботах ей неотступно помогала Руфина.
— Как ты добра, Руфина, — говорила она ей несколько раз. — Ты одна вполне разделяешь мое горе и просиживаешь у постели моей бедной Вивии так же, как и я, целые дни и ночи.
Между тем болезнь быстрыми шагами подвигалась вперед. Напрасно врачи прилагали все свои старания и все свое умение, — положение больной нисколько не улучшалось. Наконец, казалось, все средства были испробованы и всякая надежда потеряна. Юлия, совершенно подавленная горем, проводила все время в слезах, не находя никакого утешения. Руфина же ни на минуту не оставляла больной и в то же время горячо молилась, прося в своих молитвах Бога об исцелении Вивии.
На пятнадцатый день от начала болезни, вечером, больная, приняв лекарство, впала в глубокий сон. Юлия долгое время молча смотрела на дочь, но вскоре голова ее невольно склонилась, и она тут же, сидя возле больной, задремала.
«О, если бы этот сон принес выздоровление больной!» — подумала Руфина и, опустившись на колени у кровати, начала горячо молиться.
Во все время ее молитвы Юлия оставалась неподвижной, но вдруг, к великому удивлению Руфины, она внезапно подняла голову, как бы желая смотреть вверх, хотя глаза ее по-прежнему оставались закрыты.
Казалось, она прислушивается к каким-то голосам, которые ей говорили сверху. По лицу ее было видно, что она переживает внутренне самые разнообразные впечатления. Сначала лицо ее выражало страх, испуг, горе, даже отчаяние, но вслед за тем оно сделалось спокойным, постепенно прояснилось, и на нем светились уже радость, надежда и благодарность. Вскоре, однако ж, она как бы в ужасе, опять поникла головой и закрыла лицо руками; она перестала дышать, а лицо ее покрылось мертвенной бледностью и ужасом, но вскоре опять, как бы освобожденная от страшного бремени, она начала спокойно дышать, глотая воздух побледневшими губами, лицо ее прояснилось, и на нем появилась улыбка; на опущенных ресницах видны были слезы.
Руфина все это время не переставала молиться. Она отыскала у себя на груди небольшой деревянный крестик, который ей дала, умирая, мать и с который она никогда не расставалась, и прижалась к нему губами.
Но вот Юлия совершенно открыла глаза; они влажны были от слез и выражали удивление. Казалось, что она только что пережила тяжелую душевную борьбу.
— Руфина, — сказала она взволнованным голосом, — с этого времени твой Бог будет моим, я буду христианка, как и ты.
— Благодарю Господа, — сказала кротко Руфина, — что Он привел меня дожить до такого счастья. Я несказанно счастлива, добрая госпожа, твоему решению.
— Руфина, ты более не рабыня для меня, но сестра. Не называй же меня госпожою. Скорее, я должна тебя так называть, потому что благодаря тебе я познала истинного Бога. Моя дочь будет жива, чтобы сделаться христианкою так же, как я и как ты.
— Один Господь посылает истинный свет; Он же отвращает и смерть. Ему да будет слава и благодарение.
— Да, добрая Руфина, во время своего сна, хотя это скорее была действительность, чем сон, я видела тебя столь же явственно, как сейчас, и ты, ты лишь единственно своими молитвами спасла Вивию от смерти!
И Юлия вполголоса, чтобы не потревожить больную, продолжавшую, по-видимому, спать глубоким сном, рассказала Руфине следующее:
— Едва я под влиянием чрезмерной усталости и душевных волнений сомкнула глаза, как мне представилось, как бы наяву, страшное зрелище. Я видела Вивию в ужасной предсмертной борьбе, она ломала от отчаяния руки; ее блуждающие, налившиеся кровью глаза, казалось, выступили из орбит; слышно было, как она время от времени произносила задыхающимся голосом: «Так молода и умереть! Нет, я не хочу умирать!» Обливаясь холодным потом, я, казалось, склонилась к постели и тщетно пыталась ее успокоить. Прижав ее к груди и осыпая поцелуями, я ей говорила: «Нет, нет, дорогое дитя мое, ты не умрешь! Боги не будут так безжалостны, чтобы отнять у меня тебя! Они сжалятся над твоей юностью и над слезами матери!» Как вдруг глазам моим предстал отвратительнейший призрак, ничего подобного которому я никогда не видела. Это страшное привидение, очевидно, все время путало воображение больной, потому что с его появлением она сделалась совершенно неподвижной…
Юлия ненадолго остановилась, словно у нее перехватило дыхание, и далее продолжила:
— Его громадная фигура направилась прямо к постели Вивии; глаза его светились дикой радостью, как глаза тигра, который слышит запах свежего мяса; время от времени призрак делал дикие гримасы, как бы издеваясь над воплями и слезами жертвы. Он все более и более приближался и его костлявая рука, казалось, вот-вот ухватит сердце моей дочери. Я в беспамятстве бросилась, чтобы загородить ему дорогу. Но чудовище закричало громким голосом, который привел меня в содрогание: «Кто ты? Кто ты, что желаешь препятствовать мне? Оставь! Мое имя — смерть! Ты не можешь защитить дочь, она принадлежит мне! Лучше узнай, что все твои заботы о ней были напрасны, ее конец неизбежен, она моя жертва!» И я действительно увидела отверстую свежую могилу. На дне ее находилась глубокая страшная пропасть, в которой пылало черное пламя, распространявшее сернистый удушливый запах. Тысячи фигур самого ужасного вида копошились в этом пламени, издавая ужасные вопли и стенания. Я видела, как многие из этих несчастных жертв желали бы выбраться из ужасной бездны, но тут же обрывались и падали вниз. Я явственно слышала их невыносимые, раздирающие душу вопли, более удручающие, чем вопль несчастных рабов, которые отданы на растерзание диким львам или леопардам.
— Удивительно! Каждая из этих жертв, — продолжала Юлия, — имела на теле огненную надпись: убийца, злодей, безбожник. Многие из них имели одну и ту же надпись. Я желала отвернуться, чтобы не видеть этого поразительного зрелища, но какая-то невидимая сила удерживала меня насильно. Вне себя от ужаса, я хотела, по крайней мере, закрыть свое лицо руками, но и этого не смогла сделать, — руки мои оставались неподвижны, как будто они были скованы. После этого страшный пронзительный крик поразил мой слух: в этом крике я узнала голос Вивии. Я с ужасом увидела, что чудовище касалось левой рукой сердца моей дочери, правой же указывало на могилу и зиявшую, как пасть, бездну. Вместе с этим появились другие, не менее страшные чудовища, которые начали опутывать ее раскаленными цепями, принесенными ими с собой…
Юлия снова замолчала и, окинув ласковым взором свою рабыню, обратилась к ней со словами:
— Но вот в это время внезапно являешься ты, Руфина, и в тот же миг страшные призраки начинают дрожать всем телом как бы от нестерпимой боли. Рука первого чудовища отдернулась от сердца Вивии, и дочь моя после этого стала свободнее дышать. Могила и бездна постепенно исчезли, как будто их вовсе не было. Твое лицо, Руфина, было спокойно; ты устремила глаза к небу и тихо произносила молитвы, смысла которых я не понимала. Ты сняла с груди небольшой деревянный крестик и подняла его над изголовьем больной, а затем легко коснулась им ее воспаленных век. В это время страшное чудовище забилось в угол, делая невероятные усилия, чтобы освободиться от какой-то невидимой силы, которая его сковывала. Оно с хрипением все еще простирало руки к больной, но не осмеливалось подойти к ней ближе. Оно подобно было хищному животному, которое посажено в клетку, препятствующую ему наброситься на жертву…
— Но чудовище, — продолжала Юлия, — все еще оставалось, делая угрожающие жесты и скрежеща зубами. Что делала в это время ты, Руфина, я не могу в точности сказать. Твои глаза светились каким-то необычайным светом, все лицо твое дышало какою-то неземной чистотой и спокойствием. Я заметила, как с креста, который ты держала над изголовьем Вивии, медленно падали красные капли крови. В это время в душе моей сделалось так спокойно, как будто в меня вдохнули новую чарующую силу. Но вот комната вдруг наполнилась ярким светом, и я увидела Деву несравненной красоты, какой на земле никогда нельзя встретить. Она была вся в белом, но этот белый цвет ее одежды был чище белизны снега, которого еще не попирала нога человеческая. На голове у Нее, как у Царицы, была диадема, но только не из драгоценных камней, а из звезд, сиявших, как на безоблачном вечернем небе. Какое величие лежало во всех Ее движениях, какая неземная любовь светилась во всех Ее чертах, какая кротость была в Ее взоре! О, такими не могут быть наши ложные богини, которым в своем неведении я раньше молилась! Эта Дева, Руфина, была действительно неземным существом, и перед Ней бледнел всякий свет солнца. Она была окружена толпой небольших существ, наподобие невинных детей, тело которых скрывалось в облаках. Она смотрела на тебя, Руфина, и этот взор был взором любящей Матери. И вот мне показалось, что ты говоришь с Ней, так как твои губы тихо шевелились. Затем будто бы Она обратилась к тебе, и я услышала, как Она кротко сказала: «Дочь моя, больная не умрет; она будет жива, по твоей молитве, чтобы стать христианкой. Она прославит имя Сына Моего». После этого Она будто бы обратилась ко мне и сказала: «Твоя вера несовершенна, но ты стараешься сохранить себя в чистоте и не отказываешь в помощи бедным. Господь видит твою добрую душу и послал тебе эту кроткую рабыню (при этом она указала на тебя), которая может просветить тебя истинным светом. Внимай словам ее и молись, — дочь твоя будет жива». С этими словами все видение исчезло. Как мне передать теперь тебе то, что я пережила в это время! После этих дивных слов всю душу мою словно наполнила невыразимая радость. Мне казалось, будто я вновь родилась в этом мире. Я сразу почувствовала, что в меня проникает насквозь, как чудный светлый луч, новая вера, которой я никогда до этого так сильно не сознавала. Я уже верила, я молилась, не зная, как молиться, я поверглась в прах перед истинным Богом, я уже чувствовала, что я, как и ты, сделалась христианкой. Но скажи мне, кто эта Дева несказанной красоты и несказанной кротости? Кто эти дети, которые окружали Ее?
— Та, которую ты видела, дорогая госпожа, жила некогда в иудейской земле. Она жила в трудах и лишениях, так как была бедна. Родом Она была из царского колена Иудина и называлась Марией. Когда Господь благоволил спасти людей, приняв на Себя плоть человеческую, то Он избрал для этой цели Марию, выделявшуюся из всех людей Своей кротостью, чистотой и добродетельностью. Оставаясь чистой и непорочной Девой, Она чудесно родила Христа во плоти, Которого мы почитаем истинным Богом, избавившим людей от греха и смерти. Она стояла у Креста, когда Он умирал за нас, и проливала слезы любящей Матери. После Его смерти Она долгое время жила на земле, оплакивая дорогого Сына, и по исполнении времени земной жизни взята была на небо, где увенчана божественной силой и славой. С тех пор Она неустанно ходатайствует пред Сыном Своим за нас, слабых и недостойных людей. И как я могу описать тебе, госпожа, всю кротость, доброту и участие Ее к нам, грешным!? Ни один человек не может этого сделать, и тем более я, простая рабыня. Те, которые сопровождали Ее в твоем чудесном видении и которых ты признала детьми, были не дети, а Ангелы Господни. Это чистейшие и разумнейшие создания, непрестанно окружающие престол Господа. Они не имеют плоти и не могут свободно созерцать Господа. Они возносят ему непрестанную хвалу и оставляют престол Его лишь для того, чтобы поведать людям Его святую волю. Мы верим, что каждому из нас дан такой Ангел, чтобы охранять и защищать нас. Ангел-Хранитель служит нам невидимым другом и руководителем во всем добром, незримо ограждает нас от всякого зла, и в нужде мы обращаемся к нему с молитвой.
Это замечательное событие в жизни Юлии имело своим последствием то, что она с живейшей радостью поспешила сделаться христианкой. После того, как она окончательно наставлена была в истинах Христовой веры, в карфагенской церкви торжественно совершенно было ее крещение. Ни увещания родных, ни угрозы не могли заставить ее изменить свое решение. Выздоровевшая столь необычайным образом Вивия не замедлила тоже последовать примеру матери, но пока она принята была лишь в число оглашенных. Бедная рабыня из Галлии, Руфина, получила полную свободу. Она приняла обет девства на всю жизнь и осталась по-прежнему у своей госпожи, относившейся к ней, как к своей сестре.
Но возвратимся к молодой Вивии, которую мы оставили в раздумье, под влиянием суровых слов Тертуллиана.
Глава V. Борьба и жертва
После ухода Тертуллиана, Вивия долгое время оставалась в раздумьи. Ребенок по-прежнему продолжал спокойно покоиться на груди матери, не зная о тех волнениях, которые тревожили ее сердце. Вивия была бледна, напоминая своей белизной одну из тех алебастровых статуй, которые украшали ее жилище. Однако вскоре ребенок проснулся и начал беспокойно двигаться, выражая этим чувство своего голода. Это вывело Вивию из тревожных раздумий, она накормила малютку и, уложив его на кроватку, сама прислонилась к изголовью богатой кушетки. В это время в комнату вошла одна из рабынь, чтобы спросить, не нужны ли ее услуги.
— Оставь меня, Верекунда, — сказала Вивия, — я хочу побыть одна. — Если меня кто-нибудь спросит, кроме матери и Руфины, то скажи, что я не могу выйти.
— Ты не здорова, добрая госпожа? — отвечала рабыня. — Позволь мне остаться с тобой. Извини меня за смелость, но я не желала бы, чтобы другая служила тебе, когда ты так чем-то обеспокоена.
— Что ты, Верекунда, успокойся: я совершенно здорова, — отвечала Вивия. — Но я хочу быть одна.
— Нет, я знаю, что все это наделал тот незнакомец, который недавно вышел, — заговорила рабыня, собираясь уходить. — Это он расстроил мою дорогую госпожу. И не удивительно: одна моя подруга, с которой мы часто общаемся, говорит, что сама не знает почему, но ужасно боится этого незнакомца. Достаточно взглянуть на него, чтобы заметить, какая суровость в этом человеке. Ты еще до сих пор бледна, госпожа. Но достаточно тебе сказать слово, и привратник в следующий раз не пустит его.
— Ты не знаешь, что говоришь, — отвечала Вивия. — Этого человека, который кажется тебе таким неприятным, ты так же хорошо должна знать, как и я. Очевидно, ты не поняла, о ком говорит твоя подруга. Ты не раз видела его на собраниях верующих. Это пресвитер Тертуллиан, гордость и украшение карфагенской церкви. Его могучее слово наполняет сердца слушателей верою и уничтожает, как пылинку, ложные мудрствования жрецов. Иди же и успокойся, Верекунда.
Рабыня вышла. Сердце молодой женщины было настолько переполнено самыми разнообразными чувствами, что как только она осталась одна, то почувствовала, что к горлу у нее подступают слезы. Однако, это были тихие слезы, которые успокоили ее взволнованный ум. Увещания и упреки Тертуллиана продолжали все еще звучать в ее ушах и отдаваться в сердце. Да, действительно, она пока еще язычница; кругом у нее все языческое! И самое худшее, она не может оставить это окружение! Что же после этого ее вера, ее готовность пострадать за имя Христово? Она сознавала, что в Тертуллиане говорил неподкупный голос веры. Она уважала его и, вместе с этим, боялась. Уважала, так как видела в нем великого учителя церкви, и боялась за его строгость, не знавшую, как думалось ей, снисхождения.
Она который раз уже окидывала взором окружавшие ее предметы светского тщеславия, ей казалось, что ее богатое ожерелье, ее золотые браслеты жгли ей шею и руки, как будто они раскалены были докрасна огнем. Прохладный вечерний ветер, тоже как бы сговорившись обвинять ее за любовь к роскоши, легко шевелил драгоценными занавесями ее постели. Золото, слоновая кость, драгоценные камни сверкали при ярком свете светилен, густыми снопами распространявших свои длинные лучи.
Все это, и даже колыбель малютки, стоявшая возле нее, как эхо, напоминало ей суровые увещания пресвитера. Такое состояние испытывает человек, когда очутится в том месте, где совершил преступление: все там выступает немым свидетелем против него, как будто оно его узнало и зовет на суд справедливости.
Вивия, в сущности, была добродетельна, она воспитывалась благочестивой матерью и христианкой Руфиной. С того дня, как она отвергла языческие божества, вера ее никогда не поколебалась; ей можно было поставить в упрек лишь то, что она обнаруживала рвение в том, чтобы как можно скорее воспринять благодать крещения. В то время многие подолгу оставались в состоянии оглашенных, и епископ, который должен был заботиться о том, чтобы соблазн, родственные связи и старые привычки, которых еще время не успело уничтожить, не послужили бы причиной отпадения от веры, старался о том, чтобы испытать готовность оглашенных и окончательно наставить их в истинах христианства.
В оправдание Вивии можно сказать также и то, что приготовления к свадьбе, праздники, которые сопровождали это семейное событие, неизбежно должны были на некоторое время отвлечь ее внимание. Но в этот момент вся ее вера проснулась снова, и новые мысли нахлынули в ее душу.
У подножия алтаря она клялась не признавать ложных богов; она желала сделаться смиренной рабой Христа. Скоро спасительная вода крещения должна омыть ее просветленную голову, и все же она продолжала свой светский рассеянный образ жизни!
Ее жилище полно убранства; к столу подаются по-прежнему те же яства, какие можно встретить в каждом знатном семействе, приверженном язычеству.
«Чем отличается она, — и этот вопрос, действительно, ей задавали, — в своих нарядах от языческих женщин? Не тратит ли она столько же времени, как богатые римлянки, на прическу своих длинных волос? Разве она не натирается так же, как они, благовонными составами? Разве не те же материи облекают ее? Разве она не пользуется тем же блеском драгоценных камней? Не окружает ли ее та же роскошь? Не появляется ли она так же везде в сопровождении рабынь, а когда ей вздумается подышать на берегу моря свежим воздухом, не сопровождают ли ее столь же блестящие носилки, которые следуют за ней пустыми?»
И Вивия увидела, что она, в сущности, — изнеженная, светская женщина; она, которая в сердце и вследствие принятых обетов принадлежала к религии, проповедывавшей простоту, умеренность и лишения!
Но прежде чем она могла утвердиться в такой мысли, в ее ум незаметно проникли другие соображения:
«К чему так быстро изменять прежний образ жизни, к чему возбуждать общественное мнение? Что скажут о Вивии, когда она станет жить не так, как требуют ее положение и воспитание? Не станет ли после этого ее отец, который теперь спешит удовлетворить каждому ее требованию, совершенно равнодушен к ней? Или даже более того, — не вызовет ли такая перемена со стороны его справедливого гнева? А гордый Ярба, ее муж, что скажет он, когда, вернувшись с триумфальным венком, застанет ее сидящей за простым столом и одетою в платье простой поденщицы[74], когда взор его не встретит богатых материй и пышных украшений, которые он так любил не ней видеть? Да и сам Тертуллиан не говорил ли под влиянием излишней строгости? Бесспорно, что он умнейший и добродетельнейший человек, но он суров и столь же строг по отношению к другим, как и к самому себе. Ему могло оказать поддержку его высокое просвещение, и он легко поборол в себе все увлечения сердца. Разве она не может, не принося сразу непосильной жертвы, постепенно оставлять то одно, то другое украшение и таким образом постепенно отвыкать от тщеславия и светского образа жизни?»
В это время раздвинулась занавеска, закрывавшая вход в комнату Вивии, и в дверях показалась Руфина.
— Прости меня, дорогая Вивия, — сказала она, — но Верекунда сказала, что ты чем-то расстроена. Не больна ли ты, хотя, может быть, сама того не сознаешь?
— Нет, нет, добрая Руфина, — отвечала Вивия, — я не больна. Я хочу лишь сегодня оставаться одной.
Руфина сделала несколько шагов, намереваясь уйти.
— Нет, Руфина, останься здесь, — сказала Вивия. — Видно Сам Бог посылает тебя в это время ко мне. Могу ли я скрыть что-либо от тебя, когда у меня давно уже сделалось привычкой делиться с тобой всеми своими мыслями? Этим я оскорбила бы твою доброту и преданность.
— Дорогая Вивия, — отвечала Руфина, — ты всегда была ко мне добра. Но есть горести, которые должны быть скрыты от других и поведаны одному лишь Богу. Ах, где найти такое сердце, которое никогда не волновали бы тайные страдания, которых нельзя передать словом и для которых трудно найти какое бы то ни было утешение!
— Я страдаю, очень страдаю, Руфина, — отвечала Вивия, — но мое горе не таково, как ты думаешь. Господь сохранил меня от суетных увлечений сердца, о которых ты говоришь. В моей душе происходит теперь другая жестокая борьба, и я не знаю, кто кого победит в этой борьбе. Я желала бы великодушно принести ту жертву, которой от меня требуют; я сознаю, что эта жертва угодна Богу, что мое сердце после этого сделалось бы спокойнее. Но природа идет против этого решения, а ты знаешь, как мало я могу противиться ей! О, добрая Руфина, скажи мне, что делать? Не будь жестока к новообращенной, которая твоими молитвами вырвана была из рук смерти и страшной бездны.
— Один Господь, — сказала Руфина, — может дать тебе силу для преодоления этой борьбы. Разве слепой может тверже ступать только потому, что его за руку держит другой слепец? Верь Господу, Который есть наша твердыня: Он не требует невозможного.
— Как счастлива ты, Руфина, — продолжала Вивия, — что еще в детстве познала святую веру, которая требует от нас столь высоких добродетелей! Сколько раз с тех пор, как Господу угодно было открыть мне глаза, я завидовала тебе в этом! Почему Господь призвал меня так поздно? Зачем дал Он мне такое знатное положение, которое связывает меня?
— Я не понимаю, дорогая Вивия, — отвечала Руфина, разве Господь не столь же милосерден к тебе, так и ко мне? Разве Он менее добр только потому, что позже призвал тебя?
— Незадолго перед этим, — сказала Вивия, — здесь был пресвитер Тертуллиан. Как он укорял меня за мое пристрастие к языческой роскоши! Он говорил, что так жить — недостойно имени христианки. О, если бы ты все слышала… Как строги были его слова! Какою несчастною я себя чувствовала!
— Не мне наставлять тебя, дорогая Вивия, — отвечала Руфина. — Я ничтожная овца в великом стаде, привыкшая с детства внимать поставленным выше меня и повиноваться им. Голос пресвитера для меня свят, его слова для меня непреложная истина!
— Но бросить все украшения, оставить все прежнее, к чему я так привыкла! — произнесла с горестью Вивия. — Наконец, следует помнить мой возраст и положение.
— Один из апостолов, — сказала кротко Вивия, — запрещает христианским женам всякие украшения.
— Но, Руфина, — отговаривалась Вивия, — когда я загляну в свое сердце, то я не нахожу в нем нечистых желаний. Я думаю, что люблю Господа всеми моими помыслами, и для меня самое большое горе сделаться неугодной Ему.
— Вивия, — торжественно сказала Руфина, — твоя вера глубока, твоя добродетель, я знаю, стоит выше всяких подозрений, но ты молода! Родившись и выросши[75] среди блеска, ты еще не знакома с трудностями и лишениями жизни и не можешь постигнуть, к какому высокому самоотвержению, к каким высоким жертвам должна быть готова душа, просвещенная светом Евангелия! Не слушай побуждений твоей греховной природы и одержи победу над собственным сердцем. Самоотвержение должно быть свойственно дочери добродетельной Юлии.
— Но что скажет Карфаген? Все будут называть меня сумасшедшей…
— То, что мудро в глазах света, не всегда бывает мудро перед Богом, — отвечала Руфина. — Христос не был рабом мира, и потому не должно бояться мирского суда. Помни, Вивия, что тебе предназначено исповедовать Христа и сделать свое имя великим в церкви. Какое высокое счастье, и как я завидовала бы этому счастью, если бы не была последней рабыней Господа!
— О, нет, Руфина, — отвечала Вивия, — я не окажусь неблагодарной к милости, которую мне чудесно ниспослал Господь по твоим молитвам. Я не знаю, чем могу свидетельствовать за имя Христово, но могу сказать одно: что если мне придется запечатлеть это свидетельство кровью, то теперь я готова на это.
И Вивия пала на колени. С глазами, влажными от слез, она с жаром молилась, раскаивалась в своих прежних греховных привычках, прося дать ей силу непоколебимо посвятить всю свою жизнь Господу.
Рядом с ней молилась Руфина, которая в этот момент была подобна ангелу, невинная молитва которого соединялась с молитвой Вивии.
Долгое время обе женщины оставались на коленях будучи счастливы, — одна тем, что, наконец, почувствовала в своем сердце любовь и силу к жертве, другая, — что ее возлюбленная духовная дочь приняла твердое решение всецело подчинить себя игу Христову.

Глава VI. Месть
Спустя несколько дней после описанных происшествий, всего в нескольких шагах от богатого дома Вивии, два человека заняты были всецело обсуждением тайного плана, который во что бы то ни стало должен был привести их к задуманной пагубной цели.
Уже было сказано, что, когда Тертуллиан направлялся к дому Вивии, он встретил на улице верховного языческого жреца Карфагена, который выходил в это время из храма. Олимпиан, — так звали этого жреца, — знал, какие чувства питали к нему последователи новой религии, в особенности, какие нападки вызывала языческая религия, и он, как верховный жрец, не раз подвергался обличениям со стороны славившегося своим умом и убедительностью слова пресвитера Тертуллиана.
При случайных встречах Олимпиан делал вид, будто он не знает и не замечает Тертуллиана, хотя прекрасно знал его и чувствовал, как один взгляд этого сурового человека насквозь изобличает его мнимую приверженность к языческим богам, в которых он, в сущности, не верил. Так и на этот раз Олимпиан сделал вид, что не заметил Тертуллиана, будто не слышал его слов, которыми он обличал лживых богов и их служителей. Но на самом деле эта встреча возбудила в нем сильнейшую злобу. Он давно решил отомстить этому человеку, но только надо было выждать удобный момент, так как при той известности, какой пользовался Тертуллиан, нельзя было предпринять открытого преследования.
В это время христианская религия, благодаря чуду и присущей ей божественной силе, успела сделать большие успехи, несмотря на все нападки языческой хитрости и на то противодействие, которое христианство встречало из-за крайней испорченности нравов язычества.
Именно там, где проявлялась наибольшая жесткость преследования христиан со стороны врагов, сказывалась и наибольшая твердость со стороны последователей христианства. Кровь, которая проливалась мучениками во время нестерпимых истязаний, укрепляла в вере все новых христиан, из которого вырастали неисчислимые последователи новой религии.
Юная религия подобна была дереву на высоком месте: яростно накидываются на него ветры, слабый ствол его гнется под неудержимым напором и склоняется к земле, еще одно мгновение, и молодое растение, по-видимому, должно упасть в пропасть. Но чем сильнее ярость ветра, тем более укрепляется дерево своими корнями к земле, которые все глубже и шире разрастаются и незримо покрывают всю поверхность горы. Его ствол подымается выше и выше, оно величественно возносится уже на вершине, окутанное синевой воздуха, и теперь не страшны ему бури и непогода.
Подобным образом, несмотря на все препятствия, распространялось и крепло христианство. Оно проникло всюду: в глухие селения, в города, на поля битвы, в общественные судилища, в сенат и даже во дворец цезарей. Между тем старое язычество явно приходило к концу: совершенно одряхлевшее и лишенное всякой внутренней силы, оно держалось лишь своими религиозными церемониями, поражавшими воображение простого народа, да усилиям жрецов, которые преследовали в этом случае свою собственную выгоду.
Подобно Риму и Афинам, Карфаген также имел своих ранних апостолов. Несколько бедняков и рабов образовали здесь первую христианскую общину. В скором времени они привлекли к новому учению многие благородные и состоятельные семейства, и с тех пор число учеников Христа возрастало с каждым днем все более и более. Не только в самом городе, но и в провинциях везде образовались церкви, которые были руководимы благочестивыми епископами. Карфагенская церковь находилась в наиболее цветущем состоянии и пользовалась титлом главы всех церквей. Через сто лет позже ее епископ с тремястами епископами провинций составляли свой собор.
Находясь вдали от Рима, отдаленный морями западной Европы, Карфаген не видел еще у себя гонений на христиан. За исключением криков, которые изредка раздавались против христиан в языческих храмах под влиянием жрецов, да насмешек, которыми осыпали иногда христиан в сенате, в остальном язычники держали себя спокойно. Христиане беспрепятственно собирались для богослужений в известные дни, а дома, предназначенные для этих собраний, хорошо были известны язычникам. В каждой части города были верующие, которые имели своих пресвитеров, свой общий дом для богослужений и в нем алтарь.
Но одна презренная страсть, одно униженное самолюбие в скором времени должны были нарушить этот долгий период мира.
В Карфагене в то время жил один богатый и влиятельный молодой человек, по имени Ювал. Всесторонне образованный, он в то же время отличался крайне злым и раздражительным характером. Он слишком рано предался разгулу чувственных удовольствий и до двадцати пяти лет, по-видимому, успел уже до дна испить ядовитую чашу необузданных наслаждений. Не боясь ни богов, ни людей, так как первых он не признавал, а вторых, в своей чрезмерной гордости, совершенно презирал, Ювал не мог переносить никакого противоречия себе. Все, что препятствовало его разнузданным страстям, приводило его в ярость, и если он сам не мог отомстить тому человеку, который становился поперек его дороги, то в таких случаях ему оказывал услугу безжалостный кинжал одного из преданных рабов.
Некоторые отношения, впрочем, более случайные, нежели дружеские, существовали между Ювалом и отцом Вивии. Ганно время от времени любил устраивать пиршества, на которые приглашались многие из молодых людей. В числе их однажды приглашен был и Ювал, который таким образом имел случай познакомиться с Вивией, бывшей его невестой.
Выдающаяся привлекательность Вивии не могла остаться незамеченной со стороны Ювала. Ее красота, которая еще более оттенялась богатыми и изысканными украшениями, ее живой ум, приятная непринужденность в обращении произвели на его сердце глубокое впечатление. И вот, находясь однажды рядом с ней за столом, Ювал, вполне уверенный, что против него не может устоять ни одно женское сердце, начал свой обычный разговор, в котором, нисколько не стесняясь, выставлял на вид геройство своих любовных похождений. Ему казалось, что это должно было поразить воображение скромной Вивии, так что она сразу должна была после этого проникнуться к нему высоким уважением как к человеку, который во всех таких случаях производил неотразимое обаяние.
Во время этого разговора Ювал не считал необходимым воздерживаться от тех нескромностей и пошлостей, которыми любил щеголять пред женщинам из веселого круга. Но расчет его оказался совершенно неверным: от первых же сказанных Ювалом слов лицо Вивии покрылось густым румянцем невольного стыда, а когда Ювал, несмотря на это, продолжал говорить в том же духе, стыд сменило естественное негодование. Вивия с нескрываемым презрением взглянула на говорившего Ювала и, порывисто встав, раздраженно сказала, что она не может выносить такого обидного для нее разговора и что больше она не желает быть с ним знакомой.
Это произвело всеобщее замешательство, так как все знали кроткий и благородный характер Вивии.
Ювал был совершенно уничтожен; он никогда не испытывал такого для себя позора. Не находя ничего в свое оправдание, бледный от злости, он тотчас же должен был встать из-за стола и удалиться из дома.
Ювал никак не мог перенести такого удара для своего самолюбия и решил отомстить со всей жестокостью этой зазнававшейся, по его мнению, девчонке.
Мысль о мести начала преследовать его неотступно, как призрак, от которого он не мог избавиться даже ночью. Его больное, извращенное самолюбие никак не могло допустить, что в этом случае он получил лишь то, чего заслуживал. Он решил мстить, каких бы жертв и ухищрений это ему ни стоило.
Тысячу раз ему приходило в голову подослать раба-убийцу, так как его ненасытная злоба находила лишь такую кровавую расправу. Но план этот он должен был оставить: Вивия принадлежала к богатой и знатной семье, которая пользовалась всеобщей известностью в Карфагене. Преданный и ловкий раб, без сомнения, мог бы исполнить его волю, несмотря на все преграды, но убийство это не могло бы остаться без расследования. Безусловно, что в таком случае раб мог бы открыться, и подвергся бы жесточайшим пыткам. Как поручиться, что жестокие мучения не заставили бы самого преданного раба выдать имя того, кто его подослал!
Вот с этим-то человеком, так жаждавшим отомстить Вивии, и совещался в настоящий момент верховный жрец Олимпиан. Он прекрасно знал о чувствах Ювала к Вивии и потому решил, что в нем он может иметь хорошего союзника для своих целей.
Олимпиану, конечно, не было никакого интереса преследовать Вивию, к которой он не имел никакого отношения; но он имел в виду воспользоваться этим случаем для своих более широких замыслов, а именно: подавить все более и более усиливавшуюся новую религию и, особенно, стереть с лица земли ненавистного ему пресвитера Тертуллиана.
Но пока он ничего не говорил об этих целях Ювалу. Он имел в виду для начала, по возможности, более возбудить его ярость против гордой Вивии, чтобы затем представить ее наместнику провинции как последовательницу новой религии и таким образом дать сигнал к общему гонению против христиан. Но раз началось бы гонение, тогда он мог бы рассчитывать, что это повлечет за собой и многие другие жертвы, в том числе и преследование Тертуллиана.
— Ювал! — сказал он ему, как только тот переступил порог его жилища. — Ты знаешь, что религия наших предков вымирает. Боги, которые сделали столь сильным, столь славным и столь цветущим Карфаген, которые всегда охраняли его, в настоящее время уже более не почитаются. Их храмы опустели, и в торжественные дни ты едва насчитаешь несколько жертв, которые приносятся к их алтарю.
— И ты для того только меня и звал, чтобы поведать мне о таком ужасном бедствии, — насмешливо сказал Ювал. — Но что мне в твоей религии, исчезни она даже совершенно не только в Карфагене, но и на всем протяжении римских земель! Если твои боги состарились, то неужели же у меня есть какое-нибудь средство сделать их опять молодыми? К тому же хороши и боги, если сами себя не могут защитить! Я всегда говорил, что у меня один бог — удовольствие, и только невежество или суеверие, или наконец страх могут выдумывать еще каких-то богов.
— Я знаю, Ювал, — ответил Олимпиан, — что твой взгляд на богов разделяют весьма многие. Не скрою от тебя, что и сам я не прочь оставить наших богов умирать, сколько им вздумается. Но беда вот в чем: новая религия, которая есть дело какого-то неизвестного иудея, приговоренного к смертной казни на Кресте за какое-то преступление, все более и более усиливается и, кажется, скоро распространится по всему миру. В числе последователей этой религии уже теперь целыми десятками приходится считать многих из знатнейших лиц города; даже, если не ошибаюсь, сюда же надо причислить и твою родную мать.
— Да, моя мать, как и многие другие знатные женщины Карфагена, — сказал Ювал, — действительно принадлежит к последовательницам новой секты, и она даже не скрывает этого. Но все же, скажи, для чего ты меня звал, неужели, чтобы слушать эти неинтересные вещи?
— Я, собственно, хотел поговорить с тобой относительно Вивии, которая, кажется, презирает тебя едва не более всего на свете, — отвечал Олимпиан.
При упоминании имени Вивии Ювал сразу встрепенулся, точно его кольнули чем-нибудь острым. В глазах его засветились злоба и давно накипевшая жажда мести.
— Вивия! — злобно сказал он. — Вивия! Это противное имя поднимает у меня злобу, оно бередит мою старую рану, от которой я не могу исцелиться вот уже второй год! Вивия! Что скажешь ты мне о ней?
— Тебе известно, что она так же, как и твоя мать, христианка? — сказал Олимпиан.
— Я догадался об этом, — сказал Ювал, — уже из ее презрения и ненависти ко мне. Но что же из того?
— Неужели ты еще не понимаешь, Ювал? Ведь ты жаждешь отомстить ей и при одном имени ее меняешься от злобы в лице. Если твоя злоба, действительно, так сильна, то почему же ты не преследуешь Вивию? Я говорю тебе, что она христианка: представь ее наместнику и потребуй суда.
— Разве наместнику не известно, что в Карфагене есть христиане? — отвечал Ювал. — Он так же хорошо знает это, как я и как ты. Когда он узнает о ее выдающемся положении, когда увидит ее красоту, он отпустит ее на все четыре стороны, и это вполне справедливо. Почему христиане не могут так же свободно верить своему Распятому, как ты и твои приверженцы своим олимпийским богам? Добрый старик, ты говоришь мне о мести, а между тем прилагаешь чисто детские средства к ней. Оставь это, у Ювала есть другие средства: он знает, как отомстить ненавистной Вивии.
— Но что же особенного ты сделаешь? — спросил в свою очередь Олимпиан. — У нее видное положение, защита храброго мужа, которого она предпочла тебе, и все твои казни останутся бессильны, как злоба последнего из рабов города.
Хитрый старик испытывал, какое впечатление произведут на Ювала его слова. Ювал злобно нахмурился, так как пущенная стрела задела его за живое.
— Она не боится моей мести! — закричал он. — Но я клянусь всеми богами, какие когда-либо существовали, что не пройдет и нескольких дней, как в этой неуязвимой семье будут литься потоки крови, хотя бы мне за эту презренную кровь пришлось поплатиться своей жизнью.
— Действуй, Ювал, — отвечал Олимпиан. — Но только жаль, если месть будет куплена такой великой ценой. Послушай моего дружеского совета: говорят, что муж Вивии, Ярба, во всем следует наставлениям пресвитера Тертуллиана, который с некоторого времени стал для него вторым оракулом. Перед отъездом в лагерь он имел с Тертуллианом частые тайные рассуждения и, по-видимому, вполне склонен принять новую религию. Меня уверяли, что он не скрывает этого от солдат и что будто это вызывает у многих неудовольствие. При таком положении дела весьма легко поднять против него восстание среди легионов[76]. Перед этим же можно кое-кого подкупить, и тогда в один прекрасный день Вивия легко может сделаться вдовой…
— Слишком длинная песня! — раздраженно ответил злопамятный Ювал.
— Не забывай, Ювал, — продолжал Олимпиан, — что страсть слепа, особенно у такого пылкого человека, как ты. Надо отомстить так, чтобы от этого нисколько не пострадать самому. Раз Вивия будет вдова, тогда ее нечего бояться, — тогда уже не трудно будет обвинить ее перед наместником и даже сенатом в христианстве. Если понадобится, то я могу подговорить верных людей, подобно тому, как это было в Риме, где тут же подняли вопль, требуя предать всех христиан на растерзание львам. Тогда ты можешь с наслаждением полюбоваться, как будет обагряться песок арены кровью той, которая отнеслась к тебе с таким презрением.
После этого разговора два приятеля разошлись.
Старик чувствовал себя усталым и тотчас отправился спать. Во сне он видел Тертуллиана уже закованным в цепи, и будто палач истязал его страшными пытками. Ему казалось, что он слышит чтение смертного приговора, вынесенного Тертуллиану судьями, и накипевшее злобой сердце его билось радостно.
Ювал же направился к веселившимся друзьям, которые сидели за разгульным пиршеством и, увидев его, приветствовали Ювала шумными восклицаниями. Он по обыкновению пил, как всегда, много, но ушел, к великому их огорчению, несколько раньше обычного.
Придя домой, Ювал немедленно велел позвать к себе одного из рабов, которого звали Афером.
— Афер, мне нужна твоя услуга, — сказал он ему.
— Когда же, господин мой? — отвечал черный раб.
Афер не особо прислушивался к господину, только если знал, что его труд не пропадет даром.
— Я знаю, — ответил Ювал, — что если тебя наградить хорошенько, то ты сможешь сделать многое. Хорошая услуга раба всегда покупается за золото.
— Что значу я, — произнес лукавый раб, — перед тобой, господин? Я, ничтожный, с которым ты всегда можешь расправиться, как тебе угодно? Но если раб рискует своей жизнью за господина, то неужели этого много, если ему за то дадут хорошую награду? Разве убить человека легко? А ведь этого, господин мой, требуют часто! Ведь тут сколько намучаешься из-за этой несносной жалости! Как никак, а человек не одно и то же, что мул. Вот недавно, господин, ты поручил мне расправиться с той рабыней-христианкой, которая не уступила твоим желаниям, и какие я перенес терзания! Надо было видеть, как задрожало это беззащитное создание, когда увидело кинжал в моей руке. «Несчастный, что я тебе сделала?» — могла она лишь молить, обливаясь кровью.
— Оставь свое лицемерие, старый негодяй! — презрительно сказал Ювал. — Твоя душа так же черна, как и твое тело, а твое сердце, если оно только есть у тебя, столько же бесчувственно, как лезвие твоего кинжала. Если дать тебе золота или, наконец, если пообещать свободу, то ты без смущения сможешь живьем содрать кожу у своего господина. Знай же, что золота ты получишь столько, как никогда, а если сделаешь все так, как следует, то я дам тебе еще и свободу.
— Золото! Золото! — воскликнул раб. — О, господин! Какая хорошая это вещь и как она утешает сердце! Но свобода! Она еще выше, чем все золото в мире.
— То и другое ты будешь иметь, — продолжал Ювал, — если кинжал твой удачно справится с тем, кто его заслуживает. Но знай, что дело теперь идет не о ничтожной христианской рабыне, а о гораздо большем. На этот раз тебе придется иметь дело с храбрым солдатом, с предводителем наших войск в Нумидии, с мужем Вивии — Ярбой. Состоящая при нем стража безусловно предана ему, и ее нельзя подкупить никаким золотом. Но среди легионов есть и недовольные им. Есть подозрение, что он склонен перейти в христианство, и старые солдаты сильно возмущены этим. Постарайся сойтись с недовольными, ведь у тебя хитрости столько, что хватило бы на пятерых. Не действуй поспешно, но возможно обдуманнее, потому что, если ты допустишь малейшую оплошность, тебя в один миг Ярба отправит туда, где живут одни лишь тени. Особенно остерегайся быть узнанным, что ты мой раб, так как при пытках ты можешь выдать весь мой замысел. Самое лучшее, возьми себе другое имя, под которым ты можешь укрыться от всякого любопытного. Чтобы добраться до лагеря, понадобится не более четырех дней, а за это время ты можешь обсудить дело во всех подробностях.
После этих наставлений господин протянул небольшой мешок с золотом, который раб поспешно запрятал себе в пояс.
— Великодушный господин, — сказал ему раб, — Вивия смело может запасать себе траурные одежды, а если она не прочь второй раз замуж, то может искать себе и жениха. Не успеет луна совершить месячного круга, как Афер отомстит за своего господина и возвратится сюда, чтобы получить обещанную награду!
Темная ночь окутывала дома города, а жители его спали безмятежным сном, когда раб быстро шагал по улице, ведущей по направлению к лагерю.
Глава VII. Пастух в горах
Когда стала заниматься заря, чернокожий убийца Афер, подкупленный золотом гордого и злосердечного Ювала, был уже далеко от Карфагена.
С привычной смелостью он взбирался по крутым тропинкам ущелий и переплывал реки, встречавшиеся на пути, бодро двигаясь к цели своего путешествия. Отрадные мечты заставляли его забывать все невзгоды путешествия: скоро он будет иметь столько золота, что ему хватит его до самой смерти. Но главное, скоро он будет свободен и увидит свои леса и равнины; он по-прежнему станет охотиться на львов и тигров, как это было в молодые годы. Эти мечты заставляли его сердце живее биться и давали новую силу его усталым членам. Он, скорее, бежал, нежели шел, и была уже глубокая ночь, когда он решил немного прилечь.
На второй день пути в мыслях раба стала совершаться однако же перемена, он шел вперед не так быстро и на лице у него не видно было прежней радости. В иные мгновения взгляд его становился беспокойным и лицо принимало злобное выражение. Одно время он даже думал, не лучше ли возвратиться обратно в Карфаген и отдаться в руки немилосердного господина. В самом деле, человек, которого ему предстояло уничтожить, не был ли не только непобедимым воином в полном расцветет сил, но еще и предводителем легионов, которого постоянно окружала сильнейшая стража? Как он доберется до него, как проникнет к нему в палатку, застанет ли он его одного или спящим? Но даже пусть ему удастся добраться до него и поразить его кинжалом, что же потом? Одно движение, один стон жертвы, и тут же со всех сторон сбежится стража. Горе тогда несчастному убийце! Над его головой засверкают целые десятки мечей.
«Я не пойду дальше, — решил он в мыслях. — Безумец! Я питал себя несбыточными надеждами. Господин обещал мне много золота и свободу. Он богат и, действительно, может наградить меня; у него много рабов, кроме меня, которые моложе и сильнее, он легко даст мне свободу. Но если меня схватят, избавит ли он меня от цепей? За поясом у меня пока много золота, ноги мои еще достаточно крепки, а между мной и Карфагеном лежит теперь большое расстояние. Нет, у Ювала есть свой меч, пусть он сам и мстит за себя, это его дело!»
И как бы освободившись от давившего его бремени, Афер стал устраивать второй свой ночлег под открытым небом. Но только он сомкнул глаза, чтобы предаться новым мечтам, как сейчас же вскочил, насторожившись», точно хищный зверь. Перед ним как из-под земли выросла фигура какого-то старика, который некоторое время долго всматривался в него издали. Судя по одежде, это был один из тех пастухов, которые так часто встречаются в этой части Африки и которые кочуют между горами с одного места на другое, чтобы найти подходящий корм для своего небольшого стада верблюдов, составляющих их единственное достояние. Белая, как снег, борода покрывала его грудь, а проницательные и хитрые глаза, неподвижно устремленные на раба, как будто пытались что-то вспомнить.
— Так ли? — воскликнул, спустя некоторое время старик. — Уж не обманывает ли меня мое зрение? Скажи, незнакомец, ты не Афер?
— А ты кто, старина? — отвечал черный раб, ощупывая рукой кинжал. — Да и какое тебе дело до того, кто я и как меня зовут? Иди своей дорогой и не мешай усталому человеку отдыхать!
— Афер! Афер! Это так! — радостно заговорил старик. — Вот неожиданная встреча. Неужели ты забыл бедного раба Сильвана, который некогда служил у благородного Ганно?
— Как не помнить Сильвана! — успокоившись, ответил раб. — Клянусь великой Юноной[77], я не забываю так скоро своих приятелей!
— Однако что ж ты здесь расположился? — сказал Сильван. — Пойдем ко мне в палатку. Ты мне расскажешь, какие у вас теперь там новости в Карфагене. Как поживает обездолившая меня семейка господ? Что, Вивия, кажется, вышла замуж? Чтоб ей и ее мужу достался последний угол в Тартаре[78]!
Спустя некоторое время, два приятеля сидели в бедной пастушьей палатке. Старая рабыня, совершенно сгорбленная от долгих лет тяжелой жизни, принесла им несколько кусков зажаренного мяса и быстро ушла в горы доить верблюдиц.
— Скажи мне, куда это ты направился? — спросил Сильван, разрезая куски мяса. — Уж не бежать ли собрался от своего господина? Ведь Ювал, я слышал, не настолько жесток со своими рабами, чтобы бежать от него в пустыню.
Афер хорошо знал Сильвана, с которым познакомился, когда тот служил у господина, жившего по соседству с Ювалом. Он знал, что Сильван хороший товарищ, который никогда не выдавал своего брата раба. Он решил ему откровенно рассказать о цели путешествия, желая узнать, кстати, как он посмотрит на удачу этого дела.
— Вот что! — воскликнул Сильван, выслушав. — Ты мстить направляешься, хочешь покончить с мужем Вивии! Но что ее муж? Ее муж, я слышал, неплохой человек, но вот она сама! Ах, как я желал бы быть на твоем месте, но только чтобы вонзить кинжал не супругу, а самой Вивии! Ты не можешь понять, сколько горя принесла мне эта женщина! Неужели я не дождусь когда-либо, чтобы отомстить ей…
— Я не понимаю тебя, Сильван, — ответил раб. — Что тебе еще надо? Дышишь воздухом гор, имеешь свое стадо! На мой взгляд, ты счастливейший человек!
— Да, все это так, — сказал Сильван, — все это могло бы иметь для меня цену, но не теперь! Теперь мне все равно: быть ли свободным и бродить по горам, или быть рабом и сидеть в душной и грязной кубикуле[79]. Все у меня похитила Вивия!
— Что же она сделала тебе? — с недоумением спросил раб. — Напротив, о ней только и слышишь, что она очень добра и участлива. Если я не ошибаюсь, то чуть ли даже ни ее мать выпросила для тебя свободу и дала золота, чтобы ты мог обзавестись верблюдами?
— Это верно, — отвечал Сильван. — Но что мне свобода и верблюды, когда у меня похитили лучшее сокровище в жизни! Вивия, ее дочь, лишила меня единственной отрады! Ах, нет, я не могу забыть этого никогда, до той самой поры, пока меня закутают в могильный саван!
— Но какого сокровища она тебя лишила? — недоумевающе спросил раб.
— Разве ты забыл, — вздохнув, отвечал Сильван, — что я был отцом? Еще в молодости я схоронил жену, которая соединила свою печальную судьбу рабы с моей судьбой. Но после смерти от нее осталась у меня сладкая утеха нашей взаимной привязанности, маленькая дочь. Фатима — так мы ее назвали — не могла помнить матери, и я сам нянчил ее, просиживая иногда целые ночи над ее постелью. Я спешил скорее закончить свои работы, чтобы бежать к ней и смотреть, не плачет ли она и не голодна ли. Я трудился за двоих, выгадывая время подольше остаться при ней. Нежная привязанность к ней как отца, для которого она осталась единственным утешением, заставляла меня забывать всякую усталость. Как однако, счастлив был я, когда, придя в свое логовище, видел ее детскую улыбку, ее белые зубки, ее протянутые ко мне ручонки! Но вот Фатима подросла и стала уже большой, это был вылитый портрет матери. Такая же нежная, такая же любящая и почтительная, она, казалось, дана была самим небом, чтобы вознаградить меня за тяжелую утрату матери…
— Тяжела участь раба, Афер! — продолжал Сильван. — Как часто, прежде чем съесть кусок черствого хлеба, он должен омочить его своими слезами. И в зной, и в непогоду он одинаково должен возделывать пашню, которая никогда ему не принадлежала и не будет принадлежать. Он должен без устали работать на своего господина, от которого редко слышишь доброе слово; он должен безропотно исполнять все его требования, так как он куплен в собственность, как покупают лошадь. Но нежная привязанность Фатимы заставляла меня забывать этот тяжелый жребий; при ней я забывал все горе, все свои страдания. Одно слово, одна улыбка этого любящего дитя делали меня счастливейшим отцом.
— Но это счастье продолжалось недолго, — рассказывал далее Сильван. — С некоторого времени я начал замечать, что Фатима стала держать себя сдержаннее, сделалась задумчивее. Она не встречала меня с прежней беззаботностью и веселостью, и когда я желал приласкать ее, она как-то грустно смотрела мне в глаза. Это сильно беспокоило меня, и я стал догадываться, что, вероятно, ей кто-нибудь приглянулся… Однако судьба готовила мне другой, более страшный удар. Придя однажды в обычный час домой, я, к изумлению, не застал Фатимы. Я ломал себе голову, куда она могла исчезнуть, и ничего не мог придумать. Ночь спустилась с неба, и в темной синеве заискрились своим серебристым светом звезды, а ее все не было. Наконец я услышал ее легкие шаги и поспешно встал, чтобы нежно приласкать ее, но тут же остановился, как пораженный молнией…
— Надо знать, что Фатима, — продолжал он, — носила яркие платья из дешевых материй, какие обычно носят рабыни. Но теперь она стояла в белоснежной тунике, спускавшейся вниз прямыми складками до самых ног; на голове у нее было того же цвета покрывало, из-под которого видна была лишь небольшая часть ее черных, как смоль, волос; на груди у нее висел небольшой золотой крестик, какие обычно встречаются у христиан. Не оставалось никакого сомнения, что ее опутали эти ненавистные приверженцы новой секты, что она поддалась их хитростям и сделалась христианкой. Теперь я постиг, что означала перемена в ее характере! Несчастный! Я и не подозревал, что это бесхитростное дитя могло попасть в такую ловушку! Я слышал, как отчуждает это противное учение всякого, кто поддался ему, от всех прежних привычек, от родной семьи. Это учение делает своих последователей печальными; оно наполняет их душу какой-то отравой, так что они хотят скорее бросить эту жизнь, бросить все, что для них было дорого, расстаться со всеми, бежать ото всего. Им становятся чужды отец и мать потому только, что те держатся язычества; их взгляд всегда устремлен вдаль, и они не могут отдаться никакой привязанности…

Сильван словно жалел сам себя, но в сердце его бушевал огонь злости и ненависти:
— Сердце мое сжалось при мысли, что такою теперь должна стать и моя дочь — единственная моя утеха и отрада в жизни, привязанностью к которой я только и жил! Я стал уговаривать ее, заклиная всем, чтобы она бросила эту ненавистную секту, что это отрывает ее навсегда от меня и наполняет душу мою величайшим горем. Но все было напрасно! Особенность этого учения еще состоит в том, что если кто-то признает его, то никакими силами нельзя оторвать такого человека от его заблуждения; здесь действуют какие-то непонятные чары. Правда, она уверяла меня, что по-прежнему любит и будет любить меня, как отца. Но что мне от ее уверений, когда я чувствовал, что она навсегда оторвана от прежней жизни и что между мной и ней навсегда стало разделяющей бездной непонятное своей силой учение! Она говорила мне о своей дочерней любви, а между тем в глазах ее я ясно видел эту зловещую задумчивость. В них не светилось прежней детской радости, того прежнего веселья, которое смягчало мое сердце; глаза эти смотрели в какую-то невидимую даль, их застилала незнакомая мне прежде какая-то строгость. В этих глазах я не могу уже видеть ясно прежней души своего дитяти, эту душу от меня закрыла неведомая завеса. Я почувствовал, что прежнее мое счастье навсегда утрачено; я испытывал такое состояние, как будто от меня сразу оторвали лучшую часть моего существа. Я решил заживо умертвить себя и сразу же порвать всякую связь с любимой дочерью, которая для меня навсегда утрачена. Я грубо оттолкнул ее и сказал, что с этого времени я ее не знаю и больше ей не отец. Слезы и мольбы с ее стороны не могли повлиять на меня, так как я знал, что дело уже непоправимо. Но с этого же момента все мое сердце прониклось одной необъятной злобой к тем, кто оторвал от меня дочь.

Сильван ненадолго замолчал и вскоре продолжил:
— Впоследствии я узнал, что главной виновницей моего несчастья была Вивия. В скором времени, после того как я окончательно перестал видеть Фатиму, мать Вивии не раз звала меня и говорила: «Зачем ты так обижаешь свою дочь? Она безутешна, что ты не хочешь более знать ее. Она не думала, что так огорчит тебя, если сделается христианкой». Оказывается, что, когда Фатима взята была в дом в качестве прислужницы, ее особенно полюбила Вивия, которая сделала ее своим другом. Она часто уводила ее в свою комнату и там, под видом того, что она ей нужна, чтобы помогать в рукоделиях, учила ее новой вере. Она рассказывала ей, как хорошо держаться этой веры, которая будто бы одна может дать прочное счастье человеку. Она говорила, что когда Фатима примет новую религию, то Вивия сделается ей второй сестрой, чему пока будто бы мешало то, что Фатима язычница. Начатое таким путем дело довершил ярый враг наших жрецов — пресвитер Тертуллиан, который известен всему Карфагену как выдающийся поборник христианства.
— Как возненавидел я с этого времени Вивию! — говорил Сильван. — В скором времени Ганно дал мне свободу, очевидно, думая, что она заменила мне потерянную дочь. Нет, она никогда не может мне заменить ее! Юлия, мать Вивии, действительно, дала мне денег, чтобы я мог завести себе верблюдов, но все же ничто не могло уменьшить моей злобы. Я с ненавистью покинул кров, под которым некогда пережил столько отрадных дней, но который теперь давил меня, как привидение, которое отняло у меня все лучшее. Мне дали для помощи старую рабыню, с которой я и поселился в этих пустынных горах. Несмотря на то, что место это, как ты видишь, вдали от прямого пути, ко мне изредка попадают идущие из Карфагена по направлению к Нумидии. Недавно у меня ночевал солдат, шедший в лагерь, и я расспрашивал его, не знает ли он чего-нибудь о Вивии и Фатиме. Он сказал, что Вивия вышла замуж за Ярбу, который теперь находится в Нумидии, куда он шел во главе своих легионов. В настоящее время Вивия уже стала даже матерью. Она, как и мать ее Юлия, — христианка, и об этом знает весь Карфаген. Обе женщины имеют надежду, что их примеру последует и Ярба, и это, действительно, весьма вероятно, потому что он не скрывает своего расположения к их вере и набрал для себя стражу исключительно из христиан. Что же касается молодой рабыни, которую раньше называли Фатимой, то она тоже давно уже сделалась христианкой, как и ее госпожа Вивия, которая любит ее более всех других рабынь. С переходом в христианство она получила новое имя и называется теперь Фелицитатой. Теперь ты понимаешь, почему я так ненавижу эту самую Вивию. Нет! Я спокойно не умру, пока не отомщу ей! Месть! Месть! Единственное для меня теперь утешение!
Старый вольноотпущенник замолчал.
В его искаженном от злобы лице, в дрожащих губах было что-то страшное; казалось, он продолжал все еще говорить про себя. Наконец он встал; его фигура выпрямилась, как бы под давлением каких-то невидимых пружин. Его рука сжимала обнаженный кинжал и, казалось, что он ожидает лишь знака, чтобы броситься на невидимого врага. Его широко раскрытые глаза бросали мрачные молнии, свидетельствовавшие о яростной буре, происходившей в его сердце.
Изумленный черный раб не посмел его расспрашивать больше и даже боялся поднять на него глаза.
— Афер, — произнес Сильван после некоторого молчания, — выслушай, какой план пришел мне в голову. Супруг Вивии день ото дня все более теряет уважение со стороны солдат. Его медлительность называют трусостью. И даже поговаривают об измене. Говорят, что он в тайном соглашении с неприятелем и что наш лагерь весьма худо защищен; в то время как наши легионы вот уже несколько месяцев бездействуют, варвары все более и более готовятся к нападению, им ничего не будет стоить разбить наши войска и устремиться в самый Карфаген, который тогда очутится в незащищенном положении. Тогда его гавани, неизмеримые богатства и чудные произведения искусства будут превращены в пустыню. Я решил действовать заодно с тобой и воспользоваться случаем, чтобы отомстить Вивии за ее невыразимую обиду. Пока дело будет направлено на ее мужа, но впоследствии я сумею добраться и до нее. Не теряя времени, мы сегодня же направимся вместе в лагерь. Мои верблюды так быстры, что к следующему утру они доставят нас на место. Во имя оскорбленных наших божеств, во имя Юноны, охранительницы Карфагена, я постараюсь поднять среди войска восстание. Я разыщу самого Ярбу и потребую, чтобы на виду у всего войска принесли жертву Марсу, богу войны. Принявши вид жреца, я ему скажу: «Этот страшный бог явился мне в видении и сказал, чтобы я шел к тебе в лагерь; он желает, чтобы ты заколол двух быков и принес их ему в жертву, так как только кровью этих животных может быть предотвращено нападение диких нумидян и сам ты после этого можешь шествовать с триумфом в Карфаген».
— Если правда, что Ярба христианин, — говорил со злобой Сильван, — то я уверен, что он откажется от жертвоприношения; он не такой человек, чтобы мог хитрить и делать не то, что думает. Но этот отказ и послужит сигналом к восстанию; боги и наши кинжалы помогут сделать остальное. Во всяком случае, в моей руке не дрогнет кинжал. Я и пошлю его Вивии, чтобы она полюбовалась запекшейся на нем кровью ее мужа. Она должна узнать, как мстит отец Фатимы! Среди возбуждения, которым будет охвачен Карфаген, когда узнает печальную весть, легко поднять массы простого народа против христиан. Под влиянием криков толпы: «Христиан ко львам!» — сенат должен будет принять меры справедливости. И тогда, без сомнения, привлекут на суд всех безбожников. Тогда не поможет делу ни красота, на знатность положения, а ненавистная мне Вивия должна будет предстать перед судом! Она должна будет умереть, и я это увижу! Я увижу, как зубы зверей будут терзать на части ее тело! Может быть, к ее крови примешается и кровь Фатимы. Но что же делать, если я и без того перестал быть для нее отцом!
— Да! Так решено. И мы будем действовать!
Афер согласился примкнуть к Сильвану и, разумеется, вполне одобрил его план мщения. Единственное, что побуждало его действовать, были обещанное золото и свобода. Раз он сделается богат и получит свободу, тогда ему совершенно не нужен будет Сильван, и тогда пусть он один возмущается против Вивии и христиан.
Обсудив все в подробностях, два приятеля решили немедленно действовать.
Глава VIII. Восстание
Темная ночь спустилась на землю; мрачные тучи заволокли небо, и буйный вихрь подымал целые облака пыли — той пыли пустыни, которая проникает через всякую одежду и заставляет невыносимо страдать путника. Слышно было, как вдали бушевала буря. Солдаты Ярбы, простоявшие весь день под оружием, так как сегодня произведена была для пробы ложная тревога, теперь мирно почивали в своих палатах. Время от времени доносился лишь звук монотонных шагов военной стражи, медленно прохаживавшейся взад и вперед.
В одной из палаток близ лагеря большими шагами ходил взад и вперед старик. Слабое пламя светильни, в которую он уже несколько раз подливал масла, только наполовину освещало его высокую фигуру. Казалось, что он был чем-то озабочен и, по-видимому, ожидал кого-то другого. Он с нетерпением посматривал на песочные часы, по которым считал время. Несколько раз он приподымал вход палатки и зорко смотрел в темную даль, прислушиваясь к малейшему звуку.
— Что случилось с ним, — произнес он про себя, опуская тяжелый холст. — Заблудился он в лесах или пустыни? Пал он от руки какого-нибудь убийцы? Или, может быть, изменил прежнему решению? Несчастный, за несколько золотых монет он готов на все!
В это время неслышно распахнулась палатка, и перед Сильваном предстал, в поту и пыли, черный раб.
— Что случилось, Афер, что ты так опоздал? — произнес Сильван. — Я еще вчера поджидал тебя. Ну что, видел ты предводителя нумидян? Как он тебя принял?
— Сначала плохо, весьма плохо, — отвечал Афер. — Представь себе, этот Цербер[80] счел меня сначала за шпиона, который пришел будто бы разузнать численность его войска и расположение. Он не хотел меня даже слушать, а приказал заковать в цепи и подвергнуть пытке. Я думал, что жив не останусь! Эдакая противная рожа! Но когда эта обезьяна увидела, что я, несмотря на пытки, говорю то же, что сказал ему в самом начале, то он переменил гнев на милость. Он выслушал меня до конца и сказал, что даст свой ответ на следующее утро.
— Ну и что же он тебе сказал? — с нетерпением спросил Сильван.
— Он выступит во главе со своей конницей, которая, насколько я могу судить, многочисленна, — отвечал раб. — Ровно в полдень он намерен сделать быстрое и неожиданное нападение на наш лагерь из ближайшего леса. Ты знаешь быстроту, с какой нападают на неприятеля нумидийские всадники; их лошади мчатся с такой быстротой, что даже не оставляют следа на песке.
— Бессмертные боги содействуют нам, Афер, — сказал Сильван, — и завтра мой кинжал обагрится кровью мужа ненавистной Вивии. Иди и отдохни хоть немного, ты нуждаешься в отдыхе. Я же в последний раз поговорю с некоторыми солдатами.
Сильван вышел из палатки, наказав своему товарищу держать себя возможно тише. Черный раб и без этого знал, что всякая неосмотрительность могла стоить ему жизни. Около третьей стражи[81] буря разыгралась окончательно, но к утру ветер утих, и когда на горизонте появилось солнце, облака уже совершенно рассеялись. После недавней бури все казалось ожившим и сияющим, воздух был чист и прохладен. Солдаты выходили из своих палаток и собирались кучками, чтобы поболтать о всякой всячине и тем скоротать время.
— Что за жизнь! — говорил один. — Для храброго солдата это тоска, а не жизнь. О хорошей битве тут и думать нельзя. Сиди себе целый день в палатке да спи — вот тебе и кровавая война! Или, как кузнец, которому заказали к параду шлем, вычищай свои доспехи. Чего они медлят, почему не ведут нас против врага?
— Наш военачальник любит это, — говорил другой, — Что ему до того, что солдаты просто изнывают от безделья? Его палатка устроена хорошо, лучей солнца не пропускает, а он сидит себе в тени и знать ничего не знает. К тому же, рабы по пять раз в день обливают его холодной водой. Ну и ест он тоже недурно, а если соскучится, то может развлечь себя игрой.
— Если только в этом деле, — сказал один солдат, — он изменник, то он явно в союзе с неприятелем! Он тайно посылает ходатаев в лагерь к нумидянам! Мы изменнически преданы! Недалек день, когда мы очутимся в плену у этих варваров, и им откроется прямая дорога к Карфагену.
— Лжешь, собака, — закричали несколько солдат, не подготовленных к заговору. — Чтобы Ярба изменил? Да это совершенно невозможно!
— Ничего тут невозможного нет, — продолжал другой заговорщик. — Противная секта христиан на все способна! Это изменники богам! А кто изменил своей религии, тот легко может изменить и родине.
— Но откуда же известно, что наш полководец принадлежит к новой религии? — спросили наперебой сразу несколько голосов.
— Если бы он на самом деле принадлежал к новой религии, тогда вы правы. Но ведь это выдумка, — рассуждал один из солдат. — У него много врагов, которые слишком завидуют его славе. Они никак не могут примириться с тем, что сенат, несмотря на молодость господина Ярбы, предпочел его другим, назначив на такой видный пост.
— Не христианин, говоришь ты? — сказал первый солдат. — Но скажи тогда, почему его никогда не бывает при языческих жертвоприношениях? Его никогда не видели вместе с нашими жрецами. И еще: почему он окружил себя такой стражей, в которой нет ни одного солдата, который бы не принадлежал к новой секте?
От одной группы солдат разговоры стали переходить к другой, и нездоровое возбуждение, как невидимая зараза, начало все более и более охватывать лагерь. Солдаты ожесточенно кричали, говоря, что они сейчас же оставят лагерь. В это время среди них явился старый Сильван; он шел в сопровождении нескольких жрецов, одетых в свои священные одежды.
— Вот святой человек, — закричали зачинщики. — Он послан нам в лагерь самим небом. Спросим у него, как нам держать себя с Ярбой; пусть он даст решение!
— Храбрые воины, — произнес пастух с гор, принимая вид человека, устами которого говорит высшая воля, — боги Карфагена низвержимы. Их, по-видимому, никто уже не желает чтить, и на алтарь едва приносятся скудные жертвы. Нечестивая религия, которая не признает их, угрожает их бессмертной славе, желая присвоить себе ту честь, которой некогда пользовались они. Гнев богов неописуем, они послали меня в пустыню поведать вам об этом. С этого дня они желают покровительствовать нумидянам, у которых нет изменников религии. Они будут теперь сражаться вместе с ними против вас! Бог войны, суровый Марс, если не будет умилостивлен жертвой, даст им победу, и тогда этот песок, который вы теперь попираете ногами, сделается вашей могилой! Следуйте за мной, воины, я желаю пойти теперь к вашему вождю и говорить ему от имени бессмертных богов. Я слышал, хоть я и не желал бы верить, что он — христианин, и теперь мы должны узнать это в точности. Перед всем войском он должен будет сказать, что не принадлежит к числу последователей позорного учения. Кроме того, бессмертный Марс требует жертвы, которая одна лишь может отвратить роковую неудачу, и в этом жертвоприношении первым должен принять участие ваш военачальник. Если он откажется, тогда знайте, что вам придется недолго ждать того дня, когда вы очутитесь под ногами лошадей варваров…
Едва успел старик проговорить это, как по всему лагерю разнесся резкий сигнал тревоги: вдали, на горизонте показались отряды нумидийских всадников. Те из солдат, которые находились в палатках, в одно мгновение выбежали из них, думая, что враг уже в самом лагере.
В несколько минут весь лагерь был на ногах и все уже знали, что на них желает произвести нападение неприятель. Напрасно некоторые из военачальников пытались успокоить солдат, говоря, что отряды показались лишь для того, чтобы потревожить войско и что нумидийцы вряд ли теперь в состоянии произвести нападение. Их слова оставались без внимания, и замешательство все более и более охватывало лагерь. Даже сторожевые солдаты покинули свои посты и бежали внутрь лагеря, желая спасти себя от первого натиска неприятеля.
Ярба находился в своей палатке, когда ему сказали о тревоге, вызванной появлением нумидийских всадников. Ярба быстро вышел наружу и увидел, что, действительно, лагерь приведен в сильное смятение. Ему сказали, что всадники исчезли и что это был, вероятно, лишь небольшой отряд, посланный для разведок. Насколько Ярбе известно было в данное время настроение нумидийских вождей и состояние солдат, он не ожидал со стороны их серьезного нападения. Поэтому, нисколько не потеряв самообладания, он смотрел теперь на кричавшее войско и волновавшееся море шлемов, удивляясь, что достаточно уже закаленные в тревогах бранной жизни солдаты так скоро поддались первому впечатлению опасности. Он простоял несколько минут и, видя, что волнение нисколько не утихает и что, напротив, многие отряды с угрозами требуют его к себе, заключил, что причина волнения — не показавшиеся всадники, а какое-то распространившееся среди части войск неудовольствие против него. Он решительно направился в середину лагеря и, созвав всех, когда улегся шум, сказал твердым и громким голосом:
— Солдаты! Чего вы желаете?
В ответ на эти слова из середины войска вышел старый жрец и сказал:
— Военачальник, войско недовольно! Бессмертные боги не желают больше покровительствовать солдатам!
— Кто ты? — резко спросил его Ярба. — Кто тебя уполномочил говорить от имени богов? Почему думаешь, что тебе безошибочно известна их воля?
— Мое имя не имеет для тебя значения, — спокойно отвечал старик. — Достаточно, что ты видишь во мне человека, которому указывают действовать сами бессмертные боги. Они-то, блаженные и всесильные, послали меня к тебе в лагерь поведать об их воле. Им стало известно, что ты с некоторого времени перестал быть верным сыном своего отечества. Ты хочешь изменить ему и войти в тайные сношения с неприятелем.
— Говори дальше… Я презираю такую низкую клевету! — с достоинством отвечал Ярба.
Такой ответ, по-видимому, хорошо подействовал на стоявших вблизи солдат. Многие из них сурово смотрели теперь на старика, с нетерпением ожидая, что скажет он дальше. Сильван чувствовал, что малейшая оплошность с его стороны, и он погибнет в один миг. Но он знал, что раз он явился как жрец, он всегда может потребовать жертвоприношения, которое докажет неправоту военачальника.
— Сами боги не желают верить этому, — продолжал мнимый жрец. — Они не допускают мысли, чтобы тот, кто некогда храбро сражался за отечество, теперь изменил ему. Но они требуют, чтобы ты доказал им это внешним знаком. Твою предполагаемую измену связывают с тем, что ты желаешь изменить старой религии. Поэтому ты должен перед всеми в моем присутствии принести жертву страшному богу войны Марсу. Возмущенный твоей неверностью, он поклялся встать во главе нумидийских войск и разгромить наш лагерь до основания. Для того, чтобы отвратить гнев Марса, надо, чтобы в честь его ты совершил жертвоприношение.
— Кто боится нумидян, если только такой есть среди моих солдат, — с достоинством отвечал Ярба, — пусть следует за этим стариком. Пусть они вместе с ним убивают ни в чем не повинных животных, кровь которых не имеет никакого значения; я против этого ничего не имею.
— Я исполняю лишь волю богов, перед которой единственно преклоняюсь, — с напускной важностью продолжал старик. — Я повторяю, что жертвоприношение должно быть совершено непременно самим тобой и притом на виду пред войском. Такова воля непреклонного сына Юпитерова.
— Ярба – военачальник, — гордо отвечал Ярба. — Он всегда готов идти пред войском на битву с врагом. Но приносить пред глазами войска жертвы, это не его дело. На это есть жрецы, а он пока не сделался еще жрецом. Его меч не проливает другой крови, кроме крови врага.
— Твои слова неискренни, военачальник, — сказал старик, принимая обличительный тон. — Они выдают тебя. Я сказал правду: гордый Карфаген, охраняемый римской богиней Юноной, безрассудно вверил тебе начальство над войском. Ты не достоин этого, — ты изменил богам и втайне держишься учения ненавистной секты христиан.
— Презренный старик! — с раздражением воскликнул Ярба. — Я вижу, что мантия жреца не мешает тебе осыпать гнусными оскорблениями человека, который их не заслуживает. Разве я изменил отечеству или не подчиняюсь его законам? Следовать же той или иной религии — дело человеческой совести.
— Значит, ты не отрицаешь, что ты христианин?
— Да, я этого не отрицал и не отрицаю, — решительно отвечал Ярба. — Ярба никогда не прибегал и не прибегает к обману.
— Солдаты! — произнес он затем, возвысив голос. — Знайте, что ваш военачальник, с которым вы привыкли побеждать врага, — христианин. Он сделался христианином после того, как убедился, что те боги, которых он почитал ранее и которым служат подобные этому жрецы, не истинные боги. Известен только один Бог — Которому поклоняются христиане!
В войске некоторое время после этих слов воцарилась тишина. Открытое признание их военачальника в том, что он христианин, поразило их своею неожиданностью. Сильван не ожидал такого поворота дела и потому не мог предвидеть, как отнесутся к такому заявлению солдаты. Для его целей гораздо лучше было бы, если бы Ярба стал действовать уклончиво, не соглашаясь на жертвоприношение, но вместе с тем и не открывая явно, что он христианин. Что, если войска, пораженные таким решительным заявлением, отнесутся к нему без озлобления и станут по-прежнему любить и уважать своего военачальника? Сильван побледнел и, забыв принятую на себя роль, нервно начал искать рукою рукоятку кинжала, скрытого под туникой. Действительно, из ближайших рядов, по правую руку Ярбы, где находилась его стража, вскоре раздались крики:
— Слава Ярбе! Да здравствует Ярба!
Но в то же время из левых и задних рядов, где были зачинщики мятежа, подставленные Сильваном, раздались другие, более сильные крики:
— Смерть Ярбе! Смерть изменнику богов!
Эти крики были сигналом к восстанию, которое в один миг охватило весь лагерь. Недавняя тревога вследствие появления нумидийских всадников способствовала этому. Ярба, не потеряв хладнокровия, пытался успокоить волнение, но все было напрасно. Восстание разрасталось все более и более, подобно буре, вздымающей волны. Голос Ярбы заглушался шумом голосов, которые громовыми раскатами перебегали от одного конца лагеря к другому. Только и слышно было: «Смерть Ярбе! Смерть изменнику богов!» Там и здесь начали грозно сверкать обнаженные мечи и видно было, как наиболее разъяренные из задних рядов теснили стоявших впереди около военачальника и как бы осмеливавшихся предпринять что-либо против него. Вокруг Ярбы становилось все теснее и теснее; казалось, в скором времени его совершенно сдавят, как в тисках, со всех сторон.
Сильван ни на одну минуту не сводил глаз с военачальника, следя за малейшим его движением своим хищническим взором, горевшим злобным огнем. Но вот тесное кольцо окружающих под напором дальних рядов совершенно охватило Ярбу. Мгновенно в руке Сильвана, как молния, сверкнул кинжал. Он не мог допустить, чтобы кто-нибудь другой совершил то дело, которое составляло столь давний предмет его мстительных желаний. Но прежде чем сталь успела коснуться жертвы, двое из окружавшей стражи быстро схватили и обезоружили мнимого жреца, которого затем тотчас же потащили в палатку и там крепко связали.
Все это совершилось так быстро и так неожиданно, что, за исключением стоявших около самого Ярбы, никто не мог заметить произошедшего. Многие видели лишь, как двое из стражи набросились на жреца и затем быстро увели его в палатку. Они решили, что Ярба отдал приказание схватить его, и это еще более усилило негодование языческих солдат.
— Посланника богов он не побоялся оскорбить и заковать в цепи! — кричали они. — Смерть безбожнику. Смерть изменнику!
К задним рядам прибывали все новые и новые толпы возмущенных. Но преданная стража, плотно сомкнувшись вокруг своего военачальника, решила умереть, но не допустить нападения. Подобно неприступному валу, стража скрывала начальника и заграждала доступ для возмутившихся бунтарей. Неизвестно, чем закончилась бы эта опасная смута, если бы не оказалось, что недавняя тревога по поводу появления нескольких нумидийских всадников была не напрасной. По направлению к лагерю, поднимая густые облака пыли, с дикими криками неслись целые полчища неприятельской конницы.
Перед врагом солдат быстро забывает свои счеты и личную злобу. Пользуясь этим случаем, Ярба закричал:
— Солдаты! Варвары нападают на лагерь! Вперед! За нами победа!
И вся громада в тот же момент обратилась против врага и ринулась навстречу нумидянам, успевшим уже проникнуть за передовые укрепления лагеря.
Военачальник, когда явился к нему Сильван, вышел из палатки без оружия. В момент, когда поднявшие восстание угрожали его жизни, он успел отдать приказание, чтобы ему принесли лишь щит и меч. Теперь, чтобы встать во главе легионов, которые уже стройно двигались против неприятеля, он приказал принести панцирь[82] и шлем, которые с поспешностью начал одевать. В то же время ему подвели черного, как ночь, и быстрого, как вихрь пустыни, коня. Заслышав звуки труб и военные крики, нетерпеливое животное рвалось и било копытом землю. Ярба взял в правую руку развевавшееся знамя… Еще момент, и он был бы во главе своих войск. Но в это время неожиданно, как из-под земли, выросла фигура никому не известного черного невольника. Сверкнуло лезвие тонкого кинжала, военачальник побледнел, зашатался, выпустил знамя и без чувств опустился на руки подбежавших телохранителей. Этого невольника никто ранее и не видел, а как он успел очутиться возле военачальника, никто не знал. Едва успели окружавшие опомниться, как невольник также быстро и незаметно исчез, как и появился. Казалось, это был не человек, а какой-то демон, который, исполнив свой адский замысел, тотчас провалился сквозь землю.
На самом же деле это был черный раб Ювала — Афер, домогавшийся свободы и денег…
Ярбу отнесли в палатку, куда тотчас же явился бывший при нем врач, чтобы осмотреть и перевязать рану. Оказалось, что удар нанесен был опытной рукой и пришелся возле самого сердца. Рана была неглубока, но после тщательного осмотра найдена смертельной, так как кончик кинжала отправлен был одним из сильных ядов.

Врач время от времени переменял повязку и, видя, как быстро распространяется вокруг раны воспаление, задумчиво смотрел на бледное лицо раненого.
Имя врача было Арнунций; он, как и Ярба, был родом из Карфагена; с виду это был старик довольно преклонного возраста. Арнунций почти половину своей жизни употребил на изучение разных наук, из которых медицина и философия были его любимыми предметами. Он очень много путешествовал, слушал многих выдающихся учителей и сам весьма много размышлял. Занятия философией развило в нем любовь к предметам высшего ведения. В это время ему довелось познакомиться с учением христианства, и он, убедившись, насколько это учение выше всех философских систем, сделался христианином. Знакомство с Тертуллианом и беседы с ним окончательно укрепили Арнунция в новой вере.
В скором времени его выдающаяся деятельность на пользу служения ближним, его бескорыстное участие в нуждах других, а также высокое убеждение в истинах христианской веры сделали его имя известным в среде карфагенских христиан, и по просьбе их он поставлен был пресвитером. Пребывание его в настоящее время в лагерь Ярбы имело свои особые основания.
Среди войск находилось немалое число новообращенных христиан, которые, будучи отдалены от единения с остальными братьями по вере, нуждались в поддержке и утешении со стороны более убежденного служителя Христовой веры. Кроме того, известно было, что Ярба, еще до получения начальствования над войском, склонялся к христианству. Осторожные увещания Вивии, которую он безгранично любил, и возвышенные беседы Тертуллиана, без сомнения, привели бы к желаемому результату, если бы в это время не последовало приказа отправиться в лагерь. Нельзя было оставлять этого важного дела неоконченным, но необходимо было завершить его, пользуясь благоприятным настроением Ярбы.
Ввиду всего этого Карфагенский епископ Оптат, которому хорошо известны были все эти обстоятельства, послал в лагерь Арнунция, который, будучи в глазах языческих солдат простым врачом, для христиан, находившихся в войске, и для Ярбы, был служителем высокой религии.
Но вот больной открыл глаза и тихо спросил:
— Что нумидийцы? Отбито нападение?
— Отбито совершенно и с большим уроном с их стороны, — отвечал Арнунций. — Нападение было не сильное. Очевидно, они рассчитывали застать лагерь врасплох. Часть наших всадников преследует их.
— Несомненно, они были предупреждены, — тяжело дыша, произнес Ярба. — Ну, а как моя рана, Арнунций? Находишь ты ее опасной? Я чувствую страшный жар во всем теле.
— Бог милостлив, сын мой, — со вздохом отвечал Арнунций. — Он может возвратить человека к жизни и тогда, когда он стоит на пороге смерти.
— Нет, я чувствую, что рана опасна, — отвечал Ярба со стоном. — Не скрывай от меня! Вероятно кинжал был отравлен?
— Успокойся и перестань думать об этом, — отвечал Арнунций. — Господь может спасти тебя.
— Нет… нет… — прерывающимся голосом стал говорить больной. — Я чувствую невыносимый огонь, он все более усиливается. Нет, я умру, рана смертельна… Что ж, так видно мне предназначено — умереть не в битве с врагом, а от руки убийцы. Арнунций, ты знаешь, что я давно желал окончательно сделаться христианином. Я долго об этом думал и теперь хотел бы умереть последователем Христа; это утешит Вивию, которая так привязана ко мне. Мне не придется воспринять крещения, как другим, в общей церковной купели, но ты, Арнунций, крести меня во имя истинного Бога, Которого я давно исповедую в своем сердце…
Арнунций, видя, что больному осталось жить лишь несколько мгновений, поспешил исполнить волю умирающего. Он в кратких словах сказал больному, что отныне Господь привлекает его к Себе, что Господь даровал ему великую милость, не оставив его умереть в заблуждении. Вслед за тем, так как погружения не могло быть совершено, Арнунций троекратно возлил на голову больному воду с произнесением молитв. Арнунций имел у себя запасные Дары и непосредственно вслед за крещением приобщил больного Святых Таин.
Восприняв два великих таинства, больной сделался спокойнее: следы невыносимых страданий на лице уступили место выражению тихого мира и кроткой покорности судьбе. Дыхание его замедлялось, глаза все время оставались закрытыми.
Но вот больной открыл глаза и тихо произнес:
— Скажите начальнику стражи, чтобы он отпустил жреца, я его прощаю… Помолись за меня, добрый Арнунций. Утешь Вивию и скажи, что я с радостью умираю христианином… Прости меня и благослови.
Арнунций со слезами на глазах тихо наклонился к больному и, поцеловав его, благословил. В скором времени дыхание Ярбы сделалось совершенно незаметным, и он тихо почил, приобщенный ко Святым Христовым Тайнам. Среди присутствовавших водворилась та особая тишина, которую вносит смерть в живую среду людей, и лишь доносившиеся снаружи крики возвращавшихся отрядов неприятно нарушали это спокойствие.
Глава IX. Христиан ко львам
В Карфагене скоро сделалось известным о смерти молодого и храброго Ярбы. Верный и преданный раб из христиан, посланный Арнунцием, прежде всего принес это печальное известие Вивии.
В скором времени донесено было об этом в должностном порядке сенату, и он, прежде чем назначить нового полководца легионам, постановил оказать торжественные почести при перенесении тела столь несчастно умершего молодого военачальника. Его тело должно было переноситься из лагеря в Карфаген с той торжественностью и пышностью, какие сопровождали шествие живых триумфаторов. На гробницу его приказано было возложить лавровый венок как заслуженный знак признательности города. Когда сенат делал такое постановление, ему неизвестно было, что Ярба умер христианином.
Вивия и до получения печальной вести от раба, за несколько дней до этого мучилась тяжелым предчувствием, обещавшим ей большое горе. Но все же весть о такой внезапной и жестокой кончине горячо любимого ею супруга сильно поразила всю ее душу. Прибывший из лагеря Арнунций подробно рассказал Вивии о последних минутах жизни умершего. Он утешал ее, говоря, что Господь сподобил умереть его христианином и это должно умерить ее печаль. Он просил ее молиться за умершего и сам обещал, что будет возносить за него молитвы, чтобы Господь принял его в Свое лоно. Мать и благочестивая Руфина, не менее опечаленные вестью, чем и сама Вивия, тоже утешали ее, молясь вместе с нею об умершем.
Вивию навестили Карфагенский епископ Оптат и Тертуллиан, побуждая ее не предаваться чрезмерной скорби, но больше молиться. Особенно слова Тертуллиана, дышавшие глубокой верой и высоким живым убеждением, подняли ее упавший дух. Он приводил Вивии слова апостола, который наставляет христиан не предаваться чрезмерной скорби по поводу смерти близких им людей. Такая скорбь может иметь место лишь у язычников, которые за пределами земной жизни не видят ничего другого, кроме беспросветного мрака и блуждания теней.
У христиан же есть надежда загробной жизни, — лучшей и более светлой, чем эта жизнь.
Вивия часто и подолгу молилась, усердно посещала собрания верующих и оказывала щедрую помощь разного рода несчастным и бедным. С этого времени она особенно любила оставаться вместе с Фелицитатой, которая утешала ее, молилась вместе с ней и сопутствовала ей при благотворениях. Они сделались неразлучны, как будто тайное чувство подсказывало им, что просвещение светом истинного учения Фелицитаты, дочери провокатора Сильвана, «повинно» в постигшем Вивию горе.
В скором времени Вивия решила принять крещение, чтобы окончательно стать в числе просвещенных светом Христова учения. Окружавшая ее роскошь и прежние привычки совершенно были ею оставлены. Мать Юлия и Тертуллиан с радостью услышали об этом решении, и в один прекрасный день в Карфагенской церкви совершено было святое таинство.
Афер, нанесший смертельный удар Ярбе и благополучно убежавший из лагеря, поспешно возвращался в Карфаген. Он знал, что Сильван захвачен и, по всей вероятности, будет казнен, и это его нисколько не смущало. Он боялся, чтобы Сильван не выдал его, хотя если бы это случилось, то он, без сомнения, сказал бы, что он был подослан Ювалом. Несмотря на то, что истязания, которым его подвергли у нимидийцев, еще и до сих пор давали о себе знать, к вечеру он все же успел оставить далеко за собой лагерь. Когда наступила ночь, Афер прилег лишь на короткое время, а затем снова продолжал путь. Он шел теперь, избегая больших дорог и встреч с какими бы то ни было людьми. Днем солнце, а ночью звезды служили ему, сыну пустыни, путеводителем.
Более всего он шел ночью, так как опасался, что за ним могла быть выслана из лагеря погоня и что днем его легко могут настигнуть. Он думал теперь лишь о той двойной награде, которая его ожидала: он получит много золота и свободу!
На пятый день он увидел высокие башни города, но из предосторожности вошел в него лишь после того, как стемнело и на улицах прекратилось всякое движение.
Старый Сильван, напротив того, избавившись, против всякого ожидания, от неминуемой, как он думал, смерти, возвращался в свою хижину, не торопясь и нисколько не думая скрываться. Он знал, что его отпустили, потому что об этом распорядился перед смертью Ярба, и потому он был уверен, что никакого преследования не будет. Так он возвратился опять в свои горы, где его отсутствием крайне обеспокоена была старая Фатима, так как уходя вместе с черным рабом в лагерь, он ничего ей не сказал.
Отдохнув несколько дней под кровом своей хижины, Сильван решил отправиться в Карфаген, где, кроме Афера, у него было несколько других старых товарищей.
Придя в город, он прежде всего отправился к господину своего дружка Афера под предлогом того, чтобы сообщить ему о всем произошедшем, как будто Афер из страха и нежелания ничего не сказал ему о том, кто его подослал для убийстваю. На самом же деле, — для того, чтобы подготовить почву для дальнейших действий. Непримиримая злоба, которую питал к Вивии этот человек, могла удовлетвориться лишь ее кровью.
Ювал щедро наградил своего раба за преданность, дав ему золота более, чем обещал. Рассудив, однако же, что услуги Афера могут понадобиться ему в будущем, он не спешил отпускать его на свободу. Напрасно Афер напоминал ему об обещании, напрасно говорил он ему, что теперь в Карфагене нет для него ни одного безопасного угла, что он стал совершенно неспособен к работе после того, как подвергся пыткам нумидян, — ничто не помогало. Молодой господин гневно отвечал ему, что он властен делать со своими рабами, что ему угодно. Афер, хорошо знавший своего господина, должен был примириться и выжидать более благоприятного настроения.
Сильван побывал и у верховного жреца, который по-прежнему всецело занят был мыслями о подавлении секты христиан и преследовании Тертуллиана. Он рассказал ему, как они вместе с Афером подготовили восстание, как уговорили нумидийцев сделать внезапное нападением и как затем Афер ранил Ярбу.
Кроме того, Сильван рассказал жрецу историю своих страданий: как у него отнята была Фатима и как он с этого времени возненавидел Вивию, которой решил мстить до тех пор, пока будет жив. Вместе с этим, он поносил ругательствами ненавистную секту христиан. Хитрий жрец, видя, что такой человек может быть отличным помощником в задуманном им деле подавления христианства, с большим сочувствием отнесся к его речам. Он весьма хвалил его за ненависть к христианам и обещал всякую поддержку со стороны богов, если он будет действовать в прежнем направлении.
Жрец взял с него слово, что он не откажется помогать ему в тех случаях, когда дело будет идти о преследовании христиан, на что Сильван с радостью изъявил свою полную готовность.
В скором времени после этого жрец имел новое совещание с Ювалом.
— Святое дело начато, — сказал он ему. — Два человека, которые теперь живут под твоим кровом, сослужили отличную службу отечеству и богам. Ты, конечно, знаешь, что муж Вивии действительно изменил богам. Пока ни сенат, ни город не знают, что он умер христианином, но нам надо сделать так, чтобы об этом узнали все. Пусть узнают, что восстание легионов произошло именно вследствие его приверженности к христианской секте. Мало того, нам надо воспользоваться этим, чтобы возбудить всех против христиан, чтобы сам наместник и сенат принуждены были принять меры к подавлению ненавистной секты. Всех христиан надо подвергнуть жестокому преследованию, как о том были издаваемы неоднократно эдикты[83] императоров.
Ювал нисколько не был против преследования христиан, так как при общем преследовании лучше всего можно было отомстить оскорбившей его Вивии. Но будучи совершенно безрелигиозным, он никак не мог понять жреца, что преследовать христиан необходимо за то только, что они не признают языческих богов. Как ни старался Олимпиан возбудить в нем языческий фанатизм, Ювал обычно говорил, что ему ровно нет никакого дела, верит ли кто в богов или нет. Он говорил, что ему хочется лишь отомстить гордой Вивии, которая с таким высокомерием отнеслась к его искательству. Если он этого достигнет, то ему безразлично, будут ли существовать в Карфагене христиане или нет.
Между тем старый жрец желал поставить дело так, чтобы Ювал, независимо от своей личной вражды к Вивии, был его верным сообщником в задуманном им искоренении христианства в Карфагене. Правда, и сам он в этом случае преследовал как-будто лишь личную цель, желая повредить Тертуллиану, но это лишь потому, что в этом человеке он видел главную опору христианства в Карфагене.
Не будь Тертуллиана в Карфагене, по мнению жреца, христианство никогда не могло бы так распространиться и получить такой силы. Если бы и нашлись какие-нибудь невежественные последователи, то их, как казалось ему, легко было бы разбудить или, в крайнем случае, оставить без всякого внимания. Но Тертуллиан сделал из этой ничтожной секты нечто такое, что изо дня в день все более и более разрасталось и грозило древним языческим богам, которым он, Олимпиан, служил.
Не уступая по своей учености выдающимся образованным людям язычества, Тертуллиан, кроме того, обладал высоким даром подчинять умы других своему сильному и одушевленному слову. Мало того, что он неотразимо действовал своими речами, он писал еще сочинения в защиту христианства, и сочинения эти, как известно было верховному жрецу, имели столько логичности и убедительности, что против них трудно было возразить что-либо.
После того, как ему удастся, думал он, уничтожить Тертуллиана, христианство в Карфагене потеряет главную опору и будет не опасно. Но, предпринимая борьбу против всего христианства, Олимпиан сознавал, что борьба эта сопряжена со многими трудностями. Во-первых, христианство успело уже сильно распространиться, так что проникло даже во многие знатные дома Карфагена; во-вторых, христиане ничем не выделяются от остальных граждан, подчиняясь, наравне с ними, всем законам, за исключением лишь религиозных.
Для того чтобы возбудить преследование и успешно продолжать его, необходимо было все время действовать лишь во имя старой религии, говоря, что забвение прежних богов поведет к падению могущества государства. Видя, однако ж, что Ювал совершенно равнодушен к интересам древней религии, Олимпиан принужден был воспользоваться им лишь как врагом Вивии. Он мог рассчитывать, что Ювал поможет ему возбудить карфагенское общество против христианства, так как к христианам принадлежала Вивия.
После долгих пререканий и споров два друга решили, что они будут действовать во всем согласно с целью возбудить против христиан языческие массы, после чего легко могло принять в этом деле участие и само правительство. Сильван и Афер будут помогать им как люди преданные, которыми можно было распоряжаться по своему усмотрению.
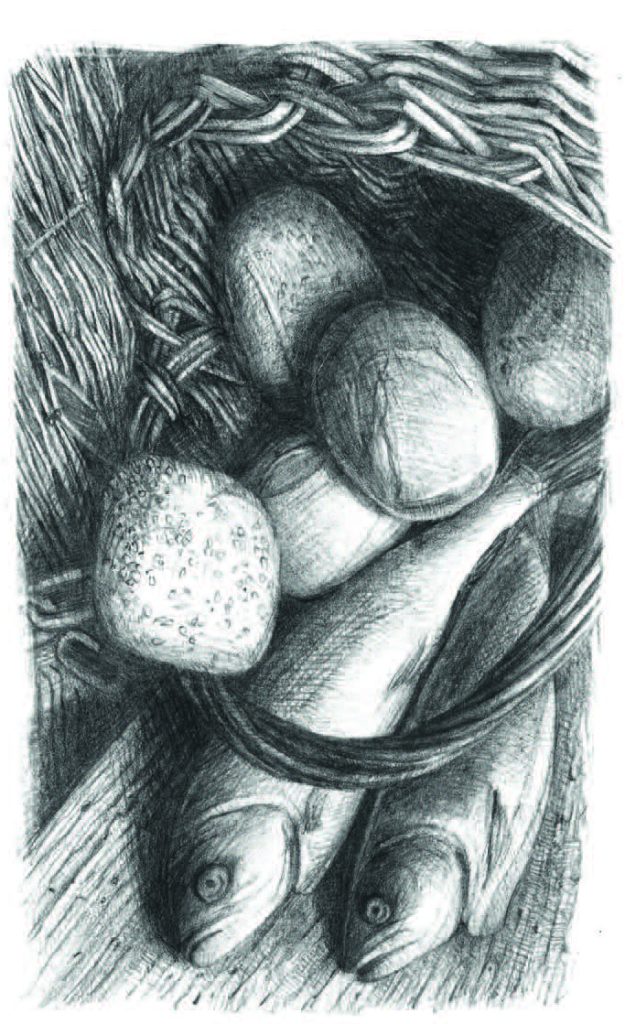
Обсудив план действий с Ювалом, Олимпиан решил подготовить для себя почву и среди гражданских властей Карфагена. С такой целью он отправился прежде всего к карфагенскому наместнику. Однако оказалось, что в этом отношении обстоятельства пока не совсем благоприятствовали задуманным планам.
Пока император Север[84] был искателем римского владычества, он позволял христианам почти открыто исповедовать свою религию. Он знал их верность; он знал, что они ему нисколько не опасны; кроме того, христиане были одними из храбрейших и отважнейших солдат в его войске. Но как скоро после смерти Нигера[85] и Альбина[86] он получил корону цезаря и убедился, что его победоносные легионы окончательно подавили восстания во всех важнейших провинциях, он не стал более щадить христиан.
Да и мог ли он, наконец, устоять против тех ругательств, которые теперь более чем когда-либо сыпались со всех сторон на христиан? Не должно ли было смущать его, ревностного поклонника богов, то обстоятельство, что Евангелие с каждым днем делает все большие и большие успехи? Или, быть может, он желал прибавить новую славу к своему имени тем, что восторжествовал над религией, которую до этого времени не могли сокрушить четыре жестоких гонения?
История ничего не говорит об этом. Как бы то ни было, но на десятом году своего царствования он издал строгий эдикт против христиан. Этот эдикт был сигналом к новому, пятому гонению на христиан, которое если и не охватывало всех провинций римской империи, то все же сопровождалось такими жестокостями, что христиане склонны были верить, что наступили последние времена антихриста.
В Египте, искони славившемся своей приверженностью к языческим суевериям, повеление императора применялось во всей строгости. В Александрии, где находилась в то время знаменитая школа, в которую стекались ученики со всех стран, было весьма много мучеников.
Знаменитый Климент[87] избежал гонения лишь удалившись в Каппадокию[88], где руководил всей церковью, так как каппадокийский епископ взят был в темницу.
В числе исповедников, запечатлевших свою веру во Христа кровью мученичества, был отец знаменитого Оригена[89]. В это же гонение приняла мученическую смерть и Потамиена[90], которая была схвачена во время прогулки с Юлией.
В Карфагене, где торговые интересы и постоянные нападения диких кочевых племен пустыни отвлекали от религиозных вопросов, ненависть к христианам проявлялась сравнительно слабо. Здесь говорили, что христиане владеют тайным средством околдовывать людей, чтобы привлечь их на свою сторону. Волшебству христиан приписывалось, что исповедники христианства с мужеством переносили все мучения. Другого объяснения, особенно народные массы, не могли допустить.
Более просвещенные и вдумчивые, однако же, сознавали, что стойкость христиан за свои религиозные убеждения, без сомнения, имеет более глубокие основания. Узнав поближе христиан, они не могли не удивляться их высоким качествам, которые они проявляли в жизни, и если сами не склонялись к христианству, то во всяком случае далеки были от мысли их преследовать. Вот почему эдикт Севера о всеобщем преследовании христиан в римской империи не нашел для себя живой почвы.
Вместе со многими другими распоряжениями императора, которые не всегда соответствовали установившимся порядкам свободолюбивого Карфагена, эдикт против христиан сдан был в архив, не будучи даже объявлен кому бы то ни было. Но эдикт этот прекрасно известен был верховному жрецу, так как он ближе всего затрагивал близкие ему интересы язычества.
Наместником Карфагена в описываемое время был Фирмилиан, человек совершенно старый и потому мало заботившийся о делах. Императору Северу давно было известно, что Фирмилиан недостаточно энергичен и решителен, чтобы служить представителем римского могущества в столь большом центре, как Карфаген. Однако при восшествии своем на престол он оставил за ним прежний титул наместника и назначил ему в качестве прокурора своего помощника Илариона.
Иларион был человеком иного направления: крайне энергичный, он в то же время отличался чрезмерным честолюбием и готов был на всевозможные проделки, лишь бы достигнуть своих честолюбивых замыслов.
Римские императоры, получавшие корону подкупами и злодейством, нуждались в таких людях, которые, не имея собственных устойчивых воззрений, по-первому требованию, из-за честолюбия и жажды власти могли действовать как угодно. Как ни бездеятелен был Фирмилиан, но все же, имея титул наместника, он не позволял Илариону предпринимать более или менее важных дел без собственной инициативы и указания. В этом случае он преследовал исключительно мелкие интересы личного самолюбия, не задаваясь тем вопросом, полезно ли или вредно задуманное дело.
Все это хорошо известно было верховному жрецу. Задумав поднять преследование против христиан, Олимпиан поэтому прежде всего пытался воздействовать на Фирмилиана. Но оказалось, что на старого, обленившегося наместника подействовать было крайне трудно. Кроме того, Фирмилиан не отличался приверженностью к языческой религии; как большинство тогдашних лиц правящего круга, он держался эпикурейской[91] философии, считая мифы и богов просто выдумками, необходимыми для темной невежественной массы.
— Преследовать христиан! — сказал он с презрением. — Я не вижу в этом надобности. Разве они совершили какое-нибудь преступление?
— Но, достойнейший правитель, — заискивающе отвечал Олимпиан, — христиане не признают наших богов и не посещают наших храмов. Кроме того, они порицают наши жертвоприношения и привлекают на свою сторону все более и более последователей. Величие Рима создано бессмертными богами. Если их перестанут почитать, то гнев языческих богов может сокрушить все могущество. Эдиктом нашего божественного цезаря, справедливейший правитель, насколько мне известно, предписано давно преследовать ненавистных и опасных для государственности христиан, где бы они ни появились.
— Эдикты, — отвечал важно Фирмилиан, — посылаются от цезарей нам, правителям областей, и мы знаем, когда нужно применять их. Ничтожная секта из иудеев не может грозить богам Рима и его могуществу. Преследовать же без всякой причины, — это не в моих намерениях; это значило бы лишь поднимать напрасную смуту. Повторяю, без уважительных причин я не соглашусь на преследование.
Сколько ни говорил в таком роде Олимпиан, представляя свои доводы в пользу необходимости преследования, Фирмилиан остался непреклонен. Оставалось одно — обратиться за поддержкой к Илариону, но Олимпиан сознавал, что трудно поднять такое важное дело, опираясь на сочувствие одного Илариона. Олимпиан решил, что необходимо привлечь к делу общественное мнение, кричащую толпу, которая потребовала бы преследования ненавистных христиан. Но как возбудить эту толпу до того, чтобы она стала кричать, что христиане несносны, что их должно гнать и судить?
У Олимпиана было два человека, которые могли оказать ему в этом отношении большую услугу: это старый Сильван и черный раб Афер. Мог бы помочь ему до известной степени и Ювал. Именно Ювал мог действовать среди своих сотоварищей, Сильван же и Афер — среди простого люда, среди рабочих и рабов. Особенно деятельным в этом отношении мог быть Сильван, питавший такую непримиримую вражду к христианам.
В скором времени, действительно, можно было видеть этих людей говорящими об одном и том же. Ювал в разгульной компании, когда все товарищи разгорячены были вином, вдруг начинал поносить христиан позорными именами, рассказывая о них самые невероятные вещи и требуя, чтобы их немедленно начали преследовать.
Афер не отставал от своего господина, действуя в том же духе среди рабов.
Но особенной ревностью в этом деле отличался Сильван. Он появлялся всюду — на улицах, в тавернах, на полях, где рабы возделывали пашню своих господ.
— Из-за чего вы трудитесь? — говорил он им. — Ведь все это идет на пользу господ, которые вас угнетают. Но вы, несчастные, не знаете того, что все господа ваши сделались уже христианами. От вас зависит перестать служить им, и, клянусь Юпитером — отцом богов и людей, — что они не могут заставить работать вас. Все христиане стоят вне закона и никакой власти не имеют над вами. Заявите властям, что они христиане, и требуйте, чтобы их осудили на основании эдикта вашего мудрого цезаря. Они изменили своему отечеству и прежней религии отцов и поэтому заслуживают смерти. Вы только поймите, несчастные, что после этого вы будете иметь все: вы получите свободу, ваших жен, детей и даже часть их богатств. Богатств, которые созданы вашим же потом. Не надо лишь медлить, так как эти люди отлично знают, как запугать вас, чтобы вы боялись, и они всегда могут предупредить ваш замысел. Тогда вы еще раз испытаете, как безразлично для них, если раб, обливаясь кровью, умрет под палкой разъяренного надсмотрщика.
Иногда Сильван медленно прохаживался взад и вперед перед богатым домом Вивии или садился на таком месте, где его могли видеть все проходившие. Совершенно исхудалый, он похож был на скелет; его всклокоченные волосы и борода, а также ветхое рубище, едва прикрывавшее тело, невольно останавливали внимание и заставляли думать, что этот несчастный помешан или что его постигло слишком большое горе. Некоторые подходили и предлагали ему зайти в жилище, но он упорно отказывался.
— Оставьте меня с моим горем, — страдальчески говорил он. — Чем можете вы утешить несчастного, который обречен безнадежно страдать?!
И он начинал рассказывать про судьбу своей дочери.
Его рассказ вызывал сочувствие. При упоминании о дочери, которая была единственной его радостью, многие матери даже плакали. Всю вину своих несчастий он, конечно, приписывал христианам и, в частности, Вивии. Он заклинал всех преследовать этих ненавистных людей, не признававших богов и вносивших гибель, как ему казалось, в семейную и во всякую жизнь.
Он клялся, призывая имена всех богов, что отомстит им, хотя бы это стоило ему жизни. Его иступленная речь производила сильное впечатление на окружающих. Нередко, послушав его, многие уходили с криками:
— Смерть христианам! Смерть коварной Вивии!
Но все это могло лишь подготовить толпу к возмущению, но не вызвать самого возмущения. Толпа возмущалась христианами, слушая возбуждающие речи своих товарищей, но как скоро она оставляла их, ей было почти безразлично, будут ли преследовать христиан или нет. Если бы преследование началось, то это, конечно, встречено было бы с сочувствием, но настойчиво требовать преследования толпа еще не имела достаточного повода. Между тем Олимпиан понимал, что если и можно как-нибудь побудить старого Фирмилиана к преследованию, то лишь настойчивыми требованиями толпы. В этом случае в дело мог бы вмешаться сенат, и тогда наместнику волей-неволей пришлось бы пустить в ход оставленный под спудом эдикт Севера.
Обсудив все это и видя, что толпа уже до некоторой степени подготовлена речами трех его сотрудников, Олимпиан решил действовать более энергично.
На главной площади Карфагена, недалеко от гавани, находилась громадная, высеченная из белого мрамора статуя богини Юноны, царицы богов и покровительницы города. Богатая корона из драгоценных камней украшала ее голову, сверкая при лучах солнца. В правой руке у нее был скипетр, символ божественной власти: левой же она опиралась на искусно высеченный корабль, на котором значилась надпись: «Карфаген — царице морей».
Статуя стояла здесь много столетий, и даже при завоевании Карфагена римлянами она не была уничтожена — вероятно, из боязни вызвать гнев гордой и непримиримой богини.
Все жители Карфагена привыкли с благоговением смотреть на этот памятник далекой старины, вызывавший у них религиозные чувства. Обычно легионы, прежде чем выступить в поход, выстраивались в боевом порядке перед статуей, причем сенат торжественно вручал предводителю знаки начальства и штандарт[92] города, которые предводитель должен был возвратить обратно, принеся стране победу. К статуе нередко приносились богатые дары, состоявшие из золотых украшений, поступавших отсюда в пользу главного храма Карфагена.
Ночью статуя охранялась особым стражем, оберегавшим ее от расхищения драгоценных украшений.
Однажды утром, в скором времени после описанных событий, нашли стража, стоявшего возле статуи, плавающим в луже крови. Кинжал неведомого злоумышленника поразил его в самое сердце. Все украшения со статуи были сорваны, и сама она низвержена с высокого пьедестала. Отбитая голова с сорванной диадемой валялась тут же, у подножия. Несколько поодаль лежала правая рука, причем скипетр был изломан, а все туловище изуродовано многочисленными ударами молота и лома. По всему видно было, что неизвестные злоумышленники имели в виду не столько ограбить памятник, сколько поиздеваться над священным изображением.
Как только распространилась эта весть, на площади через несколько мгновений образовалась громадная толпа, состоявшая, по преимуществу, из людей низшего класса. Все были возбуждены крайним негодованием против дерзких злоумышленников, совершивших такое неслыханное святотатство. Многие воздымали руки к небу и громко умоляли царицу богов не наказывать бедствиями город, который ее прежде так ревностно охранял. Некоторые падали на колени и клялись, что они жестоко отомстят за поруганную честь богини, лишь бы стало известно, кто совершил злодеяние. Как бы в ответ на эти клятвы, с разных сторон стали доноситься крики:
— Это могли сделать лишь христиане!
— Без сомнения, это дело ненавистников богов!
— Кто другой мог осмелиться на такое поругание великой богини!
И эти слова, как внезапно брошенная искра, быстро облетели толпу. Догадка представлялась наиболее вероятной, так как никто не допускал, чтобы кто-нибудь из язычников мог так дерзко надругаться над грозной богиней Юноной, покровительницей города. Сейчас же со всех сторон послышались угрожающие крики:
— Смерть христианам!
— Христиан ко львам!
В скором времени, вся площадь, как гигантское чудовище, огласилась ревом этих диких возгласов разъяренной толпы. Более часа продолжался этот рев, наводя ужас на всех христиан, живших около площади, и вызывая лишь злорадную усмешку на устах Олимпиана.
В течение всего остального дня город находился в сильном возбуждении. На всех улицах, площадях и в гавани можно было видеть многочисленные группы, которые толковали исключительно о событии прошлой ночи. Везде признавалось несомненным, что преступление совершено христианами, и все единогласно решили, что против них необходимо сейчас же начать строгое преследование. Если оставить дело так, то кто знает, до каких пределов впоследствии может дойти дерзость этих людей. Напрасно более спокойные говорили, что необходимо предварительно расследовать, действительно ли виновны христиане.
К вечеру дня неизвестно откуда распространился слух, который не только подтверждал догадку, но даже называл по именам самих виновников преступления: это Тертуллиан и Вивия — два непримиримых врага язычества. Говорили, что они, прежде чем совершить злодеяние, имели совещание; причем, без сомнения, Тертуллиан подал мысль, а Вивия, как привыкшая подчиняться всем его указаниям, явилась исполнительницей. Между прочим прибавляли, что многие видели накануне раба из христиан Ревоката, выходившим поздно ночью из дома Вивии. Несомненно было, что он действовал в данном случае, как орудие Вивии и Тертуллиана.
Христиане не могли заблуждаться относительно того, чем могло закончиться для них это внезапное возмущение народных масс. Крик толпы, требовавшей их смерти, все время звучал в их ушах. Они заперлись в своих домах и пламенно молились, прося Господа дать им силу с подобающим мужеством встретить смерть за имя Христово. Карфагенский епископ Оптат, в сопровождении нескольких пресвитеров, отправился в храм и здесь перед алтарем горячо молился за своих пасомых, прося, чтобы Господь отвратил тяжелое испытание и дал ему одному пострадать за всех.
Вивия, по-прежнему посещая вместе с Фелицитатой больных и несчастных, помогала им во всем и подолгу молилась с ней в своей комнате, переживая смерть любимого мужа. Ее скорбь о безвременно погибшем Ярбе получила теперь вполне спокойный характер. Она все чаще и чаще стала помышлять о том дне, когда душа ее, освободившись от условий земного существования, соединится с душой Ярбы в другом, высшем мире.
Тертуллиан, пламенный дух которого не знал покоя и чужд был какой бы то ни было боязни, уединившись в своем скромном жилище, деятельно работал над знаменитым сочинением «против язычников». В этом сочинении он имел в виду окончательно разбить лживые нападки язычников против христиан и показать, как возвышенно и свято преследуемое ими учение.
Наступившая ночь положила конец дневным волнениям. Группы мало-помалу разошлись, и каждый поспешил под свой кров, чтобы предаться покою. Христиане несколько ободрились; даже сам епископ Оптат склонен был думать, что волнение может улечься без жертв со стороны христиан. В скором времени весь город совершенно затих: так море, после продолжительной бури, снова возвращается к своим берегам и тогда не слышно прежнего рокота волн, а глаз напрасно ищет следов недавней борьбы стихии.
Вдруг над городом показалось яркое пламя и огромные клубы черного дыма. Зловещий свет все более и более усиливался, пламя разрасталось выше и выше и озарило все небо, гавань и море, отражаясь в зыбких волнах багровым румянцем. Уже можно было различить, что пламя несется из храма, богатые колонны которого (чудо строительного искусства), высокий вход и крыша медленно расползаются во все стороны, оседают и падают одно за другим. Наконец, высокое пламя охватило весь храм от основания до самой верхней части, которая далеко видна была с кораблей, шедших в Карфаген.
В скором времени громада храма превратилась в одну сплошную бесформенную массу огня. Казалось, будто в храме кто-нибудь предварительно наложил горючих веществ, вроде смолы и пеньки, — так быстро действовало всепожирающее пламя.
Через несколько часов от грандиозного памятника, стоившего стольких затрат, остались лишь почерневшие от дыма груды камней и развалин.
Пожар храма, произошедший вслед за низвержением и разграблением статуи Юноны, невольно наводил на мысль, что в обоих случаях действовала одна и та же рука. Теперь не оставалось никакого сомнения, что как то, так и другое злодеяния совершены с целью возможно большего и открытого поругания над святынями язычников. Кто де из самих язычников мог бы решиться на такую невероятную дерзость, грозившую неумолимым гневом богов и великой Юноны? Ясно было, как Божий день, что все это, безусловно, дело христиан.
Давно уже стало замечаться, что христиане умеют избегать наказаний; весьма часто их без всякого повода освобождают от преследования закона; число их последователей увеличивается со дня на день; в их ряды поступает много знатных и сильных фамилий. Это сделало их отважными, они желают открыто восстать против законов и древней религии, они чувствуют, что на их стороне в скором времени очутится вся сила. И вот налицо чудовищные проявления этой неслыханной дерзости: одно за другим совершаются два возмутительных преступления! Если бы оказалось возможным допустить, что статуя Юноны низвержена кем-нибудь из язычников, то поджог храма, несомненно, не мог быть сделан никем другим, кроме христиан. Там еще можно было допустить, что причиной низвержения был простой грабеж, но здесь, без сомнения, действовала одна лишь религиозная ненависть.
Понятно, что возбуждение толпы было еще сильнее, чем утром. Разбуженные и встревоженные огнем люди, как только узнали, что это следствие поджога, и притом, несомненно, со стороны христиан, как и низвержение прошлой ночью статуи, пришли в неописуемую ярость. Всякий раз, когда при ярком зареве падала какая-нибудь совершенно разрушенная огнем часть храма, раздавался неистовый вопль нескольких тысяч голосов:
— Смерть христианам!
— Христиан ко львам!
Решено было сейчас же произвести нападение на христианские дома, и толпы готовы были двинуться для истребления ненавистных противников языческих богов. Лишь своевременное появление прокурора Иллариона с сильными отрядами стражи помешало осуществлению этого намерения. Как ближайший помощник наместника, Илларион во что бы то ни стало должен был предупредить опасный мятеж, так как иначе волнение грозило охватить Карфаген на долгое время и таким образом могло повредить многим интересам торгового и промышленного города. Толпа насильно была рассеяна, причем ей обещано было, что дело будет расследовано сенатом, и все христиане, если они окажутся виновными, будут подвержены жестокой казни.
— Христиан ко львам! — кричала возбужденная толпа, и этот вопль, действительно, должен был вызвать вмешательство в дело карфагенского сената.
Глава Х. Тертуллиан перед сенатом
Верховный жрец находил, что задуманный им план пока осуществляется вполне удачно. Отважившись на чрезмерно решительный и рискованный шаг, Олимпиан боялся, как бы неудачное исполнение принятых им решений не послужило поводом к обнаружению главного и единственного виновника возмутительных злодеяний. Как низвержение статуи, так и поджог требовалось совершить с чрезвычайными предосторожностями, чтобы не быть захваченным в самый момент преступления. Но оказалось, что старый Сильван с пятью сильными рабами, подкупленными золотом, справились со своей задачей вполне удачно. Вообще жрец находил, что такой человек, как Сильван, незаменим в тех случаях, где требовалась не только отвага, но и уменье.
Через несколько дней сенат имел заседание по поводу произошедших событий: как и следовало ожидать, все участвующие были в крайнем возбуждении, и рассуждения имели чрезвычайно бурный характер. Насколько раньше сенат умерен был в своих суждениях относительно новой религии, настолько теперь, напротив, готов был отнестись к христианам без всякого снисхождения. Честь богов подверглась открытому поруганию; такое неслыханное издевательство требовало торжественного удовлетворения, запечатленного кровью виновных, так как только в таком случае можно было надеяться, что разгневанные божества простят нанесенную обиду и будут по-прежнему покровительствовать городу.
Даже наиболее старые и спокойные сенаторы испытывали волнение на своих седалищах из слоновой кости: кто знает, не поведут ли эти события, действительно, за собой несчастий, когда благосостоянию их семейств будет угрожать меч дикого варвара, подступившего к стенам Карфагена?
Прошло уже немало времени, как началось заседание. Трибуны без ораторов, предназначавшиеся в обычное время для спокойных речей, выяснявших сущность обвинения или нового закона и лишь в редких случаях превращавшиеся в места жаркого спора, теперь сделались местами, откуда исходили самые неистовые оскорбления против христиан.
Говорило несколько ораторов беспрерывно, один за другим, и как ни разнообразны были те клеветы, которыми поносилось само имя последователей новой религии, все ораторы приходили к одному заключению, что против христиан необходимо сейчас же поднять самое жестокое преследование. Большинство из них единогласно указывали, что христиане все более и более злоупотребляют той свободой, какую им предоставило государство. Робкие вначале, они теперь открыто поднимают свою голову, бросая дерзкий вызов всему установившемуся строю государственной жизни и древней религии. Будучи заклятыми врагами богов и цезарей, они имеют в виду ни больше, ни меньше, как низвергнуть правление, изгнать из страны сенат, овладеть войском, с которым они поддерживают постоянную и тайную связь, и подвергнуть казни все знатнейшие фамилии, если, конечно, они не признают их учения, с тем чтобы беспрепятственно завладеть богатствами. Два недавних случая как нельзя более удостоверяют, что пришло время, когда христиане начинают приводить свой план в исполнение. Нельзя не видеть, что устами народа, требующего казни для христиан, говорят сами боги.
— Итак, — заключали ораторы, — смерть христианам! Христиан ко львам!
Когда злобные речи ораторов уже совершенно заканчивались, из дальнего места, неожиданно для всех, раздался сильный голос:
— Христиан ко львам!? Но кто же доказал их виновность?
Эти слова невольно заставили всех вздрогнуть, — такая сила непоколебимого убеждения чувствовалась в том тоне, с каким они были произнесены. Среди присутствующих сразу водворилось гробовое молчание. Сенаторы с недоумением смотрели друг на друга, не зная, как отнестись к этому заявлению.
В карфагенском сенате, как бывшем некогда верховном органе независимой от римских цезарей республики, до последнего времени удерживались некоторые особенности, по которым на заседаниях позволялось выступать с соответствующей речью всякому, кто имел в виду сделать важные разъяснения.
В скором времени взоры всего заседания устремились на высокую фигуру человека, медленно сходившего по ступеням амфитеатра к одной из кафедр.
Это был Тертуллиан, решивший открыто выступить с протестом против незаслуженных нападок на христиан. Теперь трудно было узнать в нем скромного пресвитера карфагенской церкви, помогавшего епископу в наставлении верующих. Пламенный взор, горевший огнем внутреннего негодования против того, что в верховном судилище страны беспрепятственно позволялось осуждать ни в чем неповинных людей, сосредоточенное лицо и вся фигура, говорившая о непоколебимой внутренней мощи этого человека, свидетельствовали, что присутствующие имеют дело с одним из несокрушимых борцов за дело Христовой религии. Казалось, что все выступавшие до этого времени ораторы говорили лишь для развлечения собравшейся толпы, тогда как вошедший имеет сказать могучее слово непоколебимой истины.
Тертуллиан снял закутывавший его плащ и медленно взошел на кафедру.
— Христиан ко львам!? — спокойно повторил он. — Когда я только вступил в собрание и услышал этот неистовый крик, мне казалось, что я попал в цирк в Риме, где буйная и падкая до кровавых зрелищ толпа с нетерпением ждет момента, когда дикие звери начнут терзать на части дряхлое тело старца или юную девушку только за то, что они признали себя последователями Христа. Но нет, оказывается я в сенате, где собрались благороднейшие и мудрейшие мужи и слава города, — и здесь раздается этот дикий крик! И что же делаете вы, которые призваны охранять суд и справедливость и которые за это пользуетесь таким высоким уважением? По голословному подозрению нескольких лиц, указавших на христиан, как на виновников происшедших событий и возбудивших толпу, вы склонны проявить самую жестокую несправедливость! Кто из всех говоривших доказал, что совершенные преступления, действительно, дело христианских рук, а не есть лишь бесчеловечный замысел возбудить против христиан всеобщее гонение? Подумали ли вы над тем, где и когда христиане оказались преступниками, раз дело велось открыто и с полным беспристрастием? Расследуйте и в данном случае беспристрастно дело, и вы увидите, что христиане не имеют к нему ни малейшего отношения. Но нет, не для того, оказывается, собрались вы, чтобы преследовать справедливость: справедливость допустима в применении ко всем, но лишь не к христианам. И я уверен, что если бы сейчас перед вами предстали совершившие преступление и воочию оказалось, что это не христиане, все же дикие крики не прекратились бы — ваши ораторы по-прежнему вопили бы с негодованием: «Христиан ко львам!» Очевидно, что дело не в происшедших событиях, а в той незаслуженной ненависти, которою вы преследуете христиан. Без всякой вины вы, в глубоком омрачении умов, готовы подвергнуть их жесточайшим истязаниям по первому клику ничтожной горстки низких людей.
— «Христиан ко львам!?» Но что же в христианах столь ненавистного, что им отказывают в простой справедливости, которой в других случаях не лишают даже последнего из рабов? Неужели уже само имя христиан так преступно, что за одно это имя их можно подвергать каким угодно жестокостям? Но что преступного в этом имени, которое говорит лишь о том, что все, кто носят его, — ученики и последователи Христа? И неужели в этом имени более преступного, чем в имени пифагорейцев[93] или платоников[94]? Но никогда никому не приходило в голову преследовать кого бы то ни было лишь за то, что он ученик Платона или Пифагора. Если какой-то прекрасный гражданин повинуется законам, не делает никому другому обиды и несправедливости, то неужели его необходимо преследовать за одно то, что он христианин? Если замужняя женщина или молодая девушка послушна, непорочна, целомудренна во всех своих поступках, заботится о чести и достоинстве своего дома и семейства, но вместе с тем носит имя христианки, неужели же за это подвергать ее смерти? Укажите эпоху или страну, где бы велась такая ожесточенная война против одного имени? Разве это не величайшая несправедливость и не непростительное безумие?

— Христиан ко львам!? Но вначале, когда явился Тот, Который дал им это имя, Христос, добродетели Которого удивился сам Тиверий[95], так что даже пожелал воздвигнуть Ему жертвенник, а учеников Его запретил преследовать под страхом большого наказания, христиане пользовались полным миром и охранялись наравне со всеми общими законами государства. Первым поднял против нас меч Нерон[96], порочный Нерон, бывший непримиримым врагом всего высокого, благородного и чистого. Только такой человек или, вернее, посмеяние над человеком, и мог решиться на неслыханную жестокость, и то, что именно он, а не кто другой начал повсеместно преследовать христиан, служит лучшим доказательством нашей невиновности. Все мудрые и добродетельные императоры, следовавшие после этого преемственно, один за другим, никогда не издавали законов против нас. Марк Аврелий[97], легионы которого, по молитве христиан, спаслись от полного истребления в битве с дикими германцами, питал к нашей религии высокое уважение. По его приказанию издан был эдикт, которым повелевалось наказывать смертию всякого, кто вздумал бы преследовать христиан лишь за их религию.
— Христиан ко львам!? Но удивительны те законы, которые вы желаете применять по отношению к нам и которые являются полным отрицанием существующих обычаев. Если обвиняемый не признает себя виновным и докажет перед обвинителем на суде, что он не вор, не убийца, то не объявите ли вы ему, что он свободен от обвинения? Если бы у вас, несмотря на все способы удостовериться в истине, осталось сомнение, что обвиняемый виновен, вы, чтобы установить истину, прибегаете к пыткам, рассчитывая, что мучения и страх смерти заставят сказать правду. Совсем иначе поступаете вы с нами: если меня привлекут в суд за то, что я христианин, мне достаточно сказать, что я не христианин, и вы меня отпускаете. Суд не делает никаких расспросов и дальнейшего дознания и я, если желаю, могу вполне освободиться от позорных цепей. Напротив, если я не захочу осквернять своих уст ложью и стойко заявлю, что я христианин, то меня подвергнут бесчеловечным пыткам, чтобы я сказал, что я не христианин. Если в том, что я христианин, заключается преступление, почему простое отрицание освобождает меня от преступления, чего не допускается ни в каком другом случае? Или почему вы в этом случае употребляете столько усилий, чтобы принудить меня сказать, что я в глазах ваших неповинен в столь большом преступлении? Во всяком случае, здесь наблюдается поразительная несообразность! Почему вы в начале ваших законов о христианах не напишете: запрещается под страхом смертной казни не «быть христианином», а лишь называться или называть так других? Тогда вам, по крайней мере, нельзя было бы отказать в определенности…
— Христиан ко львам!? Но за что? За то, что наши обычаи преступны, что мы ведем позорную жизнь? Нет, наши нравы чисты, непорочны, малейшая тень порока возбуждает в нас отвращение, а всякая, даже ничтожная, распущенность безусловно осуждается среди нас. В нашей супружеской жизни господствует полное целомудрие, исключающее даже мысли о незаконной любви. Наши юноши рано приучаются почитать законы и уважать добродетель. Наши дочери целомудренны и скромны, они воспитаны под строгим надзором матерей, следивших за их девственной чистотой. Многие из нас, чтобы беспрепятственно предаваться молитвам и чистой жизни, избирают для себя уединенный образ жизни. Добродетель ценится у нас выше всего, так что главной целью нашего образа жизни и привычек становится то, чтобы никогда не нарушать обязанностей, налагаемых нашим нравственным законом. Все это вы можете лично наблюдать между нами, если безотчетная злоба хоть раз уступит место спокойному размышлению. Где же преступления, за которые вы нас желаете преследовать? Правда, мы не признаем ваших богов, не посещаем ваших храмов, не приносим жертв. Но это потому, что мы познали лживость учения о ваших богах. Мы отвращаемся от всех тех пороков, которые совершаются у вас во имя религии и которые я не в состоянии назвать, так как при одной мысли о них краска покрывает мое лицо. Мы не принимаем участия в ваших зрелищах, потому что неисходным[98] последствием их бывает потеря стыдливости и добродетели. Мы избегаем ваших театров, потому что они служат школой всяких пороков. И в то время, как вы отправляетесь на эти зрелища, подвергая явной опасности честь ваших дочерей и жен, мы остаемся дома, предаваясь молитве, чтобы Господь помог нам стать чище и возвышеннее. За что же вы желаете подвергнуть нас позорному преследованию?

— Христиан ко львам!? Но каким бы преследованиям вы нас ни подвергли, мы не изменим своему учению, которое проповедует высочайшую истину. Мы веруем во единого Бога, Творца вселенной; мы веруем в Христа, Его единородного Сына, Который есть Его Слово и Его Премудрость. Вместе с тем мы не можем признавать и почитать тех богов, которых создали вы. Вопреки неосновательным слухам о нас, мы не образуем никаких тайных собраний, за исключением общих собраний для молитв и наших таинств, носящих самый возвышенный характер. Мы не принимаем участия ни в каких городских происшествиях. Наша мысль и наши надежды направлены в другой мир — высший, чем этот. Будучи объединены одной верой и одной надеждой, мы образуем единое общество. В известные дни у нас бывают общие собрания для молитв и теснейшего единения. На этих собраниях мы молимся за цезарей, хотя они нас осуждают и признают своими врагами; молимся за всякую власть, за то, чтобы на земле водворилось спокойствие; за всех людей и даже за тех, которые без всякой причины преследуют нас. Мы с благоговением читаем во время этих собраний священные книги, дающие нам наше утешение и радость во всех случаях жизни. В этих книгах содержится живое слово Божие, питающее нашу веру, укрепляющее надежду и внушающее нам мужество к перенесению лишений и скорбей. Этими собраниями руководят старейшие из нас. Они получают эту честь лишь после испытаний и после того, как заявят себя неуклонным стремлением к высшему совершенству, так как священный сан у нас не продается ни за лесть, ни за деньги. Между всеми нами царит полное единодушие; мы живем как братья, разделяя друг с другом свое имущество. Мы составляем как бы одну душу.
— Часто нас упрекают, что мы избегаем общения с другими людьми. Но ведь мы не уходим в леса, как брамины[99] в Индии, мы живем среди вас. Мы вместе с вами переплываем моря, мы носим оружие в ваших войсках, обрабатываем поля, ведем торговлю, мы пользуемся теми же предметами, как и вы. Мы ничего не отвергаем, что Господь предоставил на пользу человека. Мы избегаем лишь злоупотреблять чем бы то ни было и не допускаем излишеств. Что касается наших общих вечерь[100], за которые вы нас осуждаете, то уже само название их указывает на то, какую они преследуют цель. Мы называем их агапами, то есть вечерями любви, так как душу их составляет братская любовь. Мы не тратим на эти вечери необычайных сумм, как вы. Предлагаемые на них яства отличаются простотой и отсутствием изысканности. На этих вечерях богатый и бедный сидят один подле другого, так как бедные у нас считаются друзьями Господа и особенно угодны Ему.
— Благородные сенаторы, выслушайте мои последние слова. Храбрый солдат не прельщается битвой, хотя ее и не боится; если она неизбежна, он поступает бесстрашно. Мы не страшимся преследования; если оно постигнет нас, мы мужественно встретим его, так как оно наше прославление. Но мы не желаем устремляться навстречу смерти, как помешанные: придет она, мы встретим ее. Для нас смерть — достижение вечной жизни, к которой мы беспрестанно стремимся, и если нас лишат того ничтожного пространства, которое каждый из нас занимает здесь, на земле, то мы скорее достигнем небесного престола.
— Вы жаждете нашей крови? Проливайте, но подумайте хоть раз над тем, как жестоко и бесчеловечно подвергать истязаниям ни в чем не повинных людей! Приятно ли было бы вам, если бы в одну ночь весь город Карфаген несколькими факелами приведен был в груду развалин? Поверьте, если бы мы желали платить злом на зло, то нам не пришлось бы даже прибегать к скрытой мысли. Мы могли бы выступить на борьбу открыто, и на следующее утро или даже сегодня вы бы увидели перед собой многочисленное, храброе, готовое на всякое самопожертвование войско, которое не так легко было бы победить вашим наполовину опустевшим тогда легионам. Но наше неизменное правило, что мы предпочитаем сами умереть, чем преследовать других. Нам можно было бы даже не прибегать и к оружию: мы могли бы лишь удалиться от вас в другую землю и поселиться там. Тогда вы ужаснулись бы от наступившего одиночества, от той тишины и пустынности городов, которые бы вслед за этим водворились.
Тертуллиан закончил свою речь словами:
— Я все рассказал вам, кто мы, как и Кому веруем. Я защищал нашу религию против утвердившихся среди вас предрассудков, против незнания, против незаслуженных оскорблений и беспричинной ненависти… Судите теперь сами, насколько справедлив ваш жестокий приговор: «Христиан ко львам!..»[101]
Окончив речь, Тертуллиан так же медленно удалился с кафедры, как и взошел на нее.
Глава XI. Допрос
После ухода Тертуллиана сенат продолжал заседание, но уже более спокойно. Не произносилось здесь ожесточенных речей и не раздавалось диких криков: «Христиан ко львам!»
Убедительная защита Тертуллиана произвела несомненное влияние на умы многих сенаторов. Она до известной степени рассеяла некоторые предрассудки против христиан. Трудно было допустить, чтобы эти спокойные люди, занятые исключительно своими религиозными целями, могли вредить другим и совершать такие возмутительные дела. Но все же факт отчуждения их от язычников, непризнания общих божеств оставался налицо. Несомненно было, что если они и не способны предпринять что-либо против установившегося строя и прежней религии, то они ни в каком случае не оставят своих верований и не возвратятся к прежнему образу жизни.
Однако не все склонны были разделять такое мнение. Многие, как и до речи Тертуллиана, в которой они видели лишь естественное желание защитить своих единомышленников, оставались при том убеждении, что необходимо употребить все средства, чтобы сломить возмутительное упорство христиан. Пусть христиане и не виновны в приписываемых им двух последних событиях (ограблении статуи Юноны и поджоге языческого храма), все же их следует подвергнуть преследованию. Тем более, что если в настоящий момент не будет предпринято преследования, то это может дать повод к опасному возбуждению народных масс, которые настойчиво требуют его. Голоса сенаторов, таким образом, разделились надвое: одни говорили, что преследовать христиан бесполезно, другие, что преследование необходимо.
Некоторыми в качестве третьей меры предложено было отложить пока общее преследование, а подвергнуть ему лишь тех из христиан, которые окажутся почему-либо особенно подозрительными. Эта мера важна была в том отношении, что до известной степени могла успокоить народные массы, столь взволнованные недавними событиями, и в то же время не делать гонения общим. Но эта мера была отвергнута, так как найдено было несправедливым одних преследовать, а других оставить в покое. Сенат не постановил никакого решения ни за преследование, ни против него, но уклончиво указал на то, что наместник Карфагена, как наблюдающий за спокойствием граждан, может представлять на суд тех христиан, которые признаны будут особенно опасными для древней религии или существующего порядка. По вопросу о виновности христиан в низвержении статуи и поджоге храма сенат постановил расследовать предварительно дело и постараться найти виновных, имея в виду, что такими, ближе всего, могут быть христиане.
Все время, пока шло заседание сената, густая толпа осаждала дом и прилегающие улицы. Она, очевидно, ожидала, что ей объявят о решении в утвердительном смысле, и тогда она бросится грабить христианские дома. Но когда сделалось известным, что сенат не утвердил постановление об общем преследовании, в толпе послышались протесты. Многие не желали расходиться, говоря, что необходимо потребовать, чтобы сенат непременно объявил общее преследование христиан.
Пришлось, как и в ту ночь, когда произошел пожар храма, вызвать отряды стражи во главе с Иларионом.
Иларион должен был употребить все усилия, чтобы толпа не подняла нового возмущения. Он убеждал ее разойтись, говоря, что сенат не вынес постановления лишь об общем преследовании христиан, но преследование многих из них, наиболее известных, непременно будет произведено. Нет никакого сомнения, что они в скором времени будут наслаждаться зрелищами в амфитеатре, где на христиан выпустят хищных зверей. Под влиянием таких обещаний, а также благодаря вооруженным отрядам стражи, толпа постепенно рассеялась.
Когда Иларион возвратился после этого домой, он застал там верховного жреца, который давно уже ожидал его. Иларион знал о происках Олимпиана против новой религии, хотя, разумеется, не предполагал, что эти происки простираются настолько далеко, как они выявились в недавних событиях.
Ожидая со дня на день сделаться наместником Карфагена вместо отжившего свой век Фирмилиана, Иларион сознавал, что ему важно быть в полном согласии с Олимпианом, как верховным жрецом. Кроме того, последние события, потребовавшие двукратного вмешательства его вместе с отрядами стражи, сильно раздражали Илариона. Мало того, помимо бывшего беспокойства предстояло еще производить расследование, которое едва ли могло открыть, кто действительно совершил преступление. Самый же факт преступлений, бесспорно, был возмутителен и до известной степени мог бросать тень на то, что надзор за внешним порядком города, находившийся в его руках, как прокуратора, был недостаточно силен. Виновных надо указать во что бы то ни стало и если бы оказалось, что их нельзя открыть, то необходимо будет указать на некоторых христиан, как несомненно участвовавших в преступлении, так как таким путем можно будет поддержать мнение о прокураторской бдительности на должной высоте.
Имея в виду все это и предполагая, что верховный жрец пришел исключительно лишь для того, чтобы обсудить вопрос о преследовании христиан, Иларион решил угодить ему. Не дожидаясь, что скажет Олимпиан, он разразился целым громом ругательств, направленных по адресу христиан. Но менее возмутительно, по его словам, было и то, что сенат, вместо того, чтобы без всяких рассуждений объявить против христиан преследование, чуть ли не склонен защищать их. Теперь преследовать некоторых христиан предоставлено власти наместника. Но что из этого? Давным-давно известно, что Фирмилиан — враг преследования христиан. Если бы он пожелал преследовать их, то он мог сделать это и без постановления сената. Ведь ему давно уже был прислан эдикт императора!
— Можно ли возмущаться, достойнейший правитель, — отвечал на эту речь Илариона Олимпиан, — тем, что решает и постановляет сенат? Разве тебе не известно, что он из себя представляет? Несколько отживших свой век стариков, которые заняты лишь тем, как бы сохранить за собой нажитые богатства, а до положения города и его провинции им нет никакого дела. Им бы только дожить до конца без особенных каких-нибудь народных волнений, так как при одной мысли о кровавых преследованиях они дрожат, как дети. Какое им дело до богов, до будущности своей религии, если это нисколько не будет их касаться? Что касается Фирмилиана, который носит лишь одно имя наместника, то ему недолго осталось существовать, и я думаю, что недалек тот день, когда мне удастся порадовать тебя, правитель, радостным известием. Собственно, и теперь уже можно было бы действовать так, как будто его вовсе не было. Мне кажется, что нисколько не опасно было бы теперь же объявить от его имени и за его печатью содержание эдикта, предписывающее общее гонение на христиан. Этого эдикта с нетерпением ждут народные массы, и он мог вполне бы успокоить умы, возмущенные последними событиями.
— Я сам того мнения, — отвечал Иларион, — что наместник теперь для меня не имеет особого значения. Через несколько дней, а возможно, даже завтра его может не стать совершенно. Но вот чего я боюсь: мы слишком далеко от Рима… Что, если эдикт императора отменен? Известно, что император раньше долгое время благоволил христианам. Быть может, эдикт был вызван временным гневом, и теперь этот гнев изменен на милость?
— Мне кажется, правитель, — сказал Олимпиан, — что в этом нет ничего опасного. Если бы и так, то дело преследования можно приписать Фирмилиану, а это значит: лишь вернее обозначить себе место его преемника.
— Я имею много данных думать, — отвечал Иларион, — что преемником Фирмилиана будет не кто другой, как я. Положение, бесспорно, высокое: Карфаген — второй город после Рима. Но меня смущает еще и другое обстоятельство: если я пожелаю применить к христианам все строгости, мне может воспротивиться сенат. Сегодняшнее заседание дает достаточно оснований к такому предположению. Сенат тогда может выставить меня врагом спокойствия города, даже врагом самого императора, так как он скажет, что я злоупотребляю его именем и властью, пользуясь ими для приведения в исполнение ненужных жестокостей. И почем знать, не принесет ли мне тогда излишняя ревность непоправимого вреда? Я не знаю, не опасно ли слишком спешить с этим делом?
— В других провинциях, — отвечал Олимпиан, — насколько мне известно, преследование христиан совершается без всякой задержки или неудовольствия со стороны власти.
— Но в других провинциях, — отвечал Иларион, — нет сената. Там наместник — полновластный хозяин, а в Карфагене против действий наместника всегда может протестовать гордый сенат.
— Я понимаю тебя, правитель, — сказал Олимпиан. — Ты опасаешься, как бы на тебя одного не пала вся ответственность за начало преследования христиан. Но мне кажется, что есть верное и легкое средство сложить с себя за это дело всякую ответственность, даже в том случае, если бы оказалось, — чего я не допускаю, — что император изменил свое решение.
— Какое же это средство? — спросил Иларион.
— Фирмилиан еще жив, — отвечал Олимпиан, — и ничего не мешает действовать за его плечами. Не расследуя пока дело о происшедших событиях, можно издать от имени Фирмилиана приказ взять под стражу нескольких наиболее влиятельных христиан. Если бы сенат стал возражать, что до расследования дела этого нельзя допустить, то тогда можно было бы отговориться, что все они взяты как нарушители общественного порядка. Но раз дело будет начато, тогда обстоятельства сами покажут, как действовать дальше.
— Ты прав, — отвечал Иларион. — Почему не попробовать! Мне, главным образом, желательно удовлетворить возмущение народных масс: эта дикая, бессмысленная толпа играет большую роль, когда дело идет о том, чтобы закрепить на первых порах свое положение на новом месте. Тебе, Олимпиан, должны быть хорошо известны все христиане Карфагена или, по крайней мере, наиболее влиятельные из них. Я слышал, что во главе стоит какой-то старший, называемый, кажется, епископ.
— Да, у них есть епископ Оптат, — отвечал Олимпиан. — Но он стар и, несмотря на свое положение, не имеет особенного влияния. Несравненно большим влиянием среди них пользуется некто Тертуллиан, их пресвитер, произнесший сегодня, как мне передавали, пред сенатом речь, которой сенат сбит был с толку. Он считается помощником епископа и по всем своим качествам оратора и силе презрения к языческим богам, которым он сам некогда служил, должен быть назван первым. Он для христиан служит своего рода оракулом, так как такого защитника своей веры и врага нашей религии трудно встретить. Он поклялся, что уничтожит все до последнего жертвенника. Ненависть этого человека ко всему нашему так велика, что его можно подозревать в совершении недавних преступлений. И ты, правитель, окажешь большую услугу государству и престолу цезаря, если прикажешь расправиться с ним по строгости законов.
— Тертуллиан будет взят, — отвечал Иларион. — Но кто у него еще сообщники?
— После Тертуллиана, — сказал жрец, — необходимо взять под стражу одну женщину, которая делает весьма большой подрыв древней религии. Эта женщина еще молода и обладает большим состоянием, но давно уже относится к нашим богам с нескрываемым презрением. Имея много связей с богатейшими домами Карфагена и будучи окружена многочисленным штатом прислуги, она самым возмутительным образом навязывает каждому новое учение, которого сама держится и которому ее научил Тертуллиан. Большая часть прислуживающих ей молодых рабынь дали клятву не признавать нашей религии и оставаться всегда христианками. Для того, чтобы не дать распространиться этому злу далее, необходимо теперь же подвергнуть ее преследованию. Кроме того, я думаю, что ей известны были задуманные преступления низвержения статуи и поджога храма.
— Как ее имя? — спросил Иларион.
— Ее зовут Вивия. Она жена недавно умершего полководца Ярбы, — отвечал жрец.
— Но, кажется, она дочь сенатора? — озабоченно сказал Илларион.
— Да, дочь сенатора, — отвечал жрец. — Но мне думается, что этим не надо смущаться. На мой взгляд, правитель, давно пора бы показать сенату, что его власть не имеет большой силы.
— Это так, — сказал Иларион. — Но если отец Вивии уговорит остальных сенаторов противодействовать в задуманном деле, тогда у нас могут взять насильно из-под стражи всех заключенных.
— Нет, этого никогда не случится, — отвечал жрец. — Я прекрасно знаю, что отец чрезвычайно недоволен поведением дочери. В последнее время он совершенно перестал бывать у нее. Надо принять во внимание еще и то, что он думает, будто Вивия только временно поддалась влиянию христианской секты, тогда как на самом деле она решила остаться христианкой навсегда. Если об этом ему станет известно, то он прервет с ней всякие отношения.
Кроме Тертуллиана и Вивии, Олимпиан назвал многих других христиан, которых также решено было взять, и, если они не откажутся от своей религии, подвергнуть мучениям.
Подробный план действий был таков: Иларион от имени наместника прикажет, прежде всего, объявить во всеобщее сведение эдикт императора, которым запрещено исповедовать христианскую религию. Вслед за тем он издаст от имени того же наместника приказание: взять под стражу указанных Олимпианом лиц, — как таких, которые не только известны своей чрезмерной приверженностью к христианству, но еще и опасны для сохранения должного порядка в городе.
На следующий же день на всех перекрестках Карфагена, при звуках труб, объявлен был эдикт императора Севера о преследовании христиан. Сильван, при громком одобрении уличной толпы, прибил этот эдикт даже на дверях сената. В скором времени Иларионом выслан был сильный отряд стражи, получивший предписание немедленно взять в темницу тех из христиан, которые значились в приказе, изданном от имени наместника.
В приказе говорилось, что если бы кто-то стал защищать христиан, взятых под стражу, или неотступно следовать за ними, то их тоже должно забирать. Мало того, дозволялось брать также тех, которые, хотя и не названы были в приказе, но могли быть указаны кем-либо начальнику стражи в качестве опасных последователей секты. Решив выступить против сената, Иларион находил, что если бы преследование христиан приняло и большие размеры, чем предполагалось, то этим только сильнее выразилось бы невнимание к постановлениям сената, который не захотел подчиниться эдикту императора.
Стража прежде всего направилась к жилищу Тертуллиана. Тертуллиан жил вдали от центра в маленьком домике, где кроме него помещалось несколько бедных христианских семейств.
Этот домик предоставлен был в безвозмездное пользование для беднейших из христианской общины одним из новообращенных. В часы, свободные от дел, Тертуллиан любил заниматься здесь составлением своих апологетических трудов. Спокойствие, царившее между всеми обитателями дома, а также истинно братские отношения христиан как нельзя более располагали к этому.
В настоящее время Тертуллиана не было среди остальных обитателей жилища. Стража, думая, что Тертуллиан предупрежден, и скрывается где-нибудь тут же, произвела в доме тщательный обыск. Но, убедившись, что его нет, вынуждена была ограничиться допросом. Ей сказали, что Тертуллиан еще вчера, вскоре после речи в сенате, по поручению епископа Оптата отправился в один из прибрежных городов, находившийся на расстоянии суток плавания от Карфагена.
Как оказалось впоследствии, этот случайный отъезд, вызванный исключительно пастырской ревностью к делам веры, предотвратил от Тертуллиана преждевременную мученическую кончину. Корабль, на котором он отплыл из Карфагена, немного не доходя до места назначения, сильной бурей унесен был обратно в море, и лишь по истечении пяти дней, когда путники, обессиленные страхом и борьбой с грозной стихией, думали, что им придется умереть в морских волнах, прибит был к берегу далеко от цели путешествия! В Карфаген Тертуллиан возвратился лишь к тому времени, когда опасность миновала и под стражу уже никого не брали, а производили расправу над взятыми ранее.
Верховному жрецу, таким образом, не удалось видеть своего врага на арене среди диких зверей, как о том он мечтал в своей ненавистной злобе.
От Тертуллиана стража направилась к дому Вивии. Когда Вивия услышала, что ее пришли взять под стражу, тайное чувство сказало ей, что настало то время, когда ей предназначено запечатлеть смертью свое свидетельство за имя Христово. Она спокойно выслушала известие и лишь удалилась, чтобы последний раз взглянуть на дорогое дитя. Она нежно прижалась к нему и, поцеловав, вышла с решимостью следовать за стражей.
Фелицитата и Руфина, узнав о цели прихода стражи, тут же заявили, что они не могут оставить свою госпожу и, что бы их ни ожидало, будут следовать за ней и готовы умереть перед дверями темницы, если их туда не впустят. Предводитель стражи приказал взять их вместе с Вивией, причем к ним присоединилось еще несколько рабынь-христианок, пожелавших следовать за Вивией.
В скором времени забрали и других христиан и христианок, имена которых значились в списке. Здесь были и убеленные сединами страцы, и в полном расцвете сил юноши, и молодые девушки, и жены! Когда осужденные в сопровождении отряда шли по улицам, им пришлось испытать ненависть темной языческой толпы. Видя во всех ведомых совершителей недавних преступлений, необузданная чернь повсюду встречала их градом проклятий и злейших насмешек. На некоторых улицах в них бросали грязью и камнями и даже порывались сорвать с них одежду и учинить жестокую расправу.
Не избавились от грязных оскорблений и Вивия с Фелицитатой, которые, согласно их просьбе, заключены были в одни и те же цепи. На одном из перекрестков озверевшая толпа сорвала с них покрывала, а солдаты из стражи все время движения грубо толкали их штыками орудий, побуждая не отставать от других.
Казалось, что христиане были совершенно нечувствительны к бесчеловечному обхождению с ними. Их лица оставались спокойными, а в глазах светилась непреодолимая стойкость и готовность умереть за имя Христово. Все они неслышно молились Искупителю: одни просили дать им мужество, чтобы до конца выдержать предстоявшие мучения, другие возносили Ему хвалу за то, что удостоились пострадать за Его имя.
Городская тюрьма, куда направлены были осужденные, оказалась в это время переполненной разного рода преступниками. Здесь находились отъявленные воры и убийцы из рабов и вольноотпущенников, осужденные на бессрочные работы в далеких поселениях на пустынных островах, ожидавшие очереди отсылки.
Христиан пришлось поместить временно в частном доме, где, как оказалось, они, по крайней мере, не лишены были воздуха и света.
На следующий день все взятые под стражу призваны были к допросу. На вопрос Илариона: христиане ли они и согласны ли принести жертву богам, все отвечали, что они, действительно, христиане и, как христиане, не могут принести жертву языческим богам, но, скорее, согласны умереть.
Имея в виду знатность происхождения Вивии и ее видное положение как вдовы бывшего полководца, Иларион решил допросить ее более подробно и после всех.
Нельзя сказать, чтобы, подобно верховному жрецу, он особенно желал осуждения Вивии за то, что она принадлежала к христианам. Напротив, увидев ее теперь в толпе простых людей, весьма мало подходивших к ней и по воспитанию, и по положению, он более, чем прежде, склонен был отпустить ее. Для него несомненным представлялось, что Вивия лишь временно поддалась непонятному увлечению новой сектой, которую она, несомненно, оставит, если из допроса убедится, какая страшная участь ее может постигнуть.
— И ты — христианка? — сурово спросил он, обращаясь к Вивии. — Как твое имя?
— Ты знаешь, правитель, как меня зовут, — кротко отвечала Вивия, — и напрасно спрашиваешь. Я назову себя, если тебе угодно, но не с тем, чтобы показать свой знатный род, а для того, чтобы все, кто со мной здесь допрашиваются, знали, что я охотно разделяю предстоящую им участь. Я — Вивия Перпетуя, дочь сенатора Ганно и, с недавнего времени, вдова храброго Ярбы, который пред смертью принял то же учение, которое исповедую я.
— Итак, ты признаешь себя христианкой? — спросил Иларион.
— Да, я — христианка и по благости Господа останусь ею до смерти, — спокойно отвечала Вивия.
— Но разве ты не знаешь, — сказал Иларион, — что наш великий император издал эдикт, которым запрещается это безбожное учение и повелевается всем почитать одних и тех же языческих богов?
— Есть один только Бог, — отвечала Вивия, — Который создал небо и землю и все, что на них, и Его Единородный Сын Иисус Христос, Царство Которого я желаю унаследовать. Не говори мне больше о твоих богах, так как я не могу без стыда вспомнить, что я когда-то приносила им жертвы.
— Наши блаженные боги велики, всесильны и бессмертны! — с важностью сказал Иларион. — Твой же Христос был неизвестный Человек, Которого, как мне говорили, осудили на казнь за какое-то преступление.
— Не суди о том, чего не знаешь, — отвечала Вивия. — Христос осужден был худыми людьми, которые не хотели признать Его. Он одним словом разверзал могилы и воскрешал мертвых. Он мог бы невредимым сойти со Креста, на котором был распят, и поразить Своих врагов. Но Он не сделал этого, так как любовь ко всем людям побудила Его умереть для их спасения. Я молюсь Ему и другим богам никогда не буду молиться.
— Вивия, — мягко сказал Иларион, — тебя, как и всех, кто держатся этого учения, обманули пустыми выдумками.
— Бог есть истина, — уверенно отвечала Вивия, — и никто не может обмануться, кто ищет Его.
— Тебя послушать, — раздраженно сказал Иларион, — так подумаешь, всем вам говорило само небо. На самом же деле я вижу, что вы упорно хотите верить глупостям и вздору.
— Я считаю себя недостойной воспринимать голос Господа, моего Бога, — отвечала Вивия, — так как я лишь самая последняя раба Его. Но я знаю, что Господь открыл людям Свою волю некогда через пророков, а в последнее время через Своего возлюбленного Сына, и на этом учении покоится моя вера.
— Скажи лучше, — с раздражением произнес Иларион, — что ты слепо следуешь учению пресвитера Тертуллиана, который у вас считается каким-то оракулом.
— Я была христианкой прежде, чем узнала Тертуллиана и услышала его наставления, — отвечала Вивия. — Он лишь укрепил мою веру.
— Он лучше сделал бы, — сказал Иларион, — если б предохранил тебя от увлечения ложным учением. Но он лишь еще более укрепил тебя в обмане. Обманщик и трус! Теперь, когда ты в опасности и когда он должен был бы находиться здесь вместе с тобой, он покинул тебя. При первом известии, что ваше безбожие должно, наконец, подвергнуться строгой каре закона, он бежал, так что теперь нигде нельзя отыскать его.
— Тертуллиан не обманщик и не трус, — отвечала Вивия, — и если ты так говоришь, то только потому, что не знаешь его. Он не боится ни темниц, ни мучений. Если стража не могла застать его, то только потому, что он за день перед этим уехал в другое место, где необходимо было его личное присутствие.
— Оставим Тертуллиана, — сказал Иларион. — Он не избегнет общей кары закона. Так ты по-прежнему признаешь себя христианкой?
— Я не умею притворяться, хотя бы мне угрожала смерть, — твердо отвечала Вивия. — Да, я христианка, и именно в эту минуту более, чем когда-либо благодарю моего Господа за милость, что Он удостоил меня просветиться светом евангельского учения.
— Подумай только, Вивия, — мягко сказал Иларион, — что та религия, которой ты так хочешь следовать, распространена лишь среди рабов и бедных. Ты же принадлежишь к знатному роду, по мужу занимаешь видное положение. Неужели ты решишься обесславить свое имя и подвергнуть позору уважаемого отца?
— Рабы и бедные, — с покойно отвечала Вивия, — должны быть первыми в церкви Христовой. Придет время, когда не одни бедные, а все, богатые и знатные, признают нашу религию. Но знай, что и теперь уже не только в Карфагене, но и во многих других местах Крест Христов покорил множество знатных семейств. Ты говоришь, мне подумать о своем рождении и имени? О том, какой позор ожидает меня, если я не откажусь от христианства? Но я думаю, что, напротив, это сделает мое имя более славным, чем блестящие подвиги предков. Признавать истинного Бога и в случае нужды умереть за Него — это высшая слава, какой только можно желать и какую я с радостью приму.
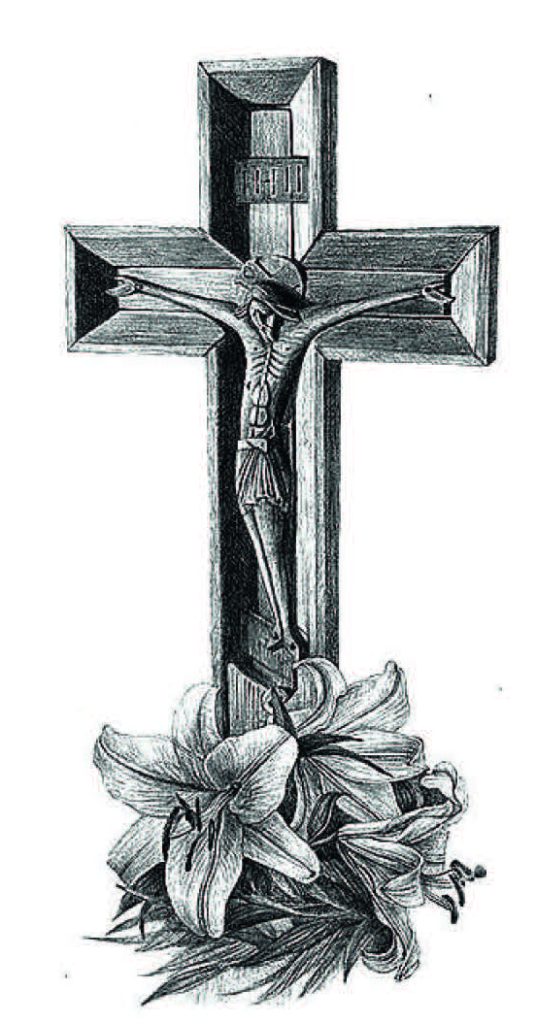
— Позволь лучше сказать, Вивия, — возразил Иларион, — что ты лишь чрезвычайно упорна и горда, и я думаю, что ты действуешь только под влиянием гордости, чтобы показать, что ты хочешь настоять на своем.
— Раньше, когда я не знала заповедей Христа, — отвечала Вивия. — Я, действительно, во многом подчинялась своим гордым желаниям. Но теперь я ищу славы лишь в Господе, и для меня эти цепи, которые вы, преследователи, наложили на меня за Его имя, несравненно дороже драгоценных украшений.
— Вивия, еще раз говорю тебе, — сказал Иларион, — оставь свои выдумки: ты щедро одарена всем от природы. Ты богата, ты можешь жить безбедно, пользуясь почетом и уважением. После того, как ты осталась вдовой, что препятствует тебе сделать выбор между благороднейшими женихами города?
— Богатство и дары этого мира, — отвечала Вивия, — для меня теперь не имеют никакой цены, и я никогда не свяжу своего сердца новым супружеством. Но зачем все эти вопросы? Я христианка и ничто не может заставить меня отказаться от этого.
— Это мы еще увидим, — гневно произнес Иларион. — Под пытками и перед лицом смерти ты скажешь другое и, говорю тебе, станешь просить о помиловании, но тогда будет уже поздно.
— Ты не знаешь, как велика сила Господа, — отвечала Вивия, — и какую крепость Он может дать тому, кто следует Его Кресту и учению. Подвергни меня пыткам, осуди меня на самую жестокую смерть, я на все готова. И все же моими последними словами будет то, что я тебе сказала раньше, я — христианка.
Иларион был вне себя от злобы. Как! Он, помощник правителя области, не может уговорить слабую женщину! Он отдал приказание, чтобы принесли орудие пытки. В это время из толпы вышел почтенный старец: то был отец Вивии. На руках у него был ребенок. По всему видно было, что старик переживает ужасное горе. Крайне взволнованный, он подошел к Вивии и начал говорить прерывающимся голосом:
— Вивия, дорогая дочь, во имя этого дитяти, рожденного и вскормленного тобой, пожалей отца! Если я воспитал тебя до такого возраста и всегда отдавал тебе в своем сердце преимущество пред братьями, то неужели на это ты сделаешь меня посмешищем людей? Подумай о матери, которая останется одинокой после твоей смерти. Подумай об этом дитяти, который не в состоянии будет жить без тебя. Не будь упорна, оставь свою гордость, заклинаю тебя, иначе ты погубишь себя и обесславишь нас. Как нам открыто показаться в обществе, если ты будешь осуждена на позорную смерть?
Этой неожиданной сценой отца с дочерью были потрясены все присутствующие, в том числе и сам Иларион. Когда Вивия отерла слезы и, взявши на руки ребенка, начала осыпать его поцелуями и нежно прижимать к груди, все присутствующие решили, что слова отца поколебали ее мужество. Палачи, расставлявшие орудия пытки, остановились, ожидая, что им скажут сейчас удалиться. Но ожидание было напрасным, — мученица оставалась по-прежнему непреклонной. Как послушная дочь, как любящая мать, она переживала нечеловеческую борьбу, но как христианка, она нисколько не колебалась в своей вере.
— Отец, — со слезами отвечала Вивия. — Видит Бог, что я люблю тебя и не забыла твоих забот обо мне, когда я была ребенком, и твоей любви, которую ты всегда проявлял ко мне. И мать моя, а равно и братья хорошо знают, как сильно я люблю их. Надо ли говорить, как люблю я это невинное дитя, которое, быть может, наутро станет сиротой? Но моя религия повелевает выше всего, что мне дорого здесь, на земле, ставить Господа и Его волю, и я не могу изменить Кресту Господню. Тот, за имя Которого я должна пострадать, пусть успокоит меня; Он же пусть утешит мать и братьев. В Его руки я отдаю и это дитя, которое Он даровал мне; пусть ОН будет его защитником и отцом!
— Подумай, подумай, Вивия, — с отчаянием произнес отец, — о себе и о нас. Заклинаю тебя! Какое значение может иметь та или другая религия, если ты захочешь остаться честной и добродетельной женщиной? Разве в нашей религии, которой и ты вначале следовала, не может быть целомудренных и всеми уважаемых матрон? О! Скажи лишь, скажи лишь, что ты не христианка; больше от тебя ничего не потребуется!
— Скажи мне, отец, — отвечала Вивия, — можно ли этот алтарь, который ты здесь видишь и который принесли, вероятно, в надежде, что я соглашусь принести на нем жертву, назвать другим именем, чем тем, каким его называют.
— Разумеется, нет, этого нельзя сделать, — со вздохом отвечал отец.
— Как же я могу назвать себя иначе, — отвечала Вивия, — а не тем, кто я на самом деле. Я — христианка, и это имя для меня не позор, а, напротив, — слава.
— Жестокая дочь! Бесчеловечная мать, — гневно закричал отец. — Я отрекаюсь от тебя! Я проклинаю тебя! Умри же! Ты этого желаешь и заслуживаешь!
С этими словами старик, вне себя от гнева, бросился на Вивию, как бы желая задушить ее.
Но сейчас же он опомнился… Ему стало стыдно и больно за свою дикую злобу против любимой дочери.
Он упал на колени и, рыдая, тихо произнес:
— Прости, дорогая Вивия, прости, что я сказал тебе. Чрезмерное горе, в которое ты меня ввергаешь, лишает меня рассудка, так что я похож на помешанного.
Вивия со слезами на глазах наклонилась к отцу, желая поднять его. В это время решил вмешаться Иларион.
— Вивия! — сказал он гневно. — Неужели ты допустишь себя до этого? Неужели слезы отца и это невинное дитя, которое ты, по непонятному упорству, желаешь сделать сиротой, не тронут тебя? Я не могу понять этого! Принеси сейчас жертву нашим богам, и грозный эдикт цезаря минует тебя.
— Я христианка и не могу приносить ваших жертв, — спокойно отвечала Вивия.
— Смерть безбожнице Вивии! — неистово закричал один из присутствовавших.
Как оказалось, это был отец Фелицитаты, старый Сильван, незаметно проникший в судилище вместе с некоторыми другими из уличной толпы.
— Христиан ко львам! — раздалось вслед за тем несколько голосов.
— Да прославится святое имя Господа Бога и Его единородного Сына Иисуса Христа! — громко отвечали на это исповедники.
В то же мгновение раздался грозный голос Илариона:
— Стража! Отвести их в темницу и содержать как преступников против императора и государства!
Узники с готовностью последовали за стражей; на лице их светилась радость, губы их шептали славословия: они только что открыто исповедовали имя Христово.

Глава XII. В темнице и на арене
После допроса исповедники отведены были в главную городскую тюрьму, представлявшую мрачное здание с подземными помещениями для заключенных, в которое проникало лишь немного света сверху через узкие окна. Отвратительная сырость и зловоние, в которых постоянно должны были находиться заключенные, делали эту тюрьму ужасной. Разделенная на небольшие камеры, в которых ничего не было, кроме голого земляного пола, она имела одну лишь общую галерею, куда сгонялись арестованные один раз в день для чрезвычайно скудного обеда.
Две небольшие светильни едва освещали помещения. Зеленые же от плесени стены свидетельствовали, что сюда никогда не заглядывало солнце. Кроме сырости и зловония, заключенные должны были невыносимо страдать от холода, так как тюрьма никогда не отапливалась. Большинство заключенных, если срок оказывался значительным, обычно умирали здесь же, в тюрьме, не дождавшись приговора или казни.
Особенно сильно страдала Вивия, привыкшая с детства к неге и роскоши, и нужна была необыкновенно высокая вера, чтобы все это переносить без ропота и жалоб. К этим телесным страданиям присоединились еще жесточайшие нравственные муки: Вивия оставила семью, которая теперь в отчаянии, и оставила беспомощное дитя! Немало страданий приносила также необходимость являться в общую галерею к обеденному столу.
Пока заключенные находились в отдельных камерах, они, по крайней мере, могли свободно молиться. Ночью, хотя и дрожащие от холода, они, закутавшись в свои одежды, могли спокойно спать. Когда же они сходили в общую галерею, их ожидала за столом громадная толпа преступников, содержащихся в других камерах тюрьмы. Здесь находились самые отчаянные люди, которые, хотя и видели в христианах товарищей по несчастью, но обращались к ним с грубыми шутками и насмешками. Исповедники молча сносили все оскорбления, и это еще более возбуждало огрубевших преступников. Особенно оскорбляло слух христиан непристойное пение преступников и преступниц, которым они любили дразнить их, зная, что христиане вели жизнь целомудренных людей. Эти песни были мучительнее для христиан, чем все невзгоды тюрьмы, особенно для девственно чистых душ Вивии и Фелицитаты.
Мы уже знаем, что у Вивии было два брата, которые к этому времени закончили свое ученье в одной из лучших карфагенских школ и пока находились при отце. Влияние благочестивой матери не осталось бесследным и для них, и они, как некогда Вивия, вполне расположены были принять христианство и состояли к этому время в числе оглашенных карфагенской церкви. Заключение сестры в темницу, тяжелая сцена с отцом, который теперь совершенно отрекся от нее за ее упорство, — все это наполняло их душу невыносимой скорбью. Они знали, что мать их, Юлия, очень опечалена неожиданной разлукой с любимой дочерью, хотя и встретила известие о заключении ее под стражу спокойно. Она сказала, что ей еще во время болезни Вивии было открыто в чудесном видении, что Вивия должна принять смерть, как мученица за имя Христово. Но все же она много плакала о дочери, молилась о ней и намеревалась отправиться в темницу, чтобы утешить и ободрить ее. Теперь она внезапно заболела и мучилась тем, что, может быть, более не увидит дочери, ведь она была уверена, что Вивию из темницы поведут на смерть. Имея в виду скорбное настроение матери и любя сестру, братья решились поскорее навестить ее.
— Мир с тобою, сестра, — сказал старший из них, входя в тесное помещение заключенной. — В городе сегодня распространился замечательный слух: говорят, что император внезапно изменил свой взгляд на христиан. Говорят, будто он издал приказание, чтобы прекратить преследование несчастных, а тех, кто был взят под стражу на основании его первого эдикта, сослать на пустынные острова. Наш отец с радостью узнал об этом известии. Он надеется, что если известие подтвердится, то, имея в виду твое положение, ему удастся перед наместником исхлопотать тебе полную сводобу.
— Да будет святая воля Господа, — отвечала Вивия. — Я готова умереть за имя Христово и с радостью встречу тот день, когда мне придется дать высшее доказательство своей любви к Нему. Если Ему угодно будет, чтобы я, для утешения моей матери и ради дитяти, осталась живою, то я приму это с готовностью. Мы должны быть всегда одинаково готовы к тому, чтобы встретить здесь, в заточении, смерть… Или остаться живы.
— Пока ничего положительного нельзя сказать, — продолжал брат. — Мне только известны одни разговоры об этом. Многие из горожан с одобрением относятся к этому известию, так как и среди язычников встречаются люди, которым не чуждо сострадание, так что они с осуждением относятся к жестоким гонениям. Другие, и таких большинство, напротив, открыто возмущаются этим известием. Они даже не прочь противиться распоряжению императора, если бы оно состоялось, и видят в нем лишь трусость и измену прежним богам. От этих разнузданных, злокозненных людей, принадлежащих большей частью к знатным фамилиям, можно ожидать всяких насилий.
— Предоставим, брат, — спокойно отвечала Вивия, — думать и делать людям то, что они желают. Все они во всемогущей власти Божией, и те пределы, в которых им положено действовать, никогда не могут быть нарушены. Если Господу угодно будет оставить нас в этой жизни, Он даст к этому и средства, несмотря на все ухищрения злобы.
— Дай Бог, чтобы твое предчувствие, сестра, оправдалось, — сказал младший брат. — Не Ангел ли Божий вывел апостола Петра из темницы? Быть может, и тебе Господь готовит неожиданное избавление.
— Зачем ты говоришь это? — с укоризной отвечала Вивия. — Заслуживает ли твоя сестра, чтобы Господь послал ей чудесное избавление?
— Пусть тогда Господь поможет тебе мужественно встретить муки, если они предназначены тебе свыше, — сказал старший брат. — Мать посылает тебе свое благословение и пожелание: с крепкой верой встретить то, что тебя может постигнуть. Юлия пришла бы сама, но она больна. Она плачет и молится о тебе. А твой ребенок неотлучно находится при ней.
Братья обнялись с Вивией и ушли, так как страж начал уже ворчать на то, что свидание продолжается слишком долго.
Тотчас же, по уходу братьев, в тюрьме стало известным, что слух об отмене императорского эдикта оказался ложным и что все заключенные христиане, по приказанию Илариона, послезавтра будут отведены в цирк на растерзание диким зверям. Говорили даже, что в цирк по этому случаю приказано немедленно доставить несколько новых львов и пантер.
Вивия попросила стражу оставить ее в эту ночь вместе с Фелицитатой и Руфиной. Стража, зная, что заключенные во все предыдущее время держали себя спокойно, разрешила им. Три исповедницы решили провести две последние ночи в молитве, чтобы Господь помог им бесстрашно противостоять диким зверям.
В эту предпоследнюю ночь они долго молились, утешали и ободряли одна другую, прославляя Господа за то, что Он избрал их свидетельствовать за имя Его.
Уже забрезжило утро и тусклый свет снаружи начал робко проникать в узкое отверстие тюремного окна, когда исповедницы решили разойтись и предаться краткому отдыху. Все они тотчас же заснули крепким безмятежным сном, как будто послезавтра их ожидала не смерть, а освобождение.
Проснувшись Вивия тотчас же подошла в Фелицитате и рассказала удивительный сон, который только что видела.

— Только я заснула, — сказала Вивия, — как слышу, что кто-то подошел к моим дверям и сильно стучит. Я поспешила открыть и увидела перед собой дьякона Помпония. Того самого, который, ты помнишь, шел со мной вокруг купели при крещении. На нем была белая одежда, украшенная маленькими цветами, сиявшими, как золото. «Вивия! — сказал он мне. — Идем! Мы давно уже ждем тебя». Вместе с этим он взял меня за руку и повел по узкой и крутой тропинке. Мы долго шли и, наконец, очутились пред амфитеатром… Но я так устала, что, казалось, сейчас же умру, как только выйду на арену. На арене он сказал мне: «Не бойся, Вивия. Я пока оставлю тебя, но сейчас же вернусь и тогда буду помогать тебе бороться». Он ушел, оставив меня одну. Так как я знала, что меня должны отдать на растерзание львам, то удивилась, почему так долго не выпускают их против меня. Вдруг передо мной явился страшный египтянин, а с ним еще другие люди, тоже ужасного вида, и все они предлагали мне бороться. В то же время ко мне подошла целая толпа молодых юношей, которые, по-видимому, желали мне помочь. Они вылили на меня целый сосуд благовонного масла, и я тотчас почувствовала в себе такую силу, что готова была вступить в борьбу, как будто я от рождения была гладиатором. В скором времени ко мне подошел новый неизвестный муж в мантии и с двумя красными кусками материи. В руке у него была палочка, подобная тем, которые носят заведующие играми, и зеленая ветка с золотыми цветками, как на одежде Помпония. Властным голосом он приказал всем молчать, а затем я услышала, как он сказал: «Если египтянин победит эту женщину, то он должен умертвить ее мечом. Если же женщина победит египтянина, я дам ей эту ветвь». Мы выступили друг против друга, я и египтянин, и начали борьбу. В скором времени я повалила его на землю, лицом вниз, и придавила ногой его голову. Весь амфитеатр радостно рукоплескал мне, а стоявшая возле толпа юношей начала мне петь триумфальную песнь. Я подошла к человеку в мантии, который был свидетелем моей победы. Он поцеловал меня в лоб и дал мне зеленую ветвь, сказав: «Мир с тобою, дочь моя!» После этого я проснулась.
— Страшный египтянин, — сказала, выслушав рассказ Вивии, Фелицитата, — есть враг Христа, дьявол, царствующий в языческом мире. Он воздвиг на нас гонение, но не может одолеть того, кто будет стоять за имя Христово до конца. Этот сон предвещает, что ты до конца останешься верной своему Господу и победишь врага. Пусть Господь пошлет и всем нам мужество быть стойкими до конца.
— Господь непобедим, — твердо сказала Вивия. — Он даст нам силу! Да будет прославлено имя Его!
Вечером этого же дня Вивии сказали, что ее весьма желает видеть какой-то старец. Это был ее отец. За эти несколько дней он, казалось, сильно постарел и изменился: лицо осунулось, взор сделался беспокойным, а голова сама собой склонялась к земле. Видно было, что он, действительно, любил свою дочь больше, чем всех других детей.
— Вивия, — сказал он со слезами, нежно обнимая ее. — Знаешь ли ты, что завтра назначены зрелища?
— Знаю, мой отец, — отвечала тихо Вивия, — и это наполняет мое сердце радостью. Да! Твоя дочь завтра будет увенчана рукой Господа!
— Нет, ты не хочешь быть моей дочерью, — рыдая отвечал отец. — Ты не хочешь признавать меня отцом! Несчастный я! Второй раз со слезами заклинаю тебя сохранить жизнь для меня, для матери, для ребенка. Но все напрасно! Слезы и мои мольбы ты оставляешь без всякого внимания. Ты безжалостно разрываешь мое сердце на части!
— Ах, отец мой! Я сама страдаю, что тебя так огорчает моя участь, — отвечала Вивия. — Я люблю тебя, как должна любить дочь своего отца. Но я христианка! С того времени, как Господь просветил мой ум истинным светом, я не могу изменить моей вере! В ней моя жизнь, а во Христе моя радость! Отец мой! Тебе не судил Господь познать этого Дивного Света, но если бы ты познал Его, то спокойно взирал бы на предстоящую мне участь.
— Все то же прежнее ослепление! — отчаянно произнес отец.
— Нет, отец, — отвечала кротко Вивия. — Все прежняя верность! Господь ограждает меня от заблуждения.
— Я знаю, Вивия, как ты горда и изнеженна, — произнес отец. — Скажи, неужели ты твердо решила переносить насмешки и злословия дерзкой толпы?
— Я уже решилась на это, — отвечала Вивия, — так как верю, что истинная верность и твердость заключается в том, чтобы терпеть унижения и даже саму смерть за имя Христово!
— Да, но подумай, — продолжал отец, — когда ты услышишь дикое рычание львов и увидишь, с какой яростью они набрасываются на свои жертвы, не оставит ли тебя твое мужество? Я знаю, ты не перенесешь этого ужаса; ты начнешь просить о помиловании. Не приводил ли тебя раньше в содрогание уже один рев зверей, когда случайно приходилось идти мимо амфитеатра?
— Тогда еще Господь не уготовил меня для славы мученичества, — ответила Вивия. — Теперь же, когда Он дал мне силу, я без страха услышу рев зверей и с радостью отдам им мое тело на растерзание. Тебе трудно постигнуть, какую необоримую силу дает Христос Своим свидетелям.
— Вивия! Дорогая Вивия! Еще есть время, — продолжал со слезами отец. — Не омрачай последних дней своего отца позором и скорбью. Имей сострадание ко всем нам. Неужели твоему Богу нужна твоя жизнь? Ты сделай лишь вид, будто приносишь жертву языческим богам, и этим сохранишь себе жизнь и исполнишь эдикт императора.
— Как дочь твоя, — спокойно отвечала Вивия, — я никогда не позволю себе спасать свою жизнь лицемерием и предательством… Как христианка же, я не могу отказаться от своей веры и от Креста Господня.
— Если ты меня любишь и хочешь остаться с нами, — продолжал отец, — я сейчас же пойду к наместнику. Я скажу ему, что ты требуешь для себя несколько дней для размышления. Я предложу ему денег… Все деньги, какие у нас есть… Если необходимо будет, я паду к его ногам! Это последние мои слова!
— О нет, не делай этого, отец мой! — воскликнула Вивия. — Если бы ты сделал так, я заявила бы, что никогда не стану приносить жертвы языческим богам. Прощай, отец, прощай: пусть Господь поможет тебе просветиться Его истинным светом.
— Твой Бог — мрачен и жестокосерд! — с отчаянием закричал Ганно. — Он отнял у меня дочь! Нет! Никогда Он не будет моим Богом! Клянусь!
С этими словами отец Вивии вышел, даже не взглянув на дочь. Вивия во все время разговора должна была делать невероятные усилия, чтобы не изменить себе и тут же не заплакать, так как слезы отца потрясли ее душу глубокой горестью. Как только она осталась одна с Фелицитатой, она дала полную волю своим чувствам, и горькие рыдания несчастной узницы огласили тюрьму…
В это время, по крайней мере в Африке, существовал обычай, чтобы тем, которые осуждены на смерть, вечером, накануне казни, давать роскошный ужин. Этот варварский обычай, как и многое в тогдашний суровый век, предоставлял несчастным осужденным провести последний вечер в веселии и роскоши. В большинстве случаев этот ужин превращался в дикую оргию, во время которой осужденные, перед лицом неизбежной смерти, предавались неистовому разгулу.
Любопытство видеть, как держат себя и что чувствуют люди, которым наутро предстоит верная смерть, привлекало в тюрьмы целые толпы посторонних. Так и в данном случае. Как только сделалось известным, что Иларион приказал дать христианам последний ужин, перед тюрьмой ломилась целая толпа любопытных. На этот раз особенный интерес представляло еще и то обстоятельство, что осужденные были христиане, которые, в глазах большинства, всегда оставались какими-то загадочными, не от мира сего и ненормальными людьми.
В переднем просторном помещении тюрьмы, куда обычно допускались посторонние лица, поставлен был богато убранный стол. На нем в изобилии расставлены были жирные изысканные блюда, состоявшие из мяса и рыбы, и разного рода напитки и вина. Вся комната была освещена множеством светильников и убрана цветами и зеленью. Можно было подумать, что здесь происходит семейное пиршество, которое устроил богатый гражданин по поводу какого-либо домашнего торжества.
Любопытных, однако же, ожидало полное разочарование. Побуждаемые больше насилием тюремной стражи, чем собственной охотой, христианские мученики вышли к столу. Но, вместо ожидаемого любопытными зрителями веселья, они тихо подошли к престарелому пресвитеру карфагенской церкви Сатурнию, тоже взятому под стражу по указанию Олимпиана. Взяв со стола небольшой хлеб, пресвитер возвел свои глаза к небу и громко произнес молитву. Затем он разломил этот хлеб на куски и раздал остальным узникам.
— Да ниспошлет нам Господь мужество безмятежно встретить смерть за имя Его, — произнес старый пресвитер, и затем добавил: — Благословен Господь, сподобивший нас обрести венец мученичества!
Кроме этого хлеба, христиане не прикоснулись ни к какой другой пище и питью. Стража, видя, что бесполезно держать их за столом, в скором времени отвела их обратно. Толпа любопытных с недоумевающими лицами разошлась, причем многие спрашивали, действительно ли христиане осуждены за преступления.
Давно уже в Карфагене не было такого напряженного ожидания, как в день, когда назначены были зрелища в амфитеатре, причем известно было, что во время представления против христиан выпустят диких зверей.
Не только из окрестных селений, но и из дальних городов пришли целые толпы желающих посмотреть на редкое зрелище. В те отдаленные века подобные представления пользовались особенным интересом со стороны всех слоев населения. Это объясняется тем, что они вначале носили своеобразный характер всеобщих религиозных празднеств, которыми возвышались национальные чувства народа. Впоследствии зрелища в значительной степени утратили свой религиозный характер и превратились в простые состязания, но все же народ любил посещать их. При состязаниях пускались в ход все средства борьбы, и это вскоре превратило зрелища в дикие кровавые арены, на которые стали выпускать гладиаторов и борцов с хищными животными. Сюда же стали приводить и преступников для жестоких казней.
При грубости и развращенности нравов древнего язычества кровавая сторона таких состязаний доставляла особое удовольствие зрителям, и потому представления в амфитеатрах стали происходить чаще и пользовались гораздо большим вниманием, чем раньше, когда они были простыми религиозными церемониями или безобидными состязаниями в ловкости и силе.
Всему этому немало способствовал также центр Римской империи, могущественный Рим, где эти дикие состязания доведены были до жесточайшего характера и составляли своего рода культ кровожадности, к которому одинаково питала какое-то болезненное пристрастие и уличная невежественная толпа, и просвещеннейшие патриции.
Громадная толпа еще с утра осаждала вход колоссального здания амфитеатра, стремясь занять места поближе к арене. В скором времени город, казалось, совершенно опустел: работы в гаванях везде прекратились, на улицах остановилось всякое движение, все столпились у обширной площади подле амфитеатра. Человек, случайно прибывший в город, мог бы подумать, что случилось какое-нибудь необыкновенное бедствие, — землетрясение или нашествие неприятеля, которое заставило жителей побросать свои жилища.
Был прекрасный тихий день. Яркое солнце высоко сияло на безоблачном небе, бросая свои жгучие лучи на широко раскинутый город. В назначенный час заключенных приказано было перевести в амфитеатр, где они должны были оставаться до выхода на арену в особом помещении, предназначенном для бестиариев[102] или лиц, на обязанности которых лежало убирать по окончании зрелища трупы растерзанных зверями или убитых гладиаторами.
Перед самым входом в амфитеатр, к Вивии незаметно подошла вся закутанная в черные одежды женщина: это была мать Вивии — Юлия.
— Мама, дорогая, — быстро обнимая Юлию, произнесла Вивия. — Благослови свою дочь в последний раз и возрадуйся вместе с ней!
Юлия нежно обняла дочь и, целуя ее, перекрестила.
— Благословляю тебя, возлюбленная Вивия, — тихо сказала она. — Будь мужественна, Господь ждет принять тебя в Свое царство! Я буду молиться во все время борьбы: да даст Он тебе мужества и непостыдную кончину за Его святое имя!
Сказавши это, Юлия передала дочери небольшое головное покрывало, орошенное мученической кровью Потамиены и хранившееся до сих пор у нее, как святыня. Вивия поцеловала этот священный платок исповедницы и покрыла им свою голову.
В помещении для бестриариев мученикам предложили снять свои одежды и надеть другие. Заведывавший зрелищами для большей занимательности желал, чтобы мученики надели одежды, в которых обычно выступали борцы на арене. Они состояли: для мужчин — из красной мантии, какая одежда была принадлежностью жрецов храма Сатурна[103]; для женщин же — из особой повязки на голове, что служило знаком принадлежности к жрицам богини Цереры[104]. Но христианские мученики сказали, что их могут умертвить прежде выхода на арену, но этого требования они не исполнят.
— Мы и привлечены сюда, — сказал старый пресвитер по имени Сатурний, — потому, что пожелали остаться свободными, несмотря на все ваши козни. Мы христиане, и за это осуждены, мы пришли сюда, чтобы принять смерть, а не для того, чтобы развлекать грубую толпу. Вы имеете для своих жестоких развлечений гладиаторов и от тех требуйте, чтобы они выступали в ваших позорных одеждах! Мы — мученики за имя Христово!
Не желая затягивать начала зрелища, мученикам позволили выйти в тех одеждах, какие на них были. Сделано было распоряжение, чтобы женщин вывести на арену отдельно после всех. В виду того, что женщины на арене появлялись вообще редко, распорядитель желал этим придать особенный интерес к зрелищу.
Когда наступила очередь, мученики все обнялись и пожелали другу другу скорейшего перехода в будущую блаженную жизнь. Сначала вывели всех мужчин, оставив лишь Вивию, Фелицитату и Руфину. Зрелища тянулись медленно, с перерывами, причем вышедшие на арену, если они еще оставались пока в живых, уже не уходили с нее. Вивия вспомнила свой сон и подумала, что зрелища, действительно, продолжаются слишком долго.
Но вот дошла очередь и до исповедниц.
Три мученицы вышли, держась за руки одна другой. Отойдя немного от железной двери и остановившись на песке арены, на котором во многих местах видны были коричневые пятна крови, они опустились на колени и начали тихо петь хвалебный гимн Господу.
— На Господа наша надежда, — пели они своими звучными голосами, — и что может сделать нам вся злоба людей! Христос наш Избавитель, и Он не оставит нас! За Него мы рады принять смерть, и Он украсит нас венцом мученичества! О, сколько радости умереть за Того, Кто столько страдал за весь мир! Да будет благословенно имя Его!
Против мучениц были выпущены на арену два громадных льва и кровожадная пантера. Очутившись на арене и почуяв запах крови, львы начали страшно рычать, пантера же, крадучись, устремилась вдоль стены, как бы ища выхода. Но вот звери заметили группу живых людей. Пантера медленно, пригнувшись к земле и прищурив свои хищные глаза, стала подкрадываться к жертвам; львы же в несколько прыжков очутились пред мученицами, продолжавшими с устремленными к небу глазами спокойно петь гимн. Вкруг один из львов бросился на коленопреклоненных и ударом своей сильной лапы свалил всех на землю. По всему амфитеатру раздалось оглушительное рычание хищного зверя, а за ним послышались слабые стоны жертв. В то же время на лежавших с рычанием бросился другой лев, и только пантера не осмеливалась подойти, но, пугливо отойдя в сторону, робко забилась в угол…
В скором времени на арене лежали три бездыханных тела, с обагренными кровью одеждами, а над ними, не переставая, оглушительно рычали два льва, как бы возмущенные тем, что людская ненависть заставила их так безжалостно уничтожить эти беззащитные жертвы, не оказавшие никакого сопротивления.
— Слава нашим богам! Слава цезарю! — неистовствовала толпа, вторя рычанию львов.
Зрелища окончились, и бестиарии с длинными железными прутьями, окрашенными в красный цвет, начали загонять зверей в клетку. Вслед за этим на арену вышло несколько христиан и, бережно окутав тела мучениц и мучеников, направились с ними к выходу. Бестиарии не противодействовали им, так как это избавляло их от необходимости стаскивать тела с арены железными крючьями в глубокое глухое подземелье…
Сестра Фива
Рассказ из первых веков христианства
«Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне самому».
(Рим. 16:1-2).
Глава I. Бессильные боги
Письмо Фивы к Юлии
Привет тебе, дорогая подруга!
Итак, мы опять расстались с тобой, Юлия! Долго следила я глазами за отходившим из гавани судном, видела, как развевалось по ветру твое белое покрывало, и с грустью думала, что и на твоих прекрасных глазах столько же слез, как и на моих.
Увидимся ли мы когда-нибудь снова? Будущее сокрыто от нас, известно оно лишь богам. Впрочем, для них едва ли важна судьба какого-нибудь несчастного смертного, чтобы они стали о ней сокрушаться! Право, я часто приходила к мысли, что они слишком заняты сами собой, чтобы отрываться от бурного потока наслаждений и счастья и хоть на миг вспомнить о нас — людях. Да если бы даже и захотели они обратить на нас свое внимание, как могли бы они понять наши чувства, наши мысли, наши страдания — они, не видавшие и не испытавшие ничего подобного? Никогда еще радостный светлый покой на высоком Олимпе[105] не нарушался болезненным стоном, никогда вопль отчаянья или скорби не вырывался из божественной груди, никогда ни одна слеза не скатывалась на ресницу наших богов!
Да, дорогая Юлия, в часы невыносимой скорби или тоски, в часы горькой разлуки мало помогут нам наши олимпийские боги. Они больше любят присутствовать там, где веселье и торжества, где дымится им тучная жертва и веселая музыка заглушает всякие стоны…
А между тем, думается мне, именно в такие тяжелые дни нам необходимо было бы иметь подле себя существо, которое, будучи божеством всемогущим, могло бы облегчить нам тяжесть, давящую сердце, и понимать нашу слабость. Но что говорить об этом? — Тщетное желание!
Мне иногда нравится, впрочем, пофантазировать и хотя бы на несколько минут погрузиться в мир золотых надежд и несбыточных ожиданий. Невольно как-то вспоминаешь те счастливые часы, когда мы, бывало, рассуждали с тобой, дорогая, о подобных вещах, когда мы сидели вдвоем где-нибудь на вершине прибрежной скалы, молча слушали, как плескались и бились волны о берег, и потом наблюдали, как одна за другой загорались звездочки в далекой и глубокой синеве неба.
«Увидимся ли мы с тобой?» — не раз спрашивали мы в такие часы друг друга. — «Останемся ли мы навсегда с тобой вместе, когда земная жизнь наша так коротка? Будем ли мы видеть друг друга и тогда, когда по смерти достигнем “садов блаженных”; тех елисейских полей, где, как говорят, будут обитать только добрые и благородные?» Ах, даже звезды не могли бы нам дать ответ на наши запросы. Никто не может, никто! Какая-то неведомая сила влечет нас в глубокую даль… Но куда?
Но лучше оставить писать! Боюсь, что тоска моя, которая невольно пробивается в строках моего письма, смутит твое чувствительное сердце и нарушит твой душевный покой. Странно, что ничего иного не приходит мне в голову сегодня!
Знакомый мне купец отправляется завтра по направлению к Неаполю. Он согласился взять мое письмо и обещался подыскать какой-нибудь удобный случай, чтобы доставить тебе его в Рим.
Будь же здорова, дорогая Юлия! Да будут милостивы боги к тебе и да сохранят они тебя в опасном плавании!
Послано из Кенхреи[106], через Эврибиада, в одиннадцатый год царствования императора Клавдия[107].

Глава II. В Рим
Письмо Юлии к Фиве
Приветствую тебя, дорогая Фива!
Наконец-то, после долгого плавания, прибыли мы в мой родной город, дивный Рим. Безветрие целую неделю заставило нас простоять в бухте одного небольшого острова, и вот только теперь я снова почувствовала под своей ногой твердую почву и могла сказать себе: наконец-то я, римлянка, дома! Не думай, впрочем, дорогая Фива, что из-за своего счастливого отечества я могла забыть вашу Кенхрею и славный Коринф[108]; нет, уверяю тебя, и пусть меня боги накажут, если я так скоро забыла ваши гостеприимные места!
Никогда не забуду я, какую любовь оказала мне, сироте, твоя мать, с какой заботой воспитывала она меня, когда я ребенком лишилась матери, а отец мой по долгу службы должен был переезжать постоянно с места на место. Но ты, я думаю, не обидишься, что я, выросшая под надзором твоей матери, рада теперь все-таки тому, что отца моего назначили на определенное место в Рим, и он имеет теперь возможность взять меня к себе на мою настоящую родину.
Ежедневно, даже ежечасно, вспоминаю я тебя здесь, дорогая Фива, и наперед знаю, что не найдется здесь никого, кто бы мог заменить мне тебя.
До сих пор я видела еще очень немного людей в Риме. Отец мой, хоть и близок теперь ко двору, но всеми силами старается держать меня подальше от его жизни.
Я слышала, как он недавно говорил, что скорее согласился бы видеть дочь свою трупом, чем в обществе порочной Агриппины[109], которая своей безнравственностью и злодеяниями превосходит даже свою предшественницу, императрицу Мессалину[110].
Я бываю только пока в доме своей тетушки Персиды, сестры моего отца, которая овдовела уже несколько лет тому назад и теперь живет вместе с двумя своими детьми в совершенной тиши и уединении от света. Сын ее, Филолог, несколькими годами старше меня, а дочь Клавдия немногим моложе меня, так что у меня, собственно, нет недостатка в сверстниках, и потому я больше живу у тетушки, чем дома, чему отец мой очень рад, так как он не хотел, чтобы я оставалась дома одна в те часы, когда он уходит на службу. Я уже спрашивала Филолога, не найдет ли он какой-нибудь возможности отправить тебе это письмо. Сегодня утром он пришел ко мне и объявил, что он нашел средство переслать его тебе.
Ты, наверное, уже знаешь, что наш император Клавдий издал закон, по которому изгоняются из Рима все иудеи. Это очень странный народ, с особенной религией и обычаями. Раньше они занимали целый квартал в городе. Наших богов они не признают и почитают Единого Бога, Который будто бы часто и многообразно говорил с ними и возвещал им Свою волю. Тем не менее, это мятежный и беспокойный народ. Так как беспорядки, производимые ими, ежедневно увеличивались и дело не раз доходило до прямых столкновений иудеев с гражданами, императору заблагорассудилось выслать чужеземцев из столицы.
Незадолго перед этим Филолог случайно спас жизнь одному из этих странных людей. Служит он, надо заметить, в преторианской[111] гвардии, охраняющей личность императора. Однажды вечером, возвращаясь со службы, встретил он на улице одного из них, когда его хотели окружить солдаты. Филолог сжалился над несчастным, взял его под свою защиту и благополучно довел беднягу до его жилища. Человек этот по ремеслу оказался делателем палаток. Узнав имя своего избавителя, он через несколько часов принес Филологу, в знак благодарности, прекрасную, собственного изготовления палатку, какую обыкновенно берут с собой наши воины в походы.
И вот вчера, в сумерки, он пришел к Филологу проститься перед отъездом. Вместе со своей семьей он собирается ехать на свою родину — Понт[112], что в Азии. Так как путь его лежит через Коринф, то Филолог посоветовал мне без всяких опасений передать этому человеку письмо тебе и заранее уверял, что он во чтобы то ни стало постарается отыскать средство доставить его тебе.
Будь здорова, дорогая Фива!
Послано из Рима через иудея Акиллу в 12-й год царствования Клавдия.
Глава III. Павел Тарсийский
Фива — Юлии здравия!
Прошел уже почти целый год, дорогая Юлия, с того времени, когда ткач из Рима доставил мне твое письмо, а мне до сих пор все еще не представилось случая переслать тебе свое. А как часто за это время хотелось мне поговорить с тобой и порасспросить тебя хорошенько о твоем житье-бытье в столице мира.
Твое письмо невольно вызвало во мне горькое чувство, похожее на ревность. Завидую я твоей двоюродной сестре Клавдии: она ежедневно может видеть и говорить с тобой. А ее брат, красавец Филолог, наверное, давно уже вытеснил собою мой образ из твоего сердца. С тех пор, как я лишилась моей лучшей единственной подруги детства и юности, я всегда чувствую себя какой-то покинутой и забытой!
Впрочем, не буду жаловаться и наводить тоску на тебя, попробую лучше развлечь тебя и рассказать тебе, как живется мне без тебя. Разумеется, не могу сообщить многого; один день похож на другой, и следуют они друг за другом так незаметно и однообразно, точно это спокойная река, без всяких водоворотов и стремнин.
Мать моя, как ты знаешь, уже несколько лет не покидает своего дома, так что мне можно прогуливаться лишь изредка, в сопровождении нашей старой няни Трофимы. Она далеко не веселая собеседница и всегда стонет и охает, когда я вожу ее на горы, хоть в Кенхреях они и не высоки и не круты. А я так люблю вдыхать чудный запах хвойного леса, отдыхать на мягком ковре мхов в тени высоких сосен и наблюдать за тем, как яркий пурпур вечерней зари постепенно потухает в волнах Саронскаго[113] залива! С каким удовольствием смотрела я, бывало, сверху на тихую долину, которую замыкают вдали темные массы гор, будто охраняющих наш родной Коринф. И странно, однако! Как ни восхищают меня все эти прелести, в глубине души всегда найдется какая-то грусть, постоянная жажда чего-то такого, что и не высказать словами.
Вот уже несколько недель прошло с того времени, как я начала это письмо, а я все выжидала, не случится ли чего-нибудь особенного, что было бы интересно тебе сообщить. Мои ожидания, кажется, оправдались, я пережила нечто особенное и потому спешу теперь сообщить обо всем тебе, моей единственной подруге. Тяжело только сознавать, что мы разделены друг от друга таким большим пространством и что пройдет еще несколько месяцев, прежде чем это письмо дойдет до места назначения!
Письмо твое, как ты уже знаешь, передал мне тот ткач. С первого же раза он мне понравился, — больше всего, конечно, потому, что он приехал из твоего города и мог многое порассказать мне о тебе. Скромно и терпеливо выслушивал он мои бесконечные повторяющиеся несколько раз вопросы о тебе, о твоем внешнем виде, об окружающей тебя обстановке и так далее. Наконец, когда мне уже стыдно стало удерживать его долее, да он и не мог бы уже сообщить о тебе чего-либо нового, он оставил наш дом и вскоре после того должен был, как мне казалось, отправиться к месту своего назначения.
Немного спустя, моей няне пришлось отправиться в Коринф, чтобы встретить там своего сына, который после продолжительного плавания по западным морям, должен был прибыть наконец в Лехейскую[114] гавань.
Разумеется, мне это было на руку, и я решилась воспользоваться удобным случаем и побывать в Коринфе.
О своем желании я сказала матери. Та сначала и слышать ничего не хотела. Ей казалось, что мне, несмотря на то, что я переживала двадцатую весну и четвертый год уже была вдовою, неприлично будет показаться на улицах, а тем более в гавани среди грубых матросов. Я и сама боялась показываться в гавани, и потому дала матери обещание ожидать возвращения Трофимы в лавке одного знакомого купца, где продавались вавилонские и другой работы ковры. Кстати, я думала там приобрести что-нибудь для матери.
Я могла, таким образом, исполнить свое желание. Но едва я очутилась на оживленных улицах города среди густой толпы чужих и незнакомых людей, невольный ужас напал на меня, и были моменты, когда я начинала раскаиваться в своем безумном, как мне казалось, предприятии. Я могла свободно вздохнуть лишь тогда, когда пришла в лавку знакомого нам купца.
И вот, когда я, в ожидании возвращения няни, сидела в лавке, рассматривая полученные здесь недавно новые товары, в лавку вошел человек, имевший по-видимому с владельцем-купцом торговые дела, мне показалось, что он принес в лавку какие-то товары и получил за них плату. Вначале я едва обратила на него внимание, но когда он собрался уходить и заговорил довольно громко, голос его показался мне знакомым. Я невольно обернулась в его сторону, — передо мной стоял Акилла.
Несколько удивленная этим, я знаком подозвала его к себе, и на мои расспросы он ответил мне, что нашел здесь хорошую постоянную работу и решил остаться в Коринфе на неопределенное время.
Я осведомилась, где он живет. Оказалось, совсем близко от лавки. Акилла, узнав о цели моего прибытия в Коринфе, стал говорить мне, что его жена и он будут чрезвычайно обрадованы, если я сделаю им честь своим посещением.
Я сама внезапно почувствовала желание принять его приглашение и потому, оставив для Трофимы указания, где нам встретиться, я последовала за ним. На улице меня снова было охватил беспричинный страх, и я плотнее начала закутываться в свое покрывало, но вскоре мы свернули в одну из боковых улиц, где не было большого движения, и я понемногу успокоилась.
Дорогою Акилла предупредил меня, чтобы я не изумлялась тесноте его помещения. Ему приходится переживать плохие времена: общий застой в торговле значительно отражается и на его ремесле. Квартира его, действительно, представляла скоромную небольшую комнату, где его жена Прискилла встретила меня с таким радушием и искренностью, что я совсем забыла убогую обстановку их гостеприимного жилища, и вскоре у нас завязалась оживленная беседа.
Прискилла, как я заметила, гораздо разговорчивее своего мужа, веселее и жизнерадостнее его. В молодости она, наверное, была очень красива, но состарилась раньше, чем следует, и по чертам ее лица ей можно было дать гораздо больше лет, чем было на самом деле.
Во всяком случае, оба супруга казались еще очень крепкими. Сочетались браком они еще в юном возрасте, и из многих детей, которых имели, остался в живых только один сын, теперь уже взрослый. Он был пристроен на купеческом судне, и потому родители, как сообщил мне с видимой грустью Акилла, могли лишь изредка видеть его. При воспоминании о нем у Прискиллы блеснули слезы на глазах, но затем, как бы стыдясь своей слабости, она прибавила с улыбкой:
— Я знаю, впрочем, Кому поручила я своего любимого сына и вполне уверена, что Он сможет сохранить его в опасностях бездны и, как говорится в наших псалмах, привести его, по желанию, «во дворы Господни»[115].
Ремесло Акиллы заставило эту чету много раз переселяться из одного города в другой.
Ты хорошо знаешь, дорогая Юлия, мою горячую любовь ко всякого рода путешествиям и потому легко можешь представить себе, с каким живым интересом слушала я рассказ Акиллы об их прежней жизни. Немного времени спустя после свадьбы, они должны были отправиться в главный город их отечества знаменитый Иерусалим. Несмотря на то, что это было уже двадцать лет тому назад, они живыми красками рисовали мне великолепие иерусалимского храма, который превосходит все, что есть у нас в Коринфе изящного и величественного.
Первое пребывание Акиллы и Прискиллы в Иерусалим совпало, как они рассказывали, с праздником Пятидесятницы, на который стекается в Иерусалим из всех стран бесчисленное множество народа. Оба супруга описывали подробно толкотню и шум на улицах и площадях, равно как и в храме, или, вернее, в его преддверии.
Но не внешний только блеск, не вид многотысячной толпы народа в пестрых живописных одеяниях произвел на молодых супругов неизгладимое впечатление, а обстоятельство особого рода, о котором я и считаю необходимым сообщить тебе, дорогая подруга.
В то время образовывалась среди евреев особая секта, члены которой, по имени своего основателя, известного Христа из галилейского городка Назарета, назывались назарянами. Этот Христос за преступление законов родной страны и за восстание против кесаря, — Он, между прочим, выдавал Себя Царем, — был присужден своими соотечественниками к смертной казни и распят по повелению римского претора. Несмотря на это, Его приверженцы и последователи уверяют в Его невиновности и в своем одушевлении заходят так далеко, что решаются утверждать, будто Он воскрес из мертвых и жив доселе.
Как раз в то время, когда Акилла и Прискилла были в Иерусалиме, среди назарян происходило особенно сильное возбуждение. Они утверждали, что получили чрезвычайное откровение от своего Бога в образе земного огня, а некоторые из них, одаренные редким красноречием, обратились к собравшемуся вокруг народу с сильной речью, и говорили притом не только на своем родном языке, но и на языках различных собравшихся в Иерусалиме народностей — египетском, арабском, римском и многих других.
Самое же чудесное здесь заключалось в том, что говорившие на разных языках вовсе не принадлежали к ученому классу, а были простые необразованные люди, происходившие из низших классов народа.
Разумеется, все это похоже на сказку, но рассказывавшие об этом чуде утверждали, что они свидетельствуют чистую истину и даже указывали ту горницу, в которой собраны были в день Пятидесятницы назаряне и около которой с утра до вечера беспрестанно толпились благочестивые люди всяких национальностей в надежде услышать новое и странное учение.
Разумеется, среди толпы оказывались простые любопытные и шутники, но насмешки, готовые уже сорваться с уст, невольно замолкали, когда каждый из присутствовавших слышал проповедь на родном своем языке. И в один день три тысячи верующих различных национальностей примкнули к новой секте.
В числе обращенных были Акилла и его жена.
На мой вопрос, в чем заключается их вера и чем она отличается от их старой иудейской веры, Прискилла, которая, как я уже заметила тебе, разговорчивей своего мужа, с необычайною живостью стала разъяснять мне, что назаряне вовсе не отказываются от веры отцов своих и не отступили от богооткровенной религии своих предков. Наоборот, сами апостолы (так называет она, насколько я могла понять, провозвестников нового учения) неукоснительно пребывают в законе и в выполнении всех предписаний великого Законодателя. Разница между иудеями и назарянами в том лишь, что последние признали в том Христе Мессию, Которого так давно ожидали праотцы еврейского народа и на Котором исполнились все древние предсказания их пророков.
К пунктам различия между иудеями и назарянами нужно присоединить также веру назарян в чудесное воскресение Христа из мертвых.
Никаких особенных обрядов и церемоний не было в новой секте, кроме разве обычая каждого вновь поступающего крестить в воде во имя Того же Христа с молитвою за крещаемого.
Имеют они также обыкновение часто собираться вместе для того, чтобы вкушать здесь хлеб и вино и ожидать при этом обетованного пришествия своего Наставника Христа.
Можешь представить себе, дорогая Юлия, как все слышанное мною поражало меня. Ах, если бы ты могла только видеть, с каким поразительным воодушевлением говорила со мною Прискилла, каким огнем сверкали ее темные глаза, ты бы не стала удивляться, что ее рассказ произвел на меня такое впечатление. К тому же, если б ты слышала самого Акиллу, на слова вообще чрезвычайно скупого, ты, наверное, не усомнилась бы ни на минуту в истинности их рассказов.
Но вот пришла Трофима, и нужно было возвращаться домой. Судно, на котором должен был приехать ее сын, еще не пришло, и ей понапрасну пришлось ожидать его на пристани. Няня была, конечно, расстроена этим и всю дорогу молчала, что отчасти было мне на руку, так как давало мне возможность всецело погрузиться в свои думы и поглубже размыслить над всем, что я услышала от Акиллы и его жены…
Спустя 10 дней. Как странно, однако, что из столь незначительных, по-видимому, событий может возникнуть целая цепь важных для жизни человека следствий.
С некоторого времени, дорогая Юлия, жизнь моя совершено изменилась. Душа моя полна каких-то неведомых раньше чувств и движений. Кажется, будто и сердце бьется усиленней и кровь обращается в организме живее… И все от того только, что тебе вздумалось прислать мне свое письмо через твоего знакомого ткача!
С тех пор, как я в первый раз побывала в его доме и услышала его рассказы, мне все хотелось еще раз пойти в Коринф и расспросить подробнее у Акиллы об их религии. Случая, однако, не представлялось, а моя мать была еще и в первый раз против моего путешествия в Коринф. Но тут выручила меня старая Трофима, которую влекло в город непреодолимое желание узнать, не пришло ли, наконец, то судно, где служил ее сын. Всякими правдами и неправдами мне удалось вынудить у матери позволение снова сопровождать Трофиму, и мы отправились в Коринф.
На этот раз я уже не стала заходить в лавку, а прямо отправилась в жилище Акиллы. Я застала обоих супругов за работой. Радостное восклицание, сорвавшееся с уст Прискиллы при моем появлении, показало мне, что я для нее желанная гостья. Она встала и принялась было помогать мне снимать мое тяжелое покрывало, но мне тотчас же быстрым движением руки пришлось снова еще больше закутаться в него, так как я, к ужасу своему заметила в комнате незнакомое мне лицо мужчины.
— Не бойся, благородная Фива, — успокоила меня Прискилла, заметив мое беспокойство. — Это один из наших. Он занимается тем же ремеслом, что и мы, и недавно приехал сюда…
И затем, введя меня в небольшую боковую комнату, которой я раньше не заметила, добавила, понизив голос:
— Не обращай внимания на его невзрачный вид и бедное одеяние. Поверь мне, это столь же ученый, как и святой муж. В субботу мы застали его в нашей синагоге за оживленным спором с еврейскими книжниками. Он, на основании наших священных книг, убедительно доказывал им, что Христос есть действительно ожидаемый всеми Мессия-Избавитель. Среди спора его слушатели дошли до такого гневного возмущения, что, наверно, изгнали бы его из синагоги, если бы за назарянина не вступился Крисп, начальник синагоги, человек очень благочестивый. Он настоял на том, чтобы пришельцу позволили договорить его речь и предлагал ему явиться в синагогу и в следующую субботу. Мы с мужем, услышав его проповедь, возрадовались сердцем, так как слово его напомнило нам те речи, которые слышали мы двадцать лет тому назад в Иерусалиме и которые, так же как и речь этого пришельца, возвещали отпущение грехов через Иисуса.
— Мы подождали его у дверей синагоги, — продолжала Прескилла, — и когда он, преследуемый со всех сторон недоброжелательными взглядами, приблизился к выходу, мы подошли к нему и, отведя его в сторону, спросили, где он остановился. Но он, как оказалось, лишь накануне вечером прибыл в город и еще не знал сам, где остановиться. Мы тотчас же пригласили его остановиться у нас, на что он охотно согласился, так как догадывался по всему, что мы уже знакомы с учением назарян. Когда же он узнал, что мы принадлежали к тем трем тысячам людей, которые крещены были самими апостолами в великий день Пятидесятницы, его страдальческое лицо прояснилось, и он прославил и возблагодарил Господа за то, что Он привел его к нам. Мы привели чужеземца в наше скромное жилище, омыли ему ноги и предложили подкрепиться пищей, радуясь, что Бог дал нам возможность служить Ему в лице Его верного раба. Из разговора скоро выяснилось, что наш гость занимается тем же ремеслом, что и мы, и потому мы уговорили остаться его с нами… И вот ты видишь, мы работаем теперь вместе. В лице этого гостя Бог послал нам Свою милость. Из его уст мы могли, наконец, услышать ответы на множество вопросов, которые долгие годы тревожили наши сердца! Часто мы с мужем откладываем в сторону свою работу и напряженно внимаем одушевленным словам нашего наставника…
Так Прескилла закончила свою речь. И ты поймешь теперь, Юлия, с каким интересом и удвоенным любопытством подошла я к согнувшемуся над работой незнакомцу и приветствовала его обычным: «Радуйся!»
Из-под нависших бровей незнакомца глянули на меня подслеповатые, видимо, больные, но чрезвычайно добрые и проницательные глаза, и вслед за тем я услышала ответное приветствие: «Мир!»
Из непродолжительного знакомства моего с семьей Акиллы, я уже знала, что нашему греческому приветствию «радуйся» соответствует у евреев слово «шалом», что значит «мир». Странное, однако, ощущение охватило меня, когда я услышала от незнакомца то же слово на родном моем языке. Я почему-то вдруг ясно почувствовала, что человек, желавший мне мира, сам в полноте и изобилии обладает им; что несмотря на труды, тяжелые лишения и болезни, человек этот знает, что такое мир душевный!
Хозяйка дома познакомила нас и возобновила разговор, в котором скоро приняла участие и я. Впрочем, мы с Акиллой больше слушали, чем говорили. Его жена предлагала своему гостю вопросы, заинтересовавшие меня еще с первого моего знакомства с этой четой. Во время разговора я имела возможность внимательнее осмотреть незнакомца. Это человек невысокого роста, с перегнувшимся вперед корпусом. Густые брови почти срослись над сильно изогнутым носом; длинная борода подернулась уже сединою. Вся фигура незнакомца ясно говорила о каком-то тяжелом недуге, которым поражен этот человек.
Разумеется, многое из того, что говорили трое назарян, было для меня непонятно, но теперь, по крайней мере, я знаю, что Христос, о Котором теперь мы слышим почти всюду, есть не произведение одного мистического воображения, но на самом деле жил несколько десятков лет назад в Иудее, был осужден там Своими соотечественниками и предан смерти. Все это могло бы показаться невероятным, но Его последователи объясняют это совершенно иначе, чем я думала раньше: как именно, об этом я сообщу тебе в другой раз, когда еще послушаю проповедь замечательного гостя Акиллы.
На сегодня довольно.
Мир с тобою да будет, дорогая Юлия!
Я снова была у еврейского ткача. Не без труда удалось мне уговорить свою мать снова отпустить меня в Коринф. Разумеется, это было противно нашим обычаям, но добрая мать не могла противостоять моим слезам и снова дала мне свое позволение, с тем лишь условием, чтобы меня опять сопровождала Трофима.
Уже смеркалось, когда я переступила порог гостеприимного жилища Акиллы. Я выбрала для своей поездки именно сумерки, потому что, как ни хорошо я была закрыта покрывалом, при дневном свете трудно было бы скрыться от взоров любопытных.
При восходе луны наши рабы должны были ожидать меня с мулами у городской стены.
Я невольно смутилась, когда, войдя в комнату Акиллы, увидела, что кроме двух супругов и Павла из Тарса здесь было много других незнакомых мужчин и женщин, жадно ловивших каждое слово из уст Павла. Не снимая с лица покрывала, я уселась в сторонке, в довольно темном углу рядом с Трофимой. Через несколько минут, впрочем, я решилась снять покрывало, так как в комнате вообще было жарко. К тому же, покрывало мешало до некоторой степени слушать увлекательную речь Павла. Да на меня никто не обращал и внимания, взоры всех устремлены были на говорившего.
Большинство слушателей, как я заметила, были людьми бедными. Среди присутствовавших видны были и иудеи, и чистокровные коринфяне обоего пола, хотя женщин, как мне показалось, было больше, чем мужчин.
Ты, наверное, недоумеваешь теперь, дорогая Юлия, что заставляет меня вращаться в среде таких людей.
Не знаю, как тебе ответить на такой вопрос. Не думай, однако, что меня прельстило могучее красноречие оратора. Ничего похожего на приемы наших известных ораторов у него не было. Павел говорил слабым, часто прерывавшимся голосом. Казалось какой-то приступ болезни мучил его, и все члены его часто дрожали[116]. Речь его была без всяких ораторских прикрас, он сам даже выразился, что язык его должен резать наше привычное ухо, и если ему чем-нибудь хвалиться, то он будет хвалиться единственно лишь своей слабостью[117].
Но чего недостает оратору в даре красноречия, то изобильно восполняется духовной силой и тем таинственным непостижимым воздействием, какое имеет слово его на слушателей. Никогда я не испытывала ничего подобного. Мне казалось, что его устами говорит Дух великого Божества, избравшего этого невзрачного и слабого человека орудием для Своих откровений смертным.
В коротких словах он повторял слушателям то, что я уже раньше знала из рассказов еврейской четы: об Иисусе из Назарета, обетованном Мессии еврейского народа, о чудесном рождении Его в маленьком иудейском городке, названия которого я теперь и не упомню, о Его жизни и чудесах, совершенных Им в три года Его общественной деятельности. Он исцелял больных и прокаженных, возвращал зрение слепым, восставлял хромых и, будучи Сам бедным, чудесно питал неимущих. Вокруг Себя Он собрал учеников и последователей и в Своем учении возвещал им волю Божию. Начальниками Своего народа Он обвинен был в богохульстве и политических замыслах, представлен на суд римскому наместнику и осужден им на мучительную позорную казнь.
В простых рассказах Павла Тарсийского было что-то до такой степени трогательное, что сердце невольно проникалось горячим сочувствием не столько к оратору, — его личность всегда оставалась как бы в стороне где-то, — а к Тому Иисусу, жизнь Которого он так правдиво изображал и веровать в Которого убеждал всех «кротостью и снисхождением Христовым»[118].
В рассказах его не было ничего невероятного. Павел Тарсийский старался показать в своей речи, что Этот Иисус или Христос есть Сын единого живого Бога, Творец неба и земли… Что ко Кресту Он пригвожден был не как жертва коварства и злобы Его соотечественников, а по Своему всеблагому хотению для примирения и иудеев, и эллинов с разгневанным Божеством. Он есть поистине Мессия, давнее чаяние иудеев.
Когда Павел говорил это, среди слушателей поднялся шум. Евреи вполголоса заговорили о каком-то богохульстве, а греки издавали презрительные восклицания. Что касается меня лично, то признаюсь, и мне на миг показалось нелепой выдумкой, будто Сын единого всемогущего Бога должен был умереть смертью злодея, хотя этим Он мог осчастливить весь мир. Нет, такое унижение не достойно Божества!
Мне очень хотелось послушать, что скажет Павел против сыпавшихся на него со всех сторон возражений, но к своему ужасу я заметила, что луна уже взошла, и рабы давно, следовательно, поджидали меня у городской стены.
Я растолкала няню, все время дремавшую под мирный говор оратора, и поспешно отправилась домой.
* * *
Снова протекло несколько недель, дорогая Юлия, а я ни строчки не написала тебе. Собственно, мне не о чем было и сообщать тебе, так как быть в городе у Акиллы не приходилось, а это теперь единственное событие, нарушающее несколько однообразное течение моей жизни.
После того, как я рассказала матери обо всем слышанном мною, она еще больше стала противиться моему желанию снова встретить своих новых друзей; по ее мнению, искать мудрости там мне нечего, а из возраста, в котором довольствуются умными сказками, я давно выросла. Я сама не раз старалась убедить себя в том же, подвергала строгому суду рассудка все изречения назарянина и пыталась совсем выбросить их из головы, но ничего не помогало. Я чувствовала чем дальше, тем больше возраставшее желание высказать кому-нибудь свои основательные, как мне казалось, сомнения в евангельской истине и, главное, выслушать, что сказал бы в ответ мне Павел из Тарса.
Наконец, мне удалось выбраться в Коринф. За последнее время там многое уже изменилось. Павел продолжал проповедовать новое учение по субботам — в синагоге, а вечером в первый день недельный — в доме Акиллы. Слушатели из эллинов, особенно их низших классов общества, с каждым днем все прибывали. Известный Стефан через крещение вступил со всем семейством своим в общество христиан[119]. Начальник синагоги Крисп также принят Павлом со всем домом в новую секту[120].
С другой стороны, соотечественники Павла возмущаются против него; в последнюю субботу в синагоге дело чуть не дошло до открытого гонения. Злоба евреев достигла высшей своей степени, и они с простыми криками и бранью устремились было на говорившего. Павел отряс прах от ног своих и, призвав всех присутствовавших в свидетели, заявил, что он не повинен в крови своих соотечественников и отныне идет к язычникам[121].
С этой субботы дальнейшая деятельность апостола назарян сосредоточилась в доме некоего Юста, который отдал под субботние собрания новой секты самую большую комнату в своем доме, гораздо более поместительную, чем жилище Акиллы.
Так как я пришла как раз в субботу, то Прискилла предложила провести меня в дом Юста. Здесь я снова заметила, что среди слушателей Павла было гораздо больше женщин, чем мужчин.
Когда мы вошли, Павел только что начал свою речь — голосом глухим, часто прерывающимся, пока, наконец, в порыве вдохновения он совершенно, казалось, не ушел в раскрываемые им истины. Он сидел сначала прямо против слушателей, заслонив одной рукой глаза от света. Но в середине беседы он опустил руку и, подняв голову, заговорил увереннее и громче. Подле него стояли его друзья и обычные спутники в путешествиях: один уже средних лет человек, с густой бородою и крепкого телосложения, другой — довольно красивый юноша с худым лицом, скромно стоявший за своим старшим товарищем. Глаза юноши опущены были вниз, пока, весь отдавшись все возрастающему одушевлению проповедника, он не впился в него взором и во все время уже не спускал с него глаз.
Вскоре, впрочем, и я никого и ничего не видела и не слышала, кроме Павла. Он говорил сегодня с небывалым одушевлением. Предметом его беседы опять была крестная смерть Иисуса из Назарета, ибо, как он сам выразился, — он «рассудил быть у нас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого»[122]. На этот раз, впрочем, центром его рассуждений являлась не безвинная смерть Сына Божия, а чудесное воскресение Его из мертвых.
И опять я слушала его речь с невыразимым восторгом: три дня в недрах земли, восстание от мертвых, сорокадневное затем пребывание плотски на земле, явление многим сотням глаз — это ли не чудо! Но это еще не все: за воскресением следует вознесение на небо в том же плотском образе! Все это столь же невероятно, по-видимому, как и те многочисленные истории о наших богах, с которыми знакомила наши юные фантазии суеверная Трофима.
— И во имя Этого Иисуса из Назарета, — продолжал Павел, возвышая голос, — возвещаем всем вам, верующим в Него, что все умершие живы будут, «ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»[123].
При последних словах Павла заметно усилилось возбуждение слушателей; послышался шепот — но уже не противоречия, а невольного изумления.
— Кто в силах освободить нас от смерти, — раздался вдруг чей-то голос, — Тот должен был бы и не допускать людей до нее! Почему воскресший Иисус ныне не творит чудес, почему ныне не воскрешает Он мертвых, не исцеляет больных?
— Он — всемогущ! — горячо возразил апостол.— Принесите мне сюда ваших больных. Вы не верите, пока не увидите знамений и чудес.
И в то время, как некоторые из слушателей двинулись к выходу, он продолжал: «Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости, мы же проповедуем Христа распятого, для Иудеев — соблазн, а для Еллинов — безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, — Христа, Божию силу и Божию премудрость»[124].
Несколько времени он продолжал беседу все на ту же тему, но вот за дверью послышались тяжелые шаги людей, несших какую-то тяжесть. В комнату вошли четыре человека с носилками на руках, на которых лежал расслабленный нищий Никандр, уже тридцать лет потерявший здоровье.
Беспомощно, почти испуганно смотрел несчастный на незнакомца, у ног которого его теперь положили. В собрании воцарилась немая тишина. Мне казалось, что сердце у меня разрывается от волнения.
Павел поднялся и сделал знак своим спутникам. Все трое возложили на голову больного свои руки. Апостол поднял сначала глаза свои к небу, затем устремил их на больного и громким голосом воскликнул: «Во имя Иисуса Назарянина — встань и ходи!»
И вот, расслабленный поднялся, не без робости сделал сначала несколько неуверенных шагов, но, заметив, что он может теперь уже крепко держаться на ногах, он обошел всю комнату — и вдруг принялся прыгать и скакать, со слезами на глазах прославляя и благодаря Бога.
В порыве благодарности он хотел броситься к ногам Павла, но апостол остановил его и, усмирив начавшееся в комнате волнение, распустил собрание, еще раз напомнив, что он пришел сюда не с тем, чтобы творить чудеса, чтобы проповедовать Христа — «Божию силу и Божию премудрость».
Написано в Кенхреяхе, в 12-й год царствования Клавдия.
Глава IV. Счастье Юлии
Юлия — Фиве здравия!
Немало прошло уже времени с тех пор, как я написала тебе, дорогая подруга. Время это было так важно для меня по своим следствиям, что я именно потому, быть может, и не могла так долго приступить к письму.
Теперь мне очень хочется раскрыть пред тобой всю свою душу! Хотелось бы положить голову на плечо к тебе, как, бывало, делала я во дни нашей юности, и рассказать тебе все-все… Мне прямо невозможным кажется выразить в холодном письме все, чем переполнена теперь моя душа!
Но довольно жалоб: они не помогут, а боги ко мне столь же бесчувственны, как если бы они были из камня! Да, боги! Во многих отношениях я стала смотреть на них иначе, чем в те дни, когда старая Трофима в сумерки начинала повествовать нам о их великих деяниях, и мы с благоговейным страхом учились произносить их имена! Впрочем, об этом в другой раз!
В настоящем письме я намерена сообщить тебе то, что, наверно, порадует твое расположенное ко мне сердце: несколько дней тому назад я стала невестой своего двоюродного брата Филолога! О, если бы ты, милая сестра, была со мною и если бы я сама могла познакомить тебя с моим женихом! Лучше его, я уверена, ты и представить не можешь! На целую голову он выше других, а его благородные черты носят на себе отпечаток еще более благородной души. Он храбр и в то же время скромен, полон мужеской отваги и в то же время мягкости: он никому не может сделать зла или несправедливости! За каждого обиженного он готов заступиться, каждому слабому и беспомощному готов помочь, насколько позволяет ему его положение в преторианской гвардии.
Была ли какая-нибудь девушка счастливее меня в выборе супруга? Мне теперь все кажется, будто жизнь наша — широкое цветуще поле; по полю идет дорожка, обсаженная по бокам благоухающими растениями, а по ней идем рука об руку мы — я и Филолог, а дорожке этой и конца не видно!.. Если же судьбе угодно будет, чтобы она когда-нибудь потерялась внезапно в серой мгле будущего, я буду молить богов об одном, чтобы и смерть не разлучала нас с Филологом, так как жизнь без него мне будет тяжелее смерти!
Все нам благоприятствует; отец мой становится уже стар и ничего так не желает, как вверить меня надежной защите. Тетушка Персида и раньше была для меня матерью, а теперь она с большой радостью называет меня дочерью. Я уверена вполне, что описание моего счастья не вызовет у тебя и тени зависти. Знаю также, что первый твой брак заключен был скорее по рассудочным соображениям, и теперь желаю тебе только одного: чтобы боги послали тебе взамен утраченного мимолетного счастья — счастье глубокое и полное, каким наслаждаюсь теперь я.
Напиши же мне, дорогая подруга, как твои дела… Неужели из блестящих эллинский юношей нет никого, кто был бы достоин любви моей дорогой сестры Фивы? Наверно, уже есть такой, который носил бы благородную фамилию, который на ристалищах получал первые призы, а на играх — оливковый венок. Кого-нибудь другого я не могла бы и представить мужем и господином моей красавицы Фивы!
Но пора окончить письмо. Кланяется тебе Филолог, еще незнакомый тебе, но уже известный. Будь здорова!
Написано из Рима в 12-й год царствования императора Клавдия.
Глава V. Одиночество
Фива — Юлии здоровья и счастья!
Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я в последний раз писала тебе, дорогая сестра, и наконец-то я получила твое письмо с радостной для меня вестью, что ты нашла в своем Филологе сердце, преданное тебе, и надежную защиту на жизненном пути!
Прежде чем эти строки дойдут до тебя, вы будете, надеюсь, счастливой супружеской четой.
Мое житье-бытье за все это время совсем другого рода, чем твое! Немного спустя после отправки тебе последнего письма, захворала моя мать, и мне пришлось несколько недель подряд проводить дни и ночи у ее постели до тех пор, пока очи ее не смежились навеки и она не покинула меня сиротой и одинокой.
Сколько я выстрадала за это время, дорогая Юлия, ты и представить себе не можешь! Я потеряла самое дорогое, что я имела в этом мире! Во время болезни матери я обращалась к врачам, мудрость и искусство которых всем известны. Но все было тщетно! В большинстве случаев они ограничивались какими-то амулетами и отсылали нас к предсказателям и звездочетам, в которых особенно верит моя Трофима. Она утверждала даже за несомненную истину, что их заговорами меня спасли когда-то он неминуемой смерти. Я давала богатые подарки жрецам, чтобы только они почаще приносили жертвы богам, в особенности — Изиде[125], Серапису[126], Сабазию[127] (Дионису). Я и сама беспрестанно призывала всех этих богов, но они остались глухи к моим мольбам, потому, быть может, что в душе я давно уже потеряла к ним всякое доверие. С тех пор, как я стала посещать собрания христиан, моя прежняя слепая вера в богов окончательно разрушилась, хотя место старых богов еще ничем не занято в моей душе.
Все, что слышала я в мастерской Акиллы и в доме Юста, произвело на меня сильное впечатление, однако и до сих пор я никак не могу понять, как это Бог мог настолько унизиться, чтобы в бедности и презрении прожить на земле и умереть в конце всего смертью злодея. К такому Богу, по-моему, трудно чувствовать страх.
Тем не менее, вопреки всем своим доводам, я не могу еще забыть исцеления Никандра, и часто, бывало, сидя у скорбного одра матери, я всем сердцем рвалась к христианам в Коринфе с надеждой увидеть Павла из Тарса и услышать от него могучие слова: «Во имя Иисуса Назарянина!» И вот однажды, когда моей дорогой больной становилось все хуже и хуже, я осмелилась предложить ей отпустить меня к христианам за Павлом Тарсийским. К моему удивлению и прискорбию, больная напрягла свои последние силы, резко прервала меня и строго-настрого запретила мне рассказывать ей подобные глупые басни и упоминать о «каком-то проходимце-колдуне». Через несколько недель после этого она рассталась с жизнью.
И вот, осталась я теперь одна — вдова и сирота в мире! Тяжело живется при таких условиях!
Брожу я теперь одиноко по большим светлым комнатам нашего дома, вдыхаю в себя аромат лимонных деревьев, проникающий из сада, прислушиваюсь к однообразному плеску фонтана, и жаль становится саму себя, тяжелым ненужным гнетом кажется мне мое богатство и поневоле начинаешь завидовать нищим, принужденным тесниться в жалких лачугах. Они могут разделить свое горе и нужду с такими же, как и они сами, бедняками. Даже старая Трофима, единственное существо, с которым я могу еще говорить о прошлом, стала совсем слаба от старости и уже с трудом может слышать меня.
Да, нерадостная жизнь женщины, подобной моей!
У меня нет недостатка ни в деньгах, ни в имуществе, ни в других внешних удобствах жизни, но свободного выхода в свет, борьбы и труда, что выпадает на долю мужчин, мне не дано, и я глубоко завидую мужчинам!
Ты скажешь мне, что я теперь могу, не отрываясь, изучать философов и поэтов, восхищаться чудным богатством природы, бродить по сосновым лесам наших холмов, посещать кипарисовые рощи или спускаться к берегу моря и следить за отдаленными парусами судов… Все это мне известно, и часто я сама спрашивала себя, может ли быть на свете страна, красивее нашей вечно-зеленеющей Эллады?
И однако же, поверь, дорогая Юлия, — все это вместе не может утешить печального больного сердца человека и поднять его упавший дух! Душа человека жаждет чего-то лучшего, более прочного.
Не знаю, стоит ли мне отсылать тебе это письмо. Его содержание вовсе не будет соответствовать тому чувству довольства и счастья, которое ты теперь испытываешь.
Впрочем, еще несколько слов! Благодарю от души тебя за то, что, сознавая собственное счастье, ты не забываешь пожелать его и своей далекой подруге… Только нет, Юлия, я не верю, чтобы боги послали мне такое счастье. Я останусь одинокой. Не думай, впрочем, что меня удерживает воспоминание о прошлом: ведь ты знаешь, что я была полудитя, выйдя замуж, и в таком же возрасте овдовела. Многие после смерти моего супруга делали мне предложения, но ни один не мог завоевать моего сердца. Все эти легкомысленные юноши с женскими локонами — мужчины, предающиеся пьянству или разврату, — сделали из нашей прекрасной столицы какой-то вертеп разврата, и душа всякой честной женщина должна не иначе как с отвращением смотреть на наших мужчин.
Ну, довольно! Будь здорова и счастлива!
Написано из Кенфреи, в 13-й год царствования императора Клавдия.
Глава VI. Фива — христианка
Фива — Юлии благоденствия!
Всего лишь два месяца прошло со времени моего последнего письма, а как много перемен произошло в моей жизни в столь короткий срок! Да, дорогая сестра, живется мне теперь совершенно иначе — лучше, чем прежде: не тяготит меня теперь тоска одиночества, не чувствую я больше своего сиротства, ибо со мною теперь всегда Тот, Кто один лишь в силах поддержать человека в скорби.
Чтобы объяснить тебе происшедшую со мной перемену, мне необходимо будет вернуться несколько назад.
В своем последнем письме к тебе я уже говорила о своих сомнениях и колебаниях относительно наших богов, говорила также и о том, что не могла сразу убедить себя в истинности того, что слышала от Акиллы и Прискиллы, потом от Павла Тарсийского. В моей натуре было что-то такое, что восставало против позора крестного. Мне казалось, что я не смогла бы преклониться пред крестом, что всякий, принимающий его, должен непременно следовать в жизни тем же путем, каким шел Тот, Чье имя связано у христиан с крестом.
Между тем внутреннее мое беспокойство все усиливалось, и, наконец, совершенно не отдавая себе отчета, я снова направилась в дом Юста, выбрав как раз тот день, когда «братья» (так называют христиане друг друга) собраны были вместе. Горница набита была почти битком народом. Я протиснулась в дальний угол, где никто не мог узнать меня, так как здесь было почти совершенно темно. Павел, по-видимому, только что начал свою речь. И представь, дорогая Юлия, мне показалось вдруг, что он проник в мою душу, знает все мои сомнения и колебания, знает всю мою душевную муку и отчаяние.
— Я знаю, мудрые эллины, — говорил он, — что вы нередко ссылаетесь на то, что невозможно де Распятому быть Царем нашим, невозможно умершему смертью злодея, властвовать над нами… И, тем не менее, говорю вам: именно Крестом Своим стяжал Он Свое Царство! Он унизился и был для всех рабом, потому и Бог Его превознес. Не слушайте же больше сомнений своего неверующего сердца, которое говорит вам: «Как могут воскреснуть мертвецы наши и в каком виде придут они?» — А я говорю вам, что я сам видел Его по воскресении, хотя я и наименьший из апостолов[128], и кто из вас верует, тому собственный дух его засвидетельствует, что слова мои истинны…
Пока апостол продолжал свою речь, в моем сердце возгорелось сильнейшее желание получить это внутреннее свидетельство Духа. И когда он стал говорить, что всякому желающему воспринять Духа Божия, нужно соединиться с ним и другими братьями в молитве, я вместе со всеми присутствующими пала на колени.
Теперь я уже не знаю, в каких выражениях молился апостол, помню только, что сам он молился так, как будто он ясно видел пред собою Того, Кому возносились молитвы. Когда он закончил, начали произносить молитвы и другие из братьев. Между прочим, и два друга апостола Павла, прибывшие из Македонии, — Сила и Тимофей.
И во время этой общей молитвы я почувствовала вдруг, точно кто вознес в моем сердце светильник, и я увидела все неверие и ожесточение, всю гордость и своенравие, которые обуяли меня раньше и не допускали принятия благодати. Я вдруг почувствовала невольный ужас и отвращение к себе и в мыслях своих уже решила, что мне нельзя совсем исправиться, так как я слишком долго противилась.
В это мгновение снова услышала я голос апостола.
— «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я — первый!»[129]
С невольным умилением я повторила за апостолом его слова. Удивительная перемена произошла внезапно во мне: не было и следа тяжелых колебаний и сомнений, улеглось беспокойство и неприязненное чувство к себе самой, благодатный мир коснулся души моей, и я почувствовала в себе пробуждение новой жизни, нового духа…
Не могу и описать тебе искренней радости моих добрых друзей Акиллы и Прискиллы, когда они услышали, что я уверовала в Иисуса распятого, Спасителя мира!
Немедленно же были сделаны все приготовления к моему крещению. Через несколько дней оно было совершено надо мной в доме Юста, в присутствии единомыслящих братьев наших, из которых были Крисп, прежде начальник синагоги, со всем своим домом, Стефан со своими домашними, первыми в Ахайе[130] принявшими через проповедь Павла благодать во Христе Иисусе[131]; Эраст, городской казнохранитель; Кай, один из почетных горожан; известный Тертий, близко сошедшийся с апостолом и оказывающий ему иногда услугу в качестве писца[132], и многие другие.
Таинство совершал не сам[133] Павел, а его помощник Сила, также облеченный властью священнодействовать и учить верующих.
То был блаженный миг! Я живо чувствовала присутствие среди верующих Воскресшего, а когда братья и сестры окружили меня как члена своей общины и начали поздравлять меня, я перестала вдруг чувствовать себя вдовицей и осиротевшей… У меня явилось сознание, что я принадлежу теперь к большой счастливой семье, глава которой — сам Господь Иисус, пока еще не видимый, но пришествие Которого мы все ожидаем.
На следующий первый день недельный, рано утром то же самое малое стадо верующих собрались на прежнее место, чтобы участвовать в «агапе», вечере любви, на которой соединялись богатые и бедные и которую заканчивал поцелуй мира.
Не в пример обычным вечерним собраниям верующих, двери на это раз были заперты из страха перед иудеями, которые отчасти из праздного любопытства, отчасти из ненависти могли произвести беспорядок в собрании, тем более, что их синагога находилась совсем недалеко от дома Юста.
Вслед за вечерей было совершено святейшее таинство преломления хлеба. Таинство это установлено было самим Господом Иисусом Христом во время последней прощальной вечери Его с учениками и должно было служить им орудием таинственного общения их с Ним и между собой.
Во всех общинах верующих Павел совершал его так же, как совершали его апостолы в Иерусалиме — по примеру Самого Господа и по тому указанию, которое он принял от Христа[134].
Все мы сели за стол, на котором ничего не было, кроме хлеба и вина. Затем апостол, подняв очи горе и помолившись, произнес: «Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал: “Примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание”. Также и чашу после вечери, и сказал: “Cия чаша есть новый завет, в Моей Крови, сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе Он придет»[135].
С этими словами Апостол преломил хлеб, вкусил от него и стал раздавать присутствующим; также и чашу. Торжественная тишина воцарилась при совершении этого святейшего таинства.
— «Господь близко!» — раздался в тишине голос Павла, и все присутствующие слились в единодушном хвалебном гимне, как это было и при установлении таинства Господом. В нем выражалась уверенность в скором пришествии Господа и слышалась радостная надежда на Учителя Его верных братьев.
После гимна было произнесено еще несколько кратких молитв или изречений благодарственного и хвалебного характера. Поистине, такие минуты могут давать предвкушение благ будущей жизни!..
Как внутренняя моя душевная жизнь, так и жизнь внешняя приняли теперь совершенно иной облик, дорогая Юлия! Ты сама отлично знаешь, в какой отчужденности должны были мы, женщины, влачить свое существование, будучи отрезаны от всего, что может дать жизнь более или менее ценное, осужденные проводить дни свои в бездеятельности или пустых забавах.
Правда, некоторые из нас, как я и ты, Юлия, умели облегчать свой жребий тем, что принимались за изучение наук или изящных рукоделий, но истинного покоя душевного здесь нельзя было найти. Мы всегда чувствовали, Юлия, хоть, может, и не ясно, что душа имеет высшие запросы и может удовлетвориться только вечным!
Вскоре после моего крещения я начала посещать несчастных, нищих и больных, живших поблизости, и к своему удивлению и радости нашла среди них таких, которые осведомлены были уже о новом учении и о прощении грехов. Мне удалось склонить апостола и остальных братьев собираться по временам у меня. И когда собирается под мою кровлю наша юная община, стекаются со всех сторон и мои соседи, а также нищие и убогие, которых я посещаю, — в надежде услышать благовестие о Христе Иисусе. Некоторые из таких случайных слушателей, ближе ознакомившись с христианским учением, вступили сами в нашу среду, — каковы, например, Хлоя, искренно ко мне расположенная и ее домашние[136], затем известный Фортунат и Ахаик[137]…

Снова мне пришлось прервать на время свое письмо. До сих пор не представилось еще случая переслать тебе его, а мне так хотелось бы, чтобы ты как можно скорее узнала, как счастлива теперь твоя подруга! И как хотелось бы мне еще, дорогая Юлия, привлечь и тебя вместе с твоим Филологом к этому счастью!
Вся природа представляется мне теперь в ином виде, так как в ней беспрестанно просвечивает для меня любовь Того, Кто Единородного Сына Своего не пощадил нас ради. Свет солнечный кажется мне чем-то новым, неким отражением лица Его, хотя апостол, сам видевший свет божественный, говорит, что он гораздо ярче света солнечного[138], так что от сияния его он ослеп, и с тех пор с трудом видит дневной свет.
«Но что из этого, — говорит он, — раз я не видел Иисуса Христа, Господа нашего?[139] И если бы даже я совсем не мог ничего видеть, что из этого? “Мы ходим верою, а не видением”[140]. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же — лицом к лицу!»
Все чаще и чаще прихожу я теперь к апостолу Христову и упиваюсь его дивными ободряющими и обновляющими душу словами.
С недавнего времени, нужно тебе сказать, на меня возложена такая священная обязанность, которая поглощает теперь всю мою жизнь и доставляет мне неисчерпаемый источник счастья и радостей духовных.
Как ты знаешь, я наследовала от своих родителей довольно порядочное состояние и теперь была чрезвычайно рада служить апостолу своими земными благами.
Он сам учит, что необходимо оказывать помощь тем, через кого мы приобщались духовным благам[141]. Однако же, несмотря ни на какие мои просьбы, он решительно отказался принять от меня денежную поддержку. Он сказал мне, что хоть в некоторых местах своего служения ему и приходилось иногда пользоваться подаяниями своих пасомых, но что теперь он твердо решился от жителей Ахайи и, в особенности, Коринфе, этого центра лихоимства и несчастной торговли, не принимать ни малейшей помощи. Он не желает никому давать повода обвинять его в том, что он искал от кого-нибудь корысти[142] и поставлять таким образом «преграды благовествованию Христову»[143].
«Но если ты желаешь служить Господу Иисусу в лице Его братии, дочь моя, — продолжал он, — то прими под свое попечение слабых и сирых между ними и всегда помни слова Христовы: “Блаженнее давать, нежели принимать!”»[144]
Так передал мне апостол попечение о бедных и больных в общине верующих в Кенхрее».
Ты помнишь сама, наверно, что при жизни покойной моей матушки редкий нищий уходил от дверей нашего дома без подаяния. Но какая глубокая разница, если бы ты знала, подаяние милостыни из естественного чувства сострадания к несчастным и милостыней христианской, являющейся добровольным служением слабым членам общины во имя ее Господа и Главы, от Которого каждый подающий надеется услышать голос:
— Вы Мне это сделали!
Здесь, в Кенхрее, так же как и в других местах, проповедь о вочеловечившемся Сыне Божием нашла себе отклик преимущественно среди бедного угнетенного класса населения, так что у меня теперь всегда много работы. Не раз приходилось мне проводить ночи у одра болящих и говорить им о Том, Кто победил для нас смерть…
Днем я часто собираю вокруг себя детей и говорю им о том, что и их Христос призывает в Свое великое царство. Да, дорогая Юлия, теперь я уже не одинока, как прежде. Теперь у меня есть ближние и сестры, с которыми я должна делиться теми благами духовными и земными, которые дал мне Господь!
Так относятся друг к другу все верующие. Кто имеет богатство, тот старается поделиться им с неимущими, и никто не почитает чего бы то ни было своим, но старается служить им ближнему, а в лице ближнего — Самому Господу.
Часто приходят к нам из города святой апостол со своими спутниками — строгим и суровым Силой и слабым и добрым Тимофеем, и тогда собирается у меня в верхней половине дома наша небольшая кенхрейская община, чтобы услышать слово жизни и участвовать в преломлении хлеба.
Тимофей недавно говорил мне, что почти во всех христианских общинах установился обычай совершать таинство преломления хлеба в высоких горницах.
По-видимому, основанием такого обычая послужило то, что Господь Иисус Христос пред Своими страданиями совершил последнюю вечерю с учениками Своими в горнице прохладной и возвышенной. Также и по вознесении Его на небо те сто двадцать жен и мужей, которые находились с Ним в особенно близком общении, сошлись тоже в высокой горнице и приняли там дары Духа Святого. Мне тоже кажется, что подобные горницы представляют самое подходящее место для собрания братьев. Здесь они как будто постоянно на виду, постоянно готовы к пришествию Господа Иисуса. Долго ли нам придется ожидать Господа?
Слушая мощное слово апостола о воскресении Господа Иисуса и ощущая таинственное присутствие Духа Божия среди верующих, мне нередко казалось, что настал час, и Сам Господь придет к нам и возьмет нас к Себе.
Но брат Сила, с которым я говорила уже об этом, держится того мнения, что время пришествия Господа еще не настало и что должно еще многое исполниться до Его пришествия. Он твердо верит, между прочим, в то, что Евангелие Христово должно распространиться малопомалу между язычниками, достигнет, следовательно, и Рима и сделает и тебя причастницей благодати…
Ежедневно я молюсь за вас, мои дорогие, а недавно еще во время общественной молитвы, когда Апостол предложил присутствующим назвать имена тех, за которых возносилась молитва, и я, не задумываясь, произнесла ваши имена, он посмотрел на меня проницательным взором и ласково произнес:
— Утешься дочь моя! Господь услышал тебя. Твои друзья также призваны в Его вечное царство. Да будет Ему слава во веки веков!
О, как бы я хотела назвать тебя, дорогая Юлия, своей сестрой во Христе!..
Сейчас я узнала, что один из братий наших – Епенет[145], купец из Коринфа, отправляется завтра на корабль в Италию. Ему я и поручу доставить это письмо.
Послано из Кенхреи чрез Епенета в лето от Рождества Христова 53-е.
Глава VII. Обращение Юлии
Юлия – Фиве
Благодать Христова да будет с нами!
Представь, дорогая моя Фива, какая произошла перемена со мной!
Порадуйся за меня: и я теперь уверовала в Христа Иисуса — распятого и воскресшего! Правда, вера моя еще не окрепла, она подобна еще слабой искорке, но я надеюсь, что милостивый Господь направит меня на путь истинный. Ведь ты будешь молиться Ему о моем просвещении, не правда ли?
«Но как же, — спросишь ты меня, конечно, — все это произошло?»
Виновником этой перемены, дорогая Фива, оказался все тот же, наш общий друг теперь, — Акила.
Еще в бытность свою в Риме, он распространил здесь учение Назарянина, как сам воспринял его в Иерусалиме из уст апостола Петра. Сначала он приобрел себе последователей и единомышленников среди своих соплеменников, но вскоре же, имея возможность, благодаря своему ремеслу, сталкиваться с людьми различных состояний и национальностей, он простер свою проповедь даже до дворца кесаря и там склонил в пользу нового учения несколько человек; правда, большею частью из лиц невысокого положения, даже рабов[146]. К нашему счастью, среди слушателей Акилы во дворце кесаря оказался и мой Филолог. Так как он не скрывает от меня ни одной своей мысли, то он с самого же начала нашей совместной жизни стал преподавать мне все, что слышал от Акилы. Благодаря этому, я могла шаг за шагом, часто путем колебаний и сомнений, следовать за раскрытием нового учения, пока, наконец, не пришла к окончательному убеждению, что Иисус, Пророк из Назарета, — действительно божественного происхождения и достоин всякого поклонения.
Мы должны, разумеется, скрывать свои новые убеждения как глубочайшую тайну, так как, если бы они как-нибудь обнаружились и дошли до слуха цезаря, вся будущность Филолога была бы несомненно испорчена.
Я думаю, впрочем, что Бог, знающий тайные помышления наши, знает, почему мы принуждены скрывать свою веру в Него.
Тетушка Персида и сестра Клавдия точно так же обратилась к учению Назарянина. Только мой отец ничего не подозревает из того, что с нами теперь происходит. Перемена наших убеждений могла-бы немало огорчить его старость, и потому нам волей-неволей приходится скрывать свое достояние от всех.
Во всем, дорогая Фива, проявляется Промысел Божий. Письмо твое передал нам брат наш во Христе Епенет и, благодаря ему, многое, что до сих пор казалось в учении Акилы непонятным, сделалось для нас ясным и вразумительным. Лишь при его помощи мы могли понять в твоем письме упоминание о Духе Святом, о Котором мы раньше не слышали[147]. С прибытием же Епенета, начали и у нас также составляться собрания верных — в доме известного Олимпана[148].
Филолог неопустительно посещает эти собрания, если только не препятствуют этому его служебные обязанности. Тетушка Персида довольно часто берет меня с собой к Олимпану, настолько часто, насколько только позволяет осторожность, чтобы не возбудить каких-нибудь подозрений у моего отца.
Приветствуем тебя, дорогая сестра, как общники во Христе.
Писано из Рима в 53 год по Р. Х.
Глава VIII. Начало скорбей
Фива — Юлии
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми нами! Поистине, дорогая Юлия, Господь исполняет все, что мы просим во имя Его! Теснее стал теперь союз наш, чем прежде, а брак ваш получил освящение вечное. Возблагодарим же Господа за Его милость к нам!
Я вполне понимаю, дорогие мои, скорбь вашего сердца и так же вполне убеждена, что Господь Иисус подаст вам крепость и силу исповедать святое имя Его пред миром даже тогда, когда настанут дни скорбей и мучений, которые уже предвидит апостол. Водимый, без сомнения, Духом Божиим, он все чаще и чаще увещевает нас не стыдиться креста Христова, но исповедовать его открыто пред всеми. Вместе с этим он убеждает нас облечься во всеоружие Божие, дабы возможно было нам противостоять всем козням врагов наших.
Сам апостол принужден уже выдерживать жестокую борьбу, — очевидно, начало тех бедствий, о которых Господь Иисус говорит ученикам Своим. Ненависть иудеев против нового учения не имеет границ. Апостолу тяжело видеть, что его братья по плоти не только отвергают от себя благодать Христову, но даже препятствуют распространению ее среди язычников. Он не раз уже говорил, что наполняют они этим меру грехов своих и что приближается на них гнев до конца[149]. Апостол имел уже намерение оставить наш город, но Господь, являвшийся уже ему у Дамаска, в видении ночью сказал ему: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в этом городе»[150].
Апостол остался у нас ради назидания нашего, но ненадолго. Козни иудеев продолжались. Воспользовавшись тем, что новый прокуратор наш Марк Аннэй Новат, носящий еще имя Галлиона, оказался человеком очень приветливым и скромным, иудеи схватили апостоля Павла и привели его на суд к проконсулу, обвиняя его в непочтении к закону Моисееву. Но к счастью, рассчет иудеев оказался неверным: снисходительность не всегда бывает слабоволием. Галлион наотрез отказался судить Павла, и дело кончилось в заключение тем, что толпа язычников бросилась на иудеев и в присутствии же проконсула сильно избила начальника синагоги Сосфена*.
Апостол Павел, между тем, по истечении некоторого времени решил оставить наш город. Уже три года ему не приходилось бывать в Иерусалиме, и теперь он горел желанием провести там будущий праздник Пятидесятницы. Вместе с ним отправились и Акила с супругой.
Итак, мы теперь точно осиротели… Что-то будет с нашим малым стадом без его руководителя и наставника? Да сохранит нас Господь и укрепит!
Написано из Кенхреи в 55 г. Р. Х.
Глава IX. Римские новости
Юлия — Фиве
Недавно и нам, дорогая Фива, пришлось убедиться самым осязательным образом в тленности всего существующего и непрочности здешнего земного счастья. После непродолжительной болезни умер мой отец…
Когда он лежал уже на смертном одре и, без сомнения, сам сознавал бессилие наших прежних богов, я осторожно завела с ним разговор о Христе… Раньше я слышала от него не раз презрительные отзывы о назарянах, теперь же, вследствие ли общей болезненной слабости, он готов был ухватиться за соломинку, он не произнес ни одного укоризненного слова и жадно вслушивался в мои рассказы о Распятом. Умирая, он несколько раз произнес вслух имя Иисуса.
Быть может, это было начало того дела, которое Господь наш довершит уже в вечности.
Неисповедимы пути Божии! Приверженцев нового учения стало у нас в Риме так много, что приходится теперь собираться в трех различных пунктах города, чтобы стечением черезчур многолюдной толпы не привлечь внимания язычников. Так собираемся мы в домах Наркисса, Аристовула и Нерея, поучая друг друга и все еще имея сильную нужду в руководителе и наставнике…
Филолог думает, что мы живем накануне тяжелых времен. Он убежден, что императору уже известно быстрое распространение в городе учения столь ненавистной ему секты; теперь он не обращает на это, по-видимому, никакого внимания, но это для того, чтобы позднее со всей жестокостью обрушиться на назарян. Несмотря, впрочем, на тревожные слухи, мы спокойны и добры, а Филолог твердо решил, когда настанет нужное время открыто исповедать свою веру в гонимого Христа.
Живем мы по-прежнему вдали от света, хотя Филолог по своему положению в преторианской гвардии и мог бы иметь доступ ко двору. Дело в том, дорогая Фива, что влияние сурового Бурра[151] и мудрого Сенеки[152] на нашего нового императора Нерона[153] с каждым днем слабеет, и дворец мало-помалу превращается в грязную клоаку всевозможных пороков и преступлений.
Примеру императора подражают и высшие классы общества. Вот почему так мало распространяется среди них возвышенное учение Христа! Бедные, порабощенные нуждою, низшие классы общества оказываются к нему восприимчивее!
* * *
Мое письмо пролежало у меня несколько дней, дорогая Фива, и, благодаря этому, я могу сообщить тебе теперь приятную новость: возвратились в Рим Акила и Прискилла, первые святители у нас учения Христа.
Небольшое наследство, доставшееся им в Риме по смерти одного из их друзей, заставило их, после довольно продолжительного пребывания в Ефесе и Филиппах, прибыть снова в Рим, где они, как можно надеяться, поживут еще долго.
Как много я услышала от них о тебе, дорогая Фива, о твоей преданности Христу, служении святым, твоей благотворительности и самоотвержении. Во всем этом я снова узнавала подругу своей юности и понимала, что, скрывавшиеся раньше, точно цветочные лепестки в почке, твои добрые природные наклонности под теплыми лучами Евангелия достигли теперь окончательного развития.
О, как хочется мне теперь увидеть тебя, дорогая, и обменяться с тобой своими мыслями и впечатлениями!
Недавно я спросила Прискиллу, не противоречит ли духу учения Христова то, что я чувствую столь сильную привязанность и любовь к Филологу и к тебе, моя хорошая подруга? Ответ Прискиллы глубоко взволновал и вместе обрадовал меня.
— Подумай, Юлия! — вдохновенно говорила мне она. — Неужели Господь Иисус захочет сделать чад Своих беднее и несчастнее чад мира сего? Наоборот, разве не будет Он укреплять и возвышать те чувства и склонности их, которые не противоречат Его Святой воле? А что, кроме любви ко Христу, у нас самое дорогое, чем мы могли бы сами обладать и дарить другим, как не любовь к тем, с которыми Он Сам соединил нас? Неужели до сих пор не нашлось еще человека, которого бы ты могла полюбить, дорогая Фива, и найти счастье во взаимной любви, освященной христианским браком?
Писано из Рима в 56-й г. от Р. Х.

Глава Х. Плевелы среди пшеницы
Фива — Юлии
Благодать Господа да будет с нами!
Тяжелые испытания приходится переносить теперь нашей малой общине, дорогая Юлия, и все дальше отходит вопрос о личном счастье, какого ты мне желаешь в последнем своем письме. Долговременное отсутствие апостола имело самые печальные последствия.
Община наша, состоящая в большинстве из людей низших слоев общества, оставшись без опоры и без пастыря своего, не имеет силы противиться искушениям, приходящим от язычников. Некоторые из членов, крестившись во имя Христа Иисуса, в своей частной жизни мало чем отличаются от язычников. Иные, конечно, мучаются все же от угрызения совести и стараются скрывать свои поступки, но другие открыто продолжают жить во грехах и пороках язычества.
Вследствие этого более строгие, верные члены общины отделились от общения с грешниками, и образовалось, таким образом, несколько общин или, вернее, партий. Дело еще более осложнилось, когда из Иерусалима прибыли некоторые христиане из иудеев с рекомендательными письмами от апостола Петра. Вместо простой, безыскусственной проповеди о Распятом, они начали в среде коринфян расшатывать авторитет апостола Павла, указывая на его непочтение к закону Моисееву.

Пришли из Иерусалима и другие христиане, которые не хотели прикрываться и именем Петра, а прямо называли себя «Христовыми» и отрицали законность брака.
В разгар партийной борьбы появился в Коринфе некто Аполлос, иудей из Александрии, образованный и ученый человек, начитанный в священных книгах и обладавший даром красноречия. На наших избалованных эллинов его удивительное красноречие, разумеется, произвело главнейшее впечатление, и на ниве Христовой, засеянной Павлом, появился еще больший беспорядок.
Партийная вражда среди нас достигла, между тем, крайней своей степени. Наши до сих пор мирные собрания стали теперь ареной жестоких споров и словопрений. Каждая партия непременно хотела перекричать другую, и в общем гаме принимали немалое участие даже женщины. Наконец, благомыслящие члены нашей общины решились положить предел всем ненормальным явлениям, обнаружившимся в последнее время. Сообща написали они послание апостолу, изображая в нем со всей искренностью и правдивостью наши беспорядки.
Письмо было вручено трем почтенным членам общины из «дома Хлои»: Стефану, Фортунату и Ахаику, с поручением отправиться в Ефес и побудить апостола как можно скорее прийти в Коринф и личным воздействием восстановить нарушенный мир церкви.
Долго ждали мы прибытия апостола. Наконец, вернулись назад наши посланные, но без апостола. От него они привезли довольно длинное письмо. Из него мы узнали, что раньше зимы апостол не может быть у нас, но вместо него придет к нам, быть может, Тимофей.
При всем желании я не могу тебе передать подробно содержание Апостольского Послания. Замечу только, что оно написано, действительно, кровью сердца. Чувствуется в нем глубокая скорбь и разочарование в том, что совершил апостол для той Общины, которой он в течение почти двух лет возвещал слово жизни, для которой он напрягал все свои силы и которую непрестанно имел в молитвенном воспоминании.
Глубоко соболезную о том, что коринфяне так скоро могли достигнуть такого падения, он не щадит их и смело выставляет их грехи, хотя и заметно, что свои обличения писал апостол «от великой скорби и стесненного сердца со многими слезами»…[154]
Послание апостола произвело на всех неотразимое впечатление. Искреннее раскаяние вызвало оно у многих, даже закоренелых преступников. Вскоре прибыл к нам в Коринф на короткий срок один из сотрудников апостола — Тит, обращенный во Христову веру критский уроженец. В Македонии он должен был встретиться с апостолом и сообщить ему результат первого Апостольского Послания. Получив от Тита утешительные для своего любящего сердца известия, апостол написал нам второе письмо, где наряду со строгими обличениями и укоризнами, слышится уже голос нежной отеческой любви.
Через несколько недель мы надеемся снова увидеть среди нашей общины великого апостола.
Приветствуй от меня, дорогая Юлия, твоего Филолога, также Акилу и Прискиллу. Мир с вами.
Написано из Кенхреи в 57 г. по Р. Х.
Глава XI. Болезнь Юлии
Юлия – Фиве
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с нами!
Твое последнее письмо, дорогая Фива, которое мы с таким нетерпением ожидали, получено мною еще очень недавно, тем не менее я спешу уже ответить тебе на него, хотя наперед предупреждаю, что письмо мое не будет так же подробно и обстоятельно, как твое. Дело в том, дорогая подруга, что я еще недавно начала подниматься с одра болезни. У меня была сильная горячка — болезнь довольно распространенная у нас. Когда я слегла в постель, Филолог взял отпуск и повез меня из города в деревню, где чистый воздух и уединенная жизнь лучше всяких лекарств могли восстановить мое здоровье.
Несмотря, однако, на благоприятные условия, болезнь моя затянулась на долгое время, и теперь-то, на одре болезни, я сама испытала, дорогая Юлия, как бесконечна благость Господа нашего Иисуса Христа, как утешает Он и помогает, и как спокойно можно смотреть в лицо смерти, сознавая, что она есть лишь незначительный переход от жизни земной к жизни, лучшей на Небесах!
Тяжело мне было только видеть горе моего дорогого Филолога, и я была искренне рада за него, когда состояние моего здоровья заметно поправилось.
Тетушка Персида не отходила от меня во все время моей болезни. Часто мы разговаривали с ней о тебе, дорогая Фива. Теперь я больше, чем когда-либо, всем сердцем жажду увидеть тебя, моя дорогая сестра во Христе. Каким бы драгоценным кладом была ты для всей нашей общины. Тебя бы везде в Риме приняли с распростертыми объятиями, так как ты со своей стороны могла бы многое сделать для общего нашего назидания в вере.
Если бы растояние, отделяющие нас, не было слишком велико и путь не так опасен, я бы умолила тебя приехать к нам в Рим и совершить, таким образом, новый подвиг любви к своим близким во Христе.
Но довольно. Голова моя еще слишком слаба, а рука сильно дрожит. Господь с тобой, дорогая!
Письмо из Рима в 57 г. по Р. Х.
Глава XII. Посланница апостола языков
Фива — Юлии
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа!
Печальное известие о твоей болезни, дорогая подруга, сильно меня обеспокоило. Бог даст, скоро поправишься и снова полна будешь довольства и радости.
Ты пишешь, что желала бы видеть меня в Риме, милая Юлия. Я не меньше тебя стремлюсь, пожалуй, к вам в Рим и всегда молю Господа, чтобы Он направил туда путь мой. Я говорила о своем желании даже апостолу. Мне почему-то кажется, все-таки, что мы с тобой еще встретимся, дорогая Юлия!
Я уже писала тебе, дорогая сестра, что апостол обещал снова прибыть к нам в Коринф. Еще задолго до его приезда у нас стали собирать все вести, касавшиеся апостола. Наконец, после опасного по причине осенних бурь, плавания прибыло в нашу Кенхрейскую гавань судно из Фессалоники, на котором ехал апостол Павел.
В этот раз он прибыл не один. Его сопровождало несколько лиц, из которых многие не были еще нам знакомы. Это были посланные от разных общин сборщики подаяний на нужды бедной Иерусалимской общины. Очевидцы Христа — апостолы, с которыми Павел встретился в Иерусалиме, вменили ему в обязанность подобного рода собирание милостыни[155].
Кроме известного уже нам Тимофея, в числе спутников апостола были Тихик из Ефеса, принадлежавший раньше к школе знаменитого Тиранна[156] и обращенный в христианство через благовестие Павла[157]. Затем Гаий[158] из Дервии[159], один из тех «начатков», обращенных апостолом в первое его миссионерское путешествие, которых он называет своим «венцом и радостью».
Из Фессалоники прибыли с апостолом трое посланных: Иасон, в доме которого жил Павел и который принял на себя ответственность за своего гостя пред начальниками города[160], Аристарх и Секунд — оба люди бедные, но привязанные к апостолу всей душой.
Из Вереи[161] был прислан Сосипатр, кажется, один из дальних родственников Павла, и некоторые другие.
В Кенхрее втретили апостола ученики его Тит, Лука и Трофим, незадолго до этого прибывшие в Коринф.
Из нашей общины были здесь Юст, Сосфен, Ераст-казнохранитель, Тертий, Кварт, Стефан, Фортунат, Ахаик и многие другие.
Я снова имела счастье, дорогая Юлия, видеть под своей кровлей апостола и его верных сподвижников. Переночевав в моем доме, апостол на следующий же день отправился в Коринф, где его принял к себе в дом Гаий, один из немногих, крещенных самим Павлом[162]. Дом Гаия всего в нескольких шагах от дома Юста, где ежедневно собирается Коринфская церковь для совершения вечери.
Можешь себе представить, дорогая сестра, что мы чувствовали, увидев снова пред собой согбенную, болезненную, но проникнутую священным величием фигуру апостола! К благоговейному восторгу и радости примешивался у некоторых тайный страх.
Когда пламенный взор апостола впервые упал на зачинщиков беспорядков или упорных грешников, когда раздались первые звуки его обличительной речи, невольный трепет объял виновных.
Ни единым словом апостол не упомянул о тех оскорблениях и обидах, которые нанесли ему некоторые из неразумных членов нашей общины в его отсутствие.
Он ратовал не за свое личное дело. Он бичевал взаимные раздоры, пустые словопрения, неблагодарность, отступление от веры. Он указывал, что за все это коринфяне тяжко повинны пред Богом, имя Которого они столь легкомысленно оскорбили насмешкой и бесчестием.
Вслед за этим, пользуясь своим авторитетом, он начал разрешать все недоумения и сомнительные вопросы, послужившие поводом к возникшим среди нас беспорядкам, и восстановил прежнее значение братских вечерей любви. Всем, по-видимому, было тяжело сознавать, что некоторые неразумные поступки членов Коринфской церкви могли вызвать горькое и мучительное разочарование в апостоле, которому мы все обязаны были столь многим!
Совсем иным характером отличались частные собрания верующих в доме гостеприимного Гайя. Здесь, в тесном кругу самых близких к апостолу лиц, я провела несколько незабвенных часов.
О, если бы ты знала, дорогая сестра моя, как одушевляется на этих собраниях Павел и каким пророческим вдохновением проникнуты его речи! Он убеждает нас всех следовать прощальным заветам Господа нашего и распространять Евангелие любви Его «даже до последних земли». Живое молитвенное настроение не прерывается ни на минуту в этой небольшой, скромно обставленной комнате. Так и кажется, будто над всеми нами с несказанной любовью склоняется Господь наш и повторяет слова своего обетования: «Вот, Я с вами во все дни до скончания века!»[163]
Выпадают для нашего малого, счастливого теперь стада, и другие часы духовной радости. Пользуясь сравнительно спокойным временем, апостол пишет иногда свои послания отдаленным общинам верующих.
Его постепенно слабеющее зрение редко позволяет ему писать собственноручно, и потому он пользуется услугами переписчика из нашей же братии. Впрочем, теперь, несмотря на то, что вокруг апостола постоянно находятся люди, почитающие за счастье услужить ему, он пользуется каждым светлым днем, чтобы докончить собственноручно начатое им Послание к Галатам.
Большими и неуклюжими буквами покрывался свиток папируса, но смысл нисколько не терялся.
На некоторое время я было отложила письмо к тебе, дорогая Юлия, но на днях я нашла средство переслать его тебе и теперь спешу докончить его дрожащею от радости рукою. Да, от радости! Представь, дорогая моя, Господь услышал наши молитвы: я еду к тебе в Рим!
Постараюсь в немногих словах рассказать тебе, как это все случилось. Несколько дней тому назад Павел получил от нашего общего друга Акилы письмо, в котором тот высказывает пламенное желание римских христиан видеть у себя апостола, и со своей стороны умоляет его поспешить с приездом, указывая на то, что столь быстро разросшаяся община верующих не видела еще ни одного апостола и что в самом учении веры есть пункты, развитие и уяснение которых является крайне необходимым при современном положении паствы Христовой.
Апостол Павел и раньше высказывал надежду побывать у вас, а от вас перейти и в Испанию. Но теперь он должен отправиться с посланными от различных церквей сборщиками милостыни в Иерусалим, чтобы вручить весь сбор оставшимся там апостолам. Апостол Павел решился поэтому еще из Коринфа написать вам послание, которое могло бы уничтожить разноречивые слухи о его учении, разрешить всякого рода недоумения и представить более ясно его взгляды касательно отношений между иудеями и христианами.
Зимние месяцы, между тем, близятся к концу.
С наступлением весны апостол решил отправиться в Иерусалим. Мы пользуемся поэтому каждым случаем, чтобы получить из уст великого посланника Христова наставление, увещание, утешение…
В один из последних вечеров апостол подошел ко мне и, посмотрев на меня своим обычным глубоким взглядом, сказал:
— Акила, брат наш, пишет мне, что подруга твоя Юлия еще слаба. Ты могла бы служить и ей, и всей Церкви Римской. Заповедь Господа нашего: «Идите по всему миру!» — равно относится ко всем нам: и братьям, и сестрам во Христе. Я хочу послать тебя в Рим с письмом. Ты согласна?
Все присутствовавшие слушали речь апостола и с напряженным вниманием ожидали теперь моего ответа.
— Я раба Господня, — едва сдерживая радостное восклицание, ответила я. — Если Он посылает меня, пойду!
И затем, когда я вместе с присутствовавшими склонила колени для молитвы, Павел возложил мне на голову свои руки, благословил меня и, склонившись вместе с братьями, соединился с нами в общей молитве…
До скорого свидания, дорогая подруга!
Писано из Кенхреи в 58 г. по Р. Х.
Глава XIII. Апостол Павел в Риме
Юлия – Фиве
Радуйся о Господе!
Как незаметно прошли два с половиной года твоей жизни в Риме, дорогая сестра! А теперь – снова разлука, снова разделяют нас друг от друга огромные расстояния! Мне думается, дорогая моя, в этой жизни трудно нам будет видеться с тобой, а еще труднее кажется расставаться. Но ведь это ненадолго! Мы скоро оставим земное свое странствие и переселимся в наше настоящее отечество. Там не будет ни разлуки, ни слез!
Во всяком случае, если тебя нет уже среди нас, остались у нас драгоценные плоды твоего пребывания в нашей общине. Ты помнишь, дорогая, с какой радостью приняли все мы тебя, посланницу апостола языков; как все верующие собирались почти ежедневно и по несколько раз перечитывали боговдохновенное послание Павла. Многое из того, что раньше казалось нам непонятным, ты пояснила в своих простых, но содержательных беседах.
О себе я уж и не говорю. Ты, точно мать, ухаживала за мной, и твоим заботам я обязана, конечно, многим.
Мы все молились на общих собраниях о благополучном исходе твоего трудного путешествия. Но теперь я спокойна: ты снова в своей тихой Кенхрее, и снова, наверное, служишь своими неустанными трудами и имуществом нашим братьям и сестрам во Христе. Меня часто берет раздумье, дорогая Фива, — полезный ли я член нашей общины? Помогать своим имуществом бедным и сирым ведь недостаточно же. Необходимо положить на пользу братии свой труд, свое личное дело. И я от всей души хотела бы хотя немного походить на тебя, но — дух бодр, а плоть моя немощна…

* * *
Несколько недель спустя.
Случайные обстоятельства помешали мне докончить вовремя письмо тебе, дорогая Фива, а за это время случились у нас в Риме новости, которые будут далеко не безынтересны тебе и всем братиям нашим в Коринфе.
Во-первых, среди нас находится теперь апостол Павел! Мне, да может быть и многим другим, кажется это каким-то сновидением или, вернее, исполнением давнего сна, давнего горячего желания и неустанных молитв. Правда, то, что привело апостола в Рим, далеко не отвечало нашим желаниям и надеждам. Но Тот, Кто исполнил все по молитве и прошению нашему, знает, почему случилось это так, а не иначе!
Апостолу не придется уже выполнять свой первоначальный план относительно поездки в Испанию, потому что он прибыл в Рим не как свободный человек, а как узник, которому придется предстать вскоре пред судилищем Цесаря.
Ты поймешь, конечно, Фива, какие разнообразные чувства волновали меня, когда я в первый раз увидела пред собой согбенного худощавого апостола, прикованного цепью к одному из стражников. А когда он на мой поклон ответил приветствием: «Благодать с тобою и мир Господа нашего Иисуса Христа!», — я совершенно не знала, радоваться мне прибытию великого апостола или скорбеть о его унижении…
Но тебе интересно, конечно, узнать ближайшие подробности его путешествия и прибытия.
Как всем уже известно, Павел, по обвинению иудеев в Иерусалиме, был схвачен римской стражей и очень долгое время должен был в неволе ожидать следствия по его делу. Так как апостол потребовал суда кесарева, то Юлий, начальник августинской когорты[164], посадил Павла и других порученных ему узников на торговое судно, державшее путь к мизийскому городу Адрамиту[165]. Был конец августа, время опасное для плавания. Верные друзья апостола — Лука и Аристарх — решили сопровождать его. Лука получил свободный доступ на судно в качестве врача, а на проезд Аристарха собраны были необходимые средства братией в Филиппах.
Путешествие началось благополучно.
В Сидон апостол со своими спутниками, с разрешения Юлия, сходили на берег и были с почетом встречены братией[166]. Но затем ветер переменился и дальнейшее путешествие превратилось в непрерывный ряд затруднений, опасных и несчастных случаев. Принужденные противными ветрами объехать Кипр, они пристали наконец в Мирах, главном городе Ликии. Здесь они нашли большое судно с пшеницей, шедшее из Александрии; на нем и решили продолжать дальнейший путь.
Так как ветер по-прежнему был неблагоприятен для курса, судно продвигалось вперед крайне медленно, пока наконец не достигло острова Крита. Пробравшись с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошие Пристани[167], близ которого был город Ласея[168].
Так как был уже конец сентября, а ветер и не думал изменять направления, апостол Павел, вдохновенный Духом Божиим, стал советовать Юлию оставить мысль о дальнейшем плавании. Но сотник более доверял кормчему и хозяину корабля, нежели словам Павла. К тому же пристань неудобна была для зимовки, вследствие чего многие давали совет отправиться оттуда к критской пристани Финик[169], лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать.
Вскоре вслед за этим подул соблазнительный южный ветерок, паруса надулись, и судно отправилось. Но едва последние вершины береговых хребтов Крита скрылись из глаз путников, на судно налетел внезапно северный вихрь и, вслед за тем, четырнадцать дней и ночей судно должно было бороться с разбушевавшимися стихиями, а экипаж его с минуты на минуту ожидал себе смерти.
И вот ночью, среди непроницаемой тьмы и всеобщей паники, апостолу явился Ангел Господень и повелел ему возвестить всем бывшим на корабле, что ни одна душа из них не погибнет, а погибнет только корабль. Весть эта ободрила сердца отчаявшихся спутников апостола.
Действительно, вскоре же после этого судно село на мель, а весь экипаж с помощью досок и других обломков судна благополучно достиг берега.
Это было в один из ненастных дней ноября месяца. Земля, на которую высадились потерпевшие крушение, оказалась пустынным берегом острова Мелита[170].
Обитатели острова оказали им немалую помощь во все время их пребывания на острове. Апостол же с первого уже дня стал пользоваться среди мелитян особым почетом и уважением за те чудеса и исцеления, которые он совершил среди них.
Когда, наконец, наступила весна, Юлий подыскал другое судно, тоже из Александрии, называвшееся «Кастор и Поллукс», и посадил на него всех узников и их стражей. После благополучного плавания, с остановками в Сиракузах и Региуме, судно прибыло, наконец, в прелестную гавань Путеолы[171]. К великой своей радости, Павел нашел здесь маленькую общину христиан и, уступая настойчивым мольбам братии, выпросил у Юлия разрешения сойти вместе со спутниками на берег, где и был встречен общиной с величайшим почетом.
После недельной стоянки в Путеолах судно направилось в Рим. Между тем Филолог узнал от префекта преторианской гвардии о скором прибытии Юлия вместе с узниками, и хотя по долгу службы сам он не мог отлучиться из города, тем не менее он постарался тотчас же распространить эту весть среди христиан. Вследствие этого многие из братии решились выйти навстречу апостолу, одни — до Аппиевой Площади[172], другие — до Трех Гостиниц[173].
Апостола глубоко тронула эта встреча.
Прежде всего Юлий должен был передать узников префекту преторианцев Афранию Бурру. Этот честный и гуманнейший человек, выслушав рассказ Юлия о Павле и прочитав донесение о нем наместника Иудеи, склонился в его сторону и постарался, насколько можно было, облегчить положение узника.
В первые три дня Павел получил разрешение остановиться, где ему будет угодно, с тем лишь условием, чтобы при нем находился постоянно один из стражей. По истечении же трех дней он получил официальное известие о том, что ему позволено жить на частной квартире и свободно обращаться в кругу своих друзей. Единственное пока неудобство состоит в том, что апостол всегда обязан ходить в сопровождении воина, так как его правая рука скована цепью с левой рукой стража. Неудобство это смягчается, впрочем, тем, что Филологу удалось посредством своих связей в преторианской гвардии добиться того, что к апостолу стали назначать очень хороших и добрых воинов.
Господь с тобою, дорогая!
Писано из Рима в 61 г. по Р. Х.
Глава XIV. Господь близко!
Юлия – Фиве
Господь мира да будет с нами!
Ты желаешь, дорогая сестра, услышать от меня поподробнее о жизни у нас великого апостола Христова.
Как я уже тебе писала, апостолу Павлу разрешено было жить на частной квартире, неподалеку от преторианских казарм. Наверно, ему разрешено было бы обходиться и без постоянного стража, но, к несчастью, Бурр, префект преторианской гвардии, который так благоволил к Павлу, вскоре внезапно умер (причем, в смерти его народная молва настойчиво обвиняет самого императора), а при новом префекте нечего было и думать о таком снисхождении.
Тем не менее, дорогая Фива, тяжелый крест, который обязан был нести апостол Христов, послужил много к распространению среди язычников света евангельского. Постоянные стражи апостола, суровые воины, принужденные по необходимости слушать каждое слово, исходившее из уст апостола, мало-помалу проникались удивлением и благоговением к высокому, по своей святости и чистоте, учению апостольскому, и уже не раз бывали случаи, что эти воины просили крещения и затем сами становились ревностными распространителями Евангелия среди своих родных и знакомых. Так возрастало понемногу число верующих в нашей церкви, хотя большинство принявших христианство и происходило из людей простых и незнатных.
Христиане из иудеев сначала как будто сторонились апостола Павла, но затем и они усердно начали посещать общие собрания и слушать его проповеди о спасении во Христе Иисусе.
Все мы ежедневно сходились к великому узнику и жадно прислушивались к каждому его слову. Как много услышали мы от него о том, что так долго тревожило нас и нередко служило нам камнем преткновения, камнем соблазна! Слово его с неотразимой силой действовало на сердца наши, но еще сильнее и могущественнее действовал на нас его личный пример.
Надежда на скорое освобождение укрепляла апостола в его деятельности, и когда до него долетали слухи о беспорядках в других церквах, когда он узнавал, что его соотечественники и соплеменники становились злейшими его врагами за то, что он перенес проповедь Евангелия и к язычникам, — он оставался по-прежнему непоколебим в вере, тверд в любви, постоянен в терпении.
А если порою возникало в нем пламенное желание отрешиться от земных скорбей и быть со Христом, он преодолевал в себе это желание, сознавая, что пребывание его во плоти еще необходимо для нас, для нашего успеха и радости в вере[174].
Много ободряет и утешает апостола то еще, что с ним неотлучно находятся два его верных сотрудника — Лука и Аристарх, которые, будучи совершенно свободными, переносят, тем не менее, те же неудобства, что и апостол[175]. Позднее присоединились к соузникам Павла Тихик из Ефеса и Епафродит, один из первых членов Филиппийской общины, через которого братия из Филипп прислала апостолу свои дары, столь тронувшие сердце узника-старца.
Епафродит прибыл к апостолу осенью и целую зиму ревностно помогал ему в распространении Евангелия в нашем огромном городе. И вот, вследствие ли излишних трудов или от нездорового климата, он захворал довольно опасной и частой у нас лихорадкой, так что нам некоторое время приходилось опасаться за его жизнь. Опасались мы смертного исхода не потому, конечно, что сожалели о нем: наоборот, мы все знаем, что для христианина нет высшего счастья, как соединится со Христом. Нет, мы опасались его смерти потому, что жатва Христова так велика, а работников на ней, подобных Епафродиту, слишком мало. Каждый раз поэтому на общих собраниях мы усердно просили Господа о даровании здравия Епафродиту, и Бог услышал наши молитвы.
Здоровье Епафродита однако же так пошатнулось, что Лука признал необходимым отправить его на родину, как ни тяжело ему было покидать апостола и свой великий подвиг у нас.
Некоторое время пробыли у нас в Риме Епафпас из Колосс и Димас и своим усердием много послужили общине. Пришел к нам также и Марк, племянник Варнавы, бывшего сотрудника апостола Павла. Этот самый Марк, как тебе, быть может, уже известно, выказал когда-то малодушие и послужил причиной разделения между Варнавой и Павлом. Но теперь из прежнего юноши выработался стойкий мужчина, ревностный служитель Евангелия, так что Павел снова принял его к себе и возвратил ему все свое доверие.
В числе наиболее близких апостолу лиц, разделивших с ним все невзгоды, находились Юст и Тимофей. Для апостола Тимофей стал любимым сыном. Их связывает трогательная обоюдная любовь. Поистине, во всех странах земных, где распространено только будет Евангелие Христово, имена Павла и Тимофея останутся нераздельными, как пример высокой любви человеческой!
Присутствием своего любимого сына апостол воспользовался для изготовления нескольких посланий в дальние христианские общины. Некоторые из посланий апостола читали и мы. Несомненно, впрочем, что они станут скоро известны повсюду, так как апостол Павел заповедал по прочтении послания в одной церкви передавать его в другую[176].
Послания эти, драгоценный плод узничества апостола, распространят таким образом свое влияние на все народы земли: в этом я убеждена.
Всех нас долго занимала, между прочим, одна история, которая для других показалась бы совершенно нестоящей никакого внимания.
У Филимона, богатого гражданина города Колосс, обращенного в христианство самим апостолом, был раб Онисим. Филимон обращался с Онисимом чрезвычайно хорошо и во всем ему доверял. Онисим же отплатил своему господину самой черной неблагодарностью: ограбил ли он его, или сделал ему какую-нибудь другую неприятность, неизвестно. Во всяком случае, он нанес ему значительный материальный ущерб. Убежавши от Филимона, Онисим несколько лет блуждал по различным городам, пока, наконец, не прибыл в наш Рим. Здесь он столкнулся с самыми негодными членами общества и стал вести преступную, греховную жизнь.
Но Господь не пожелал смерти грешника. Когда-то, в бытность еще со своим господином в Ефесе, Онисиму пришлось слушать там проповедь апостола Павла. И вот теперь, утопая в разврате и пороках, он вдруг вспомнил об этой проповеди, и отголосок живой вечной истины с неудержимой силой заставил его искать случай увидеть апостола. Вместе с несколькими из более благонамеренных своих товарищей, которых ему удалось уговорить, Онисим стал посещать собрания верующих и вскоре обращен был проповедью апостола в христианство. Из прежнего бродяги и негодяя благодать Божия сделала истинного христианина, истинное чадо Божие.
Апостол принял близко к сердцу его судьбу, и так как новообращенный горел желанием во что бы то ни стало загладить свой прежний проступок пред своим хозяином, то апостол и написал Филимону послание, где просил его принять Онисима, как прежнего слугу, и обращаться с ним, как с братом по вере в Господа Иисуса.
В том же послании Павел поручает Филимону найти ему квартиру, так как он надеется вскоре прибыть в Колоссы[177].
Нужно тебе сказать, дорогая Фива, что апостол задолго еще предвидел ясно свое освобождение. Так, действительно, и случилось. Так как в обвинительных пунктах против него не оказалось ничего существенного, то его оправдали и предоставили ему полную свободу.
Мы должны, таким образом, расстаться с апостолом. Уходит он от нас, действительно, глубоким «старцем», как он сам называл себя в Послании[178]. Со своим согбенным корпусом и сильно поседевшими волосами он выглядел гораздо старее своих шестидесяти лет. Прощаясь с ним, мы все чувствовали, что здесь, на земле, нам не придется его уже видеть, и утешали себя мыслью, что вскоре все мы собраны будем воедино.
Апостолу, как и всем нам, стало, в конце концов, очевидно, что для нас, христиан, вскоре должны наступить тяжелые дни испытания и скорбей. Император обращает уже на нас большее внимание. Говорят, он замышляет покончить с нами одним ударом. Если это верно, то для нас наступают трудные времена, так как император не остановится ни перед какими средствами.
Филолог давно уже подумывает оставить свою службу, выставляя то на вид, что я еще не окрепла после болезни и нуждаюсь в деревенской жизни. Впрочем, мы оба не хотим предупреждать намерений божественных. Как угодно Господу, так и да будет с нами! Если же начнутся гонения, то нам необходимо, мне думается, остаться здесь, среди братий наших.
Прощай, моя дорогая сестра, моя милая Фива!
Мне кажется почему-то, что это будет мое последнее письмо к тебе, что Господь, так или иначе, призовет меня к Себе… Но «кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?.. Я уверена, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем!»[179].
Это мое последнее завещание…
Господь близко!
Писано из Рима в 64-й год по Р. Х.
Глава XV. Грустные вести
Акила, брат, — Фиве, сестре о Господе
Блаженны страждущие за Господа!
Мы должны благодарить и прославлять господа, дорогая сестра, что Он подал верным рабам Своим крепость и силу перенести все до конца.
Ему держава и поклонение во веки веков!
Грустные вести приходится сообщать мне тебе своей непривычной рукой, сестра Фива!
Несколько недель спустя по освобождении апостола, в двадцать девятый день июля месяца этого года, страшное бедствие обрушилось над Римом и в особенности над нашей христианской общиной. Огромный пожар, начавшийся с цирка и свирепствовавший целых шесть дней и семь ночей, превратил в пепел почти две трети города, так что жители, лишенные крова, принуждены были искать убежища в усыпальницах и пещерах для погребения мертвых. Так как пожар начался одновременно в разных частях города, то, естественно, явилось у всех подозрение в поджоге. Так на самом деле и было.
Император, это чудовище в образе человека, сам, говорят, дал приказание поджечь город. Доставив себе случай полюбоваться огромным пожаром своей столицы и воспеть его в плохих стихах, он всю вину вздумал свалить на христиан, распространив в легкомысленной римской черни слух, что город подожгли христиане из ненависти к людям.
И вот за первым злодеянием Нерона последовало второе. Мое перо не в силах описать тебе все его жестокости. Подстрекаемая агентами императора чернь набрасывалась на христиан, как звери на добычу; казалось, Господь ослепил очи их. Кому из христиан удавалось избегнуть грубой расправы толпы, тому приходилось в мрачных, переполненных народом тюрьмах ожидать своей горькой участи, причем род казни избирался тем же зверем — императором. Смотря по его настроению, христиан целыми толпами распинали на крестах, бросали на растерзание диким зверям в цирке или обливали их смолой и, для потехи императора и его гостей, поджигали их в увеселительных садах «золотого домика».
Последний род казни нравится императору больше всего: он называет зажженные трупы христиан своими факелами и во время таких зловещих иллюминаций очень любит кататься по аллеям, в роскошной одежде, с венком из роз на голове.
Общие друзья наши, Филолог и Юлия, не попали в число первых жертв неистовств Нерона. Положение Филолога в преторианской гвардии некоторое время отклоняло от него всякие подозрения; так что, если бы они держались в это тревожное время несколько подальше от христиан, они легко могли бы спастись. Но, несмотря на все наши просьбы и увещания, ничто не могло их заставить хотя бы сделать вид, что они не принадлежат стаду Христову; наоборот, воспользовавшись первым же удобным случаем, они открыто выступили с исповеданием своей веры.
Маленькое колебание заметно было разве лишь у Филолога. Вечером того дня, когда обрушилась на христиан открытая ярость императора, мы были собраны все в его уцелевшем от пожара доме. И вот Филолог решился пойти и узнать об участи некоторых из братий наших. Все мы начали просить его пощадить себя и жену. И на мгновение в душе его поднялась страшная борьба. Но Юлия, при одном взгляде на которую можно было сразу же почувствовать, что она не жилица на этом свете, прекратила внутреннюю борьбу мужа.
«Где поставил нас Господь, там и должны мы стоять и не страшиться высказывать доброе исповедание Его! — произнесла она твердым голосом, обращаясь к Филологу. — В жизни ли, в смерти ли, мы — Его чада!».
Филолог молча обнял ее в последний раз, а мы все пали на колени и слились вместе в одной горячей молитве Господу…
На следующий же день Филолог и Юля были схвачены и, несмотря на почетную должность офицера преторианской гвардии, супруги должны были предстать на суд порочного префекта Тигеллина[180], мало уступавшего в своей утонченной жестокости своему царственному хозяину и покровителю Нерону.
Случайно в зале суда стоял на страже один из тех воинов, которых приковывали к апостолу Павлу, и который, как оказалось, был уже тайным христианином. От него то я и узнал о подробностях суда над Филологом.
С пылавшими огнем священного мужества и одушевления глазами, Филолог смело выступил пред кровожадным тираном, признал себя открыто христианином и высказал здесь же сожаление о том, что он не исповедал свою веру раньше, боясь лишиться места в преторианской гвардии.
Юлия так же решительно высказала свои убеждения и обратилась к Богу с молитвой: простить их прежнее малодушие и милостиво принять настоящее их исповедание. При виде ее светлого, почти детского личика, в толпе, жаждущей кровавых зрелищ, шевельнулось чувство невольного сострадания к невинной жертве.
Но это был лишь один миг: участь христиан решена была заранее, — их приговорили к сожжению через несколько же дней.
Так как Филолог числился офицером в личной гвардии императора, то Нерон не удовольствовался простым факелом и распорядился, чтобы муж и жена сгорели вместе на одном и том же костре.
Суд над христианами собирал целые толпы праздных зевак, жадных до всякого рода зрелищ, а когда приговор над ними приводился в исполнение, все языческое население Рима стекалось на зрелище казни, и страшно становилось смотреть на эту бешеную, волнующуюся толпу, с жадным любопытством перебегавшую от одного живого костра к другому и упивавшуюся созерцанием последней агонии умиравших.
А еще ужаснее было смотреть на увенчанного цветами царя-убийцу, который с целой толпой своих развратных приближенных сидел на кровле своего дворца и, глядя на костры, бряцал что-то на лире, заглушаемой человеческими стонами и воплями!
Я сам отважился в день казни вмешаться в народную толпу. Это давало мне, с одной стороны, возможность присутствовать при блаженной кончине мучеников, с другой стороны, оставаясь в своем углу, я навлек бы на себя еще большие подозрения. Я видел, как вели на казнь осужденных христиан. Наш Филолог был в числе первых. Шлем и оружие были у него, конечно, отобраны. Но его твердая поступь, открытое чело, обрамленное густыми темными кудрями, горевшие огнем священного одушевления глаза, придавали ему скорее вид героя-победителя, чем осужденного на позорную казнь преступника. Руки у него связаны были за спиной, и потому он не мог поддерживать, как прежде, шедшую возле него жену… Да в этом не было и надобности: всегда слабая Юлия выглядела сегодня бодрой, как никогда. Ее чудные темные волосы, точно покрывало, спускались ей на плечи, а на бледном личике светилось спокойное сознание победы…
По недосмотру или из сострадания руки ее не были связаны, и вот, когда муж и жена стояли уже на костре и первые языки пламени лизали их ноги, Юлия подняла свои маленькие белые руки к небу, затем обвила ими шею своего Филолога и, задыхаясь от дыма, склонила к нему на грудь свою голову. А пламя поднималось тем временем все выше и выше…
При виде этих двух, ни в чем неповинных существ, стих на минуту гул многотысячной толпы, и из средины костра послышался торжествующий голос: «Богу благодарение, даровавшего нам победу Иисусом Христом, Господом нашим!»
Густые клубы дыма совершенно закрыли мучеников от взоров толпы. А когда, утолив любопытство, толпа отхлынула от костра, я был подхвачен ею, точно живым потоком, и лишь с большими усилиями, и не без опасности для жизни, мне удалось, наконец, свернуть в одну из боковых улиц города и добраться до своего временного пристанища, где Прискилла с некоторыми из братий наших проводила время в молитве.
В тот же вечер нам удалось с ней выбраться из Рима и, днем скрываясь в лесах и пещерах, а ночью с всевозможными затруднениями продолжая подвигаться вперед, мы прибыли, наконец, в Неаполь, потеряв в Риме все свое состояние. Братия встретила нас здесь очень радушно, но так как, по слухам, преследования скоро начнутся и в Неаполе, мы воспользуемся первым же удобным случаем и отправимся в Ахайю.
Да, поистине, — «Богу благодарение, даровавшему нам победу Иисусом Христом, Господом нашим!»
Писано из Неаполя в 64 г. по Р. Х.
Глава XVI. Смерть святого апостола Павла
Тимофей, раб Иисуса Христа, — возлюбленной о Господе Фиве и братиям из дома ея
Благодать и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа!
Как много я слышал уже о твоей любви и благотворении святым, и, зная твою любовь к общему учителю нашему, великому апостолу, я счел необходимым известить тебя, а чрез тебя и всю братию нашу в Коринфе о всем, что случилось у нас в последнее время.
Как тебе уже известно, может быть, апостол, ввиду тревожных слухов о начале гонений и вследствие собственной своей телесной слабости, почел за лучшее перезимовать в Никополе, вместе с братом нашим Титом[181].
Весною он снова предпринял путешествие с целью ободрения и укрепления различных церквей, причем Духом Святым возвещено было ему, что время отшествия его уже близко.
Через Верею, Фессалонику и Филиппы он направился к Троаде[182], где он нашел себе радушный прием в доме одного из братий, по имени Карпа.
Разумеется, от него не скрыто было, что со временем первого гонения на христиан в Риме положение всех вообще христиан в империи становилось затруднительным, тем более, что всякий друг императора, иудей ли то или язычник, являлся для нас врагом и старался вредить нам, как можно больше.
Все это, однако, нисколько не изменило прежней деятельности апостола. Как и раньше, он открыто и свободно продолжает проповедовать Евангелие Христово, быть служителем которого было для него его единственной похвалой. Так было и в Троаде.
И вот однажды, по предварительному, конечно, соглашению иудеев с язычниками, он был внезапно здесь схвачен. Арест апостола произошел столь неожиданно, что он не успел захватить с собой своего платья и книг.
Сначала он был отправлен в Ефес и брошен там в тюрьму. Затем, через некоторое время, он был позван на допрос к проконсулу Верии[183] Сорану. На допросе апостол, разумеется, ничего не пояснил Сорану, кроме того только, что он принадлежит к секте, об учении которой везде спорят[184]; но в наши дни и этого довольно!
Вместо того, чтобы вникнуть в суть дела, проконсул предпочел отправить Павла на суд в Рим. Кое-как подкупив стражу, мне удалось увидеться с апостолом перед его отъездом в Рим и еще раз говорить с ним. Я со слезами умолял его позволить мне сопровождать его, но он отказался. Старец апостол, никогда о себе не думавший, стал увещевать меня теперь, чтобы я заботился о вверенном мне стаде овец Христовых в Ефесе.
Он казался покойным и полным непоколебимой уверенности, что Господь и на этот раз избавит его из рук врагов его. Сопровождали его Тит, Тихик, Лука, Трофим и некоторые другие из братий, а я должен был, по воле апостола, остаться один, хотя один Бог знает, чего мне это стоило!
Путешествие на этот раз, как уже сообщили мне, обошлось без всяких неприятных случайностей, исключая разве того, что брат Трофим дорогою захворал, и его пришлось оставить в Милите[185]. Тем не менее путешествие это было тяжело для апостола, а в столице уже не встретили престарелого учителя единомыслящие братья…
Последние гонения частью уничтожили, частью разогнали римскую общину, и апостола встретили мрачными взглядами и страшными угрозами. На него надели тяжелые цепи и посадили в сырую тесную темницу.
Когда он в первый раз при таких же, собственно, условиях прибыл в Рим, к нему открыт был доступ для всех и всем он мог преподавать свои наставления. Теперь было совсем иное. Имя христианина заклеймено уже позором, и всякий, посещающий христианина в темнице, подвергает опасности свою жизнь. Так что лишь немногие из братий наших осмеливались посещать апостола; из них известны нам — Пуденс, сын сенатора, с женой своей Клавдией, сестрой Филолога, мать которого, Персида, подобно сыну запечатлела кровью свою веру во Христа. Они-то и служили апостолу из своих имений.
Другие же все почти оставили его: одни по собственной воле, для того чтобы отвлечь от себя позор крестный, другие — для того, чтобы не лишиться из-за этого своих мест и прочих преимуществ, недоступных христианам. В это тяжелое время Господь укрепил своего апостола, послав ему верного брата нашего Онисифора, который в качестве посла нашей ефесской общины прибыл в Рим и после долгих поисков нашел, наконец, Павла в одной из городских тюрем, чем доставил апостолу сильную радость[186].
Кроме Онисифора остался один Лука с апостолом, но и ему запрещено было следовать за Павлом, когда повели его к допросу. Лука мог лишь издали видеть и слышать, как престарелый апостол начал свою мощную проповедь и, не смутившись нисколько присутствием кровожадного тирана, стал исповедать пред народом Иисуса Христа, распятого и воскресшего.
Но на этот раз приговора над ним не было произнесено, и апостола снова посадили в прежнюю тюрьму.
Отсюда то, полный уже ясного предчувствия своего скорого отшествия, он написал мне письмо, где выражал искреннюю свою радость и твердое упование на скорое единение со Христом, и убедительно просил меня придти к нему и еще раз повидаться с ним.
Получив письмо, я простился с братией и, поручив исполнение своих обязанностей в церкви брату Тихику, отправился кратчайшим путем в Рим.
Меня влекло в Рим тем сильнее, что я опасался не застать апостола в живых. К тому же, я вез ему его книги и старый его плащ, без которого зимой ему было бы очень холодно в сырой римской тюрьме.
По прибытии в Рим, я прежде всего постарался разыскать брата Луку, который и сообщил мне, что апостол еще жив, но уже предвидит близкую свою кончину. В отсутствие императора, путешествовавшего по Элладе, Павел призывался еще раз к Гелаю, в базилику суда, который приговорил апостола к смертной казни чрез усечение мечом. Через несколько дней приговор должен был быть приведен в исполнение.
Мне удалось, хотя и не без труда, провести с апостолом целый день. Впрочем, я почти ничего не могу рассказать связанного о том, как мы его провели. Я не знал, в теле мы или без тела; чувствовалось только, что находимся мы в предверии к вечной обители.
Ничто земное уже не трогало величавой души апостола. Впереди себя он видел только Христа и о Нем одном только он мог говорить…
На рассвете того дня, когда должна была совершиться казнь, тюремщик, относившийся к апостолу вообще благосклонно, позволил мне войти к нему с Лукой и некоторыми другими братиями. Мы принесли с собой хлеб и вино, и, когда апостол вознес хвалу и благодарение Богу, мы взяли и разделили их между собой. После совершения таинства мы преклонили колени, и апостол произнес: «Ночь прошла, а день приблизился, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, Ему же слава, честь и поклонение во веки веков»… И лишь только мы произнесли на речь апостола: «Аминь», — как дверь тюрьмы отворилась и тюремщик сделал знак апостолу следовать за собой.
Апостол еще раз простер над нами руки свои, благословляя нас, затем молча повернулся и последовал за стражем. Мы также пошли за ними, пока отряд воинов не разделил нас друг от друга. Безмолвно прошли мы несколько улиц города, в которых, несмотря на раннюю пору, начиналось уже оживленное движение. Миновав несколько рядов обгорелых столбов, еще не убранных после пожара, вышли мы в городские ворота и, обогнув пирамиду Кнея Цестия[187], шли еще около получаса уже под яркими лучами дневного светила.
Там, где дорога сворачивает к Остии[188], есть небольшая поросшая травою площадка, окруженная невысокими холмами. Здесь решили остановиться. Начальник отряда дал знак. Старец преклонил колени. В воздухе блеснул меч… и «отшествие» апостола свершилось. Мы же веруем, что Господь придет снова и все святые с Ним…
Писано из Рима в 66 г. по Р. Х.
[1] Префект — В Др. Риме административная или военн. должность.
[2] Бассус — римское имя.
[3] Актеон — согласно древнегреч. мифол., — прославл. охотник, внук Аполлона, бога красоты, и Кирены (нимфа, охранительница стад).
[4] Византия — Восточная Римская империя, продолжение Римск. имп. в средневековье, когда столицей Вост.-Рим. имп. был Константинополь.
[5] Лициний — римский император 308-324 гг.
[6] Кандида (в значении чистая, белая) — древнеримское христианское имя.
[7] Никомидия — древний город в Малой Азии, центр области Вифиния (ныне Турция, город Исмид или Izmit)
[8] Адрианополь — город и район в северо-западной европейской части Турции. Битва у Андрианополя произошла весной 1361 года.
[9] Халкидон — древне-греч. город в Малой Азии (ныне соврем. район Стамбула в Турции), основан в 680 г. до н. э.
[10] Хрисополис — город в Восточн. Македонии, рядом с Халкидоном.
[11] Фессалоника — приморский город в Македонии (ныне Салоники, европейская Турция).
[12] Портик — выступающая часть здания, крытая галерея с колоннами, прилегающая к зданию, открытая с трех сторон.
[13] Покупщики — то же, что продавцы — ред.
[14] Морфей — бог сновидений (в древнегреч. мифологии) — ред.
[15] Один фут — это 30,48 сантиметра. Семь футов — около 2 метров.
[16] Апеннинские медведи — подвид бурого медведя, обитает в Италии, в Апеннинах, рост на задних лапах до 190 см., весит от 95 до 150 кг.
[18] Максимиан — римский император в 285-305 гг.
[19] Тит Флавий Веспасиан — римский император в 69-79 гг., стал первым правителем Рима, не принадлежавшим к аристократам: он был внуком крестьянина и сыном всадника.
[20] Данные современных исследователей разнятся: разные источники утверждают, что Колицей мог вместить от 50 до 80 тысяч человек.
[21] Юпитер Капитолийский — бог неба, отец всех богов в древнеримской мифологии.
[22] Юнона — в древнеримск. мифологии богиня-покровительница и защитница государства.
[23] Минерва — в древнегреч. мифологии богиня мудрости и искусства, сестра Юноны.
[24] Вавилония — древнее царство между Тигром и Евфратом (территория современного Ирака).
[25] Древняя Македония — древнегреческое царство в северо-восточной части греческого полуострова, историческая область современной Греции.
[26] Персидское царство — древнее государство VI-IV вв. до н.э. на территории Передней и Центральной Азии, территория современного Ирана и Пакистана.
[27] Соответствует времени написания повести — 1897 г.
[28] Претороначальник — главный судья.
[29] Марк Аврелий Валерий Максимиан Геркулий — римский император в 285-305 гг., гонитель христиан.
[30] Городской трибун — должностное лицо в Древнем Риме.
[31] Диоклетиан Каий-Аврелий-Валерий — римский император в 284-305 гг., гонитель христиан.
[32] Вследствие неудачной попытки свергнуть с императорского престола зятя своего Константина и самому снова воцариться, Максимиан повесился (прим. авт. повести).
[33] В числе многих клевет, к которым прибегали враги христианства, лжесвидетельствуя против христиан, была придумана кощунственная ложь, будто последователи Распятого Бога поклоняются ослиной голове.
[34] Диадема — венец или повязка на голову из драгоценных камней, одевались царями, верховными жрецами и правителями в знак их сана.
[35] Патриций — лицо, принадлежавшее к знатным римским родам, составлявшим правящий класс.
[36] Трибун — должностное лицо в Древнем Риме.
[37] Стогны — площади, дороги, улицы.
[38] Сарматы — древний народ, состоявш. из кочевых ираноязычн. племен, с IV в. до н.э. по первые века н.э., населявш. степн. полосу Евразии.
[39] Готы — союз древнегерманских племен, вероятно, скандинавского происхождения.
[40] Фиал — древнегреческая жертвенная чаша, употреблявшаяся для пиров и возлияния богам.
[41] Раскаливать — глагол, несовершенный вид. Они раскаливали* — (русский Викисловарь, прош. время). В тексте, частично, сохранен авторский стиль и некоторые особенности орфографии ХIХ века (авт.-сост.).
[42] Евсевий Кесарийский (ок. 260/270 — май 339) — греческий церковный историк, богослов, с 314 г. епископ Кусарии Палестинской. Написал самый древний сохранивш. труд по истории церкви «Церковная история».
[43] Префектура — область, административно-территориальная единица.
[44] Буковый факел — факел из древесины бука. Дрова из бука отличаются плотной древесиной, долгим горением, жарким пламенем и высокой температурой горения (авт.-сост.).
[45] Вспало на мысль — пришла в голову мысль; возникла, появилась в сознании (устаревш.) / Фразеологический словарь русского литературного языка.
[46] Гостьбище (народный, разговорный язык) — нахождение, беззаботное веселие и гулянка у кого-либо в гостях (примеч. авт.-сост.).
[47] Почесться (устар. разг.) — то же, что считались, могли считаться, либо получить какую-либо оценку, восприняться как-либо (викисловарь).
[48] Центурион — командир в римском войске отряда из ста всадников или пехотинцев.
[49] Выстроились в каре — боевой порядок пехоты, построенной в виде квадрата.
[50] Хартия — официальный документ публично-правового характера с декларацией чего-либо.
[51] Легион — в легион в Древнем Риме могло входить от 4800 до 6000 воинов плюс слуги и рабы.
[52] Крамола (устаревш.) — заговор, мятеж.
[53] Терновый — из терновника, колючий.
Терновый венец, терновый путь — по смыслу то же, что мученичество, страдание.
[54] Наковальня — инструмент казни — специальный станок, на который укладывали мученика, привязывали или насильно удерживали и по очереди дробили его члены специальным тяжелым молотом.
[55] Лодочник Харон — в древнегреч. мифологии — перевозчик душ умерших через реку Стикс в ад.
[56] Река Стикс — в древнегреч. мифологии — река мертвых, олицетворение первобытного ужаса и мрака.
[57] Как известно, у древних римлян сутки распределялись по сменам патрулей городской стражи. Всех смен было четыре. Первая стража начиналась от заката солнца, продолжалась три часа.
[58] Здесь и далее в этом рассказе приставка «без» пишется согласно старой орфографии (до декрета от 23 декабря 1917 года о введении нового правописания), то есть по старому стилю.
[59] Карфаген — историческое финикийское государство со столицей в одноименном городе, существовавшее в древности на севере Африки, на территории современного Туниса.
[60] Ганнибал — Ганнибал Барка (род. в 247 г. до Рожд. Хр.), карфагенский военачальник, один из величайших полководцев древности, заклятый враг Римской республики.
[61] Тертуллиан Квинт Септимий — раннехристианский писатель, теолог и апологет, автор 40 богословских трактатов (род. ок. 160 г. от Р. Х.).
[62] Цитадель — внутренняя городская крепость.
[63] Термы — античные бани, центр общественной жизни Древн. Рима.
[64] Храм Юноны — древнеримск. культовое сооружение, построенное в V веке до н. э. на Капитолийском холме в честь богини Юноны, защитницы и покровительницы Рима, согласно древнеримск. мифологии.
[65] Капитолий — храм на Капитолийском холме в Риме. Капитолийский холм — один из семи холмов, на котором возник Древний Рим. В Капитолии проходили заседания сената и народные собрания.
[66] Базилика — античная постройка (обычно храм) в виде удлиненного прямоугольника с двумя продольными рядами колонн внутри.
[67] Нубийцы — народ на юге Египта и севере Судана, в исторической области Нубия в долине Нила.
[68] Портик — крытая галерея с колоннами, прилегающая к зданию.
[69] Атрий — центральная часть жилища, откуда имелись выходы во все помещения древнеримского дома.
[70] Ср. (2 Пет.2:14)
[71] Гамилькар Барка (в переводе — молния) — карфагенский военачальник, госуд. деятель, отец Ганнибала Барка.
[72] Нумидяне — жители Нумидии (царство в северной Африке, находившееся на месте современного Алжира).
[73] Галлия — часть северн. Италии во времена Древн. Рима, расположенная между Альпами и Апеннинами. Сейчас такой страны не существует.
[74] Поденщица — временная наемная работница, простолюдинка, занятая поденным, почасовым трудом.
[75] Выросши — невозвратное деепричестие от «вырасти», неизменяемое.
[76] Легион — в Древнем Риме: крупная войсковая единица, состоящая примерно из 4800 легионеров (воинов) из числа слуг и рабов. Число легионеров могло доходить до 6000 человек.
[77] Юнона — покровительница семьи и брака в древнеримск. мифологии.
[78] Тартар — глубокая бездна, темница мучений, где, по древнегреческой мифологии, души судят после смерти и где нечестивые подвергаются наказанию.
[79] Кубикула — небольшая комната древнеримского частного дома, типа спальни.
[80] Цербер — злой, свирепый надсмотрщик; также, согласно древнегреч. мифологии, — злой пес, охраняющий вход в царство мертвых, не позволяющий мертвым возвращаться в царство живых.
[81] Римские солдаты сменялись в карауле каждые три часа; вторая стража начиналась в 9 часов вечера, заканчивалась в полночь, а третья стража была с полуночи до 3 часов ночи.
[82] Панцирь — в старину металлическая одежда для защиты туловища от ударов холодным оружием.
[83] Эдикт — указ императора.
[84] Септимий Север — римский император (193-211), гонитель христиан.
[85] Гай Нигер — римск. импер. в 193-194/195 гг., не признан. сенатом.
[86] Клодий Альбин — римский император, правивший с 193 г. как соправитель С. Севера. Погиб в феврале 197 г. в битве с С. Севером.
[87] Климент Тит Флавий Александрийский — пресвитер, раннехристианский церковный учитель, духовный писатель, богослов, апологет, философ, свидетель Предания. Дата смерти ок. 215-217 г.
[88] Каппадокия — историческая область в центральной части Турции.
[89] Ориген — греческий христианский теолог, философ, ученый, апологет (ок. 185 — ок. 253).
[90] Святая Потамиена — мученица, приняла смерть за Христа через страшные мучения (во время казни ее обливали кипящею смолою).
[91] Эпикурейская философия — учение, согласно которому высшим благом считается наслаждение.
[92] Штандарт города — особый вид знамени, почетный символ, личный флаг города, знак различия военных формирований в Римской империи.
[93] Пифагорейцы — последователи Пифагора (древнегреч. философ; ок. 570 до н.э. — ок. 490 до н.э.), родоначальники гуманитарной, естественной, точной и систематической наук.
[94] Платоники — последователи философии Платона (древнегреч. философ; ок. 427 до н.э. — ок. 347 до н.э.), утверждающие абсолютную реальность идей и бессмертие души.
[95] Тиверий Кесарь — римский император, правил во времена земной жизни Иисуса Христа.
[96] Нерон — римский император с 50 по 54 гг., гонитель христиан.
[97] Марк Аврелий — римский император с 161 по 180 гг., философ.
[98] Неисходный (устар.) — безвыходный, нескончаемый, вечный, безысходный, не оставляющий надежды (словарь синонимов русск. яз.).
[99] Брамины (то же, что брахманы) — лица, принадлежащие к высшей касте (изначально к касте жрецов) в Индии.
[100] Вечеря — здесь в значении: ужин, угощение.
[101] В этой речи приведены лишь несколько отрывков из подлинной апологии Тертуллиана в защиту христиан (примеч. в авторском тексте).
[102] Бестиарии — малозащищенные и слабовооруженные гладиаторы времен Римской империи, насильно брошенные на арену для боя с хищниками: львами, медведями, тиграми.
[103] Храм Сатурна — храм языческого бога Сатурна. Сатурн, по древнеримск. мифол., бог посевов и процветания.
[104] Цецера —по древнеримск мифол., богиня урожая и плодородия; а также богиня, связанная с подземн. миром и вызывшая безумие.
[105] Греки и римляне верили, что их бесчисленные боги живут на горе Олимп, где и проводят жизнь подобно многим людям в пирах и забавах (примеч в авторском тексте).
[106] Кенхрея, Кенхрейская церковь (Деян.15:18; Рим.16:1) — восточная гавань Коринфа (древнегреческий город, в котором жил 1,5 года св. ап. Павел, основавший там Коринфскую Церковь).
[107] Клавдий Тиберий — император Рима с 41 по 54 гг.
[108] Коринф — древнегреческий город, в котором жил 1,5 года св. ап. Павел, основавший там Коринфскую Церковь.
[109] Агриппина — последняя жена импер. Клавдия, мать импер. Нерона.
[110] Мессалина (ок. 17/20 — 48 г.) — третья жена императора Клавдия.
[111] Преторианская гвардия — императорская гвардия.
[112] Понт — историч. область юго-вост. побережья Черного моря М. Азии (ныне Турция), область распространения христианства в древности и формирования неск. митрополий Константинопольской Правосл. Церкви.
[113] Сароникс, Саронский залив (Саронический, Афинский) — залив Эгейского моря в Греции.
[114] Лехей — западная гавань древнего города Коринфа, находилась в двух км от города.
[115] «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни» (Пс.83:3).
[116] (Ср. 2 Кор.10:10) — «Так как некто говорит: “В посланиях он строг и силен, а в личном присутствии он слаб, и речь его незначительна”».
[117] (Ср. 2 Кор.12:5) — «Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими».
[118] (Ср. 2 Кор.10:1)
[119] (Ср. 1 Кор.1:16) — «Крестил я также Стефанов дом…»
[120] (Ср. 1 Кор.1:14) — «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа…»
[121] (Деян.18:6) — «Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам».
[122] (Ср. 1 Кор.2:2) — «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого…»
[124] (Ср. 1 Кор.1:22-24)
[125] ** Изида (языческ.) — божество Древнего Египта, считалась богиней плодородия, магии, защитница фараонов и их власти.
[126] Серапис (языческ.) — божество Древнего Египта, считался богом умерших, а также богом изобилия, плодородия, подземного царства и загробной жизни.
[127] Сабазий — бог-целитель, в Древнегреч. античной мифологии.
[128] (1 Кор. 15; 8-9) — «А после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом…»
[130] Ахайя — провинция Римской империи, южная часть Греции (Библейск. энцикл.).
[131] (1 Кор.16:15) — «Прошу вас, братия, (вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что они посвятили себя на служение святым)…»
[132] (Рим.16:22) — «Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание.
[133] (Ср. 1 Кор.1:14-17)
[134] (1 Кор.11:23) — «Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал…»
[136] (Ср. 1 Кор.1:11) — «Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас…»
[137] (Ср. 1 Кор.16:17) — «Я рад прибытию Стефана и, Фортуната и Ахаика…»
[138] (Ср. Деян.26:13) — «Среди дня на дороге увидел я увидел… с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною».
[139] (1 Кор.9:1) — «Не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего?»
[140] (2 Кор. 5,7) — «Ибо мы ходим верою, а не видением…»
[141] (Ср. Рим.15:27) — «Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном».
[142] (Ср. 2 Кор.7:2) — «Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти».
[143] (Ср. 1 Кор.9:12) — «Мы не пользовались… властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову».
[145] (Рим.16:5) — «Приветствуйте возлюбленного моего Епенета…»
[146] Ср. Флп.4:22) — «Приветствуют вас все святые, а наипаче из кесарева дома».
[147] (Ср. Деян.19:2) — «Сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой».
[148] (Ср. * Рим.16:15) — «Приветствуйте Филолога и Юлию… и Олимпана, и всех с ними святых».
[149] (1 Фес.2:16) — «…Препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца».
[150] (Ср. Деян 18, 9-10)
[151] Бурр Секст Афраний (1—65 гг.) — римский военачальник и госуд. деятель, начальник императорской гвардии при императоре Нероне.
[152] Сенека Луций Анней (умер в 65 г. от Р. Х.) — римский философ-стоик, поэт и госуд. деятель, воспитатель императора Нерона.
[153] Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (15.12.37—09.06.68 гг.) — римский император с 13.11.54 г., гонитель христиан.
[154] (Ср. 2 Кор.2:4)
[155] (Гал.2:10) — «Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности».
[156] Тиранн — ефесянин, в чьей школе учил апостол Павел (Деян.19:9).
[157] (Колос.4:7) — «О мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе».
[158] (Ср. Деян.19:29)
[159] Дервия — город в Ликаонии, области на юге Малой Азии (современная Турция), где проповедовал апостол Павел (Деян.16:1).
[160] (Деян.17:6) — «Не нашедши же их, привлекли Иасона и некоторых братьев…»
[161] Верея — город (местность) к северу, недалеко от Иерусалима.
[162] (Рим.16:23; 1 Кор 1, 14)
[164] Когорта —отряд войска, десятая часть легиона в Древнем Риме.
[165] Мизия — в древности область в Малой Азии (территория соврем. Турции); Адрамит — ныне это турецкий город на берегу Эгейского моря.
[167] (Деян.27:8) и след. — примеч. автора текста.
[168] Ласея — город на южной стороне острова Крит.
[169] Финик — историческая пристань и город на юго-западе о. Крит.
[171] Путеолы (Путеол) — древний город в Италии на берегу Неаполитанского залива, современный Поццуоли.
[172] Аппиева Площадь — площадь (город) на Аппиевой дороге, ведущей из Рима на юг, примерно в 60 км от Рима.
[173] Три Гостиницы — станция на Аппиевой дороге, расположенная в 45 км от Рима; она также известна как «Три харчевни» см. (Деян. 28,15).
[175] (Ср. Колос 4, 10) — «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною…»
[177] Филим.1:22) — «…Приготовь для меня и помещение; ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам».
[178] (Фмлим. ст, 9) — «…Не кто иной, как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа».
[180] Тигеллин Гай Софроний (ум. в 69 гг.) — советник римск. импер. Нерона, соучастник его преступлений, гонитель христиан.
[181] (Тит.3:12) — «…Поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму».
[182] Троада — город Александрия, находившийся в сев.-зап. части Малой Азии (соврем. город-гавань Эски-Стамбул в Турции).
[183] Верия — город на севере Греции, в Македонии.
[184] (Деян.28:22) — «…Ибо известно нам, что об этом учении везде спорят».
[185] (2 Тим.4:20) — «…Трофима же я оставил больного в Милите»;
Милита — библейское название острова Мальта (Средиземное море).
[187] Пирамида Кнея Цестия — древнеримский мавзолей, построенный в 12-18 гг. до н. э.
[188] Остия — римский город-порт, главная гавань Древнего Рима.

































































































Комментировать