- Аннотация
- Предисловие. «Мы нуждаемся в отцах, которые нас любят!..»
- Исполнившееся желание
- Глава I. Старик Иаков и Ионафан
- Глава II. Мученик
- Глава III. Царица
- Глава IV. Чудесные исцеления
- Глава V. Болезнь дедушки Иакова. Рассказ Манассии об Иисусе
- Глава VI. Тайна Младенца из Вифлеема
- Глава VII. Горестные известия
- Глава VIII. Паломничество в Гадаринские замли
- Глава IХ. Долгожданная встреча
- Победа, победившая мир
- Глава I
- Глава II
- Глава III
- Глава IV
- Глава V
- Глава VI
- Глава VII
- Глава VIII
- Глава IX
- Вольный раб
- Глава первая. Божий заимодавец
- Глава вторая. Неведомый чудотворец
- Глава третья. Неожиданное откровение
- Глава четвертая. Светильник, сдвинутый с места
- Глава пятая. Иго взято!
- Глава шестая. Разбитые цепи
- Вифлеемляне
- Часть первая
- Часть вторая. Тридцать лет спустя
- Серебряный крестик
- Глава I. Пир у Понтия Пилата
- Глава II. Большое волнение среди населения Иерусалима
- Глава III. В гостинице
- Глава IV. Приход ученика Петра
- Глава V. Иисус Христос у «несчастных»
- Глава VI. За стенами Иерусалима
- Глава VII. Темница и освобождение
- Глава VIII. Подслушанный разговор
- Глава IX. С родных берегов
- Глава X. Среди друзей
- Глава XI. Потрясающая встреча
- Глава XII. Голос сердца
- Глава XIII. Новая жизнь
- Глава XIV. Иерусалимские вести
- Глава XV. Маленький крестик
- Глава XVI. Домашняя святыня
- Глава XVII. На даче
- Глава XVIII. Возрождение
- «Встань и ходи!»
- Он воскрес!
- Раб
- Крест Христов
Аннотация
«Из архива исповедника веры протоиерея Григория Пономарева (1914-1997) и его духовных чад»
Перед вами — восьмой сборник рассказов серии «Лилии полевые…» Книга вышла в серии «Из архива исповедника веры протоиерея Григория Пономарева (1914–1997) и его духовных чад» и названа «Лилии полевые. Серебряный крестик. Первые христиане». В основу восьмого сборника легли повести, рассказы, легенды из первых времен христианства малоизвестных авторов дореволюционной России. Тексты произведений перепечатаны из православных журналов и их приложений, издававшихся в конце ХIХ и начале ХХ вв. в России под грифами «От Санкт – Петербургского Духовного Цензурного Комитета печать дозволяется». Ссылки на авторов и первоисточники заимствованы из архива протоиерея Григория Пономарева (1914–1997 гг.). Авторы большинства рассказов сборника мало известны или имена их скрыты, так как в традициях имперской культуры России авторские тексты зачастую подписывались либо одной фамилией автора, либо именем, либо инициалами, либо литературным псевдонимом писателя, либо оставались безименными.
Автор-составитель серии книг «Лилии полевые» писательница Елена Кибирева с 1998 года работает с архивом зауральского исповедника веры протоиерея Григория Александровича Пономарева и, опираясь на ссылки из его архива, создала серию книг из повестей, легенд и рассказов православных авторов и переводчиков христианской литературы с немецкого, французского и английского, не издававшихся в России более ста лет.
Рукописные тексты из архива о. Григория сверены с первоисточниками научных библиотек Санкт-Петербурга (фонды редких книг и журналов), имеющими грифы церковной цензуры, и заново отредактированы. В текстах сохранены авторские примечания времен их написания, а также добавлены современные пояснения малоизвестных слов и исторических понятий. Карандашные рисунки выполнены художниками Кургана и Санкт-Петербурга в стиле журнальных иллюстраций ХIХ века.
Книга предназначена для чтения в семейном кругу и в воскресно-приходских школах.
Предисловие. «Мы нуждаемся в отцах, которые нас любят!..»
«Не удерживай слова, когда оно может помочь… ибо в слове познается мудрость» (Сир.4:27–28).
Стихи премудрого Сираха, заключенные в Богодухновенной Книге, учат нас дорожить всяким словом, ведущим к познанию Истины. Описывая жизнь и труды протоиерея Григория Александровича Пономарева (1914–1997), мы постоянно обращаемся к его духовному архиву — слову, которое он оставил нам, как святоотеческое предание. Именно благодаря архиву зауральского исповедника, наиболее полно раскрылся его образ как духовного писателя-апологета, мудрого наставника, любовию и молитвой стяжавшего каждый день и каждый час плоды Святого Духа.
Праведник отходит, но свет его остается…
В течение нескольких лет после кончины отца Григория в кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского в г. Кургане прихожане приносили рукописные тетради и машинописные тексты, которые когда-то были переписаны духовными чадами батюшки по его благословению. Это были как избранные труды и поучения отцов Церкви, так и многочисленные повести и рассказы из «религиозно-назидательных» журналов, издававшихся в дореволюционной России с дозволения церковной цензуры. Позднее дочь отца Григория, Ольга Григорьевна Пономарева, передала в редакцию православной газеты «Звонница» духовный дневник отца Григория, который батюшка вел в течение долгих лет служения в Свято-Духовском храме поселка Смолино города Кургана. По благословению Преосвященного Михаила, епископа Курганского и Шадринского, духовный дневник отца Григория был впервые опубликован к 2000-летию Рождества Христова в специальном выпуске журнала «Звонница».
Что открыл нам, «теплохладным и унылым», духовный дневник батюшки? Тайну Креста Христова. «Тайна крестного пути — Креста — для отца Григория неразрывно связана с тайной любви и молитвы» — пишет в предисловии к публикации дневника преподаватель Московской духовной академии и семинарии протоиерей Александр Шаргунов [1, с. 2].
«Вот наука: как молиться? — читаем во втором издании дневника о. Григория. — Это отдать себя целиком и полностью, со всеми своими мыслями-желаниями… Молиться надо настойчиво, с благоговением и сердечным устремлением, с полной отдачей себя, а не просто бы только с рук столкать» [3, с. 102].
И далее читаем: «При крайнем телесном расслаблении, нежелании встать на молитву, надо совершать истово крестное знамение, да не один раз… После этого вливается большая духовная энергия, загорается желание молиться (христианский опыт наших дней)» [3, с. 104-105].
В первом томе книги «Исповедник веры протоиерей Григорий Пономарев (1914–1997). Жизнь. Поучения. Труды» в главе «Голгофа. Годы заточения» описан исповеднический путь отца Григория, который он прошел в сталинских лагерях как политический заключенный [см. 2, с. 113-181]. Именно в эти годы тысячи безвестных священников отдавали свои жизни, восходя на Голгофу, свидетельствуя о Христе даже до крови, как отдали свои жизни в лагерях смерти родители отца Григория и матушки Нины (в девичестве Увицкой) — архимандрит Ардалион (Пономарев) и протоиерей Сергий Увицкий, причисленные к лику святых новомучеников Российских. Пройдя через такие же лагеря смерти, вернувшись на Урал после 16 лет страданий и скорби, отец Григорий более 40 лет служил в храмах Екатеринбургской, Курганской и Шадринской епархий, предавая себя всецело воле Божией, неся свет Христовой любви своей пастве.
«От священника не требуется, чтобы он был обаятельный собеседник, и еще менее — чтобы он был блестящим оратором… От священника ждут то, что только один священник может дать — Тело Христово, ломимое во оставление наших грехов, и любовь, которая придает смысл всем человеческим страданиям и самой смерти. И пусть он вопиет об этом. Всею своею жизнью, до последнего отданной Христу», — прот. А. Шаргунов [1, с. 4].
Отец Григорий, действительно, до самого последнего своего вздоха служил Христу. На смертном одре, ясно осознавая, что дни земной жизни их обоих с матушкой сочтены, он усердно молился за рабу Божию Нину, ослабевшую раньше его и находившуюся уже несколько дней в забытьи. Он молился молча, не в силах произнести вслух тайные просьбы, только подносил руку ко лбу, усиливая молитвы крестным знамением. А за день до перехода в мир иной, исповедовавшись и причастившись, он вдруг стал торопить отца Сергия, который причащал его день назад, с исповедью и причастием матушки Нины: «Скорее, скорее…»
«Очевидно, он знал, что надо торопиться, — пишет Ольга Григорьевна в своих воспоминаниях о родителях. — Матушка причастилась, на миг как бы пришла в себя, запила причастие и опять погрузилась в свое состояние… Умиротворенные, папа и мама спокойно заснули… В комнате тишина, мирно теплится лампада, а два человека — плоть едина — совершают ответственный шаг, они уходят в жизнь иную. Матушка совсем слаба, но разве отец Григорий оставит ее в такую минуту? Он молится. Он будет с ней. Довольно разлук, теперь навсегда, навечно вместе. Господь заберет их сегодня обоих…» [2, с. 550].
Так они и покинули этот мир вместе, в один день. Разве не так умирали праведники на Руси, являя своей смертью пример истинно христианской кончины? Разве не так перешли в мир иной святые преподобные Петр и Феврония Муромские — в один день! Молясь друг за друга!
«Успех молитвы достигается при условии выполнения святого наказа: “Помни, Бог любовь есть…” — читаем в дневнике отца Григория. — Для души любящей нет никаких препятствий. Все можно получить, чего просишь. Только искренно проникать в эту заповедь о любви. Тогда жизнь будет возвышенна, радостна, невзирая ни на какие трудности, физические и моральные» [3, с. 105].
«Среди холода апокалиптической зимы мы нуждаемся в отцах, которые нас любят… — подчеркивает в указанной статье отец Александр. — Нам нужны свидетели, которые живут Словом и которые питаются от Источника жизни. Наша Церковь должна быть Церковью священников, любящих Христа и овец Его больше своей жизни» [1, с. 4].
Митрофорный протоиерей Григорий Пономарев оставил нам богатейшее наследие — рукописную библиотеку. Всю свою жизнь, вплоть до праведной кончины, он занимался миссионерской и исповеднической деятельностью, став духовным просветителем Урала — пастырем любви!

К середине 90-х годов в маленькой холодной комнатке его скромного домика в Смолино было сосредоточено такое сокровище из рукописных перепечаток духовных книг, что сегодня можно было бы издать целую библиотеку «Из архива репрессированного священника…» Может быть, об этом втайне молился о. Григорий, который в течение многих десятилетий собирал, переписывал многотомные труды отцов церкви, систематизируя избранное, и сшивал их в маленькие книжицы, хорошо понимая, что за это рукотворное издание он мог получить новый тюремный срок.
Навсегда сохранятся в моей памяти живые воспоминания о встречах с батюшкой. Летом 1995 года я пришла в его домик в Смолино, чтобы получить молитвенную поддержку и благословение на дальнейшее издание небольшой информационной соборной газеты «Звонница». Сев на старенький сундучок, стоявший на кухне (приемное место посетителей), протянула батюшке свежий номер газеты. Он с любовью взял в руки «Звонницу» и начал осторожно перелистывать страницы.
С большим интересом батюшка всматривался в печатные статьи и расспрашивал, каким способом публикуется газета: как набирается текст, в каком виде передается в типографию. Разговор зашел о верстке на компьютере, который в то время часто называли бесовским изобретением. Эти рассуждения смущали многих людей, связанных с работой на вычислительных машинах. Однако отец Григорий спокойно объяснил, что какое бы зло ни умышляли люди против Бога, Он в силах «обратить его в добро, чтобы… сохранить жизнь великому числу людей» (ср. Быт. 50, 20).
«Прославляйте Господа, и Он все устроит», — сказал батюшка и тут же спросил, есть ли у меня какое-нибудь утреннее правило и знаю ли я наизусть молитву Ангелу-Хранителю. А затем он тихо и с какой-то трогательной любовью стал читать наизусть: «Ангеле-Хранителю, от Бога мне данный…» Глаза его были в этот момент устремлены к иконам, и казалось, что он молился Богу, испрашивая помощи Ангела-Хранителя на всякое благое дело… «Подай мне, Ангеле, помощь твою в моем деле, дабы трудился я на благо человек и во славу Господа!»
Позднее от Ольги Григорьевны нам стало известно, что батюшка искал случая изучить издательские и печатные возможности современных технологий и очень ждал, когда мы снова придем к нему «на сундучок» с очередным номером газеты.
Сегодня небольшая соборная газета, ставшая к 1998-му году полноценным журналом, обрела статус православного издательства, которое работает с архивом о. Григория, издавая поучения батюшки и пополняя архив новыми рассказами, извлеченными из кладезя библиотек, в которых в 60-е годы прошлого столетия работал и сам о. Григорий, приезжая на учебу в Ленинградскую Духовную Академию. С 2003-го года редакцией «Звонница» подготовлено к печати восемь сборников «Лилии полевые…», в содержание которых входят рассказы из архива отца Григория и его духовных чад. Книга «Лилии полевые. Серебряный крестик. Первые христиане» — восьмой сборник, составленный из рассказов, собранных в библиотеках Северной столицы по ссылкам из архива отца Григория. Продолжая дело зауральского исповедника, автор-составитель сборников трудилась в научных фондах национальных библиотек, опираясь на имена авторов и первоисточники, указанные в рукописных книгах отца Григория, и откопировала более 20000 страниц православных рассказов и повестей из истории христианства, большинство из которых не переиздавались в России после революции ХIХ века.
Тексты заново отредактированы, иллюстрированы карандашными рисунками курганских и санкт-петербургских художников в стиле оформления православных журналов ХIХ века. К рассказам даны примечания с объяснением церковно-исторических терминов. Повести и рассказы имеют грифы Духовного Цензурного Комитета С.-Петербурга «Печать дозволяется».
В центре рассказов 8-го сборника — Крест Христов и верность первых христиан-мучеников Кресту Христову даже до крови. Будем и мы подражать первым христианам и учиться у них нелицемерной верности Пресвятой Троице дарами Духа Святого и силой Креста Господня. Ведь и отец Григорий был настоящим крестоносцем и исповедником веры, хранителем Царского Креста-мощевика, священником любви, свято чтившим заповеди Христа: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною…» (Мф.16:24) и «…кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником…» (Лк.14:27). Аминь.
Сие предисловие писано 8 июля 2025 года,
в день святых преподобных Петра и Февронии Муромских.
Елена Кибирева, член Союза писателей России
Список литературы:
- Шаргунов А.И., протоиерей. О духовном дневнике протоиерея Григория Пономарева // Звонница. 2000. Специальный выпуск. С. 2–4.
- Пономарева О.Г., Кибирева Е.А. Исповедник веры протоиерей Григорий Пономарев (1914–1997 гг.). Жизнь. Поучения. Труды: в 2 т. К.: Звонница, 2006. Т. 1. 608 с.
- Пономарева О.Г., Кибирева Е.А. Исповедник веры протоиерей Григорий Пономарев (1914–1997 гг.). Жизнь. Поучения. Труды: в 2 т. К.: Звонница, 2006. Т. 2. 440 с.
Исполнившееся желание
Глава I. Старик Иаков и Ионафан
— Наконец-то ты вернулся, дедушка Иаков. Ну, что нового? Видел ты его?
— Да, дитя мое, видел и слышал. Да будет благословен Господь Бог Авраама, святый во Израиле, пославший после долгих, долгих лет нового пророка народу Cвоему.
— Ну, и что же он сказал тебе?
— Мне?! Да с ним и поговорить-то было немыслимо. Ты и вообразить себе не можешь, какое множество народу собралось его послушать. Я мог бы много, бесконечно много рассказать тебе, дитя мое, но ты не задерживай меня, теперь мне надо как можно скорее отправляться к моим овцам. Завтра приду и все тебе расскажу. Да благословит тебя Господь!
Разговор происходил вблизи Геннисаретского озера, между старым седоволосым стариком, напоминавшим древне-библейского патриарха, и хорошеньким мальчиком. Малец и дед не были родственниками, но их соединяла самая искренняя любовь, как это часто случается с людьми, живущими в уединении. Старик был один на свете, один как перст, у мальчика же была лишь мать, которую он содержал рыбной ловлею. Дедушка Иаков жил высоко в горах, и пас там свое стадо. При наступлении же дождливого времени старик спускался со скотом в долину. Здесь он проводил зиму, обычно недолгую в Палестине. Но лишь только солнышко начинало пригревать по-весеннему, он уходил в горы. Отсюда дедушка любовался дивным Геннисаретским озером и его райскими окрестностями. Мальчик же жил у самого озера в рыбацкой хижине и снабжал своего старого друга свежей и сушеной рыбой. Мальчика звали Ионафаном.
Познакомились они два года тому назад во время паломничества в Иерусалим. Старик, из года в год совершавший это странствие, взял мальчика под свое покровительство. Ионафан впервые отправлялся в град святого Давида и отправлялся один, мать его хворала и не могла предпринять такого далекого путешествия. Вот во время их странствования они и подружились. Мальчик не уставал расспрашивать старика о богослужении, о праздновании Святой Пасхи.
Ионафан не мог удержать слез, когда вошел в Иерусалимский храм во время жертвоприношения. Сотни людей играли на арфах, сливавшихся воедино, и пели сотни певцов. Жертва горела, кровь струилась и все выше и выше подымался дым жертвенника. В полумраке богато изукрашенного золотом храма виднелась таинственная завеса, за которую никто не мог проникать, кроме первосвященника, входившего туда всего лишь раз в год с кровью агнца. Все тут было таинственно и чудесно. Какое множество священников и левитов, в длинных одеяниях! Какая громадная толпа странников, пришедших не только из Палестины, но из самых отдаленных иудейских стран, посмотреть на дивный город Давида и Соломона и принести жертву за свои грехи!
На возвратном пути из Иерусалима дедушка Иаков зашел в Вифлеем, чтобы показать Ионафану могилу Рахили[1]. Здесь они побеседовали о патриархе Иакове[2] и его сыновьях. Под тенью пальм, у могилы своей проматери (они оба были из колена Вениаминова[3]), старик погрузился в воспоминания далекого прошлого. Он рассказал мальчику про одно происшествие, которое поныне наполняло его душу неземным восторгом.
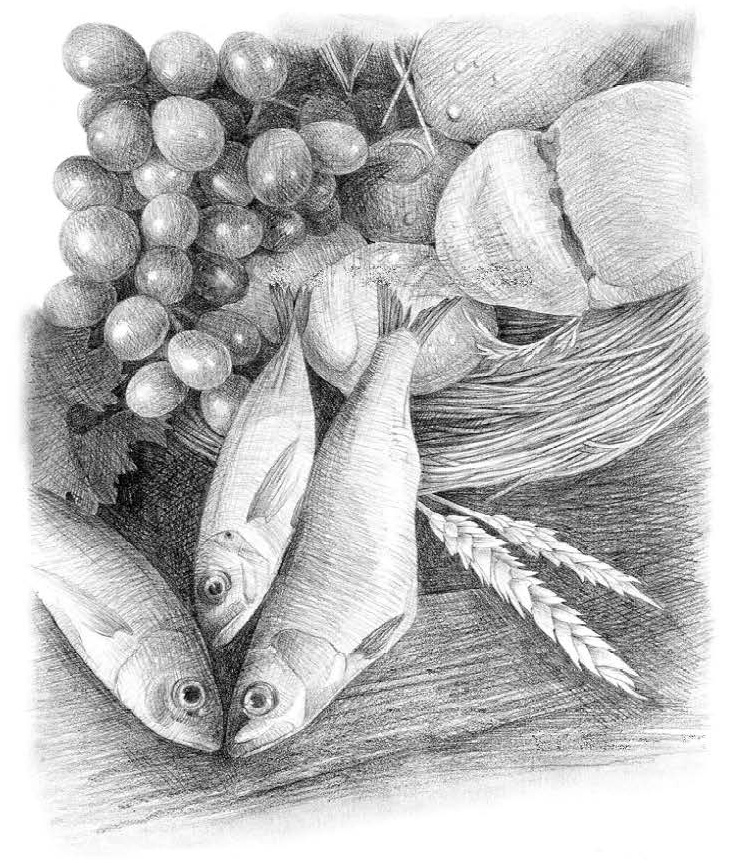
— Тридцать лет тому назад, дорогой мой, — начал свой рассказ дедушка Иаков, — я вместе с другими пастухами пас овец на Вифлеемских лугах. Как самый младший, я обязан был сторожить стадо ночью. Хотелось спать. Чтобы избежать дремоты, я начал распевать псалмы: «Господь, мой Пастырь…» (ср. Пс.22:1), — и при этом думал о великом царе Давиде, некогда пасшем овец, пока Господь не сделал его победоносным героем, а потом и царем. Когда же я вспомнил, что Вифлеем — родина Давида, мне пришли на ум слова, недавно слышанные мною в синагоге: «И ты, Вифлеем-Эфрафа[4]! Ты — меньший из тысяч в Иудее, но из тебя изойдет Тот, Кто спасет Израиля» (ср. Мих.5:2). Один из присутствующих книжников разъяснил нам этот текст так: «Из Вифлеема должен явиться обещанный великий Царь иудейский — Мессия, о Котором предсказывали пророки, а в особенности — Даниил; царство же и власть, и величие, царственное во всей поднебесной, дано будет народу святым Всевышнего, Которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему. После него встал другой законник и прочел: «Из Египта воззвал Я Сына Своего» (ср. Ос.11:1), — и доказывал, что Мессия должен явиться из Египта, а не из Вифлеема. Об этом я и думал среди ночной тишины. Моя душа жаждала, чтобы Бог исполнил Свое обещание и прислал бы предсказанного Мессию. И горячо молился я о ниспослании «Примирителя». И вдруг, когда я смотрел на расстилавшийся вдалеке городок, я увидел на небе яркий свет. Светящееся облако спустилось с небес, остановилось на мгновение над Вифлеемом, а потом коснулось земли у нашего сада. Я вскрикнул от ужаса и оцепенел: в облаке, не прикасаясь к земле, стоял дивный юноша ангельского вида. Одежда на нем была как снег, лицо словно соткано из лунного сияния, а глаза — как солнечные лучи, и вся наружность его была так чудесна! Пастухи в одно мгновение очутились на ногах, и даже овцы, бессловесные создания, казалось, насторожились, прислушиваясь к словам дивного Божия посланника. «Не бойтесь! — произнес Ангел, успокаивая нас, перепуганных до смерти. — Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». О, как возрадовалось мое сердце! Исполнилось мое желание: родился Мессия, и родился в Вифлееме, так близко! Сегодня, сегодня родился!
— Ангел смолк, — продолжал Иаков. — Разверзлись небеса. Дневной яркий свет озарил луга и холмы. В сияющих облаках явились дивные небесные силы. С радостным ликованием прославляли они Бога и восклицали: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение». Потом все исчезло. Мы видели, как все выше и выше поднимались облака с небесными силами, пока все не исчезло и вокруг снова водворилось тихая, безмолвная ночь. Мир снова был окутан мглою, как и прежде, но все уже было не так, и ночь была иной. Совершилось великое событие, которое останется неизменным: родился Мессия. «Пойдемте в Вифлеем, — решили пастухи, — посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь»…
— И вы пошли? — прервал старика Ионафан.
— Конечно! Мы бегом побежали к Вифлеему и нашли все так, как сказал Ангел. В пещере Вифлеемской, в яслях, нашли мы дивного Младенца. Никогда я не видал ничего прекраснее! Как мы радовались, как рассказывали об этом повсюду! Сердца наши горели благодарностью Богу, и мы могли лишь восхвалять и благодарить Его. Мы чувствовали, что Господь простил, возлюбил нас, послав нам Мессию. Когда пошли мы обратно, в наших сердцах оставалось то же блаженное чувство. Придя к нашим стадам, мы думали о драгоценном Даре и только и толковали о Нем. Как мы радовались тогда и как недолговечна была наша радость!
Старик горестно вздохнул и поник головой.
— Почему же недолговечна? — спросил мальчик, взяв руку старика в свои. — Скажи мне, где Младенец, я пойду к Нему. Я тоже хочу любить Его, молиться и поклоняться Ему!
— Нет, дитя мое, ты уж не увидишь Младенца, это было так давно, больше 30 лет тому назад.
— Так Он теперь взрослый человек? Где же Он?
— Увы, не спрашивай меня лучше. Он не вырос, Его убили.
— Убили?
— Да, дитя мое! Плачь, я говорю правду…
Старик горько заплакал.
Долго пришлось Ионафану утешать его, пока он несколько успокоился и продолжал рассказывать:
— В далекой Иудейской стране, там на Востоке, открыл Бог некоторым людям, что родился Спаситель, и они пришли в Вифлеем, их привела звезда. Там некогда и нашим отцам указывал путь огненный столб. Все удивились, когда у бедного дома, в котором жил плотник Иосиф со своей молодой женой, остановился богатый караван, и узнали, что чужеземцы приехали поклониться Божественному Младенцу. Но увы, раньше, чем приехать в Вифлеем, они побывали у Ирода, царя Иерусалимского, и рассказали ему о причине своего приезда и спросили его: «Где новорожденный Царь Иудейский?» Священники указали волхвам на Писание, где сказано, что Ему надлежит родиться в Вифлееме. Как тебе известно, Вифлеем очень близко от Иерусалима. Мы же повсюду рассказывали о ночном видении, а в Иерусалиме жило двое старцев: пророчица Анна и старец Симеон. Они узнали в Младенце обещаного Мессию и говорили всем и каждому, слушавшему и верившему им, что они видели Божью благодать, что смилостивился Господь и прислал Мессию, Который всех спасет. Но там, наверху, вельможи ничего не знали о Нем, пока не пришли волхвы. Царь Ирод страшно испугался, он боялся потерять престол. Но… Но как я могу тебе передать, что случилось потом. В то время мне надо было уйти из Вифлеема, и вернулся я туда лишь через три недели. Тотчас же побежал в Вифлеем, посмотреть на Мессию, и услышал там такие вопли отчаяния, какие я вовсе не ожидал встретить. Оказалось, что по царскому приказу в Вифлееме и его окрестностях были умерщвлены солдатами все младенцы мужского пола моложе двухлетнего возраста. Вне себя от отчаяния избегал я весь город и его окрестности, разыскивая нашего Спасителя, но все было напрасно. И вскоре мы убедились, что не только мужественный Младенец погиб, но, по всей вероятности, и старец Иосиф, и Дева Мария. Увы! Господь послал нам Спасителя, а они убили Его… И что иного мы могли теперь ждать, кроме Божьего гнева?!
Так рассказывал Ионафану старик Иаков, которому никто не верил в Галилее, что он говорил правду. И с этих пор мальчик стал его поверенным, он верил и плакал вместе с ним об убитом Мессии, но все же утешал старого друга тем, что, может быть, Господь каким-нибудь чудом спас Своего Сына, и Он снова явится.
Вифлеемское происшествие служило неизменной темой бесед, когда Ионафан приходил и приносил старику рыбу. Часто ночью, занимаясь рыбной ловлей, Ионафан думал: «Вот бы снова разверзлось небо и снова явились бы Ангелы и сказали, куда унесли они Младенца. Невозможно, чтобы Господь дал Его умертвить».
Так жили старик с мальчиком, и дружба их становилось все теснее и теснее.
* * *
С полгода тому назад с берегов Иордана пришла чудная весть. В земле израильской появился пророк, носивший верблюжью шкуру вместо одежды, подпоясанную ремнем; питался же он только диким медом и акридами, живя в пустыне и пещерах. Он проповедовал: «Покайтесь, ибо приблизилось царство Божие». И многие, многие шли за ним, и Галилея была полная его последователями. Пророк учил, как надо поступать, чтобы угодить Богу, и в некоторых местностях его считали за Мессию, о приходе Которого он проповедовал.
Когда старец Иаков впервые услышал об этом, то нахмурился и покачал головой, но Ионафан постоянно приносил все новые и новые известия, и старик не мог далее выносить неизвестности и сам отправился удостовериться собственными глазами. Он знал, что пророк — сын священика Захарии и жены его Елизаветы; оба из колена Левия, и, значит, он не может быть Спасителем, потому что мать драгоценного Вифлеемского Младенца звали Марией, и она была из рода Давидова.
Но Иаков все-таки хотел удостовериться.
С какой радостью снаряжал его в путь Ионафан. Принес ему даже полную сумку сушеной рыбы. И с каким страстным нетерпением ожидал он его возвращения.
И вот сегодня Иаков вернулся вместе с тремя другими пастухами, ходившими с ним в Вифлеем.
«Завтра, завтра, — подумал мальчик, когда старик ушел, — завтра я узнаю всю правду. О, скорей бы наступило завтра!»
Глава II. Мученик
— Ну, дитя мое, теперь все готово, садись у ног моих и слушай, но слушай со вниманием, я сообщу тебе великие новости.
Так начал на следующее утро старец Иаков свое повествование. Он сидел с Ионафаном наверху горы перед шатром. У ног его расстилалось глубокое Геннисаретское озеро. На другом берегу виднелись в вечернем освещении рыбацкие деревушки. Иаков опустил голову на руки. Ионафан в необъяснимом волнении не сводил глаз со старика.
— Милое дитя, все, что мы слышали об Иоанне Крестителе, — сущая правда. Он — сын Захарии. Его рождение было предсказано Ангелом. Ходит он в верблюжьей шкуре, питается акридами и диким медом.
Он великий Божий пророк. Он голос Ангела, восклицающего: «Готовьте путь Господу!» Но он не Сын Божий, не наш Спаситель. Я об этом слышал из его собственных уст. Как раз, когда мы приехали на Иордан, туда прибыло блестящее посольство священников и левитов, посланное первосвященником из Иерусалима с вопросом: «Кто ты?» Все затаили дыхание и напряженно ждали, что ответит Иоанн. «Я не Христос», — произнес он серьезно, и его прекрасное благородное лицо светилась правдой. «Быть может, ты обещанный Илия?» — спросили его левиты. «Нет, я не Илия» — «Зачем же ты крестишь, если ты не Христос и не Илия, и не пророк?» (ср. Ин.1:21, 25) — «Господь послал меня крестить водою покаяния; но за мною придет гораздо Сильнейший меня, Которому я не достоин развязать ремень обуви Его. И Он уже среди вас. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата уже в руке Его, и Он очистит гумно Свое, соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым» (ср. Мф.3:11-12). Так отвечал пророк, и мы долго толковали об его словах. Он крестил нас, одного за другим, в Иордане, но подойти и поговорить с ним не было никакой возможности, а мне так хотелось спросить его: «Тот, о Котором он упомянул, не Спаситель ли из Вифлеема?»
— Ах, зачем ты не спросил его, — воскликнул Ионафан, всплеснув руками. — Будь я на твоем месте, я бы уж как-нибудь протолкался к нему, упал бы к его ногам и молил бы его до тех пор, пока он не сказал бы.
— Тебе, может быть, и удалось бы, — улыбаясь, ответил Иаков, — но для меня, старика, это было не под силу. Его окружала тесная толпа священников, левитов и его учеников.
— Но слушай, что случилось дальше! Когда мы снова собрались на другой день вокруг Иоанна, он начал наставлять нас, как надо жить по воле Божией, и вдруг смолк. Мы удивились и посмотрели на него. Лицо его изменилось, просветлело, словно озарилось небесным сиянием. Он протянул руку и указал на другой берег. Люди, стоявшие близ него, рассказывали, что увидели там молодого Человека, весьма бедно одетого, но дивной и небесной красоты. Иоанн указал на Него и радостно воскликнул: «Смотрите, вот Агнец Божий, взявший на Себя грехи мира. Это Тот, о Котором я говорил, что Он придет после меня. Тот, что существовал до меня. Он сильнее меня. Я Его не знал, как не знали и вы, хотя я пришел крестить водой, чтобы Он мог явиться перед народом израильским. Он уже приходил ко мне, приказал мне крестить Себя, и во время крещения я увидел Духа Святого, спустившегося на Него в виде голубя. В то время я не знал Его, но Пославший меня крестить водой сказал мне: “Тот, на Кого спустится Дух Святой в виде голубя, будет крестить Духом Святым и огнем”. Я видел и свидетельствую, что Он Агнец Божий».
— Что ты скажешь об этом, дитя мое?
Мальчик вскочил.
— Значит, Он жив? Он жив! Они не убили Его! — Радостно воскликнул Ионафан.
— Вот видишь ли, я говорил тебе, что Господь сохранит Своего Сына.
— Ну ты, конечно, пошел и бросился к ногам Его?
— Увы, дитя мое, раньше, чем я пришел в себя от радостного изумления, Он уже ушел.
— Ушел! — и Ионафан всплеснул руками. — Ушел? Что же ты сделал тогда? Пошел разыскивать Его?
— Нет. Мы не в силах были поверить. Какой-то внутренний голос говорил мне, что Он еще раз придет. Я остался еще на день, и не напрасно. И вот, сижу я на берегу Иордана и вижу неподалеку Иоанна всего лишь с двумя учениками, народ еще не собрался. И он вновь протягивает руку к Иордану и восклицает: «Смотрите, вон Агнец Божий!» Я оглядываюсь, и, ах, дитя мое, как могу я описать, что я почувствовал. Не далее, как в тридцати шагах от меня, шел молодой Человек, лет около тридцати. Сердце мое учащенно забилось. Я хотел протянуть руку к Нему и не мог, словно кто-то связал меня. Ученики Иоанна тотчас же направились к Нему. Как ни погружен был Он в раздумье, Он сразу же обернулся, заслышав их шаги, и я увидел Его лицо, исполненное неизреченной доброты. Глаза… Ах, что это за глаза! Любовь, сама любовь смотрела на учеников, и раздался голос, подобный звукам арф в Иерусалимском храме: «Кого вы ищете?» «Учитель, где ты живешь?» — спросили они Его. Я страшно обрадовался, что могу узнать, где Он живет, но Он ответил им: «Идите и увидите», — и увел их. Когда они ушли, я долго горько плакал. О, я до тех пор не успокоюсь, пока наверное не узнаю, в самом ли деле Он Вифлеемский Младенец или нет. Сердце говорит, что да, но так трудно в это поверить.
— Как можешь ты сомневаться?! Господь смилостивился над нами, послал нам Пророка, а ты Ему не веришь, — горячо возражал старику Ионафан.
Долго, почти до самого утра разговаривали они о великих событиях, волновавших в то время души тысяч людей. Раньше, чем мальчик дошел до дому, в душе его созрело решение, что он во что бы то ни стало доберется до Агнца Божия, взявшего на Себя грехи мира, — до Своего дивного Спасителя.
«Я пойду в Вифлеем, — раздумывал он про себя. — Он, конечно, придет туда хоть еще раз, и я увижу Его. Но раньше, чем отправляться в путь, надо запастись съестными запасами для больной матери и отложить себе кое-что на дорогу». Он решился неутомимо работать и усердно молить Бога, чтобы Он послал ему хороший улов и много покупателей.
— Да, я пойду за доказательством. Я принесу их дедушке Иакову.
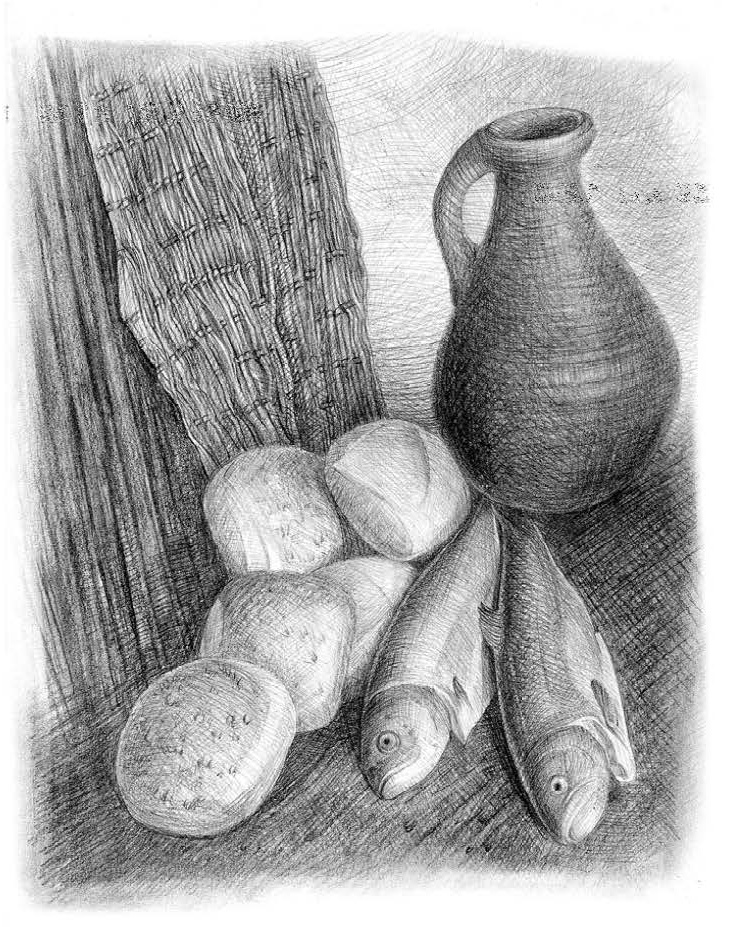
Глава III. Царица
Прошел месяц. И снова сидел старик Иаков с Ионафаном на горах. Перед ними стоял человек средних лет, с загорелым лицом, с блестящими увлажненными от слез глазами. Звали его Манассия.
— И вот стояли мы и слушали учителя Иоанна, — рассказывал он, — и старались принять в сердца наши Божественные истины, возвещаемые им нам. Вдруг видим, к нам направляется торжественное шествие. На царственно разукрашенных ослицах приближался в сопровождении черных рабов царь Ирод и его свита. На одних из носилок сидела богато разукрашенная жемчугами и самоцветными камнями Иродиада, супруга Филиппа-Ирода, которую царь отнял у своего единственного брата и сделал своей женой. Когда же рабы поставили носилки на землю и отдернули занавесы, мы подумали: «Уж не пришли ли и они принести покаяние?» Но они нисколько не походили на людей, пришедших для покаяния, скорее, — на любопытных, явившихся для развлечения. Они все были очень веселы. Нас оскорбило подобное высокомерие. В особенности насмешливо смотрела на учителя Иоанна порочная Иродиада, вот так, — сверху вниз. Царь сошел с ослицы и принялся разговаривать с Иродиадой. И как раз в эту минуту случилось нечто неслыханное. Учитель сразу пресек свою проповедь. Мы все смотрели на него и даже царь и Иродиада. Тогда он простер руку, указывая на царя, и воскликнул грозно: «Не хорошо, что ты владеешь ею». Я хоть и мужчина, но вздрогнул. Женщины закричали. В это мгновение учитель Иоанн был похож на грозного Архангела. Царь сначала весь вспыхнул, а потом побелел, как мел. Он чувствовал, что мы все на него смотрим и осуждаем его черный грех. Одно мгновение нам показалось: вот упадет он на колени и принесет покаяние, но тогда в свите произошло движение, они приблизились к царю, словно желая защитить его от пророка. Царь был страшно взволнован. Подумайте только, ведь никогда ни один царь не бывал обвиняем в грехах так открыто перед народом: он отдал приказ и…
— И что же тогда, Манассия? — нетерпеливо вскрикнул Ионафан.
— Что потом? О, если бы мог я остановиться на этом! Лучше бы никогда мне этого не видеть! — горестно простонал Манассия. — Связали нашего учителя и куда-то увели. И теперь томится он в темнице. Только некоторых из наших допустили к нему, но разве это могло нас утешить?
— Но зачем он так сказал царю? — разгоряченно возражал мальчик. — Разве можно так открыто обвинять царя на виду у всего света?
— Не горячись, дитя мое, — заметил старик, серьезно покачав головой. — Если царям не стыдно открыто грешить и нарушать перед миром Божий закон, то пророк Божий должен открыто порицать их. Ты знаешь, так поступали Илия, Иеремия, Иезекииль… И учитель Иоанн не мог иначе поступить. И Господь сохранит Своего слугу, как Даниила во львином рве…
— Но продолжай дальше, Манассия, — произнес Иаков, обращаясь к рассказчику. — Что сделали вы, его ученики, и как собираетесь поступить теперь?
— Я отправляюсь домой, а потом приду в Иерусалим, о других же я ничего не знаю. Все рассеялись. Да, многие покинули учителя еще раньше этого случая. Так например, Андрей, сын Ионин, и Иоанн, сын Зеведеев, уже раньше покинули его и пошли за Иисусом из Назарета, на Которого мой учитель указывал как на Агнца Божия.
— Ах, не знаешь ли ты чего-нибудь об Агнце Божием? Зовут ли Его Иисусом, как того Младенца из Вифлеема? — прервал старец речь огорченного ученика Иоанна. — Где Он?
— Я слышал, что Он пошел в Кану Галилейскую и совершил там великое чудо, претворив воду в вино. Только я не верю. Меня огорчает, что у Него больше учеников, чем у нашего учителя. Все бегут к Нему, потому что Он, говорят, исцеляет больных и так проповедует, как не проповедовал еще ни один пророк. Словно кто-нибудь может проповедовать лучше нашего учителя Иоанна.
— А слышал ли ты Его?
— Нет, и даже не хочу слушать. Ни за кем другим я не последую и останусь верным своему учителю Иоанну.
— Не обещанный ли Он Мессия?
— Мессия? Сын-то плотника? Все знают и братьев его, и сестер, и Мать.
— А Мать его жива?
— Жива.
— Где же Она живет?
— Прежде, в Назарете. Быть может, Она и по сей час там. Он же ходит повсюду, как делал это и наш учитель. После свадьбы в Кане Он вернулся в Назарет. И там проповедовал в синагоге. Его чуть-чуть не убили. Назаряне повели Его на высокую гору и хотели сбросить Его. Но Он прошел промеж них и пошел в Капернаум. А пошли ли с Ним Его Мать и другие Его родственники, не знаю. Узнал же я об этом от отца Иосифа. Ну да будет нам толковать о Нем. Я пришел только спросить, не пойдет ли кто-нибудь из вас в Иерусалим на праздник Пятидесятницы? В нынешнем году там будет огромное стечение народа. Пойдете ли вы?
— Не знаю, — отвечал старик и печально покачал головой. — Для меня это слишком далеко. Господь видит, что у меня нет больше сил. Пятьдесят лет подряд ходил я паломничать в Иерусалим. Не пропустил ни одного праздника. А теперь могу лишь желать одного, чтобы Ионафан мог попасть туда.
— Дитя мое, — обратился он к мальчику, — отчего ты не скажешь, хочешь ты идти или нет?
Мальчик вскочил. До сих пор он сидел, уронив руки на колени.
— А как ты думаешь, Манассия, будет там Иисус?
— Конечно, — ответил Манассия и нахмурился. — Если Он действительно Пророк, то не должен пропускать праздника.
— Ну так я пойду и все узнаю, и обо всем расскажу тебе потом, дедушка Иаков.
— Теперь уже поздно, мне пора идти домой. Мир вам!
— Благослови тебя Господь.
Мужчины сердечно распрощались с мальчиком, потом уселись на земле и погрузились в серьезные рассуждения. Старец счел нужным посвятить своего родственника в свои мысли о том, почему его так интересовал Иисус из Назарета.
Глава IV. Чудесные исцеления
На базарной площади Магдалы[5] царила шумная, оживленная жизнь. Продавцы и покупатели возвышали голоса, к ним примешивался рев верблюдов, крики ослов, стук деревянных сандалий и другие звуки. Посреди шумной толпы расхаживал Ионафан, личико его было свежо, как утро, а на голове нес он пустую корзину. В первый раз продавал он рыбу сам, его мать была больна. Заработок был хорош, он не только продал всю свою рыбу, но продал еще несколько кожаных мехов и овечьих сыров дедушки Иакова. И только теперь, покончив с делами, осматривал он базар, раздумывая, что может купить матери и старому другу. Но вдруг Ионафан забыл обо всем остальном, его слух поразило имя, о котором он думал и день, и ночь, — имя Иисуса Назарянина.
В углу базарной площади стоял человек, указывавший себе на руки и ноги и рассказывавший с великой радостью о чем-то необычайном стоявшим перед ним людям, и при этом часто ударял себя в грудь.
— Что там случилось? — спросил Ионафан человека, быстро шедшего оттуда.
— Фома-прокаженный вернулся домой здоровым, его исцелил Иисус из Назарета. Не знай я, что он до половины уже сгнил, я бы ему не поверил. Но не задерживай меня, мальчик, ступай и послушай сам. Я бегу за отцом, который тоже прокаженный, я схожу за ним в его жалкое жилище и сведу его к великому Пророку.

И, кивнув головой, он побежал дальше, а Ионафан помчался к толпе, все более и более разраставшейся.
Человек, стоявший посреди нее на возвышении, не уставал рассказывать:
— Я уже истлел наполовину, и не было для меня никакой надежды. Люди изгнали меня из своей среды, жена и дети должны были покинуть меня. Никто не протягивал мне руки, но Он не побоялся. Я пал к Его ногам и закричал:
— Господи, если захочешь, то можешь очистить меня! Он протянул Свою руку, вот здесь лежала она — святая целительная рука. «Хочу, очистись», — сказал Он, и болезнь покинула меня, теперь я здоров. Восхвали, душе моя и все, что во мне есть, Господа и имя святое Его. Он исцелит все твои пороки. Все, у кого есть кто-нибудь больной, несите его к Нему. Меня он исцелил, значит и вас исцелит. Великий Пророк явился между нами, и Господь посетил народ Свой.
И снова без устали начинал исцеленный рассказывать, и слезы струились по его щекам.
Но тут, к великому ужасу и гневу Ионафана, пришел левит и не хотел верить говорившему.
— Никогда еще пророк не выходил из Галилеи, и что может быть доброго из Назарета? — сказал он.
Тогда сквозь толпу пробрался богато одетый юноша.
— Ты не прав, учитель! — произнес он. — Великая сила у Этого Пророка. Он не только исцеляет болезни, но изгоняет и бесов, так что бесы кричат: «Ты Сын Божий». Он может совсем изменить здорового человека, так что никто его не узнает; если хотите послушать, то я расскажу вам, что я видел.
— Расскажи, расскажи! — дружно закричали все.
Сильнее всех кричал Ионафан.
Юноша даже замахал руками, чтобы они успокоились.
— Мы стояли с товаром у сборщика пошлин. У стола сидел озабоченный и углубленный в раздумье сборщик Левий, сын Алфеев, мой знакомый. Ни за что на свете не покинул бы он своего доходного дела. Как раз он покончил с нами, когда народ заволновался и пронесся слух, что идет Иисус из Назарета. Вы можете представить, какое на нас произвело впечатление это известие, когда мы узнали, Кто идет? Он шел с двумя учениками, а за ним следовала толпа. Когда они дошли до стола сборщика пожертвований, Пророк поднял голову, остановился и посмотрел на Левия. У Левия задрожали руки и тяжелое облако забот в одно мгновение как будто упало с его души — так просветлело его лицо. «Ступай за мной», — сказал Иисус. И как вы думаете, что случилось?
— Левий пошел за Ним! — с уверенностью закричал Ионафан.
— Твоя правда. Левий встал, бросил денежную сумку, оставил все стоять, как оно было, и пошел за Ним. Потом приготовил он Учителю у себя дома ужин и теперь повсюду следует за Ним. Потому-то я и говорю, что Пророк обладает великой силой.
— Конечно, великой, — сказал только что подошедший старый рыбак.
— И ты что-нибудь знаешь? — накинулись все на него с расспросами.
— Я видел такой улов, какого вы никогда не видали. Я был у дочери в Капернауме, мы как раз вместе с зятем отправились ловить рыбу. Мы были на двух лодках и проработали всю ночь напролет. Поутру на берегу собралась огромная толпа, пришедшая к Иисусу из Назарета, так что Ему пришлось попросить Симона, сына Ионова, впустить Его в свою лодку и немножко отчалить от берега. Так оно и было сделано. Он учил народ с лодки, и мы позабыли обо всем на свете во время Его речи. Окончив ее, приказал Он Симону выехать на глубину озера и забросить сети. Симон удивился, а мы рассмеялись. Ну где же это видано, чтобы днем ловили рыбу? Но Симон сказал: «По Твоему слову заброшу я сеть, но мы проработали всю ночь и ничего не наловили». Но едва только он забросил сеть, как вытащил такое множество рыбы, что сеть порвалась. Он кликнул на помощь, и мы едва смогли причалить к берегу обе переполненные рыбой лодки. Они были полны прекрасной крупной рыбы. Симон бросил все и пошел с Иисусом. И мы пошли с Ним в Капернаум. А там, в одном доме и во дворе, собралась такая толпа, что расслабленного, принесенного к Нему, пришлось спустить через кровлю дома к Его ногам.
— И что же, Он исцелил его? — спрашивали многие.
— Да, исцелил. Но вот что было удивительно… Очень удивительно, и мы никак не могли взять этого в толк… — со вздохом, прерываясь произнес рыбак. — Когда Он посмотрел на больного, то вдруг сказал: «Сын мой, прощаются тебе грехи твои».
— Ну, кто же может прощать грехи, кроме Господа, Бога Иаковлева? — удивились слушатели.
— Он богохульствует, — мрачно заметил левит.
— Так подумали многие и так даже сказали Ему Самому; но Он задал им такой вопрос, на который Ему никто не смог ответить: «Что легче? Сказать: “прощаются тебе грехи твои” или “встань и ходи”?» Все смолкли. «То и другое мог совершить лишь один Бог. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи на земле, — сказал Он через мгновение и обернулся к больному, — говорю тебе, встань, возьми постель твою и иди домой». И больной встал и пошел домой.
Как только рыбак окончил рассказ, собравшиеся чуть было не заспорили, потому что левит утверждал, и многие примкнули к нему, что Этот Иисус не от Бога. Но как раз пришел караван, им пришлось расступиться и Ионафан не слышал ничего больше. Тут он вспомнил, что пора было возвращаться домой и пересказать дедушке Иакову все удивительные новости, слышанные им. Он постоял еще немного и услыхал тяжелый вздох, и увидел красиво одетого человека, на широкой кайме одежды которого была надпись. У человека был благородный вид и осанка, он был очень печален.
— Что с тобой, учитель? — с низким поклоном отважился спросить его Ионафан.
Человек серьезно посмотрел в участливое личико мальчика.
— Моя единственная двенадцатилетняя дочь больна. Если бы я мог поверить всему, что я слышал, то я сходил бы к Пророку.
— О, верьте, верьте только. Почему же вам не верить? — попытался убедить его мальчик. — Он исцелит ее, Он наш Спаситель!
Тут прошли мимо них два араба с верблюдами и разлучили мальчика с прохожим, а когда они прошли, тот уже затерялся в толпе.
К мальчику же подошел человек и спросил:
— А знаешь ли ты, с кем ты разговаривал?
— Нет, не знаю.
— Это начальник синагоги, учитель Иаир, очень богатый, очень знатный человек.
«Но несчастный, — подумал Ионафан. — У него больна дочь, а он не видит, что Иисус может исцелить ее».
И, идя домой, мальчик всю дорогу негодовал:
«И что за люди! Верить не умеют! Дедушка Иаков, потом левит, а теперь начальник синагоги Иаир. Умнее всех был мытарь: бросил все и пошел за Ним. Я бы сделал то же самое. Я поступил бы точно так же. Ах, только бы мне попасть в Иерусалим!»
Обогащенный столькими новостями, вернулся Ионафан домой. Передал матери все, что заработал и купил, и, нимало не обращая внимания на болевшие ноги, побежал к Иакову, зная, что там он может переночевать.
Вот будет чудесная ночь, когда ему расскажут о вещах, далеко превосходящих все слышанное. Все уверяют, что прокаженный прав: Великий Пророк явился между нас, и Господь посетил народ Свой!
Глава V. Болезнь дедушки Иакова. Рассказ Манассии об Иисусе
Нонафану и в голову не приходило, что он может не только не принять участие в Иерусалимском празднестве, но что пройдут недели, даже месяцы, прежде чем ему представится возможность узнать подробнее об Иисусе из Назарета. А он так много наловил рыбы и так удачно продавал свой улов! Наготовил для матери такой запас, что и ему осталось на дорогу! И вдруг он не пошел.
Случилось, что когда он пришел к дедушке Иакову проститься, он застал последнего тяжко больным. Мальчик горько плакал. В его сердце происходила тяжелая борьба: должен ли он идти или нет? С одной стороны, горячее желание увидеть и послушать Иисуса, с другой — любовь к старику. Но в конце концов любовь все-таки победила.
«Если Иисус — Агнец Божий, так любящий больных, Он, наверное, не был бы доволен, если бы я задумал покинуть больного и одинокого дедушку Иакова. Кто станет за ним ухаживать, если я уйду?» И Ионафан затаил в себе свое стремление, отрекся от себя самого и остался. О том же, сколько слез пролил он дома, ничего не узнал старик Иаков. Да и вообще старик так был плох, что мало знал о себе самом и вообще о мире. Ионафан заботился о его овцах и собаках, ухаживал за ним, как только мог. Выздоровление шло очень медленно. Иаков уже был стар, а в старости болезни приходит очень быстро, но уходят чрезвычайно медленно. Помимо своей заботы об Иакове, мальчику надо было подумать и о матери, и хотя последняя не была уже больна, но все же не могла кормиться без сына. Дедушка Иаков посылал ей молока и даже иногда ягненка, но все же Ионафану приходилось ловить рыбу, чтобы содержать мать и себя.
Так проходили дни, недели и месяцы.
Люди уже давно и позабыли о Иерусалимском празднике, но желание Ионафана все еще не сбывалось.
Всякий может себе представить, с какой радостью встретили Иаков и Ионафан своего друга Манассию, когда тот нежданно-негаданно пришел к ним. Разговор, конечно, перешел на вопрос, столь важный для них обоих:
— Был ли ты в Иерусалиме?
Лицо Манассии стало серьезным.
— Да, был и никогда еще не видел на празднике такой несказанно огромной толпы людей. Священник Ливий, сын Аарона, говорил, что он уже давно не приносил такого множества жертвы, как в этот день.
Ионафан дотронулся до руки Манассии.
— Видел ли ты Иисуса? Был ли Он там? Ах! — вырвалось у мальчика со вздохом.
Старик же опечаленно произнес:
— Вот видишь, дитя мое, не заболей я, и ты увидел бы Его, но я виной тому, что случилось иначе. Но Господь Бог наших отцов вознаградит тебя за все то, что ты сделал для меня.
— Не говори так, — возразил мальчик, обхватив колени старика. — Ведь Манассия все нам расскажет. Не так ли?
Манассия утвердительно качнул головой, и когда он выпил предложенного ему молока, они все вышли из шатра. Ионафан очень заботился о стаде, со вчерашнего дня он перебрался на место, где было вдоволь травы. Здесь овцы могут пастись около старого Иакова, и он может окликать их по именам…
Когда все было готово, Манассия начал:
— Отец Иаков и ты, Ионафан! Я говорил вам прежде, что никогда не изменю моему учителю Иоанну и сдержу слово. Но все-таки то, что я вам расскажу сейчас об Иисусе из Назарета, — великое дело, и я ничего не скрою от вас, что я видел или слышал о Нем хорошего. Еще ни один человек не проповедовал так, как Он. Его речь — как драгоценная жемчужная нить, и каждая жемчужина в ней оправлена в золото: то сладостная, как мед, тающая на сердце, то мощная, потрясающая всю душу. Глаза Его глубоки, как озеро, расстилающееся у наших ног, но когда они смотрят на кого-нибудь, то из них изливается целое море любви. Когда Он взглянул на меня, все затрепетало во мне от счастья. А Его фигура! Тихая царственная осанка! Ты уже видел Его, Иаков. А ты, Ионафан, увидишь. Он седьмого дня придет в Капернаум, и ты тогда все узнаешь. Его нельзя описать. Ты сам увидишь Его и никогда не забудешь. Но Он может быть и грозен.
— Грозен?
— Да. Мой близкий приятель, левит Иосиф, рассказывал мне следующее о Его первом посещении Иерусалима на Пасху. «Нас уже много собралось в храме, — говорил Иосиф, — как вдруг приходит Он. Он увидел покупавших и торговавших жертвенными животными, посмотрел на стул менял с деньгами, взглянул и на толпу, пришедшую в храм за чем угодно, только не для служения Богу, и лицо Его омрачилось печалью. Ах, как горестно видеть Его в страдании! Человек не может вынести этого. И вдруг из Его кротких любвеобильных глаз сверкнула молния. Не успели мы и оглянуться, как у Него в руке очутилась веревочная плеть, и Он воскликнул, хотя не громоподобным, но мощным голосом, который всякий должен был услышать: “Возьмите прочь эти вещи и не делайте из дома Отца Моего дома торговли”. Он выгнал покупателей и продавцов. Те же самые руки, от чьего слабого прикосновения исцелялись больные, опрокинули меняльные столы и рассыпали деньги, и видно было, как невыносимы для Него купля и продажа в доме Господнем». Так рассказывал мне Иосиф.
— И никто Его не схватил? — с ужасом спросил старик Иаков.
— Никто. Все были ошеломлены: и священники, и левиты, и певчие, и толпа. Но правда, Его осыпали вопросами: «какой властью Он это делает и какое знамение Он им дает, что имеет право так поступать». И Он дал им очень странный ответ. Он положил руки на грудь и с небесной кротостью произнес: «Разрушьте этот храм, и Я его в три дня воздвигну». На что Ему с негодованием напомнили о трех долгих годах, в которые построился Иерусалимский храм. Но Он не разъяснил им Своих слов, а ушел прочь и совершил много чудес над больными у храма. И много удивительных вещей совершил Он в течение праздников. Я следовал за Ним повсюду, по всему Иерусалиму. Куда бы Он ни приходил, везде собиралась огромная толпа вокруг Него. Он проповедовал неустанно и исцелял. Мне страшно хотелось увидеть, примет ли Он участие с учениками в празднестве или нет. Ну, и Он пришел. Подумайте только, Он побывал и в Овечьей купели, где столько больных ожидали, когда Ангел Господень сойдет и возмутит воду и можно будет войти в нее первым и исцелиться. Он пришел и тотчас же подошел к человеку, который по его собственному уверению болел уже тридцать восемь лет. «Хочешь стать здоровым?» — ласково спросил его Иисус, и когда тот зажаловался, что у него никого не было, кто бы мог помочь ему спуститься в воду, Он исцелил его единым словом. Мне кажется, Он знает, кто в Нем больше всего нуждается, к тому Он Сам идет и помогает. Но священники упрекнули Его в том, что Он исцеляет в субботу. И Он отвечал им тоже очень странными словами: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин.5:17). И прибавил: «”Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего… (ср. Ин.5:19)”. “Отец возлюбил Сына и все дал в руку Его” (Ин.3:35)». Таких странных слов Им сказано было много. В особенности у меня в памяти остались следующие: «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его» (ср. Ин.5:22-23). И как только я это услыхал, сейчас же подумал о твоем рассказе, дедушка Иаков. Он Сам назвал Себя Сыном Божиим и говорил: «Исследуйте Писания: ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо Мне… Ибо если вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал обо Мне» (ср. Ин.5:39, 46).
— А что, если Он и в самом деле Сын Божий, из Вифлеема, наш Спаситель, а мы так мало чтим Его? — продолжал Манассия. — Наши священники преследуют Его, и ни один не верует в Него. Что будет? А если Он и Спаситель, то зачем Ему выдавать Себя за Сына Божия?
Старик не отвечал и поник головой на руки. Ах, как трудно было верить и не бояться разочарования!
Но перед Манассией очутился Ионафан.
Щеки его пылали, глаза метали молнии негодования.
— Что тебе сделал Божий Агнец? Почему ты не веришь? Ты видел и слышал Его. Учитель Иоанн сказал тебе, что это Тот самый, Который будет крестить Духом Святым и огнем. Он исцелил больного, лежавшего тридцать восемь лет. Что же Он должен еще сделать, чтобы ты уверовал в Него?
Манассия слегка нахмурился, но ничего не мог возразить на обвинения мальчика.
Глаза старца Иакова были влажны.
— Ты прав, дитя мое. Мы хотим верить Ему, хотим пойти к Нему, и Он нам все объяснит. Но теперь не станем больше разговаривать о таких вещах.
— Не слыхал ли ты чего об учителе Иоанне, Манассия? — переменил старик разговор.
— Нет, не слыхал, он все еще в темнице, но послал одного из наших к Иисусу спросить: «Тот ли Ты, Кто должен прийти, или нам ждать другого?»
— И что же Он велел ему передать? — прервали старик и мальчик.
Манассия опустил голову и расскзал следующее:
— Они пришли к Нему как раз в то время, когда Он исцелял больных, и Он отвечал им: «Расскажите Иоанну все, что вы видели и слышали: слепые прозревают, глухие слышат, хромые ходят, прокаженные очищаются, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о Мне».
— Вот видишь, Манассия, — ликовал Ионафан, — ответ нашего Спасителя и для тебя пригоден.
— Я так и ожидал, что ты мне это скажешь. Ну уж если говорить, так говорить все, что я знаю. И должен рассказать вам трогательное происшествие. Я пошел с Иисусом из Иерусалима а Наин. По дороге один сотник послал к Нему Иудейских старшин с просьбой исцелить больного слугу. Старшины убеждали Его исполнить просьбу сотника. Господь пообещал прийти и исцелить его, но сотник послал друзей, а потом пришел и сам, говоря: «Не утруждай себя, Господи, ибо не достоин я, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи лишь слово, и выздоровеет слуга мой». И все случилось, как сказано было. И удивлялся Иисус такой вере, и сказал, что подобной веры не встречал и в Израиле. И слуга сотника, как мы узнали позднее, действительно поправился. Мы были страшно изумлены. Иисус не ходил к больному, никогда не видел его, даже не слыхали, чтобы Он произнес какое-нибудь слово, а слуга выздоровел. Но в Наине наше изумление достигло еще большего предела…
— Знаешь, дедушка Иаков, — радостно воскликнул Ионафан, всплеснув руками, — я расскажу Ему о тебе и о матушке. И Он, если уж Он обладает такой силой, исцелит и вас. Но рассказывай, пожалуйста, что случилось в Наине? Я весь горю от нетерпения и радости, я уверен, что там случилось что-то очень хорошее.
— Конечно, хорошее, Ионафан. Когда мы проходили к раскрытым городским воротам Наина, то мы уже издали услыхали плач и увидели: высоко на плечах мужчины несли гроб, в нем лежал мертвый юноша, единственный сын вдовы, шедшей около гроба и горько плакавшей. За нею следовала большая толпа. Я посмотрел на Иисуса и подумал: прийди мы немного раньше, Он, наверное, исцелил бы сына бедной вдовы. Я видел, что и Ему было жаль несчастной женщины и умершего юноши. Иисус так участливо посмотрел на нее. Он остановился. Мы расступились, чтобы пропустить погребальное шествие. Но Он не посторонился. Когда несшие дошли до Него, Он положил руку на гроб, и они остановились. Все смотрели на Него, все затаили дыхание. «Не плачь!» — ласково произнес Он матери умершего, не замечавшей в своей горести, что творилось вокруг нее. Она взглянула на Него и перестала плакать. Одним Своим взглядом Он успокоил ее. Потом обернулся к умершему.
— И что?
— Не мешай ему, дитя мое!
— И сказал: «Юноша, тебе говорю: встань». И едва только он выговорил, как юноша раскрыл глаза. Краска жизни разлилась по Его лицу, Он вздохнул, пошевелил руками и сел, а что было дальше, невозможно того описать. Мать и сын рыдали от счастья. И Он радовался вместе с ними. Но потом радость сменилось ужасом, Он был страшен нам Своей силой. Я подумал о Его словах, слышанных мною в Иерусалиме: «”Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет” (Ин.5:21)… “Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут” (Ин.5:25)». И все закричали с великою радостью: «Великий пророк явился между нами, и Господь посетил народ Свой».
До сих пор дедушка Иаков слушал. Теперь же он обратился лицом к Иерусалиму, и из его уст полилась хвала, долгие годы таившаяся в его душе. И в эту минуту он верил, что Бог сохранил Своего Сына от Ирода, и возрастил Его в уединении, и отдал Его миру Спасителем.
Итак, жив Вифлеемский Младенец.
И когда Манассия спустя несколько часов покинул хижину Иакова, он ушел с твердой решимостью разузнать, где теперь Иисус, чтобы свести к Нему своих друзей: Иакова и Ионафана.
Глава VI. Тайна Младенца из Вифлеема
Снова прошло несколько недель.
Ионафан сидел вечером перед шатром, но уже один — дедушка Иаков ушел в Вифсаиду продавать овец и шерсть. Он давно ушел, но все еще не возвращался. Должно быть, не мог продать товар, или уж не заболел ли во время пути? Как бы то ни было, но Ионафан обязан до его возвращения спасти его стадо. Мальчик никак не мог его дождаться. Однажды в пятницу он, вместе со своей палаткой, спустился немного ниже и решил навестить мать. Он оставил около стада хромого сироту Рувима, всегда помогавшего пастухам, и теперь он был нанят дедушкой Иаковом до своего возвращения, чтобы Ионафан, пасущий его стадо, мог отлучаться. Мать Ионафана обыкновенно рассказывала сыну всякую всячину, слышанную ею от рыбаков, а потом Ионафан брал сеть и отправлялся ловить рыбу, и, закинув в сеть, он садился на берег и смотрел на воду.
Так оно было и теперь.
Озеро было неподвижно, словно огромное зеркало, окруженное цветущими кустами. В нем отражались звезды и месяц. Боже, как здесь было чудесно! Но вдруг на освященную поверхность воды упала тень.
Мальчик обернулся. На берегу озера, прислонившись к дереву, стояла красивая молодая женщина. Густые локоны обрамляли приветливое лицо, и из-под приподнятого покрывала смотрели большие голубые глаза, устремленные на освященную водную гладь. Вдруг женщина обернулась и увидела удивленное лицо мальчика. На ее губах заиграла ласковая улыбка. Они поздоровались.
— Что ты тут делаешь? — Доверчиво спросил Ионафан. — Наступает ночь, а сторона пустынная, где ты собираешься ночевать?
— Ночью я пойду дальше. Мои носильщики отдыхают неподалеку отсюда, я пошла посмотреть на священные воды Геннисаретского озера.
— Почему ты называешь их священными?
— Почему? — рука молодой женщины погладила ласково кудрявую головку мальчика, а на лице ее отразилось глубокое волнение. — По этим волнам часто плавает лодка, из которой Иисус из Назарета, наш Учитель, поучает народ.
— Ты знаешь Его? — радостно воскликнул мальчик и сейчас же очистил место около себя на скале для женщины.
— Знаю ли я Его… — сказала она, усаживаясь. — Ведь Он мой дорогой Господин и Учитель. Теперь я была дома, у своих. Муж и дети удерживали меня, ни за что не хотели отпустить меня, но как цветок не может жить без солнца, так и моя душа не может жить без света Его слов, и потому-то спешу я теперь ночью, чтобы как можно скорее разыскать Того, перед Кем так трепещет моя душа.
— А кто ты?
Я Иоанна Хуза, жена домоправителя Ирода.
— А что тебе нужно от Него? Может быть, ты больна? — настойчиво допрашивал мальчик.
— Теперь уже не больна. Он исцелил меня, я следую за Ним, потому что необходимо, чтобы кто-нибудь да прислуживал Ему. Я не одна, нас много, больше всех прислуживает Ему Мария из Магдалы.
— Кто это?
— Богатая женщина, бывшая прежде очень несчастной; она была одержима бесом, но Иисус освободил ее. О, мы даже не умеем хорошенько выразить Ему всю нашу благодарность. Наши знакомые удерживают нас, а родственники всячески мешают, но мы не обращаем на них внимания, только бы нам удалось услужить Ему.
— А что с тобой было?
— Телом я была здорова, но болела душой и сердцем. Но это долгая история…
— Нет, пожалуйста, пожалуйста, расскажи, — упрашивал Ионафан.
— Ты любишь Его?
— О, да! Очень!
— Видел ты Его?
— Больше всего на свете я хочу увидеть Его, и я думаю, что Господь Бог даст возможность повидать Его.
В коротких словах мальчик рассказал все, что знал о Вифлеемском Спасителе от дедушки Иакова, рассказал и то, что дедушка Иаков видел Его на берегу Иордана и что он, Ионафан, очень бы хотел, но никак не мог попасть в Иерусалим.
Женщину заинтересовало Вифлеемское происшествие.
— Когда я увижусь с Марией, Его Матерью, я спрошу Ее, Тот ли Он Младенец, о Котором говорили Ангелы, и где Она спряталась с Ним, когда Ирод велел умертвить детей? И если тебе удастся прийти к нам, то постарайся найти меня, и я тебе все расскажу. Он наш Спаситель, Он Агнец Божий. Ты хотел знать, как я пришла к Нему? С детства душа моя стремилась к миру, в особенности с тех пор, как меня выдали замуж и я очутилась при дворце Ирода, где царила роскошная, веселая и такая греховная жизнь. Я чувствовала, что мы жили не так, как следовало, и Бог не может быть доволен нами. Однажды отправился Ирод с Иродиадой и большой свитой посмотреть на великого пророка. Когда я услышала Его, у меня открылись глаза и я постигла, что мы великие грешники. И тут пророк высказал царю правду и был брошен за то в темницу. Душевная неудовлетворенность все возрастала во мне. Я отправилась паломничать в Иерусалим и велела принести богатую жертву, но все было напрасно. В Иерусалиме много рассказывали об Иисусе и чудесах, совершенных Им на Пасху. Я принялась разыскивать Его до тех пор, пока не нашла. Я пришла к Нему как раз в то время, когда Он сидел на горе и проповедовал. Он воскликнул: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Я успокою вас» (Мф.11:28). Я встала и подошла к Нему, Он посмотрел и сказал: «Возьми крест свой и следуй за Мною» (ср. Мк.8:34). Я последовала за Ним. Я следую за Ним, помогаю Ему и Его ученикам. Он учит меня любить и терпеть. Я благодарю Бога, что мой муж не очень меня осуждает. Он только боится, что я потеряю рассудок. Отец, мать и вся родня отреклись от меня, как от нечистой. Но я об этом ничуть не беспокоюсь. Душа моя полна радости. Иисус простил мне все, Он исцелил мое сердце. А теперь, когда я узнала, что Он Мессия, тем вернее буду служить Ему. Я знаю, Он когда-нибудь будет царствовать. И когда Он будет Царем, Он, быть может, не будет нуждаться во мне, но я воспитаю для Него моих двоих сыновей. Но теперь, пока Он в такой бедности, что Ему, как Он Сам говорит, негде преклонить головы, теперь Он нуждается в нашей помощи…
Ионафан слушал речи незнакомки, не перебивая.
— Однако мне пора идти, — и женщина поднялась.
— Только скажи мне, пожалуйста, одно, — спросил робко Ионафан. — Если я приду к Нему, то могу принести Ему двух рыбок? Примет Он их от меня?
— О да, Он очень милостив и очень беден, и хотя Он совершает великие дела, но для Себя Он еще ничего не совершил.
— Когда я пойду к Нему, я попрошу матушку испечь мне несколько хлебцев, возьму рыбы и положу все к Его ногам.
— Он благословит тебя за это. А теперь да благословит тебя Господь, Бог отцов наших. Мир тебе!
— И тебе мир!
Мальчик низко поклонился и долго смотрел туда, где исчезло белое одеяние ученицы Иисуса Назаретского, покинувшей дворец Ирода и роскошную жизнь, покинувшей родителей, мужа, всю родню, взявшей свой крест и последовавшей за Тем, Кому негде было преклонить голову, — и все для того, чтобы служить Ему.
Когда Ионафан смотрел таким образом вслед ученице Пророка, кто-то обнял его и произнес: «Мир тебе».
— Дедушка Иаков?!
Да, около него стоял дедушка Иаков. Но он ли это? Лицо его сияет радостью и небесным миром.
— Ты видел Его? — вскрикнул мальчик в блаженном провидении.
— Я видел Его, дитя мое. Видел и слышал.
Старик сел на скалу.
— Оттого я так долго и задержался. Мое стремление узнать истину заставило меня из Вифсаиды пройти в Капернаум. Там указали мне на дом, где Он жил, когда бывал в городе, но Его дома не было. Но зато я застал Его Мать Марию, и знаешь, дитя мое, хотя прошло уже 30 лет и Она состарилась, но я сейчас же узнал в Ней Мать нашего Вифлеемского Спасителя. Я познакомился с Ней, и Она рассказала мне, что раньше, чем солдаты Ирода пришли Вифлеем, Ее мужу Иосифу во сне явился Ангел и велел взять Ребенка с Матерью и бежать с ним в Египет. Еще не рассвело, когда он разбудил Марию. Они взяли Младенца и бежали. И так пришлось нашему Спасителю еще крошечным Младенцем бежать от Ирода, как и некогда Давиду от Саула, и Мать Его была вынуждена скрывать Его точно так же, как мать Моисея своего сына. И так Он был сохранен. Десять лет прожили Они в Египте и тогда только вернулись Они назад и поселились в Назарете. Так исполнилось пророчество: «”В Вифлееме Он родился” {ср. (Мф.2:1, 6) и (Мих. 5, 2)} и “из Египта призвал Господь Сына Своего” (Ос.11:1), и должен Он называться Назарянином». Теперь же должно исполниться лишь следующее: «Должен быть Царем, Который будет хорошо править». И, без всякого сомнения, это сбудется. Но не знай я даже всего этого, я видел Его Самого и слышал. Сам собственными глазами видел совершенные Им чудеса; и уже по этому одному должен верить, что Господь посетил народ Свой. Теперь подожди лишь. Когда придет Манассия, тогда ты сейчас же пойдешь с нами в Иерусалим, чтобы исполнилось твое горячее желание, дитя мое. Теперь у меня одно желание, — чтобы Господь отпустил меня с миром, потому что я уже видел посланного Им Спасителя.

Глава VII. Горестные известия
Изо дня в день поджидал Ионафан Манассию, но тот не приходил, и дедушка Иаков никак не мог постичь, почему. Но Манассия все не приходил.
Быстро промелькнула осень, и наступили зимние дожди и туманы, и Ионафан понял, что ему надо ждать весны. Часто потихоньку мальчик горько плакал, потому что время шло, а с ним все сильнее разрасталось стремление увидеть Иисуса. Ионафан томился, стал нетерпелив, по временам даже ворчлив. Когда же дурное настроение проходило, он искренно каялся в своих прегрешениях. А вскоре он начал замечать, что у него прямо-таки болит сердце. Прежде ему просто хотелось увидеть дивного Сына Божия, теперь же он знал, что ему необходим Агнец Божий, взявший на Себя грехи мира, — в особенности же когда он услыхал весной о недавно произошедшем случае.
Рассказала же об этом его матери ее замужняя сестра, жившая в Тивериаде. Один знакомый фарисей пригласил Господа к себе и, когда сидели они за столом, в комнату вошла женщина, известная в городе и окрестностях своей дурной жизнью. Она прямо направилась к Нему, упала к Его ногам и горько заплакала. Затем натерла ноги Его драгоценным маслом, омыла слезами, целовала их и осушила волосами. Он не воспрещал ей.
Когда же фарисей удивлялся, что Он позволяет ей дотрагиваться до Себя — потому что, будь Он по-настоящему Пророк, Он знал бы, что это за женщина, — то Иисус неожиданно обратился к нему и сказал:
— У заимодавца было двое должников. Один был должен ему пятьсот, а другой пятьдесят монет. Но у них нечем было заплатить ему, и он простил их. Скажи, который из них более благодарен ему?
Фарисей отвечал:
— Полагаю, что тот, которому больше простилось.
— Верно ты рассудил, — сказал Иисус и указал на плачущую женщину:
— «Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги. Ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало и любит» (ср. Лк.7:44-47).
И потом склонился к женщине со словами:
— «Прощаются тебе грехи. Вера твоя спасла тебя, иди с миром» (Лк.7:48, 50).
Она встала и пошла, и видно было, что прощены ей были грехи ее и что исцелено было сердце ее, так же как и сердце у Анны Хузы.
«Простит ли он Мне мои прегрешения и исцелит ли меня, когда я приду к Нему?» — подумал Ионафан.
Наконец, зашел Алфей — левит, шедший в Иерусалим. Он принес известие о Манассии и объяснил, по какой горестной причине Манассия не мог прийти. Учителя Иоанна уже не было в живых. Ирод отрубил ему голову в темнице, он убит был по требованию безбожной Иродиады. Левит плакал, когда рассказывал это. Манассия и другие ученики погребли убитого учителя. Манассия с горя заболел и только теперь начинает несколько поправляться. Он собирается прийти тотчас же, как только будет в силах.
Старый Иаков сильно сокрушался о погибели Божьего пророка Иоанна, а Ионафан горькими слезами оплакивал его смерть. Теперь он понимал, почему Манассия так долго не приходил, но что его удивляло, так это то, что Иисус не спас от смерти Иоанна. Однако он не открыл Иакову своих мыслей.
«Будь только у меня такая власть, как у Иисуса, — раздумывал он, — никогда бы я этого не допустил».
Глава VIII. Паломничество в Гадаринские замли
— Да сохранит тебя Бог, дедушка Иаков.
— Да благословит тебя Господь, дитя мое. Счастливый путь. Да исполнит Господь, Бог отцов наших, желание твоего сердца!
Рука старика опустилась на голову мальчика, благословляя его.
Ионафан, наконец, отправился паломничать.
Стоял прекрасный весенний день, природа облеклась в новые одежды. Старик приложил руку к лбу, прикрывая глаза, и до тех пор смотрел вслед уходившему юному другу, пока его фигурка не исчезла с горизонта.
С порога хижины смотрела вслед Ионафану и его озабоченная мать, наполнившая карманы сына восемью хлебами и сушеною рыбой.
Ранее Ионафан узнал, что Иисус пришел в Гадаринскую землю.
— Я пойду в гавань и буду Его ждать, — говорил он, — и когда Он пойдет обратно, я увижу Его.
Иаков не возражал. Он утешал мать, говоря, что Ионафан уже сильный и большой мальчик. Итак, они отпустили его, уверенные, что Ангел Господень сохранит его, и с нетерпением ожидали его возвращения.
Ионафан благополучно добрался до Тивериады и, придя на берег, увидал лодку, собиравшуюся как раз ехать на другую сторону. Он попросил взять его с собой и заплатил за переезд. У него не было ни малейшего желания оставаться на берегу, тем более что старик, вернувшийся из Гадаринской земли, сказал ему, что Иисус все еще остается на том берегу и не так скоро будет обратно. На лодке много разговаривали о Господе, как называли Его все. Лодка принадлежала отцу Иакова Зеведеева, и тот рассказывал все слышанное от сына своего Иакова.
— Когда они ехали в сторону Гадаринскую, Господь заснул на корме лодки. За целый день у Него не было ни одной спокойной минуты, чтобы попить воды. А ночью среди тишины Он всегда молился. Он спал, и вдруг налетела сильнейшая гроза. Буря бросала ладью то туда, то сюда, вода заливала всю лодку, и та едва не тонула. А Он спал, и спал так спокойно, словно младенец на коленях матери. Ученики перепугались, подошли и разбудили Его:
— Господи, помоги, мы погибаем.
— А Он что же? — спросил Ионафан.
— Он встал, пригрозил морю и сказал: «Смолкни, утихни!» И сейчас же буря стихла, волны улеглись и стало тихо и светло. Но Господь упрекнул учеников, что у них нет веры.
Ионафан же задумался: какая же это Сила, что может повелевать ветру и морю? Подобное может совершить лишь Творец. Пока они доехали до противоположного берега, Ионафан уже знал наизусть целые притчи и отрывки из речей Иисуса. Рыбаки охотно рассказывали все, что знали, своему внимательному слушателю.
На берегу уже собралась громадная толпа, и какая-то женщина о чем-то горячо рассказывала.
— О чем ты рассказываешь? — спросил ее отец Зеведеев, выйдя на берег.
— Подумай только, отец мой, — сказал ему молодой рыбак, — она рассказывала, что Наставник исцелил бесноватого в Гадарине, жившего между гробов и которого они все так боялись. Он ходил совершенно голый и бросал во всех каменьями. Но она сама может еще раз рассказать, как это произошло.
И к великой радости Ионафана, женщина рассказала, как бесноватый побежал навстречу к Иисусу, держа по камню в каждой руке. Все, кто это видел, закричали от страха и бросились назад. И Господь с бесноватым остались стоять один против другого. Все ожидали, что будет дальше. Вид бесноватого был ужасен. Его голое тело было сплошь покрыто синяками и ранами. Безумное лицо, обросшее волосами, поцарапано, волосы взлохмачены, и весь он был покрыт грязью и засохшей кровью. Безумные глаза устремились на кроткое, ласковое лицо Иисуса. В ту минуту, как их взоры встретились, губы Господа беззвучно зашевелились, и хотя никто не слышал ни звука, бес услыхал и ужасающим образом затряс несчастного:
— Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Вышнего? Умоляю Тебя, не мучь меня, — закричал несчастный и пал к ногам Господа.
На вопрос же: «Как тебе имя?» — отвечал: «Легион».
И бесы просили устами человека, корчившегося от страданий у ног Иисуса, чтобы не велел Он им идти в бездну, но позволил бы войти в свиней, пасшихся неподалеку. Он разрешил, и в ту же минуту все свиное стадо, как безумное, бросилось вниз с горы и утонуло в море.
— А человек? Что с ним стало? — спросил Ионафан.
— Ну, он с минуту оставался как бы мертвый, — отвечал Иаков Зеведеев. — Потом очнулся, и рассудок вернулся к нему. Он посмотрел на Господа, потом на себя, устыдился и скрыл лицо свое во прахе земном. Иисус посмотрел на нас, и в ту же минуту всем нам захотелось сделать что-нибудь хорошее. Дали исцеленному одежду и повели к воде. И когда его умыли и одели, то совсем нельзя было узнать в нем прежнего бесноватого. И как потом Иисус говорил с ним! А он сел к ногам Его и жаждал слушать Его! Ах, для нас это было невыразимой радостью. Когда же из города пришли гадаряне и узнали, что случилось, то попросили Его уйти, и Он тотчас же ушел.
— Он ушел? — воскликнул Ионафан. — Его здесь нет?
— Нет, дитя мое, Он снова пошел в Капернаум.
Известие уничтожающим образом подействовало на Ионафана. Он принялся горько плакать и никак не могли его утешить. Напрасно с ним разговаривали бывшие там женщины.
— Обожди я там и не приезжай я сюда, так увидел бы и услыхал бы Его, а теперь, быть может, я Его никогда не найду.
И только поздно ночью заснул он, усталый от слез.
На другое утро проснулся Ионафан с горестным воспоминанием о случившемся и подумал, как далеко он был от предмета своих стремлений. Грустно поблагодарил он рыбаков и их жен за гостеприимство, оказанное ему, и принялся разыскивать лодку отца Зеведеева. Но ее нигде нельзя было найти. Нигде. И вот, когда шел он такой огорченный, то увидел показавшуюся вдали лодку, причалившую потом к берегу. После долгих расспросов Ионафан узнал, что она через два дня поедет обратно в Вифсаиду. Два дня — огромный срок. Как его пережить? Только бы перевезли его на тот берег, а уж до Капернаума-то он доберется вдоль берега. Он предложил рыбакам свои услуги, и хотя ему казалось, что он не в силах будет дожидаться, но все-таки Ионафан благополучно дожил до дня отъезда. Наконец снова по волнам «священного озера», как выразилась Хуза, Ионафан переехал на другой берег. И первое, что они услышали, когда причалили к берегу, что Иисус Назарянин ушел из Вифсаиды в пустынную местность, и что за Ним шла огромная толпа народа. Ионафан снова расплакался, но на этот раз уже от радости. Он чувствовал, что он почти у цели и что его горячее желание будет исполнено.
Глава IХ. Долгожданная встреча
Юный странник добрался до толпы. Он слышал, что рассказывали люди один другому, и радовался, что идет вместе с людьми, стремившимися так же, как и он, к Иисусу. Многие из них уже видели Его, другие лишь только слышали о Нем. Некоторые взяли с собой больных, возлагавших всю свою надежду на Него…
Тут сыновья несли на носилках расслабленного отца, там мать везла сына-лунатика, привязанного к ослу. Она сама вела осла и охраняла несчастного ребенка. Там вели слепого, там глухого. На известном расстоянии шли прокаженные с завязаными ртами. Позади всех медленно брели кашляющие, чахоточные. Все люди, шедшие здесь, нуждались в Иисусе, если не для себя лично, то для кого-нибудь из своих подданных. Одни сомневались и терзались мыслями, вылечит ли их Он? Другие рассказывали о Его чудесах и почерпали в них мужество. Те же, что были недавно исцелены Им, горячо говорили о Его любви и могуществе. И вот Ионафан увидел знакомое лицо ученика в греческой одежде. Он подождал и, когда тот подошел, спросил его, не идет ли он тоже к Иисусу?
— Да. И я никогда больше не расстанусь с Ним.
— Что же, ты снова видел большое чудо? Такое же, какое случилось с Левием?
— Больше. Когда Господь возвращался из Гадаринской земли, мы ожидали Его большой толпой. Тогда подошел к Нему начальник синагоги, по имени Иаир, чья дочь уже долго лежала больная, и ни один врач не мог ее вылечить, он пал к ногам Иисуса и просил Его, если можно, посетить дом его и исцелить дочь.
— И что же, Он исцелил ее?
— Нет. Еще Господь не дошел до дома Иаира, как девушка умерла. Навстречу им вышел слуга и сказал своему господину: «Дочь твоя умерла, не утруждай Наставника». Но Господь сказал начальнику синагоги: «Не бойся, но только верь», — и пошел с ним. По дороге Его задержала несчастная женщина, болевшая уже 12 лет и истратившая без всякой пользы все свое имение на врачей. Она тайком дотянулась до края Его одежды и сразу исцелилась. Господь же почувствовал силу, исшедшую из Него, и ей пришлось во всем признаться. Тогда Иисус сказал ей, что вера помогла ей, и теперь она навеки избавлена от своей тяжелой болезни. Когда же Он пришел к дому Иаира, там уже играла похоронная музыка, а плакальщицы причитывали и плакали. «Зачем вы плачете? Девица не умерла, но спит», — сказал Господь. Они же посмеялись над Ним. Тогда Он удалил всех и, взяв лишь родителей девицы да трех Своих учеников, вошел в дом. Там взял Он отроковицу за руку и сказал: «Отроковица, тебе говорю: встань». Тогда поднялась она, и Он отдал ее ее родителям и приказал дать ей поесть. Радость же Иаира не поддается описанию. Он просто не знал, как отблагодарить Господа. Трижды падал он к Его ногам и просил прощения, что раньше не верил в Него. Но Господь не упрекал, а благословил и пошел дальше.
И как же радовался Ионафан, слыша все это. Но вдруг сердце его сильно забилось. Там уже приближалась толпа народа, и посреди его, наверное, Он — Иисус.
«Мне надо пробраться Нему», — говорил он себе, но теперь у него окончательно пропала храбрость.
Он чувствовал, верил, как велик и могуществен Господь Иисус, и как беден, мал, греховен он сам.
«Но ведь Он наш Спаситель, Агнец Божий, и я нуждаюсь в Нем, ужасно нуждаюсь, я должен добраться до Него».
Ионафан был очень близко от Него, он знал, что его отделяет от Учителя толпа народа, а между тем прошел почти целый день, пока он, наконец, добрался до Иисуса, — так было много больных, жаждущих Его помощи!
Вдруг прилив народа прекратился, больные были исцелены, и Господь начал проповедовать о Царстве Божием. Ионафан не мог Его видеть из-за высоких мужчин, стоявших перед ним, а также не мог хорошо расслышать голос, о котором говорил Манассия: «такой тихий, но и властный». Сердце мальчика сжималось от досады. «Для чего я пришел, если я не могу Его видеть и слышать?» Ионафан медленно бродил вокруг, сняв сандалии и разыскивая место получше.
Но вот там, вдали, на возвышенном месте, мелькнуло женское покрывало. Там сидит, опустив голову на руки, Иоанна Хуза. Кругом нее сидели другие женщины и девушки. Ионафан решился подойти к ученице Господа Иисуса Христа. Если он не может видеть Господа, то по крайней мере, он передаст хотя бы Иоанне хлебы. Правда, они уже несколько зачерствели и от восьми хлебов осталось всего лишь пять, а рыб только две. Нужно же было ему заплатить за переезд. Да и самому надо было питаться. Но все-таки, может быть, Господь и захочет принять их. Ионафану посчастливилось, не мешая никому, дойти до Господних учеников как раз в то время, когда Господь окончил Свою проповедь.
Ученики окружили Господа, словно совещаясь с Ним о чем-то. Солнце заходило. Иоанна сейчас же узнала Ионафана и очень обрадовалась ему. Она сообщила, что соседки ее — Мария Магдалина и Соломия.
Пока они разговаривали, к ним подошел мужчина высокого роста и обратился к Марии Магдалине, отвечая на какой-то ее вопрос:
— Учитель спрашивает, сколько у нас хлебов, — а у нас их вовсе нет.
— Андрей, здесь мальчик, у которого есть пять хлебов и две рыбы, — сказала Иоанна.
— Тогда пойдем со мной, дитя мое!
И раньше, чем Ионафан опомнился, рослый человек схватил его за руку, расчистил дорогу и довел его до Иисуса. В ту минуту, когда Ионафан был так близок к Нему и знал, что глаза, глубокие как Геннисаретское озеро, в которых отражалось целое море любви, покоились на нем, он ничего не видел, — ноги его дрожали, и он слышал только, как Андрей сказал:
— Вот мальчик, у которого пять хлебов и две рыбы, но что это для такого множества!
Немного оправившись от неожиданности и переполнившего его волнения, Ионафан услышал затем, как бесконечно добрый и заботливый голос произнес:
— Скажи, чтобы народ расселся по сто и пятидесяти.
И тут у Ионафана подкосились ноги, и он упал к стопам Иисуса, прошептав:
— Прости мои прегрешения, Господи…
Вот все, что он мог придумать…
И ему было прощено.
Его приняло сердце, в котором никогда ни прежде, ни теперь не билось ничего, кроме любви, одной любви. Благословляющая рука покоилось на его голове, и тогда только решился мальчик взглянуть в лицо Спасителя, Божьего Агнца, озаренное небесной кротостью. Пока народ рассаживался, он мог бы сказать Господу Иисусу, как он к Нему стремился. Но Тот все уже это знал, а также и то, что он хотел принести Ему в подарок хлеб и рыбу, хотя ученик Его Андрей ничего Ему об этом не говорил. И как бесконечно счастлив был Ионафан, что мог держать перед Господом хлеба и рыбы, число которых не уменьшалось под раздающими их руками, потому что в святых благословенных руках приумножался дар Божий. Ионафан не спрашивал Наставника, Сын ли Он Божий, Спаситель ли Он из Вифлеема, обещанный ли Он Мессия… Нет, он не спрашивал! Одной минуты было достаточно, чтобы исцелилось сердце и душа постигла все… Для того, кто хочет верить, достаточно только дойти до Иисуса — и все сомнения исчезнут…
Горячее стремление мальчика увидеть Мессию исполнилось. Он был невыразимо счастлив. У него не было больше никаких вопросов, ведь у ног Иисуса умолкают все сомнения. Аминь!
Без автора
Журнал «Отдых Христианина», №10, 1905 г.
Победа, победившая мир
И. В. Попов-Пермский
Рассказ из времен последних дней земной жизни Иисуса Христа
Глава I
— Значит, ты уверен, Рувим, что Человек Этот великий Пророк, не так ли?
И молодая красивая девушка, предложив настоящий вопрос, устремила свой взор на стройного юношу, который, скрестив руки на груди, медленно ходил взад и вперед по комнате, устланной богатыми мягкими коврами.
— Да, Лия, — ответил спрошенный, остановившись на секунду, — я твердо убежден, что Он — великий Пророк! А порой мне приходит в голову даже мысль, уж не Мессия ли Он? Кто внимательно вслушивался и вдумывался в Его учение, видел Его дела и чудеса, тот и сам легко может на основании древних пророчеств прийти к такому же заключению.
— Ах, Рувим, Рувим, — с легким вздохом произнесла девушка, — все это так, но я одного боюсь, как бы о твоих мнениях не узнал отец. Ведь ты знаешь, как он ненавидит Этого Учителя! Он не может даже спокойно говорить о Нем!
— Оставь, пожалуйста, сестра, свои опасения, — с неудовольствием в голосе заметил Рувим. — Разве я уже такой маленький, что не могу иметь своих личных убеждений? Пусть отец мыслит так, как хочет он, а я буду мыслить так, как мне кажется более правильным и верным. Да и рассуди сама здраво, ведь ты девушка умная и сама дочь фарисея: ну разве может простой человек учить так и с такою властью, как учит Этот Иисус из Назарета? А Его дела и чудеса? Как много и силы, и власти чувствуется в них!
— Да, Рувим, — тихо ответила после долгого молчания Лия, — ты прав. Мне тоже приходилось несколько раз слушать Его, и я всегда удивлялась Его учению и мудрости. В Нем есть что-то необыкновенное. Нельзя не заслушаться Его. Он учит совсем не так, как наши книжники.
— Вот видишь, Лия, ты и сама это заметила! — с живостью перебил ее Рувим. — И я был уверен, что ты это должна была заметить. А между тем наши начальники именно за это учение и ненавидят Его, а также и за те обличения, которые Он произносит над ними. И надобно сказать тебе, каким грозным Он является во время Своих обличений! Если бы ты могла видеть всю эту безмолвную, застывшую толпу, которая с жадностью ловила каждое Его слово! Если бы ты могла видеть эти исказившиеся от ненависти и злобы лица наших начальников и учителей! А между тем Он говорил одну лишь правду.
— Что же Он говорил? — спросила Лия. — Я помню, ты вернулся такой взволнованный.
— Трудно передать тебе все, многое мною забыто. Помню, что обличал Он фарисеев в их лицемерии, сравнивал их с гробами, снаружи окрашенными, а внутри полными костей и всякой нечистоты. Говорил далее, что они хотя и подолгу молятся Богу, но это не мешает им обижать вдов и сирот.
— О, да! Да, — вскрикнула внезапно Лия. — Это правда. Конечно, грех осуждать отца, но вспомни, Рувим, как несколько дней тому назад он взял за долг у какой-то бедной женщины, кажется, последнюю овечку. Ах, как мне было жаль бедняжку! Но что же я тогда могла сделать?
У Лии навернулись на глазах слезы при воспоминании о той грустной сцене, свидетельницей которой она невольно явилась.
Юноша слегка улыбнулся.
— Ну не беспокойся за эту женщину, милая Лия, — сказал он. — Уж если наш разговор коснулся этого, то скажу тебе откровенно: эту женщину я видел, и за свою овечку она получила от меня вдвое. Только, пожалуйста, пусть это будет нашей маленькой тайной.
— Какой ты добрый, брат, — заметила Лия, с любовью глядя на юношу. — Ты сделал хорошее дело. Ах, если бы наш отец был такой же сострадательный к бедным! Однако мы уклонились от своего разговора. Что же еще говорил Этот великий Учитель?
— Помню я, обличал Он далее книжников и фарисеев в том, что любят они председания на пиршествах, приветствия в народных собраниях, укорял в том, что соблюдают омовение чаш, а сами между тем исполнены всякой неправды. Эх, Лия, ты и сама видишь, как слова эти соответствуют действительности. Я, по крайней мере, только этим и объясняю то молчание, которое царило среди них во все время этой грозной речи!
— И все это отец выслушивал молча, без возражений? — с изумлением спросила Лия.
— Конечно. И это, кажется, стоило ему больших усилий. Но что же станешь возражать, сама подумай, когда тебе перед лицом всего народа говорится одна лишь правда. Да, сестра, учение Этого Человека раскрыло мне глаза, и я понял, как далеко мы ушли от истины! Как жалки все наши книжники и фарисеи со своим дутым, напускным благочестием.
— Рувим, — с легким упреком в голосе заметила Лия, — ведь, говоря так, ты оскорбляешь и отца. Вспомни, что мы — дети фарисея.
— Пусть так, Лия, — ответил он, — но, во-первых, я говорю вообще о фарисеях, не касаясь в данном случае отца. А затем, разве не сказал Этот Учитель, что «если кто любит своего отца или мать более, чем Меня, тот не достоин Меня» (ср. Мф.10:37), и что Он пришел разделить отца с сыном. Да иначе не может и быть. Могу ли я одобрять поступки фарисеев? Могу ли следовать им в лицемерии и ханжестве? Никогда! Я всегда, напротив, возмущался той фальшью, которая царит в нашей среде.
— Пожалуй что нельзя с тобой не согласиться, — задумчиво произнесла Лия, опуская голову и, казалось, внимательно рассматривая свое золотое запястье.
Молодые люди замолчали.
Разговор происходил под вечер между сыном и дочерью одного богатого и знатного Иерусалимского фарисея Аминадава, за два дня до Пасхи. Из всей предыдущей беседы было ясно, что Рувим далеко разошелся во взглядах и мнениях со своим отцом, ревностным фарисеем. Между ними лежала большая неразрушимая стена, о существовании которой, казалось, старый Аминадав и не подозревал, будучи вполне уверен, что его единственный, любимый им сын сделается наследником всех его воззрений, всего фарисейского учения. Но, думая так, он был далек от настоящего положения дела.
Рувим, одаренный богатым умом, пылким воображением и добрым сердцем, не мог удовлетвориться тем сухим, формально-казуистическим учением, коим были проникнуты фарисеи, а следовательно, и его отец. Он чувствовал здесь большую ложь и всевозможные противоречия. Его жаждущая истины душа рвалась выше. Вследствие этого он познакомился с греческой философией, много вынес для своего пытливого ума, но еще более оставил места разным сомнениям.
Вот в это время до его слуха и долетела молва о необыкновенном Учителе из Назарета. Сначала Рувим отнесся скептически к этому известию, предполагая, что из такого маленького, ничтожного городка, каким был Назарет, едва ли может выйти Великий Учитель или Пророк. Но время шло, слава об Этом Человеке распространялась все более и более, и любознательный Рувим захотел поближе познакомиться с Ним и с Его учением.
Рувиму ничего не стоило привести свое намерение в исполнение, и в результате оказалось, что он, сделавшись ревностным слушателем Назаретского Учителя, сделался в то же время и Его тайным учеником. Необыкновенный вид Учителя, Его учение, которое невозможно было сравнить ни с каким другим, наконец, чудеса — все это, вместе взятое, убедило Рувима в том, что Он, по меньшей мере, Великий Пророк, а может быть, даже и Сам Мессия. Словом, отец и сын в своих воззрениях на Этого Учителя представляли собой два крайних лагеря: насколько первый, закаленный в своих узких традициях, Его презирал и ненавидел, настолько второй Его любил и обожал.
Однако несмотря на это, Рувим никогда не обнаруживал перед отцом своих истинных убеждений, прекрасно понимая, что из этого могло бы выйти. По отношению же к своей молоденькой сестре он держался совершенно другого образа действий. Лия всецело находилась под его влиянием, и Рувим ничего от нее не скрывал. Он часто развивал перед ней учение греческих философов, а в последнее время много говорил об Иисусе из Назарета, Его делах и учении. Лия всегда с удовольствием слушала брата и соглашалась с его доводами. Благодаря Рувиму она была убеждена в святости Великого Галилейского Учителя, в Его величии, в Его пророческом достоинстве. И она, вместе с Рувимом, приходила иногда к мысли, что, может быть, Он и есть так давно ожидаемый Израилем Мессия, о Котором ранее говорили и закон, и пророки.
— Скажи мне, Рувим, — прервала молчание Лия, — зачем же Его так не любят и притесняют наши старейшины? Разве они не видят Его чудеса? Разве это мало их убеждает?
— Ответ может быть один, Лия! Из зависти. Неужели ты не видишь, как любит Его народ, как целыми тысячами ходят за Ним, как жадно ловят каждое Его слово? Поверь мне, где царят злоба и зависть, там неубедительны и чудеса. Ну какое еще надо чудо поразительнее, как не воскрешение Лазаря, о котором говорит весь Иерусалим?
— О, да! Да! — с живостью вскричала Лия. — Тетушка Фамарь была в это время в Вифании и видела умершего Лазаря, как он выходил из гроба. Какой ужас объял всех! Тетушка чуть было не лишилась чувств.
— Вот видишь, Лия! — возразил брат. — Подобное чудо может сделать только Великий Пророк! Нет, я почти убежден, что Он выше пророка, Он — Мессия! Будущее покажет лучше, прав ли я!
В это время стукнула калитка, ведущая на улицу, и во двор медленной походкой вошел сам Аминадав.
Это был мужчина лет за пятьдесят, высокого роста и крепкого телосложения. На его слегка худощавом лице лежала печать какого-то высокомерия и презрения ко всему тому, что было ниже его положения. Глаза мрачно и надменно блестели из-под густых, сросшихся у носа бровей. Начинающая седеть борода острым клином падала на широкую грудь. Длинная одежда с кистями и с изречениями из Святого Писания сразу изобличала в нем представителя секты фарисеев.
Обыкновенно мрачное лицо его на этот раз было озарено какой-то радостью. Но это не была тихая, мирная радость, соединенная со спокойной совестью. Нет, то была торжествующе-злобная радость и именно та, которую может чувствовать только разве хищник при виде своей верной добычи.
Едва Лия кинула взор на проходившего по двору отца, как тотчас же решила, что с ним случилось что-то выдающееся и для него особенно приятное. Того же мнения был и Рувим, причем у него как-то болезненно сжалось сердце, так как он слышал, что первосвященники и книжники решили поскорее, не пренебрегая никакими средствами, отделаться от ненавистного им Иисуса. И теперь Рувиму пришла в голову мысль, что этот злобно-довольный вид отца не есть ли результат их успеха?
Между тем Аминадав вошел в дом, а через несколько времени молодые люди услышали его шаги у комнаты. Лия взяла в руки какое-то рукоделие и сосредоточенно в него углубилась.
Дверь дома бесшумно распахнулась, и на пороге показался Аминадав. Он остановился на несколько секунд и с любовью взглянул на молодых людей, причем взор его загорелся той нежностью, какая являлась у него, кажется, только при виде его любимых детей, кои остались от матери еще маленькими и воспитанием которых он сам занимался с их раннего возраста.
— Вы еще не обедали, дети мои? — спросил он.
Лия боязливо встрепенулась.
— Нет, отец, — ответила она отцу, — мы ждали все время тебя.
— Это хорошо! — заметил Аминадав. — Так закусим теперь вместе. Распорядись, Лия, поскорее относительно обеда. Мне нужно успеть до вечера отдохнуть, так как ночью предстоит очень важное дело. Когда все будет готово, пошли Завулона известить меня.
С этими словами Аминадав вышел.
— Желала бы я знать, о каком деле он говорит? — тихо заметила Лия. — Сегодня у него такой необыкновенный вид.
Рувим ничего не ответил сестре, но его сердце вторично сжалось. Он не поведал ей своих подозрений, кои, однако, начали все более и более усиливаться.

Глава II
Лия с помощью двух своих служанок быстро приготовила все нужное для обеда и послала за отцом одного из слуг, Завулона. Аминадав медленно вошел в триклиниум[6]. Совершив вместе с Рувимом предписанное преданиями старцев омовение рук и прочитав вслух молитву, он возлег.
Древние евреи, так же как и римляне, вкушали пищу, не сидя, как это делается теперь, а полулежа. Для этого вокруг стола, четырехугольного или круглого, устраивались с трех сторон особые ложа с некоторою покатостью от стола в противоположную сторону.
Ложа эти покрывались особыми матрацами и коврами, а там, где должна была находиться голова, следовательно, у столика, устраивались особые возвышения — «возглавия». Обедающий боком ложился на ложе, опираясь левой рукой на «возглавие», а правую оставляя свободной для принятия пищи.
Рувим поместился напротив отца, а Лия присела к столу на табурете, так как женщины обыкновенно не возлежали. В начале обеда царило полное молчание, каждый был занят исключительно едой. Рувим, сверх того, не хотел первый нарушить молчание из чувства скромности, предоставляя первое слово отцу.
Действительно, Аминадав, желая поделиться с сыном животрепещущей для него новостью, едва успел утолить первое чувство голода, как обратился к Рувиму с вопросом:
— Скажи мне, Рувим, как тебе кажется, велика ли сумма в тридцать серебренников или нет?
Этот странный вопрос сильно удивил Рувима.
— Смотря по тому, в чьих руках эти деньги, — отвечал он, недоумевая, что этим хочет сказать отец. — Если они в руках нищего, то конечно, для него сумма довольно значительная, так как он может купить за городом даже клочок земли. Ну а в наших руках, сам знаешь, эта сумма совсем маленькая.
— Тебе также небезызвестно, — продолжал Аминадав, — что на эти деньги можно купить даже и раба. Не правда ли?
— Да, да, отец, — с возрастающим изумлением ответил Рувим, чувствуя, что за этими словами скрывается что-то особенное.
— Так вот в чем дело. Сегодня, кажется, должно совершиться то, что составляет предмет наших искренних желаний и стремлений. Ты, конечно, слышал об Учителе из Назарета, около Которого собирается целая толпа разного сброда? Он имеет сношения с людьми, одно дыхание или одна тень которых оскверняет нас и заставляет делать очищение[7]. Мало того, Он нарушает священный закон о субботе и, сверх того, осмеливается обличать нас перед целым народом! Ты, конечно, сам поймешь, Рувим, что Человек Этот должен умереть! Это нами решено. Видимо, сам Иегова[8] благоволит к нам, Своим верным рабам, и предает Его в наши руки. Среди Его учеников есть один, Иуда, человек очень жадный до денег, который и согласился предать в наши руки своего Равви, только за тридцать серебренников!
— Понимаешь, только за тридцать серебренников! За цену раба! — добавил Аминадав, саркастически улыбаясь.
Уже с первых слов отца Рувим понял все.
Сердце его сильно и болезненно забилось, и он, стараясь быть, насколько возможно, хладнокровным, затаив дыхание, слушал возбужденную речь отца. Когда же Аминадав окончил, Рувим не выдержал.
— О, неужели? Может ли это быть? — вскричал он голосом, полным самого глубокого негодования.
— Да, да, только за тридцать серебренников! — ответил Аминадав, не поняв истинного смысла этого восклицания.
Рувим быстро кинул взор на сестру. Та, пораженная этим известием не менее брата, сильно побледнела и, не желая выдать перед отцом своего смущения, взяла со стола тарелку и вышла из триклиниума, бросив довольно красноречивый взгляд на брата.
— Нет, ты представь, Рувим, всю глупость этого Иуды! — продолжал Аминадав. — Продать своего Учителя только за тридцать серебренников! Не тридцать, а триста мы охотно бы дали, если бы было нужно! Нет, — более! Мы не остановились бы и перед тремя тысячами, чтобы уничтожить Этого Человека, разрушителя нашего закона, Который осмеливается обличать нас перед всем народом!
— О, великий Иегова! — закатил он глаза. — Хвала Тебе, что Ты наконец-то отдаешь Его в наши руки! Я вижу в этом Твое к нам благоволение. Прими же от Своего верного раба искреннюю благодарность и хвалу!
Старый фарисей опустил голову на грудь и замолчал.
Трудно описать то чувство, какое охватило Рувима, когда отец закончил свой кощунственный монолог.
Гнев и досада по отношению к первосвященникам и старейшинам народным, крайнее негодование по адресу низкого предателя, который в погоне за наживой не остановился перед таким страшным преступлением; необыкновенная жалость в Великому Учителю, над Которым был произнесен смертный приговор, и приговор близился к исполнению, благодаря чудовищному поступку Иуды, — все это перепуталось и перемешалось в голове Рувима. Аминадав был весьма далек от того, чтобы угадать истинные мысли и чувства сына. Будучи занят собой, он не обращал на него никакого внимания. Да если бы и обратил, то на лице сына он ничего бы не прочитал, так как Рувим собрал над собой всю силу воли, чтобы быть, насколько возможно, спокойным и хладнокровным.
Прошло несколько минут в молчании.
— А хотелось бы знать, — спросил Рувим, придавая своему голосу тон простого интереса, — как Иуда может осуществить свой план? Ведь Этот Учитель, кажется, постоянно окружен Своими учениками и народом.
— Да, это правда! — согласился Аминадав. — Взять Его при народе очень опасно, может произойти возмущение. Но здесь явился Иуда с весьма громадной для нас услугой. Без него нужно было бы ждать подходящего случая, а теперь мы избавлены от этого. Дело в том, что Иуда, получив вчера деньги, уже сегодня намерен привести свой план в исполнение.
— Так скоро? — вырвалось у Рувима.
— Да, и это нам же на пользу, — продолжал Аминадав. — Впрочем, если взглянуть на этого Иуду, то, я думаю, он готов продать не только своего Учителя, но и родного отца. Иуда сообщил нам, что его Учитель сегодня ночью будет в Гефсимании, и мы, не теряя времени, пойдем туда из дворца Каиафы с воинами, чтобы взять Его. Иуда доведет нас до самого места. Следовательно, мы все сделаем без народа, тихо, среди ночи.
«О, как это низко и гадко!» — подумал Рувим.
В это время вошла Лия со служанкой, которая несла новое блюдо. Рувим, не желая при сестре продолжать подобный разговор, ловко переменил тему и заговорил об исполнении разных законных формальностей — предмет, весьма близкий к сердцу фарисеев.
Аминадав воодушевился, и остаток обеда прошел в толковании разных преданий старцев. После обеда старый фарисей ушел в свою комнату отдыхать.
Молодые люди остались одни.
— Рувим, неужели это правда? — обратилась к брату Лия с отчаянием в голосе. — Неужели этому замыслу суждено осуществиться?
— Увы, я предвидел это, Лия, — ответил Рувим с горечью в голосе. — Я знал, что наши старейшины не успокоятся до тех пор, пока свое намерение не приведут в исполнение. Я слишком хорошо знаю их!
— И этот несчастный Иуда польстился на тридцать серебренников? — вскричала Лия. — Продать за цену раба своего Учителя! Такого Великого Человека!
— Да, к сожалению наши отцы оказались достойны предателя Иуды, — тихо ответил Рувим.
— Лия, знаешь, какой план мне пришел в голову? — с живостью обратился он к сестре после минутного молчания. — План, с моей стороны, несколько рискованный, но, может быть, и не бесполезный.
— А что такое?
— Я пойду в Гефсиманию!
— С нами? — изумилась та.
— Вовсе нет! Или один, или с Завулоном. Как ты думаешь, если бы мне удалось предупредить Великого Равви о том, что Его хотят схватить сегодня ночью? Одобрила бы ты это?
И он вопросительно посмотрел на сестру.
— И ты еще об этом спрашиваешь! — всплеснула та руками. — Конечно, да! Но как сделать это? А отец? Что скажет он, когда узнает о твоем поступке?
— В данном случае я буду действовать только в силу своих личных убеждений, — твердо ответил Рувим. — Что же касается твоего опасения, то я думаю, что оно лишнее. Трудно допустить, чтобы отец каким-нибудь образом узнал об этом. Итак, без лишних колебаний решено: я иду! — решительно закончил Рувим.
— Ах, милый, славный брат! Если бы тебе удалось сделать это! Только, пожалуйста, возьми с собой нашего слугу Завулона. Я думаю, что на него можно положиться во всем. А идти одному за город ночью, особенно перед Пасхой, когда весь Иерусалим полон разным народом, это очень опасно.
— Хорошо, Лия, для твоего спокойствия пусть будет так! Мы выйдем после ухода отца, и этим я отвлеку от себя всякое с его стороны подозрение.
— Пусть сам Господь поможет тебе в этом деле! — торжественно проговорила Лия.
— А я сделаю все, что в моих силах! — с воодушевлением ответил Рувим и, поцеловав сестру, вышел из комнаты.
Глава III
Последние лучи заходящего солнца скользили по вершине Елеонской горы и ослепительно играли на вызолоченных крышах Иерусалимского храма.
Вот вспыхнул последний луч и погас.
В воздухе сразу потянуло холодом, который по мере приближения ночи все более и более усиливался.
Наступил желанный для книжников и фарисеев час.
А между тем тот, над Которым уже произнесен смертный приговор, мирно беседовал со Своими учениками в уютной Сионской комнате. Это была последняя прощальная беседа. Здесь лились великие слова, полные мира и любви, — той бескорыстной самоотверженной любви, которой должны быть всецело проникнуты истинные последователи Христа.
Иуды уже не было. Он ушел к первосвященникам и книжникам, чтобы предать в их руки своего Равви.
Скоро и Сионская комната была пуста. Никто не видел, как под покровом ночи из города спустилась небольшая группа людей, как она прошла через Кедронский поток и исчезла в густом Гефсиманском саду.
Аминадав едва дождался того момента, когда прибежал к нему один слуга Каиафы с известием, что для похода в Гефсиманию уже все готово. Старый фарисей быстро, насколько позволяли его лета и солидность, собрался и еще быстрее скрылся с пришедшим слугой. Рувим только этого и ждал. Все предыдущее время он провел в напряженном состоянии, беспокоясь за участь Великого Равви и волнуясь за исход задуманного дела. Он забежал на секунду к сестре.
— Ну, Лия, теперь и наша очередь!
— Буду молиться и за тебя, и за Него, — кратко проговорила девушка.
Рувим поцеловал сестру, взял с собой слугу Завулона, ровесника себе, и шепнул несколько слов привратнику. А через минуту юноши, закутанные в плащи и имея под ними на всякий случай по мечу, скользнули от калитки Аминадава и исчезли в холодной Иерусалимской ночи. Все мысли, все стремления Рувима сводились к одному: как можно скорее достичь Гефсимании и довести задуманное дело до благоприятного конца. Занятый всецело подобными соображениями, он шагал настолько быстро, что Завулону стоило некоторых усилий, чтобы не отстать от своего господина.
Вдруг недалеко от них где-то впереди раздался страшно-пронзительный и полный ужаса крик. Рувим мгновенно остановился и крепко схватил Завулона за руку.
— Кажется, на кого-то напали! — испуганно вскричал он. — Поспешим скорее! Быть может, наша помощь будет вовремя.
Юноши побежали вперед и, миновав одну извилину улицы, увидели как два человека, склонившись над кем-то лежащим, снимали с него верхнюю одежду.
— Прочь, негодяи! — вскричал Рувим, выхватывая из-под плаща свой меч.
Грабители, услышав шум шагов и громкий голос, быстро поднялись на ноги и скрылись в глухом переулке.
Рувим подбежал к лежащему, который находился в состоянии глубокого обморока.
— Да это ведь фарисей Наасон! — вскричал юноша, встав на колени и вглядевшись в распростертого человека, который лежал без движения, без стона.
Действительно, это был фарисей Наасон, который нередко посещал их дом, считаясь другом Аминадава.
— Ну что же делать? Что же делать? — с отчаянием произнес Рувим. — Оставить его здесь невозможно, а с другой стороны, мы, пожалуй, и опоздаем!
Рувим переживал ужасную минуту. Его доброе сердце не допускало мысли оставить уважаемого фарисея в таком положении, но через это мог рухнуть его план. Медлить же и раздумывать было некогда, нужно было на что-нибудь решиться.
— Завулон, — сказал наконец Рувим, — дом Наасона отсюда недалеко. Иди скорей туда и извести обо всем. Пусть слуги подберут господина. Скажи, что он лежит недалеко от дома саддукея Иерахмеила. Поспеши, каждая минута промедления может погубить все дело!
— Будь спокоен, господин, я сделаю все, как ты говоришь! — ответил Завулон и, повернувшись, быстро побежал по улице.
— Неужели мы опоздаем! — шептал Рувим. — Нет, да не будет этого! Я должен выполнить то, что задумал. Дом Каиафы, по счастью, не близко, к тому же они должны идти только по этому пути.
Рувим заметно волновался, и каждая минута ему казалась за целую вечность. Закутавшись в плащ, он напряженно смотрел в ту сторону, куда ушел Завулон.
Нетерпение и страх за исход задуманного им дела все более и более усиливались. Легко поэтому понять то чувство живейшего облегчения, когда из-за угла стремительно выскочил, запыхавшись, Завулон.
— Все… Все… Сказал, — прерывающимся голосом проговорил он, подбегая к Рувиму. — Сюда сейчас придут…
— Хорошо, теперь и мы… скорее, вперед! Поспешим! — вскрикнул Рувим, едва выслушав это, и быстро зашагал далее.
Наконец, они очутились за городом. Перед ними был глубокий овраг, на дне которого, по случаю весеннего времени, шумел и бурлил Кедронский поток.
Юноши быстро спустились по оврагу и перешли небольшой мостик, перекинутый через поток. До ворот Гефсимании теперь оставалось всего несколько шагов.
— Завулон! Будем действовать вот каким образом, слушай! — обратился Рувим к своему слуге. — Я пойду в эти главные ворота, а ты отправляйся сначала вдоль потока и зайди в сад с другой стороны. Постарайся найти Великого Равви, предупредить Его. Время очень дорого, иди скорее! Мы и так запоздали!
Завулон, выслушав это, быстро скрылся. Шум воды тотчас же заглушил его шаги.
«Слава Богу, мы предупредим все-таки Иисуса», — подумал Рувим, но, оглянувшись на город, сильно побледнел и с отчаянием схватил себя за голову. На вершине горы у ворот, из которых они вышли несколько минут назад, сверкнул факел, другой…
«Это они, они! — с ужасом пронеслось в голове юноши. — Неужели все погибло? Неужели?»
И Рувим стремглав кинулся в Гефсиманию.
Едва он переступил калитку, как весенняя сырость сразу охватила его со всех сторон. Перед ним стояли громадные маслины, которые от ночного ветерка чуть-чуть шевелили над его головой своими ветвями. «Боже, найду ли, найду ли я Его? — мучительно пронеслось в голове Рувима. — А там, позади, уже идут! Идут!» Он слышал, как в груди усиленно колотилось сердце.
Вдруг до его слуха раздался, донесся чей-то тихий разговор. Рувим на мгновение остановился и внимательно прислушался. Ему показалось, что разговаривали где-то недалеко в стороне. Рувим смело шагнул туда и, вглядевшись пристальнее, заметил несколько человеческих фигур, причем одни, завернувшись в верхний плащ, лежали на земле, а другие сидели, прислонившись к стволу оливкового дерева.
«Может, это Он», — мелькнуло у него в голове.
Присутствие Рувима было замечено. Но прежде, чем он успел подойти ближе и предложить вопрос, несколько из сидящих быстро встали с земли.
— Скажите мне, во имя Бога, — громко произнес юноша, — кто вы? Если вы не те, кого я ищу, то я сейчас же удалюсь от вас!
При звуках голоса все остальные поднялись на ноги.
— А кого ты ищешь? — в свою очередь спросил Рувима один голос, не желавший, видимо, сразу открывать незнакомцу, кто они такие.
— Я ищу Великого Равви Иисуса из Назарета, — ответил Рувим, — и если вы знаете, где Он, то во имя Бога, скажите мне скорее!
— А на что тебе нужно видеть Его в ночное время? — опять спросил его тот же голос. — Доверься нам. Мы Его ученики. Сам же наш Учитель и Господь теперь в глубине сада.
— Хвала Богу, что я нашел вас! — вскричал обрадованный Рувим. — Скорее, как можно скорее идите и известите своего Учителя, что жизнь Его находится в опасности! Иуда, один из ваших учеников, продал Его первосвященникам и идет сюда со слугами, чтобы взять Его! Их факелы я уже видел на горе. Скорей, скорей!
Это неожиданное роковое известие, что их любимому Равви угрожает смерть, произвело в учениках неописуемый переполох и вызвало страх. Все разом двинулись вглубь сада. Рувим слышал шум удаляющихся шагов, видел еще темные фигуры учеников, одна за другой исчезающих среди ночи и темной зелени сада.
Позади шумел по-прежнему Кедронский поток, и налетевший ветерок колыхал ветви маслин, среди которых остался теперь храбрый юноша. Он решил выждать окончания всего дела, потому и не думал оставлять сад.
— Если бы план Иуды разрушился — вот мое искренне пожелание! — прошептал Рувим.
Вздрагивая от ночного холода, он плотнее завернулся в плащ и побежал к выходу в сад, чтобы посмотреть, где идет предатель со своими сообщниками. Факелы дрожали, колебались и были уже недалеко от Кедронского потока. Они увеличивались и пылали яркими красными пятнами. Донесся уже сдержанный говор слуг.
Рувим снова кинулся в сад и спрятался за большим оливковым деревом. «Если бы не Наасон, то мы не потеряли бы столько времени! — с горечью думал Рувим. — Мы успели бы вовремя предупредить Великого Равви. А теперь удастся ли?»
Скоро толпа перешла мостик и, немного времени спустя, была уже в саду. Красноватый цвет факелов ударил в листву, заиграл в ней и погнал от себя густую тень деревьев. Рувим осторожно выглянул из-за своего убежища. Толпа приблизилась. Впереди ее шел высокий рыжеватый мужчина со зловещее сверкавшими глазами. В одной руке он высоко держал факел, и свет его ударял в лицо, делая весь внешний облик этого человека хмурым и отталкивающим.
Рувим узнал его. Это был Иуда.
— Презренный предатель, — сорвалось с его губ.
Следом за Иудой шли воины и слуги первосвященников, вооруженные чем попало: кто мечем, а кто и простой палкой.
— Так помните же мой знак, — донесся до Рувима голос. — Кого я поцелую, того и берите осторожно!
За слугами, несколько поодаль, шли книжники и фарисеи — та иудейская аристократия, которая была виновницей всего этого заговора. Среди них Рувим заметил и отца. Он невольно содрогнулся при виде этой высокой фигуры, которая шла с гордо поднятой головой.
Скоро толпа миновала то место, где прятался Рувим. «Боже! — подумал он. — На Этого Невиннейшего и Великого Человека, как на какого злодея идет эта толпа! Безумцы!»
Говор постепенно терялся в отдалении. Факелы красными точками мелькали среди деревьев. Рувим вышел из-за маслины и осторожно пошел за толпой, пристально наблюдая за светившимися факелами.
Вдруг Рувим остановился в крайнем недоумении. Ему показалось, что огни более не удаляются, а светят в одном и том же месте. Говор сначала затих, а через малый промежуток времени опять возобновился с большей силой. Светящиеся точки как-то странно запрыгали в воздухе, описывая круги.
У Рувима замерло сердце.

«Неужели Его взяли? Неужели ученики не сумели предупредить?» — молнией пронеслось у него в голове.
И он ринулся вперед, не отводя глаз от огней.
Пробежав некоторое расстояние, он свернул в сторону и стал судорожно пробираться к толпе. Чем далее он продвигался, тем более приходил к мысли, что преступный замысел иудейской аристократии был выполнен. Оттуда раздавались торжествующе-злобные возгласы.
Рувим опять притаился за стволом одной маслины. Ухватившись обеими руками за сучок, он с трепетом сердца ждал, когда вся эта толпа повернет обратно. Наконец, она расступилась, давая кому-то дорогу. Рувим впился глазами в эти освещенные дрожащим пламенем фигуры. Впереди шел теперь римский воин, который в левой руке высоко держал факел. Колеблющийся яркий свет его прямо падал на шедшего позади Человека, увидев Которого, Рувим весь похолодел, и, готовый вырваться из уст его крик негодования, соединенный с глубочайшей скорбью, замер на губах.
То шел связанный, охраняемый воинами и слугами, обожаемый им Великий Равви Иисус. Шел спокойно, без страха, как Агнец Божий, предназначенный на заклание за грехи всего мира. Рувим чуть не зарыдал, увидев эту процессию. Сердце его исполнилось необыкновенной жалостью к Этому кроткому Учителю.
И вдруг в это время он услышал голос, заставивший его встрепенуться всем телом, — тот голос, который успел покорить его и ум, и сердце, и волю.
— Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня! Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы.
Скоро вся толпа миновала Рувима, направляясь к выходу. А Рувим, под влиянием этого голоса, долго еще стоял у маслины, не двигаясь с места. В ночном воздухе так и царил этот спокойный, исполненный достоинства голос, не лишенный, в то же время, упрека по адресу всей иудейской знати.
По лицу юноши скатилось несколько крупных жгучих слез.
— Да, это правда, — прошептал он. — Теперь — ваше дело, лицемеры! Ваше дело, сыны тьмы! Теперь вы не отпустите из своих когтей Эту Невинную Жертву. Он в вашей власти.
И с поникшей головой Рувим двинулся к выходу. Конец же этого предательства был для него совершенно ясен и понятен.
Глава IV
Было далеко за полночь.
По пустынным, уснувшим улицам Иерусалима быстро пробиралась фигура человека, поминутно ежась от холода. То был Рувим. Он шел удрученный всеми предыдущими ночными событиями, с тяжестью на сердце, с больной душой. Ему, как сыну уважаемого фарисея Аминадава, ничего не стоило проникнуть во дворы первосвященников Анны и Каиафы.
И он видел и слышал все.
Видел эти позорные ночные суды, слышал все возводимые на Невинного Страдальца клеветы.
Но когда дело дошло до оскорблений, издевательств и побоев, кои посыпались на голову Иисуса, Рувим не выдержал и оставил двор первосвященника. Его душили слезы при виде этой беззащитной Жертвы, над Которой всячески глумились грубые и наглые слуги.
И Рувим пошел домой, унося в сердце, с одной стороны, необыкновенную жалость к невинно Осужденному, а с другой — крайнее негодование на несправедливых, коварных, преступных судей.
Скоро он подошел к калитке своего дома. Привратник, услышав голос молодого господина, быстро распахнул дверь.
— Отец еще не вернулся? — спросил Рувим.
— Нет.
— А Завулон?
— И Завулона тоже нет.
«Вероятно, он где-нибудь стоит у костра и греется вместе со слугами», — подумал Рувим.
В комнате сестры он заметил едва мерцающий свет. Очевидно, она не спала, томясь ожиданием. Рувим, сбросив с себя плащ и меч, через минуту входил уже в комнату сестры.
— Наконец-то ты вернулся! — вскричала Лия, бросаясь навстречу брату. — Я измучилась без тебя! Где же ты был так долго? Ну что? Как?..
Но вид брата красноречивее всяких слов говорил о результате дела.
— Рувим! — вскричала Лия. — Его взяли, да? Я вижу это по твоему лицу. Это правда?
— Да, Лия, Он во власти наших начальников! — ответил Рувим, опускаясь с видом крайне усталого человека на первый табурет. — Увы… Я сделал все, что мог сделать. Слушай!
И он подробно описал сестре все: события в Гефсимании, взятие под стражу Великого Равви, ночной суд над Ним у Анны и Каиафы, оскорбления, насмешки, побои… И закончил рассказ осуждением Его на смерть.
Лия выслушала рассказ брата, сидя на своей софе и в глубокой горести опустив свою изящную голову. По ее смуглому личику медленно текли слезы и терялись в складках белоснежной одежды.
— Но как это жестоко и бесчеловечно, — вскричала она, выслушав печальную весть, — издеваться над беззащитным Человеком! Я теперь глубоко презираю пустого, негодного Каиафу! Пусть кровь Этого Страдальца падает на его голову! Ты говоришь, что завтра еще будет суд у Пилата?
— Да, Лия. Ведь ты знаешь, что мы находимся под властью Рима и без утверждения прокурора смертная казнь случиться не может.
— А не освободит ли его Пилат, когда убедится в Его невинности? Как ты думаешь? — спросила Лия.
Рувим отрицательно покачал головой.
— Нет, Лия, я почти убежден, что Пилат произнесет смертный приговор. Наши первосвященники и книжники настоят на этом, а он не пойдет против нашей аристократии, не пойдет даже и тогда, если бы и сам убедился в совершеннейшей правоте Осужденного. Я хорошо знаю Пилата. Помнишь, когда он выставил на башне Антония римские знамена, то что из этого вышло? Как ему не хотелось убирать их обратно, как он сопротивлялся, но под давлением толпы, под угрозами все-таки принужден был уступить. Хотя он человек и коварный, и жестокий, но в то же самое время он и трус. Он уступит и завтра, ты сама это увидишь. Как это ни печально, но увы, это, по всей вероятности, будет именно так!
— О, Боже! — простонала Лия, закрыв бледное от переживаний лицо руками.
Вдруг в это время тихо отворилась дверь и перед изумленными молодыми людьми предстал нахмуренный Аминадав, который только что вернулся домой и, увидев, что так поздно в комнате дочери горят свечи, пошел узнать, в чем дело, боясь, не захворала ли его любимая дочь.
— Что это значит? — с удивлением заговорил он, видя плачущую девушку. — О чем ты плачешь, Лия? Рувим, почему ты у сестры в такой час?
Внезапное появление отца в первый момент смутило Рувима, но он быстро овладел собой.
— Я говорил, отец, об осужденном Учителе из Назарета, Иисусе, — прямо ответил он.
— О Нем? — искренне изумился Аминадав. — Да откуда ты это знаешь?
— Я видел все сам. Я только что пришел от Каиафы.
— От Каиафы? А что тебя привело туда?
Старый фарисей даже отступил шаг назад и вперил свой проницательный взор на сына, как бы желая заглянуть в самую его душу.
Но Рувим был спокоен, и по его лицу Аминадав ровно ничего не прочитал.
— Отец! — твердо и просто ответил Рувим. — Мне очень хотелось проследить судьбу Этого Учителя из Галилеи. Это меня и привело во двор Каиафы.
— Удивляюсь, Рувим, откуда у тебя взялся интерес к Этому Человеку? — насмешливо проговорил Аминадав, пожав плечами. — Мало того, ты своим рассказом о Нем довел сестру до слез! Стыдись, сын мой, своего опрометчивого поступка. Лия, дитя мое, не волнуйся напрасно! Я понимаю, можно плакать о человеке, действительно достойном сожаления, но не об Этом. Он, выдающий себя за Сына Божия, подлежит смерти! Этот человек осмелился выдать Себя за Мессию! Вы, дети мои, конечно понимаете этот чудовищный обман! Вы ведь знаете, какой у нас должен быть Мессия? Это будет Царь, Который возвеличит Израиль и покорит все народы под наши ноги. А что может сделать Этот Иисус? Ничего. И вы увидите, как Он завтра же будет распят на кресте. Успокойся, дитя мое, и не плачь! Мир да пошлет вам Иегова!
С этими словами Аминадав вышел. Он был весьма далек от истинного положения дела. В его голове никоим образом не могла явиться мысль, чтобы его образованный, хорошо воспитанный в фарисейском учении сын мог быть учеником столь ненавистного ему и всем фарисеям назаретского Учителя Иисуса. Слезы Лии он приписал к присущему женскому сердцу чувству жалости и сострадания.
Скоро старый фарисей с осознанием исполненного долга безмятежно заснул. Заснула и Лия.
В беспокойном сне ей чудился Великий Равви, униженный, поруганный окружавшими Его грубыми воинами. Иисус, казалось, не обращал внимания на их оскорбления, а на кротком лице Его запечатлелась тихая покорность Высшей Воле.
Сквозь тревожный сон к изголовью юной девушки катились из ее прекрасных глаз горячие слезинки.
Чуткая душа ее страдала вместе с Иисусом…
Глава V
— Ibis ad crucem![9] — злобно, с отвращением произнес Пилат на другой день около девяти часов утра со своего лифостротона[10].
Этими немногими словами он осудил на крестную смерть стоящую перед ним покорную, невиннейшую Жертву. Первосвященники, книжники и старейшины, два часа упорно обвинявшие Иисуса Христа, теперь облегченно вздохнули. Они добились таки своего: Иисус был приговорен на распятие. Их настойчивость восторжествовала, злоба и зависть взяли верх над правосудием. Яростные крики: «Распни Его! Распни» — теперь смолкли, потому что крест, орудие казни, уже ждал свою Жертву. А Жертва — Сам Мессия, Которого евреи ждали целые тысячелетия, покорно стоял на виду у всех, поруганный, избитый — с кровавыми следами на лбу от тернового венца.
Позади всей толпы находился Рувим, поддерживая свою сестру. Оба они во время суда Пилата находились в каком-то возбужденно-лихорадочном состоянии. Они ждали, что вот-вот Пилат окончательно оправдает своего Подсудимого и заставит воинов прогнать от своей претории всю эту бушующую, разъяренную толпу. И сам Пилат, казалось, делал несколько попыток к оправданию. Но всякий раз подобное желание прокурора разбивалось о фанатизм первосвященников и всей находящейся под их влиянием толпы народа, которая требовала смертной казни.
И Пилат, как накануне говорил сестре Рувим, уступил. Уступил из малодушия, из постыдной трусости, боясь возмущения народа, но не опасаясь укора совести за неправедно пролитую кровь.
С сердцем, полным ужаса, выслушала Лия смертный приговор.
— Рувим, Рувим! — шептала она с глазами, полными слез. — За что же это, за что же это? За что? Где справедливость?
Рувим, хотя и у него сердце разрывалось от горечи, призвал все свое самообладание, чтобы успокоить сестру.
— Лия, не хочешь ли идти домой? Ты измучена и нуждаешься в отдыхе. Кроме того, существует ужасный обычай заставлять осужденного нести свой крест. Я боюсь, что тебя это еще более расстроит!
— О нет, нет, Рувим, — ответила она, — я хочу еще раз увидеть Его. Пусть Его образ сильнее запечатлеется в моей душе!
Ждать пришлось недолго…
* * *
Толпа с громкими криками расступилась, давая кому-то дорогу. Скоро показалась печальная процессия. Впереди шел, по обычаю, глашатай, который громко провозглашал о том, за какое преступление осужденный подвергается смертной казни. За ним следовал воин с надписанной дощечкой, которая была предназначена для прибития ко кресту. И наконец, за этим уже воином, сгибаясь под тяжестью креста, шел Сам Божественный Страдалец. На Его кротком Лице было написано крайнее изнеможение, которое явилось следствием всех душевных и физических мук предыдущей страшной ночи.
Лишь только Лия взглянула на это лицо, на котором, несмотря на все унижения и страдания, лежала печать внутреннего высокого достоинства и величия, как сердце ее исполнилось такой необыкновенной жалостью, что она не выдержала и громко зарыдала. От охватившего ее волнения она едва удержалась на ногах и вынуждена была крепко ухватиться за руку брата.
Рувим вполне разделял чувства сестры. Его глаза тоже были полны слез, и он, как в тумане, видел божественного Страдальца, идущего на позорную казнь, причем римские воины бесцеремонно и грубо толкали Его вперед.
И брат, и сестра до тех пор смотрели на эту печальную процессию, пока она не скрылась из вида.
— Рувим, пойдем скорее домой, — проговорила чуть слышно Лия, глотая слезы.
— Ах, если бы ты знал, как мне тяжело!
Рувим, поддерживая сестру, направился было домой, но на перекрестке одной улицы они встретили свою близкую родственницу, которая, видя расстроенную девушку, поспешила увести их с Рувимом к себе.
Рувим был даже отчасти и доволен этим обстоятельством, так как у родственницы Лия могла бы успокоиться скорее, чем дома. Да и отца они оба сторонились и даже боялись.
Глава VI
Аминадав важно, с сознанием собственного достоинства, следовал вместе с толпой, шедшей к Голгофе. Огонек торжествующей злобы сверкал в глазах старого фарисея, потому что скоро задуманное дело будет исполнено, а Назаретский Учитель Своею кровью заплатит за все те обличения, кои были направлены Им по адресу фарисеев и книжников, а также и за то учение, которое шло вразрез с их учением, с их понятиями, укоренившимися в продолжение веков.
Скоро вся процессия миновала городские ворота и подошла к небольшому возвышению, где обыкновенно происходили казни преступников.
Насколько теперь всякий верующий, подходя к Голгофе и поднимаясь на нее, весь проникается чувством крайнего благоговения и почтения к столь великому и святому месту, настолько же в описываемую эпоху всякий приближался к ней с чувством крайнего отвращения. Теперь верующий, находясь на Голгофе, с умиленным сердцем и с горячей молитвой падает ниц и преклоняется перед этим великим местом, где совершилось непостижимое таинство искупления, откуда родилось христианство и светом своего божественного учения озарило весь языческий мир. В древности же всякий бежал от этого холмика, как от места зачумленного, места проклятого, над которым со зловещим криком часто, вероятно, кружились черные вороны.
И Аминадав, гордый сознанием своей законной чистоты, не без отвращения вступил на эту гору. Подогреваемый чувством мести, он хотел взглянуть на Распятого и своими собственными глазами удостовериться в казни Человека, всегда стоявшего на их дороге и ронявшего авторитет фарисеев и книжников перед народом.
Торжествовал не один Аминадав.
Дикая радость светилась в глазах других начальников и старейшин при виде своей беззащитной Жертвы. Их холодные, наглые лица живо наблюдали над действиями римских воинов, исполнителей казни.
И вот Тот, пред Которым трепещут и благоговеют все Небесные Силы, Тот, одно имя Которого вызывает в христианине чувство беспредельной любви, радости и величайшего смирения, дерзко, грубо схвачен ныне руками жестоких римских воинов.
Аминадав пробрался почти к самому Кресту и с чувством злорадства и отчасти бессердечного любопытства хотел еще раз взглянуть на лицо Божественного Страдальца. Но едва он кинул на Него свой взгляд, как был несказанно удивлен. Вместо отчаяния, злобы и ненависти к Своим врагам на Его лице была написана та же покорность, те же смирение и кротость, как и раньше.

И в первый раз в жестоком, мрачном сердце Аминадава, где-то далеко-далеко, шевельнулось чувство, похожее на сострадание. В то время как другие два разбойника, предназначенные тоже для распятия, не переставали осыпать своих мучителей страшными ругательствами и проклятиями, Божественный Страдалец не произносил ни одного слова. И вдруг взор Его, устремленный до сих пор к небу, обратился на Аминадава. Этот кроткий, но вместе с тем испытующий взор, казалось, проник в самые тайники души старого фарисея и обнаружил все ее ходы и извилины. И вслед за этим с уст Его послышались тихие, но внятные слова: «Отче, прости им, они не знают, что делают».
Аминадав, крайне пораженный этими словами и взглядом Иисуса, тотчас же услышал глухой удар молота, который и теперь, через девятнадцать веков[11], так больно отзывается в сердце каждого истинно верующего человека.
Этот божественный, кроткий взор и эти великие, исполненные любви слова так подействовали на душу и сердце старого фарисея, такое произвели глубочайшее впечатление, что прежнее злобно-торжествующее настроение Аминадава мгновенно куда-то улетучилось, исчезло, а на место его воцарилась особенная, непонятная пустота и сожаление о чем-то печальном, прошедшем.
На поздравления своих единомышленников, по случаю окончания всего этого дела, он отвечал торопливо, скорее, машинально. Он вздрогнул только тогда, когда услышал резкий звук от раздираемых одежд. То воины делили между собой верхний плащ Христа. Аминадав глянул в их сторону и увидел, что они бросали между собой жребий из-за хитона, не желая раздирать этой сотканной одежды. Он уловил даже довольный взгляд одного воина-счастливца, которому достался хитон.
Но Аминадав мало обратил внимания на этот постоянно практиковавшийся обычай. Его жег божественный взор Страдальца, взор, который заглянул в самую его душу. В ушах Аминадава звучали удивительные, непостижимые слова: «Отче, прости им…» И он, старый фарисей, пришедший сюда торжествовать свою победу, потешить злобу, стоял теперь, разочарованный в себе, в каком-то странном для него самого недоумении.
Видя, что это чувство неудовлетворенности с каждой минутой возрастает все сильнее и сильнее и что, с другой стороны, дальнейшее пребывание в Голгофе становится излишним в виду окончания давно лелеянного дела, Аминадав кинул последний взор на средний Крест и быстро сошел с горы. Навстречу ему попадались кучки народа, шедшие на Голгофу. Но Аминадав, ни на кого не обращая внимания, прямо направился к себе. Дома он хотел забыться, отогнать от себя всякие тревожные мысли, вытеснить из своей головы это Голгофское событие.
Но Божественный Страдалец со Своим кротким и в то же время проницательным взглядом, как живой стоял перед его умственным взором, а в ушах фарисея все еще слышались слова, заключавшие в себе молитву о прощении Своих врагов. А так как Аминадав был в числе их, то молитва касалась, следовательно, и его.
* * *
Старый фарисей, заложив руки за спину, тяжелыми шагами ходил по своей комнате.
— О, Мессия, Мессия! Скоро ли Ты придешь и избавишь нас от ига Рима? — шептал он. — Скоро ли дашь нам власть над всеми народами и имя наше сделаешь великим? А Этот Человек, позволивший распять Себя на Кресте, называл Себя Сыном Божиим… И хотел еще быть нашим Мессией…
Аминадав подошел к стене и откинул небольшую занавесь, за которой в особой нише на полочках лежали пергаментные свертки, заключавшие в себе закон пророков и множество записанных изречений знаменитых раввинов тех времен. Он порылся немного и достал один свиток с псалмами Давида.
Старый фарисей часто любил читать эти прекрасные, исполненные духовной поэзии псалмы.
Он развернул пергамент, но, увидев, что это не тот сверток, который ему нужно было, хотел уже снова положить его на полку, но тут взор Аминадава упал на одно место, и он начал читать, не отводя глаз. Уже первые строки заставили его встрепенуться, и он более внимательно уставился в письмена.
Он читал двадцать первый псалом Давида, где очень наглядно изображаются страдания Спасителя:
— «Все, взирающие на меня, поглумились надо мною; говорили устами, кивая головою: “Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему!”» (Пс.21:7-8). «Ибо окружило меня множество псов, сборище злодеев обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои. А они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий» (Ср. Пс.21:17-18).
При последних словах руки Аминадава задрожали и пергамент чуть не выпал на пол.
— Что это, что такое? Может ли это быть? — с величайшим изумлением прошептал он.
Смысл этих слов только теперь стал обрисовываться в уме фарисея во всем их настоящем значении. И прежде он не один раз читал эти же фразы, но они не производили на его сердце никакого действия. Но теперь, когда он был свидетелем того, что было написано в этом пророчестве, и написано так ярко и живо, точно Давид сам присутствовал на Голгофе, теперь все это до крайности ошеломило Аминадава. Он стоял, точно прикованный к месту. Да, все, что он сейчас прочитал, все это он видел собственными глазами. Старейшины вместе с книжниками и фарисеями точно так издевались над Распятым, руки и ноги Которого были пронзены гвоздями; воины делили одежду Его и бросали между собой жребий.
Фарисей, положив пергамент на место, с глубоким вздохом опустился на свое ложе, склонив гордую, надменную голову. Но через минуту он быстро встал, провел дрожащей рукой по голове и снова подошел к нише с пергаментами. Долго он не мог найти нужный ему сверток. В его возбужденном мозгу, как бурав, сверлила одна мысль, завладевшая всецело умом старого фарисея.
— Нет, нет, не может быть! Надо убедиться, что это вздор! Где этот пергамент? — крайне возбужденный, шептал он, перебирая свитки.
— А, вот он!
И Аминадав, вытащив один пергамент, начал вполголоса читать. То была 53-я глава пророка Исаии.
Смущение и ужас фарисея все более и более усиливались, когда он читал:
— «…Нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис.53:2-5). «…Как овца, веден был Он на заклание, и как агнец перед стригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис.53:7).
Когда же Аминадав закончил читать это пророчество Исаии словами: «…предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Ис.53:12), — он воскликнул:
— О, великий наш Иегова! Научи меня и вразуми!
С этими словами он, закрыв лицо руками, с глухим стоном опустился на свое ложе. Мысли спутались, и в голове воцарился полнейший хаос.
Неужели этот Распятый, смерти Которого они, книжники и фарисеи, так усердно добивались и добились, мог оказаться Самим Мессией!
Что могло бы быть ужаснее этого!
Какое отчаяние наполнило бы и души, и сердца всех старейшин, если бы это оказалось правдой! Они, вожди и учители народа, хвалящиеся знанием закона, — и вдруг могли бы допустить такую непростительную, грубую ошибку! Такую ошибку, которая могла иметь громадное значение и последствия для них, и для всего народа!
Распять Самого Мессию, Которого они с такой напряженностью ждали за последнее время?!
Подобные мысли беспорядочно вихрем неслись в возбужденной голове фарисея и приводили его в великий трепет и смущение.
Аминадав, хорошо зная закон, вспомнил, что о таком именно страждущем Спасителе говорится во многих местах Священного Писания, а вот последние слова пророка Исаии, сейчас им прочтенные, выражают это весьма ясно и наглядно.
А ведь они, книжники и фарисеи, говорили народу только о Мессии-завоевателе, Который покорит им всех народов земли и даст им славу и богатство.
Какой громадный контраст и какими они могли бы оказаться жалкими невеждами в законе!
Но традиционный ум старого фарисея, десятками лет придерживающегося известного ему мировоззрения, не мог сразу мыслить совершенно иначе, не мог сразу усвоить новые понятия и истины, не мог одной минутой порвать со всем прошлым.
Нахлынувшие новые идеи, в связи с этими пророчествами, вступили в душе Аминадава в сильную борьбу со всем старым фарисейским учением. Свесив на грудь свою седую голову и опустив бессильно руки, Аминадав погрузился в глубокую, тревожную думу.
Острые морщины нисходили с его высокого лба, глаза сосредоточенно и задумчиво смотрели перед собой. Порой на мгновение он обводил как-то машинально своим взором комнату, точно желал на чем-нибудь остановиться и найти точку опоры, и затем снова голова его бессильно падала на грудь. Старая служанка заглянула было через один угол занавеси в комнату Аминадава, желая известить о готовой закуске, но, видя своего господина в таком необычайном положении, сочла за лучшее его не тревожить и так же бесшумно удалилась.
Таким образом прошел по еврейскому счислению пятый час и подходил конец шестому. Вдруг… Что это случилось? Старый фарисей, весь не свой, поднялся со своего места и, изумленный, застыл в одной позе.
Дневной свет быстро угасал и тьма начала спускаться на землю. Предметы в комнате потеряли свои очертания; все стушевалось, как под покровом ночи.
Глава VII
Вне себя от страха, Аминадав, бледный, дрожащий, быстро, насколько позволяли ему силы и ноги, вбежал на плоскую крышу своего дома. Кругом тьма. С далекого неба показались одна за другой звезды. К северо-востоку темной массой возвышалась гора Елеон. В воздухе потянуло прохладой. Вся природа точно замерла в ожидании чего-то великого, страшного.
Аминадав почувствовал, как у него легкой дрожью пробежал по коже мороз. Ухватившись за перила и тяжело дыша, он смотрел то на окружающий его Иерусалим, то на темное, хмурое небо.
Тишина и тьма.
Старый фарисей, объятый ужасом, кинулся было в комнату сына. Ни сына, ни дочери дома не оказалось.
«Нужно бежать, бежать, — промелькнуло у него в голове. — Но куда?» Он накинул на себя верхний плащ и вышел из дома. Навстречу ему попадались люди, как и он, испуганные этой загадочной тьмой. Спотыкаясь на каждом шагу и ни на кого ни обращая внимания, он быстро шел к городским воротам, шел к Голгофе, чтобы еще раз взглянуть на страшную картину казни.
Вот, наконец, и ворота.
Еще немного ходьбы и перед глазами Аминадава предстала Голгофа во всем ее мрачном величии. Старый фарисей остановился. От чрезмерного волнения и ходьбы у него сильно колотилось сердце и дрожали ноги.
На темном фоне неба вырезались силуэты трех крестов. Аминадав чувствовал, что у него не хватает ни сил, ни решимости подойти ближе. И он впился своими острыми глазами в средний Крест, около которого теперь находилось всего несколько человек, а остальной народ, сбившись в кучки, стоял в некотором отдалении. Вероятно, и эти люди, пораженные таинственной тьмой, в безмолвии ждали чего-то необычайного, ужасного.
Бросив еще взгляд на средний Крест, Аминадав, объятый каким-то тайным страхом, повернул обратно и пошел по направлению храма. Он хотел забыться, сосредоточиться в этом святилище — в месте поклонения их Богу Иегове.
Он миновал притвор Соломонов и очутился перед самыми храмовыми зданиями. Вот и то средостение (преграда — ред.), которое отделяет двор язычников от двора Израиля. С поникшей головой он медленно поднялся по ступеням, миновал ворота и пошел во двор Израиля. Перед ним уже находился двор священников, куда Аминадав не имел права входить, как человек, не принадлежавший к священному сословию.
Прислонившись к колонне, он думал было в молитве найти себе успокоение и отрешиться от всех тревожных мыслей. Губы его тихо шептали слова молитвы, но сердце оставалось по-прежнему холодным и мрачным; до него не доходило произносимое словами.
Долго стоял и молился Аминадав. То он поднимал глаза к небу, как бы ожидая оттуда ответа на свои вопросы, то опускал их книзу, точно отчаявшись в получении просимого. А кругом царила все та же тьма, в которую был погружен великолепный храм, и которая черным покровом спустилась над великим городом. И вдруг среди такого безмолвия раздался подземный громовой удар, заставивший задрожать и храм, и самую землю. Вслед за первым ударом раздался второй, третий. Казалось, что колебалась от ужаса вся земля до ее основания, а вместе с ней трясся и весь Иерусалим.

Старый фарисей окаменел. Дыхание застряло где-то в груди и ледяной холод охватил все его существо.
В это самое время он увидел нескольких священников, которые в своих белых одеждах, развевающихся по воздуху, стремительно бежали из своего двора. Они, обезумевшие, забыв все на свете, неслись оттуда, точно их гнала какая-то невидимая, сверхъестественная сила.
— О! Чудо, чудо! — кричали они, пробегая мимо старого фарисея. — Священная завеса разодралась сама собой надвое! О, горе нам, горе!
И они вихрем промчались мимо него.
Аминадав упал, как подкошенный, на колени и закрыл лицо руками. Он не мог более ничего соображать. Мозг отказался работать, и его состояние было близко к обмороку. В его уме только с быстротой молнии промелькнула мысль:
— Да, да! Мы распяли Самого Мессию! Самого Христа! О, горе, горе!..
Аминадав очнулся только тогда, когда яркий солнечный свет по-прежнему заливал своими теплыми лучами площадку и ослепительно играл на золоченых храмовых крышах.
Кое-как Аминадав поднялся на ноги и, шатаясь, направился к выходу. С большим трудом добрался он до дома и в изнеможении, совершенно обессиленный всем произошедшим, повалился на свое ложе.

Глава VIII
На другой день утром Рувим, отворив осторожно дверь в комнату отца, был несказанно изумлен представившейся ему картиной. Аминадав, сидя на своем ложе, внимательно читал какой-то пергамент. Около него в беспорядочной куче лежало множество разных свитков, и некоторые из них валялись даже на полу. Вид у отца был крайне задумчивый, сосредоточенный; казалось, он настолько был углублен в чтение пергамента, что для него не существовал окружающий его мир.
Взор старого фарисея не блистал высокомерием и сознанием своего превосходства, а на лице, дотоле гордом, теперь лежала печать странной подавленности, или смирения. Словом, никогда еще Рувим не видел своего отца таковым. Было очевидно, что в его жизни произошел какой-то переворот, оставивший после себя глубокий след в душе фарисея.
Рувим, заметив все это, хотел было так же тихо удалиться, чтобы не мешать отцу в его занятиях, но Аминадав, услышав шорох, поднял голову и увидел сына.
— Рувим, сын мой, войди ко мне! — проговорил он медленно и с особой интонацией в голосе.
Рувим вошел.
— Где вы были вчера с сестрой? — спросил Аминадав, устремив на сына вопросительный взор.
Рувим на секунду смутился, но затем быстро и уверенно ответил:
Мы были сначала у претории Пилата, а потом зашли к тетушке и там пробыли до самого вечера.
— Зачем же вы зашли к тетушке, а не домой?
— Это вышло просто, — ответил Рувим, не привыкший лгать. — Сестра была расстроена всем виденным в претории. На пути нам попалась тетушка и увела нас к себе.
Прошло несколько секунд в глубоком молчании. Старый фарисей, видимо, что-то обдумывал.
— Скажи мне, сын мой, — произнес наконец он, видимо на что-то решившись, — тебе часто приходилось видеть и слышать Иисуса, сына Иосифа из Назарета?
Рувим вторично смутился. Он не знал, что этим вопросом хочет сказать отец, один из виновников смерти Великого Равви. Но юноша, после вчерашних событий окончательно уверовавший, что распятый Иисус не кто иной, как Сам Христос — Сын Божий, теперь не счел нужным скрывать своих истинных убеждений.
— Отец мой, — ответил спокойно Рувим, глядя на его осунувшееся, побледневшее лицо, — откровенно тебе скажу, что Его речи и дела производили на меня всегда глубокое впечатление. Видеть и слушать Его составляло для меня величайшее счастье. Я и раньше был убежден, что Он Великий Пророк, ну а теперь, после того, что произошло вчера…
Рувим запнулся и внимательно взглянул на отца, желая проследить то впечатление, какое имело место быть от этого неожиданного признания.
Аминадав сидел с опущенной головой.
— Я знаю, сын мой, что ты хотел сказать, — проговорил Аминадав, видя, что Рувим не решается окончить своей фразы. — Ты мог бы теперь смело сказать все то, что лежит у тебя на сердце. О, как я ненавидел прежде Этого Человека, как презирал Его за то, что Он постоянно стоял на нашей дороге! Но теперь я и сам…
— О, великий Господь!.. — шепотом окончил он и опустил свою голову, все еще не решаясь высказать вслух ту мысль, которая стоила ему больших нравственных пыток и терзаний за всю прошедшую ночь.
Рувим был несказанно поражен этими словами отца. Так вот разгадка всего непонятного в его поведении!
— Отец мой, отец! — вскричал он. — Неужели и ты уверовал в Него! Может ли это быть?
Аминадав вместо ответа порылся в свитках, отобрал несколько штук и подал Рувиму.
— Вот, сын мой, возьми эти свитки и внимательно их прочитай! Здесь ты, может быть, найдешь многое для себя новое. Скажи мне, ты был на Голгофе?
— Нет, мы с Лией не решились идти туда, это было бы слишком тяжело. Ты, может быть, не слышал еще, отец, что Его уже похоронили.
— Похоронили? — изумился Аминадав. — Кто же и когда?
— Вчера, поздно вечером, Иосиф из Аримафеи.
— А где?
— В своем собственном саду. В тот самом гробе, который Иосиф приготовил для себя.
Аминадав был удивлен поступком Иосифа Аримафейского, который, несмотря на то, что был членом синедриона и лицом, пользовавшимся большим уважением, не раздумывая, совершил погребение над Человеком, казненным по настоянию своего народа и по приказу римского прокуратора. В глубине своей души Аминадав проникся чувством уважения и почтения к этому благообразному старцу, который, не заботясь об общественном мнении и ставя этим свою репутацию на шаткую почву, сделал все то, что подсказывали ему ум и сердце.
«Вот Его истинный последователь, готовый для Своего Учителя пожертвовать всем», — невольно подумал Аминадав.
Рувим, взяв рукописи, хотел было выйти из комнаты, но в это время раздался стук калитки, и по двору послышались чьи-то поспешные шаги.
— Рувим, кто бы там ни был, но предупреди, что мне нездоровится, — произнес Аминадав.
Рувим вышел, но через минуту возвратился и сказал:
— Отец, тебя желает видеть посланный от Каиафы.
— Что же ему нужно?
— Говорит, что имеет от первосвященника к тебе какое-то поручение.
— А ты говорил, что я болен?
— Да.
— В таком случае пусть войдет сюда.
— Привет моему высокоуважаемому учителю, — заговорил посланный, входя в комнату и низко, подобострастно кланяясь. — Я послан великим первосвященником просить тебя, чтобы ты пришел к нему сейчас.
— А не знаешь ли, в чем дело?
— Это мне известно, — ответил тот. — Депутация от наших старейшин хочет идти к Пилату и просить его, чтобы он разрешил поставить стражу у гроба вчера казненного Галилейского Учителя и запечатать гроб своей печатью. Одним из числа таковых старейшин желают, чтобы был ты, наш мудрый учитель!
— Передай от меня первосвященнику, что я болен и прийти поэтому не могу, — ответил Аминадав, выслушав посланного. — Ты сам удостоверишь, что я говорю правду, достаточно тебе взглянуть на мое лицо. Передай затем первосвященнику мой привет!
Посланный вновь поклонился и вышел.
— О, безумные! — вслух проговорил Аминадав, представляя в уме своем Каиафу со всеми старейшинами народными и книжниками. — Можете ли вы своей стражей и печатью удержать Сына Божия во гробе! Немыслимая, непосильная задача…
И старый фарисей, опустившись на свое ложе, снова глубоко задумался все над тем же вопросом, который огненными буквами был запечатлен в его голове: «Кого мы распяли?»
Глава IX
Весь первый день праздника Пасхи Аминадав никуда не выходил из дома. Он чувствовал себя разбитым и потрясенным. Он переживал душевный кризис, у него рухнуло все прежнее миросозерцание, но на его месте еще не было воздвигнуто ничего прочного.
С удрученным сердцем, но с надеждой, что должно произойти нечто такое, что сразу разрешило бы все его сомнения, отодвинуло бы эту таинственную завесу, — Аминадав лег спать.
Рувим в это время беседовал с сестрой в ее комнате.
— Вот видишь, Лия, — говорил он, — какая большая перемена произошла с отцом! Я почти был уверен, что так именно и будет. Хотя отец и преследовал Великого Равви, но он в то же время слишком умен, чтобы долго заблуждаться, совершив ошибку.
— Ах, как я рада всему этому, — ответила Лия, — можно ли было думать, чтобы отец, этот непобедимый книжник, и вдруг признал себя побежденным…
— Мало этого, Лия, — перебил ее Рувим, — но он готов признать Его даже и Мессией, и эти свитки доказывают это. Что же касается меня, то я теперь твердо убежден, что Иисус — Сам Христос! Мессия! Все Его дела, учение, события последних дней, все эти пророчества не оставляют более никакого сомнения. И это я готов объявить всему нашему синедриону и даже лицемеру Каиафе, если в этом встретится надобность.
— Рувим, ты говоришь, что гроб Его охраняется воинами. Зачем же это?
— Все это хитрости наших мудрецов, — ответил Рувим. — Мы знаем, что Мессия должен в третий день воскреснуть, и вот старейшины наши, боясь, чтобы Он, Христос, не воскрес, и поставили стражу. О, какие они безумцы!
— Они сказали Пилату, что стража нужна для того, чтобы ученики ночью не украли тело Его и не сказали бы, что Он воскрес из мертвых.
— Право, можно удивляться только, до какого отупения дошли наши начальники и старейшины! — покачав головой, произнесла Лия.
— Да, это верно, — согласился Рувим.
На этот животрепещущий вопрос брат и сестра искали ответы, беседуя до самой полуночи. И только когда пропел полуночный петух, Рувим хотел было идти в свою комнату, но в это самое время громкий стук в калитку заставил их обоих сильно вздрогнуть.
— Кто бы мог прийти в такой поздний час? — тревожно спросила Лия. — Не случилось ли чего-нибудь?
— Нужно узнать, кто это стучит, — проговорил Рувим, выходя из комнаты сестры.
Стук повторился с большей силой. Видимо, кто-то настойчиво желал, чтобы его впустили во двор.
Рувим сошел с террасы.
Привратник, разбуженный громким стуком, быстро сошел к воротам.
— Кто там? — спросил он.
— Мы, римские воины, которые стерегли гроб Иисуса, Назаретского Учителя, — послышался ответ. — Отвори скорее, нам нужно видеть фарисея Аминадава.
Привратник стремглав кинулся к Рувиму.
— Господин! — вскричал он, — там пришли римские воины, которые стерегли гроб Иисуса и желают видеть твоего отца. Что делать? Впустить их?
— Римские воины? — изумленно переспросил Рувим. — Что же им нужно в такой поздний час? Скажи, что я сейчас разбужу отца.
И Рувим, поднявшись во второй этаж, быстро подбежал к комнате отца и постучался в дверь.
Но старый фарисей, утомленный предыдущими волнениями, крепко спал, и прежде, чем он проснулся, Рувиму пришлось несколько раз сильно стукнуть в дверь.
— Кто там? — послышался недоумевающий голос.
— Отец, тебя спрашивают те римские воины, которые охраняли гроб Иисуса. Они стоят у калитки.
Дверь быстро распахнулась, и на пороге показался крайне изумленный Аминадав.
— Что им нужно от меня? Что они хотят сказать? — вскричал он. — Скажи однако привратнику, чтобы он впустил их во двор. Я сейчас выйду.
Рувим поспешил во двор и приказал отворить калитку. Каково же было его изумление, когда во двор вошли сильно перепуганные, трепещущие воины. Видимо, они пережили какое-то большое нравственное потрясение, которое оставило после себя такой глубокий след в закаленных, бесстрашных воинах.
— Где, где фарисей Аминадав? — заплетающимися языками заговорили они.
Старый фарисей, накинув на себя плащ, поспешил выйти вслед за сыном.
— Что такое? Что случилось? — скороговоркой произнес он, пристально в них вглядываясь.
— Ты один из главных иудейских фарисеев… — начал один из воинов, причем губы его дрожали, а глаза продолжали испуганно бегать по сторонам. — Твой дом был на нашем пути, и мы зашли известить тебя… О, великий Юпитер сошел на землю и поколебал ее!
— Что ты хочешь сказать этим? — вскричал Аминадав, крайне изумленный загадочными словами воина.
— А вот что… — продолжал тот. — Накануне вашей Пасхи Пилат распял одного Учителя из Назарета, Иисуса. Нас поставили охранять Его гроб, чтобы ученики не взяли Его тело. Мы добросовестно исполняли свой долг и все время бодрствовали. Но около полуночи вдруг явился ко гробу светлый, как молния, юноша. Мы страшно испугались и пали на землю.
— О, это был один из богов! — вскричал другой воин.
— Этот светлый юноша, — продолжал рассказчик, — отвалил камень от дверей гроба, причем сделалось великое землетрясение. Мы были почти без памяти и думали, что над нашими головами уже летает богиня Либитина[12]. Потом, когда мы немного пришли в себя, я заглянул во гроб, но там никого не было — он был пуст. После этого мы поспешили в город. Твой дом был на нашем пути, и мы зашли известить тебя обо всем. Но что теперь сделает с нами Пилат? Мы погибли!
Старый фарисей, как окаменелый, выслушал это известие. Бледный, с широко раскрытыми глазами, со спертым от волнения дыханием, он походил на статую, на лице которой талантом художника был выражен тот восторженный ужас, который охватывает человека, когда он ощущает присутствие Самого Бога или получает какое-нибудь сверхъестественное откровение.
— Он Воскрес! — вскричал, наконец, Аминадав, задыхаясь от охватившего его волнения. — Он Воскрес, как сказал. И как написано у пророков!
— Идите же, идите скорее, — обратился он к воинам, — и скажите все это Каиафе! Скажите всем прочим, всем людям! Поспешите! Пусть радостная весть Воскресения будет известна всему Иерусалиму, всему миру!
Воины быстро ушли.
— Рувим, Рувим! Ты слышал? — голосом, исполненным восторга, проговорил старый фарисей, обращаясь к недалеко стоявшему сыну, по лицу которого, обращенному к небу, бежали чистые, как кристалл, слезы.
— Отец! — вскричал тот. — Я знал, что это произойдет! Я верил в Него! Слава Воскресшему из мертвых!
Оба они, несколько секунд спустя, входили в комнату Лии. Молодая девушка едва кинула на них свой взор, как по взволнованным лицам отца и брата поняла, что случилось что-то чрезвычайно важное, необыкновенное.
— Лия, Лия! — закричал Рувим, переступив порог ее комнаты. — Он Воскрес из мертвых! Сейчас приходили воины, которые стерегли Его гроб, и сообщили нам эту радостную весть!
— Неужели? — вздрогнув от радости, переспросила она, бросаясь навстречу пришедшим.
— Да, дочь моя, Он Воскрес! — торжественно проговорил старый фарисей. — Он победил смерть! Гроб с воинами не смог удержать Мессию!
И Аминадав крепко прижал к своей груди головы сына и дочери.
— Господи Иисусе Христе! — прерывающимся от волнения голосом заговорил он, спустя минуту. — Я не верил в Тебя. Я презирал, гнал Тебя. Прости мне грех мой, мое неразумение, мое неведение.
Из глаз старого фарисея чуть не в первый раз в жизни текли горячие слезы, капая на склонившиеся юные головы.
— Теперь я верю! Ты — Сам Мессия. Ты — Христос, Сын Божий! Прости нас, Боже! Приими нас в Твое Небесное Царство! Нас, которые одни из первых удостоились выслушать радостную весть Воскресения Христова! Слава Тебе, Победителю смерти.
И старый фарисей замолчал, опустив низко свою бедную голову. Он избытка волновавших чувств все молчали, не находя слов, чтобы говорить. И казалось им, что от охватившего их духовного прозрения, наполнившего их сердца, от чувства благодарности и хвалы Спасителю-Мессии, они отделились от земли, отрешились от всех ее скорбей и лишений и невидимо созерцают славу Воскресшего Христа. Им чудилось, что теперь настает то царство, о котором говорил Иисус Христос, еще живя на земле, а они — одни из тех, кто уверовал в наследие этого благодатного Царства Небесного. Аминь.
Ив. Вас. Попов-Пермский
Журнал «Отдых Христианина» №5, 1907 г.
Вольный раб
И. И. Гребенщиков
Рассказ из первых веков христианства
Глава первая. Божий заимодавец
«Милуяй нищего, взаим дает Богови».
«Тебе оставлен нищий, сиру ты буди помощник» (Пс.9:35).
Яркое, веселое, весеннее утро золотило светлыми, еще не жгучими, ласкающими лучами южного солнца синий морской залив, блестящий, как зеркало.
Раскинутый на берегу его большой красивый город Нола[13] весь утопал в густой и яркой зелени лавров, мирта и апельсиновых деревьев, ветвями которых изредка, словно нехотя и играя, шелестел теплый, влажный и мягкий ветерок, прилетавший с дальнего знойного юга.
Зеркальный залив, словно морщась, рябился, и море, будто в полусне, плескалось в гранитную пристань и борта покачивавшихся на волнах залива многочисленных разнокалиберных судов. Природа словно оживала, радостно дышала и шептала что-то такое теплое, светлое и радостное, что, кажется, самое угнетенное, истомленное и изуставшее от житейской суеты, борьбы и муки сердце воскресло бы под влиянием хоть и бездушной, но нужной и теплой ласки цветущей природы, и забилось бы тревожно сладким ожиданием счастья, радости и лучшего будущего!
Но были в городе люди, которых ликующая во всей своей красоте и полном цвете природа не могла ни развлечь, ни утешить, а только разве еще больше огорчить, оттенив своею бессознательною радостью гнетущую их души скорбь!
Епископ Ноланский Павлин[14], бодрый, свежий и, несмотря на свои шестьдесят лет, представительный старик высокого роста и крепкого сложения с седой бородою и наружностью апостола, — проснулся при первом щебетании птиц, с тяжелой головою, в удрученном состоянии духа, с какой-то тупо ноющей, словно физической, болью сердца. Ему, постоянно владевшему собою, ревностному и неуклонному исполнителю своего долга, пришлось употребить усилие, чтобы прочитать долгую утреннюю молитву с обычным благоговением, усердием и вниманием. Впрочем, после молитвы, как и всегда, на душе его стало легче и отраднее.
Тихо ступая грубыми, тяжелыми, далеко не епископскими сандалиями, стараясь не разбудить сладко спавшего крепким утренним сном своего пожилого слугу Клавдия, он прошел из слишком скромно убранной своей опочивальни через две небольших, так же бедно обставленных комнаты, и вышел в цветник, рядом с которым был раскинут довольно просторный огород.
Цветы и овощи были единственной слабостью епископа. Все свободное от молитвы, пастырских трудов и чтения время он посвящал им: копал гряды, садил овощи и растения, вырывал сорные травы, поливал, даже ласкал цветы, как милых детей, а порой говорил с ними, как с людьми.
Зато и цветы же были у епископа Павлина!
Даже здесь, на благодатном юге, под ласкающим солнцем, обвиваемые теплым и влажным морским ветром, они поражали избалованный взор южанина разнообразием своих пород, красотою и роскошью своего цветения. А овощи епископа заставляли облизываться самых тонких городских гастрономов, которые нарасхват покупали их у бедноты, не только даром получавшей их от епископа, но, можно сказать, прямо бравшей их с огорода, считая последний, к великому отчаянию Клавдия, чуть ли не собственным достоянием.
Когда Павлин вошел в сад, в самое лицо ему дунул освежающий ветерок, от которого закачались пестревшие всеми цветами радуги головки цветов, словно кланяясь своему воспитателю и приветствуя его. Увидев своих любимцев, епископ невольно улыбнулся своей доброй и ясной улыбкой, от которой благородное лицо его сделалось еще привлекательнее и чуть-чуть просветлело. Но улыбка сейчас же сбежала с его лица, и, не подходя к своим любимцам, он опустился на близстоявший пень, тяжело вздохнул и погрузился в глубокую, безотрадную думу… Да и было о чем задуматься!..
Фракийские пираты постоянно нападают на суда и даже на самое побережье около Нолы: захватывают купцов, матросов и даже мирных граждан и томят их в тяжелом плену до получения выкупа, довольно чувствительного даже для состоятельных людей, а для бедных прямо непосильного. Не получив в известный назначенный срок выкупа, разбойники продают пленника в работы в далекую Африку, в Нубию или Египет, и тогда уж человек пропал, — тщетны будут все поиски…
На выкуп таких пленных ушло все некогда богатое достояние Павлина. Где золото, серебро, драгоценности, земли, дома, рабы? Остался только клочок земли, убогий домик, самая необходимая утварь, одежда, едва-едва терпимая для высокого сана епископа. Слава Богу, хоть слуга есть, добровольный, добрый и сердечный, как казалось Павлину, человек…
Епископ вздумал было обращаться за помощью для несчастных к своим пасомым, но… напрасно. Богачи затворяли перед Павлином двери своих дворцов и даже перестали ходить в храм из-за боязни услыхать здесь горькую укоризну своей скупости. Любя золото и покой больше всего на свете, немилосердные богачи всячески поносили Павлина. В их устах и мыслях это был сумасшедший человек.
Епископ Павлин с тоскою видел, как в бессилии опускались руки его ближайших сотрудников в деле благотворения, — пресвитеров и дьяконов, бравших с него пример, но лишенных его беспредельной любви к несчастным и кипучей, неутомимой деятельности… С ужасом предвидел он тот час, когда он будет решительно не в состоянии хоть чем-либо помочь обездоленным детям и женам пленников, не говоря уже о полной невозможности выкупа их из плена.
Нет у него ничего… Продать разве землю и домик?..
Но много ли дадут за эти голые ветхие стены, за этот клочок земли, вдали от центра города, за гряды с местными овощами, за клумбы с цветами, дорогими его сердцу, но негодными даже на корм скоту?! Дадут столько, что не хватит на выкуп и одного пленника!
Это прекрасно было доказано вчера утром случаем, какого с тоскою и страхом давно уже ожидал Павлин.
Вдова медника Порфирия, Анна, пришла к епископу и с рыданьями поведала ему, что единственный кормилец ее и ее трех малолетних детей, старший сын Евграф, сам едва вышедший из отроческого возраста, неделю тому назад попал в руки пиратов. Анна получила от них письмо с известием, что сын ее при дележе добычи достался зятю князя вандальского по имени Рикса…
В письме, сверх того, содержалось требование доставить за Евграфа выкуп в полталанта серебра, на что назначался месячный срок, по истечении какового пленник будет продан. Затем следовала приписка, сделанная самим Евграфом, очевидно, по приказанию и под давлением разбойников, желавших получить хороший выкуп. При продаже Евграфа в рабство они бы не выручили и пятой доли запрошенной от вдовы суммы.
Положение Евграфа в плену рисовалось в самом мрачном свете: в оковах, в подземелье, на затхлой воде и черством хлебе изнывал юноша, опора и надежда всей семьи; юноша, от самого рождения слабого и хилого сложения, а сверх того, недоедавший и недопивавший в постоянной нужде, ставшей уделом семьи после смерти Порфирия. Тяжелое положение пленника усугублялось полною безнадежностью на освобождение когда бы то ни было, а не только в ближайшем будущем.
При воспоминании вида и слез вдовы, у Павлина опять, как и вчера, сердце пронзило болью… Напрасно вчера, с утра и до поздней ночи, ходил он к людям, которые, по его мнению, могли бы оказать помощь Анне: он ничего не получил, кроме более или менее вежливых отказов и сожалений о невозможности помочь…
Вот в каком печальном виде предстал перед Павлином роковой вопрос дальнейшей помощи беднякам, — грозный и неразрешимый! Он не дал епископу всю ночь сомкнуть глаз. Павлин сначала обыскал всю свою хижину, к великому недоумению Клавдия, в совершенно напрасной, как и сам сознавал, надежде найти что либо ценное; затем читал Писание и отцов Церкви, надеясь в книгах найти разрешение мучившего его вопроса. И только перед рассветом он забылся сном, но тревожным, прерывистым и томительным…
И теперь он сидел олицетворением грусти и печали, как некогда Иов на гноище, и так же приложимы были к нему слова праотца: «Ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне» (Иов.3:25).
Глава вторая. Неведомый чудотворец
Давно уже взошло яркое солнце во всем своем блеске и остановилось на небосклоне, обещая знойный, удушливый день. Ранние птицы устали щебетать и примолкли; звонко лишь кричали в пыльной и сухой траве цикады. В синем небе носился с пронзительным криком хищный коршун. В домике епископа слышались суетливые, тяжелые шаги его слуги и шум, производимый им при уборке бедных комнат. Павлин все сидел да сидел в грустной задумчивости, и мысли его витали где-то далеко-далеко, так что он не замечал даже, что лучи высоко уже поднявшегося солнца начинали сильно печь его не прикрытую ничем, кроме великолепной гривы седеющих волос, голову.
Лишь раздавшиеся в долине голоса, — один мужской, грубоватый, принадлежавший Клавдию, другой звонкий, но несмелый, словно виноватый и просительный, исходивший, очевидно, из уст женщины, — вывели епископа из задумчивости и возвратили его к действительности. Он тяжело поднялся и, не кинув даже взгляда на своих бездушных садовых любимцев, направился к своему жилищу…
— Иди, иди!.. Чего тут? Ведь епископ сказал тебе, что ничего не может сделать, ничем не может помочь, — сердито говорил Клавдий, обыкновенно молчаливый.
Женщина что-то начала возражать, но слуга снова перебил ее…
— Ни тебе, и никому… Разве только один твой сын в плену у этих проклятых вандалов? Выкупали прежде, а теперь и денег не хватит всех-то выкупать. И чем твой сын, скажи, пожалуйста, лучше других?! Иди, иди, — возвысил он голос на новую попытку женщины возразить ему что либо, — не беспокой епископа. Он сегодня служит литургию, да у него и без того немало дела. Да наконец, и сказал же он тебе коротко и ясно, что ничем помочь не может.
— Неправда!.. — кажется, неожиданно для самой себя воскликнула женщина, в которой епископ по голосу узнал Анну. — Епископ сказал мне: «Верь, молись и надейся!»
— Ну и надейся, — сердито возразил Клавдий.
— Сколько, ты говоришь, просят выкупа за твоего сына? — спросил он, с очевидною целью убедить вдову в полной неосновательности ее надежды.
— Полталанта серебра! — еле произнесла Анна, и слышно было, как рыдания прервали ее слова: одно уже представление о громадности для нее требуемой суммы повергало ее в безнадежное отчаяние.
— Видишь ты, — с невольным соболезнованием в голосе произнес слуга, — какие деньги! И не выговорить! А у нас в доме, если бы ты знала!.. Ну, да уж, скажу тебе по совести…
Но Павлин быстрым своим появлением не дал своему верному слуге времени и возможности сообщить Анне сведений о наличности в его кассе, которая находилась в столь плачевном состоянии, что Клавдий приблизил свои губы к самому уху Анны, считая, вероятно, положение этой кассы не только плачевным, но и прямо неприличным для сана его хозяина.
При появлении епископа Клавдий, несмотря на то, что уборка скромно обставленного жилища уже давно была им окончена, с новой энергией принялся перетирать вычищенные уже вещи и без нужды переставлять мебель. Анна же безмолвно упала в ноги Павлину, олицетворяя собой беспомощность и страдание.
А тот стоял над нею, вновь потрясенный до глубины сердца ее безвыходным положением, ее невыразимым горем, чувствуя полное бессилие не только чем-либо помочь ей, но даже что-нибудь сказать, кроме просьбы встать. Если вчера он еще находил возможность говорить ей слова надежды и утешения, то сегодня, после того как он тщетно перед всею паствою своею произнес в храме проповедь по поводу безысходного положения Анны, а затем обошел чуть ли не весь город с напрасною просьбою о помощи, слова ободрения и поддержки не шли у него с языка. Ему казалось, что никогда еще он не видал такого горя: были, правда, и худшие положения, но была сначала уверенность, а потом, при истощении средств, хоть надежда на помощь… А здесь…
— Помоги, святитель Божий, — едва простонала, наконец, Анна.
«Ничего не могу сделать для тебя», — хотел было сказать епископ. Но то, что легко было сказать его слуге, так и замерло на устах Павлина. Слова эти казались ему до невероятия жестокими. Еще бы! Кто и когда слышал от него слово полного отказа?..
Верный слуга, видя своего господина в таком затруднительном и даже безвыходном положении, решил прийти к нему на помощь и сказать за него то, чего он, по бесконечной своей доброте, как справедливо угадывал Клавдий, не мог выговорить:
— Сказано тебе: иди таки, иди! Не утруждай напрасно. Ничего нельзя сделать!
И при этом он взял Анну под локоть с явным намерением удалить ее из жилища епископа, хотя бы для этого и пришлось употребить силу.
— Оставь ее, Клавдий! — мягко, но решительно сказал Павлин, так что слуга немедленно повиновался, хотя и проворчал что-то себе под нос.
— Зайди ко мне после литургии, — продолжал епископ, обратившись к Анне. — Будем веровать и надеяться, что Господь преклонит к горькой твоей судьбе ухо и око кого-либо из избыточествующих и благочестивых чад Его! Не падай духом. Все возможно верующему в Того, Кто сказал: просите, и будет дано вам.
— «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя» (Пс. LIV, 23), — прибавил он слова псалмопевца, благословляя благовейно склонившуюся перед ним Анну, во взоре которой робко блеснул луч смутной надежды. Еще бы! Ей так хотелось надеяться даже на невозможное!
Отпустив Анну, епископ долго ходил взад и вперед по своим бедным комнатам. Скорбь, как никогда ранее, душила его. Сердце его изнывало в печали за участь пленных бедняков и бедственное положение обездоленных их семейств. Но в то же время всей душою скорбел он и о своей пастве, ставшей столь жестокосердной, что даже такие вопиющие несчастья, какие произошли с Анной, не могли побороть ее равнодушия.
Ужасно это всеобщее равнодушие! Едва ли не хуже — сожаление и выражение участия только на словах, хотя бы более или менее искренних, там, где нужна осязательная помощь, — живое дело! Вспоминались Павлину грозные слова Апокалипсиса, обращенные к Ангелу Лаодикийской церкви: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Апок.3:15-16).
— Именно, ни холодны, ни горячи, а только теплы, — вполголоса говорил епископ, приобретший привычку при постоянном общении с молчаливым Клавдием и совершенно немыми цветами и овощами говорить сам с собою.
— Теплы, теплы, на это нельзя пожаловаться, — определял он свою паству, причем в голове его мелькали разные случаи доброго отношения к нему его паствы (зла Павлин как-то никогда не мог упомнить).
— Но, Боже мой! Как же подходит к большинству моей паствы, этим неопределимым, точно двуликим, людям, дальнейшие слова Откровения: «Ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Апок.3:17). Какое действительно ужасное ослепление, какое непростительное, невероятное заблуждение! А виноват я, ленивый и неключимый раб, растративший данный мне талант без пользы для ближнего, не сумев вложить ему в душу заповедей Христовых…
Самообличения Павлина были прерваны Клавдием, все еще продолжавшим ворчать себе под нос, на что епископ, зная давно эту его манеру, не обращал решительно никакого внимания. Вмешательство это выразилось, впрочем, только в том, что Клавдий, взяв на одну руку верхний плащ епископа, а в другую его посох, встал неподвижно, как статуя, у двери, не то с укором, не то с соболезнованием глядя на ходившего крупными шагами Павлина.
Когда взгляд его упал на Клавдия, он машинально взглянул на песочные часы и увидел, что уже время идти в храм. Быстрым и ловким, почти юношеским движением он накинул на себя плащ, красиво облегший его высокую, стройную и представительную фигуру, и взял посох.
— Не тужи, мой добрый Клавдий, — сказал он, благословляя слугу на прощание. — Верь слову Христову: «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре!» (Лк.18:7-8).
— Аминь! — набожно сказал Клавдий, которому невольно сообщилась горячая вера и надежда его господина на благоприятный исход из небывало затруднительного положения.
Павлин шел крупным и бодрым шагом по пробудившимся уже и кипевшим праздничною суетливою толпою улицам, ласково и с улыбкою, так шедшею к его доброму лицу, отвечая на сыпавшиеся со всех сторон от людей самых разнообразных классов приветствия, и думал о своем слуге: «Вот Клавдий, — этот уже не тепл, нет! Был холоден, — стал горяч! И со своею детски верующею душою воистину не далек от Царства Божия».
А Клавдий в это же время думал о епископе.
Ему чуть не до слез жалко было великодушного старика, подобного которому, — как он вполне искренне был убежден, — нельзя было найти во всей вселенной. Он пламенно желал, чтобы нашелся какой-нибудь выход из того невозможного положения, в котором находился Павлин. Пусть будет даже чудо! Да, да — именно чудо. И он не менее горячо желал чуда, хотя, главным образом, не для того, чтобы помочь бедной Анне, а для вящего прославления его господина. При этом в голову ему приходили слышанные им в разное время рассказы о всевозможных чудесах.
«Отчего же Павлин никогда не творит чудес? Ах, зачем и почему этот святой человек не чудотворец?!» — упорно шевелилась в голове Клавдия тоскливая мысль, когда он торопливо спускался под гору за водою для поливки огорода, которому начинал грозить усиливающийся зной.
Не один, впрочем, Клавдий жалел о том, что Павлин никогда не сотворил никакого чуда. Многие из облагодетельствованных Павлином бедняков, в наивности своей души, жалели об этом и были этим словно огорчены или даже обижены. И им, как Клавдию, страстно хотелось бы совершения Павлином чуда для самого же епископа. «Каким бы ярким, немерцающим ореолом была бы, — думалось им, — окружена высокочтимая ими личность святителя, общего их отца и печальника, если бы он возвращал жизнь мертвым, зрение — слепым, слух — глухим, речь — немым!» В близорукой наивности своей не различали они, что их епископ был действительно чудотворец. И не только потому, что, благодаря его молитвам и утешениям, многие, глядевшие уже в могилу, оставляли одр болезни вполне исцеленными. Таких случаев никто и не считал за чудо, потому что Павлин всегда старался дать им самое простое и естественное объяснение, ссылаясь, например, на искусство врача, разумный уход и т. п., тщательно стараясь затмить долю своего личного участия.
Не видели эти бесспорно добрые и благочестивые, но простые души, что пастырь их является подражателем величайшего Чудотворца, и о нем, как и о Том, можно было бы сказать словами Писания: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, прислал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам — открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное» (Ис.LXI:1-2, Лк.4:18-19).
К деятельности Павлина по освобождению пленников и к заботам об их без него бы с голоду умерших семьях все так привыкли, что ее и не замечали. Так же мимо глаз их проходило и то, что епископ в действительности, как некогда праведный Иов, при неустанной благотворительности своей, в сущности, «был глазами слепому и ногами хромому» (Иов.29:15).
А сколько жестоких сердец, каменных сердец, которых, кажется, никто и ничто не могло бы тронуть, растворялось от одного слова этого человека, полного евангельской любви, детской незлобивости, милосердия и всепрощения. Увядшая теперь с течением времени благотворительность этого роскошного, богатого торгового, но до бездушия черствого города, если цвела ранее пышным цветом, то единственно под благотворным влиянием то кротких, то грозных слов святителя.
Нельзя было бы перечесть отдельных случаев, выдающихся по характеру своему или же размерам благодеяний, и притом со стороны лиц, от которых этого никто и ожидать не мог, сделанных только по примеру Павлина. Никто также не считал, сколько развратников сделалось целомудренными людьми, пьяниц — трезвенниками, воров и лихоимцев — честными, сколько лютых грешников отошло в иной мир примиренными с небом, — и все это иногда от одного исполненного истинно христианской, высокой любви слова Павлина!
А паства — род лукавый и развращенный — ждала от Павлина чудес, какие, говорят, делались другими богоугодными людьми в иных странах и городах. Взиравшие на одну внешность и ею ослепленные, не замечали эти люди, что уже одно присутствие в среде их такой живой любви, как Павлин, самая жизнь его, в которой ничего почти не оставалось для себя, а все отдано было другим, сами по себе являлись чудом.
Но не замечали этого жители Нолы и, как иудеи от апостола, «знамения просили» от своего, неведомого им чудотворца.
А за «знамением», в сущности, и недалеко было идти: стоило только посмотреть хотя бы на слугу епископа, Клавдия. Бывший матрос, отчаянный гуляка и буян, он, в конце концов, попал под суд за ограбление одного Ноланского гражданина и за убийство товарища в затеянной в состоянии полного опьянения драке. Клавдия ожидали если не смертная казнь, то жестокое телесное наказание и долголетние работы в рудниках. От всего этого избавил его Павлин, считавший своим долгом посещение темниц, по завету Христову (Ср. Mф.25:36).
Увидев перед собою угнетенного тоскою и раскаянием заблудшегося под влиянием дурных примеров юношу, епископ тотчас же вступился в его судьбу. Он из своих денег уплатил потерпевшему чуть ли не двойную стоимость отнятого у того имущества, чем и заставил его отказаться от обвинения Клавдия в грабеже. Пойдя затем в суд, он, со свойственной одному ему красноречивой убедительностью, доказал судьям непредумышленность и непредвиденность другого совершенного Клавдием преступления.
Оправданный Клавдий очутился все же в самом безвыходном положении. Возвращение в море для него оказалось отрезанным. Товарищи и приятели убитого им матроса несомненно отплатили бы ему тою же монетою, бросив его, при первом же удобном случае, через борт. А с другой стороны, никому из Ноланских граждан не интересно было взять к себе в услужение буяна и пьяницу, да еще вдобавок и убийцу, хотя бы и непреднамеренного… Павлину пришлось поэтому поместить Клавдия у себя в надежде, что найдется добрый человек, который, под порукою епископа, возьмет к себе Клавдия.
Но вскоре умерла престарелая служанка, и бывший преступник остался у Павлина навсегда. Нетребовательный и привыкший все делать сам, Павлин был как нельзя более доволен своим новым слугою. А последний, можно сказать, чуть не молился на своего благодетеля, из чувства благодарности к которому и под благотворным влиянием которого он день ото дня становился лучше, добрее и честнее.
Суровый по наружности и грубоватый от природы, замкнутый в себя и молчаливый, Клавдий вскоре, как и его господин, стал всеобщим любимцем, особенно же окружавшей епископа бедноты, с которою, впрочем, иногда вступал в пререкания из-за хозяйских денег или овощей. Но так как делал он это, как казалось ему самому, только по обязанности, — ибо что за слуга, который не заботится о господских интересах? — то все эти пререкания кончались мирно, и Клавдий, ворча по обыкновению, добавлял к данным епископом деньгам и свои, данные ему кем-либо из добрых людей, навещавших его хозяина.
Всегда и без всяких отговорок или возражений повинуясь епископу, Клавдий не мог, как мы видели, отказать себе в одном удовольствии — ворчать, читая наставления по адресу епископа, словно нянька баловню-любимцу ребенку. Но епископ или не обращал на это никакого внимания, или, добродушно улыбаясь, прислушивался к ним, радуясь, что у него есть такой добрый, сердечный и привязанный… не слуга — о нет! епископ вовсе не считал Клавдия слугою, — а товарищ и друг…
Так душа в душу и прожили они почти семь дет, до настоящего случая, когда бесконечное милосердие Павлина приняло вид настоящего, неслыханного чуда и в то же время обрекло друзей на неожиданную долгую разлуку…
Глава третья. Неожиданное откровение
Внегда скорбети ми, призвах Господа и к Богу моему воззвах: услыша от храма святаго Своего глас мой, и вопль мой предъ Нимъ внидетъ во уши Его (Пс.17:7).
Во оправданиях Твоих поучуся и не забуду словес Твоих. Взаповедех Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя. Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего (Пс.118:15-16, 18).
Как ни был Павлин взволнован всем произошедшим вчера и сегодня утром, но, подходя к храму, при виде святого места, где ему предстояло великое священнодействие, он вполне овладел собою и, «всякое житейское отложив попечение», направил все свои мысли единственно на то, что ему надлежало исполнить. Неторопливо облачившись, с обычным вниманием к великому делу и благоговением ко всему совершаемому начал он служение литургии с тою простотою и в то же время величием, какие были постоянными его спутниками во всех моментах его жизни и деятельности, которые невольно врезались в память и душу каждого, кому приходилось с епископом встретиться, и влекли к нему всеобщее уважение.
Но когда он, после малого входа, благословлял народ и, окинув быстрым зорким взглядом наполнявшую храм толпу, одетую в праздничную одежду, увидел убогую и убитую фигуру Анны и лицо ее, полное отчаяния, — снова какой-то червяк зашевелился в занывшем опять сердце Павлина.
Сидя теперь на горнем месте, на епископском своем кресле, он напрягал все внимание, стараясь ничего не пропустить из читаемого очередного Послания Апостола Павла к Филиппийцам, между тем как грустные мысли о безысходно бедственном положении Анны назойливо и против его воли лезли ему в голову.
«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, — медленно и громко возглашал во всеуслышание чтец слова святого Апостола, учителя языков. — Он, будучи таким образом Божиим, не почитал хищение как преимущество перед Богом; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба…» (Флп.2:5-7).
Павлина словно молния пронизала. Он едва удержался, чтобы не привстать со своего седалища…
Так вот оно — решение рокового вопроса! И какое же ясное и простое решение! И как это он, столько раз слушая и перечитывая слова Апостола, давно знакомые ему наизусть, сразу же не нашел решения такого простого вопроса?! Видно, что Господь отступил от него!.. А вчера ночью он пересмотрел почти все Писание, в надежде найти здесь разрешение мучившей его загадки, и… проглядел великие слова эти. О, маловер!
Что, в самом деле, может быть легче, — пойти самому в рабство вместо этого несчастного юноши. Тот нужен семье, а кому нужен он, недостойный епископ, не сумевший поставить вверенное ему словесное стадо на высоту истинно христианской жизни, не сумевший найти в такой обильной духовной сокровищнице, как Слово Божие, указания на тот выход, который только что прозвучал из уст чтеца.
Вопрос решен. Думам, сомнениям и колебаниям более нет места!
Вот оно — «от Господа спасение» (Пс.3:9)!
Паства привыкла к кроткому и добродушному лику своего пастыря, но еще никогда не видела она, чтобы лицо его дышало такой любовью и радостью, какие были написаны на нем, когда Павлин перед чтением Евангелия преподавал народу свое благословение.
Порешив с мучившим его вопросом так быстро и категорически, Павлин, как человек энергичный, уже выкинул его из головы и продолжал богослужение с прежним вниманием и благоговением. Лишь моля Бога о принятии бескровной жертвы, он в то же время мысленно молился, чтобы Господь не отвергнул и той жертвы, которую он, подражая Божественному своему Учителю, собирался принести. Призывая Духа Святого, он просил о даровании ему Духа разума и крепости, чтобы, к славе Божией, успешно привести задуманное к благополучному концу.
Перед окончанием литургии Павлин, как и обыкновенно, произнес слово, в котором указывал на необходимость благотворения, и самыми печальными красками обрисовал ужасное положение вдовы с тремя детьми, потерявшей единственного кормильца. Но последствия были не лучше вчерашнего, что епископ, по свойственным ему добродушию и смирению, всецело приписал малой убедительности и бездарности своей проповеди.
Впрочем, когда он, разоблачившись, уже выходил из алтаря, один бедный ремесленник принес ему два недорогих золотых браслета, — единственную память почти одновременно скончавшихся двух молодых дочерей его, прося принять его посильный дар и вырученную от продажи его сумму обратить на дела благотворения по усмотрению самого епископа.
«Лепта вдовицы, — с горечью думал Павлин, любовно благословляя склонившуюся перед ним голову доброго бедняка. — Высоко, о, как высоко оценишься ты там, на небе, но как же мала эта лепта здесь, на бренной и грешной земле!»
* * *
Обратный путь из храма Павлин прошел чуть не вдвое скорее, нежели туда. Решение мучившего его вопроса и желание как можно скорее сообщить эту весть Анне, что он счел неудобным сделать в храме, не только придавали ему силы, но прямо окрыляли его.
— На, Клавдий, — сказал он, подавая только что принесенные ему браслеты своему слуге, снимавшему с него плащ. — Сжалилась над нами одна добрая душа. Продай их, и половину вырученного отдай поровну хромоногому Сергию и той бедняге, — я забыл, как ее зовут, — знаешь?.. У которой пятеро внучат.
Клавдий молча кивнул головою: знаю, мол, понимаю, и будет сделано, — и ушел.
Оставшись один, Павлин, словно прощаясь, прошел по всем комнатам своего жилища, бедного, но чистого и уютного, с которым он сроднился. Оглядывая всю давно и до мельчайших подробностей знакомую обстановку, где с каждым предметом связано было какое-нибудь дорогое воспоминание, он снова переживал свою труженическую, строгую жизнь, полную самых человечных и возвышенных радостей и горестей. Словно жалея обо всем минувшем, он невольно вздохнул, но тотчас же поймал себя на этом, как на чем-то недостойном или постыдном, и поспешно вышел в сад. Цветы под безветренным зноем стояли теперь прямые и неподвижные, будто им стало известно, что воспитатель их оставляет, и они замерли, изумленные неожиданною горестною вестью. Павлин так же, словно прощаясь, обошел цветник и огород, остановился было на минуту у куста особенно любимых и взлелеянных им чудных роз, но, вспомнив, что Анна, вероятно, уже ждет его, пошел в домик.
Он не ошибся. У косяка двери, робко прислонившись к нему, стояла знакомая печальная фигура вдовы. При входе епископа глаза Анны вопросительно уставились прямо ему в лицо. В этом взоре не было ничего отрадного, никакой надежды: она была в церкви до самого ухода епископа, видела собственными глазами, что горячая проповедь его упала на каменистую землю, да и епископ, выходя из храма, ничего ей не сказал.
Но отчаяние ее сменилось удивлением, когда она увидала радостно возбужденное, дышавшее бодростью лицо епископа Павлина.

— Ну, Анна! Все хорошо, — весело и приветливо заговорил Павлин, и все лицо его расцвело улыбкою. — Твою беду можно поправить, сына твоего воротить тебе!
— Что ты говоришь, отче?! — воскликнула та, не веря своим ушам и хватая Павлина за руку.
— Не волнуйся, не волнуйся, — с ласковой улыбкой успокаивал ее епископ, — ты и так чуть на ногах стоишь! Присядь-ка лучше, да поговорим!
И он почти силой усадил бедную женщину, едва не лишившуюся чувств от всего перенесенного ею за последние дни, а особенно от внезапной радостной вести, что беда ее поправима. Епископ стоял и смотрел на нее с ласковым сожалением.
— Кто же этот благодетель, — едва нашла в себе сил выговорить Анна, — который вернет мне сына?
И она начала было уже посылать по адресу невидимого благодетеля благодарности и пожелания.
—Благодетель? — растерялся на мгновение Павлин. — Благодетель? — продолжал он задумчиво. — Благодетеля-то, раба Божия, никакого нет. Ах, нет… Впрочем… — спохватился он, — есть, есть… и даже двое…
— Кто же? — нетерпеливо вырвалось у вдовы.
— Апостол Павел — учитель наш! И Господь Иисус Христос — его учитель.
Бедная женщина ничего не могла понять, а также не могла допустить, чтобы над нею смеялся такой человек, как епископ Павлин, и только в еще большем недоумении смотрела в веселое, смеющееся лицо епископа, которое вдруг стало серьезным и как будто торжественным.
— Да, именно Павел и Христос, — подтвердил он.
И, внезапно схватив Анну за руку, он чуть ли не втащил ее в следующую комнату и притворил дверь, словно кто-то мог подслушать их разговор.
— Слушай, Анна! — торжественно сказал он. — Молю тебя ради Христа: обещай мне, что ты никогда и никому не расскажешь о том, что я теперь поведаю тебе.
— Господи! — простонала та. — Да неужели же…
Епископ не дал ей докончить. Он увидел, что для спасения сына она согласна не только на то молчание, которое от нее теперь требуется, но готова дать отрезать свой язык, чтобы всю жизнь оставаться безмолвной, если только это нужно для его спасения! За долгую жизнь свою Павлин много видел трогательных проявлений материнской любви, но теперь пришел в умиление от той силы, с котороюй она перед ним предстала. Смахнув невольную слезу, он кротко и просто сказал Анне:
— Я пойду в рабство за твоего Евграфа!
Этого вдова не ожидала… Она пошатнулась и едва не упала, если бы Павлин не держал ее за руку. Анна прислонилась к стене и беззвучно зарыдала.
«Боже! — проносилось в ее измученной непрерывной и непривычной работой голове. — Неужели она еще мало настрадалась, чтобы выслушивать насмешки над своим бедственным положением, и притом от кого? Не от жестокосердого, скупого богача, не от легкомысленного юноши, а от епископа-покровителя и защитника всех обиженных, угнетенных бедняков».
Павлин догадался, конечно, что думает Анна и, нагнувшись почти к самому лицу ее, торопясь и заикаясь, словно боясь, что кто-то перебьет его и разрушит его планы, говорил ей:
— Чего легче и проще. Мы едем, если можно, сегодня же к вандалам. Ты выдашь меня за своего родственника, — брата, что ли… И князь, вероятно, согласится возвратить тебе сына, а меня взять.
Вдова отрицательно покачала головою.
— В крайнем случае, можно сказать ему, что я епископ, и ему, конечно, выгоднее будет иметь такого пленника, как я. Ведь за меня он может потребовать несравненно большую сумму, нежели за твоего сына. Да и выкуп более обеспечен. Ну что? Хорошо же я придумал?
Вдова медленно соображала, очевидно, начиная понимать, в чем дело. Епископ, видя, что убеждения его начинают действовать, усилил свои доказательства.
— Я лично, поверь, ничем не рискую. Граждане наши — люди добрые, и, узнав, что епископ их в неволе, ничего не пожалеют для моего выкупа.
Все это Павлин говорил с целью убедить Анну в простоте исполнения задуманного плана. Все эти доводы пришли ему в голову внезапно: он твердо решился скрыть свое звание и знал, что никто не выкупит его. Но ему нужно было подействовать на Анну, чтобы она не считала невозможным его план. И он успел в этом.
Так уж устроен человек, что он охотно верит тому, чему хочется поверить, и Анна, под влиянием речи епископа, начала уже считать не только возможным, но даже простым и легким его предложение, которое несколько минут тому назад считала неуместной шуткой или неисполнимой грезой! Действительно, ведь епископ не останется в плену ни в каком случае и, значит, большим не рискует. При первом же известии о нем граждане его выкупят, если даже не из любви к нему и из уважения к его сану, то просто из чувства гордости, чтобы никто не мог упрекнуть их пленом епископа. А если не так, то само правительство, наконец, вступится и предъявит требование о выдаче такого важного лица, а иначе оно пошлет войско и разнесет это разбойничье гнездо.
О том же, как граждане или правительство узнают о случившемся с Павлином, очевидно желающим все это сохранить в тайне, она и не подумала. Радость, что ее сын, милый ненаглядный сын, надежда и опора ее и всей семьи, воротится к ней, лишала ее способности хладнокровного рассуждения. Анна даже забыла поблагодарить епископа. Впрочем, жертва была столь велика, что всякая, самая красноречивая благодарность оказалась бы перед нею ничтожною, да Павлин в ней и не нуждался. Видя повеселевшую женщину, он был положительно счастлив. Усевшись друг против друга, они сейчас же принялись обсуждать план предстоящего и не очень далекого путешествия.
Решено было, что Анна сейчас же пойдет в гавань и справится о первом отходящем в землю вандалов корабле. Необходимо также узнать, благонадежен ли капитан, чтобы в противном случае не попасть в руки друга пиратов, и тогда бы весь замысел повлек за собою увеличение числа вандальских пленников надвое, без малейшего облегчения уже имеющимся у них. Уехать надо было непременно ночью, чтобы никто не увидел отъезда епископа, и чем скорее, тем лучше, да хоть сегодня.
В остальном же да будет воля Божия!
Анна ушла. Вернувшийся Клавдий застал своего господина за странным занятием: он сидел и перебирал свои вещи. Такого случая за все семь лет Клавдий не видел еще. Изумленный, он даже хотел задать епископу вопрос о причине происходящнго, хотя и чувствовал всю его неуместность. Но епископ, выслушав его отчет о вырученной за проданные браслеты сумме и об исполнении поручений, тотчас же послал его пригласить к нему обоих пресвитеров и дьякона, так и оставив своего верного слугу в самом глубоком недоумении.
А епископ распределял, какие из вещей продать в пользу бедных, какие раздать им, какие подарить своим сослуживцам и что взять с собою.
«Хорошо бы продать ненужный теперь дом и землю, — мелькнуло у него в голове. — Хоть этим и будет нарушена воля покойной жены, но это не беда: добрая благочестивая душа ее увидит это с неба, поймет и простит!»
Но то соображение, что жители Нолы тогда узнают, что епископ их исчез преднамеренно, и будут допытываться, куда он делся и зачем именно, — победило, в конце концов, соблазнительную мысль о более значительной сумме, которая досталась бы на долю Ноланских бедняков. «Да и Клавдию будет угол и забота: он так привык к дому и саду», — заключил епископ вслух свою мысль, к которой более уже и не возвращался.
Глава четвертая. Светильник, сдвинутый с места
«Даст ти Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит» (Пс.19:5).
«Путь заповедей Твоих текох, егда расширил еси сердце мое. Светильник ногама моима закон Твой и свет стезям моим. Стопы моя направи по словеси Твоему…» (Пс.118:32, 105, 133).
Часа через два в домике епископа за небольшим скромно убранным столом, на котором стояли свежие плоды, вареные овощи и кувшин с чистой и прохладной ключевой водой сидели, кроме хозяина, оба пресвитера, Иоанн и Евлогий, и дьякон Памфил.
Павлин не пил вина, считая его полезным лишь для больных, да и то в незначительном количеств.
Клавдий, который всегда обедал вместе с епископом, скромно приютился на конце стола, очевидно чувствуя себя не совсем ловко в таком избранном обществе, почему с большой охотой вскакивал, если замечал, что кому-либо из гостей что-нибудь нужно, но, при малом количестве и разнообразии блюд и крайней непритязательности хозяина и гостей, его рвению не было надлежащего простора.
Иоанн, славившийся своей редкой начитанностью и даже ученостью, был старик лет семидесяти пяти, с большой седой бородою и совершенно лысый, но еще бодрый и сохранившийся. Евлогий, несмотря на свои пятьдесят пять лет, казался очень моложавым: в черной, как смоль, короткой кудреватой бороде его и пышных волосах только еще начинали пробиваться седины. Он был обременен большой семьей, состоявшей, кроме его детей, из родных и двоюродных братьев, сестер, племянников и пр. Семьянин он был образцовый и не менее образцовый домохозяин; он же ведал и всю хозяйственную часть Ноланского храма, которую не только поставил на должную высоту, но и довел до блестящего состояния.
Третий гость, дьякон Памфил, недаром носил свое имя[15]. Это был всеобщий любимец, благодаря своему кроткому, добродушному и веселому нраву, а равно привязанности к церкви Божией. Благодаря особенно этому последнему качеству он недавно и был возведен Павлином, искренне любившим веселого добряка, в сан дьякона, хотя он не отличался образованием, а тем менее красноречием. Он был совсем еще молодой человек, лет тридцати трех. В этом обществе, старших его и по сану, и по летам, он, обыкновенно болтливый весельчак, сидел молча, весело поглядывая на всех добрыми глазами.
Приглашение епископа нисколько не удивило церковный клир: скромный и не надеющийся на свои только силы Павлин всегда и по всем делам церковным советовался с ними. Совещания эти, впрочем, чаще всего происходили в находившихся около храма домах Иоанна и Евлогия, так как дом епископа стоял далеко от храма, на окраине города.
Но когда епископ, после того, как о текущих делах все было переговорено, вдруг потребовал от собеседников, как и от Анны, обещание хранить в полной тайне то, что он намерен им сказать, то они, естественно, пришли в изумление и, ничего не возражая Павлину и дав обещание молчать, смотрели друг на друга и на епископа в полном недоумении.
Оставив торжественно-важный тон, которым он просил своих гостей хранить сообщенную им тайну, Павлин просто и коротко повторил уже известную им плачевную историю Анны и сообщил о своем намерении.
Грянувший при совершенно безоблачном, ясном небе гром не мог бы произвести на присутствовавших такого впечатления, какое произвела тихая и простая речь Павлина. Иоанн и Евлогий словно окаменели от изумления, а Памфил и Клавдий даже привскочили со своих мест с широко раскрытыми глазами и с кусками хлеба в руках.
Воцарилось тяжелое молчание…
— Это безумие, — наконец произнес Иоанн, как бы про себя, но в тишине слова его всеми были услышаны.
— О, если бы ты был прав! — живо подхватил с веселою улыбкою Павлин. — Если бы мой поступок был в самом деле, по мнению людей, безумием, может быть, тогда он сочтен был бы за мудрость Тем, Кто «обратил в безумие премудрость мира сего» (ср. 1Кор.1:20). Но в том-то и дело, мой ученый друг, что в моем поступке нет ничего необыкновенного, что не вязалось бы с моею жизнью и моими взглядами. Или безумного, если хочешь…
И Павлин пустился в убедительные и красноречивые доказательства, что иначе он и не может и не должен поступить, что только исполнение этого его намерения даст ему на склоне жизни полное нравственное удовлетворение, душевный покой и мирную кончину в надежде «доброго ответа на страшном судище Христове».
— На кого же ты оставишь церковь? — спросил среди нового молчания, наступившего после горячей речи епископа, заботливый хозяин Евлогий.
— Ошибаешься, достопочтенный Евлогий! Я не оставляю, да и не могу оставить вверенную мне Христом церковь, и где бы ни был, духом всегда пребуду с ней. Поручаю же ее покровительству Того Единого Пастыря, Который некогда соберет воедино ныне разрозненное Свое стадо (Ин.10:16). И вашим заботам и трудам, возлюбленные мои соработники на ниве Его! Ты, Иоанн, заменишь меня, как проповедник и катехизатор. При твоей учености и красноречии ты даже не заменишь, а превзойдешь меня. На тебе же, Евлогий, по-прежнему останется все церковное домостроительство, благолепие храма, богадельня, призрение нищих и убогих — тоже мне не приходится тебя учить в этом деле. Если же будет решено избрать на мое место другого епископа, то никого я не желал бы так видеть на моей кафедре, как тебя, достопочтенный Евлогий. Брат Иоанн уже стар, и бремя епископства, тяготящее и мои, более молодые плечи, будет ему не под силу. Что же касается тебя, Евлогий, то, не говоря о твоих душевных качествах, дабы не смущать твоего смирения, одно уже то, что ты так хорошо устроил и содержишь свой дом, служит мне, по слову блаженного Павла, ручательством, и притом самым лучшим и надежным, что ты непостыдно управишь и Церковь Божию. В помощь себе возведешь тогда во пресвитера нашего доброго Памфила, а на его место советовал бы взять кожевника Евфимия — мужа, начитанного в Писании, честного, доброго и строгой жизни.
Евлогий молчал, Иоанн кивками головы сопровождал речь епископа, во всем одобряя его, кроме аттестации его самого, Иоанна, как лучшего, нежели Павлин, проповедника. А Памфил, услышав, что речь идет о нем, встал и несколько раз проговорив вполголоса: «Недостоин. Недостоин», — дал Павлину окончить речь об Евфимии, и вдруг, точно вспомнив что-то очень важное, чуть не закричал:
— Отцы! Да зачем же епископ пойдет в рабство? А на что дьякон Памфил?
— Епископ, — обратился он к Павлину, — я пойду в рабство за этого сына вдовы. Я здоров, силен, молод…
Епископа до глубины души тронула эта бескорыстная самоотверженность добряка.
— Бог видит твою любовь и слышит твое намерение, мой дорогой Памфил, — взволнованным и ласковым голосом сказал епископ, кладя мягким жестом руку на плечо дьякона и заставляя его опуститься на место. — Он отплатит тебе за твою доброту. Но не сам ли ты сказал, что ты силен и молод? Как же ты думаешь: разве Христову стаду, которое, к глубокому сожалению, расхищают и разгоняют волки (Ин.10:12), не нужны молодые силы? Твой старый епископ потому-то и уходит, что уже приближается к тому возрасту, который Писанием указан как предел человеческой жизни (Пс.89:10)[16]. Силы его слабы, малополезен он уже Церкви Божией, и близко то время, когда он будет совсем бесполезен, а бесполезный в воинствующей церкви Христовой — все равно, что вредный…
Заметив огорчение Памфила, Павлин добавил:
— Но если Богу не угодно будет принять эту мою жертву и вандальский князь не возьмет меня за сына Анны, то я вернусь, и тогда, мой дорогой друг, ты пойдешь в плен и поможешь мне исполнить задуманное для бедной женщины предприятие…
Приход Анны, которую епископ сейчас же пригласил за трапезу, сделав ей знак, что здесь она может свободно говорить о своем деле, не дал Памфилу как следует выразить обуявшую его при последних словах Павлина радость.
Из слов Анны оказалось, что все устраивалось как нельзя лучше: корабль уходил сегодня ночью на рассвете, прямо в Африку, в землю вандалов, с грузом для самого князя, у которого и был в плену Евграф.
Капитан судна оказался человеком не только вполне надежными, но и добрым. Узнав, зачем едут к князю Анна и ее брат (решено было выдавать Павлина за брата), и что они люди бедные, капитан пообещал отвезти их без всякой платы.
Павлин весь просиял: такая удача на первых же порах свидетельствовала, по искреннему его убежденно, что задуманное им дело угодно Богу.
По уходе Анны, гости, которым от предстоящей разлуки с епископом совсем не хотелось есть, встали из-за трапезы и, помолившись, пустились в дружескую, тихую и задушевную беседу. Начитанный Иоанн стал душою беседы, рассказывая, один за другим, вычитанные им примеры благотворительности. Павлин, слушая их, находил, что настоящий его поступок вовсе уже не так исключителен и заметен на том поле истинно христианской, щедрой и широкой благотворительности, которое раскинул перед их глазами старый пресвитер.
Иоанну же и остальным слушателям казалось, вполне искренно, что большинство этих благодеяний чуть ли не ничто в сравнении с неслыханным по своему великодушию поступком епископа, и лишь некоторые приближались к этой невиданной высоте. Но никто ничего не говорил из опасения потревожить смирение этой величественной самоотверженной души.
Незаметно за такою беседою закатилось солнце, и Клавдий принес два убогих светильника. Павлин пригласил своих гостей к вечерней молитве. Молились долго, пламенно, усердно — каждому казалось, что он в последний раз слышит чистый, полный юношеской силы, дорогой голос своего пастыря.
После молитвы Павлин обратился к своему клиру с горячим словом: снова уговоривая их свято хранить вверенную им тайну, поручал их заботам Церковь Божию, молил их усердно благотворить. Повторил и то, что говорил уже за столом о желательных переменах в иерархии Ноланской церкви, и вообще преподал им массу наставлений, показывавших, как близко его сердцу всегда было дело Божие и какого наставника и руководителя теряют в его лице и клир, и паства.
Затем он испросил у присутствующих прощение, если в чем-либо был виноват пред ними, и просил их молитв за себя, обещая за них молиться, чтобы таким образом не разорвалось существующее между ними дружеское общение. Памфил рыдал, словно провожал своего епископа в могилу, да и остальные не могли удержаться от слез: их вызывало то сожаление и сознание разлуки с отцом церкви, то умиление пред величием принятого им на себя подвига.
Павлин распределил также свое ничтожное имущество: книги подарил Иоанну, утварь — Евлогию, плащ — Памфилу; остальные вещи велел Клавдию и Памфилу продать, а деньги отдать бедным. Памфилу, как человеку холостому, советовал перейти пока в свой домик епископа. Дом и земля оставались под надзором Клавдия, с тем чтобы, при подходящей цене, были проданы, а деньги обращены на благотворительность.
Давно уже наступила ночь, а клир Ноланской церкви все еще не мог наговориться со своим епископом, вдоволь наглядеться в последний раз на достойного пастыря Церкви Христовой Павлина. Особенно не мог свести с него глаз Памфил, от которого лицо епископа то и дело заволакивали невольно набегавшие на глаза слезы.
Один Клавдий только не казался расстроенным, мало того, он был почти весел. Памфил, как ни был огорчен, обратил все же внимание на такое поведение своего друга и тщетно ломал себе голову, стараясь угадать, что это значит. Неужели же Клавдий так черств сердцем, что предстоящая разлука, — и притом, вероятно, навсегда, ибо где же старику, привыкшему все-таки к спокойной жизни, вынести тяготу неволи? — нисколько его не огорчает. И неужели возможность пожить на воле полным хозяином, обладателем дома и земли, так легко мирит его с потерею епископа; кому-кому, а уж ему — настоящего отца и благодетеля! Увидев пробежавшую по лицу Клавдия улыбку, Памфил окончательно пришел в полное недоумение…
Но добрый дьякон жестоко ошибался: дело обстояло гораздо проще. В Клавдии проснулся дух закаленного, привычного ко всевозможным случайностям и опасностям морского солдата, и он пришел в полный восторг от решимости епископа. Ему вспомнился старый бравый командир его, на его глазах схватившийся с неприятелем, чуть ли не в пять раз сильнейшим, получивший в этом бою три тяжелых раны и попавшийся в плен, откуда все же убежал, чтобы умереть на родном корабле.
Таким же храбрым и бравым — если еще не более — казался теперь Клавдию Павлин, который, вероятно и даже несомненно, также убежит из плена.
И, укладывая подаренные Евлогию вещи, он раза два даже улыбнулся, представляя себе вытянутые глупые лица вандалов при неожиданном известии об исчезновении старика, от которого, конечно, никто не будет ожидать побега и за которым, поэтому, не будут особенно тщательно следить.
Изредка поглядывая на спокойное, ясное и даже веселое лицо Павлина, Клавдий втайне гордился своим господином и все более приходил к твердой уверенности в том, что Павлин непременно убежит из неволи!
Песочные часы давно уже показывали полночь, когда Павлин, наконец, встал со словами Спасителя: «Встаньте, пойдем отсюда» (Ин.14:31).
После новой краткой молитвы Павлин простился с Клавдием. Тот спокойно пожелал ему счастливого пути и благополучного возвращения, причем при последнем пожелании имел даже вид человека, которому что-то известно такое, чего другие не знают. Но когда Павлин стал благодарить его за усердную службу и за постоянные заботы об одинокой его старости, причем поклонился своему слуге в ноги, храбрый воин не выдержал. Доброта спасшего его старика, которому на первое время он доставлял немало забот и даже огорчений своим поведением, добродушие его, не оставлявшее без благодарности малейшей услуги, но никогда не замечавшее ни промахов, ни проступков; незлобивость, терпение (причем Клавдий, не слышавший ранее ничего, кроме грубых окриков, не слыхал от епископа даже повышенного голоса), — все это так живо вспомнилось в этот момент Клавдию, что он разрыдался, как ребенок…
Освещенные бледною луною епископ, два пресвитера и дьякон шли по улицам Нолы, словно вымершим после праздничного гомона и суеты, так что никто и не видел наших путников. Говорили только Павлин и Евлогий. Последний вспомнил, что епископ не сделал распоряжений о своей ризнице, имевшей значительную ценность, ибо Павлин, скромный в обыкновенной жизни, любил церковное благолепие, находя, что если, приближаясь к земному царю, мы надеваем самое лучшее и чистое платье, то, служа Царю Царей, должны приложить еще большую заботу о своей внешности. Поэтому он никогда не отказывался принимать жертвуемые благочестивыми людьми предметы церковного благолепия. Будучи убежден, что у нового епископа не будет недостатка в таких пожертвованиях, он теперь поручил Евлогию продать всю лично ему принадлежавшую ризницу в пользу церковной богадельни, кроме богатого омофора, в котором он совершал последнюю литургию. Его он завещал будущему своему преемнику на кафедре, будь это Евлогий или другой, кого укажет Господь.
Иоанн, идя по другую руку епископа, молчал. Это шествие его епископа в сопровождении клира напоминало ему то великое шествие с Тайной Вечери, которое было почти четыреста лет тому назад, когда шел «на вольную страсть» Тот, Кому подражал этот великий духом, полный любви старец. Сопоставление это наполняло всю душу его радостным умилением, и он благодарил Бога в глубине души за то, что на закате дней его ему пришлось быть свидетелем того, как живо и действенно было слово Христа в сердцах истинных Его последователей, и такого мудрого и ученого, как Павлин, и такого малообразованного простеца, как Памфил, который шел сзади, отделившись немного от шедших впереди старших своих сослуживцев.
Минута разлуки приближалась. Идти было недалеко, и скоро перед взорами путников открылся серебримый луною, подернутый легким туманом залив, рябившийся при пробегавшем порою по его зеркальной глади ветерке. Невдалеке вырисовывался силуэт большого корабля, на котором ставили паруса. У самого берега стояла лодка, в которой сидели Анна и два гребца. Епископ со слезами простился со своими плачущими друзьями, вошел в лодку и в последний раз благословил своих сослуживцев. Один гребец оттолкнулся веслом от берега, затем оба дружно ударили веслами, и лодка быстро понеслась по направлению к видневшемуся недалеко кораблю, оставляя за собой светлую, журчащую и пенящуюся дорожку.
— Сдвинулся с места светильник Господень! (ср. Апок.2:5), — набожно, глотая слезы, проговорил, наконец, Евлогий, когда лодка, плавно покачиваясь на волнах, казалась уже небольшою щепкою.
— «Да увидит через него народ, ходящий во тьме, свет великий» (ср. Ис.9:2), — пророчески добавил, также сквозь слезы, Иоанн.
Памфил молчал. Он земно поклонился уже почти исчезнувшей из глаз лодке, увозившей его епископа, и стоял с восторженно вдохновенным лицом, по которому катились слезы печали, смягчаемой радостным умилением.
Глава пятая. Иго взято!
«Возьмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть».
(Mф.9:29-30).
Путешествие Павлина и Анны в Африку, во владения вандальского князя Рикса, оказалось и более продолжительным и более опасным, нежели можно было ожидать. Во-первых, отойдя от Нолы не более ста верст, корабль вынужден был встать на якорь, благодаря полному безветрию, и все время беспомощно и недвижимо стоял среди открытого моря на необозримой, гладкой, как стекло, водяной равнине, блестевшей под знойным солнцем так, что глазам становилось больно.
Это приводило Павлина в беспокойство. Он начал уже побаиваться, не вздумали бы Ноланские граждане, теперь, несомненно, уже хватившиеся его, догонять отошедшие в ночь его исчезновения из города корабли, в предположении, хотя и маловероятного, но, тем не менее, возможного похищения пиратами их епископа. Тогда капитан — человек, как видно, честный и хороший, — несомненно, выдаст его ноланцам, как только узнает от них, кто такой его пассажир. Опасения Павлина были, впрочем, совершенно напрасны и неосновательны. Полный штиль не давал большим парусным судам выйти из порта, а мелкие гребные суда не решались выходить далеко в море, ибо стоявшая уже несколько недель подряд жаркая погода служила предвестницей сильных и бурных гроз. Так и случилось на самом деле.
На шестой день удушливый зной и мертвая тишь сменились страшным ураганом: наполненный электричеством воздух так и прорезали беспрерывные молнии, а рев волн, ударявшихся в борта прыгавшего по ним, как мяч, судна, то взлетавшего на пенистую гору, то словно катившегося вниз в пучину, заглушали грохочущие удары грома. Трое суток корабль, как легкий челнок, носило по вспенившимся волнам; сломало мачту, испортило руль и истрепало в клочки паруса, которые не успели убрать при внезапно налетевшем вихре. Только на четвертый день, уже к полудню, когда в полном отчаянии хотели для возможного облегчения корабля, почти не могшего бороться со страшным волнением, выбрасывать имевшийся груз, буря утихла, выглянуло ясное солнце, и подул сильный, свежий, теплый ветер, так радующий сердца моряков. На корабле опять закипела жизнь: послышались шутки, смех, веселые песни. Живо поставили новую мачту, переменили руль, натянули новые паруса, и корабль, ныряя и прыгая по волнам, как белогрудая резвунья чайка, весело побежал к Африканским берегам.
Павлин при наступившем в самом начале путешествия штиле не скучал: он перезнакомился со всеми на корабле, начиная с капитана и кончая последним водоливом[17]. Слушал их бесхитростные и наивные рассказы о других людях, чужих землях, диковинных зверях, и сам, как человек, много на веку повидавший и для своего времени весьма начитанный и образованный, епископ мог со своей стороны много порассказать этим простым людям, томившимся от вынужденного и потому весьма тягостного безделья.
По целым часам они жадно слушали историю пророка Ионы, путешествие которого по морю окончилось неслыханным страшным происшествием. Слушали объяснение Павлина, Кого прообразовал Иона, а еще более — жизнь и учение Прообразованного.
Скоро все полюбили этого кроткого и простого старика. Особенно возросло доходящее до удивления уважение к Павлину всего экипажа во время бури. Когда даже привыкшие к морю сваливались в утомлении от непосильной борьбы с ветром и беспрерывной качки, Павлин, организм которого, закаленный с юности, живший всегда нормальной и трезвой жизнью, не поддавался морской болезни, удивлял всех своей неутомимостью в помощи матросам и равным, спокойным, почти веселым расположением духа. Твердо веруя сам, что Бог, если только благоволит принять его жертву, не даст ему погибнуть бесплодной смертью в морской пучине, он и в окружавших вливал бодрость и уверенность в благополучном исходе путешествия. То кротким, но веским и убедительным словом, то безобидной веселой шуткой он не раз усмирял начинавшиеся между матросами ропот против капитана, выведшего их из гавани на верную смерть, тогда как, по всем предположениям, не следовало ожидать бурь, свирепствующих в это время года в этой части моря. Капитан в глубине души благодарил Бога, приведшего на его корабль в эти трудные минуты такого редкого человека.
Павлин, прекрасно изучивший природу, благодаря постоянному общению с нею и чуткой любви к ней, первый по известным ему признакам угадал предстоящую в атмосфере перемену к лучшему. Он сообщил об этом как капитану, который под влиянием матросских криков велел было выбрасывать из корабля менее ценный груз, так и матросам, быстро принявшимся было за это дело, в котором одни видели надежду на спасение, а другие — месть опрометчивому капитану за его бессмысленную и вредную удаль.
В это время уважение к Павлину, человеку постороннему, не моряку, так храбро ведущему себя в неустанной борьбе с разъяренной стихией, что не могло не произвести на моряков весьма сильного впечатления, настолько возросло, что все немедленно же его послушались. Всем показалось, что перед ними стоит такой же пророк, какой — как он рассказывал — древле стоял перед Фарсисскими моряками, только этот, очевидно, не «бежал от лица Господня» (ср. Ион.1:3), как Иона, а угоден Богу, иначе разве был бы он так неустрашим и спокоен… Часа через три капитан и более опытные матросы подтвердили справедливость предположений Павлина, которые, как мы видели, к полудню и получили блистательное оправдание.
Таким образом, Павлин, отдохнувший душою от тяготивших его за последнее время забот, чувствовал себя как нельзя лучше.
Не то было с Анной. Бедная женщина, изнывавшая от нетерпения при невольной пятидневной стоянке, чуть не умерла во время бури. Только заботливый уход Павлина и особенно дышавшие непоколебимой верой и глубокой надеждой слова епископа, при жгучем желании увидеть сына, не дали окончательно сломиться этому истощенному нуждою и потрясенному горем организму, не привыкшему ни к каким путешествиям, а тем более таким, как настоящее. Теперь, оправившись, она по целым часам стояла на палубе. Свежий ветер продувал ее, осыпая, как дождем, летавшими из-под корабля водяными солеными брызгами, а она, ничего этого не замечая, все стояла да стояла, вперив полный грусти нетерпеливый взор в ту сторону, где, как ей показали, находится Африка, словно она своим жадным взглядом могла ускорить приближение желанного берега.
Наконец, в одно ясное утро, при совершенно безоблачном темно-синем небе она увидала, что на краю подернутого легкою рябью моря, там, где оно казалось сливающимся с небом, протянулось легкое дымчатое облачко. Не поспела она хорошенько всмотреться в него, как стоявший у руля матрос, также вперявший свой острый взгляд вперед, громко и радостно закричал:
— Земля! Земля, земля!
— Африка, Африка! — кричали выбежавшие на палубу при этом известии матросы и от радости запрыгали и заскакали, как разрезвившиеся дети.
Анна плакала от радости, а Павлин, вышедший на шум, встал в стороне и, обратившись лицом к поднимавшемуся солнцу, тихо молился той же простой и сердечной молитвой, которая две недели тому назад была в его сердце, когда под влиянием откровения Божия впервые пришла ему в голову мысль о «вольном рабстве»…
* * *
Путь быль окончен…
В ожидании корабля на берегу толпилось много народа. Видны были прекрасно вооруженные воины, погонщики ослов и верблюдов с их животными и целая толпа кое-как одетых, чуть ли не совсем голых рабов.
Корабль близко подошел к приглубому[18] берегу и бросил якорь. Матросы живо положили сходни, и по ним тотчас же стали взбираться на корабль рабы со своими приставниками[19], которых можно было узнать если не по одежде, очень легкой в этом климате, то по длинным ременным бичам в их руках.
Капитан сошел с корабля, чтобы лично явиться к Риксу, сдать ему груз и получить условную плату. Он взял с собою Павлина и Анну, которые тоже желали лично видеть князя, причем надеялся, в свою очередь, быть Павлину полезным, если только представится случай.
Пока капитан толковал с окружавшими его и Павлина вандальскими воинами о том, где ему повидать Рикса и как к нему лучше всего пройти, Анну ожидало тяжелое испытание. В числе рабов, сносивших по сходням груз, она увидала своего сына. Одетый в какие-то лохмотья, сильно исхудавший, с темным от зноя лицом, на котором выражено было страшное усилие, прилагаемое им при переноске с высоким и крепким матросом очевидно очень тяжелого тюка, прошел около Анны ее любимец, ее надежда и гордость.
Анна не могла сдержаться…
— Евграф, сынок мой! — вскрикнула она надорванным, идущим из самой глубины сердца голосом. Вся материнская любовь, нежность, горе разлуки и радость свидания сказались в этом вопле, заставившем всех вздрогнуть.
Юноша, как ужаленный змеею, весь перевернулся и выпустил из рук веревку, отчего тюк глухо и тяжело ударился в песок. Матрос грубо выругался, и в тот же момент взвился в воздухе тонкий и длинный бич приставника, со свистом обвил голые плечи юноши и вновь поднялся на воздух, оставив на бледном, нежном теле яркий след — багровую полосу. Второй раз ему не удалось опуститься: Анна, вскрикнув, будто по ней самой в одно мгновение прошли десяток таких ударов, от какого теперь болезненно застонал ее сын, как разъяренная тигрица, у которой отнимают детеныша, бросилась к приставнику. Сильные руки воинов отбросили и ее, и приставника в разные стороны и не дали разыграться драме. Поднялась ругань и споры, которые, впрочем, сейчас же улеглись, как только стало известно, что Анна идет к самому князю. Очевидно, несет выкуп за сына.
Павлин сказал ей несколько успокаивающих слов о необходимости еще немного потерпеть, и ее крики и вопли превратились в тихий и судорожный плач, который Павлин и не старался уже удерживать: отец церкви прекрасно знал, что такое материнское сердце.
Путешественники наши двинулись ко дворцу Рикса. С ними пошли и воины, частью для охраны, частью — чтобы показать дорогу, а то и просто из любопытства или от нечего делать, или, наконец, поболтать со старым приятелем — капитаном.
Как ни был Павлин потрясен только что разыгравшеюся на его глазах сценой и озабочен исходом своего предприятия, он не мог не слышать разговора рядом с ним шедшего капитана с его приятелями — воинами.
И вот что он узнал. Рикс, к которому они идут и которому привезен груз, не есть еще глава вандальской земли. Собственно, князем является другой Рикс — старик. А молодой Рикс — зять, женатый на его единственной дочери. А так как у старого князя сыновей нет и не было, то наследником и объявлен его зять, которому присвоено и имя Рикс, что, в сущности, значит «Царь».
Рикс-старший смолоду был храбрый вояка, державший в страхе соседей и сумевший сплотить и подчинить себе разрозненные прежде и постоянно между собою воевавшие вандальские племена. В этом ему за последнее время много помог своей личной храбростью и энергией молодой князь, в благодарность за что старый и выдал за него свою дочь, предоставив ему, в то же время, право считаться и называться его наследником.
Сам старик теперь опустился, растолстел, обрюзг, привык к роскоши, предается обжорству и пьянству. Одним словом, никто теперь не признал бы в распухшем от пьянства, изнеженном и сластолюбивом старике былого героя, грозу и страх соседей.
В действительности всеми делами давно уже управляет молодой Рикс. Этот молодой человек — вояка, каких мало, играющий опасностью и чувствующий себя хорошо только среди звона мечей, свиста копий и реяния стрел. В походе он ничем не отличается от простых солдат — ест и пьет, что и они; спит, где попало; дружину любит; не корыстолюбив и при дележе добычи сплошь и рядом не берет причитающейся ему доли, хотя трудился и подвергался опасностям войны едва ли не больше других. Одним словом, с солдатской точки зрения, он являлся образцом, и воины не могли говорить о нем без восхищения.
Показавшийся невдалеке дворец Рикса младшего, окруженный чахлой, сожженной солнцем и запыленной зеленью, прервал эту беседу, не дав возможности Павлину узнать, что за человек сам по себе молодой князь, не беря во внимание воинских его доблестей, направленных, главным образом, к разорению, грабежу и всякого рода насилиям против всех, кто не был вандалом.
Вышедший из ворот богато одетый молодой воин, узнав о цели прихода наших путников, велел Павлину и Анне ждать во дворе, а капитана повел к Риксу.
Долго Павлину и Анне пришлось дожидаться выхода князя. Двор давно уже наполнился воротившимися с грузом людьми, причем Анна напрасно искала глазами своего сына. Тщедушный малый совершенно затерялся в этой толпе верблюдов и ослов с их погонщиками, солдат, матросов, рабов и, наконец, просто любопытных, которым постоянно и везде дело до чужого и между которыми преобладали женщины. Наконец, толпа расступилась, смутный гам и говор несколько утих, и Павлин и Анна увидели идущего между капитаном и уже виденным ими воином высокого человека в золоченых латах и шлеме.
По его богатому вооружению и одежде, по его полной горделивого достоинства осанке и по почтительному, даже раболепному отношению к нему окружающих наши странники безошибочно угадали в нем Рикса младшего. Молодой князь был очень высокого роста, крепкого телосложения, строен; смуглое лицо его, с живыми карими глазами, оттененное длинными черными усами, можно было бы назвать очень красивым, если бы его не портил проходивший по всей правой щеке, от виска до выбритого подбородка, сросшийся багровый шрам от нанесенной мечом глубокой раны, придававшей лицу Рикса какое-то неприятное, не то злое, не то суровое, выражение.
Еще дольше длилось бы ожидание Павлина и Анны, когда подойдет к ним Рикс, увлекшийся осмотром привезенного разного добра, большая часть которого предназначалась в дар любившему роскошь тестю молодого князя, если бы капитан не дал им знака подойти ближе к Риксу и не указал на них князю.
Павлин и Анна упали в ноги Риксу.
— А, это тот старик, о котором ты мне говорил, — промолвил он, обращаясь к капитану.
— Встаньте. Что вам нужно? — сказал он, получив от капитана утвердительный ответ. — Встаньте, — повторил он сильным и резким голосом, словно командуя.
— Говорите же, — нетерпеливо повторил Рикс, когда Павлин и Анна поднялись.
Анна начала говорить робко, сбивчиво, захлебываясь слезами. Рикс, очевидно, мало понимал, в чем ее просьба.
Капитан, видя недовольные морщины на его лице, сделал Павлину знак, чтобы лучше говорил он.
Павлин, все же перебиваемый Анною, которой казалось, что никто лучше ее не расскажет про ее горе и не заступится за ее сына, в коротких и ясных словах объяснил Риксу их просьбу.
— Так ты брат этой женщины, — сказал после некоторого молчания князь, удивленный неслыханной просьбой, — у которой нет денег на выкуп сына? Просишь его отпустить, так?
— И сам останешься у меня вместо племянника? Не так ли? — повторил он, думая, что он не совсем понял речь Павлина.
Тот отвечал утвердительно…
— А что мне за польза от этого, — протянул князь.
— Позовите-ка сюда сына этой женщины, — приказал он стоявшим вблизи воинам.
Через несколько минут Евграф явился.
Увидев его, Анна бросилась ему на шею и так и замерла в безмолвном рыдании. Все стояли и смотрели молча. У многих рабов, вспоминавших далекую родину без надежды когда-либо свидеться с дорогими сердцу родными, полились по щекам невольные горячие слезы. Прослезился и глубоко потрясенный Павлин. Даже у «видавшего виды» бравого капитана, старого «морского волка» что-то защипало в носу, и досадно зачесался левый глаз. Один Рикс стоял спокойный и ясный, переводя свой взгляд с Павлина на Евграфа и обратно.
— Сколько тебе лет? — наконец, обратился он к Евграфу.
— Восемнадцать, — прошептал тот.
— А тебе? — спросил он Павлина.
— Шестьдесят два!
Рикс снова посмотрел на того и на другого, словно оценивая и сравнивая их.
— Знаешь ли ты какое-нибудь мастерство? — вновь спросил он Евграфа.
Тот хотел было ответить, как вмешался приставник.
— Говорит, что знает медное и слесарное дело, — быстро заговорил он. — Но только, господин, он не может выковать даже сносного щита. Где ему?! Посмотри на него, князь!..
Рикс еще раз окинул взглядом фигуру юноши.
Действительно, хорошего ремесленника, способного работать тяжелым молотом, выковывая шлемы, щиты и латы, так необходимые воинственным вандалам, тщедушный юноша не обещал даже в будущем. Да и как? Мускульная рабочая сила не представляла собою сносной величины: работает всего несколько дней, а уж так истомлен… Рубцы на плечах не говорили за его исправность в работе. Не от лености, конечно, ибо о ней нечего было и думать при суровости жестоких приставников, а от полной слабости организма, на который Рикс, выше всего ценивший в человеке физическую мощь, развитые мускулы и упругие мышцы, смотрел с нескрываемым презрением. Ну разве можно сравнить его с этим шестидесятилетним стариком, бодрым и здоровым, которому на вид никто не даст и пятидесяти лет.
Конечно, мена выгодна: этот котенок (как мысленно назвал Евграфа молодой Рикс) захиреет в неволе и года не выдержит, а старик, смотришь, и весь десяток лет проживет.
— А ты, старик, знаешь какое-нибудь ремесло? — спросил он Павлина, впрочем, более, так сказать, для очистки совести, ибо уже решился на обмен.
Павлин на мгновение задумался, он никогда не знал и не обучался никакому ремеслу. Разве книги писать… Да зачем вандалам книги? Они ни к чему не относятся с большим презрением, чем к книгам. Но быстро промелькнувший в его уме образ его жизни привел ему на память его цветники и огород.
— Умею возделывать плодовые деревья, овощи, цветы, — твердо ответил он.
— И хорошо знаешь это дело?
— Не могу хвалиться. Могу, во всяком случае, поручиться за знакомство мое с разными сортами и породами растений, а тем более за умелый и старательный уход.
Тут вмешалась Анна, расхваливая необыкновенные овощи из огорода Ноланского епископа, и хорошо, что Рикс мало обратил внимания на ее слова, а то узнал бы, пожалуй, кого он берет в рабы.
— Вот и прекрасно, — прервал молодой князь ее слова. — У меня есть большой огород, но овощи или же не сочны или без вкуса.
— Посмотрим, — обратился он к окружающим, — сумеет ли старик довести наши овощи до той степени совершенства, какой за каждым обедом колет мне глаза мой дорогой тестюшка.
И, как бы предвидя возражения, он добавил:
— Во всяком случае, как бы то ни было, старик будет нам полезнее этого подростка.
— Непременно, непременно, князь, — счел нужным вмешаться и капитан, который хотя и не мог понять, что за цель у старика идти за племянника в рабство, но решил, как человек прямой и простой, посильно помочь в достижении цели тому, кто ему сам помог.
— Я говорил уже тебе, — продолжал он, — что это за удивительный человек.
— Посмотрел бы ты, как он крепил паруса и тянул канат… — начал было он повторять то, что уже рассказал Риксу во дворце вместе с известием о привезенных с грузом единственных пассажирах.
Рикс считал уже вопрос решенными и потому, не дослушав капитана, обратился к нашим путникам:
— Итак, ты, старик… Как тебя зовут? Павлин? Прекрасно. Ты, Павлин, останешься у меня как выкуп за твоего племянника. А ты, женщина, бери своего сына и иди с ним, куда хочешь.
Анна с криком благодарности повалилась в ноги Риксу, отошедшему досматривать не виденный еще груз.
К Павлину подошел управитель Рикса.
— Ну, — сказал он Павлину, — ты пойдешь сейчас же в огород князя. Там теперь сидят два никуда не годных бездельника да третий мальчишка. Если ты действительно хороший огородник, то бери их в полное твое распоряжение. Ты и будешь за них отвечать.
— Возьми его, — обратился он к высокому, смуглому приставнику. — Да наденьте-ка на него кандалы. Вся эта история с обменом что-то уж очень сильно припахивает побегом!
Приставники принесли кандалы и с удивлением смотрели, как Павлин помогал им надеть на него эти вериги.
— Чудной старик, — дивились кругом. — Точно радуется, надевая такие браслеты.
— Слава Тебе, — шептал Павлин, — благоволившему предать Себя в жертву за нас и принять мое недостойное приношение!
Он поднялся и выпрямился во весь рост, оковы глухо звякнули. Он невольно взглянул на свои окованные ноги.
— «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим!» — умиленно и радостно прошептал он (Пс.118:71).
Подошедшая Анна вместе с сыном безмолвно припала к ногам святителя и хотела прильнуть устами к оковавшему его ноги черному холодному железу. Павлин не допустил ее до этого. Он поднял обоих страдальцев, обнял их, благословив и пожелав им скорого и благополучного возвращения домой, где они должны были в строгой тайне держать все происшедшее, и отдал им на дорогу последние имевшиеся у него деньги — выручку за второй пожертвованный браслет.
Затем он дружески простился с добрым капитаном и матросами, пожелав им счастливого пути (они ехали дальше) и, спокойным голосом сказав приставнику: «Идем», — пошел вместе с ним бодрыми и твердыми шагами, словно не замечая тяжести и неудобства цепей.
Пройдя несколько шагов и чувствуя, что за ним упорно следят чьи-то взгляды, он оглянулся и увидел Анну и Евграфа. Несмотря на довольно уже значительное расстояние, их отделившее, он прочел на их лицах что-то такое, что заставило его пожалеть, что такой день, как этот, — единственный в его жизни и больше не повторится. Но, впрочем, он сейчас же и отбросил эту мысль, как суетную и недостойную.
— Слава Богу за все! — с чувством глубокой преданности Творцу, умиленно и набожно произнес он вслух предсмертные слова своего любимого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.
Глава шестая. Разбитые цепи
«Господь бысть помощник мой: обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое и препоясал мя еси веселием» (ср. Пс.29:11-12).
«Открый ко Господу путь твой… и изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудне» (ср. Пс.36:5-6).
«Внегда возвратити Господу плен Сион, быхом, яко утешени. Тогда исполнишася радости уста наша и язык наш веселия: тогда рекут во языцех: возвеличил есть Господь сотворити с ними. Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом» (ср. Пс.125:1-2, 4).
Уже три года с лишним прошло, как Павлин живет в рабстве. Он живо свыкся с новым своим положением и не скучал по своей родине, твердо веруя, что везде «Господня земля и что наполняет ее» (Пс.23:1). Подружился он и со своими помощниками, из которых двое были пленные христиане из Сирии — Трофим и Лин. А третий — мальчик-еврей из Палестины — Варух.
Дружная и мирная жизнь с ними живо напоминала Павлину клир Ноланской церкви. Нечего и говорить, что порученный им огород находился в цветущем состоянии, о котором никто и не помышлял. Павлин, принявшийся за дело с любовью и усердием, и не только потому, что ему лишь оно нравилось, но и потому, что, по слову Апостола, считал необходимым повиноваться «не только за страх, но и за совесть» (ср. Рим.13:5), сумел возбудить терпение и энергию и в своих товарищах по несчастию. Они смотрели на Павлина почти с благоговением после того, как великолепные овощи, заставлявшие старого Рикса приходить в восторг от их аромата и вкуса, навсегда избавили их плечи от беспрестанно прежде сыпавшихся ударов приставнических бичей.
Покончив с трудами, они усаживались рядом и долго-долго слушали чудные рассказы Павлина, которому казалось, что он проповедует перед своей паствой. Впрочем, ему внимало такое чуткое сердце, как юного Варуха, какое едва ли слушало бы его когда-либо в Ноланском храме. Нечего также говорить, что в очень скором времени он был окрещен Павлином, давшим ему имя Памфила, точно так же «единого от малых сих», варяющего[20] других в Царстве Божием.
Не одни, впрочем, соработники любили Павлина.
Незлобивый, кроткий, всегда всем готовый помочь чем только можно: трудом, утешением, советом, — он сделался всеобщим любимцем не только сотоварищей-рабов, но и приставников и солдат, а особенно матерей, которые души не чаяли в лелеявшем и баловавшем их ребятишек добром старике.
Дошло до того, что к Павлину стали приходить за разрешением разных споров не только рабы, но даже и сами вандалы. Знание им человеческих дел и побуждений в связи с полной беспристрастностью и убедительным словом делали его суд безапелляционным.
Не осталось это неизвестным и самому молодому князю, бывшему в восторге от возможности угодить Павлиновыми овощами и плодами разборчивому и привередливому сластолюбцу — Риксу старшему. После того как Павлину удалось мирно уладить возникшую было между двумя вандальскими отрядами ссору, которую были бессильны потушить оба князя, молодой князь заинтересовался Павлином, и сам отправился к нему в огород.
Павлин встретил его почтительно, но без малейшей тени подобострастия и, не дожидаясь приказания, принес ему вина и плодов.
— Ешь и пей, ты, кажется, устал, да и жарко, — сказал он ему просто и коротко, с оттенком какой-то ласковой заботливости, опять-таки без малейшего присутствия страха или, по крайней мере, неловкости.
— Садись! — невольно как-то сказал Рикс, делая таким образом своему рабу неслыханную честь.
Павлин опустился на низкий камень.
— Никогда ничего подобного не едал, — восклицал князь, которому усталость и тень прекрасно разросшихся при уходе Павлина деревьев придавали аппетит и делали еще более приятными и вкусными вино и плоды.
— Благодарю тебя, Павлин! — продолжал он, совершенно насытившись, придя в полное благодушие и с наслаждением потягивая из кубка ароматное, красное, как рубин, вино. — Чем бы тебя наградить?
— Вели снять с нас оковы. Они мешают нам копать землю.
— Мы не убежим, — добавил он, видя на лице князя сомнение в возможности удовлетворения этой просьбы.
Это «мы не убежим» было сказано с таким достоинством, с такою ясной, подавляющей всякие сомнения правдивостью, не дающей и тени малейшего недоверия, что Рикс, сделав немедленное приказание расковать всех четверых огородников, не мог удержаться, чтобы не воскликнуть: «Да кто же ты, наконец!?» Вопрос этот объясняется тем, что Павлин упорно скрывал свое звание, но не мог скрыть ума, знаний и красноречия, так как не считал возможным держать под спудом то, что дано было ему для принесения пользы ближнему. Поэтому все были убеждены, что огородник Рикса — не только не простой, но какой-нибудь выдающийся человек.
— Раб Христов и в той, и в этой жизни. И твой здесь, — ответил, как и всегда, Павлин.
Рикс не добивался до тайны Павлина. Он чувствовал невольное уважение к этому старику и в его добровольном рабстве смутно угадывал что-то таинственное. После этого разговора он чаще и чаще стал посещать Павлина, беседуя с ним по целым часам. Причем Павлин не упускал случая говорить Риксу и о Распятом Боге. Но сердце воинственного язычника было почвой каменной, и зерно Евангельской истины, брошенное Павлином в затвердевшее сердце, не давало даже ничтожного ростка. Вечные военные заботы поглощали это зерно, как птицы в притче Христовой. Впрочем, Павлин не терял надежды, усердно молясь Богу об обращении к Свету Истины сердца этого хорошего, самого по себе, человека. А пока епископ ограничивался ходатайствами за других рабов, которые князь постоянно исполнял.
В конце концов, решено было, что Павлин — бывший сенатор, и, провинившись чем-либо перед императором, нарочно убежал к вандалам, скрыв свое звание, предпочтя рабство позорной и мучительной смерти.
А предполагаемый сенатор усердно вырывал из гряд сорные травы, громко распевая псалмы и церковные гимны, по слову Апостола Иакова «весел ли кто, пусть поет».
А разве Павлину было весело? Конечно, эта уравновешенная натура, на всей жизни которой не было малейшего пятна, разве могла чувствовать себя иначе, как радостно, за любимым делом, предпринятым для спасения ближнего. Воспоминания прошлого были у него светлы и радостны и не заставляли его, как других, даже наедине, краснеть за себя и топить память в вине и разгуле.
Настоящее казалось ему прекрасным. И не только потому, что его все любили, а главным образом потому, что он сам всех и все любил. Будущее… Но будущее его нисколько не волновало и не беспокоило. «Да будет воля Твоя!» — несколько раз в день молился он, и прошение это в его устах не было только словами…
А Ноланская церковь? Неужели Павлин забыл ее?
О нет! Днем и ночью она лежала на его сердце, но, будучи по своему смирению искренне убежден, что Иоанн и Евлогий лучше него упасут ее и что новый епископ (если только будет избран не Евлогий), будет достойнее его, — он, не тяготясь ее судьбами, только горячо молился Господину жатвы, чтобы Он послал делателей на жатву Свою, таких же искренних, добрых и честных, как оставленные им Иоанн, Евлогий и Памфил, от которых он не получал и не мог получать никакой весточки.
* * *
— Послушай, князь! — сказал однажды в знойное летнее утро Павлин Риксу, зашедшему к нему, чтобы приказать подать к столу самые лучшие плоды и овощи, так как сегодня приезжал погостить к зятю и дочери старый князь. — Зачем твой тесть пьет так много вина? Ведь оно и здоровому вредно, а он человек больной.
— Ну это ты бредишь, мой друг. Разве может быть вреден здоровому такой лучший дар богов, как вино? Да и больным оно полезно, лучше всяких лекарств…
— Я не стану тебе доказывать, добрый князь, вреда вина даже для здоровых, и искренне молю Бога, чтобы ты как можно долее не почувствовал неизбежного, к сожалению, и пагубного для ума и тела влияния винопития. Равно не буду спорить и о том, что больным вино может быть полезно. Но, во-первых, каким больным, а во-вторых — в какой степени? Во всяком случае, я утверждаю, что при болезни твоего тестя пить вино в таком количестве — чистое безумие. И даже не медленное самоубийство, как винопитие вообще, но, зачастую, — смерть, сидящая на дне его кубка!
— Будет тебе! — прервал Павлина князь. — Какой Рикс — больной?
— Не только «какой?», но и опасно больной человек. Я уже здесь четвертый год и нередко вижу его. Он стал неузнаваемым даже по сравнению с тем, каким я его видел в первый раз. Ты привык к нему, видишь его часто, и поэтому тебе незаметна идущая не только внутри его, но и вне разрушительная работа. Не видишь ты, как багровеет все более и более его лицо, как пухнет шея. Не замечаешь, что уже давно он не может ходить, даже ездить в колеснице, и с трудом, задыхаясь от одышки, вылезает из носилок, чтобы сделать несколько шагов…
Молодой князь задумчиво слушал все, что говорил этот раб. В его устах была истинная правда, как-то никем особо не замечавшаяся. Всем казалось, что богатырю князю конца веку не будет, настолько он всегда отличался цветущим здоровьем.
— Не меньше вина вредно ему излишество в пище, — продолжал Павлин. — Жирная, мучнистая пища, да еще вино в количестве, которого испугался бы и вполне здоровый желудок, для старого князя — гибель…
— Что же делать? — спросил, смеясь, молодой Рикс.
— Да что? Объяснить ему весь вред такой жизни, не давать ему ни вина, ни жирных блюд. Пусть возьмет пример с меня. Всю жизнь я ничего, кроме воды, не пил, мяса почти не ел. Но посмотри, как я бодр и здоров. Ведь я, хотя и немного, а все же постарше твоего тестя.
— Ну разве он согласится отказаться от этих удовольствий? — протянул Рикс, которому искренно жаль было старого князя, горячо им любимого.
— Правда твоя, князь. Люди в такие годы не отстают, за самыми редкими исключениями, от своих привычек, из которых страсть к вину самая опасная, ибо она заглушает в человеке самый сильный инстинкт, вложенный природой во всякое существо — самосохранение.
— Что же делать? Что? — с нарастающей тревогой восклицал Рикс, которому уже давно не казалось странным спрашивать совета у своего раба.
— Надо слепцу показать, что он идет в яму, и при условии, что он будет упорствовать, уговорить и даже удержать его. Затем тебе, как преемнику старого князя, не мешает позаботиться о делах государства, чтобы не очутиться застигнутым врасплох. Уверяю тебя, что, во-первых, смерть старого Рикса не за горами, ее следует ожидать не только каждый день, но, положительно, каждый час. А во-вторых, есть все данные ожидать, что это несчастье произойдет внезапно и неожиданно.
Зазвучавшие трубы, возвестившие приезд старого князя, прервали разговор Рикса и Павлина, только что желавшего изложить своему господину те основания, на которых зиждилось его печальное предсказание.
Пристально всмотревшись в тестя, молодой Рикс еще более убедился в справедливости сказанного Павлином, и даже подивился, как ранее ему не бросалось в глаза, да и не ему одному, а никому решительно, что тесть его давно уже ходячая развалина.
Тем не менее, он не показал виду, что чрезвычайно чем-то обеспокоен. И даже тогда, когда тесть, усевшись за стол, наполнив кубок и придвинув к себе любимое блюдо, начал вдруг жаловаться, вопреки обыкновению, на нездоровье, молодой Рикс выразил притворное изумление. Впрочем, вспомнив совет Павлина, он стал осторожно указывать ему на опаснный образ его жизни и необходимость перемениться…
— Поздно, поздно, друг, — грустным и серьезным, но не допускающим возражения тоном, проговорил старик. — Я чувствую, что скоро мне придется распрощаться со всеми этими прелестями, — он кивнул головою на стоявшие на столе блюда. — А потому я и спешу насладиться всем этим.
И старый безумец, осушив залпом свой кубок, подставил его вновь наливавшему вино рабу.
— Мне уж даже чудные стали сниться сны, — заговорил старый Рикс, покончивши со вторым блюдом, тяжело дыша и еле отхлебывая вино уже из пятого или шестого бокала. — Несколько ночей подряд является мне какой-то высокий, величественный старик с большой седой бородой и пышными седеющими волосами и предсказывает мне скорую смерть. Одет он в высшей степени странно: в какую-то украшенную крестами длинную одежду, а плечи его обвивает широкая белая лента, которая спереди спускается до полу.
— Это одежда христианских епископов, — прервал тестя Рикс. — Помнишь, тесть, шесть лет тому назад, когда мы ограбили Кумы[21], я привез картинку, изображавшую, как говорили пленные христиане, их епископа, какого-то Николая. Ты, наверное, насмотрелся на эту картину, действительно превосходно написанную. Где она теперь? Кажется, я ее продал. И вот тебе приснился этот человек.
— Да-да, я помню эту картину. Только изображенный на ней человек — с короткой бородой… Он совсем не похожий на того, кто является мне во сне.
— Ну полно, что за грустные мысли! Если хочешь посоветоваться о состоянии твоего здоровья — не желаешь ли? — позову одного из моих рабов. Он очень искусный огородник. Это его овощами ты так восхищаешься! И человек он, очевидно, не простой: знания его, положительно, неисчерпаемы. Видно, что он знает толк и в медицине.
И не дожидаясь ответа Рикса, молодой князь, в полном убеждении, что Павлин подействует своими словами на старика, как действует на всех собеседников, велел позвать его, чтобы он, кстати, принес и плодов.
Павлин не заставил себя ждать.
Скоро его высокая представительная фигура, с полным крупных и румяных плодов серебряным блюдом в руках, показалась в дверях.
— Это он! — не своим голосом воскликнул старый князь.
Вдруг он почувствовал какую-то горечь во рту, холод в висках. Перед глазами его, как в зеленом тумане, замелькали красные круги.
Рука, державшая бокал, как-то странно дрогнула, словно кто-то ударил по ней в локтевом сгибе, хрустальный бокал выпал из рук и со звоном покатился по полу…
Дорогое янтарное вино потекло светлою струйкою, а старик с закатившимися глазами и перекошенным ртом без чувств повалился на руки молодого князя Рикса и подбежавших слуг.
Недели через три удар повторился, и старый Рикс, не приходя в сознание от первого еще удара, скончался.
Молодой Рикс в глубокой печали сидел у смертного одра своего тестя. Горе было так глубоко и неожиданно, что у него не было даже слез. Услышав позади себя шорох, он оглянулся и увидел молящегося Павлина.
Он встал и подошел к огороднику.
— Уходи отсюда, — гневно и резко сказал он Павлину. — Кто ты, я не знаю… Вероятно, — злой волшебник. Это ты свел в могилу моего отца и благодетеля. Иди… Иди, я даю тебе полную свободу, но только скорее и подальше от моих пределов.
Павлин поднял на него глубокие и ясные глаза, в которых была написана неизбывная печаль.
— Да будет воля Его святая! — сказал он задушевным голосом.
— «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать» (Иов. 2,10), — начал он тихую, задушевную речь словами страдальца-праотца.
Чем дальше и больше говорил Павлин, сердцу Рикса становилось все легче. Целебные, благодатные слезы струились по побледневшему лицу этого никогда не плакавшего человека.
Павлин, окончив речь, долго еще молился, а Рикс сидел, по-прежнему задумчивый и грустный, хотя лицо его уже не имело прежнего выражения безнадежного отчаяния. Когда же Павлин поднялся и стал уходить, Рикс догнал его.

— Кто ты? — сказал он, взяв его за руку. — Скажи мне. Раскрой свою тайну…
— Я уже говорил тебе…
— Нет-нет… Это все не то. Скажи мне, как другу, ради памяти этого покойного, для успокоения моего сердца… Скажи, кто ты?
Павлин молчал.
— Скажи же. Именем твоего Христа, о Котором ты постоянно говоришь и Которому служишь. Заклинаю тебя сказать: кто ты?
И он отшатнулся, как бы окаменев от изумления, услышав короткий, тихий, но внятный и ясный ответ:
— Я епископ итальянского города Нола — Павлин!
* * *
В ясный и теплый осенний день, какими природа дарит только благодатный юг, у гавани города Нола собрался весь город. Даже старики и больные вышли посмотреть на встречу три с половиною года тому назад пропавшего епископа, взятого вандалами в плен и теперь возвращающегося в Нолу с десятками отпущенных вандальским князем пленников.
Как только в городе стало известно о возвращении епископа, Анна и Евграф не считали нужным сохранять далее тайну плена епископа Павлина. А особенно Клавдий был рад возможности развязать язык.
Казалось, так долго хранимая тайна превратила его из молчаливого затворника в неугомонного говоруна.
Лодка с Павлином медленно подходила к берегу. Он уже ясно видел стоявших впереди всех в священнических одеждах Иоанна и Евлогия, радостно улыбавшегося Памфила с кадилом в руках и прыгавшего от радости и нетерпения, несмотря на всю важность и торжественность минуты, Клавдия. А вон Анна и Клавдий — благодетели Павлина, давшие ему возможность пойти по стопам Того, Кто принял на Себя образ Раба!..
Когда Павлин вступил на берег, вся эта громадная толпа, полная восторга и умиления перед появившимся невиданным еще олицетворением истинной евангельской любви к ближнему, рухнула на землю, плача от радости и восторга.
Павлин так же хотел поклониться своей пастве, но Иоанн в этот момент бросился ему на шею, будучи в силах от душившего его волнения, вместо приготовленной красноречивой речи, проговорить только:
— «Благословен грядый во Имя Господне!»
Иван Гребенщиков
Журнал «Отдых Христианина» 1902 г., июль-ноябрь
Вифлеемляне
Часть первая
Глава I
По дороге из Иерусалима в Вифлеем, густо обсаженной оливковыми и фиговыми деревьями, медленно шагал какой-то путник. Это был человек уже зрелых лет, по-видимому, священник, как о том можно было судить по его платью. Он был чем-то озабочен. На холме перед ним уже белели стены Вифлеема, когда он поравнялся с группой из четырех небольших, с плоскими крышами, строений, расположенных отдельно вне города. Первой, заметившей его, была молодая девушка, стоявшая в дверях крайнего домика с кувшином на голове. Она весело приветствовала его:
— Здравствуй, равви Садок. Не из Иерусалима ли ты?
— Привет тебе, дитя, — отвечал левит. — Да, я возвращаюсь из Иерусалима. Но что у нас нового? Вот уж больше месяца, как я оставил свой родной дом. Часть пути сопровождал меня плотник Авель, который, однако, не мог сообщить мне никаких сведений о моем семействе.
— У твоих все благополучно, равви, — сказала Сара. — Но где же Авель? Разве он вернулся в Иерусалим?
— Нет, мы шли вместе до гроба Рахили. Там мы остановились отдохнуть; я лег под тенью пальм, Авель же вошел в гробницу. Вскоре он вернулся ко мне, прося продолжать путь без него, так как он встретил одного своего друга, с которым ему хотелось кое о чем поговорить.
— Мне любопытно знать, какого он мог встретить друга в пещере, — просила девушка.
— Он мне объяснил, что этот был такой же, как и он сам, плотник, друг его детства, которого он уже много лет не видел. Палящие лучи полуденного солнца принудили его укрыться в Рахилевой пещере, тем более, что он был не один, но в сопровождении своей молодой жены, чувствовавшей себя, по-видимому, не совсем здоровой… Оба они хотя и из Назарета, но царской крови — из дома Давида; идут же в Вифлеем, чтобы записаться в родном городе своих отцов, как то повелено кесарем по случаю предстоящей всенародной переписи. По словам Авеля, молодая женщина доведена до крайнего утомления, так как им пришлось весь путь от Назарета идти пешком; тем не менее, однако, они рассчитывают воспользоваться вечерней прохладой и к ночи быть уже здесь.
— Бедная женщина! — воскликнула Сара. — После твоего долгого путешествия ты вынуждена была по сегодняшней томительной жаре сделать еще такой конец, как от Иерусалима до нас.
— Да! — продолжала она с негодованием (и ее черные глаза загорелись еще ярче обыкновенного), какое дело нашим правителям до тех бедствий, в которые ввергает нас это кесарево повеление! Они принуждают целые сотни израильтян, подобно этой бедной семье, исходить весь край вдоль и поперек и, таким образом, надолго прервать свое насущное дело — ту работу, которой они кормятся. И к чему? Чтобы удовлетворить прихоти какого-то тирана, желающего лишь в точности знать количество подвластных ему рабов. Величие и слава Рима — вот единственная забота наших правителей; наши же вопли для них — ничто! Они теснят нас без раскаяния и попирают, как прах под ногами; я не могу глядеть на них без ненависти и содрогания; их надменные лица и напыщенные речи, даже один вид их шлемов и кирас, блестящих на солнце, внушает мне ужас и отвращение. Они называют себя покорителями вселенной. Так ли это, отец?
— Да, это правда, дитя мое, — с печалью ответил священник, — Европа, Азия, Африка, весь мир под их властью. А потому не удивляйся, если они нас презирают в своей беспредельной гордости. Звание римского гражданина для них превыше всего.
Сара уже не в силах была сдержать свои чувства.
— Они мне ненавистны, гадки, мерзки, — кричала она в припадке неудержимого гнева. Она была вне себя и совершенно забыла про кувшин, который несла на голове; кувшин сорвался и разбился на мелкие куски.
— Ах! — воскликнула она. — Я погорячилась, и вот кувшин мой вдребезги! Теперь мне надо снова идти к колодцу за водой.
— Вместе пойдем, мне по пути! — сказал Садок, со снисходительной улыбкой глядя на раздосадованную пылкую девушку.
— Отлично, равви.
И Сара поспешила за другими кувшином. Когда она вернулась, то они вдвоем направились к источнику, который был невдалеке. Сперва они шли молча. Сара заговорила первой.
— Расскажи мне что-нибудь, равви. Что нового в Священном городе?
— Ты хочешь знать новость, дитя мое, — серьезно ответил священник. — Так знай же, что весь Иepycaлим в волнении, и Ирод трепещет на своем троне. Волхвы с драгоценными дарами пришли издалека. Они разыскивают новорожденного Царя Иудейского, так как видели звезду Его на востоке. Тебе, конечно, известно, что эти мудрецы посвящены в тайны астрономии, и они говорят, что небесные светила открыли им рождение величайшего Царя в Израиле, и что они идут поклониться Ему.
Девушка содрогнулась.
— Поклониться Ему? — прошептала она. — Так уж не Мессия ли это?
— По всем признакам, да, — торжественно произнес раввин.
Беседуя таким образом, они дошли до Вифлеемского колодца, студеные воды которого с такой силой некогда манили к себе Давида, когда он укрывался от своих гонителей в пещере Адолламской[22]. Этот источник находился у самых ворот города; возле него, в тени пальм, толпились женщины и дети, которые, узнав Садока, почтительно приветствовали его. Преподав им свое благословение, раввин вступил в Вифлеем, где семья его уже давно с нетерпением ожидала его возвращения.

Люди, окружавшие источник, были обитателями тех четырех хижин, о которых у нас уже была речь. Среди них была старшая сестра Сары — Дина, строгое и печальное выражение которой было резкой противоположностью оживленной и подвижной фигуры ее младшей сестры. Возле самого колодца на каменной скамье сидела седая приветливая старушка; это была вдова Елизавета, которая жила со своими тремя молодыми сыновьями — красивыми, рослыми пастухами.
Здесь же находилась молоденькая, красивая женщина с грудным ребенком на руках, жена плотника по имени Лея. Младенец весело отмахивался, играя с миловидной десятилетней девочкой Мириамией.
Мириамия была сироткой и составляла единственную утеху своего слепого деда и вдовца отца, у которого кроме нее больше детей не было.
Серьезное выражение лица Сары поразило Дину.
— Что с тобой? Не поведал ли тебе левит каких-нибудь злых вестей? — спросила она Сару.
— Он только что сообщил мне про одно весьма странное событие, — ответила та и рассказала все подробно, как слышала о прибытии восточных мудрецов с ценными подарками для новорожденного Царя Иудейского, о рождении Которого они узнали по необычайной звезде, явившейся на востоке.
— Садок того мнения, — заключила она, — что Этот Царь должен быть не кто иной, как наш Мессия.
Все присутствовавшие с удивлением прослушали этот чудесный рассказ. Особенной радостью засветилось личико маленькой Мириамии. Она много раз слышала от своего дедушки повествования об ожидаемом Мессии. Старик еще в молодости изучил все Священное Писание. Он знал наизусть важнейшие места из Закона и Пророков, а псалмы Давида почти все целиком, и это стало для него великим утешением, когда он потерял зрение.
Эти священные изречения он преподавал и своей внучке, которая, с любовью его слушая, постепенно проникалась этими возвышенными наставлениями.
Они были неразлучны — слепой седой старик со златокудрой девочкой. Чаще всего их можно было встретить в прелестном саду, который был их собственностью, так как отец Мириамии был садовником. Каждое утро они отправляли целые корзины цветов, плодов и овощей в Иерусалим на рынок. Старик придумал даже особое прозвище для своей внучки. Он постоянно звал ее своим солнышком, потому что, по его словам, она, подобно солнечному лучу, озаряла и согревала его горькую земную долю.
И действительно, она постоянно окружала его самыми нежными заботами и почти ни на минуту не отходила от него. Она была общей любимицей у соседей. Особенно же баловали ее в семье Сары, у которой, кроме старшей сестры Дины, был еще горбатый брат Аарон. Этот последний занимался перепиской книг, целые часы просиживая за своей работой; и вот, когда его навещала прелестная, резвая Мириамия, ему казалось, будто какой-то тихий свет и радость проникали вместе с ней в его тесную и мрачную каморку. С каждым своим приходом она дарила ему цветы и фрукты из сада своего отца, потому что она чувствовала беспредельную жалость в своем добром детском сердце к этому убогому, несчастному другу. Он же, в свою очередь, желая отблагодарить ее, учил ее чтению и письму, что было большой редкостью среди детей ее возраста, потому что в те времена книги были крайне дороги и редки.
Иногда же он прочитывал ей переписанные им рукописи, из которых она знакомилась с патриархами и пророками, этими избранными мужами ее народа и их чаяниями грядущего Мессии. Вследствие этого и сама она, несмотря на свой еще малый возраст, приучилась жить в постоянном ожидании великого дня явления Того, Кто пришел спасти Израиль.
Глава II
— Смотри, Самуил, вот и он, наконец!
— Да, да, побежим ему навстречу!
И оба мальчика, которым было на вид лет по одиннадцати, припустились бегом по зеленому скату холма навстречу священнику. Когда они добежали, едва переводя дух, отец заключил их в свои объятия и нежно поцеловал. Затем они пошли все вместе, причем левит стал их расспрашивать о том, что они делали и как себя вели без него.
— Я выучил наизусть все те места из книги пророка Исаии, которые ты мне задал, отец, — скромно ответил Самуил.
— Хорошо, дитя мое, я доволен тобой; ну а, ты, Иосиф?
Мальчик замялся, не зная, что отвечать.
Наконец, тихо проговорил:
— Прости меня, отец, но я не выучил урока.
— Так что же ты делал все эти дни? — строго спросил его раввин.
— Я блуждал по горам и виноградникам, — отвечал, понурив голову, Иосиф.
— Ты неисправим, — с печалью заметил отец. — Что же ты станешь делать через год, когда придется отдать тебя в храм? Там строгие правила, и в Иерусалиме нет ни гор, ни виноградников.
При этих словах лицо мальчика вспыхнуло яркой краской, и он стал с осторожностью умолять:
— О, мой отец, прошу тебя, не отдавай меня туда!
Садок взглянул на него сначала с удивлением, затем, покачав головой, серьезно прибавил:
— Дитя мое, Богу угодно было, чтобы ты родился левитом, значит, по закону, тебе надлежит стать таким же, как и твои предки, священником.
Мальчик побледнел. Гордо подняв свою головку и смело глядя в лицо раввину, он промолвил:
— Если это неизбежно, то, когда придет время, я постараюсь выполнить свой долг, но умоляю тебя, не стесняй моей свободы в течение тех еще нескольких месяцев, которые остались в моем распоряжении.
— Прости меня, отец, если я тебя огорчаю, — прибавил он со слезами на глазах, — но у тебя есть еще другой сын, которым ты можешь утешиться: вот этот мой брат совмещает в себе все, что только ты можешь желать.
— Но довольно, Иосиф, — проговорил Самуил. — Моя любовь к чтению, отец мой, объясняется вернее всего моим болезненным состоянием; если бы я был так же крепок и здоров, как мой брат, то и я, по всей вероятности, большую часть времени проводил бы в горах и виноградниках, как и он.
Левит с любовью погладил своего сына по голове и с кроткой улыбкой прибавил:
— Быть может, ты и прав, дитя мое.
За таким разговором они незаметно приблизились к воротам своего дома, в котором с нетерпением уже ожидала Садока его жена, не видевшая своего мужа целых шесть недель, пока он справлял свою чреду в Иерусалимском храме.
— А где же моя Рахиль? — ища ее глазами, спросил раввин.
В это время его дочь, успевшая невидимо проскользнуть за ним, обхватила его кругом шеи и радостным голосом закричала:
— О, как мы все по тебе соскучились, дорогой мой батюшка! Как бесконечно долго тянулось для нас время без тебя!
— Мы уж не знали, как и дождаться тебя! — прибавила мать дрожащим от волнения голосом.
Все прошли в большую залу, полумрак и прохлада которой были особенно приятны после наружного раскаленного воздуха. Как только раввин сел на один из диванов, расставленных по стенам комнаты, явился слуга с тазом свежей воды и полотенцем, чтобы помыть ноги своему господину, после чего священник удалился во внутренние покои переменить свой дорожный костюм на длинный хитон из тонкого полотна.
Когда он вернулся в залу, в дверях показалась сгорбленная старушка, опиравшаяся на палку, одетая, по обычаю священнических жен, в длинное, широкое платье, опоясанное шарфом, и с шерстяным покрывалом на голове. Садок пошел навстречу своей матери и почтительно склонил пред ней свою голову, прося ее благословения.
Вскоре был подан обед, и все члены семьи разместились у стола, по обычаю того времени, полулежа, опираясь локтем на подушку; каждый прибор состоял из ножа и чашки (вилки же тогда еще не были в употреблении).
К обеду подали мясо, приправленное солеными маслинами, хлеб, сотовый мед, миндаль и виноград, а для питья — молоко и вино.
По окончании еды Садок произнес краткую благодарственную молитву. Слуга с кувшином воды и полотенцем обошел всех отобедавших, предлагая каждому омыть свои руки. Когда все это было проделано, старушка, мать раввина, обратилась к своему сыну:
— Пойдемте на террасу, — сказала она, — сегодня такой дивный вечер.
— С удовольствием, моя дорогая, — ответил раввин и стал помогать ей восходить по винтовой лестнице, которая вела на террасообразную кровлю дома. Пол террасы, устланный квадратными плитами черного и белого цвета, наполовину был покрыт ковром. Старушка опустилась на сиденье, сложенное из подушек, а священник подошел к краю террасы и, облокотившись на перила, предался своим размышлениям. Очаровательная картина открывалась перед ним. Вдали, за белыми стенами города, виднелись поля — те самые, на которых некогда Руфь собирала колосья позади жнецов. Там и сям на холмах разбросаны были красивые рощи оливковых и миндальных деревьев; серебряными лентами струились многочисленные ручьи, местами терявшиеся в роскошной густой зелени равнин, по которым паслись стада овец.
Временами доносились до слуха отрывочные звуки мелодичной песни работавших в виноградниках. А на горизонте синеватой полосой рисовались очертания Моавитских гор[23].
Девора приблизилась к своему мужу, но Садок, погруженный в свои думы, казалось, не замечал ее. Она положила ему свою руку на плечо и промолвила:
— Ты, кажется, чем-то сильно озабочен?
— Да, это правда, — отвечал тот, — и я вам сейчас объясню, почему. Но до этого, сын мой, — прибавил он, обращаясь к маленькому Самуилу, — помнишь ли ты еще наизусть последнюю главу пророка, которую мы с тобой изучали перед самым моим отъездом?
— Да, я ее отлично помню, отец!
И Самуил без запинки повторил всю 60-ю главу из книги пророка Исаии. Левит с глубоким вниманием слушал эти богодухновенные слова. Когда мальчик окончил, Садок торжественно взглянул на присутствовавших и заговорил:
— Наконец-то пришло исполнение только что слышанного вами пророчества. Уже прибыли к нам посланцы тех народов, которым определено шествовать в незаходимом свете Предвечного; они уже в самом Иерусалиме, на своих верблюдах, со своим золотом и ладаном, как то в точности описал пророк. Они идут с дальнего востока, руководимые чудесной звездой, отыскать Божественного Младенца, новорожденного Царя Израильского, как говорят они, чтобы Ему поклониться и повергнуть к стопам Его свои драгоценные приношения. В Иерусалиме только и разговоров, что об этом необычайном знатном посольстве, появление которого наполнило страхом сердце Ирода. Встревоженный назойливыми вопросами волхвов, он спешно созвал членов синедриона, чтобы от них узнать место, где надлежит родиться Христу. Он отлично понял, что, открытый самим небом, Младенец именно Тот Самый, Кого с таким нетерпением ожидает Израиль.
Подавленный душевным волнением, Садок на минуту остановился; затем, обращаясь к матери, продолжал:
— Последнее время сестра твоя, пророчица Анна, неотлучно пребывает в храме, день и ночь проводя в посте и молитве, боясь пропустить приход Мессии. Почтенный же наш старец Симеон каждое утро, чуть только начнет светать, спешит на церковную паперть для встречи своего Царя, ибо ему открыто Святым Духом, что он не умрет, пока не увидит Христа Господа. Весь город в каком-то лихорадочном, постоянном ожидании.
Старушка рыдала от радости; она встала и, подняв глаза и руки к небу, проговорила дрожащим голосом:
— О, Царь мой! Царь! Удостоятся мои поблекшие очи созерцать Тебя во всем Твоем величии и славе!
— Очень возможно, моя дорогая, что Господь сподобит тебя этого счастья, — сказал раввин.
Не меньшее впечатление произвела и на детей восторженная речь их отца. Они имели, конечно, еще лишь смутное понятие о Мессии, который уже столько веков был предметом чаяния их народа. Им было известно, что некогда настанет день освобождения Израиля; но этот день представлялся им еще в очень далеком будущем.
— Но каков же был ответ синедриона? — спросил Самуил. — Откуда явится Мессия?
Луч радости скользнул по лицу и левита, и на вопрос ребенка он ответил словами пророка:
— «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой Израиля» (ср. Мф.2:6).
— Как! Отсюда? Из нашего Вифлеема должен Он произойти? — воскликнули все дети разом.
— Да.
— Так может быть, Он уже среди нас? Теперь так много в нашем городе чужих по случаю предстоящей переписи. Кто знает, не находится ли и Он в числе их? — заметила Рахиль.
— Все может быть, — сказал левит. — Достоверно же известно нам лишь то, что Он должен родиться в Вифлееме. Он будет вифлеемлянин, как и мы.
Все умолкли на время, глубоко пораженные только что слышанным. Многим покажется странными, как это раввин, усердно преподававший Священное Писание своим детям, не поведал им раньше знаменательное пророчество о месторождении Христа. Но не надо забывать, что в те смутные времена всякого произвола евреи избегали говорить об этом, зная, что своенравный тиран Ирод, в порыве зависти и подозрения, был способен приказать снести весь город, из которого мог явиться опасный, по его мнению, для него соперник.
Маленький Иосиф беспрестанно повторял про себя пророческие слова, чтобы лучше укрепить их в своей памяти. Затем, подойдя к своему брату, сказал ему на ухо:
— Храм уже перестанет быть темницей для меня, если и Он там будет. Ведь и Он, конечно, поселится в нем?
— Не знаю, — отвечал ему тот.
Тут Садок сделал знак своей дочери, и Рахиль тотчас же сошла с террасы в дом. Солнце скрылось за горами. Золотисто-красный отблеск вечерней зари покрыл всю природу, дома и людей, придавая что-то таинственное и сверхъестественное тем возвышенным чувствам, которые испытывали созерцавшие эту дивную картину.
Вскоре вернулась Рахиль с пергаментным свертком, завернутым в шелковую ткань. Она передала его отцу, который, развернув его, прочел во всеуслышание:
«Младенец родился нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (ср. Ис.9:6).
Глава III
Ближайшим соседом раввина, дом которого помещался на скате холма, окнами на дорогу, был центурион[24], командовавший отрядом легионеров[25] в Вифлееме. Римляне ревниво охраняли главнейшие города покоренных народов. Вифлеем же имел особенное для них значение по своему положению и близости к Иерусалиму. Центурион, суровый и надменный, происходил из знатного патрицианского рода[26]; он был вдов. Жена его умерла пять лет тому назад, произведя ему на свет сына.
У него была еще дочь — Виргиния, которую он, в свободные от дел минуты, ни на шаг не отпускал от себя; она была настоящим кумиром для него.
Скучную и бессодержательную жизнь влачила эта молодая девушка; отец ее по делам службы большую часть дня отсутствовал, и тогда ей даже не с кем было коротать свое время: ей приходилось довольствоваться обществом своего малолетнего брата и старой кормилицы, негритянки Афры. Виргиния была щедро и всесторонне одарена природой; в ее жилах текла кровь великих Сципионов[27]; но, к сожалению, ее полное одиночество и совершенная отрешенность от людей оказывали самое вредное на нее влияние, иссушая ее сердце и заглушая лучшие ее дарования.
Красивая, стройная блондинка, она являлась совершенной противоположностью своей единственной подруге — худенькой, смугленькой египтянке Ире. Их искреннее друг к другу влечение объяснялось отчасти несходством их характеров; главным же образом, — тем одинаково изолированным положением, в котором находились обе девушки среди чуждого им еврейского народа, нравы которого казались им чересчур строгими, а религия — суровой и отвлеченной.
Отец Иры много лет жил в одной еврейской колонии возле Фив[28]. Нездоровье его жены, не переносившей сухого, тропического климата, заставило его года два тому назад переехать в Вифлеем. Он перевез ее в горы Иудеи, в надежде на целебные свойства мягкого, благодатного воздуха. И действительно, эта перемена оказала благотворное на нее действие, хотя и здесь нередко случалось ей хворать; все хлопотливые обязанности по хозяйству переходили тогда в руки Иры.
Ира уже давно лишилась своей матери, она даже почти совсем ее и не помнила. Она любила вторую жену своего отца, хорошо к ней относившуюся, и усердно заботилась о ней. Несмотря на свою трудовую жизнь, девушка отличалась всегда радостным и веселым настроением духа. То и дело раздавалась ее веселая песня или ее звонкий смех за игрой с ее младшими братьями.
Ира положительно недоумевала, почему это Виргиния, в истинном расположении которой она не сомневалась, навещала ее так редко и как будто даже поневоле. Образ жизни обеих девушек имел мало общего: Виргиния целые часы проводила на террасе, полулежа на подушках, играя на лютне[29] и созерцая природу, или же, погруженная в свои грустные думы, тихо бродила по аллеям сада. Она чувствовала себя почти всегда усталой и несчастной, не ведая, что причиной тому было собственное ее безделье. Ее удивляла и привлекала постоянная веселость и жизнерадостность Иры; ей было непонятно, однако, как это девушка могла быть счастливой в той суровой, будничной жизни, которую она вела.
Ира же, в свою очередь, не понимала, как можно было жить без всякого дела и труда; тем не менее, она нежно любила свою подругу, и для нее был истинный праздник, когда, в редких случаях досуга, ей удавалось провести время с молодой римлянкой.
Переступая порог соседнего дома, где жила Виргиния, Ира ощущала, что она вступает в другой мир. Тогда как в ее доме, лишенном всякой роскоши и заключавшем в себе лишь одно существенно необходимое, весь день проходил в трудах и работе среди несмолкаемого детского шума и возни, у Виргинии все дышало покоем праздности, богатством и роскошью: залы были украшены фресками, статуями, дорогой мебелью, предметами искусства. Да и сама Виргиния, хотя и крайне простая в обращении, была типичной патрицианкой: в ее благородной осанке и в том изяществе, с которым она носила свою белую с красной каймой тунику, сказывалось ее знатное происхождение.
Ира была в восторге, когда, сидя рядом со своей подругой у мраморного бассейна внутреннего двора и оживленно с ней беседуя, она помогала ей плести венки.
В этих случаях она часто спрашивала Виргинию, почему та так редко бывает у нее.
— Ты всегда свободна, — говорила она, — не то что я. Сперва я думала, что гордость не дозволяет тебе посещать нас в нашей скромный обстановке, столь отличной от той, в которой ты живешь; узнав же тебя лучше, я убедилась, что не в том причина, но что у тебя на сердце какая-то тайна, которую ты от меня скрываешь.
Виргиния смущалась этими вопросами и давала на них всегда какой-нибудь неопределенный уклончивый ответ. Ей было неловко открыть Ире истинную причину, почему она избегала навещать ее.
Дело в том, что она не могла видеть те две мумии, которые стояли прислоненными к стене в углу большой залы египтянки.
Отец Иры, человек хотя и просвещенный, врач по профессии, придерживался египетского вероучения относительно останков умерших, а потому, покидая свою родину, он вывез с собой две наиболее дорогие для него мумии — своего покойного отца и своей покойной жены, матери Иры.
Вид этих высохших, спеленутых мертвецов с открытыми круглыми, неподвижными глазами вызывал страх и отвращение в душе римлянки. Она боялась оставаться в одной с ними комнате. Хотя сама она, как драгоценнейшее сокровище, хранила у себя урну с пеплом своей покойной матери, но это был красивый алебастровый сосуд, нисколько не напоминавший какого-либо печального события, не то что мумия, эта безобразная пародия почившего.
Не меньшее омерзение чувствовала Виргиния к тем отвратительным фигуркам египетских божков, которые были расставлены вдоль стен на полках в доме Иры. Эти пугала нередко тревожили ее во сне: ей представлялось, что они преследуют ее со всевозможными гримасами, показывая ей язык и кривляясь на разные лады, тогда как мумии, оживляясь и разрывая стягивавшие их повязки, выходили из своих гробов и устремлялись на нее, чтобы заключить ее в свои объятия. С криком просыпалась она, испуганная этими страшными сновидениями.
Также и Афра, кормилица в доме Виргинии, бранилась каждый раз, когда, по настоятельным просьбам маленького Тита, она должна была вести его поиграть к его сверстникам — египтянам; она уверяла, что мальчик возвращался домой уже не таким, каким был обыкновенно, но столь же капризным и шумным, как и те.
Одиночество Виргинии породило в ней чрезмерную, болезненную чувствительность. Она не давала себе труда побороть то, что ей было не по вкусу. Вместо того, чтобы всеми силами стараться подавить то отвращение, которое она испытывала в доме Иры, она лишала себя удовольствия видеться с этой девушкой, которая была ей так по нраву и которая своим обществом могла бы рассеять ту безысходную тоску, которая сосала сердце римлянки.
Дом центуриона, бывший больших размеров и стоявший на более возвышенном месте холма, нежели соседний с ним дом Садока, господствовал над этим последним, так что Виргиния со своей террасы могла отлично наблюдать за всем, что делалось в семье левита, проводившей, по восточному обычаю, большую часть времени на плоской крыше-террасе своего дома.
Она часто видела детей раввина, на заре молящихся с воздетыми к небу руками, и недоумевала, как это можно было обращаться с прошениями к Тому, Кого не видишь.
В атриуме[30] их дома имелись пенаты — боги-покровители их рода. Каждое утро Виргиния сплетала свежие венки на статуи Цереры и Венеры, которых она почитала особенным поклонением; затем полагала жертву из цветов и плодов к подножию богини жатвы и совершала возлияние вина в честь богини любви.
Такова была религия, преподанная ей из детства; как же после этого ей было понять возвышенную, отвлеченную, отрешенную от всего видимого и чувственного религию евреев?
Виргиния бывала несколько раз со своим отцом в Иерусалиме. Она видела величественный, великолепный храм единого, невидимого Бога, Которому поклонялись евреи, возвышавшийся на вершине горы Мориа, и восхищалась его мраморными ослепительной белизны стенами, обложенными золотом.
Как римлянка, она не имела возможности проникнуть далее притвора, где среди немолчного говора толпы шла оживленная торговля ягнятами и голубями, предназначенными для жертвоприношений. Но ей было хорошо известно, что во внутренней части храма, недоступной для иноверца, не было ни настенной живописи, ни статуй, никаких изображений — ничего, кроме лишь жертвенника всесожжений между двумя бассейнами для омовений. В благоговейной тишине, как тени, неслышными стопами, двигались священники в своих длинных белых одеждах. Духовное пение левитов, раздававшееся далеко за стенами храма и не смолкавшее ни днем, ни ночью, было как бы одной вечной, неусыпаемой молитвой, возносимой к престолу Всевышнего. Какая разница между этой простой, возвышенной, небесной религией и мишурным, суетным культом древнего Рима и Греции с их пышными празднествами и оргиями!
Отец Виргинии сильно скучал по Риму и его удовольствиям, но девушка, знавшая их лишь понаслышке, чувствовала себя в Иудее, как на родине. Она любила эту страну, с которой у нее были связаны самые лучшие воспоминания ее детства, когда еще была жива ее мать, столь нежно ею любимая, потеря которой с каждым годом становилась для нее все более чувствительной. Она завидовала счастью Рахили, окруженной постоянными материнскими ласками и заботами. Болезненно сжималось ее сердце три виде молодой девушки на террасе у ног своей матери, расправлявшей роскошные черные кудри дочери, беседующих между собой и весело смеющихся.
Виргиния чувствовала сердечное влечение к этой красивой, кроткой израильтянке и всей душой хотела бы подружиться с ней, но не смела, зная, что ее отец, в своей патрицианской гордости, ни за что не позволил бы ей сойтись с девушкой покоренного и презренного на взгляд римлян племени. Так что Виргинии поневоле оставалось довольствоваться любить ее лишь на расстоянии, причем, от времени до времени ей удавалось-таки обмениваться с ней несколькими словами из своего сада, отделенного от сада раввина лишь низкой стеной.
В тот самый вечер, когда на террасе Садокова дома происходил вышеописанный знаменательный разговор, Виргиния, вся погруженная в подушки, будучи сама незримой, со своего наблюдательного поста сквозь свободные промежутки в перилах отлично видела все происходившее у левита.
По возбужденным лицам беседовавших она сразу поняла, что в семье раввина, обыкновенно столь тихой и спокойной, совершалось что-то особенное. В ней пробудилось сильное любопытство. Разговор шел вполголоса, римлянка же была слишком горда, чтобы подслушивать чужую беседу. Но когда Садок раскрыл и пергаментный сверток, он возвысил свой голос, так что она уже могла ясно слышать все читаемое. Эти пророческие слова о Боге, имевшем явиться в Вифлееме, произвели на нее сильное впечатление. Однако же ей казалось весьма странным, о Каком Боге здесь идет речь? Евреи веровали лишь в своего единого Бога — Иегову; кто же тогда еще мог быть Тот, Которого они ждали из Вифлеема?
«Мне надо знать это во что бы то ни стало, — сказала она себе. — Рахиль всегда последней уходит с террасы, я ее окликну и попрошу сойти в сад, сама сделаю то же, и тогда нам можно будет переговорить поверх стены».
Когда раввин окончил чтение, все подняли руки вверх.
— Гряди, Господи! — взывал он с жаром. — Давно мы уже ждем Тебя. Гряди, гряди же к нам, Желанный всех народов!
Виргиния вздрогнула. «Желанный всех народов!»
«Но Этот Бог, Которому молился левит, мог ли быть вожделенен так же и ей, римлянке?» — думала она.
Продолжая свое наблюдение, Виргиния видела, как Садок, благословив своих детей, сам подошел под благословенье к своей матери, и видела, как затем все стали собираться уходить с террасы на покой. В эту минуту две фигуры медленной поступью проходили по дороге мимо самых ворот дома раввина.
Это был бедно одетый мужчина уже преклонных лет и опиравшаяся на его руку еще очень молодая Женщина, красивое, кроткое лицо Которой было страшно бледно; Она казалось крайне утомленной и с трудом передвигала ноги.
— Кто это может быть? — воскликнула Девора, подходя к самому краю террасы, чтобы их получше разглядеть.
— По-видимому, они идут очень издалека, — обратилась она к Садоку. — Посмотри, в какой они пыли и какой изнуренный вид у Женщины.
— Я, кажется, догадываюсь, кто это, — отвечал левит, внимательно рассматривая прохожих. — Плотник Авель, сопровождавшей меня сегодня утром до гроба Рахили, встретил там одного своего друга из Назарета с женой. Я сам их не видал, но, судя по его словам, это именно те самые, о которых он мне говорил. Они идут к нам записаться, будучи из царского рода Давида. Авель застал их отдыхавшими в Рахилевой пещере, ибо молодая Женщина чувствовала Себя нехорошо по той палящей жаре, какая была нынче утром.
— Бедняжка! Какой у Нее страдальческий вид, — заметила Девора, — и притом как юна и хороша Она! Мне хотелось бы пригласить их переночевать у нас; там, в общей гостинице, Ей будет очень скверно среди всякого люда. Что ты на это скажешь, Садок?
— Не беспокойся, они уж найдут себе местечко, — не без досады отвечал тот.
— Вряд ли, батюшка, — вмешался Иосиф. — Проходя мимо гостиницы, я слышал, как содержатель ее объявлял, что у него все места заняты и что потому всех вновь прибывающих ему больше негде помещать, как только в стойлах на конюшне. Так позволь же мне сбегать пригласить этих странников остановиться у нас.
— Нет-нет! Только не сегодня вечером, — промолвил раввин. — Я сейчас слишком устал и не хочу никакого расстройства в доме.
— Теперь уже поздно, пора спать. Завтра дело другое, — прибавил он, обращаясь к своей жене. — Я сам схожу утром в гостиницу и, если узнаю, что им там действительно плохо, то я не прочь буду поместить их у себя!
Путники, медленно подвигаясь вперед, уже поравнялись с домом центуриона. Виргиния тотчас же их заметила. Движимая неведомой какой-то силой, она быстро подошла к перилам, внимательно вглядываясь в идущих.
Почему же, однако, так сильно забилось ее сердце при одном взгляде на эту молодую, незнакомую ей Женщину, и почему она сразу почувствовала какое-то непреодолимое к Ней влечение и жалость?
Эти вопросы озадачили девушку. С какой бы радостью приняла она у себя эту юную Страдалицу! Но она не смела пригласить Ее хотя бы только немножко передохнуть к себе без разрешения своего отца, который был в отсутствии и, по всей вероятности, даже отказал бы ей в этом. Вся поглощенная этими мыслями, желая как можно лучше разглядеть черты лица, имевшего столь могучую, хотя и непонятную, притягательную для нее силу, Виргиния низко склонилась чрез перила своей террасы, как вдруг роза, бывшая в ее волосах, упала к ногам Незнакомки. Эта последняя, подняв свой утомленный взор, взглянула на римлянку с улыбкой, полной неизреченной кротости и любви. Виргиния вспыхнула и тоже улыбнулась Ей в ответ. Путники пошли дальше; девушка глаз с них не сводила, пока они не скрылись от нее.
«Что за чудо? — вопрошала она себя. — Один мгновенный взгляд Незнакомки согрел и утешил ее сердце, дотоле столь унылое и разбитое?
Тут только вспомнила Виргиния о своем намерении спросить Рахиль про Бога из Вифлеема. Обернувшись к дому левита, она, к огорчению своему, увидела, что терраса уже пуста. Взор ее упал на соседний сад. Вдруг она заметила Рахиль, что-то разыскивавшую в траве. В одну минуту Виргиния была уже у стены своего сада; облокотившись на нее, она стала пристально следить за движениями девушки, не замечавшей ее.
— Вы, кажется, что-то потеряли? — наконец обратилась она к ней.
Молодая девушка быстро подняла голову.
— Да, — отвечала она. — То есть не я, но мой брат потерял нож, который ему дал отец перед своим отбытием в Иерусалим. По мнению Иосифа, он должен быть возле этого куста, из которого он вырезал себе кнут вчера; бедный мальчик не может успокоиться.
— А! Вот и ножик! — воскликнула она. — Как это обрадует брата! Спокойной ночи, Виргиния, мне надо идти, меня мать ждет.
— Одну лишь минуточку, — возразила римлянка. — У меня есть дело до тебя.
— До меня? — несколько удивленно переспросила Рахиль.
— Да…
Яркая краска покрыла лицо Виргинии:
— Со своей террасы я слышала последние слова, которыми отец твой закончил сегодняшнюю вечернюю вашу беседу. Если я не ошибаюсь, то речь шла о каком-то Боге, имеющем явиться из Вифлеема. Не так ли?
— Совершенно верно, — серьезно ответила Рахиль. — Отец знакомил нас с пророчествами, относящимися к грядущему Мессии.
— Но, — прибавила римлянка, — насколько мне известно, вы, евреи, чтите единого лишь Бога; так кто же еще Тот, Кого вы ждете?
— Это один и тот же, — отвечала та. — Он воплотится и поживет среди нас. У пророка Исаии сказано: «Дева родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, что значит: Бог посреди нас»[31]. Ему надлежит спасти людей от грехов.
— Грех? Что означает это слово? — спросила римлянка. Израильтянка с жалостью взглянула на нее.
— Откуда же тебе знать это, — кротко заметила она. — Я же, со своей стороны, боюсь дать тебе какое-нибудь неправильное объяснение. А потому, всего лучше, если я спрошу у своей матери и завтра же поутру явлюсь сюда сообщить тебе.
— Значит, ты все без исключения объявляешь своей матери? — спросила Виргиния.
— Конечно, — ответила та.
Римлянка тяжело вздохнула.
— И я бы так же поступала, если бы у меня еще была жива мать.
Глаза Рахили наполнились слезами сострадания.
— У тебя еще есть отец, — сказала она, — которого ты, без сомнения, любишь.
— Это правда; но мне редко приходится его видеть! Всего чаще я одна! Расскажи мне еще что-нибудь про ожидаемого вами Бога из Вифлеема; это крайне меня интересует. Когда же Он явится? Мне очень хотелось бы видеть настоящего Бога!
— Нам самим это неизвестно, — ответила девушка.
— Мы давно уже ждем Его. Тысячу лет тому назад Иегова обещал нам послать Его. По всей вероятности, какое-нибудь знамение возвестит явление Его.
— Ты говоришь, знамение? Но какое же может быть знамение?
— Мало ли какое! Быть может, Господь пошлет Его в огненной колеснице, подобной Илииной, или же через Своих Ангелов объявит нам о Его рождении, как то было некогда объявлено о рождении Исаака.
Виргиния слушала все с возрастающим любопытством.
— Кто это Ангелы? — спросила она.
— Это — нас окружающие духи, слуги Всевышнего.
— Кого нас?
— Тебя и меня и всех вообще, дорогая Виргиния. Эти дивные Ангелы охраняют тебя, как и нас, ибо наш Бог и тебя любит, хотя ты того и не ведаешь.
— Так Он способен любить, твой Бог? — удивилась римлянка.
— О, Он весь одна любовь!
Виргиния помолчала, затем прибавила:
— Я так и поняла из чтения твоего отца, что ожидаемый вами есть Желанный всех народов. Не правда ли?
— Да, и представители народов уже прибыли в Иерусалим.
При этом Рахиль рассказала про восточных мудрецов, усердно разыскивающих неведомого Бога.
Виргиния с душевным волнением слушала ее. Сообщаемое казалось ей столь необыкновенным и в то же время столь дивным и истинным!
Окончив рассказ, израильтянка подняла взор к небу, уже начинавшему загораться бесчисленными звездами.
— «Гряди Господи, гряди же!» — вздохнула она.
В эту минуту послышался голос, звавший Рахиль.
— Это моя мать зовет меня. Так до свиданья, дорогая Виргиния, — промолвила девушка и поспешила домой.
Виргиния медленно повернула к себе.
«У меня же нет матери, которая с любовью дожидалась бы меня», — с грустью вспомнила она.
Дом центуриона был уже освещен. С потолка свешивались красивые лампы, заправленные душистым маслом. Виргиния долго ходила взад и вперед по пространным комнатам, никогда еще не казавшимся ей столь пустынными, как в этот вечер. Тысячи новых мыслей теснили ее мозг, и тысяча неведомых чувств волновали ее сердце.
Как невыносимо было для нее в эту минуту одиночество! Между тем ей буквально не с кем было поделиться. Маленький Тит уже спал, отца же ее еще не было дома. Да и в состоянии ли бы она была выразить ему все чувства, преисполнявшие ее душу? Несчастная девушка отправилась в свою спальню и пала ниц пред урной с пеплом своей матери. Приложив свое воспаленное лицо к холодному алебастру, она долго и горько плакала, как в былое время на груди у своей матери. Затем, не раздеваясь, она бросилась на постель.
Возбужденное состояние ее расходилось все более и более. Ей становилось душно в комнате. Схватив небольшой серебряный шар со стола, она бросила его в бронзовую чашу — способ позвать служанку. Когда та явилась, заспанная, она приказала ей снести циновку на террасу, так как ей хотелось провести ночь на вольном воздухе…
Восточные ночи обыкновенно так же прекрасны и теплы, как наши летние вечера. Завернувшись в индийскую шаль, Виргиния расположилась под покровом звездного неба. Ей было легче на свежем воздухе; взор ее остановился на блестящих звездочках, приветливо улыбавшихся, как ей казалось. Мысленно стала она представлять себе свою покойную мать, своего отсутствовавшего отца и, наконец, грядущего неведомого Бога.
— «Приди и ко мне, неведомый Боже! Ты, Желанный всех народов!» — совершенно непроизвольно прошептала она. Глаза ее сомкнулись, и она заснула.
Глава IV
Была уже поздняя ночь, когда плотник Авель вернулся домой к великой радости своей жены, начинавшей уже беспокоиться за него. От Рахилевой пещеры он шел через виноградники, кратчайшим путем, до городской гостиницы, где у него была еще не совсем законченная работа, которая и задержала его.
За ужином Авель рассказал жене про свои дневные дела и про неожиданную встречу с Иосифом из Назарета.
— Они прибыли в странноприимницу, когда я уже окончал свою работу, — прибавил он. — Нет ни одного свободного угла в гостинице, так что молодой Женщине придется переночевать в стойле на соломе. Она непраздная[32], и каково же Ей будет в таком состоянии среди непривычного шума, грязи и запаха от животных. Они мне рассказывали, с каким сожалением оставляли свой небогатый, уютный домик, в котором им так мирно и тихо жилось в Назарете. Знаешь, что сделаем, Лия? Позовем их завтра же переехать к нам. Наше скромное помещение хотя и бедно, но во всяком случае Ей будет у нас много лучше, чем в конюшне!
— Отлично! — согласилась Лия. — Как можно раньше пойдем за ними; возьмем и Ефраима с собой.
— Посмотри же, как он мил, — присовокупила она, подводя мужа к колыбели, в которой крепким сном беззаботно спал младенец.
* * *
В ту эпоху Египет славился своими врачами.
Отец Иры имел обширную практику, в особенности среди греко-римского населения Иерусалима, куда его часто требовали. В этих случаях он обыкновенно поздно возвращался домой; причем Ире приходилось дожидаться его, так как жена его имела привычку ложиться очень рано. В описываемый нами вечер девушка в ожидании своего отца сидела у окна при тусклом свете лампы за починкой детского платья.
Вдруг какие-то странные звуки, как ей показалось, донеслись до нее с улицы; она бросила работу и поспешила на террасу, желая узнать, в чем дело. Поднявшись на кровлю, она увидала вдали какой-то неестественный яркий свет на небе; оттуда же слышалось как бы пение целого хора многочисленных голосов. Удивленная и смущенная этим, Ира присела на перила, внимательно слушая и взирая.
Необычайный свет стал мало-помалу стушевываться, и звуки, как бы удаляясь, замолкать. Чудесное явление исчезло. Но девушка как бы замерла и не трогалась с места. Как очаровательна, хороша была та ночь! Звезды горели чище и ярче обыкновенного; невозмутимая тишина господствовала в воздухе; какой-то неземной мир и спокойствие проникли в душу Иры. Ей было так хорошо! Но вот в ночной тиши послышались учащенные шаги идущих. Их было много. Значит, это не мог быть ее отец, подумала она. Шаги все приближались, слышался разговор. Идущие на минуту приостановились у дома раввина, затем пустились бегом. Девушка ничего не понимала. Волнение овладело ею. Тут вскоре вернулся ее отец.
— Что случилось? Не видел ли ты чего-нибудь? — спросила Ира, впуская его в дверь…
— Да меня чуть с ног не сшибли сыновья старой Елизаветы; как сумасшедшие понеслись они в гостиницу, оставляя на произвол судьбы свои стада на пастбище и подвергая их, таким образом, опасности быть съеденными дикими зверями, в изобилии рыскающими по окрестным горам. И знаешь ли, зачем? Чтобы отыскать какого-то Младенца в яслях. Они, кажется, совсем потеряли здравый смысл, ибо, насколько мне известно, в ясли кладут корм для скота, но отнюдь не новорожденных детей, — с резким смехом заметил египтянин.
— Но, дорогой батюшка, они, кажется, ищут своего Мессию в странноприимнице.
— В самом деле? — покачивая головой, отозвался тот. — Странный у них Бог, восседающий в скотских яслях!
— А наш бог Апис[33] ведь живет постоянно в конюшне! — возразила девушка.
Хитрая улыбка скользнула по лицу врача. Как большинство людей его профессии, он не придавал веры мифологии.
— Ты, конечно, права, дитя мое, — не без иронии согласился он.
— Позволь же мне завтра сходить посмотреть на Мессию, если Его действительно обрели, — нерешительно промолвила Ира. — Мне очень бы хотелось повидать Живого Бога!
— Иди, если уж тебе непременно так хочется; только возьми с собой служанку Ревекку, ибо одной тебе небезопасно, по случаю множества пришельцев в городе. Итак, спокойной ночи, дитя мое. Завтра ты мне расскажешь про вновь открытого Бога, — шутливо заметил врач.
Он поцеловал дочь и, улыбаясь, прибавил:
— Однако я считал свою Иру слишком умной, чтобы придавать значение всем этим басням!
Оставшись одна, египтянка погасила лампу и пошла спать. Прав ли ее отец, вопрошала она себя. Разве пророчества насчет Мессии, о которых так часто говорила ей Ревекка, были, действительно, лишь одними баснями?
Во всяком случае, ей будет завтра это досконально известно.
* * *
Виргиния, все еще спавшая под открытым небом на террасе, проснулась, когда было уже далеко за полночь. Но что это? Во сне или наяву слышится ей какая-то неземная, чарующая мелодия, а на небе — какой-то яркий, ровный свет, затмевающий собой блеск звезд?
Девушка вскочила со своего ложа, удивленная, устрашенная, но в то же время с какой-то тихой радостью в сердце. Дрожащая, судорожно схватившись за перила террасы, она превратилась вся в один слух и зрение. Прямо перед ней, в отдаленной части небосклона, на громадном пространстве сиял ослепительный свет, исходивший как бы из глубины Небес и освещавший всю равнину.
Не одна Виргиния наблюдала это чудесное зрелище. С террасы соседнего дома доносились до нее отрывочные слова молитвы, сопровождаемые рыданиями и восторженными криками: «Се Царь наш, грядущий к нам с небес во всей славе Своей!»
Затем взволнованный голос Рахили:
— Ведь это, дорогой мой батюшка, несомненное знамение пришествия Его?
— Воистину, дитя мое!
При этом раввин с пламенным усердием пропел хвалебный псалом Давида:
— Благослови, душе моя, Господа: на небесах поставил Он престол Свой, и Царство Его всем обладает! Благословите Господа все Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его! Благословите Господа все дела Его, во всех Местах владычества Его! Благослови, душа моя, Господа!
Через несколько минут чудесный свет исчез, и божественная мелодия замолкла. Но ни Виргиния, ни соседи ее не шевелились, и, казалось, все еще чего-то ожидали. Вдруг послышался какой-то невнятный шум, оказавшийся шумом от ног и голосов запыхавшихся людей, спешивших, перекликавшихся между собой краткими фразами:
— Христос родился!
— О, великая радость!
— Идем же скорей взглянуть на Него!
— Остановитесь, братия! — закричал левит в тот момент, когда они пробегали мимо его дома. — Кто вы такие? Видали ли вы небесный свет?
— Да, да! Он родился — Христос, Мессия! В скотских яслях… Спеленутый Младенец! Ангелы явились нам и повелели разыскать Его!
— Постойте. Расскажите подробней! — завопил взволнованный Садок.
— Нет, нет, нам некогда! Иди лучше с нами!
Толпа побежала по направлению к гостинице, и вскоре опять все стихло.
* * *
Окрестности Вифлеема издавна славились своими роскошными пастбищами; на них паслись бесчисленные стада, поочередно охраняемые небольшими партиями пастухов. В эту незабвенную ночь черед был за сыновьями вдовы Елизаветы. Прощаясь с ними, мать благословила их словами:
— Господь, охранявший некогда праотца Давида на этих зеленых лугах, у этих тихих вод, да пребудет с вами в эту ночь.
Остановившись в дверях, она не спускала с юношей глаз, пока вечерние сумерки не скрыли их. Вернувшись в комнату, старушка принялась убирать со стола остатки их скромного ужина. Она обыкновенно рано ложилась спать. Но в этот вечер, сама не зная почему, она пребывала в каком-то возбужденном состоянии. Сон бежал от нее; она села работать за прялку. Мысли ее неудержимо стремились к сыновьям, которым предстояло не смыкать глаз в эту ночь. Невольно вспомнился ей царственный пастырь Давид, столько веков тому назад охранявший стада на тех же самых лугах, где сейчас находились и ее сыновья. Она пропела некоторые из его дивных псалмов; затем мысль ее занялась Mессией, Которого с таким нетерпением ожидал Давид и другие пророки, и Которого с такой уверенностью разыскивали недавно прибывшие волхвы с востока. Сердце ее умилилось, и она молитвенно прошептала про себя: «Прииди, прииди же к нам и не замедли, Господи!»
В эту самую минуту какое-то странное пение послышалось ей снаружи. Она вышла на улицу. То был целый хор, гремевший над землей. Откуда мог быть и тот яркий свет на небе, когда ей было хорошо известно, что теперь новолуние? Желая лучше видеть непонятное явление, Елизавета направилась к утесу, возвышавшемуся над равниной. Достигнув его, пораженная сверхъестественным зрелищем, она в испуге пала на землю, закрыв лицо руками. Она увидала сноп неизреченного света от неба до земли и услышала божественное пение бесчисленных ангельских голосов. Она не помнила, были ли то минуты или же целые часы, что она пребыла коленопреклоненной: но когда она подняла свою голову, то кругом нее уже все было по-прежнему — ночной мрак и безмолвие.
В сильном волнении вернулась она к себе, оставив отворенной дверь за собой. Несколько минут спустя, прибежали ее сыновья. Восторженные лица их были бледны, неузнаваемы. Не останавливаясь, впопыхах, они лишь прокричали ей радостную весть: «Мессия явился! Ангелы возвестили нам это!.. Мы спешим к Нему!.. Новорожденный Малютка в яслях!»
* * *
Когда пастухи достигли гостиницы, ничего, по-видимому, не указывало на присутствие Мессии в ней. Единственная лампа, висевшая на веревке над входными дверьми, тускло осветила прибывших.
Они вошли в ограду. Под навесами множество почивающих странников. Безмолвная тишина повсюду; не залаяли даже и собаки, хорошо их знавшие. Ощупью направились пастухи через двор к конюшне; это была природная в скале пещера, отверстие которой, частью заделанное, оставляло вход открытым. Они вошли в нее. Слабый свет освещал группу людей у яслей. Молодая Мать с лицом, сияющим радостью, но бледным, расположившись на соломе, держала на руках новорожденного Младенца. Возле нее, прислонившись к стене, стоял ее муж, Иосиф. Сыновья Елизаветы провели остаток этой знаменательной ночи коленопреклоненными пред Младенцем с Матерью.
Глубочайшая тишина царила в конюшне, ставшей храмом Бога Живого.
* * *
Ярко горело солнце; веселое пение птичек раздавалось в воздухе, исполненном благоухания. Mиpиaмия вошла в сад, в котором уже находились ее отец и слепой дедушка. Опираясь на посох, дедушка стоял с поднятыми к небу потухшими очами, из которых по морщинистым щекам обильно струились слезы радости. Услышав шаги внучки, он подозвал ее к себе.
— Приди ко мне, мое дитятко. Наконец-то явился нам Тот, Которого мы так долго дожидались: Христос Господь! Он покоится там, среди животных, на соломе. Он отвержен и не признан миром, как и было заранее предсказано пророками. Люди не сумели по чести принять Его! Сведи же меня, дитятко, к этому свету, Свету Мира, погрязающего в грехах. Хоть и не в состоянии я узреть Его, так, по крайней мере, я поклонюсь Ему и удостоюсь подышать одним с Ним воздухом. Быть может, я даже сподоблюсь облобызать святейшие длани Его!
И они пошли. Между тем целая толпа собралась у пещеры, в которой покоился Божественный Младенец. Здесь был и раввин с семьей, и римлянка с братом, и египтянка, и горбатый Аарон с сестрами, и плотник со своими, — богатый и бедный, знатный и незнатный, старый и молодой… И все соединились в одном чувстве.
В первом порыве неудержимой радости пастухи всем без разбора открывали все возвещенное им Ангелами о новорожденном Младенце. Но когда они заметили, что их благовестие порождало в иных сомнение, а в других даже и насмешки, то научились быть сдержанней в своих речах и, подобно Марии Богоматери, хранить в сердце своем все эти слова — до той поры, пока не получили от Господа повеление «идти и научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф.28:19).
Часть вторая. Тридцать лет спустя
Глава I. Фивы
Тропическое солнце своими жгучими лучами ярко освещало внутренний двор храма египетского бога Сети[34], окруженный деревянной раскрашенной галереей, примыкавшей к высоким каменным стенам, покатая крыша которой представляла некоторое убежище от ослепительного света и жара дня. Гробовая тишина нарушалась лишь журчанием фонтана, воды которого ниспадали в обширный мраморный бассейн, обставленный несколькими декоративными растениями. Приятно отдыхал глаз на этой свежей, зеленой группе, резко выделявшейся среди ослепительно белых, раскаленных плит двора.
При храме имелось училище для молодых людей, в котором преподавались медицина, мифологическое богословие, математика и астрономия. Обучение юношей состояло в исключительном ведении жрецов; устав заведения был очень строг, так что жизнь питомцев походила на жизнь заключенных.
В послеобеденные часы к ним допускались родственники для свидания. Деревянная галерея внутреннего двора наполнялась тогда посетителями, причем из уважения к святости места разговор велся вполголоса.
В одно из таких послеобеденных посещений в глубине галереи медленно прохаживались две фигуры — юноша с пожилой женщиной. Лицо женщины носило печать глубокой скорби; красный шелковый шарф, обернутый вокруг ее головы, своими концами, украшенными золотой бахромой, свешивался на ее плечи. Такой же шарф поддерживал складки ее широкого темного платья.
Рядом с ней шел красивый, стройный юноша в простой холщовой белой тунике; по-видимому, что-то сильно тревожило его: уже несколько раз он упорно взглядывал на женщину с явным намерением сказать ей что-то, но останавливался в нерешительности; эти колебания еще более увеличивали его беспокойство. Женщина же, занятая собственными думами, не замечала возбужденного состояния юноши. Но вот он, сделав отчаянное усилие, взволнованным голосом обратился к ней.
— Я хочу откровенно поговорить с тобой, матушка, — сказал он.
Женщина, подняв свой печальный взор на него, спокойно промолвила:
— Так говори же.
— Только не здесь, где нас могут услышать.
Нежно взяв свою мать за руку, молодой человек направился к одной из многочисленных дверей, выходивших на галерею. Они вошли в комнату или, вернее, келью юноши, маленькую, но очень высокую, со стенами, сплошь покрытыми иероглифами. Обстановка ее была самая простая: деревянная кровать, покрытая шкурой пантеры, небольшой столик, табурет, этажерка с восковыми таблицами, высушенными растениями, несколькими птичьими скелетами и свертками папируса.
— Ну что? — спросила женщина, садясь на кровать и пристально глядя в глаза сыну, который все еще колебался, не зная как начать.
— То, что я имею сообщить тебе, — наконец заговорил он, — должно огорчить тебя, дорогая матушка.
Печальное лицо женщины приняло еще более грустное выражение.
— Еще одно новое страдание! — вздохнула она.
— Матушка, — сказал Анана, — я уже давно собирался поговорить с тобой, да все откладывал, зная, как и без того много горя в твоей жизни.
— Значит, ты хранил тайну от меня, — упрекнула его она. — Я думала, что ты ничего не скрываешь от меня.
— Это вовсе не тайна, — тихо ответил тот. — Это жестокая внутренняя борьба, не дающая мне покоя. Простишь ли меня, дорогая моя? Позволишь ли мне покинуть тебя?
— Меня покинуть? — воскликнула пораженная женщина. — Нет, никогда! А! Я понимаю, — с просветлевшим вдруг лицом, прибавила она. — Твой последний блестящий экзамен, которым я горжусь, доставивший тебе степень писца, несомненно, побуждает тебя искать высшего образования, с каковой целью ты и собираешься в Гелиополис, по примеру твоего покойного отца и деда. Но у тебя не хватает духа оставить свою несчастную мать, у которой один только ты на свете и остался. Если я угадала, то отправляйся с Богом; я стану с нетерпением считать дни, остающееся до твоего возвращения, но никогда не воспрепятствую тебе в этом благом намерении.
Анана склонил в смущении голову.
— Нет, не в том дело, матушка. Я хочу быть свободным! — воскликнул он с жаром. — Со временем, быть может, я и пойду в Гелиополис, но в настоящее время у меня лишь одно желание: поскорее вырваться из этой тюрьмы. Я не в силах более выносить эти ежеминутные стеснения, эту постоянную неволю! Я задыхаюсь в этих четырех стенах! Я хочу уйти как можно дальше, где бы я мог жить одной жизнью с природой, блуждая по горам, дремучим лесам и рекам. Если бы ты знала, матушка, как я завидую лодочникам каждый раз, когда вижу их плывущими вверх по Нилу на своих ладьях! Здешняя же жизнь убивает меня! Я должен во что бы то ни стало хоть на время насладиться свободой!
Мать с тревогой смотрела на него.
— Говорил ли ты про это верховному жрецу? — спросила она.
— Да. Это рассердило его, и он повелел мне выкинуть из головы эти никогда не осуществимые, по его словам, сумасбродства. Но каково же было мое удивление, когда, позвав меня вчера вечером, он объявил, что намерен послать меня в Иерусалим с поручением приобрести там несколько редких для нашей библиотеки еврейских рукописей и затем провести несколько месяцев в горах Иудеи для собора некоторых трав, мало известных у нас, имеющих большое значение в медицине. Можешь же себе представить, матушка, какой радостью затрепетало мое сердце при этом известии. В порыве счастья и благодарности я готов был броситься ему на шею, тем более, что именно Иудея особенно привлекает меня к себе с некоторых пор.

— Но ты никогда не высказывал мне это. Что же может особенно привлекать тебя в Иудее?
— Там есть один замечательный во всех отношениях Человек, полубог, как говорят, Которого я очень хотел бы видеть. Двое молодых людей, родственники одного моего сотоварища, видели Его прошлый год в Иерусалиме, и с тех пор у них только и речи, что о Нем. Он обладает властью целить все недуги и даже мертвых воскрешать. Эти молодые люди были очевидцами чудесного воскрешения одного мертвеца, которого уже собирались было хоронить. Мессия — так Его называют — исполнен любви и милосердия; в особенности же к обездоленным, к низшему, презренному классу населения. Его учение резюмируется в двух словах: Он говорит, что пришел в мир благовествовать спасение погибшим. Как кажется, часть своего детства вместе с Своими родителями Он провел здесь, в Египте, скрываясь, от преследования злого царя.
Мать вздрогнула при слове Мессия, произнесенном сыном. Она встала и взволнованным голосом произнесла:
— Иисус имя Этого Пророка, не так ли? Он — сын плотника и Марии?
— Совершенно верно, матушка, — подтвердил удивленный Анана. — Значит, и ты слышала о Нем?
— Я даже своими глазами видела Его, когда Он только что еще родился в Вифлееме Иудейском, в котором я провела несколько лет своей молодости.
— О, расскажи же мне тогда что-нибудь про Него; я сгораю желанием знать все, к Нему относящееся.
— Только не сегодня, — дрожащим голосом сказала мать. — Уже поздно. Мне надлежит еще сходить к верховному жрецу, переговорить о тебе и затем распорядиться приготовить все нужное для твоего далекого путешествия. Когда назначен твой отъезд?
— Чем скорее, тем лучше.
— Отлично, так и я еду с тобой!
— Ты, дорогая моя? Нет, я не могу от тебя принять такой жертвы. Чтобы я решился разлучить тебя с твоей отчизной и с могилами дорогих твоему сердцу людей? Нет, этому не быть!
— Мое самопожертвование в данном случае вовсе не так велико, как ты думаешь, — спокойно возразила она. — Ты для меня несравненно дороже могил, оплакиваемых мною! К тому же, мертвые во мне не нуждаются; ты же один у меня на свете, так что я хочу везде быть с тобой, дитя мое!
— Кроме того, я тоже живо интересуюсь Мессией и Его учением, — присовокупила она.
С этими словами мать оставила сына, бывшего вне себя от радости. По выходе из храма Ира направилась к священному озеру, в зеркальной поверхности которого отражались украшавшие берега громадные каменные изображения сфинксов. Отсюда, сквозь зелень пальмовых деревьев, уже виднелись белые стены жилища верховного жреца.
Долго длилась беседа между матерью и жрецом.
— Лучше добровольно отпустить его, — рассуждал жрец, умное лицо которого выражало непреклонную волю. — Иначе он и без нашего разрешения сумеет сам уйти, как задумал. Я отлично его знаю и люблю. Я уверен, что славная будущность ожидает его. Но не следует подрезать молодому орлу крылья, если, по всем признакам, это грозит причинить ему преждевременную смерть от тоски. Итак, выпустим орленка нашего на волю! Через год, увидишь, он вернется к нам уже уравновешенным, счастливым, чтобы с удвоенным усердием приняться снова за прерванное свое дело.
— Если боги и отняли многих детей у тебя, — присовокупил жрец, прощаясь с Ирой, — зато в утешение они оставили тебе лучшего, которым ты по праву, как мать, можешь гордиться.
Ира поспешила к сыну, с нетерпением уже ожидавшему ее у храмовых ворот.
— Все идет как нельзя лучше, — еще издали крикнула она ему. — Через несколько дней мы отъезжаем.
Восторг радости вырвался из груди юноши. В избытке чувств он крепко поцеловал свою мать.
В эту самую минуту раздался барабанный бой.
Анана пустился бегом к храму и, едва только успел переступить порог его, как тяжелые медные ворота глухо закрылись за ним. Немного погодя, из-за храмовой ограды послышалось заунывное, дикое пение сотни голосов под аккомпанемент труб — священный гимн жрецов в честь бога Ра, символом которого почиталось заходящее солнце. Все посторонние должны были по этому знаку удалиться из пределов некрополя[35], величественные храмы и богатые усыпальницы которого своей роскошью и размерами не уступали великолепным городским зданиям Фив, расположенных по ту сторону реки. Густой вереницей потянулись толпы посетителей к реке, на поверхности которой целые сотни небольших лодок, покачиваясь, уже ожидали возвращавшихся от родных могил, чтобы перевезти их на другую сторону.
Ира села в свою лодку.
— Вези меня вниз по реке, — приказала она своему гребцу, здоровенному рабу-нубийцу. — Я не хочу еще возвращаться домой, но хочу побыть в уединении.
Лодочка в сильных руках негра плавно понеслась по водам Нила, позлащенным лучами заходящего солнца. Едва лишь миновали они роскошные дворцы с великолепными садами, как тихая ночь сразу сменила вечерние сумерки, столь краткие в тропических странах.
Взошла луна и посеребрила спокойную поверхность реки. Нубиец распустил шелковый парус и как изваяние из черного дерева, неподвижно, с напряженным вниманием, поместился на корме. Глубокая тишина и безмолвие, царившие на воде, нарушались лишь легким шелестом тростников папируса, произраставших у берегов. Рисовые поля сменились рощами финиковых и смоковных деревьев. На заднем плане высились беловатые скалистые горы, сплошь изрытые бесчисленными подземными ходами, в коих покоились десятки тысяч усопших, когда-то тоже принимавших живое участие в окружавшей их жизни.
Ясный лунный свет позволил Ире разглядеть место упокоения ее шестерых детей и мужа.
Тяжелые испытания выпали на ее долю в жизни. Она давно уже не имела привязанности к своему домашнему очагу, в котором смерть произвела такое жестокое опустошение, и каждый уголок, каждая вещь которого живо напоминали ей горькую утрату тех, кто был так дорог ее сердцу. Всякое утро отправлялась она в некрополь, чтобы свежими цветами убрать незабвенные могилы. Целые часы просиживая здесь, в прохладе подземелья, созерцая грубые изображения почивших, коими были разрисованы стены, она всецело отдавалась воспоминаниям прошлого, как бы вновь переживая то время, когда она чувствовала себя столь довольной и счастливой. Как наяву, слышались ей опять дорогие детские голоса, веселые взрывы их смеха и виделись милые лица детей и ее возлюбленного мужа. Послеполуденное время проводила она в храме вместе со своим сыном — единственным у нее детищем, оставшимся в живых. По ночам же, в горьком своем одиночестве, часто блуждала она по пустынным комнатам своего дома, подобно тени, с раздиравшими душу воплями и рыданиями призывая к себе тех, кто был уже навек потерян для нее.
Закат солнца встречала она обыкновенно среди Нила, спускаясь в лодке вниз по реке. Спокойствие и нежное веяние вечерней природы оказывали благотворное действие на ее измученную душу и, казалось, на время унимали ее сердечное горе.
В описываемый вечер мысли ее носились в самом отдаленном прошлом. В ее памяти воскресли дни самой ранней ее молодости, когда беззаботной, счастливой девушкой жила она в Вифлееме Иудейском. Она вспомнила тогдашнюю свою трудовую жизнь в убогом домике, когда среди шума и гама своих меньших братьев она не покладая рук хлопотала по хозяйству и около своей больной мачехи. Как дорога была для нее тогда каждая минута отдыха и успокоения… Теперь же, напротив, какая разница! Как невыносимо тягостны были для нее эти часы мертвой тишины и вынужденного безделья!
Припомнилась ей Виргиния, подруга ее детства, которую она уже давно потеряла из виду… Особенно живо представилась ей та знаменательная, звездная, дивная ночь, когда, сидя на террасе в ожидании своего отца, она стала свидетельницей необыкновенного небесного света и пения, возвещавших явление Мессии. Собственными глазами видела она Малютку, смиренно почивавшего на соломе в яслях, о великом назначении и будущей славе Которого слышала она разговоры со всех сторон… Как вдруг, в одну прекрасную ночь, Младенец исчез из города вместе со Своими родителями… Но куда? Это было неразрешимой загадкой для всех.
Итак, сегодня эта тайна разъяснилась для нее: временно скрывался Он здесь, в Египте, от преследования подозрительного, жестокого царя Ирода. Теперь же Он снова там, среди Своего народа — ради того дела, для которого Он и пришел в мир. Он призывает к Себе, как говорят, всех обездоленных и несчастных, обещая дать утешение и покой страждущим их сердцам.
Сама Ира почитала себя обездоленной, нищей, ибо смерть похитила у нее все сокровища ее сердца, а также несчастной, ибо она уже не знала радости с тех пор, как потеряла мужа и детей. Вот почему ее неудержимо влекло в Иудею, к стопам Того дивного Учителя, от Которого она надеялась получить мир и силу к безропотному перенесению своего удела на земле.
Глава II. Рим
В одной из роскошных вилл, украшавших окрестности древнего Рима, в тени колоннад, на камышовом ложе почивала женщина средних лет; возле нее сидела совсем еще юная, стройная девушка в белом патрицианском наряде, перехваченном золотым поясом; густые, золотисто-серые кудри обрамляли ее красивое лицо, но печальное и озабоченное выражение ее больших голубых глаз не соответствовало ее еще почти детскому возрасту. Взор ее прикован был к реке Тибр, стремившей свои мутные воды мимо их сада. На противоположном берегу реки возвышались храмы и дворцы римских императоров. У ног девушки стояла корзина цветов, а на коленях лежал наполовину не доплетенный венок. Девушка уже давно бросила свою работу, перестав сплетать красивые соцветия. Со сложенными вместе руками, застывшими чертами и неподвижным взором она казалась всецело погруженной в свои размышления.
Но вот спавшая римлянка внезапно пробудилась и, пораженная серьезным задумчивым выражением лица своей дочери, с участием ласково спросила ее:
— Так ты уже окончила свой венок, дитя мое?
Девушка вздрогнула от неожиданности.
— Нет, матушка, я прекратила работу, как только ты уснула, — ответила та.
— Ты опять в раздумье, дорогая моя. От этого, несомненно, так и побледнела ты за последнее время. Я совсем уже почти не слышу ни твоих песен, ни веселого твоего смеха, который так часто утешал меня. Что с тобой, дитя мое? Если у тебя есть что-нибудь на сердце, откройся матери. Я не в силах более видеть тебя такой грустной.
Девушка тяжело вздохнула.
— Дорогая моя матушка, — созналась она, — я страдаю и не знаю, как своему горю помочь.
— Ты страдаешь? У тебя горе? Возможно ли? — с удивлением воскликнула та. — При твоем появлении на свет мы назвали тебя Гелией (солнцем), так как решили сделать все от нас зависящее, чтобы устроить твою жизнь счастливой и радостной. Со дня твоего рождения я тщательно старалась уберечь тебя от всего, что могло причинить тебе огорчение. Мы надеялись, что ты будешь нашим солнцем, согревающим нас под старость. И вдруг я слышу, что ты страждешь, терзаешься чем-то… Что ты скрываешь от меня? Прошу тебя, объясни мне, в чем дело?
Рослый мужчина показался в эту минуту в дверях перистиля[36]. По его изящной, благородной осанке и накинутой на плечах тоге можно было безошибочно признать в нем патриция[37]. Он подошел к обеим женщинам.
— Что произошло между вами? — с удивлением спросил он. — Что значат ваши печальные, смущенные лица?
— Видишь ли, Публий, — обратилась мать к своему мужу, — Гелия только что поведала мне о своем горе, которое и было, как теперь для меня ясно, причиной той в ней перемены, которая за последнее время так беспокоила меня.
Римлянин сел возле девушки и, потрепав ее по голове, с хладнокровной улыбкой заметил:
— Ну, это еще невелика беда; все твое горе, дитя мое, заключается, вероятно, в потере какого-нибудь украшения или в разладе с одной из твоих подруг.
Гелия вспыхнула и, гордо подняв голову, сказала:
— Тебе известно, батюшка, что я не дорожу нарядами и украшениями и что у меня лишь одна единственная подруга Виргиния, с которой я никогда не ссорюсь.
Негодование молодой девушки, по-видимому, забавляло сурового римлянина.
— В таком случае, — сказал он, — разреши наше недоумение, объясни нам великое твое горе.
Девушка молчала. Но на ее бледном лице отражалась внутренняя борьба, совершавшаяся в ней. Мать глядела на нее со все возраставшим беспокойством, отец же снедался[38] нетерпением.
— Ну что же, — повелительно возвысил он свой голос, — говори, я тебе приказываю.
Девушка встала и, вся дрожащая, с протянутыми к отцу руками, едва слышно проговорила:
— Батюшка, умоляю тебя, не откажи мне в моей просьбе, позволь мне стать весталкой[39].
Родители с удивлением переглянулись между собой, затем отец проговорил:
— Откуда могло родиться подобное желание в тебе, дитя мое? Ты отлично знаешь, что у нас никогда и мысли не было посвятить тебя алтарю. Это несбыточные мечты. Ведь ты уже почти невеста, Гелия!
— Почти, но еще не совсем, дорогой мой батюшка, и я того только и желаю, чтобы наш брак не состоялся.
— Откуда такое в тебе своеволие? — строго спросил ее отец. — Объясни мне причину, почему ты непременно хочешь быть весталкой.
— Потому, что посвящающие себя алтарю, — склонив голову, отвечала девушка, — пользуются почетом со стороны своих сограждан. Многие женщины нашего происхождения бывали весталками, так позволь же и мне последовать их примеру, ибо в настоящей моей жизни я слыву за презренную в глазах людей. Я не создана для светской жизни. Я люблю тишину уединения. Благоговейное безмолвие, царящее под сводами храма, услаждает мое сердце; тихая жизнь весталок влечет меня к себе. Что может быть выше чистой жизни этих девственниц, посвященных поддержанию вечного, священного огня! Тебе известно, что мать моя часто видит меня в храме; так же и она с удовольствием целые часы проводит там, в беседе с целомудренными жрицами, облеченными в белые одежды, как символ их нравственной чистоты. К тому же еще, старшая жрица, подруга моей матери, сердечно расположена ко мне. Быть может, я найду счастье и покой среди них. Во всяком же случае, я буду чувствовать себя там в совершенной безопасности.
Взгляд римлянина становился все мрачнее.
— Так ты считаешь себя не в безопасности у нас, под родным твоим кровом? — резко спросил он.
Девушка, подняв свой ясный взор на него, спокойно ответила:
— Нет, я не утверждаю этого, батюшка; но мне ведь придется скоро покинуть свой родной дом, так как ты хочешь выдать меня замуж.
— Это для твоего же счастья, дитя мое, — уже более мягким голосом промолвил тот. — Считать тебя низкой, Гелия, могут лишь не знающие тебя и твоих душевных качеств, а потому не обращай на них никакого внимания. Если бы им удалось видеть, как ты без единого звука перенесла прижигание раскаленным железом ноги, укушенной бешеной собакой, то они, конечно, преклонились бы пред твоим изумительным самообладанием. Ты уже неоднократно являла нам необыкновенную силу твоего характера. Когда прошлой осенью, во время бури на море, наш корабль разбился о скалу, все в перепуге потеряли голову; мужчины рвали на себе волосы, умоляя богов о помощи, женщины оглашали воздух раздирающими криками, даже солдаты и те упали духом… Но ты, дочь Сципионов, пребывала столь же невозмутимой и спокойной, как будто бы была дома у себя. Поистине, Гелия, я горжусь и имею право гордиться тобой. Обладая всеми лучшими качествами твоих великих предков, ты составляешь славу и украшение нашего рода.
Во время этой речи отца Гелия краснела от смущения, и лучи радости горели в ее очах ее.
— Я счастлива, что ты доволен мной, дорогой мой батюшка. Но другие, — тихо прибавила она, — думают иначе и не разделяют твоего мнения.
— Какое мне дело до других, — гордо возразил тот.
— Ну, а если в числе этих других — твой будущий зять, — заметила девушка.
— То есть как это? Я не понимаю, объяснись точнее! — сказал Публий, нахмурив брови.
— С удовольствием, батюшка, — согласилась Гелия. — Я никогда не любила Клавдия, за последнее же время он стал мне даже ненавистен. Несколько дней тому назад, когда я отправлялась с матушкой в виллу Туллия, по приглашению на праздник, у меня по пути развязалась сандалия на ноге. Чтобы ее поправить, я поспешила в ближайшую рощу. Услыхав приближавшиеся мужские голоса, я укрылась за деревьями; несколько молодых людей, в том числе и Клавдий, остановились на опушке. Разговор шел обо мне; я слышала свое имя, произносимое ими. Клавдий высмеивал меня, называя низкой, недостойной девчонкой. «Ну какая она римлянка, — говорил он, — когда она не переносит вида крови. Бледная, как смерть, сидит она в цирке во время представления. Я думал, что она лишится чувств на последнем бою гладиаторов, когда вифиниец[40] вонзил свой меч в сердце своего противника».
— Действительно, батюшка, — пояснила Гелия, — я чувствую отвращение к этим кровавым играм. Я положительно не понимаю, как можно считать мужеством хладнокровное созерцание происходящего человекоубийства, и содрогаюсь от ужаса при виде людей, лишающих друг друга жизни, чтобы доставить зрителям хоть временное развлечение. Но вернемся к моему рассказу. Другой молодой человек (судя по голосу, то был Квинт Флавий), разгорячившись, сказал, что я не только низка, но еще лицемерна и глупа, прибавив, что я не умею ни смеяться, как другие молодые девушки, ни понимать самые даже пустые шутки, и что я тщательно избегаю всякого общения с молодежью. «Она создана для уединения, а не для света, — присовокупил он. — Ей следовало бы посвятить себя на служение целомудренной Диане[41] или Церере[42]. Дорогой мой Клавдий, — заключил он, — будущая твоя супруга — воплощение спеси с глупостью. Поздравляю же тебя с таким удачным выбором». Клавдий вне себя от ярости, размахивая руками, стал кричать, что то был вовсе не его выбор, но что отцы с обеих сторон взялись устроить этот брак. «Я презираю ее, эту холодную, лицемерную гордячку, — воскликнул он, — и сумею сломить ее, как только она станет моей. На каждом шагу я начну унижать ее безумную спесь; не будет ни одной общественной игры, ни одного представления в цирке, в которых я не принудил бы ее принять участие, хотя бы для этого мне пришлось насильно тащить ее пред лицом всей толпы. Я заставлю ее всюду бывать, — даже на тех оргиях, которые так избегаются нашими церемонными дамами; мне будет решительно все равно, хоть умирай она при этом от стыда и ужаса». Затем, подняв руки к небу, он поклялся всеми богами Рима, что с того момента, как я стану его женой, он сделает для меня иго супружеской жизни столь же жестким, как то железное обручальное кольцо, которое он, по обычаю, должен будет возложить на меня при венчании.
При этих словах дочери Публий вскочил со своего места со сжатыми кулаками и бледным от гнева лицом и воскликнул, задыхаясь от ярости и негодования:
— А я, Публий, отец твой, клянусь, что никогда, отнюдь никогда ты не будешь принадлежать ему! За его же дерзкие слова, которыми он осмелился позорить тебя, я уж сумею разделаться с ним.
Немного успокоившись, он с любовью обнял девушку.
— Ты никогда не будешь женой Клавдия, я это обещаю тебе, — сказал он. — Но не будешь также и весталкой, дитя мое. Я охотно отдам свою жизнь для славы и величия Рима, посвятить же единственную свою дочь богине Весте, покровительнице жертвенного огня, на это никогда не хватит у меня решимости. Богиня и без тебя найдет себе жриц, необходимых для поддержания священного огня. Довольна ли ты моим решением?
— О, да! Всем сердцем благодарю тебя за это! — сильно растроганная, девушка бросилась на шею своему отцу, глаза которого при этом тоже оросились слезами.
Поцеловав ее в лоб, он подвел Гелию к ее рыдавшей матери и проговорил:
— Теперь успокой твою мать, дитя мое!
Пока Гелия, на коленях пред своей матерью, изо всех сил старалась утешить ее, Публий, приблизившись к своей жене, передал ей письмо и сказал:
— Вот, Виргиния, тебе письмо от брата твоего Тита. Затем я должен сообщить тебе важную новость: о моем назначении начальником Антониевой крепости в Иерусалиме, в силу чего нам надлежит через неделю отправиться в Иудею.
С этими словами Публий удалился.
— Прочти мне письмо, дитя мое, — обратилась мать к дочери, потому что я едва вижу от слез. Когда я заметила письмо в руках твоего отца, я понадеялась было, что это мне весточка из Галлии.
— Дорогая моя, — сказала Гелия, крепко целуя мать и заботливо поправляя подушки, на которых та почивала, — приляг снова, а я тебе прочту письмо. Что же касается вестей от моего брата из Галлии, то ведь и десяти дней еще не прошло, как он писал тебе; у воина же, как тебе известно, обыкновенно мало времени и расположения к писанию.
— Так-то так, — вздохнула мать и, закрыв глаза, приготовилась слушать чтение письма.
Гелия, положив недоплетенный свой венок на голову матери и нежно поцеловав ее в глаза, села у ее ног и принялась развязывать шелковый шнурок, коим было перевязано письмо. Развернув большой пергаментный лист, она начала читать вслух:
«Тит, центурион, своей сестре Виргинии. Привет!
Прежде чем ты узнаешь содержание моего письма, тебе будет уже известно, что твой муж назначен начальником Антониевой крепости; это позволяет мне надеяться вскоре свидеться с вами в Иерусалиме. Привезите с собой дорогую мою дочь, я жду не дождусь поскорей расцеловать ее, хотя это свидание при всей своей радости не будет лишено и грустных воспоминаний, ибо со смерти ее матери вот уж два года я не виделся с единственным моим ребенком. Часто спрашиваю я себя: переменилась ли она? Все еще походит ли она на незабвенную свою покойную мать? Уже три месяца, как я приехал из Галлии. В первый же выдавшийся свободный день я отправился в Вифлеем; меня так и влекло вновь повидать места, где протекали счастливые годы моего детства.
Прежний наш дом оказался сильно запущенным и без жильцов. Долго блуждал я по старому саду, каждая дорожка, каждое дерево которого воскрешали в моей памяти былое счастливое, беззаботное время детства, которое начинаешь ценить лишь с утратой его. Я настолько погрузился в созерцание прошлого, что, казалось, слышал звавший меня, как тогда, голос Афры, спешившей ко мне по прямой аллее. При взгляде на террасу, некогда излюбленное твое местонахождение, мне так и представилась ты в образе молодой еще девушки, играющей на лютне, доставлявшей тогда такое большое мне удовольствие.
Отдавшись этим воспоминаниям, я совершенно забыл, что то была не действительность, что я уже солдат. Сердце мое умилилось, и глаза наполнились слезами. Косые лучи заходящего солнца золотили кровлю соседнего раввинова дома. Был час, когда вся семья собиралась, обыкновенно, на террасе для вечерней молитвы. Мне так и казалось, что вот-вот сейчас появится левит с женой, почтенной старушкой-матерью, прелестной Рахилью и двумя мальчиками. Кто-то, действительно, показался на террасе; но то была женщина в египетском костюме; она остановилась в изумлении и, казалось, с большим интересом следила за мной. При виде ее мне вспомнилась бывшая подруга твоя Ира. Обернувшись к дому врача, я увидел одни лишь почерневшие от дыма развалины; все было опустошено пожаром. Эти дорогие воспоминания еще более разожгли во мне пламенное желание повидать мою девочку, тебя, дорогая сестра, и твою Гелию. Вы теперь одни у меня, с тех пор как я лишился своей Клелии.
Приезжайте же скорей и не откладывайте вашего отъезда. Как только я узнал о новом назначении Публия, я поспешил снять для вас наше прежнее помещение в Вифлееме, потому что по случаю наступающей еврейской пасхи многолюдство, шум и суетня в Иерусалиме будут невыносимые. В Вифлееме же вы будете наслаждаться чистым воздухом, тишиной и спокойствием, которые ты так любишь. Кроме того, подумалось мне, ты будешь довольна стать снова вифлеемлянкой, ибо не могу забыть, с какой некогда жалостью расставалась ты с этими дорогими местами нашего детства.
Сообщу еще одну тебе новость: женщина, о которой я тебе только что писал, что видел ее на террасе Садокова дома, оказалась, действительно, Ирой. Но уже не прежней, веселой, беззаботной Ирой, а женщиной, иссушенной и подавленной горем, вдовой, потерявшей шестерых детей. Она приехала в Иудею с единственным оставшимся в живых у нее сыном. Весьма удивительной показалась нам, после стольких лет, наша встреча друг с другом на прежнем месте. Не менее удивительна и цель, побудившая Иру с сыном вернуться в Иудею. Они покинули Фивы, чтобы стать учениками одного израильского Пророка, слава о Котором достигла даже Египта.
Этот Мессия, как Его называют, действительно, совершенно необыкновенный Человек. Я Его знаю; мне не раз удавалось слышать Его наставления; сердце Его исполнено беспредельной любви ко всем, даже к рабам и негодяям. Он говорит, что пришел в мир благовествовать спасение всем без различия и без исключения. И знаешь ли, сестра, Кто такой Этот Мессия? Это Тот самый Младенец, Который родился в Вифлееме в ту памятную ночь, когда небо чудесными знамениями возвестило миру явление Его, ставшее предметом толков по всей Иудее.
Я помню, хоть и смутно, как, приведенный тобой поутру в гостиницу, я увидел новорожденного Младенца в яслях. Итак, Мессия, в настоящее время покоряющий себе людские сердца, есть именно Тот Самый, теперь уже возросший, Малютка. Кончаю свое длинное послание.
Да хранят вас боги во время вашего путешествия!
Я же всегда горячо молюсь за ваше благоденствие и с нетерпением отсчитываю часы, остающиеся еще до вашего прибытия».
Гелия, углубленная в чтение дядиного письма, не замечала душевного волнения, отражавшегося на лице ее матери. Крик радости вырвался из груди Виргинии, когда девушка окончила чтение. Подняв руки к небу, с благоговением она воскликнула:
— Будь благословен Бог из Вифлеема! Наконец-то внял Ты молению моему!
Гелия с удивлением глядела на нее. Она слышала часто, как ее мать возносила молитвы Этому неведомому вифлеемскому Богу, но на все свои вопросы о Нем получала всегда какой-нибудь неясный, уклончивый ответ от своей матери. Ей было известно лишь то, что это был Бог чужого народа. Вместо прямого ответа на беспрестанные пытливые вопросы своей дочери Виргиния ограничивалась всегда лишь сообщением ей подробностей событий чудесного рождения Мессии, свидетельницей которых была она, быв еще девушкой.
— Как же называют Его, матушка? — спросила девушка.
— Называют Его, — собравшись мыслями, ответила Виргиния: — Чудный Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира (Ис.9:6).
— Так у Него много имен, — воскликнула изумленная Гелия!
— У Него есть еще одно имя, — тихо прибавила Виргиния, — наиболее распространенное, а именно — Иисус, что значит Спаситель, ибо Он явился спасти людей от грехов,
— А что такое грех, матушка? — спросила девушка.
— Вот уже с лишком тридцать лет, — открылась Виргиния, — как этот же вопрос интересует и меня, а я все не могу разрешить его для себя. Но мы узнаем это скоро, дитя мое, так как мы отправляемся в Иудею и можем у Него Самого спросить обо всем, что нас смущает.
Глава III. Хеврон
Двое молодых людей, юноша лет шестнадцати-семнадцати и девочка лет четырнадцати, оживленно беседуя, прогуливались в дубовом лесу, покрывавшем одну из гор, окружавших долину древнего библейского города Хеврона. По восторженным взглядам и жестам юноши, равно как по напряженному вниманию слушавшей его девочки, можно было с достоверностью заключить, что какой-нибудь животрепещущий вопрос был предметом их беседы.
— Все, все рассказывай мне, Вениамин; всякая мельчайшая подробность интересует меня, — с нетерпением приставала девочка к юноше каждый раз, когда тот, останавливаясь, умолкал, чтобы перевести дух.
С новым рвением принимался тогда молодой человек за прерванное свое повествование:
— В неописуемом восторге и радости, — продолжал он, — несметная толпа на огромном протяжении окружала Его шествие, приближавшееся по спуску с Елеонской горы к Ефремовым воротам. Римские солдаты, со сторожевой башни заметившее это необычайное движение, построившись у решетки, вознамерились было загородить вход, но это было так же невозможно, как если бы им захотелось удержать напор разливающегося потока. Вся необозримая масса народа устремилась в город, население которого уже собралось на террасах своих домов, восторженными криками приветствуя шествие; толпа умножалась на каждом шагу; движение по улицам становилось все более и более затруднительным; неудержимой волной так и несло по направлению к храму. Узнав о Его приближении, мы, левиты, все как один человек, без всякого предварительного сговора, вышли Ему навстречу, предшествуемые посвященными Богу детьми. Мы достигли больших ворот как раз в момент Его входа. Я как сейчас вижу Его, спокойно сидящего на молодом осле, божественно невозмутимого среди окружавшего Его бешеного возбуждения и крика. Ах! Если бы ты только видела Его взгляд, исполненный небесного величия и в то же время бесконечной любви и кротости! Глубочайшая вдруг воцарилась тишина, когда мы приступили к Нему, чтобы создать должное Ему почтение; свежие детские голоса воспели Ему хвалебное «Осанна!», вслед за которым громовое «Осанна! Осанна!» грянуло из уст всей несметной толпы и как бесконечное, несмолкаемое эхо долго переливалось из конца в конец. Он сошел с осленка и направился в притвор. Подойдя к частоколу, за которым содержались овцы, Он взял несколько веревок, коими связывались ягнята, предназначенные для жертвоприношения и, к великому нашему изумлению, стал сплетать бич из них. Двор, между тем, все более и более наполнялся народом. Не подымая глаз, Он спокойно продолжал Свое дело. Выражение лица Его изменилось, лучезарная красота омрачилась какой-то тучей, строгое выражение как бы некоего верховного Судьи придало суровый вид Его чертам. С трепетом, глаз не сводя с Него, в каком-то безотчетном, сверхъестественном страхе все ожидали чего-то особенного. Зловещая водворилась кругом тишина. Но вот Он обернулся к стене, у которой находились меновщики денег; эти последние, недовольные Его приходом, остановившим их барыши, с досадой враждебно глядели на Него. Устремив на них Свой проницательный, исполненный гнева взгляд, повергший их в ужас и смущение, и потрясая бичом, Он громким голосом, обратившись к ним, воззвал: «Прочь отсюда, вы, превращающие дом Отца Моего в вертеп разбойников!» В паническом страхе, без оглядки, бросая серебро, составлявшее весь интерес их в жизни, пустились они бежать вон из притвора, тогда как Он стал опрокидывать их столы, причем деньги со звоном так и рассыпались по каменным плитам двора. Затем, пройдя сквозь толпу, Он остановился под колоннадой возле внутреннего двора и Своим обычным спокойным голосом, как будто ничего не бывало, стал учить народ. Тут приступило к Нему множество слепых и хромых, осаждая Его слезными просьбами о помощи. Он всех исцелил, и вот снова восторженное «Осанна!» смешалось с криками радости и благодарности этих несчастных, которых Он благоволил вернуть к счастью. В это самое время из внутренних дверей храма показалась группа священников и книжников; снедаемые завистью и ненавистью, подойдя к Нему, они стали требовать, чтобы Он объяснил им, какою властью Он это делает. Не удовлетворившись Его ответом, злобным взглядом окинув слушавших Его проповедь и в особенности нас, левитов, группировавшихся непосредственно возле Него, они удалились, откуда пришли. Причем, как бы в ответ на эту их враждебную против Него выходку, новый взрыв «Осанна!» огласил воздух. Все смолкли и с напряженным вниманием принялись слушать полные милосердия и любви слова Его проповеди. Незаметно прошел, таким образом, весь день. О еде и питье никому и на ум не шло: божественное Слово Его насыщало и питало нас.
— День уже стал склоняться к вечеру, — продолжал Вениамин. — Собираясь уходить, Он остановил Свой взор на белых стенах и позолоченных вершинах храма, блестевших на солнце, затем пристально взглянул на нас и всех окружавших Его. О, я никогда не забуду этого взгляда, но я не в состоянии тебе передать его, сестра. В нем сказывалось как бы последнее прощание бесконечно любящего сердца, хотя Он был в это время на недосягаемой для смертного высоте славы и величия. Притаив дыхание, народ не сводил с Него глаз; затем толпа расступилась, и Он тихо вышел из храма. Навсегда памятной пребудет для нас ночь, сменившая этот знаменательный день! Никогда еще не пели мы псалмы с таким одушевлением как тогда; причем это пение прерывалось беспрестанными возгласами: «Осанна!» Никто из нас не спал в ту ночь!
— Хотя слава Господа видимым образом и не наполняла храм, но мы явственно ощущали непосредственную близость Его. Эммануил воистину были среди нас. На следующее утро, очень рано Он снова пришел в храм из Вифании, где ночевал. Второй день прошел так же в усердном слушании Его святых речей. Выражение лица Его однако становилось все серьезней и печальней. Кротко-задумчивый взгляд Его вызывал слезы сострадания в нас. Я оставил Иерусалим нынче утром, чтобы сообщить вам все это, но завтра с рассветом я опять пойду туда. Он непременно будет в храме, я же не хочу пропустить ни одного из Его слов, проникающих до глубины души и обладающих какой-то сверхъестественной силой. Но, Асенат, мне делается страшно за Него, так как первосвященники и книжники, сильно возбужденные против Него, только и думают, как бы погубить Его. Он же, я знаю, никогда не дозволит нам силой вступиться за Него…
* * *
В обширной комнате с оштукатуренными стенами, среди простой меблировки, на одной из четырех кроватей мы видим мать с грудным младенцем на руках. Женщина время от времени делает знаки трем другим своим детям — девочке и двум мальчикам, занимавшим остальные три кроватки, чтобы они держали себя спокойней и не мешали малютке спать. Три детские головки, однако, не могут успокоиться и беспрестанно заглядывают в дверь. Дверь, наконец, открывается, и дети криком радости приветствуют входящую.
— Уже давно я жду тебя, Асенат, — обратилась мать к своей старшей дочери. — Ты что-то поздно возвращаешься сегодня.
— Прости меня, дорогая, — ответила девочка. — Вениамин рассказывал мне про Иерусалим и Мессию. Мы зашли в лес и, поглощенные беседою, не заметили, как заблудились. Я про все забыла, слушая Вениамина.
— Ну хорошо, — с улыбкой заметила мать.
— Теперь же, однако, побудь с детьми, — прибавила она и удалилась из детской.
— А где же лилии, которые ты мне обещала принести, Асенат? — спросила маленькая кудрявая Руфь.
— Ах, душечка, я их и забыла.
— Но не плачь, моя девочка, — присовокупила она, видя, что слезы стали выступать на глазенках маленькой Руфи. — Завтра же вместе мы пойдем за ними. Я совершенно забыла про твои любимые цветы, заслушиваясь дивным рассказом Вениамина об Иисусе. Помните ли вы тот день, когда мы с матушкой подвели вас к Нему под благословенье?

— Да, да, да, — воскликнули все три голоска разом.
— А припоминаете ли вы Его милостивые слова, обращенные тогда к вам, равно как и к другим детям, бывшим с вами?
— Отлично помним!
Причем дети, перебивая друг друга, повторили слышанное: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
Асенат рассказала им про радость детей, посвященных храму, при встрече их с Мессией, после чего она тихо пропела им несколько псалмов, пока они не уснули. Тогда она поднялась на террасу, где застала своего отца, мать и брата, все еще беседующих о Мессии.
Вениамин рассказывал, а родители с благоговением его слушали. Так прошел вечер. Наступила ночь, взошла луна и своим серебристым светом залила все вокруг.
Вдали с террасы виднелись белые стены гробницы Авраама и тот холм, на вершине которого Господь под видом трех ангелов, явившись патриарху, обещал ему Сына, в Котором обещано благословение всем племенам земным (ср. Быт.12:1-3). Созерцая эти священные места, левит с женой усердно внимали словам сына, с красноречием повествовавшего им о Спасителе, уже столько веков бывшем предметом чаяния Израиля.
Была глубокая ночь, когда они стали расходиться.
— Итак, ты во что бы то ни стало намерен вернуться в Иерусалим, — спросил Халев, благословляя своего сына. — Но стоит ли отправляться всего на два дня?
— О, конечно! — с воодушевлением воскликнул юноша. — Даже если бы всего на два часа, то и тогда стоило бы! О, не препятствуй мне, отец; я не хотел бы упустить ни одного из святых Слов Его.
— Ступай, дитя мое, — ответил Левит, — я тебе не препятствую. Иди, и да благословит тебя Господь.
— Отправляйся, сын мой, — прибавила Рахиль, целуя юношу в разгоряченную его голову, — но не забудь вернуться к семейному нашему празднику; через три дня мы ждем тебя к Пасхе.
Глава IV. Вифлеем
Виргиния в сильном волнении прохаживалась взад и вперед по террасе старинного дома, в котором она провела свое детство. Были сумерки. Последние лучи заходящего солнца позлащали очертания отдаленных гор. Тут же на террасе находилась Гелия со своей двоюродной сестрой, обе девушки имели унылый, задумчивый вид.
Неподалеку от них стоял Анана со своей матерью.
Чудесная перемена заметна была во всем виде Иры; прежнее выражение глубокой тоски и печали сменилось выражением тихого спокойствия и внутреннего мира. Прежде задумчивый, затуманенный взор ее стал ясным, отражающим в себе что-то высшее, неземное, небесное.
— Так разве мне легче от этого? — со страстью воскликнула Виргиния, не перестававшая ходить по террасе. — К чему мне знать, что Он жив, когда мне уже невозможно больше видеть Его? Вот уже более тридцати лет, как мое сердце томится пламенной жаждой Его. Во все время моего длинного путешествия из Рима я только и думала, что о Нем. Я утешалась мыслью, что наконец-то обрету в Нем то, чего никакие, самые изысканные земные удовольствия не могли мне дать. Первым вопросом моим по прибыли в Иерусалим был: «Здесь ли Мессия?», так как я хотела тотчас же к Нему идти. И вот тут-то, в ответ на это Тит рассказал мне возмутительные подробности жестокой, беспримерной казни Праведника. Невозможно передать вам всю силу моего горя и отчаяния; в ту минуту душа замерла во мне. Тит не переставал утешать меня словами, что Распятый воистину был Сыном Божиим. Но разве это могло утешить меня, если я это знала раньше него! Тит находился все время возле Креста, видел Его последние минуты, был свидетелем положения в гроб Его тела и очевидцем наложения иудеями печати на входной камень пещеры. Вы объявляете мне о Его Воскресении, но что мне пользы от этого, когда Он вернулся на небо, став недоступным уже ни для моего зрения, ни для моего слуха!
— Я положительно не понимаю, тебя, Ира, — прибавила, она, обращаясь к подруге своего детства. — Я думала встретить тебя подавленной бременем горя и вдруг вижу тебя довольной и счастливой! Ты утверждаешь, что твоя одинокая, полная испытаний жизнь стала лишь одной сплошной радостью с тех пор как ты познала Христа! Мне это непонятно. Конечно, тебе, по крайней мере, посчастливилось видеть Его, говорить с Ним и слышать божественные слова Его! Я же, к сожалению, прибыла уже слишком поздно!
— Увы мне! Мне уже вовек не видать Его!
С этими словами Виргиния, едва не лишившись чувств, обливаясь горькими слезами, опустилась на сиденье из подушек.
— «Счастливы те, кто не видели и уверовали», — сказал Он Сам, быв еще на земле, — заметил Анана в утешение римлянке.
Виргиния подняла голову.
— Подлинно ли произнес Он эти слова? — воскликнула она.
— Но что мне делать, — подавленным голосом прибавила она, — чтобы уверовать?
— Что же невероятного в том, — стал убеждать ее Анана, — что сбросил с Себя оковы смерти Тот, Кто имел власть воскрешать других?
— Быть может, все это и так, но зачем же тогда дозволил Он совершить над Собой позорную казнь, применявшуюся к рабам и злодеям? — сказала римлянка, содрогаясь от ужаса.
— Значит, это несомненно нужно было для высших целей, — спокойно ответила Ира. — Видишь ли, вот перед нами посеяна пшеница, она уже созрела для жатвы, каждый колос ее принес сторичный плод. Но это могло случиться лишь после смерти зерна, зарытого в землю. Поверь мне, дорогая моя, что Господь в тысячу раз могущественнее и ближе к нам теперь, чем тогда — как Сын человеческий, Он был ограничен известными пределами на земле. Воистину, теперь Он «Эммануил: везде, всегда с нами Бог!» Не отчаивайся, Виргиния, и ты вскоре уверуешь в Него. Знаешь ли, что Господь благоволил явиться именно женщине раньше других по Своем Воскресении? Не дождавшись рассвета, она отправилась поплакать к Его гробу; было почти еще совсем темно, когда Воскресший Иисус приблизился к ней и заговорил. Плохо различая в сумерках, убитая к тому же безысходным горем, она не узнала Его голоса. Тогда Он назвал ее по имени, и она тотчас припала к ногам Его, восторженно взывая: «Раввуни! Учитель мой!» Вот то же будет и с тобой. Ты разыскиваешь Его во тьме, но вскоре засветит Солнце и радостью зальет сердце твое.
— О, если бы это сбылось, если бы только я могла уверовать в Него! — с грустью воскликнула Виргиния.
— Ты будешь в числе верующих, — сказала Ира. — Тебе не пришлось Его видеть, но ты, однако, полюбишь Его. Впрочем, ты уже и теперь Его любишь, не так ли?
— О, я люблю Его вот уже целых тридцать лет, — ответила та с умилением.
— Я сведу тебя, — продолжала Ира, — к тем, которые лучше моего сумеют рассказать тебе про Господа. Пойдем завтра в Хеврон к Рахили. Ее муж и сын — ревностнейшие ученики Спасителя и в наилучших отношениях со всеми бывшими неотлучно при Нем во время земной Его жизни.
* * *
Было раннее утро. Солнце еще только что встало и яркими лучами осветило Вифлеемскую долину. Группа христиан в белых одеждах, оглашенных, приблизилась к живописному ручью, тихо катившему свои прозрачные воды, одному из тех, возле которых праотец Давид любил воспевать Творца. Здесь, на зеленой траве, орошенной этими тихими водами, собрались и богатый, и бедный, и старый, и молодой, и знатный, и худородный со своими детьми. Одни из Европы, другие из Азии и Африки, чтобы всецело посвятить себя Распятому.
Крестивший их был один из приближеннейших ко Христу во время Его земного странствия.
— Я крещу вас, — объявил он, — во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Чрез это крещение вы погребаетесь с Ним в Его смерти, дабы, как Он воскрес из мертвых, и вы восстали к новой жизни. Да будете вы с этих пор мертвы для своеволия, живы же для беспредельной любви к Нему и тем, кто искуплены Его Святою Кровию. Помните, что Он опять придет и потребует от вас отчета во всем, что вы получили от Него. Когда это будет? Неизвестно! Быть может, завтра, но, может быть, и через сотни еще лет! Тысяча лет — как день перед Ним. Но не ослабевайте в сем усердном ожидании Его, памятуя всегда избранный народ Его, столько веков непоколебимо ожидавший Его и не обманувшийся в своем ожидании. На этом самом месте, где мы сейчас стоим, ангелы явились пастухам и возвестили о рождении Мессии.
Подняв очи к небу и указывая на небольшое освещенное солнцем облачко над их головами, он прибавил:
— Всякое облачко, пересекающее синеву небес, да напоминает вам то дивное облако, которое скрыло Его от нас при Его восхождении к Отцу Небесному, а также слова Ангела, при этом сказанные: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».
Итак, всегда будем ожидать Второе славное Его к нам Пришествие и не будем унывать при этом, каждодневно утешаясь и укрепляясь последним Его неложным обещанием «пребывать с нами во все дни до скончания века».
— С нас довольно этого: Эммануил, воистину, — «С нами Бог!»
В. Б-ский
Журнал «Отдых Христианина», апрель, май, июль 1901 года

Серебряный крестик
Перевод с французского Зенькович
Глава I. Пир у Понтия Пилата
У Понтия Пилата, наместника императора Тиверия в земле Израильской, был званый вечер.
К концу дня в доме знатного римлянина собралось самое блестящее общество Иepyсалима. Дом этот, как и дома других богачей, был сложен из камня, оштукатурен и выкрашен в красный цвет. Четырехугольный двор, окруженный галереей мраморных столбов, вел в роскошные внутренние покои. На самой середине двора был фонтан, дававший отрадную прохладу под лучами палящего солнца Палестины. Подле фонтана росла огромная пальма, защищавшая его от полуденного зноя.
Прямо со двора гость попадал в переднюю, полную слуг, а затем в пиршественный зал, отделанный санталовым деревом и слоновою костью.
Вокруг стола стояли лимонного дерева скамьи, покрытые богатыми коврами. По обычаю страны, женщины, приглашенные на пир, привели каждая свою рабыню, которая во время пира стояла позади госпожи.
Благодаря этому рабыня Женевьева, жена Фергана, и стала свидетельницей (о чем она теперь нам и рассказывает) того времени, когда она сопровождала на пир Пилата свою хозяйку Аврелию.
Общество было избранное. Среди знатных гостей присутствовали: Борух, член синедриона и книжник, Куза, помощник Ирода, который под владычеством Рима был тетрархом или князем Иудеи, Гермион, присланный сюда недавно из римской Галлии в качестве хранителя казны, Иона, один из богатейших менял Иерусалима, и, наконец, Каиафа, один из еврейских первосвященников.
Среди женщин, участвовавших на празднестве, три приковывали к себе внимание: Лукреция, жена Понтия Пилата, Аврелия, жена Гермиона, и Иоганна, жена Кузы.
Красивейшими же в обществе, собравшемся в этот раз у Понтия Пилата, были Иоганна и Аврелия.
Иоганна обладала красотою, свойственною Востоку: большие черные глаза, одновременно кроткие и живые, зубы, белизна которых казалась еще более ослепительной благодаря ее смуглой коже. Тюрбан ее из дорогой пурпуровой Тирской ткани был окаймлен толстой золотой цепью, оба конца которой обрамляли ее лоб, наполовину скрытый под роскошными черными косами, и ниспадали на ее плечи.

На ней было длинное белое платье, покрой которого позволял видеть ее обнаженные, украшенные золотыми браслетами руки. Сверх этой одежды, перехваченной в поясе шарфом того же цвета, что и тюрбан, она носила открытую кофту из оранжевого шелка, без рукавов. Черты лица Иоганны носили отпечаток кротости, а улыбка ее была полна располагающей к ней всех без исключения доброты.
Супруга Гермиона, родившаяся от римлян в южной Галлии, была также прекрасна и, по обычаю своей страны, одета в две туники: одна длинная — ярко-розовая, другая короткая — небесно-голубого цвета. Золотая сетка покрывала ее каштановые волосы. Кожа ее была столь же бела, как кожа Иоганны темна. Большие голубые глаза сияли шаловливым, веселым блеском, а свежая улыбка говорила о ее неизменно хорошем настроении.
Член синедриона, Борух, один из ученейших книжников, занимал на пиру почетное место. По-видимому, он любил хорошо поесть, — его зеленый тюрбан почти все время склонялся над тарелкой, и раза два ему пришлось ослабить пояс, поддерживавший его длинный лиловый плащ, обшитый длинной серебряной бахромой.
Жадность толстого советника вызывала частые усмешки и заставляла перешептываться Иоганну и Аврелию, которые сразу подружились и сидели рядом. За ними стояла Женевьева, которая, не пропуская ни одного их слова, внимательно прислушивалась ко всему, что вообще здесь говорилось.
Иона, один из богатейших менял во всем Иерусалиме, имел на голове маленький тюрбан и был одет в коричневый плащ. Его острые седые бакенбарды придавали ему сходство с хищной птицей. Время от времени он тихим голосом обращался к книжнику, который, не переставая есть, изредка отвечал ему. Первосвященник Каиафа, Гермион, Понтий Пилат и прочие, каждый, вели свой частный разговор.
К концу пира, когда книжник удовлетворил свой аппетит, он провел пухлой рукой по бороде и промолвил, обращаясь ко вновь прибывшему в Иудею сборщику дани.
— Попривыкли ли вы, господин Гермион, к нашей бедной стране? Для вас ведь это большая перемена, после римской Галлии… А какой переезд вы сделали!
— Я люблю видеть чужие земли, — отвечал Гермион, — и моя служба по надзору за поступлением дани в казну дает мне часто повод к тому.
— К несчастью, вы прибыли в Иудею, — вставил Иона, — в тяжелое и скверное время.
— Как так? — спросил Гермион.
— Разве не тяжело живется в то время, когда живешь под страхом мятежа и волнений? — снова спросил меняла.
— Конечно, — отвечал Гермион. — Но о каких волнениях вы говорите?
— Мой друг Иона, — вмешался книжник Борух, — имеет в виду грустные беспорядки, зачинщиком которых является Назаретский Учитель повсюду, куда бы Он ни показывался, и которые возрастают с каждым днем.
— Ага, — ответил Гермион, — вы разумеете Плотника из Галилеи, Который родился в яслях? Он собирается совершить путешествие по стране… Как Его зовут?
— Если назвать Его именем, которого он стоит, — гневными голосом, воскликнул книжник, — его надо звать преступником… безбожником… обманщиком… Но Его зовут Иисусом.
— Ну, Этого-то Учителя, — промолвил Понтий Пилат, — бояться нечего.
— Господин Понтий Пилат, — воскликнул книжник тоном упрека, — я вас не понимаю. Вы представитель нашего защитника, великого государя Тиверия, который для нас — мирных и честных людей — необходимое прибежище, ибо без ваших войск чернь давно бы восстала против князя нашего Ирода. Однако вы все так же беззаботны относительно деяний и разговоров Назарянина и считаете Его сумасшедшим… Ах, господин Понтий Пилат… Сегодня не впервые говорю я с вами: такого рода сумасшедшие опасны для общества!
— А я повторяю вам, — возразил Понтий Пилат, протягивая свой порожний кубок стоящему сзади рабу, — вы напрасно беспокоитесь. Предоставьте Назарянину право говорить, и слова Его пройдут, словно ветер.
— Господин Борух, вы, однако, очень не любите Этого молодого Человека? — сказала Иоганна своим мягким голосом. — Одно имя Его уже выводит вас из себя.
— Конечно, я Его не люблю, — отвечал книжник, — и это вполне справедливо, потому что Он никого не уважает. Он не только оскорбил меня лично, но в моем лице оскорбил моих собратьев по синедриону. Знаете, что осмелился Он сказать мне дня два назад на площади, у храма, когда я шел мимо?
— Что же это были за ужасные слова, господин Борух? — спросила, улыбаясь, Иоганна. — Это, верно, что-нибудь возмутительное?!
— Возмутительное — мало сказать… Ужасное, неслыханное! — возразил книжник. — Я проходил по площади, как я только что сказал, когда пообедал у друга моего Самуила!.. Еще издали заметил я кучку нищих в лохмотьях, а также ремесленников, погонщиков верблюдов и ослов, женщин, пользующихся дурною славой, беспризорных детей и всякого народа самого низкого разбора, которые жадно слушали молодого Человека, Который, взобравшись на камень, говорил во весь голос. Вдруг Он указывает на меня. Вся шайка оборачивается в мою сторону, и я слышу, как Назарянин — Его я угадал по окружавшей Его толпе — говорит Своей стае: «Берегитесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и принимать приветствия на площадях; любят восседать в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах»[43].
— Должны же вы согласиться, господин Понтий Пилат, — сказал опять Иона, — что дальше дерзость идти уже не может.
— А мне кажется, — смеясь, прошептала Аврелия Иоганне, указывая на почетное место, занимаемое книжником за столом, — мне скажется, что все это как раз относится к господину Боруху.
— Вот потому-то он и ненавидит молодого Назарянина, Которому противно всякое лицемерие, — ответила Иоганна, между тем, как Борух продолжал, все более и более выходя из себя:
— Но, господа, далее последовало: «Остерегайтесь сих, поядающих домы вдов, напоказ долго молящихся. Они примут тягчайшее осуждение»[44]… Да, это слышал я из собственных уст Назарянина. Скажу вам, господин Понтий Пилат: что если этой дерзости, смеющей нападать на авторитет книжников, иначе говоря, касаться самого закона и правительства, не будет положен предел, а будет дозволено и впредь безнаказанно тыкать пальцем на членов синедриона, обращая их в предмет всеобщей ненависти и презрения, — мы ходим по краю пропасти!
— Оставьте Его, — снова повторил Пилат, осушая свой большой кубок. — Пусть Он говорит… И да здравствует радость!..
— Нельзя жить весело, господин Понтий Пилат, когда предвидишь большие несчастья, — возразил Иона. — Я открыто заявляю, что опасения моего достойного друга Боруха слишком основательны, и присоединяюсь к нему: мы на краю пропасти, ибо дерзость Этого Учителя переходит всякие границы. Он ничего не чтит, положительно ничего. Вчера нападал Он на закон и на правителей, сегодня Он возмущает народ против богатых… Разве не Он произнес эти отвратительные слова: «Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Божие»[45]?
При этом со всех сторон послышались возгласы:
— Это возмутительно!
— К чему это приведет?
— Ко всеобщему несчастью и общей слабости, как только что заметил уважаемый господин Борух.
— Стало быть, все мы, хранящие золото в своих сундуках, обречены геенне огненной!
— Сравнивать с верблюдами, которые не могут пройти сквозь игольные уши!
— И эти безбожные слова говорятся Назаретским Учителем для того, чтобы подольститься к народу.
— Чтобы возбудить его на грабеж богачей.
— Но это еще не все, — вмешался Каиафа. — Назарянин не только поносит закон, правительство, богатство, но с не меньшей дерзостью нападает на веру наших отцов. Так, в пятой книге Моисея сказано: «Не берите процентов с братьев ваших, а только с чужеземцев…»[46]. Заметьте это! Только с чужеземцев. Хорошо! Презирая предписания нашей священной веры, Назарянин воображает Себя вправе говорить: «Творите добро всем и давайте взаймы, не надеясь получить что-нибудь[47]. Нельзя одновременно служить Богу и мамоне[48]». Религия наша точно объявляет, что брать проценты на свои деньги с чужеземцев — дозволено, а Назарянин, оскорбляя Святое Писание в одной из его важнейших заповедей, отвергает то, что им утверждено, и запрещает им дозволенное…
— По праву язычника, — возразил Пилат, все более и более возбуждаясь, — я могу не принимать участия в этом споре… Всей душой обращаюсь я к нашему богу Бахусу!..[49] Вина, раб, еще вина!
— Но господин Понтий Пилат, — вмешался Иона, который с трудом сдерживал свой гнев против римского равнодушия.— Если даже отбросить безбожие, вы должны же согласиться, что в речах Назарянина нет здравого смысла; позвольте спросить вас, господа, что стало бы тогда с нашею торговлей…
— Это в корне подрывает всякое богатство.
— Что стану я делать с золотом в моих сундуках, если я не могу получать на него барыши, отдавая и не надеясь что-нибудь выиграть, как говорит Назаретский проповедник всяких новшеств. Право, это было бы смешно… если бы не было так возмутительно.

— Дело идет не о единичном нападке на нашу религию, — снова заговорил Каиафа. — у Назарянина целая система для посрамления и подрыва веры наших отцов; еще недавно дал Он тому новое доказательство. Несколько дней тому назад несколько больных отправились в Силоамскую купальню…
— У овечьих ворот?
— Именно… Была суббота; а вам, господа, известно, как строго и свято запрещено что бы ни было делать в день субботний…
— Для каждого богобоязненного человека это равняется тому, чтобы впасть в страшный грех.
— Судите же теперь о поведении Назарянина, — продолжал Каиафа. — Он идет к источнику… Заметьте, между прочим, Он в преступной хитрости, чтобы разорить врачей, не стесняется ничем, чтобы доказать свое врачебное искусство…
— Как хотите вы, господин Каиафа, чтобы человек, ничего не уважающий, церемонился с врачами?
— Назарянин направляется к колодцу; там среди других находился человек с поврежденной ногой, которую тот и исцеляет.
— Как? В субботу?
— Неужели Он осмелился?
— Ужасно!
— Исцелять в день субботний… Какое безбожие!
— Увы, господа, — ответил первосвященник жалобным голосом. — Он повинен в этом грехе!
— Если бы молодой Человек не исцелил больного, — улыбаясь, шепнула Аврелия соседке, — я еще могла бы понять их гнев.
— Такое безбожие, — добавил Борух, — заслуживает смертной казни, ибо невозможно нанести нашей религии более тягчайшего оскорбления!
— Не думайте, однако, — не останавливался Каиафа, — чтобы Назарянин старался скрыть Свое богохульство, стыдился бы его… Отнюдь, нет! Его дерзость простирается так далеко, что Он глумится над субботой и говорит, что соблюдающие ее — лицемеры…
Ропот негодования был ответом на эти слова: столь неслыханным казалось богохульство Назарянина гостям Пилата… А последний опоражнял кубок за кубком, словно не обращая внимания на то, что говорилось вокруг.
— Нет, господин Каиафа, — взволнованно промолвил Иона. — Если бы не вы сами рассказывали эти ужасы, я, право, усомнился бы.
— Я говорю из вполне точных источников, потому что, как мне кажется, по крайней мере, мне удалось подослать к Назарянину ловких людей, которые прикинулись Его сторонниками. Они вызывают Его на разговоры, Он с полным доверием открывает им душу… а они передают все нам.
— Это великолепно, господин Каиафа. Слава вам!
— Благодаря этим подосланным, — продолжал первосвященник, — третьего дня я узнал о мятежных речах Иисуса, которые должны поднять рабов на господ их.
— Каков негодяй! Но что задумал Он?
— А вот Его подлинные слова, послушайте-ка: «Ученик не больше учителя, и слуга не выше господина своего. Ученику довольно быть, как учитель его, а слуге, как господин его»[50].
Снова послышался ропот негодования и возмущения.
— Это еще скромно для Этого Иисуса! — воскликнул меняла Иона.
— В самом деле? Довольно слуге, если он равен господину своему! Иисус Назорей согласен на это! Он допускает, что раб не больше господина своего… Благодарим покорно!
— Представим себе, однако, — добавил книжник, — следствия этого учения, если бы оно получило распространение. Пока слуг нет, мы можем говорить с вами свободно. В тот самый день, когда слуга сочтет себя равным господину, он станет думать: «Если я равен господину моему, он не имеет права держать меня в рабстве, я имею право восстать!» А вы знаете, господа, куда повело бы такое восстание?
— Это расторгло бы все общественные узы!
— Повело бы к концу мира.
— Создало бы истинный хаос, потому что хаос должен быть следствием разнузданности отвратительнейших страстей черни; Он сулит золото и всякую благодать, лишь бы создать Себе сторонников; разжигает их зависть, говоря, что в день суда первые будут последними, а последние будут первыми.
— Да, в Царствии Небесном, — вставила Иоганна кротким, но твердым голосом. — Так думает молодой Учитель.
— Серьезно? — спросил ее молодой муж, Куза, с усмешкой. — Так вопрос только о Царствии Божием? Так ты полагаешь? А также один из Его учеников, Петр зовут его, кажется, недавно говорил: «Учитель, вот мы все оставили и последовали за Тобою, что будет нам за это?»
— А этот Петр дальновидный человек, — заметил Иона, шутя. — Он не довольствуется пустыми словами.
— На этот вопрос Петра, — продолжал Куза, — Назарянин, чтобы разжечь алчность этих разбойников, которыми Он, рано или поздно, захочет воспользоваться, отвечал: «Всякий, кто оставил свой дом, своих братьев, своих сестер, отца своего, мать свою, своих сыновей, свои нивы ради Меня и Евангелия… тот в настоящем получит в сто раз более, чем он оставил, и вечную жизнь в будущем веке»[51].
— В настоящем… это довольно ясно. Он обещает Своей шайке в настоящем, — сказал Борух, — сто домов вместо одного, который они оставили, чтобы следовать за Ним, в сто раз больше поле, чем оставленное ими, и, кроме того, неверным Он обеспечивает вечную жизнь!
— А где возьмет Он эти сто домов взамен одного? — спросил Иона. — Где добудет Он эти поля, которые обещает Своим бродягам? Он отнимет их от нас, которые имеют кое-что, от нас, верблюдов, для которых врата райские тесны, как игольное ушко, потому что мы богаты.
— Я думаю, господа, — снова вмешалась Иоганна, — что вы неверно толкуете слова молодого Учителя. Он говорит образами.
— Правда! — сказал насмешливо ее муж. — Посмотрим, каковы эти прекрасные картины!
— Когда Иисус говорит, что те, кто последовали за Ним, получат уже теперь в сто раз более, чем они оставили, Он подразумевает под этим, по моему мнению, что способность проповедовать Евангелие, любовь к ближнему и сострадание к униженным и несчастным во сто крат воздадут за те лишения, которым они себя подвергли.
Эти мудрые и кроткие слова Иоганны были весьма недоброжелательно приняты гостями, а первосвященник даже воскликнул:
— Сожалею вашу супругу, господин Куза. Она, как и многие, ослеплена Назарянином. Он придает такое большое значение материальным вещам, что имеет дерзость посылать этих бродяг, которых именует Своими учениками, чтобы они проживали и кормились в чужих домах, не платя ничего, под предлогом проповеди Своего отвратительного учения.
— Как, господа, — вставил Гермион, — подобное насилие возможно в вашей стране и не наказуется? Люди поселяются у вас в доме, едят и пьют под предлогом разговоров?
— Кто принимает учеников Назаретского Учителя, принимает их добровольно, — продолжала Иоганна.
— Да, некоторые, — возразил Иона. — Но большая часть тех, кто дает приют этим обманщикам, уступают под страхом и угрозами — по заповеди Назарянина: «Те, кто откажется принять этих негодяев, предаются Им геенне».
При упоминании этих новых злодейств Назарянина снова раздались возгласы:
— Неслыханное насилие!
— Нужно же положить конец всему этому позору!
— Постоянная система грабежа!
— Итак, господин Борух совершенно прав, говоря, что Этот Назарянин, для Которого нет ничего святого, приведет нас к хаосу, потому что, повторяю я, Ему мало уничтожить закон, правительство, собственность и религию, Он хочет, дабы увенчать Свое разрушительное дело, уничтожить семейственные узы!
— Да это сам вельзевул! — вскричал Гермион. — Каково! Желает порвать семейные узы!
— Да… посеяв в ней раздор, — отвечал Каиафа, — распространяя вражду и ненависть в доме, вооружив сына против отца, слугу против господина.
— Но, — с некоторым сомнением спросил Гермион, — может ли такой ужасный план вместиться в человеческой голове?
— В человеческой — нет, но речь идет о вельзевуле. Вот вам доказательство: несколько дней после достоверных донесений моих сыщиков, о которых я вам сообщал, Он говорил такого рода вещи нищей толпе, с Ним не расстающейся: «Не думайте, что Я пришел дать мир земле… Я пришел предать ее мечу; Я пришел предать ее огню, и Я желаю, чтобы она воспламенилась, Я принес не мир, но разделение; отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, и мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей; слуги человека объявят себя его врагами»[52].
— Это, однако, ужасно! — воскликнули в один голос меновщик Иона и судья Куза.
— Да ведь это проповедь семейного разлада и ненависти друг к другу.
— Это начало войны! — вырвалось у Гермиона. — Войны, которую вел возмутившийся раб Спартак…
— Сметь говорить:«Я пришел низвести огонь на землю и желал бы, чтобы она возгорелась…»!
— «Слуги человека объявят себя его врагами…»
— «Пятеро в одном доме станут разделяться…»
— Словно у Него хватило бы дерзости сказать: подожгите землю!..
С трудом сдерживалась Иоганна, слыша все обвинения, которые сыпались на Назарянина, и, наконец, заговорила громким и серьезным голосом.
— Ах, господа, я устала слушать ваши унизительные речи! Вы не понимаете смысла речей Учителя. Когда Он говорит о раздоре, который возникнет в семьях, это значит, что в одном и том же доме некоторые поймут Его учение любви и служения ближнему и как Он проповедует Его и сердцем, и устами, а другие станут упорствовать в своем бессердечии; Он говорит, что слуги восстанут на господ, если эти будут злы и несправедливы; Он хочет сказать, что в каждой семье будут и за Него, и против Него. И как может быть иначе? Он увещевает богатого отказаться от своих богатств; Он объявляет, что раб равен господину, Он утешает, прощает тех, кто согрешил, скорее, по бедности или по неразумию, нежели из дурных побуждений. Все люди сразу не могут последовать этому благородному учению. А какая новая истина не порождала сперва раздора?.. Юный Учитель из Назарета в Своих притчах говорит, что Он принес огонь на землю и хочет, чтобы она возгоралась!.. Ах, я понимаю это. Ибо огонь, о котором Он говорит, — та горячая любовь ко всем людям, которой полно Его сердце.
Иоганна говорила взволнованным, дрожащими голосом и казалась прекраснее, чем когда бы то ни было. Ее новая подруга Аврелия смотрела на нее с удивлением, смешанным с восхищением. Между гостями Понтия Пилата снова пробежал ропот изумления и неодобрения, а Куза, муж Иоганны, жестко заметил жене:
— Ты с ума сошла, и мне стыдно за твои речи. Непонятно, как женщина, уважающая сама себя, осмеливается открыто защищать позорное учение, которое проповедуется на площадях, в кабаках, среди бродяг, воров, этой обычной компании Назарянина.
— На подобные упреки, — продолжала Иоганна звенящим голосом, — юный Учитель отвечает: «Не здоровые, а больные имеют нужду во враче». Этим сравнением Он говорит, что именно люди, ведущее дурную жизнь, нуждаются в просвещении, поддержке, руководстве и любви. Да, я повторяю вместе с Ним, что они нуждаются в любви и утешении, чтобы иметь возможность вернуться к добру, ибо добро и кротость действуют вернее, чем жестокость и наказания. А дела любви и благочестия Иисус совершает ежедневно.
— А я утверждаю, что Назарей, — возмущенно заявил Куза, — таким образом льстит низким страстям жалкой шайки, среди которой Он проводит жизнь, чтобы поднять ее, когда — по Его мнению — настанет час провозгласить Себя вождем, сжечь и перебить весь Иерусалим и истребить всю Иудею, как Он и имел дерзость говорить, что несет с собою не мир, а меч… огонь…
Эти слова помощника Иродова вызвали всеобщее сочувствие присутствующих, которые, по-видимому, все более и более изумлялись молчанию и равнодушию римского наместника… А он беспрестанно осушал кубок за кубком и улыбался все более довольной улыбкой при каждом новом обвинении против молодого Назарянина.
Аврелия с большим вниманием слушала, как жена Кузы защищала Иисуса и теперь тихонько сказала ей:
— Дорогая Иоганна, ты не поверишь, как мне хотелось бы видеть Назарянина, о Котором так много говорят дурного, а ты сказала так много хорошего… Это, должно быть, необыкновенный Человек.
— Ах, да… необыкновенный по Cвоей доброте, — отвечала Иоганна также шепотом. — Если б ты знала, как ласково и сострадательно звучит Его голос, когда Он обращается к слабым, страдающим, к детям… Особенно к детям! Он так горячо любит их, что как только завидит, лицо Его принимает выражение поистине небесного миролюбия.
— Как мне хочется видеть и слышать Его! — повторила Аврелия, все более и более заинтересованная. — Но как же это можно устроить, если Он всегда окружен дурными людьми?
Несколько минут Иоганна молчала, погрузившись в задумчивость и, наконец, промолвила:
— Кто знает, милая Аврелия… Может и найдется способ повидать и послушать юного Учителя.
— О, скажи! — оживляясь, просила Аврелия. — Скажи сейчас, дорогая Иоганна… какое средство?
— Тсс! На нас смотрят… — ответила Иоганна. — Когда-нибудь мы вернемся к этому разговору.
Куза был страшно раздражен против жены за ту настойчивость, с которой она защищала Назарянина, и, действительно, время от времени кидал на нее яростные взгляды, не переставая, однако, говорить с Каиафой.
Понтий Пилат еще раз осушил свой огромный кубок; щеки его горели, глаза, устремленные пред собою, сияли; казалось, он далек от всего, его окружающего, и наслаждается внутренним блаженством.
Посоветовавшись с Каиафой и меновщиком, Борух обратился к римлянину:
— Господин Понтий Пилат!
Но Понтий Пилат лишь улыбался про себя и ничего не отвечал. Книжник положил свою руку на него. Наместник, словно пробудившись, сказал:
— Извините, господа, я думал о… я думал… Но в чем, собственно, дело?
— Господин Понтий Пилат, — ответили Борух, — если вы, после всего рассказанного здесь моими друзьями и мною об ужасных планах и намерениях Назарянина, не обратите против Него всей своей строгости в качестве представителя нашего кесаря Тиверия и как защитник нашего государя Ирода, тогда случится, что…
— Пожалуйста, что же тогда произойдет?
— А то, что еще до наступающей Пасхи весь Иерусалим… да вся Иудея будет разграблена Этим Назареем, Которого уже и теперь в народе называют Царем Иудейским.
Понтий отвечал с тем спокойствием и с той беспечностью, которая отличала его:
— Ах, господа, не надо принимать кустарник за лес, а кротовые кучи за горы! Неужели мне придется припомнить вам вашу собственную историю? Разве Этот мальчик из Назарета первый, Который играет в Мессию? Разве у вас не было Иуды из Галилеи, который утверждал, что израильтяне не должны признавать иного господина, кроме Иеговы… А он хотел поднять народ против нашей римской власти. Что же произошло? Иуда[53] этот был осужден. То же будет и с Юношей из Назарета, если Он затеет мятеж.
— Да, — заметил первосвященник Каиафа, — Назарянин, действительно, не первый, Который выдает Себя за Мессию, возвещенного нам сотни лет тому назад Священным Писанием. За последние пятьдесят лет, — говоря лишь о последних событиях, — между ложными пророками мы считаем Ионафана и волхва Симона и много других мошенников, непрошенных избавителей и восстановителей народа Божия и земли Израильской. Но никто из этих обманщиков не имел того влияния, которым пользуется Назарянин, и отнюдь не обладал Его дерзостью. Они не нападали на богатых, на книжников, священнослужителей, на семью и религию; одним словом, на то, что должно быть уважаемо, если не желать гибели Израиля… Прочие не обращались предпочтительно и непрестанно, как Этот последний, к низкой части народа, над которой Он имеет ужасающую власть. Когда, например, господин Борух, утомленный открытым поношением, которым Назорей преследовал фарисеев, то есть самый почтенный класс Иерусалимского населения, — когда господин Борух, несколько времени тому назад, хотел отдать приказ схватить Иисуса, — настроение толпы оказалось настолько угрожающим, что мой благородный друг не посмел отдать своего приказания. Но вы, господин Понтий Пилат, вы можете располагать значительной вооруженной силой. Если вы не поддержите нас, у которых имеется лишь слабый отряд, часть которого заражена пагубным учением Назорея, — мы не отвечаем за спокойствие страны, и народное восстание против ваших собственных войск не будет невозможным.
— Случись это, господа, — смеясь, ответили Понтий Пилат, — найдете меня наготове, в шлеме и латах, с мечом в руках, пусть только Назарянин попробует поднять войска против моих солдат. Что же до остального, — клянусь Юпитером! — вы сами должны чинить свои дыры; внутренние дела касаются только вас, членов городского совета. Хватайте молодого Человека, сажайте Его в темницу, распинайте Его, если Он этого заслуживает. Это ваше право, пользуйтесь им! Я же — представитель власти Цезаря, моего господина. Пока его могущество неприкосновенно, я не намерен ничего предпринимать.
— Кроме того, господин наместник, — вставила Иоганна, — Учитель из Назарета говорит: «Отдавайте Божие Богу, а кесарево — кесарю»[54].
— Совершенно верно, благородная Иоганна, — ответил Понтий Пилат. — Это далеко от возмущения народа против римлян.
— Но разве вы не видите, господин, — вскричал Борух, — что негодяй этот действует так из хитрости, дабы не возбудить вашего подозрения, а при удобном случае созвать народ к оружию?
— Тогда, господа, — ответил Понтий Пилат, снова осушая свой кубок, — Назарянин найдет меня готовым во главе моих когорт; а до той поры я не вижу большой беды в ваших мелких раздорах.
Глава II. Большое волнение среди населения Иерусалима
В сильном смущении вошел в зал римский офицер и донес Понтию Пилату:
— Господин наместник, только что произошло важное событие.
— Именно?
— Большое народное волнение вызвано Иисусом из Назарета…
— Бедный Юноша, — шепнула Аврелия Иоганне. — Несчастья преследуют Его. Все против Него!
— Послушаем дальше! — с беспокойством заметила Иоганна.
— Видите, господин Понтий Пилат, — в один голос воскликнули первосвященник, книжник и меновщик. — Дня не проходит без того, чтобы Назарянин не смущал общественного спокойствия.
— Отвечайте, в чем дело?
— Несколько человек из Вифании утверждают, что Иисус из Назарета три дня назад воскресил мертвого… Весь народ в городе в неописуемом волнении, и в эту минуту оборванцы бегают по иерусалимским улицам с горящими факелами и кричат: «Да здравствует Иисус из Назарета, воскрешающий мертвых!»
— Наглец! — воскликнул Каиафа. — Стремится подражать нашим святым пророкам! Подражать Илье, воскресившему сына вдовы Сарептской[55], или Елисею, воскресившему сына одной именитой женщины Сонамитянки[56]. Богохульство!..
— Он богохульствует! — в свою очередь кричал Иона. — Наше Писание возвещает, что только Мессия будет воскрешать мертвых…
— Назарянин хочет до конца выдержать роль Мессии…
— Идут до того, что приводят имя воскресшего, — продолжал офицер. — Его зовут Лазарь.
— Прошу господина Понтия Пилата сейчас же отдать приказ о задержании и аресте этого Лазаря! — воскликнул Каиафа.
— Надо показать пример! — горячился книжник. — Надо этого Лазаря повесить! Это научит его, как восставать из мертвых!..
— Послушай-ка! Они хотят убить беднягу, — сказала Аврелия, обращаясь к Иоганне и пожимая плечами. — Лишаться жизни за то, что невольно получил ее вновь!.. Я полагаю, что не обвиняют же они его в том, что он желал быть воскрешенным… Они, верно, помешались!
— Ах, дорогая Аврелия, — с грустью ответила жена Кузы, — они столь же злы, сколь безумны!
— Я повторяю, что этот Лазарь должен быть повешен! — кричал Борух.
— О, господа! — возразил Понтий Пилат. — Безобидный труп лежит в своей могиле и не думает ничего дурного; его возвращают к жизни; сам он никак не может этому способствовать… и вы хотите, чтобы я приказал повесить человека?
— Да, господин, — ответил Каиафа. — Зло надо рубить в корне, потому что если Назарянин начнет еще воскрешать мертвых…
— То будет невозможно предвидеть, где будет этому конец! — кричал Борух. — Я формально прошу, чтобы господин Понтий Пилат приказал казнить бесстыдного Лазаря.
— Но, господа, — спросила Аврелия. — Что если он будет повешен, а потом снова вторично воскрешен юным Учителем из Назарета?
— Тогда его снова повесят! — заявил Иона. — Снова повесят! А все-таки это послужит острасткой!
— Господа, — сказал Понтий Пилат, — у вас есть свои войска, которые могут ловить и вешать Лазаря, если это вам угодно…
— Вы хозяева города, — добавил Пилат, вставая, — и делайте что хотите.
— Господин Гермион, — сказал Куза, помощник Ирода, — послезавтра я должен ехать в Вифлеем. Если вам угодно ехать вместе, я готовь отправиться в путь днем раньше, и тогда мы можем выехать завтра рано утром, и путешествие продолжится три-четыре дня. Я буду путешествовать в вашем обществе, потому что в наше беспокойное время не особенно удобно ехать одному.
— Я принимаю ваше предложение, господин Куза, — ответил казначей. — Мне доставит большое удовольствие иметь дорожным товарищем человека, который знает страну, как вы.
— Милая Аврелия, — шепнула Иоганна подруге, — хочешь видеть молодого Учителя из Назарета?
— Да, теперь более чем когда-нибудь! Все, что я слышу, удваивает мое любопытство.
— Приходи ко мне завтра после отъезда мужа, — снова зашептала Иоганна. — Быть может, тогда нам удастся найти средство удовлетворить твое желание.
— Но как?
— Потом скажу, Аврелия.
— До завтра, дорогая Иоганна.
Вслед за этим обе молодые женщины, равно как их мужья и рабыня Женевьева, оставили дом римского претороначальника Понтия Пилата.
Глава III. В гостинице
Одна из гостиниц Иерусалима близ Овечьих ворот, «Дикий осел», служила обыкновенным местом сборища для пастухов коз, погонщиков ослов, вожаков верблюдов, носильщиков, разносчиков, торговцев арбузами, гранатами, свежими финиками во время сбора, а больше сливами и сухими финиками.
В этой гостинице бывали и праздные люди, падшие женщины, нищие, бродяги и «храбрецы», продававшие свою вооруженную защиту путешественникам, переезжающим из города в другой.
Там можно было встретить и римских рабов, которые были привезены в Иудею своими господами.
Эта гостиница пользовалась дурною славой: ссоры и драки были обычным делом. Когда на город спускалась ночь, из этого страшного места раздавались крики, хохот и пьяные песни, а из углов нередко доносились тяжелые вздохи и жалобы.
День спустя после пира у Пилата с наступлением сумерек двое молодых людей, просто одетых в белые туники с голубыми тюрбанами, шагали вдоль узкой неровной улицы, в конце которой виднелись двери страшной гостиницы. По пути они разговаривали, часто оборачиваясь в противоположный конец улицы, словно поджидая кого-то с той стороны.
— Женевьева, — сказала, остановившись, одна из них своей провожатой (это были Аврелия и ее служанка, переодетые в мужские платья). — Женевьева! Моя новая приятельница, Иоганна, очень что-то медлит и, признаюсь, мне становится страшно за мое глупое намерение.
— Но госпожа, ведь мы можем вернуться.
— Мне очень бы хотелось… Только неизвестно, выдастся ли еще когда-нибудь подобный случай!
— Правда, отъезд вашего супруга с помощником князя Ирода представляет вам полную свободу, и едва ли скоро вы опять улучите такую минуту…
— Скажи, Женевьева, ведь ты еще больше меня хотела бы повидать Этого необыкновенного Человека из Назарета?
— Вы не должны дивиться этому, дорогая госпожа, ведь я невольница. А Назарянин говорит, что рабства не должно быть.
— А разве твое рабство у меня так тяжело?
— Нет, нет!.. Но, откровенно говоря, много ли таких, как вы?
— Не мне отвечать на такие вопросы.
— Но я могу это сказать… Если есть еще одна такая же добрая госпожа, как вы, то найдутся сотни, которые за одно слово, за одну маленькую вину бичами изорвут кожу своих рабынь. Разве не верно?
— Я не могу отрицать этого…
— Вы облегчаете мне рабство, насколько это возможно, но я все-таки не принадлежу себе… Я была силою разлучена с моим несчастным мужем, Фергоном, который пролил столько слез при расставании со мной. Кто поручится, что по возвращении на родину я найду его в Марселе? Что он не продан, не уведен неизвестно куда? Кто скажет, что господин Гермион не продаст меня, не разлучит с вами?
— Я обещала, что тебя не возьмут от меня.
— Но если муж ваш пожелает продать меня, мы не сможем помешать ему…
— Нет, к сожалению…
— А ведь каких-нибудь сто лет назад наши гальские предки были свободны! Предки Фергоны были храбрейшими начальниками своего племени!
— О! — заметила Аврелия, улыбаясь. — Дочь Цезарей не могла бы, имея отцом Цезаря, больше гордиться, чем ты гордишься предками своего мужа.
— Рабы не имеют права ничем гордиться, — с грустью продолжала Женевьева. — Все, о чем я скорблю, — утраченная свобода. Что сделали мы, за что лишены ее? Ах, если бы сбылись слова молодого Учителя! Чтобы никогда больше не было рабов!..
— Что ты говоришь?! «Нет рабов!..» Ты не думаешь, Женевьева, о том, что говоришь. Разве это возможно, чтобы не было совсем рабов?! Надо, по возможности, облегчать их жизнь, это так.. Но уничтожить рабство! Да это равносильно гибели мира. Вот видишь, Женевьева, эти-то преувеличения и вредят молодому Назарянину.
— Сильные и богатые Его не любят. Когда я вчера стояла за вами у господина Понтия Пилата, я не пропустила ни слова из того, что говорилось. Все в один голос обвиняли несчастного Юношу.
— Да, Женевьева, — отвечала Аврелия. — Но надо сознаться, что в большинстве случаев Он Сам виноват…
— Так и вы обвиняете Его?
— Нет; но Он нападает на богатых, на книжников, врачей. Одним словом, на всех лицемеров, принадлежащих к фарисейской секте. А это все, в чем можно обвинить его для Его гибели.
— Это говорит лишь о Его мужестве. Он бесстрашно высказывает истину злым людям… Юноша из Назарета столь же добр, сколько и мужествен, по словам вашей подруги, Иоганны… Она богата и знатна, она не невольница, как я. Следовательно, Он проповедует не в ее пользу, а вы видите, как она восхищается Им.
— А, кажется, она сама подходит к нам с той стороны. Я слышу легкие, поспешные шаги: это, верно, она.
Иоганна, тоже переодетая в мужской костюм, действительно, скоро нагнала Аврелию с невольницей.
— Ты, кажется, давно ждешь меня, Аврелия? Но я до сих пор не могла выйти незамеченной.
— Иоганна, я не чувствую себя спокойно… Мне скорее страшно, чем любопытно… Подумай: две женщины нашего общественного положения в этой гостинице, где, говорят, обыкновенно собирается отброс населения.
— Не бойся ничего; эти люди скорее шумливы и страшны на вид, чем, действительно, злы. Я уже дважды, переодетая, посещала эту гостиницу с одним родственником, чтобы послушать молодого Учителя. Гостиница плохо освещена, двор окружен глухой темной галереей, где нас никто не увидит: там все заняты только Учителем, а в Его отсутствие Его учениками, которые проповедуют вместо Него. Идем, Аврелия, поздно… Идем…
— Слушай, слушай, — сказала молодая женщина Иоганне, с беспокойством прислушиваясь. — Слышишь эти крики? Там ссора!..
— Это значит, что Учитель еще не пришел, — ответила Иоганна, — потому что в Его присутствии все голоса смолкают и самые разгульные становятся покорны, как овцы.
— Но взгляни, Иоганна, видишь эту группу мужчин и женщин подозрительного вида, что стоят у фонаря, за дверями. Молю тебя, подождем, пока они пройдут или войдут в дом.
— Иди… Нам нечего бояться… говорю тебе.
— Нет… пожалуйста, Иоганна, подожди минутку… Я, право, дивлюсь твоей неустрашимости…
— Ах, причиной тому то, что Иисус Назарянин дарует мужество так же, как Он вдыхает милосердие к преступникам… и любовь — к страдающим… Если б ты знала, как проста Его речь, какие трогательные и удачные сравнения находит Он, чтобы сделать Свою мысль понятною для этих простых людей, этих именно нищих духом, как Он их называет и которых Он так любит. Все, даже дети, к которым Он питает такую нежность, понимают Его и не теряют ни слова из Его речей. Прежде Него люди, отмеченные Иеговой, предсказывали освобождение родины нашей от иноземного владычества, объясняли нам Священное Писание, чудесными средствами исцеляли безнадежно больных, но никто из этих пророков не обнаруживал той кротости, с какой юный Наставник поучает бедных людей; для Него нет неверных, язычников; каждый простой, добрый сердцем достоин Царства Небесного только потому, что он добр… Ты не знаешь Его притчи о язычнике? Что может быть проще и трогательнее.
— Нет, Иоганна, никогда не слыхала.
— Это — последнее, что я слышала… Зовется она «Милосердый самаритянин».
— Что это за народ самаритяне?
— Самаритяне живут в языческой земле, лежащей за горами, ограничивающими Иудею. Первосвященники считают их как бы исключенными из Царства Божия. Ну, а теперь я расскажу тебе притчу:
— «Один человек ехал из Иерусалима в Иерихон и попал в руки разбойников; они ограбили его, изранили и бросили полуживого. Случилось, что священник ехал той же дорогой, видел раненого, но уехал. Ехал той же дорогой левит, тоже посмотрел на раненого и продолжал свой путь. Ехал здесь же самаритянин, заметил раненого, почувствовал к нему сострадание, подошел, полил масла и вина на раны его, перевязал их, положил несчастного перед собою на лошадь, привез в гостиницу и позаботился о нем. Уезжая через несколько дней, он дал денег хозяину и сказал: “Позаботься об этом человеке; если истратишь больше, я возвращу тебе на обратном пути”. “Ну, — спросил Иисус учеников, — кто из этих троих, по-вашему, был ближним (братом) попавшему в руки разбойников?”. “Оказавший ему милосердие”, — отвечали Иисусу. “Идите же с миром и делайте то же!” — ответил Иисус с небесной улыбкой».
Слыша этот рассказ, невольница Женевьева не могла удержаться от слез, потому что Иоганна с такой неподражаемою кротостью повторила слова Иисуса: «Идите с миром и делайте то же».
— Твоя правда, Иоганна, — задумчиво заметила Аврелия. — Даже дитя поймет учение, выраженное в таких словах. Я положительно тронута.
— А однако, — продолжала Иоганна, — это одна из тех притч, которые наиболее раздражили первосвященников и книжников против молодого Учителя из Назарета.
— Почему же?
— Потому что в этой притче Он изображает самаритянина — язычника — более человечным, сострадательным, чем левит и священники. Этот отверженный самаритянин увидел в раненом брата, помог ему и тем стал достоин Царства Небесного более, нежели жестокосердные фарисеи. Враги Иисуса называют это богохульством и святотатством.
— Иоганна, идем в горницу; я уже не боюсь. Люди, для которых слагаются такие рассказы и которые внимательно вслушиваются в них, не могут быть злы.
— Видишь, милая Аврелия, слова Назарянина уже действуют на тебя; они внушают тебе мужество и доверие… Идем, идем…
Молодая женщина схватила руку своей подруги, и они, в сопровождении Женевьевы, направились к постоялому двору, которого скоро и достигли. Он представлял собою четырехугольную постройку, как большинство домов на Востоке, и состоял из внутреннего двора, обнесенного толстыми столбами, на которых покоились четыре галереи, где гости могли укрыться во время дождя.
Но на этот раз ночь стояла тихая, светлая; большинство расположилось у стола во дворе, при дрожащем красноватом мерцании грубо сработанной лампы, висевшей как раз посредине двора. Галереи были освещены лишь весьма слабо, и поместившиеся там гости могли оставаться совершенно незамеченными.
К одному из таких темных углов Иоганна, Аврелия и Женевьева и направили свои шаги. Проходя в шумной толпе, они видели много дурно одетых людей, много падших женщин. Многие из последних также были плохо одеты и вместо тюрбана носили белые тряпки; были и наряженные в дорогие ткани, но скверного покроя; их браслеты, серьги были украшены фальшивыми каменьями. Яркие румяна покрывали их щеки. Увядшие, грустные лица с выражением горечи, проскальзывавшей и в их чрезмерно шумном веселье, достаточно свидетельствовали об их несчастной и безрадостной жизни.
Мужчины частью казались подавленными бедностью, а частью имели дикий, дерзкий вид; у многих за поясом было оружие. Другие опирались на длинные палки с железными наконечниками. Там и сям видны были бритые головы римских рабов, которых, кроме того, легко было узнать по железным кольцам на шее. Несколько подальше на земле расположились со своими костылями калеки, прикрытые лохмотьями. Матери держали на руках своих больных, бледных, истощенных детей; они с беспокойством глядели на них, вероятно, ожидая юного Учителя.
Из нескольких слов, которыми обменялись между собою два хорошо одетых человека с жесткими, насмешливыми лицами, Женевьева поняла, что они были шпионы, подосланные первосвященниками и книжниками с целью завлечь Назарянина в их сети.
Иоганна была смелее своей подруги, она проложила себе путь чрез толпу и указала на свободный стол в тени столба. Женевьева, стоя подле своей хозяйки, не выпускала из виду фарисейских соглядатаев и жадно прислушивалась ко всему, что говорилось вокруг нее.
— Ночь близится к концу, — сказала молодая и еще красивая женщина одной из своих подруг, сидящих за столом, щеки которой, как и ее собственные, были покрыты румянами, по обычаю уличных женщин.
— Иисус Назарей, верно, уж не будет сегодня.
— Стоило приходить сюда, — заметила другая тоном упрека. — Не пеняй же, Оливия, если мы ляжем голодными спать, сама виновата.
— Слушая речи Иисуса, — возразила первая смиренно, — я забываю голод.
— Ты говоришь, как безумная, Оливия. Жить и питаться словами…
— Да потому что в словах Иисуса звучит всегда прощение, сострадание, любовь. А другие до сих пор не находили для нас ничего, кроме презрения и отвращения.
Бедная, глубоко, видимо, павшая девушка задумалась, склонив голову на руки.
— Удивительный ты человек, Оливия, — заговорила вторая. — Как ни скуден словесный ужин, но мы сегодня лишены и этого, потому что Назарей не придет, слишком уж поздно.
— Пусть Всемогущий приведет Его, — сказала бедная женщина, сидевшая на земле около падших женщин с больным ребенком на руках. — Из Вифлеема прибрела я сюда, чтобы наш добрый Иисус исцелил мою девочку.
— Клянусь Соломоном! Я тоже надеюсь, что наш друг Иисус придет сегодня! — вставил рослый мужчина дикого вида, со спутанной бородой, одетый в затасканный красный тюрбан и в тунику из верблюжьей шерсти, клочья которой чуть не валились с него, сдерживаемые ремнем, за который был заткнут длинный острый нож без ножен.
Кроме того, мужчина держал в руках длинную палку с железным набалдашником:
— Если наш достойный друг из Назарета не придет сегодня, значит, я потерял свое вознаграждение: меня за плату приглашали сопровождать путешественника из Иерусалима в Вифанию, потому что он боялся повстречаться с недобрыми людьми.
— Погляди-ка на этого разбойника с видом бродяги, с большим ножом! Не особенно надежная охрана! — сказал насмешливо один из сыщиков, сидевших неподалеку от Женевьевы.
— В первом же закоулке он прикончил и ограбил бы этого чересчур доверчиваю путешественника, — ответил второй сыщик.
— Право, это так же верно, как то, что я зовусь Бенойя, — продолжал человек с большим ножом. — Я без сожаления лишился бы своего заработка, если бы наш друг из Назарета пришел… Я люблю Этого Человека, да. Он утешает беднягу, обреченного ходить в лохмотьях. Дни и ночи готов я слушать, как Он пробирает книжников и прочих фарисеев. Стоит за какую-нибудь проделку попасть к ним на суд, они только и знают, что кричать: «Его надо в темницу, кнутом его, вора этого, негодяя, порождение геенны, сына сатаны», — и подобные отеческие напутствия. Они таким образом хотят исправлять людей! Несчастные, они не знают того, что лошадь часто не слушает кнута, а голосу повинуется. Но это хорошо известно Ему, нашему другу. Недаром Он однажды сказал нам: «Если твой брат согрешит против тебя, укажи ему… Если же раскается, прости ему его вину»… Вот это называется говорить… Потому — клянусь честью Мельхиседека! — я не похож на скромного, кроткого ягненка, нет… Мне не было и двадцати лет, когда отец выгнал меня из дому за юношеский проступок. С той поры я был в когтях дьявола. Мною так же трудно править, как диким мулом. А вот одного слова Назарянина, сказанного Его кротким голосом, довольно, чтобы заставить меня идти на край света!
— Если Иисусу что-нибудь помешает прийти Самому, Он пришлет кого-нибудь из Своих учеников предупредить нас о том, и тот будет учить нас вместо Учителя.
— Коли хлеба нет, и мякине рад, — сказал скрюченный от лет нищий. — Ученики говорят хорошо, но… Учитель куда же лучше…
— Ах! — возразил другой старый нищий, — Он дает нам вечную надежду. Нам, которые с рождения были во власти отчаяния.
И другие тоже говорили:
— Нам, ремесленникам, которые, благодаря тяжести податей и скупости торговцев, часто нуждаемся в платье и пище как для себя, так и для детей и жен, Он сказал: «Не бойтесь; Господь, Отец ваш, одевает лилии земные… питает птиц небесных… Наступит день, когда вы ни в чем не будете терпеть нужды!»
— Да, ведь и это Иисус говорил: «Не имейте ни золота, ни серебра, ни денег, ни мешков, ни двух одежд, ни сапог, потому трудящийся достоин пропитания».
Глава IV. Приход ученика Петра
— Учитель… вот Учитель! — раздались крики от входных дверей. — Наш Друг идет!
Эти слова вызвали сильное движение. Аврелия, любопытство которой было задето не меньше, чем Женевьевы, встала на скамеечку, чтобы получше разглядеть молодого Наставника. Их ожидание было обмануто; то был не Он, а Петр, один из Его учеников.
— А Иисус? — послышался общий вопрос.
— Где Он?
— Разве Назарянин не придет?
— Неужели мы не увидим нашего Друга… Друга обездоленных?
— Я, Иуда и Иоанн были с Ним в то время, как бедная женщина у городских ворот попросила Учителя посетить ее больную дочь, на что Он согласился. Иоанна и Иуду Он решил оставить при Себе, а меня послал к вам. Кто нуждается в Нем, может Его подождать, Он скоро будет.
Эти слова Петра успокоили нетерпение толпы, и Бенойя, человек с огромным ножом, сказал Петру:
— А в ожидании Учителя ты можешь рассказать нам о Нем, а также о Его учении!
— Приближаются времена, — ответил Петр, — наступают с громом и непогодою! Разве не сказал вам Господь чрез пророков: «Пошлю Ангела Моего, который приготовил Мне путь!»
— Да, да! — воскликнули в ответ несколько голосов. — Пророки возвестили об этом.
— А кто же Этот Ангел? — снова заговорил Петр. — Кто же, если не Иисус, наш Наставник, наш Мессия… единый истинный Мессия?
— Да, это Он!
— Он — обещанный Ангел!
— Он — истинный Мессия!
— Когда Ангел этот приготовит путь, как говорит Господь через пророков, «тогда приду Я к вам и буду судить; и суд Мой будет тяжел для клятвопреступников, для тех, кто угнетает вдов, сирот и чужеземцев, не страшась Моего гнева, а после этого для всех взойдет день счастья и правды; а когда сей день взойдет, говорят пророки, народы не станут более вооружаться друг против друга, мечи их обратятся в лопаты, а копья — в косы! Народ не поднимет меч свой на другой народ; не будут больше воевать, а всякий может тогда сидеть в своем винограднике или под своею смоковницею, не боясь никого. В то время, одним словом, волк будет жить вместе с ягненком, тигр будет лежать рядом с оленем, лев будет ходить рядом с овцою».
Эта картина всеобщего счастья и мира, видимо, произвела сильное впечатление на слушателей Петра, и многие из них восклицали:
— Скорей бы наступили эти времена! К чему слушать, что один народ истребляете другой?
— Сколько пролито крови!
— Поскорее бы настало счастливое, справедливое, мирное время, когда дитя может пасти целое стадо!
— Да, тогда ребенка будет достаточно… ибо как раз счастье сделает нас кроткими, — снова заговорил Бенойя. — Тогда как теперь, наоборот, мы столь несчастны и так озлоблены, что сотня великанов не могла бы управлять нами…
— Кто говорит вам о настоящем? — спросил Петр. — Кто говорит о временах, когда сильный давит слабого, богатый — бедного, злой — честного, господин — раба? Во время гроз и непогоды всякий стремится, по мере сил и возможности, создать кров себе и своим; совершенно верно! Но когда наступят времена, возвещенные пророком, благословенные времена, когда взойдет вечное сияющее солнце, когда не будет больше гроз, когда рождение каждого ребенка будут приветствовать радостными кликами, а не слезами, как теперь, ибо человек в наши дни живет и умирает в слезах, хотя всякое дитя, рожденное с радостью, в радости живет всю жизнь; когда подавляющая теперь работа обратится лишь во времяпрепровождение, — тогда обетованная земля достанет богатую жатву… Все же, живущие неправдой, притеснением других, обманами — все понесут кару. Не падайте духом, не скорбите. С нами теперь Тот, Кто сказал: «Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня, Он послал Меня благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем; проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, даровать грешным прощение, возвестить лето Господне приятное»[57].
Эти слова Назарянина, приведенные Петром, вызвали снова восторг, и Женевьева слышала, как один из подосланных книжниками и первосвященниками сказал товарищу:
— На этот раз Назарянину не уйти; эти слова слишком смелы и безрассудны.
Но у дверей постоялого двора послышался опять шум, и все закричали в один голос:
— Это Он! Это Он!..
— Это наш Друг!
— Он идет, наш Иисус… Он идет!
Глава V. Иисус Христос у «несчастных»
Когда толпа, наполнявшая двор, услышала о приближении Иисуса, люди стали тесниться, чтобы поспеть навстречу молодому Учителю. Матери с детьми на руках старались поспеть первыми; хромые хватались за костыли и просили соседей пропустить их вперед. Могучее влияние слов Иисуса было так велико, что здоровые отступили, чтобы дать дорогу матерям и больным…
Иоганна, Аврелия и ее невольница разделяли всеобщее настроение. У Женевьевы особенно сильно билось сердце, — ведь она была дочь, жена и, быть может, в будущем мать раба! — при виде Того, Кто, по Его собственным словам, пришел возвестить пленным освобождение и дать свободу изнемогающим под тяжестью оков.
Наконец, Женевьева увидела Его.
Друг детей, бедных матерей, страдающих и рабов был одет так же, как и прочие евреи, Его земляки: на Нем была длинная, до земли, одежда из белой шерсти, перехваченная кожаным поясом. Светлые золотистые волосы обрамляли Его бледное, ангельски кроткое лицо. Сердечно и просто пожимал Он все руки, которые протягивали к Нему; Он часто нагибался, чтобы поцеловать кого-нибудь из бедно одетых детей, которые держались за полы Его одежды, и говорил окружающим с радостной улыбкой: «Позвольте детям подойти ко Мне!»
— Ах, добрый Иисус, — проговорил хорошенький ребенок, ухватившийся за полу платья молодого Учителя, — расскажи нам одну из Твоих притчей; мы так их любим, запоминаем и пересказываем дома своим.
Все столпились подле Иисуса. Дети, так горячо любившие Его, поместились у Его ног; Оливия и другие девушки уселись на земле, по восточному обычаю, обхватив колени руками и устремив взоры, полные ожидания, на Иисуса. Бенойя и подобные ему заняли места позади юного Учителя и сдерживали нетерпеливую толпу. Подальше образовался еще кружок, где Иоганна, Аврелия и Женевьева взобрались на скамьи.
Иисус, Сын Марии из Назарета, все держал у Себя на коленях ребенка, который, положив одну руку на плечо Своему доброму Учителю, не сводил с Него глаз.
Наконец, Иисус начал следующую притчу:
— «У одного человека было два сына; младший сказал отцу: отец мой, отдай мне то, что мне следует из твоего имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он стал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той; а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнять чрево свое рожками, которые ели свиньи; но никто не давал ему. Пришедши же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему, и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал, и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и ожил; пропадал и нашелся»[58].
— Ах, какой добрый отец! — воскликнуло дитя, все еще сидевшее на коленях у Учителя. — Какой добрый отец, он прощает и обнимает, вместо того чтобы бранить!
Иисус улыбнулся, поцеловал ребенка в лоб и продолжал:
— «Тогда начался пир. Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Но он осердился и не хотел войти. Отец же его, вышедши, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот я сколько лет служу тебе, и никогда не преступал приказания твоего; но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка»[59].
— Ах, как зол старший брат! — сказал ребенок. — Он завидует бедному брату, который был так несчастен, возвращаясь домой. Ведь Бог не любит этого завистливого брата, правда, дорогой Иисус?
Сын Марии покачал головой, словно соглашаясь с ребенком, что Господь, действительно, не может любить завистников, и продолжал:
— «Отец же сказал ему: сын мой! ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв, и ожил; пропадал, и нашелся»[60].
Все присутствующее были, видимо, тронуты до слез этим рассказом, а когда Иисус умолк, Бенойя, слушавший его с глубочайшим вниманием, воскликнул:
— А ведь это моя история, наш добрый Друг, и скольких еще других… Потому что, если бы отец мой после моей первой юношеской ошибки поступил подобно отцу в Твоем рассказе и раскрыл мне объятия в знак прощения, вместо того чтобы палками выгонять меня прочь, быть может, теперь я сидел бы у собственного очага, среди своей семьи, тогда как теперь мой дом на большой дороге, жена мне — бедность, а дети — злые намерения, которых почти всегда порождает мать-бедность… Ах, почему мой отец не похож на человека в Твоей притче!
— Милосердый отец прощает, — заметила Оливия, — потому что он знает, что люди часто дурно употребляют молодость свою, но те, которые с раскаянием возвращаются и смиренно просят самого скромного места в родительском доме, — те должны быть приняты с милосердием, а не вытолканы с жестокостью прочь!
— Да, — заметил другой голос, — я пальцем не шевельнул бы для старшего брата, богатого, жестокого, завистливого человека, которому ничего не стоит быть добродетельным.
Стихли разговоры, и Иисус Христос продолжал:
— «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну, не оставит девяносто девять в пустыне и не пойдет искать потерянную, пока не отыщет. А когда найдет, положит с радостью на плечи себе. И, придя домой, соберет своих друзей и соседей, говоря: порадуйтесь со мною, я нашел потерянную овцу.
— И я говорю вам, — продолжал Господь серьезным, полным доброты и кротости голосом, — я говорю вам, что больше радости будет на небесах об одном грешнике, который раскается, чем о девяносто девяти праведниках, не нуждающихся в исправлении.
Эти трогательные слова Сына Марии из Назарета произвели живейшее впечатление на толпу. Все слушавшие речи Пророка погрузилась в глубокие думы; им виднелся в Небесах Отец, Который и их, грешников, зовет к Себе.
Глава VI. За стенами Иерусалима
Солнце взошло во всем своем блеске, когда чьи-то три женские фигуры торопливо выходили за стены Иерусалима. Это были Женевьева, а вместе с ней ее благородная госпожа Аврелия и ее подруга Иоганна.
После шума и духоты иepyсaлимских улиц женщинам приятно было почувствовать за городом легкое дуновение ветерка, который заметно освежал их разгоревшиеся от быстрой ходьбы лица.
Пред ними вдали расстилались знаменитые поля Кедрона[61], восточная красота которых была совершенно новым зрелищем для Женевьевы. Невольно из ее груди вырвался восторженный крик радости и изумления при виде развернувшейся перед ними чудной картины.
Благодаря необыкновенно ранней весне вся равнина около Иерусалима была покрыта цветущей зеленью. Не высохшие еще капли росы, точно алмазы, искрились и переливались разноцветными огнями на солнце. Воздух был напоен опьяняющим ароматом цветов.
Кругом била ключом быстрая, веселая, радостная жизнь. Пение птиц несмолкаемо висело в воздухе. Тут слышались и томная воркотня голубей, и серебристая трель жаворонка и, наконец, прозаическое чириканье трясогузок, которые вили свои гнезда в окрестных фиговых[62] и терпентинных[63] лесах…
По склону небольшого холма, пологим скатом спускающегося к потоку Кедрона, вилась широкая дорога, вся усаженная стройными красивыми пальмами, которые далеко от себя отбрасывали прохладную тень. Здесь двигалась небольшая толпа, центром которой был высокий Человек с вьющимися волосами. В Нем тотчас узнала Женевьева Назаретского Учителя. Радостью загорелись глаза женщин, и они быстро присоединились к толпе. Из-за шума шагов и толкотни окружавшего Христа народа женщины не могли хорошенько расслышать, что говорил Божественный Учитель. До них долетали лишь отрывочные слова. Но, очевидно, то, что говорил Христос, действовало на толпу успокаивающим образом.
Все кругом стало стихать. Только иногда раздавались отдельные восклицания, выражавшие одобрение речам Спасителя. Эти речи были понятны всем бедным неудачникам жизни из толпы, потому как были им близки и охватывали их горькое, несчастное положение…
Но вот в стороне послышался шум. То кучка всадников, спускавшихся с горы и спешивших в Иерусалим, должна была остановиться из-за довольно значительной толпы, собравшейся у подножия холма.
Нетерпеливые всадники приказали народу посторониться и дать дорогу Кузе, помощнику Ирода, и римскому сборщику податей Гермиону. Услышав это, Аврелия побледнела и сказала Иоганне:
— Мужья наши возвращаются! Они узнают, что мы не дома! Мы пропали!
— Разве мы сделали что-нибудь такое, в чем можем упрекнуть себя? Разве зрелище этой толпы, так жадно внимающей словам Назаретского Учителя, ничего не сказало твоему сердцу?
— Госпожа, — обратилась в это время к Аврелии Женевьева, — я думаю, что господин Гермион видел и узнал вас. Вон, он говорит шепотом с господином Кузой и показывает сюда.
— Ах, я дрожу! — прошептала Аврелия. — Что делать? Что будет теперь?
— Зачем падать духом, моя дорогая? — успокаивала подругу мужественная Иоганна. — Пойдем бесстрашно прямо к нашим мужьям. Только тот, кто не прав, прячется и опускает голову!
И с этими словами Иоганна повлекла за собой свою нерешительную подругу навстречу всадникам, свита которых раздражала народ. Это волнение уличной толпы не обещало ничего хорошего ни Кузе, ни Гермиону.
Дело в том, что Ирода в Иудее терпеть не могли, и не будь поддержки Рима, его давно бы прогнали с трона. Он был жесток, развратен и отягощал народ Израильский большими налогами. Когда узнали, что один из всадников — Куза, помощник ненавистного князя, а его спутник — Гермион, сборщик римской казны, то по адресу их послышались самые бесцеремонные замечания. У некоторых, менее сдержанных, срывались даже угрозы.
— Берегись, помощник Ирода, отягощающий нас налогами и пожирающий имения вдов и сирот!
— Горе и тебе, римлянин, отнимающий у нас последние крохи, оставленные нам Иродом! Горе вам, жадные волки! — слышалось со всех сторон.
Куза, бледный от едва сдерживаемой им ярости, которую проявлять здесь было небезопасно, старался скорее миновать враждебную толпу. Так же молча следовал за ним и Гермион. Охрана, состоявшая из пяти-шести всадников, скромно жалась, выглядывая место, где бы удобнее выбраться из окружавшей их толпы. В это время к ехавшей группе приблизились Иоганна и Аврелия.
При виде своей жены Гермион гневно сказал, обращаясь к Кузе:
— Мне уже давно показалось, что здесь моя жена, и видишь, я не ошибся!
— Да и моя здесь! — воскликнул не менее взбешенный Куза. — И обе они переодеты! Небывалая вещь!
— А для полноты, — добавил Гермион, — и служанка жены моей здесь же.
В это время Иоганна, спокойно обращаясь к мужу, промолвила:
— Подвинься-ка немножко, друг мой; я сяду позади тебя на лошадь, чтобы вернуться домой.
— Да! — отвечал Куза, кусая от гнева свои губы. — Ты вернешься домой со мною, но помни, что и из дому ты теперь никогда не выйдешь, иначе как со мною же!
Иоганна ничего не ответила на гневную речь мужа. Она лишь протянула ему руку, чтобы он помог ей влезть на лошадь, и одним легким прыжком очутилась в седле.
— Садись и ты за мной, — сердито сказал Гермион своей жене. — Невольница же твоя может сесть позади кого-нибудь из нашей стражи. Но, клянусь Юпитером, дорого она заплатит мне за участие в вашей прогулке.
Всадники продолжали путь в Иерусалим. Стражник, у которого на седле сидела Женевьева, ехал почти вплотную за Гермионом и Кузой, так что служанка могла слышать, как мужья жестоко упрекали своих жен.
Наконец, потянулись узкие улицы Иерусалима. Путники поднялись на храмовую гору, миновали первосвященнический двор, и здесь Гермион и Аврелия, распростившись с Иоганной и ее мужем, повернули по направлению к своему дому, расположенному на одном из склонов горы Мориа.
— Всего доброго, Аврелия! — напутствовала свою подругу Иоганна.
— Спасибо, Женевьева! — обратилась она и к прислужнице, которая в это время почтительно склонила перед ней свою голову.
С изумлением и искаженным от гнева лицом взглянул на свою жену гордый, недоступный Куза.
— Еще недоставало того, чтобы с рабами заводили дружбу! — стиснув челюсти, пробормотал он и быстрее погнал свою лошадь.
Глава VII. Темница и освобождение
Как только Гермион вместе с Аврелией и ее спутницей въехал во двор своего богато отделанного дома, так тотчас же отдал распоряжение насчет Женевьевы. Он велел ее запереть в одну из темных комнат подвального этажа.
Робкая, трепещущая Аврелия с грустью взглянула при этом на свою верную служанку. Ее поразило бесчеловечное приказание мужа. Оно было для нее совершенной неожиданностью. Но Аврелия не нашла в себе настолько мужества, чтобы вмешаться и остановить бессердечное распоряжение Гермиона.
— Прощайте, госпожа! — почтительно обратилась к ней Женевьева, когда грубые римские солдаты бесцеремонно стали исполнять приказание своего начальника.
— Не забывайте Назаретского Учителя, — как можно тише шепнула она, проходя мимо своей госпожи.
Солдаты повели Женевьеву к месту заключения, а Гермион и Аврелия стали подниматься по ступенькам галереи мимо мраморных колонн во внутренние покои дворца.
— Ты больше не выйдешь отсюда, — с искривившимся от злобы лицом обратился к своей жене Гермион. — Если сама не умеешь держаться на высоте своего положения, то этому научу тебя я. О, я дам тебе хорошие уроки. Я покажу тебе, как должна вести себя римская благородная женщина! Увлечения уличной толпы не должны иметь доступа к сердцу гордой римской матроны!
Вероятно, Гермион не скоро бы кончил свою грозную филиппику[64], если бы Аврелия не прервала его, скрывшись в свою спальню, где ей надо было заняться переменой своего платья.
Гермион невольно должен был замолчать.
И когда чрез несколько минут вновь явилась пред ним Аврелия во всем блеске своей красоты и в своем обычном нарядном костюме, то Гермион не мог уже продолжать свою речь в прежнем недружелюбном тоне.
Его сластолюбивые глазки с восхищением остановились на стройной, прекрасной фигуре Аврелии. Одетая в длинную, ярко-розовую тунику, с золотой сеткой на густых, каштановых волосах, которые красивым венцом окаймляли ее чистое, сияющее цветом молодости лицо, Аврелия действительно производила впечатление царственной красавицы. Оголенные по локоть молочной белизны руки нервно перебирали серебристую бахрому, которой был отделан ее широкий серебряный пояс, охватывавший гибкую талию. Длинная туника красивыми складками спадала книзу. Но теперь в больших голубых глазах Аврелии не было прежнего шаловливого блеска. Она смотрела серьезно, даже несколько задумчиво.
А это придавало ее лицу еще более какую-то особенную, новую, таинственную прелесть.
— Обед готов, — промолвила она ласкающими нотами низкого, грудного контральто.
— Вот всегда ты должна быть такою, — приветливо заговорил Гермион.
— Жене римского хранителя государственной казны непозволительно появляться в другой обстановке: она никогда не должна терять своего достоинства и смешиваться с уличной разношерстной толпой!
И с этими словами Гермион поцеловал розовую щечку Аврелии и пошел в столовую комнату.
Здесь уже все готово было к обеду. Запах вкусно приготовленных блюд наполнял всю комнату и приятно щекотал обоняние. В расставленных кубках искрилось и играло дорогое вино. Гермион был тонкий гастроном. Он понимал толк в хороших напитках, как и всякий римлянин его положения. И потому к столу у него подавались всегда дорогие и редкие вина, до которых он был страстный любитель.
— Пусть там Назаретский Учитель проповедует воздержание и строгие нравы! Его учение пригодно для жалкой толпы бедняков, а не для нас, — людей с тонким вкусом, умеющих находить удовольствие в жизни! Полный кубок ароматного вина, хороший стол… Больше мне, клянусь Юпитером, ничего не надо! — воскликнул Гермион, с восхищением смакуя сладкие блюда и время от времени посматривая на жену.
Долго длился обед. День уже заметно угасал, когда римский казначей, пошатываясь, поднялся из-за своей трапезы и направился отдохнуть на мягком ложе.
В это время один из слуг подал Гермиону ключи, принесенные стражником.
— Ага! Крепко заперли голубку в темную клетку! — промолвил, едва ворочая отяжелевшим языком, Гермион, и на его губах зазмеилась отвратительная, пьяная улыбка.
Добравшись до постели, он как-то машинально сунул ключи под подушку и, повалившись, тяжело захрапел. Очевидно, винные пары сильно ударили в голову.
Аврелия затаила дыхание. В ее голове внезапно сложился план избавления Женевьевы. Она даже радостно улыбнулась так неожиданно осенившей ее счастливой догадке.
Внимательно вглядывалась Аврелия в лицо засыпавшего мужа. Вот рот его полуоткрылся, и оттуда с хрипом начали вырываться тяжелые вздохи. Гермион все глубже и глубже погружался в тяжелый, удушливый сон. Наступала решительная минута. Неосторожное движение, — и все дело проиграно! И не избыть уже тогда бедной Женевьеве тяжкой темничной неволи!
Неслышно запускала свою трепетную руку под подушку насторожившаяся Аврелия. Вот она уже чувствует в ней холодное прикосновение железа. Это — ключи. С большой осторожностью высвобождает она их из-под подушки… Вдруг Гермион простонал. Очевидно, пьяный кошмар сдавил ему грудь. Аврелия вся превратилась во внимание. Рука, сжимавшая ключи, замерла.
Но то была напрасная тревога. Раскидавшись в самой неприхотливой позе на постели, Гермион продолжал спать крепким сном.
Наконец ключи были извлечены. Не медля ни минуты, Аврелия поспешила с ними к заключенной Женевьеве. Когда она спустилась в низкий и темный коридор подвального этажа, то неприятная сырость пронизала ее насквозь. Было душно. Аврелии никогда еще не приходилось бывать здесь. Со страхом и смущением она озиралась кругом.
Из противоположного конца коридора неслись навстречу ей звуки распеваемого кем-то священного гимна. Аврелия тотчас узнала голос Женевьевы и быстро пошла на него. Рука ее дрожала, когда она вкладывала в огромный замок один из захваченных ею ключей.
Но вот дверь распахнулась, и госпожа, забыв все на свете, порывисто бросилась обнимать свою рабыню. По щекам той и другой струились горячие слезы.
— Спасайся скорее, дорогая Женевьева! — в сильном волнении заговорила Аврелия. — Беги в свою родную Галлию. Тяжело мне расставаться с тобою, но даже если ты останешься здесь, нам не придется жить вместе. Там же, в Галлии, я знаю, ты найдешь себе спокойствие и безопасность!
— Но госпожа, на что вы обрекаете себя, самовольно выпуская меня из заключения? Нет, я не могу злоупотреблять вашей добротой… Я не выйду отсюда! — возражала Женевьева.
— Безумная! — с упреком и испуганно воскликнула Аврелия. — Ты не хочешь воспользоваться счастливой возможностью избегнуть смерти? Да кому от этого будет лучше? А обо мне ты не беспокойся. Муж так дорожит каждой моей лаской, что не посмеет сделать мне какую-либо неприятность!
Женевьева не узнавала теперь своей госпожи. Куда девалась ее прежняя нерешительность и робость! От них не осталось и следа. Глаза Аврелии горели восторгом и отвагой. Заметно было, что в ней совершилась решительная перемена.
Рабыня в душе горячо возблагодарила за это Господа и, взглянув в последний раз с самой беззаветной преданностью на свою госпожу, почтительно поцеловала ее руку.
— Иди же скорее, моя дорогая! — наклоняясь и целуя ее, промолвила Аврелия. — А это вот тебе на дорогу! — добавила она, отдавая Женевьеве небольшой кошелек, наполненный золотом.
Как родные сестры простились они, и Женевьева, напутствуемая пожеланиями своей госпожи, спешно направилась по дороге, ведущей за город.
Глава VIII. Подслушанный разговор
Женевьева осторожно пробиралась по темным и тесным улицам Иерусалима, направляясь к выходу из города. Наступала ночь. Кругом расползалась страшная темь. Едва заметными силуэтами выступали из нее дома иерусалимских богачей.
На улицах давно уже стихло всякое движение. Все жители попрятались по домам, и пустынные городские окраины под мраком сгустившихся сумерек выглядели еще мрачнее, еще неприветливее.
Робко, как тень, скользила Женевьева вдоль вытянувшихся заборов и зданий, — как вдруг ее внимание привлекли чьи-то шаги, гулко отдававшиеся в ночной тишине. Она остановилась и вся замерла, стараясь ничем не выдать своего присутствия. Этому помогал отчасти выступ одного из домов: он совершенно скрывал ее от глаз пешехода, идущего с противоположной стороны.
Вскоре из-за поворота улицы вывернулись две фигуры, в которых по длинным кистям одежд и широким филактериям[65] можно было тотчас узнать гордых и важных фарисеев, если бы не препятствовал этому окутывавший улицы сумрак.
— Скоро будет положен конец смелым речам Назаретского Учителя: план составлен верный и ловкий! Надо лишь выждать удобное время для его выполнения! — говорил один из фарисеев, довольно тучный мужчина.
Голос его вырывался из груди хриплыми нотами. Точно старые часы, в которых с летами накопилось много пыли, вдруг вздумали раскашляться и захрипели всеми своими колесиками и пружинами.
— Да! — растягивая слова и заметно гнусавя, подтвердил его спутник. — В умной голове Боруха создался хороший замысел! Да и ко времени подвернулся этот перебежчик! Он, очевидно, разочаровался в Проповеднике кротости и милосердия, и сребренники показались ему более ощутимым благом!
В словах говорившего ясно звучала злобная ирония.
Эти два собеседника возвращались сейчас с заседания синедриона, которое только что состоялось во дворце первосвященника Каиафы. Гордо высившийся на самой вершине холма, с блестящей кровлей дворец Каиафы принадлежал к самым величественным зданиям Иерусалима и большей частью служил местом для совещательных собраний городских старейшин.
Настоящее собрание было особенно бурным. При одном упоминании о Назаретском Учителе страсти закипали. Книжники и фарисеи с пеной у рта изрыгали богопротивные хулы на Того, Кто был другом обездоленных и Обличителем притеснителей. За общим шумом голосов трудно было разобрать, кто и что говорит. Получалось впечатление шумного, беспорядочного базара, на который, казалось, собрались не аристократические верхи иерусалимского общества, а самые жалкие подонки его, обитатели ночлежных домов и бездомные бродяги.
В самый жаркий момент совещания к первосвященнику подошел слуга и почтительно доложил ему, что какой-то человек желает видеть его и говорить здесь, в синедрионе. Разом все смолкло. Глаза присутствующих с недоумением остановились на первосвященнике. Доклад слуги для всех был полной неожиданностью.
— Разве ты не знаешь, что во время совещаний у нас не позволяется входить сюда посторонним? — грозно сдвигая брови, закричал на слугу первосвященник.
— Но этот человек, — робко возражал слуга, — из числа постоянных спутников Назаретского Плотника, и он хочет что-то важное сообщить вам о Нем!
Все находившиеся в совещательной комнате многозначительно переглянулись, а первосвященник дал знак рукою впустить в зал пришедшего незнакомца. И вот Иуда является пред синедрионом. Без всяких предисловий он предлагает этому неправедному сонмищу:
— Что вы дадите мне? И я вам предам Его…
Вопрос был поставлен до наглости откровенно и прямо, чем значительно упрощалось дело. И это всех скорее понял своим хитрым умом один из членов синедриона — Борух, почему он первым и поднял голос за то, чтобы воспользоваться предложением предателя.
Немедленно же были выработаны все подробности касательно взятия под стражу Праведника. Еще полные неостывших чувств вражды к Тому, Кто только что был предметом совещания, члены синедриона делились теперь впечатлениями сегодняшнего вечера друг с другом.

Женевьеве, таким образом, совершенно случайно удалось узнать тайну бесчеловечного замысла. Вслушиваясь в разговор знатных книжников, направлявшихся, очевидно, через северные ворота Иерусалима к своим загородным виллам, она чувствовала, как нервная дрожь электрическим током пробежала по всему ее телу.
Но вот шаги запоздавших пешеходов смолкли.
Женевьева вышла из своего убежища и в нерешительности остановилась. Она не знала, что ей надо теперь делать: спешить ли в родную Галлию, где, может быть, она найдет своего мужа, а вместе с ним и утраченное было счастье жизни, или же остаться здесь, в Иерусалиме и переждать, чем закончится попытка синедриона, решившегося обречь Спасителя на погибель…
Нет, она не может бежать отсюда, когда ее Божественному Учителю грозит опасность. И об этой опасности пока никто не знает. Она составляет тайну дворца Каиафы!!
Низко на грудь склонилась голова Женевьевы. На ее лицо легла печать тяжелой, мучительной думы…
— Боже! — вдруг упав на колени и ломая в отчаянии руки, зарыдала несчастная женщина… — Боже! Наставь меня. Укажи мне, что я должна делать! Направь на тот путь, по которому мне надо идти…
В страшном бессилии Женевьева опустилась на каменные плиты помоста. Прикосновение к холодному камню несколько освежило ее разгоряченную кровь. Рыдания понемногу стали стихать. И наконец, она с решимостью поднялась и, пошатываясь, сделала несколько шагов. В ее голове в этот момент… не сложился, а именно промелькнул неожиданный план. Правда, она его не продумала хорошенько. Он был подсказан ей не рассудком, а женским сердцем… Но в глазах Женевьевы читалось столько огня, вся она была так охвачена своим новым порывом, что прежнего мучительного колебания у нее как не бывало. Женевьева знала теперь, что надо ей делать, и более уверенной походкой направилась дальше.
— Во что бы то ни было спасти Его… Предупредить опасность… Рассказать о ней всем, кто любил Его слушать! — шептали ее помертвевшие губы.
— О, мы вырвем Его из хищных лап фарисеев! В Нем — вся наша жизнь! Он — свет очей наших!! — не переставала повторять Женевьева, совсем уже приблизившись к воротам города…
Она знала, что Христос Спаситель часто любил уединяться от шума столицы в соседнее, почти пригородное селение — Вифанию. Там Он отдыхал душой среди святого семейства, состоявшего из брата Лазаря и двух сестер его — Марфы и Марии.
И сейчас наивная Женевьева надеялась застать Его здесь и вовремя предупредить о той засаде, которую готовили Ему фарисеи.
Вот она миновала городские ворота и очутилась за стенами Иерусалима. На востоке чуть-чуть прокрадывалась слабая полоска рассвета.
Женевьева стала подниматься по склону горы Елеонской и потом с высоты ее оглянулась на оставшийся позади город. Наступавшее утро боролось еще с мраком ночи, но мраморные башни и золоченые кровли храмовых зданий вырисовывались уже из темноты глубокой долины.
Вдруг до слуха Женевьевы долетел вырвавшийся откуда-то стон. Она прислушалась.
Стон, слабый, едва заметный, повторился. Женевьева пошла на него и вскоре увидала на горной тропинке, под пальмовым деревом лежащего почти без чувств человека. Не успев вглядеться в черты его, она бросилась отыскивать скорее воды, чтобы освежить ею лицо несчастного.
Глава IX. С родных берегов
Для проворной Женевьевы отыскать и принести воды было делом одной минуты. Освежая ею голову несчастного страдальца, она имела теперь полную возможность подробно рассмотреть черты его лица. Пред нею лежал сын ее родины. Благородный профиль, высокий, открытый лоб, с энергичной складкой между красиво изогнутыми бровями, строго очерченный подбородок, опушенный девственной бородой, — все это изобличало силу воли и мысли в неподвижно лежащем незнакомце. Таковы были все сыны далекой Галлии, когда-то гордые и неприступные орлы свободы, теперь же покоренные всемирными владыками — римлянами, униженные и оскорбленные, как бы запертые в клетках…
Тревожной радостью забилось сердце Женевьевы, когда она узнала в этом незнакомце своего соотечественника. С удвоенным рвением и заботливостью она стала приводить его в чувство…
Вот помертвевшие губы что-то прошептали. Женевьева нагнулась, вслушиваясь в неясный, неразборчивый шепот…
— Пить… пить… — повторял несчастный.
О, какой волшебной музыкой прозвучали для Женевьевы эти слова, сказанные на ее родном наречии! Бедная служанка за время долгого рабства успела почти совершенно отвыкнуть от звуков родного языка! Когда Женевьева утолила жажду незнакомца, то последний как будто несколько оживился. Он открыл глаза и признательным взглядом поблагодарил добрую женщину.
— Ты — добрый дух! — сорвалось с его губ.
Краска волнения залила лицо Женевьевы. Ей так о многом хотелось расспросить теперь своего соотечественника. В его немногих, как бы вскользь брошенных словах ей почуялся и плеск волн родимого моря, и шум тенистых лесов, в чаще которых ютился когда-то ее родной поселок, и опьяняющий аромат горных трав и цветов, как бы внезапно повеявший на нее с далеких берегов дорогой Галлии.
Но незнакомец опять закрыл глаза. Рассвет наступающего дня еще больно резал его утомленное зрение, а легкий стон, вырвавшийся из его груди, возвратил Женевьеву снова к действительности. Она поняла, что еще рано тревожить несчастного расспросами: надо прежде позаботиться об устройстве его в какое-нибудь укромное местечко и об уходе за ним, пока не восстановятся его силы.
Несчастный же, по-видимому, находился в полном расслаблении. Правда, на его теле нигде не заметно было ран. Место, где он лежал, не было обрызгано кровью… Но стоило взглянуть на его мертвенно-бледное лицо и крепко сжатые губы, чтобы понять, как жестоко страдает этот бедный, беспомощный сын Галлии.
Только что вчера по узкой дороге, ведущей к Иерусалиму, прогнали целую партию невольников. Цепи на них глухо звенели. Бич погонщика то и дело со свистом перелетал с одной спины на другую, немилосердно подгоняя отстававших. Обессиленные тяжелой дорогой, под знойными, палящими лучами солнца, которое своими вертикальными лучами безжалостно жгло и ударяло прямо в голову, невольники с трудом тащились, еле передвигая свои распухшие, израненные ноги…
Ни грозные окрики приставленных к ним погонщиков, ни хлопанье и удары бича, — ничто, кажется, не могло уже заставить их прибавить хоть несколько шагу. Силы совсем оставили несчастных, а глаза их были полны смертельной тоски и отчаяния… Наконец, один молодой галл вдруг зашатался и со стоном упал на землю. Один из погонщиков тотчас подбежал к нему и стал с остервенением наносить удар за ударом. Но упавший невольник продолжал лежать без движения.
— Будь ты проклят, собака! — со скрежетом зубов проворчал погонщик, вполне убежденный уже, к своей досаде, что несчастный поражен солнечным ударом и больше не встанет на ноги.
Он злобно толкнул упавшего ногою и побежал догонять свой караван.
Все больше и больше стихали шаги удалявшейся толпы невольников, а вместе с этим все слабее и слабее делались доносившиеся окрики злобных провожатых…
Наконец, кругом все замолкло. Солнце поворотило на запад. Вскоре по земле побежали вечерние тени. Наступила ночь. В воздухе значительно посвежело.
Уже не один путник прошел за это время мимо несчастного невольника, но все равнодушно отворачивались от него. Никто не хотел помочь страдальцу: на нем как бы сбывалась вся жизненная правда притчевого рассказа Спасителя.
Вот неспешной походкой человека с солидным, почетным положением проплыла мимо важная фигура фарисея. С тупым равнодушием посмотрел этот гордый аристократ на лежавшего у дороги невольника, который был для него ни больше ни меньше, как пария[66], — презренный человек, — но ни в коем случае не ближний. Подгородные[67] жители, обвешанные мехами и корзинами, торопливо проходили здесь же, направляясь в Иерусалим для сбыта там различных продуктов своего хозяйства, или же обратно из Иерусалима, под сень своих виноградников с той или другой выручкой, запрятанной в складки широкого пояса. Но никто, кроме жалкой, бесправной рабыни не обратил внимания на страдальца, неподвижно лежавшего близ дороги.
А между тем ночная прохлада освежила его. Он постепенно стал приходить в себя, и сознание начало к нему возвращаться. Но все тело, избитое, покрытое страшными кровоподтеками и рубцами, так нестерпимо ныло, а жажда с каждой минутой делалась столь мучительной, что несчастный в отчаянии просил себе лишь смерти.
Сам он не мог двинуть ни одним членом, и только стон, будивший кругом притихшую, засыпавшую ночь, обнаруживал страдания несчастного. Но никто не отзывался на этот стон. Лишь эхо слабым отзвуком откликалось на него…
Отчаяние все сильнее и сильнее охватывало бедного галла, и появление Женевьевы было как нельзя более кстати. Радость и надежда стали прокрадываться в сердце невольника, когда он заметил, с каким вниманием ухаживает за ним эта незнакомая, но, несомненно, добрая женщина.
Между тем Женевьева вспомнила, что неподалеку от дороги находится виноградник Симона Киринейского.
Его жена Суламита давно знакома ей. Это добрая женщина, хотя и самарянка. Муж ее был либертинец[68], родом из Кирены, торгового города на берегу Африки. Там в то время существовала многочисленная община из сосланных иудеев. Она имела даже свою великолепно отстроенную синагогу. Еще в ранней молодости к этой общине примкнул Симон, сделавшись пришельцем врат[69], на обязанности которого состояло исполнение так называемых семи заповедей Ноя[70].
Женившись на Суламите, он поселился вблизи самого Иерусалима и в его окрестностях приобрел себе участок земли, часть которого пошла под виноградники, а часть — под полевые запашки[71].
Вот в дом этого Симона и повела Женевьева своего несчастного молодого галла. Она надеялась найти там для него хороший приют.
Уже утро окончательно вступило в свои права, и все кругом начало понемногу наполняться жизнью просыпавшегося дня, когда они подошли к дому Симона, прятавшемуся в зелени густо посаженных деревьев.
Суламита была на ногах и, стоя посреди комнаты, убирала свои чудные волосы.
Маленького роста, тонкая и хрупкая, но все же хорошо сложенная, она производила впечатление замечательно чистой, нежной и женственной натуры. Ее большие, черные, с легкой поволокой глаза глядели как-то по-детски, а в них сквозила одна лишь доброта и приветливая ласка для всех без исключения. У ее ног играли два мальчика. То были — Александр и Руф.
На легкий стук Женевьевы, она тотчас вышла на порог своего дома и, увидев гостью, радостно бросилась навстречу к ней.
— Вот не ожидала совсем увидеть тебя здесь, — здороваясь, заговорила Суламита, но, увидев незнакомца, который еле стоял, опираясь на плечо Женевьевы, она смутилась и замолчала.
Когда же Женевьева разъяснила ей истинную причину, приведшую их сюда, то Суламита стремительно бросилась в комнату, чтобы там скорее приготовить постель для несчастного галла.
Глава X. Среди друзей
В доме Симона Киринейского Женевьева нашла для своего соотечественника самый надежный приют и убежище. С предупредительностью, на которую способно было только порывистое женское сердце, добрая Суламита постаралась тотчас же обставить у себя положение больного всевозможными удобствами. Но при том сложном хозяйстве, которое велось в доме Симона, и добрая половина забот о котором лежала на плечах самой Суламиты, ей некогда было отдавать много времени на уход за несчастным галлом. Кроме того, на руках ее были два резвых и шустрых мальчика, радостные голоса которых раздавались всюду и не смолкали в течение целого дня. Один восьми, другой семи лет, — эти дети требовали за собой неустанного присмотра и не отходили от матери ни на шаг. То и дело слышались их просьбы, обращенные к Суламите:
— Мама! — приставал младший, более резвый и легкомысленный ребенок. — Давай опять играть в водоносы! Ты меня посадишь на плечо и понесешь… Вот… знаешь, как девушки носят у нас свои кувшины… А в них вода плещется… Чистая, холодная, свежая… Право, это так хорошо, так занятно! Или нет, мама, не то… Сегодня мы пойдем в виноградник, и я там буду устраивать пруд… В него напущу разных рыб и стану их кормить, но… только не мясом рабов. Да! Ведь ты не слыхала, что папа рассказывал нам перед своим отъездом? А это интересно. В Риме будто бы, в садах императора, вырыты огромные водоемы. В них, говорил нам папа, плавают громадные, громадные рыбы… И вот рабов убивают… И знаешь, мамочка, для чего? Для того, чтобы мясом их кормить этих рыб…
— Как это страшно, мамочка! — с чувством ужаса в голосе продолжал шаловливый, но нежный сердцем Руф, прижимаясь к любимой матери.
— Не только, милый, страшно, — замечала ему мать, — но и преступно. Ведь ты никогда не будешь у меня таким зверем!
И Суламита нежно ласкала при этом своего дорогого, любимого малютку.
— Мама! — обращался к ней другой, более вдумчивый и серьезный мальчик, в мечтательных глазах которого всегда сиял огонь живой мысли. — Расскажи нам опять про тот старый колодец патриарха Иакова, к которому ты, бывало, со своими подругами ходила за водой! Я так люблю слушать этот твой рассказ…
И любящая мать, довольная пробуждающейся любознательностью, которую замечала в своих детях, всегда старалась как можно полнее удовлетворить их детскую пытливость.
Большую часть дня она проводила с ними, становясь сама на это время как бы ребенком. И если бы кто увидел ее со стороны в эту минуту, то сказал бы, что другой радости, которая была бы чище, святее и восторженней радости материнской, здесь, на грешной земле, не бывает. Точно маленькая девочка, Суламита прыгала и возилась со своей детворой. Стоило посмотреть на то, каким румянцем загорались в это время ее смуглые щеки, как блестели ее темные глаза, чтобы понять, какое счастье наполняет сердце этой молодой матери.
Вся отдавшись детям, она, однако, находила время приглядеть и за хозяйством. Особенно теперь приходилось много заниматься ей домашними делами, так как муж ее Симон временно отлучился на ее родину, к своему тестю, для совещания с ним по какому-то торговому предприятию.
Женевьева отлично понимала, что, как ни велико было гостеприимство и радушие Суламиты, но ухаживать за больным галлом будет для нее большим затруднением. Но другой женщины, которая могла бы помочь Суламите, нигде рядом не было. И Женевьева решила, что видно так Богу угодно, чтобы она осталась до времени здесь послужить больному соотечественнику. И она, действительно, осталась.
По вечерам, когда в доме Симона оканчивался ряд дневных забот, дети были уложены и больной засыпал, совершенно успокоенный мыслью, что он попал к добрым людям, которые отнесутся к нему, как истинные друзья, Женевьева и Суламита подолгу сидели у порога хижины, наслаждаясь затишьем медленно догоравшего вечера и наступавшей за ним ночи. У каждой из них лежало на душе много самых разнообразных впечатлений, которыми им хотелось поделиться друг с другом.
Но особенно острый интерес для той и другой представляли последние события из жизни Иерусалима.
Женевьева рассказывала, какое озлобленное волнение переживается теперь там первосвященниками и книжниками по поводу новых чудес Иисуса Назарянина, как только что состоялся заговор на Него, благодаря содействию какого-то предателя из Его учеников, о чем удалось случайно услышать ей при выходе из города из разговоров двух встретившихся ей фарисеев.
— Боже, спаси Его от злобы гордых первосвященников и законников! — с мольбой в голосе воскликнула Суламита.
— О, Женевьева! — обратилась она к своей гостье. — Знаешь ли, какое светлое, радостное воспоминание храню я о Нем. Ведь Он благословил моих детей. Если бы ты видела Его божественный взор, который Он остановил при этом на моих мальчиках! Сколько в Нем выражалось святой любви к этим крошкам…
— «Если не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное» (Mф.18:3). Этих слов я никогда не забуду!
— Помню, вскоре после сильных дождей наступили ясные, солнечные дни, — продолжала свой рассказ Суламита. — Дышалось легко и свободно. Вся природа казалась как бы обновившейся и посвежевшей. Моих мальчиков потянуло из душной комнаты на простор зеленевших полей. Незаметно мы вышли на дорогу, которая пролегает из Иерусалима в Вифанию. Я еще издали видела, как по дороге двигается какая то небольшая группа: это был Назаретский Учитель со Своими учениками. Как Он приветливо посмотрел на меня! Точно я никогда не была самарянкой, презираемой всеми иудеями. А когда мои любимые детки подошли к Нему и Он возложил на них Свои руки, меня охватил такой пронизывающий насквозь трепет, какого я не испытывала за всю свою жизнь! Неужели же на Него, на нашего Утешителя, куют свои злокозненные козни жестокие книжники! Нет, Господь сохранит Его для нас, которых Он справедливо уподоблял овцам, «не имущим пастыря»…
И подолгу беседовали эти две женщины, связанные между собою одним общим чувством горячей, беззаветной преданности ко Христу Иисусу…
Вскоре возвратился из своей поездки сам Симон.
С виду неприветливый и суровый, он ничего не имел против нахождения в его доме больного иноплеменника и даже сам не раз подходил к постели больного, чтобы ободрить его приветливым взглядом или улыбкой.
Но силы несчастного галла восстанавливались слабо. Присутствие Женевьевы было необходимо для него. Один только вид соотечественницы поддерживал в нем бодрое настроение духа. К тому же, никто, кроме нее, не понимал его родного наречия, и только с ней время от времени он мог перебрасываться хоть несколькими отрывочными словами. В них он отводил свою наболевшую душу и рассеивал тоску по родной стороне, иногда особенно сильно сжимавшую его молодое сердце…
И Женевьева с большим усердием исполняла обязанности сиделки, стараясь всячески облегчить страдания больного. Только воспоминание о подслушанном разговоре фарисеев вызывало по временам на ее лице тень глубокой, сосредоточенной думы, и при этом тонкие, сухие губы Женевьевы тихо шептали молитву.
Глава XI. Потрясающая встреча
Наступил канун Пасхи. Было светлое, ясное утро. После проливного дождя, который только что упал среди ночи на землю, вся природа казалась особенно полной жизни и радости. Солнце стояло уже довольно высоко, когда проснулся Симон. Он тотчас же отправился на свои поля, где ему надо было справиться, не вымыло ли его посевы так обильно упавшим дождем.
Уже было два часа дня, когда Симон с осмотра полей возвращался домой. Ему пришлось, между прочим, спускаться по склону Голгофской горы.
Когда тропинка, извиваясь, точно змея, вывела его на то место, с которого открывался восхитительный вид на всю иудейскую столицу, он увидел, что навстречу ему направляется из города печальное шествие: вели Осужденного на казнь.
Это зрелище само по себе не имело ничего нового и необыкновенного с тех пор, как могущественные римляне завладели Иудеею. Но в этот раз процессия отличалась особенным характером и привлекала к себе внимание всех встречавшихся с нею и проходивших мимо.
Всю дорогу заполняла многочисленная и довольно живописная по разнообразию костюмов толпа. В ней смешалось все: тут были и представители аристократических слоев Иерусалимского общества, и бездомные бродяги, и вообще бедные жители — обитатели столичных трущоб и окраин. Впереди всех шел Осужденный. Медленно подвигался Он, с трудом переступая под тяжестью Креста, который давил Его плечи.
Позади Него шагали римские воины, на грубых лицах которых ничего не выражалось, кроме полнейшего равнодушия ко всему происходившему вокруг них. За ними теснилась народная толпа, из которой по временам вырывались то насмешливые, то ликующие возгласы.
Плачущие женщины замыкали это странное шествие.
Едва процессия миновала Симона, как Несший Крест упал, совершенно изнуренный тяжестью Своей непосильной ноши. Силы Ему окончательно изменяли. Из-под колючего тернового венца, надвинутого истязателями на самое чело Страдальца и вонзившегося в тело своими острыми иглами, сочилась кровь и, смешиваясь с выступавшим на лбу холодным потом, стекала по лицу крупными каплями…
Кажется, самое грубое, самое жестокое сердце должно было содрогнуться и проникнуться жалостью к несчастному Страдальцу. Но толпа ничему не внимала. Озлобленная, она наслаждалась поруганным видом Того, Чей голос так недавно еще учил и проповедовал этому народу властью Сына Божия, а не как иудейские книжники и фарисеи.
Грубые воины с особой бессердечностью относились к Осужденному. Когда Он в изнеможении упал, то один из солдат жестоко ударил Его тупым концом своего копья, принуждая тем подняться на ноги.
Но и среди такого унижения Осужденный не утратил Своего божественного величия. В Его взоре стояла глубокая грусть. Он скорбел, видимо, о темноте народной, о нравственной распущенности этой толпы, духовное обнищание которой подготавливалось годами. Ему больно было видеть невежество этих людей, «не имущих пастыря», поднимающих свою руку на Того, Кто, на самом деле, нес им спасение и правду.
Симон заинтересовался повстречавшимся ему своеобразным шествием и ближе подошел, чтобы рассмотреть его. Когда он протиснулся сквозь ряды женщин и очутился около наемных римских воинов, начальствовавший над ними центурион тотчас заметил его мощную, богатырскую фигуру. Он подскочил к нему и, схватив крепко рукой, потащил его ко Кресту. Солдаты мигом взвалили тяжелую ношу на плечи Симона, и он как-то машинально, не отдавая себе отчета в происходящем, зашагал вперед со страшной поклажей.
Не вследствие робкой покорности Симон так послушно исполнил бесцеремонное приказание центуриона, но в силу какого-то особенного чувства, которого он сам даже хорошенько не понимал. Симон был не из трусливых натур. Запугать его было нелегко. От природы крепкий и здоровый, он в разнообразных приключениях, которые так часто выпадали ему в жизни, успел закалить свою волю и выработать стойкий характер, полное самообладание и неустрашимость.
При других обстоятельствах бесцеремонность центуриона вызвала бы с его стороны очень резкие замечания, и он ни за что не принял бы участия в этой процессии. Но теперь Симон исполнил все молча и беспрекословно.
Поднимаясь с Крестом на вершину Голгофы, он чувствовал, как по всему телу его разлилась вдруг внезапная слабость, как сердце будто бы замерло, а в ногах появилась дрожь. Правда, Крест был необыкновенно тяжелый. Может быть, самый тяжелый из всех, которые когда-либо делались для осужденных. Однако Симон был настоящий атлет и не тяжесть Креста на самом деле давила его. Он был до глубины сердца потрясен необыкновенным величием Страдальца, Его незлобием и кротостью. Вот почему он и почувствовал себя пред Ним смирившейся овечкой. Лев превратился в кроткого агнца.
Симон, насколько позволяло ему новое, непривычное для него положение, стал всматриваться в окружающую его толпу, бросая по сторонам взгляды, полные недоумения. Вот рыдают какие-то женщины. На их лицах написано столько страдания и муки, столько растерянности и горя, что, кажется, с Этим Страдальцем, осужденным на казнь, они теряют все, что только есть у них дорогого в жизни.
Симон невольно обратил на них свое внимание. Ему уже не раз приходилось встречаться на улицах святого города с подобными процессиями. Со времени римского владычества они перестали быть редкостью. Но характер зрелища обыкновенно был другой. Никогда еще шутки и ликования, раздававшиеся кругом, не перемешивались с такими горячими, с такими искренними, надрывающими сердце рыданиями, какие слышались сейчас.
«О чем же плачут эти женщины? — спрашивал себя Симон. — И о, как они плачут! Что-то невысказанное, таинственное кроется в этом плаче!..»
Но, чу… Страдалец как будто заговорил! Да, Он обращается к плачущим женщинам, Он утешает их.
— Дщери Иерусалимские! — раздается Его спокойный, властный голос. — Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших; ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие! Тогда начнут говорить горам: падите на нас! и холмам: покройте нас! ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?
Эти слова, сказанные спокойным, кротким голосом, полным глубочайшего сострадания к несчастным, таинственно прозвучали для Симона. Он не понял хорошенько скрытого в них смысла. Но для него ясно уже было, что так говорить мог только величайший Праведник.
Но вот и вершина Голгофы — конец крестного пути. Симон сложил с себя тяжелый Крест, так отдавивший его богатырские плечи, и хотел было из любопытства остаться и присутствовать при казни. Но когда послышались страшные удары молотка, прибивавшего гвоздями осужденных к крестам, то Симон не выдержал и, закрыв лицо руками, стремительно бросился прочь от страшного места…

Глава XII. Голос сердца
Долго, без всякой цели, с поникшей головой бродил по улицам города Симон. Он не в силах был освободиться от давивших его впечатлений настоящего дня и особенно от последних минут этой поразительной встречи. Божественный Страдалец не выходил из его головы. Его поруганный образ с Крестом на плечах, с колючим терновым венцом на голове стоял как живой пред Симоном — с печатью божественного величия на лице даже среди самых тяжких страданий и унижения.
Между тем на улицах везде замечалось необычайное оживление. Со всех сторон стекались в Иерусалим иудеи на праздник Пасхи. Куда ни поворачивал Симон, везде было движение, везде улицы полны народом и отовсюду прибывали все новые и новые толпы богомольцев.
Накаленный знойным солнцем и спертый стенами улиц воздух был особенно тяжел, и Симону казалось, что он скоро совсем не выдержит и задохнется здесь.
— Скорее вон из этих узких переулков, из этой шумной, веселой толпы! — сказал он про себя и поспешно стал выбираться из города.
Вскоре ему стало чувствоваться несколько полегче.
Правда, воздух и за городом был почти так же удушлив и зноен, но, по крайней мере, здесь не было давки и шума уличной толпы.
Симон вздохнул здесь посвободнее.
Вот пред ним блеснул ручеек, светлой серебристой полосой пробегавший у подошвы горы. Симон наклонился и, припав к нему, жадными глотками стал утолять свою жажду. Затем горячими ладонями он зачерпнул полные горсти холодной воды и начал смачивать ею виски и освежать свое пылающее лицо.
Симон хотел было присесть здесь, чтобы отдохнуть и несколько прийти в себя от пережитых волнений, как вдруг кругом все заколебалось, послышался подземный гул, и над землей нависла черной пеленой непроницаемая тьма.
Ужас вновь охватил Симона.
— Куда же девалось солнце! — вскричал он, чувствуя, как дрожит его голос и как волосы дыбом поднимаются на его голове…
— Ведь едва за полдень, — уже почти шепотом продолжал он, — солнцу совсем не время еще садиться за горизонт!
И в страхе Симон опять побежал в город, по направлению к храму, высившемуся на горе Мориа.
Наступившая темнота и подземные раскаты взволновали и все население Иерусалима. Всюду встречались Симону растерянные, побледневшие лица, которые или тихо шептали молитву, или же издавали громкий вопль.
Правда, изредка вырывались отдельные возгласы, в которых слышалась чья-то затаенная насмешка над обезумевшей, устрашенной толпой.
— Это не таинственные знамения! — кричали какие-то люди. — Это просто затмение солнца!..
Но эти возгласы не действовали успокаивающим образом на толпу. Многие, даже знатные матроны и женщины с детьми на руках, повинуясь общему стихийному влечению, охватившему весь народ, тоже искали себе убежище в храме.
Просторный храм был почти переполнен, а число ищущих укрыться в нем все росло и росло. Здесь из уст в уста передавалась страшная весть о только что происшедшем на Голгофе, и каждый не мог в душе не связать всех поразивших его явление с тем беззаконным делом, которое творилось там, на мрачной горе…
Но вот снова пронесся страшный удар, земля заколебалась, дрогнули массивные стены Иерусалимского храма, и своды его наполнились гулом.
Всеми людьми овладела страшная паника. Мысль, не рушится ли храмовое здание, наполнила ужасом многие сердца, и все бросились вон из храма.
Вышел и Симон. Он направился к Голгофе, которая чернела вдали, вся окутанная темными, зловещими облаками. Последние, кружась и свиваясь в громадные клубки, ползли на город.
Едва-едва в темноте различал глаз стоящие на вершине горы три креста. Тела еще с них не были сняты. Около них стояло несколько фигур, но Симон не мог разглядеть их лиц.
Ближе к нему и яснее вырисовывалась красивая фигура всадника. То был римский сотник. Военный плащ красиво лежал на его плечах, а сам он весь впился своим пристальным взглядом в божественные черты Того, Кто висел здесь посреди двух распятых разбойников.
— Воистину, Человек Сей праведен бе! — наконец вырвалось у него восклицание, и этот крик смятенной души, невольно слетевший с уст римского сотника, донесся и до Симона, который стоял тут же, невдалеке, но несколько ниже, по склону горы…
— Да, это воистину Сын Божий! — повторил за сотником с убеждением и Симон, спускаясь с Голгофы.
Это был голос его уверовавшего, простодушного человеческого сердца.
Глава XIII. Новая жизнь
Был девятый час пополудни.
Смятение в возмущенной природе, видимо, улеглось. Тьма, которая раньше густым облаком покрывала землю, теперь заметно таяла и бледнела. Небо становилось все чище и чище. Вскоре брызнули лучи солнца и золотыми нитями повисли над миром. Мириады птиц и насекомых снова закружились в воздухе и наполнили его разноголосым концертом. Ароматная зелень, повеселевшая и посвежевшая после дождя, распространяла кругом волны благоухания…
Словом, в природе чувствовался обычный, а может, и несколько повышенный прилив жизни. И легкомысленная толпа, не привыкшая в своих действиях давать себе отчет, как ни в чем не бывало, возвратилась к своим прежним будничным хлопотам и развлечениям.
Один Симон не мог позабыть совершившихся на его глазах поразительных явлений. Все происшедшее так сильно потрясло его и так глубоко запало ему в душу, что от впечатлений этого дня он долго-долго не мог освободиться. Наконец, изнемогая от усталости, разбитый, Симон направился домой. При входе в дом он встретил свою жену, которая, видимо, собиралась куда-то выйти… Ее беспокойный взгляд с радостью остановился на возвращающемся муже, и она с волнением заговорила:
— Дорогой Симон, ты здоров? С тобой не случилось ничего неприятного? Мы уже давно тебя ждем. Дети не раз настойчиво обращались ко мне все с одним и тем же вопросом: «А где же папа?» Но что я могла сказать им? Чем успокоить, когда у меня у самой сердце разрывалось на части от переживаний за тебя? Ведь ты знаешь, какое теперь время. В Иерусалим тянутся по всем дорогам толпы богомольцев, а вместе с ними сколько пробирается в город подозрительных людей…
— Никогда праздники не обходятся без несчастья! — воскликнула Суламита, теперь довольная и спокойная за участь мужа.
— Да, ты верно сказала, моя добрая Суламита! И настоящий праздник не обошелся без несчастья, — грустно заметил Симон.
На лице Суламиты опять отразилась тревога. Но она не решилась подробно расспрашивать мужа, и смысл его слов остался для нее загадкой. Ласковое же обращение Симона с нею, вообще очень для него необычное, наполнило душу Суламиты самой живой радостью.
Между тем Симон начал готовиться ко вкушению пасхи, которая неопустительно каждый год совершалась в его доме. Правда, семья Симона не была чисто иудейского происхождения. Однако Суламита никогда не забывала украсить свой дом для встречи праздника. А в настоящий раз в этом много помогала ей и Женевьева.
Дом был тщательно вычищен. Нигде не оставалось и следа от кислого теста. Пресные пасхальные хлебы уже были готовы. В назначенное законом время и с точным соблюдением всех постановлений Симон заколол нарочито приготовленного агнца, и часть его крови возлил на алтарь всесожжения. Затем агнец был испечен так, что кости его остались несокрушенными… Тут же, на столе, лежали пучки горьких трав, — необходимая приправа при вкушении пасхального агнца. Своим несколько пряным ароматом они наполняли весь дом.
В первый час ночи начался праздник. Симон хранил глубокое молчание. Он, казалось, весь сосредоточен был, но только не на той праздничной церемонии, которая совершалась сейчас, а на чем-то другом, постороннем.
После трапезы Симон, всегда угрюмый, неприветливый и скупой на ласки, с особенным чувством поцеловал детей и жену. Мало этого, он даже осведомился о положении больного галла и, когда услышал от Женевьевы, что ему стало лучше, от души поблагодарил ее за усердный уход…
Все это радостно поразило Суламиту. Не могла не заметить этого и Женевьева. Как ни мало знала еще она Симона, но и от ее проницательного взгляда не укрылась происшедшая с ним перемена. Правда, он по-прежнему был очень сдержан, но откуда вдруг появилась эта теплота, эта задушевность, которые выражались теперь в каждом взгляде, в каждом случайно брошенном слове…
Симон как бы переродился. Это была грубая, чувственная натура, со зверскими инстинктами, но Крест победил ее. Расчетливый хозяин, весь погрузившийся в свои торговые и хозяйственные интересы, сухой делец и практик, вне материальных соображений ничего не хотевший знать, Симон вдруг с искренним негодованием заговорил о черствости еврейского народа, не раз избивавшего посылаемых к нему от Бога пророков. Но изумление Суламиты еще более возросло, когда она услышала из уст Симона приглашение пойти на следующий день в Иерусалимский храм, дабы присутствовать там при принесении великой жертвы и принять участие в общественном богослужении.
— О, Женевьева! — обратилась она к своей гостье, когда муж вышел из комнаты. — Как я счастлива, как я довольна нынешним днем!
И она со страстным порывом поцеловала недавно бывшую рабыню.
— Но знаешь, что: когда мы завтра отправимся в храм, то дети останутся здесь одни. Не правда ли, ты приглядишь за ними, дорогая?
И на лице Суламиты при этом отразилась такая трогательная, умоляющая просьба, что не только Женевьева, но и всякая другая на ее месте не решилась бы отказать этой милой женщине в ее просьбе.
— Не беспокойся, добрая Суламита! Твоих деток я постараюсь уберечь здесь от всего худого… Ты же, когда будешь в городе, разузнай, пожалуйста, что-нибудь о нашем Божественном Учителе. Мою душу томит неизвестность, — грустно проговорила гостья.
— Да, я это сделаю непременно, — ответила ей Суламита, направляясь к своей постели.
В комнате воцарилась мертвая тишина. Но Суламите долго еще не удавалось заснуть. Сознание, что любимый ею муж стал как будто другим человеком, наполняло ее душу таким восторгом, что всякий сон летел от ее глаз. Симон и сам чувствовал, как сквозь кору бесчувственности и внешней грубости, привитых ему исключительными обстоятельствами его скитальческой жизни, пробиваются наружу благороднейшие стороны человеческого духа. Но почему это с ним происходит, он не мог дать себе ясного отчета. В нем действовала какая-то непостижимая сила, которая неудержимо влекла его, но куда, сам Симон не мог ответить на это. Как только он задавал себе такой вопрос, то пред ним вставал образ Божественного Страдальца:
Когда на муку обреченный,
Толпой народа окруженный
На место казни шел Христос
И Крест, изнемогая, нес…
Глава XIV. Иерусалимские вести
Утром следующего дня Симон вместе с Суламитой отправился в Иерусалимский храм и здесь, в ожидании жертвы, остановился у самого входа, в толпе других богомольцев. Это был храм Ирода, с особенным богатством и роскошью отделанный Иродом за последнее время. Просторный двор был окружен массивной каменной стеной, обшитой снаружи кедровым деревом. Здесь помещался огромный жертвенник. Тут же стояла большая чаша, предназначенная для омовений. Она была сделана в виде распустившейся лилии и называлась «Бронзовым морем». Но вот начался торжественный обряд принесения великой жертвы. Весь народ преклонил колени для молитвы. Оба супруга, тоже коленопреклоненные, опустились на землю и читали про себя очистительную молитву. Когда богослужение закончилось и народ стал расходиться из храма по тесным кварталам святого города, то Симон, в сопровождении Суламиты, тоже вышел из храмовых ворот и, обращаясь здесь к своей кроткой, сияющей молитвенным восторгом супруге, сказал:
— Ты, Суламита, поспеши домой. Тебя, вероятно, давно уже ждут Александр с Руфом. Я же задержусь на несколько времени здесь, в городе. Мне надо зайти к моему приятелю Думаху и покончить с ним одну торговую сделку…
Но не торговые предприятия останавливали Симона в городе. Ему хотелось еще раз посмотреть на то место, где вчера были воздвигнуты три креста для распятия на них осужденных.
— Неужели тело Праведника брошено без погребения? Неужели среди Его последователей и учеников не нашлось никого, кто бы решился снять умершего с Креста и предать Его земле по установившимся обрядам?..
Эти мысли беспокоили Симона в течение всей ночи. И теперь, занятый ими, он поспешно направился к Голгофе, отпустив Суламиту домой.
Та, в свою очередь, тоже была довольна тем, что ей приходится возвращаться домой без мужа. Она помнила поручение, данное ей Женевьевой. Но расспрашивать про Назаретского Учителя всех в присутствии Симона она стеснялась: внутреннее состояние мужа ей было совсем неизвестно. Она замечала происшедшую в нем перемену, но совершенно не знала, чем объяснить ее.
И вот теперь, оставшись одна среди шумной толпы, Суламита начинает вслушиваться в ее многоголосый говор. Какая здесь смесь разных языков, наречий, едва уловимых акцентов!
Вот простодушный житель Галилеи со своей грубоватой речью, но зато богатой яркими образами и красками… Рядом с ним важный аристократ столицы со своим изысканным произношением, которое всегда можно легко отличить от провинциального говора поселян. А вон иудей рассеяния[72], не только на язык, но и на характер которого постоянные столкновения с иностранцами наложили свою особую печать; они несколько стерли в нем резкие черты еврейства, с его замкнутостью и исключительностью…
Суламита долго не могла сосредоточить своего внимания на чем-либо определенном. Ее, отвыкшую от нарядной толпы, сначала все занимало. Но вот до ее слуха долетели чьи-то отрывочные возгласы, которые прозвучали страшным диссонансом среди общего оживленного говора.
— Он Воскрес! Он Воскрес! — с жестами кричала какая-то старая женщина окружавшей ее группе лиц…
И при этом она что-то торопливо, с воодушевлением продолжала рассказывать.
Суламита протиснулась поближе к рассказчице и, несмотря на свою обычную стеснительность, решилась спросить ее:
— Скажи: Кто же это Воскрес!
— Как, разве ты ничего не слыхала? — восторженно заговорила женщина… — Ты не знаешь, Кого на днях распяли на Голгофе? Но Он восстал, Он восстал! Он — Иисус Назарянин, Сын Марии!
Сердце Суламиты учащенно забилось от этой неожиданной вести. Чувства, охватившие ее, были различны, и они вихрем сменяли одно на другое:
«Он, их Божественный Учитель, страдал… И они с Женевьевой ничего об этом не знали… Им не удалось проводить Его на крестную смерть… Да, они остались теперь сиротами… Или, как Он говорил, «овцами, не имущими пастыря».
«Но, Боже! Ведь Он Воскрес!» — вспоминала Суламита… И при этом радость широкой волной заливала ее сердце: ей становилось вдруг радостно, как никогда…
А между тем женщина с возрастающим воодушевлением продолжала рассказывать ей:
— «На третий день воскресну», — это Он Сам предсказал. И вот предсказание исполнилось! О, чудо! Великое, таинственное чудо! Знаешь ли: ведь гроб был запечатан. К нему приставлена была нарочитая стража. Первосвященниками все было заранее обдумано и предусмотрено. Но рано поутру стражу нашли как бы ошеломленной. Камень был отвален. Гроб — пуст. Пришедших к Нему в глубине темной пещеры встретили ангелы, которые и возвестили, что Распятый Воскрес из мертвых.
Затаив дыхание, слушала Суламита удивительный, чудный рассказ. Глаза ее искрились, щеки пылали. Она глубоко верила. И ни одно малейшее сомнение не омрачало ее радости. Рядом с ней стояло еще много любопытных, которые тоже прислушивались к рассказу.
Но сгрудившаяся толпа людей вскоре обратила на себя внимание первосвященнической стражи. Последней было строго приказано смотреть за порядком на улице, и особенно в этот день. Она должна была бдительно следить за тем, чтобы среди народа не распространялось слухов о воскрешении Христа Спасителя.
Когда подошедшие стражники услыхали рассказ женщины, то немедленно схватили ее и потащили куда-то на расправу.
Толпа слушателей сначала было заволновалась. Некоторые стали выражать свои протесты. Но затем один за другим все начали расходиться, и вскоре улица опустела. Суламита тоже поспешно направилась к своему дому, где ее с нетерпением поджидала Женевьева, желавшая поскорее узнать что-либо от нее о Божественном Учителе.
Глава XV. Маленький крестик
Еще издали Суламита заметила, что возле самого дома, в тени виноградника приютились чьи-то три фигуры. Она тотчас в них узнала своих мальчиков и сидевшую вместе с ними Женевьеву. Последняя, очевидно, рассказывала детям что-то особенно занимательное. Мальчики не сводили глаз с рассказчицы и с таким интересом следили за нитью рассказа, что совершенно не заметили подходившей к ним матери.
Суламита, приближаясь к ним, невольно стала прислушиваться к рассказу Женевьевы…
— О, если бы вам, детки, хоть раз удалось послушать, как Он говорит с народом! Вы бы никогда не забыли Его слов.
— Не только слов, но и ласкового взгляда Его я доселе не могу забыть! — вскричал Руф с заблестевшими восторгом глазами…
— Помнишь, Александр, — спросил он, обращаясь к своему старшему брату, — помнишь, как мы встретили Христа, когда шли вместе с мамой?
— Да, это была незабвенная встреча! — с серьезной важностью, точно взрослый, закончил Руф.
На сосредоточенном лице подслушивавшей разговор Суламиты появилась светлая улыбка. Детские речи резвого, но мягкого характером Руфа, видимо, трогали и наполняли радостью ее материнское сердце. Она намеренно замедлила шаги, не желая обрывать интересовавшего ее разговора.
— Но вот о чем сокрушаюсь я, мои дорогие! Первосвященники и книжники давно дышат злобой на Иисуса Христа. Они выжидают лишь удобного случая, чтобы предать Его смерти. И думаю, ждать им этого осталось недолго… Ведь Христос Сам учил о Себе, что Ему «много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто (Мк.8:31). И потом, «подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк.8:34)…
— Крест? Как же это крест? — вскричал подвижный Руф, играя ножом, которым он до рассказа Женевьевы подчищал виноградные ветки… —Неужели это тот, на котором в Иерусалиме распинают разбойников?
Сказав это, Руф начал ловко вырезать ножиком из палок небольшой крестик. Женевьева собиралась было ему отвечать, но как раз в это самое время подошла к дому сама Суламита. Увидев ее, дети с радостным криком бросились к ней навстречу.
— Мама! Мама! — закричали они в один голос. — Нам Женевьева рассказывала сейчас о Назаретском Учителе, Которого, помнишь, мы встретили с тобой в поле!
Суламита приласкала детей и, едва сдерживая волнение, обратилась к Женевьеве.
— Дорогая сестра! Знаешь ли, какую поразительную весть принесла я тебе, ведь кровожадные фарисеи достигли своего. Они подняли руку на Сына Человеческого и распяли Его на Лобном месте…
— О, горе мне! — безумным голосом вскричала Женевьева, охватив руками свою голову…
— Не печалься, однако, моя дорогая! Злое дело не восторжествовало. Оно побеждено. Христос восстал из мертвых!
— Ты говоришь, Он восстал? — с просиявшим сразу лицом заговорила Женевьева. — Так это правда? Он восстал? Да? И я верю в это! Не Он ли Сам сказал про Себя: «И в третий день воскресну»?! Но пойдем же, пойдем скорее, Суламита, на место страданий Христа. Мы хоть поцелуем ту землю, которая была напоена безвинной кровью Страдальца!
Голос Женевьевы от волнения обрывался. Глаза блестели. Вся она была в каком-то порывистом волнении. Ей даже и не пришло на мысль, как опасно теперь для нее, беглой рабыни, вновь показываться на улицах Иерусалима. Случайная встреча с кем-либо из знакомых… и ей грозила тюрьма или далекая ссылка.
Но Женевьеве было не до опасений и осторожности. Она вся была проникнута сейчас неудержимым порывом бежать на Голгофу и целовать там прах, обагренный безвинною кровью.
И вот обе женщины, захватив с собой детей, Александра и Руфа, поспешно направились по дороге к Иерусалиму. Они поспешно прошли по городским улицам, миновали выходные иерусалимские ворота, и наконец пред ними зачернела своим оголенным, каменным лбом мрачная Голгофа.
Но сейчас там царила тишина.
Только три креста, несколько покачнувшись, стояли на самом взлобье горы, а около них темнели чьи-то две фигуры.
Каково же было изумление Женевьевы, когда она узнала в них Иоганну и Аврелию… Те, в свою очередь, тоже изумились, встретив здесь опальную рабыню…
— Безумная! — вскричала Аврелия. — И ты до сих пор не отправлялась еще в свою Галлию, когда муж мой наказал страже тщательно разыскивать тебя повсюду?
Женевьева торопливо, путаясь, сбиваясь в словах, рассказала своей госпоже все, что с ней произошло за это время, и Аврелия успокоилась. К тому же, пред совершившимся великим, мировым событием все личные заботы отступили на задний план.
Мысли женщин сосредоточены были на одном. Им хотелось что-либо поподробнее разузнать теперь о том чудесном событии, рассказы о котором на улицах и площадях города переходили из уст в уста…
— Моему мужу стража первосвященника Каиафы подробно рассказала, как все произошло здесь, — передавала всем Аврелия:
— «Накануне сад был пуст. Вечерний дозор не обнаружил никого ни в саду, ни за оградой. Безлунная ночь была темна, и мертвая тишина, не возмущаемая ни малейшим дыханием ветерка, давила свинцовой тяжестью, как перед землетрясением. “Нам, — говорили приставленные ко гробу, — стало жутко. Разложили огонь против гробовой плиты и решились не смыкая глаз до зари смотреть зорко за пещерой. Незадолго до полуночи мы все почувствовали, что земля точно вздохнула. Не успели мы подняться, как новый ужас поразил нас. Высоко всколебалась земля, шумно качнулись деревья, с громом рухнул запечатанный камень, и ослепительное сияние блеснуло из глубины гроба…” Все это так поразило приставленных к пещере, что одни из них пали на землю, а другие в испуге прижались к скале, следя за происходящим… В это время из гроба вышел сияющей Христос… Победа над смертью совершилась».
С замиранием сердца слушали женщины рассказ Аврелии. Затем они с силой самого благоговейного чувства стали лобызать средний из трех крестов, мрачно венчавших собою Лобное место. Никем не стесняемые, они дали простор своим сильным переживаниям. Слезы их мешались с радостными восклицаниями: печать глубокой веры в Распятого и Воскресшего Господа лежала на взволнованных лицах женщин.
Мальчики, Александр и Руф, стояли тут же. Но в то время как первый внимательно вглядывался в разбросанные кругом черепа и кости казненных, Руф старательно что-то строгал ножом… Его личико от напряжения раскраснелось, и черные, как смоль, кудри красивыми кольцами падали прямо на лоб…
— Мама! Посмотри, что у меня вышло! — с торжествующим видом закричал он, обращаясь к своей матери. — Я от этого креста, который целовали мы, отщепнул небольшую лучинку… И видишь: из нее я сделал маленький крестик! Мы его возьмем домой и поставим там над нашей постелью… Ведь так, мамочка?!
— Дорогое дитя! — с порывом особенной нежности привлекая к себе ребенка, заговорила Иоганна… — Ты будешь верным учеником Иисуса! Счастлива мать, имеющая такого сына… Но… что это? Кажется, отряд воинов поднимается сюда, на гору?! Да, это римские солдаты идут, вероятно, убирать кресты… Сестры, пойдемте скорее отсюда… Тебе, Женевьева, небезопасно встречаться с ними.
И женщины в сопровождении детей оставили мрачную Голгофу.
Глава XVI. Домашняя святыня
Расставшись с женой, сумрачный и озабоченный Симон тихо проходил по громадной площади Иерусалимского базара. Кругом него шумела толпа. Многоязычный говор передавал здесь из уст в уста одну и ту же весть: гроб оказался пустым, и погребенного тела нигде не находят. К сбивчивым, противоречивым показаниям каиафовой дворни присоединились другие, не менее туманные и неопределенные рассказы…
Как ни был погружен в свои думы Симон, но он не мог не обратить внимания на ходившие по городу слухи.
В одном месте ему сказали, что Иисус Назарянин Воскрес из мертвых и явился некоторым из своих друзей… В другом — что не Он один Воскрес, а вместе с Ним и многие другие. Там передавали, что кто-то видел своих, давно умерших уже, отца и мать, воздевающими к небу руки… Здесь держался упорный слух, что священникам явился в храме, незадолго перед тем скончавшийся первосвященник: он остановился перед церковной кружкой, постучал по ней пальцем и затем, переходя от алтаря к алтарю, скрылся за разорвавшейся пополам завесой.
Эти слухи разносили всюду неожиданную новость и всюду производили на толпу глубокое впечатление. Они поразили и Симона. Его настроение сразу же переменилось. Куда только исчезли прежние смущение и тяжесть! Лицо Симона просветлело, и он тут только понял, что так давило и угнетало его душу. Да, эта весть не была для него неожиданностью. Еще спускаясь с Голгофы, он предчувствовал, что зло рано торжествует свою победу, что Распятый Праведник не мечом, но Своей окровавленной рукой потрясет до основания мир злобы и мщения. И вот предчувствие сделалось фактом. Вера, закравшаяся в сердце Симона, получала теперь для него решительное оправдание…
С радостным лицом спешил он из Иepyсалима к своему дому, к родной семье. От прежней грусти и задумчивости не осталось даже и следа. Теперь радостная убежденность читалась в глазах Симона.
— Благодарю Тебя, Боже, что открыл мне свет познания Сына Твоего, — молитвенно взывал он дорогой.
Но каково же было изумление Симона, когда, при входе в свой дом, он узнал, что великая весть не была тайной не только для Суламиты, но даже для его маленьких детей.
— О, как мне благодарить Господа за Его великую милость! — воскликнул, опускаясь на колени, Симон. — Пусть же в нашем доме никогда не смолкает прославление Воскресшего Спасителя, которое мы будем возносить здесь как бы одним сердцем, одними устами.
И все присутствующие, точно один человек, опустились на колени пред деревянным крестиком, вырезанным неискусной рукой маленького Руфа из того небольшого кусочка, который ему удалось отделить от Животворящего Древа.
Этот крестик с тех пор почитался домашней святыней в семействе Симона. Отделанный в серебро, он ярко светился и горел во время общих молений, на которые стали собираться сюда из Иерусалима даже Иоганна с Аврелией. С каждым днем маленькое юное общество объединялось все больше и больше, обогащаясь верой и взаимною любовью. Ни у кого теперь на душе не было сомнения: все твердо верили в то, что дело Христово не погибнет и победит мир.
А Иерусалим, в свою очередь, давал все новый и новый приток веры этой молодой общине. Там зрело зерно того царства Божия, которое, точно могучее дерево, своими ветвями впоследствии должно было покрыть весь мир. Этим зерном были первые провозвестники Христова учения — апостолы. Их гефсиманское малодушие разрешилось пламенной верой. Теперь им предстоял великий подвиг поделиться изобилием своей веры с другими.
С вершины Галилейских гор на все четыре стороны расстилалась пред первыми вестниками вселенная, как одна необъятная аудитория, ожидающая Нового Слова жизни, Слова назидания и обновления.
И это Слово раздалось. Наперекор всему оно пронеслось по вселенной, ободряя и укрепляя везде верующих во Христа.
Голос этого Слова не раз долетал и до маленькой общины, приютившейся в доме Симона, вызывая и там порыв к плодотворной вселенской работе.
Женевьева первая отдалась такому порыву.
Она уже давно порывалась в родную Галлию. Не одно желание увидеть родину влекло ее сюда. Ей хотелось проповедью Христова учения озарить родные места, заложить там в родную землю — в сердце народное — новые зерна, которые должны были дать Галлии богатые духовные всходы, нравственную силу и мощь.
Но в положении несчастного галла произошла неожиданная перемена. Прогулка ли, которую он позволил себе в отсутствие дома Женевьевы, или что-либо другое так вредно повлияло на ход его болезни, но только страдания галла усилились. И опять, точно прикованный, лежал он на своей постели, и Женевьева не отходила от него ни на шаг.
— Господи! Ты, исцелявший всех недужных, — молилась верующая женщина, — подними с одра болезни и этого несчастного…
Во время этой молитвы внезапная мысль, точно молния, прорезала сознание Женевьевы. Она вспомнила о той святыне, которую все они с особенным благоговением лобызают теперь каждое утро в доме Симона.
Женевьева порывисто встала и, взяв серебряный крестик, положила его на пылающую голову больного.
Глаза ее горели молитвенным воодушевлением. По всему телу сильными токами пробежала нервная дрожь. Женевьева верила, ждала и молилась…
И — о чудо! — лицо больного, лежавшего с закрытыми глазами, озарилось вдруг ясной, спокойной улыбкой. Он облегченно вздохнул и, открыв глаза, проговорил тихо:
— Как мне теперь хорошо! Я чувствую во всем теле прилив бодрости и силы. Откуда это?
И, заметив лежавший на его лбу серебряный крестик, больной вдруг с радостным волнением заговорил:
— Да, я вспоминаю. Мне виделось, как Кто-то, пригвожденный ко Кресту, поглядел на меня с удивительным сочувствием. Из прободенных рук Его выступала кровь. Одна капля ее упала мне на грудь. И я почувствовал, как во всем моем существе начала зарождаться новая жизнь. И так легко и радостно стало мне вдруг…
И больной с большим волнением стал целовать серебряный крестик, сделанный маленьким Руфом, горячо прикладывая его поочередно к губам и к сердцу.
— Веришь ли, что тебя исцелил Тот, Кто страдал за нас на Кресте? — спросила своего соотечественника вдохновленная Женевьева.
— Я верю… Глубоко верю в это! — с волнением воскликнул исцеленный.
И он еще сильнее прижал к губам своим крестик.
Обращение ко Христу галла вместе с его исцелением было настоящим торжеством для всей семьи Симона.
Но особенный восторг охватил душу маленького Руфа: ведь не что-нибудь другое, а сделанный им крестик послужил орудием спасения для больного несчастного галла. И впечатлительный ребенок теперь не расставался со своей драгоценностью: он с благоговением носил эту святыню на своей груди.
Но вот Женевьева решилась, наконец, отправиться в Галлию. Сборы ее не были долгими. Выздоровевший соотечественник отправлялся вместе с нею. В день, назначенный для отъезда, явились в дом Симона и все иерусалимские друзья Женевьевы. В числе их пришли Иоганна и Аврелия. Они рассказали много нового из жизни учеников Христовых, и особенно о том, как в день Пятидесятницы проповедь апостола Петра обратила ко Христу целое множество народа.
С самым живым интересом вслушивалась Женевьева в принесенные вести, и сердце ее все сильнее и сильнее разгоралось самоотверженной любовью к предстоящему апостольскому делу.
Молитвенными благими пожеланиями напутствовали все проповедницу на ее великое дело. А когда она стала прощаться с детьми, то маленький Руф порывисто снял с себя серебряный крестик и торжественно надел его на шею Женевьевы.
— Он сохранит тебя от всякой беды! — со слезами на глазах проговорил растроганный мальчик.
В его детском сердце в это время боролись два различных чувства: ему и жаль было расстаться со своей домашней святыней, и хотелось послать этот священный подарок несчастным галлам, о которых так много рассказывала ему Женевьева.
— Не правда ли, — сквозь слезы спрашивал мальчик проповедницу, — с крестом в руках ты смело будешь говорить всем о Спасителе?! И твои галлы… они ведь добрые…. Они полюбят мой маленький крестик?!
От полноты нахлынувших чувств Женевьева не могла произнести и слова. Она лишь горячо, горячо расцеловала маленького Руфа. Его подарок был теперь для нее дороже всего. В нем она полагала залог успеха своей проповеди.
И действительно, проповедь Женевьевы не пропала бесследно. Серебряный крестик, сделанный маленьким Руфом из щепы Креста Распятого Христа, помогал ей озарить светом Христова учения многих соотечественников в далекой языческой Галлии. А впоследствии, когда пришли сюда новые проповедники и по лицу всей галльской земли стали воздвигаться храмы Божии, то сиявшие на них кресты как бы свидетельствовали и говорили всем, что сделал когда-то для этой страны маленький серебряный крестик.
Глава XVII. На даче
Между сбором различных плодов всегда выпадали свободные дни, которыми в доме Симона пользовались для того, чтобы всей семьей побывать на родине Суламиты. Дети с особенной радостью готовились всегда к этому путешествию. Еще задолго до его наступления они приставали с вопросами то к отцу, то к матери.
— А что? Мы ведь и нынешний год поедем к дедушке? Там у него так всегда бывает весело и хорошо! Так, да? Поедем? — добивался ответа на свой вопрос маленький, но настойчивый Руф.
— Поедем, поедем, дорогой мой! — отвечал Симон, обнимая любимого сына.
И действительно, вскоре, в одно прекрасное летнее утро, все семейство направилось по дороге в Сихарь[73]. Огромный, сильный мул нес на своей спине имущество Суламиты и ее детей. Около него с посохом в руках шагал сам Симон. Мальчики шли рядом с матерью, расспрашивая ее обо всем, что встречалось им по дороге. Для них этот переход был настоящим праздником.
Все занимало детей. Они с восторгом следили за тем, как лучи солнца постепенно загораются на вершинах гор, как вдали блестит светлая полоса Иордана, как жаворонок заливается где-то вверху, совершенно утопая в бездонном куполе неба.
Веселые, оживленные, полные разнообразных впечатлений, пришли они наконец и в Сихарь.
Здесь, в доме деда, для них, казалось, наступали самые счастливые дни. Да и Суламите в родном городе, где прошло все ее детство, было тепло и уютно.
Вся семья большую часть времени проводила в густом винограднике, которые здесь отличались особенной красотой и плодородием. Справедливо замечает один путешественник: «Нет более прекрасного места, как южные виноградники».
И действительно, окруженные высокими стенами, они представляют собой уголок, полный тишины и покоя. Особенно это чувствуется в сравнении с тем, что происходит в поле, за стенами виноградника.
Там — невыносимо жжет и палит знойное солнце… Здесь же — тень и прохлада.
Далеко кругом все поражено засухой, от жары листья на деревьях свертываются и блекнут, нежные цветы печально опускают свои лепестки, колодцы высыхают, и путник томится жаждой, не находя, чем удовлетворить ее, а здесь, в густой листве виноградника, слышится тихое журчанье воды, которая поит собою корни растений и стекает в громадный бассейн.
На тонких каменных столбах лежит легкая деревянная решетка, по которой вьются виноградные лозы, образуя род крыши. Сквозь нежно-зеленую листву этого навеса пробиваются лучи солнца. Виноградные лозы, цепляясь за что-то, ползут по стенам, взбираются на самый верх их и спускаются оттуда пышными гирляндами. Сочные, полные гроздья винограда красиво выделяются среди листвы янтарем своих ягод. Тут же раскинулись гранатовые, персиковые, фиговые, шелковичные и даже душистые миндальные деревья…
Кругом — свет, тепло, жизнь. Недаром Царство Божие и сравнивается с виноградником.
В этом тенистом, прохладном, тихом уголке и проводила большую часть дня со своими детьми Суламита, рассказывая им часто некоторые факты из жизни Спасителя. Иногда дети сплетали венок из колючих тернов, делали из деревянных палочек крест, целовали его или ставили, втыкая в груду песка.
— Что вы тут строите, детки? — лаская внуков, спросил однажды дед. — Не один уже день я замечаю, как вы плетете колючие венки, вырезаете кресты… Уж не собираетесь ли вы поступить в римскую гвардию и заранее изучаете те орудия пытки, которыми бессердечные римляне расправляются теперь со своими подданными?!
В ответ на этот вопрос дети наперебой начали рассказывать своему деду об Иисусе Христе, что они успели узнать от матери и Женевьевы. Дед с большим удивлением вслушивался в детские рассказы и время от времени недоверчиво покачивал головой.
В беседе вскоре приняли участие Суламита и Симон. Они подробно рассказали об Иисусе и нарисовали старику полную картину того народного возбуждения, которое переживалось Иepyсалимом в последние дни земной жизни Христа.
Старик давно не бывал в Иерусалиме. Он не любил этого города. Ему более нравилась тихая жизнь Сихаря… Новости Иудейской столицы до него совсем не доходили. И все, что узнал он от зятя и дочери, было для него большой неожиданностью. Старик сильно задумался и не заметил даже того особенного выражения, которое во время этого разговора отобразилось на эмоциональном лице Гезры.
Гезра давно уже жила в доме отца Суламиты.
Суламита хорошо помнила, как старик, когда еще у нее не успели высохнуть на глазах слезы по умершей матери, привел в свой дом эту женщину. Она должна была здесь присматривать за хозяйством.
Гезра пять раз уже была замужем и многие считали ее распущенной блудницей. Однако она была еще молода и красива, а потому и не удивительно, что вскоре вольная Гезра сделалась для крепкого, еще не старого тогда Стефана ближе, чем чужая. Это заметила и Суламита. Неожиданное открытие смутило душу девушки, ведь жизнь отца и его экономки нельзя было назвать целомудренной. Но годы, а затем, по выходе замуж, и жизнь вдали от отца помирили ее с незаконным положением Гезры. Его она старалась как бы не замечать, и самарянка платила за это Суламите тихой благодарностью.
В один тихий ясный вечер, когда в тенистой беседке перед домом сидели Суламита и Гезра, а рядом с ними старик, окруженный своими внуками, — из глубины виноградника раздался голос работавшего там Симона:
— Как хочется пить! Не принесешь ли, Гезра, воды?
Та тотчас поднялась и поспешно направилась к дому. Вскоре она возвратилась с сосудом, наполненным водою, и торжественно поднесла его Симону, подошедшему уже к беседке. Когда тот сделал последней глоток, Гезра спросила его:
— Симон! Знаешь ли ты, что у тебя в руках священный сосуд?
— Как он мог попасть сюда? — с нескрываемым изумлением возразил тот.
— Это давняя уже история! Хотите, я расскажу вам ее? — предложила Гезра.
Старик, доселе внимательно занимавшийся чем-то с детьми, поднял голову и тоже с удивлением посмотрел на свою экономку… Симон и Суламита приготовились слушать.
— Это было два года тому назад… — начала Гезра. — В один жаркий день, около полудня, я пошла за город, за водой к колодцу патриарха Иакова. Подле колодца сидел утомившийся Странник. По первому же взгляду я узнала в Нем иноземца. Не обращая на Него никакого внимания, я зачерпнула воды и хотела было уже идти обратно, как вдруг Он остановил меня просьбой. «Дай мне пить…» — сказал Он, обращаясь ко мне. О, этот голос! Я Его никогда не забуду… В Нем было что-то властное и, в то же время, проникающее в самое сердце. «Но как же так, — подумала я, — ведь Он — иудей, а просит у меня, у самарянки, пить. Ведь я знаю, с каким презрением иудеи смотрят на нас… Не только попросить воды, но и подойти близко к нам они боятся…»
Гезра продолжала:
— Свое недоумение я и высказала Страннику. В ответ Он заговорил со мной о живой воде, пьющий которую не будет жаждать вовеки. Он обещал дать такую воду и мне, и при этом, никогда не встречая меня раньше, открыл всю мою жизнь, прошедшую и настоящую. Я терялась в догадках, не понимая, Кто предо мною? Он же продолжал говорить, и все, что было сказано Им, поражало меня, приводя в необыкновенный трепет. А кругом стояла поразительная тишина… Полуденное солнце жарко горело на небе… Поля с побелевшими нивами, точно заснули… Не шелохнутся… Только жаворонок купался в голубой выси и лил оттуда свою нескончаемую песню. Как мне в то время хорошо было на сердце и в душе. Так бы, кажется, и слушала, не переставая, вдохновенную речь чудного Странника…
— Но вот Он назвал Себя Мессией, — говорила самарянка. — И Он сказал это так просто, Его слова прозвучали такой правдой, что я ни минуты не могла сомневаться в Нем. Я побежала в город, созвала многих горожан к колодцу, а они упросили Его войти в Сихарь. Два дня пробыл Он в нашем городе, и многие уверовали в Него, как в истинного Мессию… А я на память об этой незабвенной встрече сохранила сей священный сосуд…
Гезра закончила свой рассказ. Все слушали ее с глубоким вниманием. Очевидно, эти воспоминания произвели на всех глубокое впечатление. Только Стефан, отец Суламиты, сидел, нахмурив свои седые брови…
— Не этой ли встречей объясняется происшедшая с тобой перемена, которую я наблюдаю вот уже почти два года? — с затаенным недовольством проговорил он.
Гезра собиралась было ответить на вопрос старика, но Суламита перебила ее и стала рассказывать о последних днях земной жизни Иисуса. Затем она заговорила о чудесах Распятого Христа и в трогательном повествовании передала, как их домашняя святыня — серебряный крестик, сделанный рукою маленького Руфа, — исцелил от болезни умирающего галла.
В это время Руф стоял, прислонившись к своему деду, и видел, как во время рассказа матери задрожали руки старика.
Никто даже не подозревал, что с тех пор, как в дом Стефана приехали его дорогие внуки, каждую ночь ему снились странные и страшные сны.
Во сне каждую ночь к его кровати подползали ядовитые змеи. Стефан не зхамечал их, словно был слеп, и в этой кромешной темноте каждая норовила оставить на его теле ядовитый укус. Но всякий раз, когда шипящие гады раскрывали свои пасти и выбрасывали для нападения двойные жала, над стариком, словно зависнув в воздухе, появлялся серебряный крест, освещая своими ослепительными лучами все пространство вокруг. В тот же миг змеи в страхе отскакивали от постели несчастного и растворялись в пространстве, как будто их никогда не было в этой хижине. В ужасе просыпался Стефан всякий раз, стирая со лба холодные капли обильного пота.
Вот и сейчас, слушая рассказ дочери, упомянувшей серебряный крест, сделанный внуком, старик в ужасе задрожал, не в силах сдержать своих ночных страхов.
Крепко прижал Стефан к своей груди любимого внука и дрогнувшим голосом проговорил:
— Так вот почему ты все время делаешь теперь из лозы маленькие крестики!
И, глубоко вздохнув, он встал и вышел из беседки.
Глава XVIII. Возрождение
Рассказы Гезры и Суламиты оставили глубокий след на душе старика. Особенно тронул его рассказ об исцелении галла, совершившемся почти на глазах всей семьи Суламиты.
— Так ты своим крестиком и исцелил больного галла? — не раз обращался дед с добродушной шуткой к Руфу.
— Не я, но Тот, Кто за нас страдал на Кресте… — поправлял своего деда маленький внук.
Дружба между дедом и Руфом крепла.
Часто удалялись они в тенистую беседку, и оттуда слышался звонкий голосок мальчика, рассказывавшего что-то своему деду об Учителе из Назарета. А когда все в доме засыпали, то можно было видеть, как по ночам старик расхаживал в глубоком раздумье взад и вперед по своему винограднику.
Из груди его по временам вырывался тяжелый вздох…
Однажды, задумчиво опустив свою седую голову на грудь, он тихо сидел в беседке и о чем-то сосредоточенно думал. До его слуха долетали чьи-то голоса.
Старик прислушался…
— О, если бы ты могла представить, дорогая Суламита, как тяжело для меня мое настоящее положение в здешнем доме. После своего обращения мысль о незаконности моей жизни здесь ни на минуту не дает мне покоя. А порвать с прошлым и уйти отсюда — у меня не хватает сил. Кто теперь примет меня! Только твой отец может восстановить мою честь. Попроси его! Быть может, он послушает тебя и избавит меня от моего позора.
Старик тотчас узнал голос Гезры. Ему даже показалось, что он видит, как Гезра, обливаясь слезами, бьется в ногах у его дочери.
Но вот Суламита что-то заговорила в ответ.
Старик, затаив дыхание, насторожился.
— Нет, дорогая Гезра! — отвечала ей Суламита. — Сама тут я не могу тебе помочь. Не хочу быть судьею своего отца… Но знаешь, мы попросим Симона переговорить с ним об этом. Хотя отец и не хочет быть учеником Христовым, но он имеет очень доброе сердце. Я верю, что он пожалеет тебя!
— Милая дочка! — прошептал растроганный старик, скрываясь вглубь виноградника…
И скатившаяся слеза обожгла его щеку…
Несколько дней прошло со времени этого разговора. Суламита по обыкновению сидела в тенистом винограднике. Возле нее играли дети. Вдруг, взволнованная, раскрасневшаяся, вбежала сюда Гезра. С радостными слезами она бросилась к Суламите и начала ее обнимать.
— Как мне тебя благодарить, моя дорогая! — взволнованным голосом заговорила она. — Ведь то, о чем я мечтала два года, сбылось: я сделалась теперь признанной женою твоего отца…
Радостно приветствовали и Суламита, и Симон первые признаки духовного возрождения в своем отце…
Рассказы о серебряном крестике, о Распятом на Кресте Христе Спасителе, пронзившие душу старика, очевидно, сделали свое дело, начав преображение Стефана, которого глубоко тронули рассказы детей и внука.
Как-то раз, почти пред самым наступлением вечера, когда солнце склонялось к западу, к старому виноградарю Стефану пришел один из его должников. Он умолял старика потерпеть за ним долг, обещая вернуть его через год. Но старик давно знал лживую и лукавую натуру этого человека, который не раз обманывал его и подолгу не хотел возвращать долги. Стефан отказал хитрому просителю, не желая склоняться на его просьбу.
Тогда коварный должник, не скрывая ненависти и зла, пригрозил Стефану словами:
— Ты пожалеешь, старик, что отказал мне в малой моей просьбе. Я пришлю к тебе такого просителя, что он приставит кинжал к твоему брюху, и ты не успеешь даже сделать ни одного вздоха… Сдохнешь, как от укуса ядовитой змеи.
В эту же ночь увидел Стефан еще один страшный сон.
Он лежал навзничь на своем ночном ложе в пустой полутемной комнате. В какой-то миг, открыв глаза, он увидел, что из его живота торчит ручка кинжала. Боли он, кажется не чувствовал, но вид самого кинжала был настолько устрашающим, что от страха Стефан начал задыхаться, и не мог произвести ни одного крика о помощи. Теряя сознание, он схватился за ручку кинжала и потянул ее, стараясь быстрее вытащить смертельное острие из своего тела. Ручка легко подалась, но, выходя, потянула за собой живую длинную змею ярко-зеленого цвета. С ужасом отбросил Стефан это извивающееся чудовище подальше от себя. Боли он никакой не чувствовал, и рана живота в одно мгновение затянулась, как не бывала. Стефан подскочил к ночному чудовищу и, резко схватив, бросил в какой-то кипящий котел…
Смертельная опасность миновала. А над изголовьем Стефана вновь сиял серебряный крест, направляя свои яркие, острые лучи на тело издыхающего змия.
Проснувшись, старый виноградарь вновь пережил жуткий страх, и все-таки он не мог понять, что происходит с ним последнее время, и какая сила хранит его от ужасной смерти.
На другой день, после страшного ночного сна, должник Стефана снова явился к нему и, увидев маленького Руфа, стоявшего неподалеку от них, закричал, обращаясь к ребенку:
— Дитя мое! Проси за меня…
Руф в замешательстве посмотрел на деда, не зная, просить ему или нет… Но старик спокойным голосом сказал, обращаясь к должнику:
— Иди с Богом! Я прощаю тебе долг… ради… ради вот этого мальчика…
Присутствовавшая здесь Суламита с напряженным вниманием следила за этой сценой, и ее глаза засияли радостью, когда она услышала последние слова своего отца. Она давно уже заметила перемену, произошедшую со стариком. История с Гезрой еще более убедила ее в этом. А настоящий случай?! Ведь он подсказан не чем иным, как христианским сердцем. Но неужели старик на самом деле примет учение Христа? О, если бы это сбылось! Как бы счастлива была она — Суламита!
И этого счастья ждать пришлось ей недолго.
Однажды ранним утром Стефан отправился на дальние поля. Там на следующий день должна была начаться жатва. Погруженный в глубокую думу, он тихо пробирался межой. Вдруг ему показалось, что кто-то его окликнул. Он оглянулся и увидел на соседнем участке человека с посохом на плече, делавшего ему оскорбительные гримасы. Стефан невольно стиснул зубы. Он узнал горбатого Натана, своего давнего и злейшего врага, который не давал ему нигде проходу своими ядовитыми насмешками… И теперь тот снова что-то кричал по адресу Стефана. Но Стефан, не обращая на него внимания, продолжал свой путь.
Когда же он возвращался обратно, то на том же самом месте, где его окликнул Натан, до слуха Стефана долетел чей-то жалобный крик о помощи. Стефан остановился на минуту, прислушался и пошел по направлению крика. Он прошел все соседнее поле и спустился с отвесной скалы к колодцу, который был выкопан горбатым Натаном.
Навстречу ему неслись отчаянные крики самого Натана. Стефан ускорил шаги, и, едва он приблизился к навесу над колодцем, как понял, в чем было дело.
В одном из углов крыши было проделано отверстие. Через него, при известной осторожности, можно было спуститься к колодцу. Но, поднимаясь обратно, Натан, очевидно, поскользнулся на мокрых ступеньках. К его счастью, однако, палка как раз легла на края колодца, и, ухватившись за нее руками, Натан болтался теперь над самой пропастью.
— Помоги мне, помоги, Стефан! Я из сил выбиваюсь! — стонал Натан, делая еще раз последнее усилие попасть ногами на ступеньки.
Его горбатая фигура была жалка. В глазах стоял ужас.
Но Стефан не трогался с места. Скрестив руки, со злой улыбкой на губах стоял он и смотрел на несчастного. Нельзя сказать, чтобы он оставался равнодушным: его сердце трепетало от дикой, злой радости, внезапно его охватившей.
«Вот твой врат… ниже, чем у ног твоих…» — говорил ему какой-то нехороший внутренний голос.
— Стефан, Стефан! — стонал между тем несчастный, в страшных конвульсиях извиваясь над пропастью… — Ради Самого Бога сжалься надо мною! Я не могу дольше держаться в этом положении.
— «Ради Самого Бога…»
— «Ради Самого Бога…»
Словно огненной стрелой поразили эти слова сердце Стефана. «Любите врагов ваших», — вспомнил он в это время рассказ маленького Руфа…
«Любите врагов…» — ведь это сказал Назаретский Учитель… «Неужели можно любить? Неужели это — не безумие, и Он, вися распятым на Кресте, будто бы молился за Своих врагов?! Нет, не верится мне…» Мысли, одна за другой, бежали в голове Стефана, точно облака, гонимые ветром… И вдруг вспомнился Стефану:
«Серебряный крестик…», «Галл… Его исцеление…», «Отъезд Женевьевы на проповедь…»
Все это — рассказы Суламиты и Руфа.
Детский лепет маленького внука стоял в его ушах.
И почувствовал старик, как растопилось вдруг его гневное сердце. Ненависть, это злобное испепеляющее чувство, как будто исчезла!..
Молча, он отстегнул свой пояс и ловким движением просунул его под руки висевшего врага.
— Держись крепче! — крикнул он несчастному. — Еще минута, и, с Божией помощью, ты будешь спасен…
Когда, наконец, Натана вытащили из колодца, от пережитых волнений он долго не мог прийти в себя. Но вот он привстал, обхватил обеими руками колени Стефана и слабым голосом прошептал:
— Да благословит тебя Господь! Ты за зло заплатил мне добром.
— Давай, я помогу тебе встать, — проговорил Стефан, склоняясь над Натаном, — и отведу тебя домой. Ты слишком слаб, чтобы идти одному.
— Я не поднимусь до тех пор, пока ты не простишь меня… — возразил Натан. — Стефан! Можешь ли ты меня простить?!
В сердце Стефана вдруг заговорило новое, незнакомое ему чувство. Слезы умиления застилали глаза, и небывалый восторг охватил его душу.
Да, он уверовал в Иисуса Христа, в Его Воскрешение и в силу Его Креста, на котором Он сораспялся миру.
В тот же миг, когда душу Стефана охватил пламень веры, с ним произошло чудесное преображение, так что он уже не мог оставаться прежним и чувствовал себя заново рожденным человеком, молодым листком виноградной лозы, готовым произрасти в жизнь вечную…
— Я прощаю тебя… Прощаю ради… страдавшего за нас Мессии Христа! Но и я был не прав пред тобою. И ты прости меня ради этого славного имени!..
— О каком же имени ты говоришь? Разве Мессия пришел?
— Да, пришел, Натан! Пришел и покорил мое сердце. Он-то и залил Своею благодатью пламень гнева в моей злобной душе. Если бы не Он, не быть тебе, да и мне, живым, Натан! Но ты снова ожил! Так оживи же не одним только телом, но и духом…
Натан с нескрываемым испугом и удивлением смотрел на старого виноградаря, который хорошо помнил свой страшный сон, пережитый им страх смерти и сияние серебряного креста над своей головой.
Вскоре в доме Стефана из Самарии торжествовали присоединение к христианской общине еще двух новых членов: то были Натан и отец Суламиты — старый виноградарь Стефан-самарянин.
— Не правда ли? — спрашивал Стефана его маленький внук… — Тебя обратил ко Христу мой серебряный крестик? Помнишь, ты говорил мне, что он однажды явился тебе во сне?
— Да, милый, да! Христос и твой крестик спасли меня от погибели, — ответил дед на наивный вопрос своего маленького внука.
П. М-ов[74]. Пересказ с французского О. Зенькович,
Журнал «Отдых Христианина», январь-декабрь 1902 г.
«Встань и ходи!»
Н. Перелыгин
I
Асканио Тулий был римский патриций, но жил в Александрии на берегу Средиземного моря. Здесь, недалеко от города, у него было большое прекрасное имение, приносившее ему значительный доход, а в самом городе, на лучшей его улице, Тулий построил себе дворец с большим роскошным атриумом, где часто собирались знатнейшие жители города: ученые, философы, художники и ваятели.
Асканио Тулий был образованный человек, любил беседы с умными людьми, заводил споры с философами об отвлеченных возвышенных предметах и мировых событиях, стремясь к одной высокой цели — узнать истину, и широко поощрял всякого рода искусства.
Он был очень богат, а потому не отказывал себе ни в каких удовольствиях. Его дворец изобиловал всеми редкими и высокохудожественными предметами, какие только можно было достать в то время за деньги.
Молодой, не зависимый ни от кого, красивый, мужественный, смелый, решительный, всегда веселый и приветливый, он привлекал к себе сердца всех. Все преклонялись перед ним, и многие завидовали ему, признавая его за самого счастливого человека в мире. Но он сам не сознавал этого: его по временам мучила страшная тоска, — тоска одиночества, и тогда он на несколько дней запирался у себя дома и не принимал никого.
Тулий много путешествовал, многое видел, много встречал красавиц, но ни одна из них не затронула еще его сердца, ни одна из них не привлекла его к себе настолько, чтобы он решился соединить с ней свою судьбу навек. Он был слишком избалован, слишком разборчив. Он искал такой идеальной красоты, которая затмила бы собою всех. А таковой не находилось, и он тосковал.
Один из знаменитых греческих ваятелей того времени изваял ему из мрамора такую красавицу, которая как раз подходила к созданному его воображением идеалу.
И вот, когда на него нападала сильная тоска, он по целым дням просиживал перед этой статуей, смотрел на нее, любовался ею, не спуская с нее своих печальных глаз. Так проходили годы. Тулию минуло уже тридцать лет, а он все еще оставался одиноким и, может быть, так дожил бы и до старости, если бы благодетельная судьба не сжалилась над ним и не доставила ему того, чего он так страстно желал и о чем тосковал.
II
Было раннее утро. Взошедшее на востоке солнце залило своими лучами, как растопленным золотом, и море, и дома, и деревья, и все видимое пространство. Все ожило, все повеселело. Картина была чудная, достойная кисти великого художника. Небо чистое, воздух мягкий, море спокойное, только кое-где его гладкую поверхность бороздили идущие из дальних стран корабли, парусные суда да легкие, быстроходные, как птицы, лодки. К пристани, переполненной народом, подошел большой корабль. Из него вышло множество пассажиров. Тут были и крикливые греки в красных фесках[75], и юркие евреи с длинными пейсами[76], и торговые люди Тира[77] и Сидона[78]. Все спешили, торопились, кричали, шумели и затем быстро рассеялись по городу.
Часа через два из одного караван-сарая вышла группа людей и направилась ко дворцу Тулия. Подойдя к воротам, старый седой еврей, бывший во главе группы, попросил привратника доложить о нем Асканио Тулию, говоря, что ему нужно видеть его по крайне важному делу. Тулий велел принять его в атриуме и вскоре сам вышел к нему. Увидев его, старый еврей, по восточному обычаю, приложил руки ко лбу, потом к груди и отвесил низкий поклон. Затем он сказал ему:
— Господин! Да хранит тебя Иегова[79], и да дарует он тебе жизнь яркую, как солнце, спокойную, как ясный день, веселую и отрадную, как рай!
Тулий ласково поблагодарил его и спросил:
— Зачем, почтенный старик, пришел ты ко мне и какое имеешь дело до меня?
— Господин! — снова поклонившись, ответил еврей. — Я слышал, что ты ищешь себе красивую невольницу. У меня есть такая, что подобной ей нет в здешнем мире. Ты богат и щедр, и вот я привел ее к тебе. Купи ее, не пожалеешь!
— Где же она? — спросил Тулий.
Еврей молча обернулся к сопровождавшим его невольникам и, подойдя к одной женской фигуре, закрытой с головы до ног длинным белым покрывалом, взял ее за руку, вывел на средину атриума и поставил перед Тулием. Затем он быстро снял с нее покрывало и сказал:
— Смотри, господин, и дивись!
Тулий взглянул и, как ослепленный солнцем, на минуту закрыл глаза. Потом опять взглянул и уже не мог более оторвать своих зачарованных глаз от прелестного видения. Он молчал, не шевелился, замер… Вся жизнь его как бы сосредоточилась только в одних глазах. Все, что он до сих пор видел красивого, высокохудожественного, изящного, все, чем прежде так восхищался, теперь казалось ему таким ничтожеством, таким уродством перед этой дивной неземной красотой!..
А стоявшая перед ним смущенная, с опущенными вниз глазами молодая девушка, лет шестнадцати-семнадцати, была действительно необыкновенной, невиданной красоты.
Долго стоял Тулий и смотрел, не шевелясь. Он точно боялся, что при малейшем его движении это неземное видение скроется от него, и он уже больше не увидит его никогда… Затем, как бы опомнившись немного, он обратился к купцу и спросил его:
— Сколько ты хочешь за нее?
— Десять тысяч рупий, господин. Я сам очень дорого заплатил за нее.
Тулий позвал управляющего и велел выдать еврею просимую им сумму. Купец с глубоким поклоном удалился, а Тулий, подойдя к молодой девушке, взял ее за руку и повел во дворец.
Придя в ту комнату, где у него находилась знаменитая статуя, перед созерцанием которой он проводил целые дни, он обратился к молодой девушке и спросил ее:
— Скажи мне, как твое имя и кто ты?
Девушка робко взглянула на него и тихо ответила:
— Мое имя Цецилия. Я родом из Милана. Мой отец — сенатор. Во время нашего путешествие в Неаполь на нас напали разбойники. Отца убили, а меня похитили и продали еврею. Ты меня купил, и теперь я твоя раба.
И при этих словах крупные слезы, как светлые жемчужины, покатились из ее прелестных глаз, осененных[80] длинными темными ресницами. В ее словах было столько тоски, кротости и покорности своей судьбе, что глубоко тронутый Асканио с чувством сказал ей:
— Нет, божественная Цецилия, ты не рабой, а женой моей будешь!
И он тотчас распорядился, чтобы Цецилии были отведены в его дворце лучшие покои. Он окружил ее всевозможным комфортом и приставил к ней служанок.
С первого взгляда Асканио полюбил ее как свет, дающий жизнь всему: как солнце, согревающее землю; как мечту радости и счастья. Полюбил ее всем существом своим. Ему казалось, что раньше он не жил, а находился в тяжелом усыплении, что только теперь проснулся для жизни. И чем больше проходило времени, чем лучше узнавал он ее сердце, ее душу, ее разум, тем больше он любил ее и благодарил богов за ниспосланный ему дар.
Вскоре и Цецилия полюбила его глубоко и беззаветно. На их свадьбе говорили, что из них составилась такая прелестная пара, какой еще не было во всей Александрии.
III
Пролетел год. Они были счастливы. Жизнь их протекала, как чистый, светлый ручей, ясно и невозмутимо. Через год у них родился сын, названный Августом. Жизнь счастливых супругов стала еще полнее, еще отраднее. Перед ними стояла благородная цель, к которой они стремились, и для достижения которой отдавали все силы души, а именно: воспитать существо разумное, честное, — человека, в лучшем смысла этого слова. И они окружали свое дитя всеми заботами, попечениями и любовью. И счастливый ребенок рос, как цветок, охраняемый и лелеемый заботливой рукой садовника…
Это был мальчик, красивый, живой, веселый и способный. Он унаследовал от отца и матери все лучшие их качества и красоту. Когда ему исполнилось семь лет, отец стал заботиться о том, чтобы развить в своем сыне ловкость, физические силы, бесстрашие и мужество, а потому стал заниматься с ним гимнастическими упражнениями и верховой ездой. Мальчик охотно, с любовью отдался этим занятиям и особенно полюбил верховую езду. Он смело управлял своей небольшой, но горячей лошадкой. Родители, глядя на свое возлюбленное дитя, радовались и были счастливы.
Но счастье на земле не бывает вечно. От времени до времени оно омрачается горем, печалью — как и на ясном небе неожиданно появляются тучи и застилают яркое солнце…
Однажды Август вместе с отцом и несколькими невольниками поехал в горы на прогулку.
Вечер был чудный, солнце уже не жгло, а только грело. В горах чувствовалась прохлада. Кони, пофыркивая, весело шли. Высоко вверху вился ястреб, высматривая себе добычу. Вдали за горами виднелся голубоватый туман. Природа готовилась к отдыху.
Вдруг перед нашими всадниками открылся глубокий, но не широкий овраг. Мальчику страстно захотелось выказать перед отцом свою неустрашимость, и он, не сказав ему ни слова, ударил свою лошадку и стремглав понесся, желая перескочить овраг. Но его маленькая лошадка, не рассчитав прыжка, полетела в пропасть, увлекши вместе с собою и всадника…
Страшно испуганный отец и его невольники подлетели к оврагу, соскочили с коней и с трудом спустились вниз. Там они нашли лежащим навзничь Августа и издыхающую лошадь с переломанными ногами.
Отец, как безумный, припал к сыну, думая, что он мертв. Но мальчик был жив и только находился в обмороке. Отец поднял его и с помощью невольников вынес из оврага.
Кто изобразит горе и отчаяние любящей матери, увидевшей своего сына полумертвым? Она разорвала на себе одежду и начала кричать и плакать. Асканио, сам убитый горем, принялся ее успокаивать. Он тотчас разослал слуг за лучшими Александрийскими врачами. Прибывшие вскоре врачи осмотрели мальчика и не нашли на нем ни одной раны, что значительно успокоило родителей. Спустя некоторое время, мальчика привели в чувство, но, странно, он не мог ни подняться, ни пошевелиться! Врачи в недоумении приписывали это сильному испугу и принялись его лечить, но все их старания, поощряемые богатой наградой, и все изобретаемые ими лекарства оказывались недействительными: бедный ребенок лежал, как пласт, хотя и не терял сознание. Родители были в отчаянии. Не помог и знаменитый врач, выписанный Тулием из Рима.
Родители обратились к богам, были принесены им большие жертвы; жрецы получили щедрые дары, но и боги не помогли. Асканио оповестил, что он отдаст половину своего состояния тому, кто излечит его сына, но и это заманчивое предложение не принесло никакой пользы. Приходили многие чародеи и кудесники, производили таинственные заклинания и нашептыванья… И ничего не сделали. Мальчик оставался все в том же положении.
Бедная Цецилия, просиживая дни и ночи у постели больного сына, не осушала глаз. Она очень изменилась: похудела, глаза ее потухли. Асканио тоже сильно изменился, он тосковал не менее Цецилии и, кроме того, он ожесточился, потерял всю веру в своих богов, находя их немилосердными, бессильными и жестокими. Он был в отчаянии и не знал, что ему делать, что предпринять для спасения своего единственного сына?
IV
Так минуло несколько месяцев. Это происходило как раз в то время, когда Христос заканчивал Свое служение на земле. И слава о Его учении, подвигах и чудесах в Иерусалиме и смежных городах распространилась далеко за их пределы. Многие больные из разных мест стекались к Нему, чая исцеления, и Он исцелял всех страждущих.
Однажды к Тулию приехал один его старый друг, только что посетивший Иерусалим, видевший Христа и слышавший Его учение, и еще под живым впечатлением этого светлого нового учения он восторженно сказал Тулию:
— Да, это истинный Пророк, милосердный, бескорыстный. Он проповедует любовь, правду и милость. Он отрицает наших богов и говорит, что Бог только Един, Который сотворил весь мир, и что Ему Одному мы должны поклоняться, не делать никому зла и любить своих ближних, как самих себя, чтобы заслужить вечную блаженную жизнь. Он смело, безбоязненно обличает фарисеев и книжников, доказывая Святым Писанием и пророками всю лживость их учения, их самолюбие и жестокосердие. И они ненавидят Его за это, но Он не смущается тем. Он говорит, что Он не от мира сего, что Он послан Самим Богом возвестить народу о приближающемся царстве мира. Он говорит, что человек должен отречься от богатства, взять Его иго и следовать за Ним, чтобы проповедовать истину. У Него много учеников, которые повсюду следуют за Ним. Народ сбегается тысячами слушать Его учение, что страшно озлобляет фарисеев, но они пока ничего не могут сделать против Него и обличить Его в чем-нибудь преступном. Он обладает непонятной для всех силой творить чудеса, исцелять больных, бесноватых и даже воскрешать мертвых. Одного прикосновения к Его одежде достаточно, чтобы тяжко больной выздоровел.

— Ничего подобного не бывало, как существует наш мир! Да, это великий, великий Пророк! Я сам видел Его и слышал Его удивительное учение! — закончил свой рассказ друг Туллия.
Туллий слушал его с напряженным вниманием, не переводя дыхание и боясь проронить слово. В нем вдруг возникла мысль: «А почему бы и мне не поехать вместе с сыном в Иерусалим, пасть к ногам Этого Пророка и просить Его исцелить сына — моего бедного, несчастного мальчика? Может быть, Он и сделает это! Он ведь добр и милосерден…»
И Асканио погрузился в глубокую думу. В глазах его просиял луч надежды.
— Неужели Он не берет никакой награды за исцеление больных? — спросил он у своего друга.
— Ровно ничего! — ответил тот. — Он говорит, что творит только волю пославшего Его Отца.
— Удивительно! — изумился Асканио.
И он тотчас пошел к Цецилии и рассказал ей все, что выслушал от своего друга. Цецилия была не менее его поражена услышанным. И они решили непременно отвезти своего сына к Иисусу.
V
Но каково было их отчаяние, когда они, прибыв в Иерусалим, узнали, что Иисуса уже нет на земле, что Он был распят, в третий день воскрес и через шесть недель вознесся на небо!..
Кто-то из добрых людей, видя их глубокое горе, посоветовал им обратиться к ученикам Иисуса, которые именем Его тоже творили много чудес.
Как утопающий хватается за соломинку в полной уверенности, что она спасет его, так и Асканио с Цецилией ухватились за эту последнюю надежду.
И в пятидесятый день, по воскресении Христовом, они оба вместе с сыном, которого слуги осторожно несли на носилках, отправились к тому дому, где пребывали апостолы в молитве и ожидании сошествия на них обещанного им Христом Святого Духа.
В ту самую минуту, когда они подошли к дому, вдруг послышался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, — шум, наполнивший весь дом.
Между тем в воздухе в это время стояла невозмутимая тишина, и на апостолов спустились, точно огненные, языки, и они все исполнились Святого Духа и начали говорить на разных языках.
Мгновенно дом был окружен многотысячной толпой, состоявшей из людей различных наций, говоривших различными языками и наречиями. И никто не мог объяснить подобного явления. Все спрашивали друг у друга, что это значит? Не все ли они галилеяне? Как же мы слышим их, говорящих разными языками? А некоторые из бывших тут насмехались и говорили:
— Они напились сладкого вина.
Тогда встал Петр и, возвысив голос, сказал:

— Мужи иудейские и все, обитающие в Иерусалиме! Да будет вам известно, что они не пьяны, как вы думаете, потому что теперь только третий час дня. Но об этом еще пророк Иоиль сказал: «И будет в последние дни, говорит Бог, изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дщери ваши… И покажу знамения на небе вверху и знамение на земле внизу… И будет: всякий, кто произнесет имя Господне, спасется…»[81]
И многое другое говорил Петр народу, и так хорошо и убедительно, что народ, обратившись к Петру и другим апостолам, спросил их:
— Что нам делать, мужи-братия?
Петр же ответил им:
— Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получит дар Святого Духа…
Тут Асканио Тулий вместе с Цецилией и сыном, которого рабы несли на носилках, пробившись сквозь народную толпу, давшую дорогу знатному римлянину, с горячими слезами пал к ногам Петра и сказал ему:
— Праведный муж! Исцели во имя Господа Иисуса Христа этого отрока, который составляет все утешение наше…
Далее он не мог говорить от сильного волнения и только смотрел на Петра умоляющими глазами.
Петр ответил:
— Да будет по вере твоей!
И, прикоснувшись к отроку, он сказал:
— Встань и ходи!
И мальчик, к удивленно всех, тотчас встал здоровым и подошел к родителям.
Обрадованные родители немедленно крестились, а с ними их сын, рабы и около трех тысяч человек.
VI
Они пробыли еще некоторое время в Иерусалиме, поучаясь у апостолов слову Божию и укрепляя свою веру в Господа Иисуса Сына Божия, а затем, веселые и счастливые, возвратились в Александрию.
Здесь жизнь их потекла мирно и спокойно.
Они творили много добра, и ни один бедный и нуждающийся не уходил от них без помощи.
Они жили долго и заслужили всеобщее уважение и любовь и никогда не забывали Великого дня Сошествия Святого Духа.
Н. Перелыгин
Он воскрес!
Он Воскрес! Воистину Воскрес!
Свершилось!
Он осужден был на позорную смерть!
Он! Невинный, как младенец. Кроткий, как агнец. Милосердный, как благость Божия!
Он осужден был за то, что вещал истину, обличал порок и любил человечество!
Он ничего не искал для Себя в мире, а мир Ему всем обязан. И мир не познал Его!
Его осудили на позорную казнь наравне с отъявленными злодеями и душегубцами.
Малодушный и честолюбивый Понтий Пилат выдал Его разъяренной и кровожадной черни, кричавшей: «Распни, распни Его!»
И неистовая, ожесточенная толпа, удовлетворенная в своем стремлении погубить Невинного из невинных, приговорила Его к распятию!
И никто, никто не вступился за Него.
Никто не протянул руки для Его спасения!
Даже те, которых Он исцелил от болезни.
Даже те, которых Он воскресил из мертвых!
Всё было забыто. Все оставили Его.
Иудеи не дремали, боясь чтобы что-нибудь не помешало их кровавому делу, и ввиду скоро наступающей Пасхи решили тотчас исполнить свой безумный, кровожадный приговор. И местом казни назначили Голгофу, где в то ужасное время владычества римлян совершались все подобные казни.
Весть об их решении с быстротою молнии облетела весь город Иерусалим и пронеслась далеко-далеко по его окрестностям.
Все, кто мог, кто был в силах, и старые и молодые, и женщины и дети, — все хотели, все стремились видеть эту страшную казнь.
Вместе с Ним осуждены были и два злодея — разбойники из шайки освобожденного Вараввы, что еще более разожгло сердца людей, жадных до кровавых зрелищ.
* * *
Полдень. Погода с утра стояла прелестная, небо чистое. Ни облачка… В воздухе тишина и спокойствие. Ни ветерка… Солнце щедро лило свои золотистые лучи на Божий мир. Природа приносила людям веселье, радость, счастье. Казалось, что в такое благодатное время невозможно сделать какое-либо зло, а тем более — кровавое дело. А между тем, вышло наоборот.
Люди сами разрушили свою радость, свое счастье.
Природа, как бы разгневанная несправедливой человеческой жестокостью, перестала изливать на землю свои щедрые дары. Солнце начало немилосердно жечь, повсюду разливая свой огненный поток. На горизонте показались зловещие тучи, а сухой порывистый ветер, предвестник страшной бури, быстро промчался в пространстве. Но прежде, чем собрались тучи и разразилась буря, совершилось ужасное, неслыханное, вопиющее к небу злодеяние. Злодеяние, от которого о содрогнулась земля.
С раннего утра бесчисленные толпы народа, как морские волны, с шумом и гамом неслись со всех сторон по белому каменному пространству, окружавшему Голгофу; к месту казни, желая занять ближайшие к ней места.
Пот ручьями лил с разгоревшихся и красных, как огонь, их нечеловеческих лиц, но они не обращали на это внимания, проникнутые желанием увидеть и насладиться кровавою местью.
Немногих, лишь несколько небольших кучек людей, можно было видеть с печальными, страждущими лицами. Они тоже шли сюда, но молча, робко, с опущенными вниз глазами.
По-видимому, они шли на место Голгофы не для того, чтобы насладиться кровавым зрелищем, но с глубокой, искренней жалостью в душе, и с сочувствием в сердце к предстоящим страданиям невинно Осужденного, от Которого они получили так много добра.
Это было заметно по их печально опущенным глазам, из которых поминутно катились слезы. Они украдкой, оглядываясь, утирали их, боясь, чтобы разъяренная толпа не заметила их печали и не набросилась на них в припадке злобы. Женщины, как бы хоронясь от палящих лучей солнца, низко опускали покрывала и платки, покрывавшие их головы, чтобы никто не увидел их скорби. Впрочем, искренне скорбящих было так мало, что они совершенно терялись, утопая в волнах громадной крикливой толпы, как капля радости утопает в чаше горя, и как нежная мелодия теряется в безобразном нестройном концерте с фальшивыми номами.
Обнаженное и разгоряченное солнцем белое каменное возвышение Голгофы, усеянное местами черепами и костями казненных, все более и более наполнялось народом, который, собравшись в группы, стоя или усевшись, где попало на скалах, шумел, кричал, свистал и ругался бранными словами.
Зачем так долго не ведут осужденных?
Зачем так долго заставляют ждать их, утомленных и измученных жарой?
Они поминутно обращали свои взоры к тому месту, откуда должно было начаться шествие с крестами.
Но вот на одно мгновенье воцарилась тишина… А затем громоподобное: «Га-а-а-а-а!…» — раскатилось по всему пространству, залетело эхом в город и оттуда еще громче, еще оглушительнее вернулось к Голгофе.
— Вон! Вон!..
— Ведут! Ведут!..
Неистово, точно бешеные, орали народные толпы, со всклокоченными бородами, с красными и звероподобными лицами, с воспаленными и выкатившимися из орбит глазами… Со скрежещущими зубами и сжатыми кулаками… Указывая на Иерусалимские ворота, откуда показалось шествие.
Даже женщины в изорванных одеждах, с растрепанными волосами, отвратительные, как адские фурии, не уступали в бешеных криках мужчинам.
* * *
Громадные массы народа сопровождали шествие…
Тут был весь синедрион.
И во главе его первосвященники Анания и Каиафа.
Затем шли фарисеи различных сект, книжники, законники, саддукеи…
Иисуса окружали вооруженные римские воины.
За Иисусом следовали Его Мать, Мария Магдалина и другая Мария, Лазарь, Иоанн, Петр, Фома и другие ученики…
Шествие, замедляемое народом, подвигалось очень тихо. Иисус, неся тяжелый Крест, под конец изнемог от непосильного бремени и припал к земле.
Увидев это, сотник, начальник стражи, подозвал шедшего мимо Симона Киринеянина и приказал ему нести Крест Иисуса…
А Иисус, поднявшись с земли и оглядевшись кругом, увидел плачущую Матерь и сопровождавших Его галилейских жен и преданных Ему друзей, так же неутешно проливавших слезы.
Тихо, с кротким любящим взглядом Он сказал им:
— Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и детях ваших.
И, сказав это, Он пошел с неимоверной покорностью навстречу ожидавшей Его мучительной смерти.
На плечи Его был наброшен красный плащ, а на голову надет терновый венец, от шипов которого по Его бледному лицу струились капли крови…
Но вот шествие, все время сопровождаемое бешеным, оглушительным ревом толпы, ругательствами, свистом, насмешками и проклятиями, поднялось на Голгофу…
Недалеко от места казни взор Иисуса упал на плачущую девочку, лет двенадцати-тринадцати, прижавшуюся к пожилой женщине, и кроткая улыбка мелькнула на бледных губах Его.
Увидев Его с окровавленным лицом, девочка еще сильнее заплакала и, бросив Ему под ноги бывший у нее в руках цветок, воскликнула:
— Мама! Мама! Это Он! Он!.. Тот… Который воскресил меня из мертвых, Боже! За что же Его хотят казнить?
— За то, милое дитя мое, — сдерживая градом падавшие по ее лицу слезы, отвечала мать, — что Он был лучше их, любил истину и обличал их пороки.
— Значит, нельзя любить истину? — наивно спросил ребенок.
— Напротив, должно. Но за истину всегда легче пострадать. Но ты молчи и не плачь. Посмотри, как зверски глядят на нас вот те злые люди.
Девочка замолчала и уткнула свое личико в платье матери. То была дочь Иаира.
— Мама! А кто Эта бледная Женщина, Которая идет за Ним и Которую Иоанн поддерживает под руку? — через минуту спросила она.
— Это Мария, Мать Иисуса Назарянина…
— Бедная Страдалица! Как мучительно будет видеть Ей позорную казнь Ее единственного Сына!
А казнь уже началась.
Первым подвергся ей разбойник Измерай. После отчаянных сопротивлений с его стороны, сопровождаемых бешеными криками, четверо воинов римской гвардии с большим трудом осилили его и привязали ко кресту. Но когда в руки и ноги его стали вколачивать гвозди, то потрясающие стоны вместе с проклятиями вылетали из его груди, свидетельствуя о страшном страдании, причиняемым ему этой бесчеловечной казнью.
Покончив с ним, палачи приступили ко второму разбойнику, по имени Амврий.
То был красивый, кроткий юноша, сын богатого жителя Иерихона. Увлеченный в ранней юности дурными страстями, он в короткое время растратил все состояние отца и присоединился к разбойничьей шайке Вараввы.
Амврий все время с душевным восторгом смотрел на Иисуса и не мог сдерживать слез, градом катившихся из его глаз. Он не выказал никакого сопротивления при распятии на кресте и покорно лег на него… Только мучительные стоны его сливались со звуками ударов молотка.
Во все это время Иисус стоял неподвижно. В Его дивных, кротких чертах, полных бесконечной любви и милосердия, виднелось царственное спокойствие, величие и какая-то непобедимая сила, невольно притягивавшая к Нему все сердца…
Но вот наступила и Его очередь…
С Него сняли одежду, положили Его на Крест и привязали к нему веревками… И когда раздался первый глухой удар молотка, вколачивавшего гвоздь в Его ладонь, неслыханный отчаянный крик вырвался из измученной страданиями груди Его Матери… и замер, улетев в бесконечное небесное пространство…

Кто в состоянии описать то, что творилось в это время в Ее измученной душе?..
Кто в состоянии изобразить словами те тайные муки Ее наболевшего сердца? Те страшные кровавые раны, которыми оно было покрыто? Ту скорбь, которая овладела всем Ее существом?
Нет!.. На земле нет такого могучего пера, которое было бы в силах изобразить все это!
Ум человеческий слаб, чтобы обнять всю скорбь Матери при виде ужасных страданий Ее Сына… Человеческое слово бессильно рассказать ее словами!
В то время, когда уже все было окончено и кресты с прибитыми к ним телами были подняты и водружены на предназначенных им местах, — Иисус был посредине, — Она стояла со скрещенными на груди руками.
Глаза Ее, поднятые вверх и устремленные на Страдальца Сына, полны были невыразимой муки, покорности воле Творца и такой глубокой задумчивости, точно душа Ее, отделившись от тела, взлетала высоко к престолу Всевышнего, и там, у Его подножия, горькими слезами изливала свою страшную скорбь…
Она, казалось, ничего не видела, что происходило вокруг Нее, и не слышала тех ругательств и насмешек над Нею и Ее Сыном, которые безумная, ослепленная видом крови толпа не переставала расточать, усиливая их своим адским хохотом…
А черные тучи, все более и более сближаясь, покрывали собою небесное пространство… Солнце скрылось за ними. На земле воцарилась глубокая тьма. Разразилась страшная буря. Промчался сильный вихрь, сорвавший с голов людей шапки и платки и разнесший их далеко по каменному пространству.
Прогремели раскаты грома… Сверкнула ослепительная молния. Вся природа была возмущена совершившимся страшным, небывалым злодеянием. На минуту все притихли. Некоторые спешили уходить.
Бледная и дрожащая дочь Иаира, плотно прижавшись к матери, в ужасе шептала ей:
— Мама, я боюсь! Я боюсь!
— Не бойся, дитя мое, — успокаивала мать. — Тот, Который воскресил тебя из мертвых, не даст теперь погибнуть нам… Он успокоит бурю.
И действительно, вскоре порывы ветра стали утихать, гром удаляться, и тучи, разрываясь, понемногу открывали небесную лазурь.
Народные толпы, оправившись, от испуга, еще с большею яростью принялись злословить Распятого Иисуса и язвительно насмехаться над Ним. Священники, книжники и фарисеи нарочно проходили мимо Него и насмешливо кивали Ему головами, а народ кричал:
— Разрушающий храм и в три дня созидающий! Спаси Себя Самого. Если Ты Сын Божий, сойди со Креста.
А иные, при виде надписи наверху Креста Иисуса, сделанной по повелению Пилата, которая обозначала Его вину: «Сей есть Иисус, Царь Иудейский», — кричали:
— Других спасал, а Себя Самого не может спасти. Если Он Царь Израильский, пусть теперь сойдет с Креста, и уверуем в Него.
Некоторые говорили так:
— Уповал на Бога, пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему, ибо Он сказал: «Я Божий Сын».
И Измерай, распятый с Ним, поносил Его:
— Если Ты Христос, спаси Себя и нас.
Другой же, Амврий, унимал разбойника и говорил:
— Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал.
И, обратившись к Иисусу, он сказал:
— Помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое.

И сказал ему Иисус:
— Истинно, истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.
И в этих словах Иисуса, несмотря на Его измученное страдальческое лицо, с посиневшими губами и потухающим взором, слышалось что-то великое, царственное, какое-то могущество и сила, так что осужденный Амврий ни на минуту не усомнился в Его словах и, радостный, спокойно опустил свою голову.
А Иисус, окинув взглядом всю толпу, сказал:
— Боже! Прости им: не ведят бо, что творят.
Затем, увидев стоявших перед Ним Свою Мать и Иоанна, сказал: «Жено! Се сын Твой», — а Иоанну: «Се Матерь твоя».
И как много кротости, милосердия, заботы и любви было в этих дивных словах Его!
В девятом часу вечера Он воскликнул:
— Боже мой, Боже мой! Для чего Ты Меня оставил?
И голова Его бессильно поникла на грудь.
Спустя минуту, Он снова поднял ее и, взглянув на небо, произнес:
— Отче! В руки Твои предаю дух Мой!
И Величайшего из людей от создания мира не стало! Он умер невинным за грехи всего мира и на вечный позор осудившим Его…
И в этот момент совершилось великое, необъяснимое чудо. Солнце вдруг померкло, на безоблачном небе воцарилась тишина, не слышно было ни завывания ветра, ни раскатов грома. А земля содрогнулась…
Вековые стены Иерусалима пошатнулись, многие здания разрушились, земля потрескалась, скалы расселись, завеса во храме разодралась надвое, мертвые восстали из гробов, и в один миг Иерусалим, Кедронская долина, сады и леса, все скрылось во тьме…
Страшная темная ночь охватила Голгофу, и только бледное Тело Иисуса сияло серебристым светом…
Охваченный страхом и ужасом, народ с воплями отчаяния бил себя в грудь, повсюду слышались стоны и плач.
Но вот разгневанная природа стала утихать. И снова прояснилось. Народ все более и более расходился…
Тут подошли воины, чтобы покончить с распятыми, так как по еврейскому закону нельзя было к Пасхе оставлять тел казненных на кресте, и воины перебили колени у разбойников. Когда же они подошли к Иисусу, то увидели, что Он уже мертв, и один из воинов проколол Ему ребро копьем. Из прободенного ребра, к удивлению видевших, потекли кровь и вода…
— Мама! — сказала дочь Иаира, горько плача. — Правда, что Он воскреснет?
— Не знаю, милая, — ответила мать. — Ученики Его говорили, что Он это сказал.
— Ах, как хорошо было бы, если бы Он воскрес, а мы опять увидели бы Его! — воскликнула девочка, вся просияв.
— Подожди, — ответила мать. — Вот, кажется, хотят снимать с Креста Его тело. Несут лестницы…
И действительно, некто богатый человек, Иосиф из Аримафеи, приверженец Иисуса, вместе с Лазарем, Симоном, Петром и другими учениками сняли с Креста Тело Иисуса, обмыли Его водою из Кедронского источника и, по еврейскому обычаю, обвили Его тонкою плащаницею с ароматами, принесенными Иосифом и Никодимом, тайными почитателями и учениками Иисуса.
Было уже около полуночи, на небе сверкали звезды, когда Тело Иисуса было приготовлено к погребению. Народ уже весь разошелся. В природе царила глубокая тишина, действовавшая как-то умиротворяюще на душу человека, особенно после недавнего шума и яростного крика; не слышно было ни шелеста листьев на деревьях, ни говора, ни шума посторонних шагов, что вполне подходило к совершавшемуся теперь печальному событию.
Иоанн, Петр, Лазарь и другие ученики, подняв на плечи божественное Тело Иисуса, стали тихо спускаться с Голгофы, за ними шли плачущие и рыдающие Матерь Иисуса и галилейские жены, а также и жена Иаира с дочерью. Все шли к каменной ограде, окружавшей с трех сторон прекрасный сад Иосифа, где у ворот, по его приказанию, их ожидали слуги его с зажженными светильниками. В глубоком молчании, прерываемом только тихим плачем и рыданиями сопровождавших Тело Иисуса, дошли они до подножия скалистой горы Мориа. Здесь, в скале, в высеченной новой пещере, на обтесанном камне и было положено учениками Тело их незабвенного Учителя. Вход в пещеру завалили большим камнем и, по распоряжению Пилата, запечатали его печатью и приставили к нему стражу.

А измученные страданием Мать Иисуса, галилейские жены и ученики Его вернулись домой и в слезах и скорби провели ночь. Какую ночь! Какую ночь!.. Боже! Боже!
* * *
На третий день после этого события, около полудня, дочь Иаира, выходившая куда-то из дому по поручению матери, вернулась радостная, веселая, взволнованная.
— Мама! Мама! — кричала она, вбегая и едва переводя дух. — Он Воскрес! Он Воскрес!
— Кто? Кто? — спросила мать в волнении, бросив работу, которой она была занята.
— Иисус! Иисус! Он Воскрес! Он Воскрес!
— Откуда ты это знаешь?
— Сейчас я встретила Иоанна, такого радостного и веселого, и он сказал мне, что утром рано женщины ходили ко гробу Иисуса, чтобы помазать Тело Его ароматами, и нашли камень отваленным от входа и сидящих на нем двух светлых Ангелов в белых, как снег, одеждах, которые и сказали им, что Он Воскрес, что Его нет там. Обрадованные женщины побежали к ученикам Его и рассказали им все, что видели и что узнали от Ангелов… Тотчас Иоанн и Петр побежали туда, чтобы удостовериться, и увидели все так, как сказали им женщины, и даже сами входили во гроб… А затем Мария Магдалина сама встретилась с Ним в саду и не узнала Его, приняв за садовника. Но, когда Он назвал ее по имени и спросил, кого она ищет, она узнала в Нем своего Божественного Учителя и в неизъяснимом восторге пала к Его ногам и, с восклицанием: «Учитель!» — хотела обнять Его колени, но Он сказал ей: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я не вошел еще к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им: «Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему, и Богу вашему!»… Ах, мама, какое чудо! Он Воскрес! Он Воскрес!
И, рассказав все, что знала, дочь бросилась в объятия матери, и они обе долго плакали, но плакали слезами радости и необъяснимого счастья…
С этого времени дочь Иаира, глубоко протрясенная в своей юной непорочной душе всеми происшедшими на ее глазах великими событиями, искренне уверовала в Иисуса Христа, Сына Божия и, сделавшись истинной и горячей последовательницей Его учения, крестилась; а по смерти отца и матери, под влиянием проповеди Иоанна, который однажды при ней повторил слова Иисуса: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо и бремя Мое легко»[82], — она раздала все свое имение бедным и посвятила свою жизнь прославлению имени Иисуса.
Она безбоязненно ходила по городам и селам, и везде проповедовала Его учение, ухаживала за больными, утешала скорбных и возвещала им о Втором Пришествии Христа, после которого настанет вечное блаженство. Она всю жизнь свою, по примеру Иисуса, отдала страждущему человечеству и, дожив до преклонного возраста, с миром отдала свою праведную душу Богу.
Последние слова, которые она произнесла холодеющими устами, были: «Он Воскрес! Воистину Воскрес!»
Автор неизвестен
Журнал «Отдых Христианина», май 1902 г.
Раб
Н. Черепнин
I
Весь длинный ряд улиц, ведущих от Яникульского холма[83] к Форуму[84], был наводнен той праздной толпой зевак, которая ютится в больших городах. Сегодня римская чернь проснулась с радостной надеждой на даровое развлечение: ожидали прибытие целого вновь покоренного племени.
Римляне, властители мира, нашли новое племя, не признающее еще их власти; этот далекий уголок земли, весь покрытый дремучими, таинственными лесами, где покровительствовали неизвестные боги, был, наконец, покорен. И вот, этот дикий народ Арморики[85], про силу которого рассказывали столько чудесного, народ со столь своеобразными верованиями и обычаями, он склонился перед могуществом Рима, куда теперь влекли победители своих пленников…
Конечно, в этот день великий римский народ имел основание ликовать; его гордости льстила новая победа, а кроме того, предстояло любопытное зрелище. Иногда в этой огромной толпе слышались, однако, слова недовольства; то самые бедные из римлян жаловались, среди общей радости, на свое печальное положение, — у них не было нескольких тысяч сестерций[86], чтобы купить пленного арморийца из этого дикого племени.
Около четвертого часа утра[87] гуляющие заняли свои места у заборов: пленные уже входили в город через ворота Аврелия[88] и направлялись по улицам Рима к Форуму.
Более шести тысяч кельтов[89] проходили перед любопытными римлянами. На челе пленников были венки из зелени, которые как бы говорили о недавно утраченной свободе. Глубокая скорбь и тяжелые страдания виднелись на их утомленных печальных лицах. Они шли с тоской в сердце, не имея ни тени надежды впереди; к тому же и физические страдания давали себя знать. Утомительная дорога и особенно влияние нового климата истощили их силы. Привыкшие к свежему дыханию океана, к туманному солнцу Арморики, к тишине лесов, они не могли выносить жгучего, палящего солнца Италии, раскаленной пыли дорог и громких криков грубой ликующей толпы. Но если, измученные, они замедляли шаги, беспощадный кнут торговца невольниками напоминал несчастным, что у них нет права даже на отдых.
Трудно сказать, чувствовали ли жадные до зрелищ и властолюбивые римляне, хотя бы в глубине души, то великое горе, которое испытывали вновь покоренные ими люди, но ни на одном лице не было знаков волнения, ни один взгляд не выражал сострадания, не слышалось ни одного слова жалости.
Когда целое племя, настигнутое врасплох, теряет свободу, теряет все радости вольной жизни на родине, отдельные личности словно стушевываются, сливаются одна с другой, на всех лицах виднеется одна и та же общая тоска. Однако среди тысяч жертв, проходящих по улицам Рима, выделялась одна, которая, казалось, страдала еще больше других, но вместе с тем больше других владела своим горем. Это была женщина лет тридцати пяти; она не спускала глаз с ребенка, который шел рядом с ней. В ее взорах читалась глубокая материнская тоска и горе. Но вместе с тоской, которая виднелась в глазах каждой матери, в ее взоре светилась в то же время какая-то необычайная сила воли.
История этой бедной женщины была приблизительно та же, что и каждой из ее соплеменниц. На глазах у нее убили мужа и старшего сына; потом ее и ее младшего сына взяли в плен. Но тяжелые утраты, которые она понесла, не помешали ей оставаться по-прежнему заботливой, деятельной матерью; она забывала свои горести и думала лишь о сыне. Без сомнения, она любила сильнее многих других, потому что только сердца избранных остаются твердыми в часы печали и испытаний.
Женщину эту звали Норвой. Ее двенадцатилетний сын, Арвен, молча шел рядом с ней. Его твердая поступь, гордая осанка и спокойное выражение лица, в то время как в душе его была целая буря, ясно указывали на его царское происхождение. Заложив руки за пояс, высоко подняв свою голову, с грустным взором, но без слез, без единой жалобы, мальчик следовал за другими. В нем было еще столько детского, нежного, что за слезы нельзя было бы упрекнуть его в слабости духа. Без сомнения, он черпал силы и бодрость в осанке матери; когда взгляды их встречались, ребенок еще выше поднимал голову, еще тверже ступал на землю. Но он сильно страдал; он вспоминал прошлое, и в то же время товарищи уже сообщили ему, что ждет его в будущем. Ребенок сознавал, что для матери это прошлое заключало в себе еще больше сожалений. Он угадывал, что для нее, уже немолодой и слабой, будущее будет еще тяжелее, и потому старательно скрывал от нее свои собственные муки.
Величественный Рим не рассеял тоску Норвы. Богатые дворцы, великолепные храмы города, словно тени, проходили перед ее утомленными глазами. Но Арвен, благодаря своей юности, был чужд той упорной тоски, которая гнетет душу, постоянно направляя мысль на одну и ту же печальную думу; он был поражен чудесами, которые открывались перед ним. Он по-прежнему оставался тверд, но выражение грусти, которое светилось в его глазах, мало-помалу сменилось изумлением.
Множество мраморных и бронзовых статуй, храмы, окруженные колоннадой, роскошные дворцы с их парадными входами глубоко поразили ребенка. Он не мог оторвать восхищенного взора от великих произведений искусства, от сотен богатых людей, окутанных пурпурными мантиями; людей, которые мчались, как молнии, на своих золоченых колесницах.
Когда, наконец, Арвен достиг Форума, его изумление достигло крайних пределов. Все, что было в Риме самого высокого в области искусства, находилось здесь, на этой площади, посредине которой величественно возвышался Капитолий[90]. Взор ребенка перебегал от одного храма к другому, от одной золотой статуи к другой, и везде была одна и та же роскошь, одно и то же великолепие. Молодой армориец спрашивал себя, не во сне ли все это он видит, неужели все это творение рук человеческих?
На середине площади шествие остановилось. Здесь пленники должны были расстаться друг с другом: каждый из них переходил к тому из торговцев невольниками, который купил тех или других из вновь покоренных у государства, чтобы, в свою очередь, выгодно продать их.
Ударом бича Арвен был выведен из своего сна и вспомнил весь ужас положения и матери, и своего, и глухо зарыдал.
Очарование, в которое было погрузился мальчик, сменилось беспокойством. Что станется с ними? Будут ли они принадлежать одному господину, или, в довершение всех несчастий, им предстоит тяжелая разлука?
Еще недавно столь сильные, а теперь истощенные зноем, арморийцы в изнеможении опустились на раскаленные каменные плиты мостовой, стараясь укрыться от жгучих лучей беспощадного солнца в тени каждой статуи, каждой тоненькой колонны…
На этот раз случай благоприятствовал Норве и ее сыну: им удалось расположиться под тенью огромного фигового дерева над озером Курция[91].
Грубые, бессердечные торговцы невольниками недолго дали отдохнуть несчастным. Вскоре дали знак пленникам вставать и тотчас приступили к их распределению между хозяевами, и каждый торговец увел с собою свою часть невольников.
Арвен и его мать, купленные у государства одним и тем же торговцем, были отведены с тридцатью другими арморийцами в гостиницу близ храма Кастора[92].
Окончательная продажа должна была состояться лишь через несколько дней, когда пленные отдохнут и оправятся от дороги; римляне хотели иметь здоровых и сильных рабов. Эту силу и здоровье, за которые платили деньги, как за предмет роскоши, рабы быстро утрачивали в непосильных работах; но до поры до времени красивые и видные невольники должны были украшать великолепные дворцы и могли удовлетворять тщеславию римских богачей.
Теперь, когда народная гордость была удовлетворена видом покоренного народа, надо было позаботиться и о другом: надо было показать товар лицом покупателям, откармливать как скот!.. В этом заключалось благородное занятие рабовладельца.
Как только арморийцы, в числе которых находились Норва с сыном, вошли в гостиницу, их окружили тысячей забот, им был уже приготовлен сытный обед, и даже невольники должны были прислуживать им.

II
Когда настал день продажи, кельты, после омовения, были опрысканы духами; их длинные волосы были тщательно расчесаны, к ним примешали блестящие украшения, но вместе с тем были сохранены характерные черты наружного вида арморийцев. Около четвертого часа на головы невольников надели венки зелени, в которых они входили в Рим, а на шею им привесили дощечки, на которых были написаны качества каждого, и повели их на подмостки перед гостиницей.
Вместе с кельтами должны были идти и еще человек около 15 рабов, от которых хозяин хотел заодно отделаться. На них не было зеленых венков, так как они не были военнопленными, но ноги их, натертые мелом, показывали, что они из-за моря. На некоторых из них были белые шерстяные шапки, в знак того, что торговец не отвечал за их поведение и не брал на себя никакой ответственности перед покупателем.
Вторично римский Форум представился во всей своей красоте обитателям Арморики. Но если бедные пленники успели во время отдыха оправиться от далекого пути, то их души по-прежнему оставались полными тоски и печали, чуждыми посторонним, внешним впечатлениям. Весь этот блеск бронзы, мрамора, золота был едва замечен большинством из арморийцев. Одно лишь их поразило — пустынный вид этой громадной площади, на которой несколько дней тому назад они видели такую громадную толпу народа. Это происходило потому, что как раз в этот час судьи разбирали дела просителей, купцы заключали торговые договоры, все римляне занимались тем или другим делом. Что же касается праздной черни, то она была всегда там, где и другие, жадно следила за поступками других, а сама не делала ничего.
Через какие-нибудь час-два Форум должен был совсем изменить вид. Римляне имели обыкновение приходить сюда после окончания дел; но до тех пор пленники могли располагать своими поступками и мыслями.
Этими минутами ожидания они воспользовались, чтобы проститься друг с другом. Еще раз они могли пожать один другому руки, можно было пролить несколько слез, можно было поговорить о дорогих умерших, вспомнить далекую родину, говорить на милом звучном родном языке, который скоро надо было забыть, променять на язык господина…
Сильные старались утешать слабых, ободрить их; говорили о мести. Несчастные льстили себя надеждой, что еще не все погибло, что им удастся вернуться в Арморику с помощью богов, которые, конечно, не оставят своих похищенных сынов.
Среди голосов, которые раздавались в утешение и надежду, выделялся один, — голос старого жреца Моргана.
— Не будем слабосильны, не будем показывать наших страданий и мук проклятым врагам, — говорил он твердым, спокойным голосом. — Пролив кровь нашу на их глазах, не будем доставлять им нового торжества, — видеть наши слезы и скорбь. Каковы бы ни были страдания, которым подвергнут нас наши завоеватели, ничто не может сравниться с тем страшным горем, которое мы испытали, когда нас насильно отрывали от родной земли. Почерпнем силы в сознании, что худшее уже позади, будем надеяться на богов, будем молить их о мести. Пусть и женщины затаят в себе горе и страдания, если им придется еще испытать их в разлуке с детьми. Пусть сердце арморийки будет достаточно глубоко, чтобы вместить в себе слезы матери!
Взгляд Моргана торжественно парил над окружающими с выражением властного повеления. Но когда он заметил Норву, которая с тоской смотрела на сына, чувство сострадания охватило старого жреца, и он сказал голосом, в котором слышалась ласка:
— Норва, думай о том, что твой муж, который живет теперь в царстве облаков, смотрит на тебя. Веди себя так, чтобы ему не пришлось краснеть за тебя перед лицом героев.
— Я постараюсь, — прошептала бедная мать.
— А ты, дитя, — продолжал старик, обращаясь к Арвену, — ты, который, быть может, станешь печальным листком, оторванным бурей от родимой ветки, помни, что Арморика — твоя родина, что до того страшного дня, когда римляне опустошили и покорили ее, кельты жили свободными и счастливыми в тени дремучих лесов. Всем сердцем ненавидь врагов, заковавших нас в цепи своей власти, и когда наши могучие боги помогут нам освободиться от ненавистного рабства, докажи им, что и мы можем быть жестокими властелинами, что и мы можем мучить и заставлять страдать! Если когда-нибудь, при виде наших врагов, ты почувствуешь сожаление, прислушайся к своим воспоминаниям, и они скажут тебе, что вместо всякого другого наследства арморийцы оставили своим сынам лишь сладостную мечту о мести!
Молнии, засверкавшие в глазах мальчика в ответ на слова жреца, были красноречивее всяких словесных обещаний. Морган, благородный и сильный старик, но служитель религии, не признававшей прощения, был глубоко тронут теми чувствами, которые пробудились в Арвене от его слов. Он положил руку на голову ребенка в знак благословения, затем повернулся к матери и сказал:
— Не бойся за сына, Норва. Он уже достаточно силен, чтобы переносить горе и зло, не падая духом и оставаясь светлым душой.
Водяные часы храма Кастора показывали пятый час. В это время Форум должен был наполниться народом, и торговец невольников приказал арморийцам замолкнуть.
Норва прижалась к Моргану и придвинула еще ближе к себе сына. Она словно почерпала силы в любви и сострадании этих двух близких ей существ. Арвен прижал к груди руку матери и смотрел на Норву взглядом, выражавшим покорность ребенка и вместе с тем гордость и решимость взрослого мужа.
Любопытные не заставили себя долго ждать и толпой окружили подмостки, на которых стояли арморийцы. Каждый торговец невольниками, указывая палочкой на того или другого раба, прохаживался перед подмостками, стараясь завлечь к себе побольше покупателей и, не стесняясь, нагло лгал, расхваливая свой живой товар, как бы стараясь перещеголять своего товарища.
— Идите сюда, благородные граждане, — кричал владелец Норвы и ее сына, — никто из моих собратьев не может дать вам невольников, одаренных столькими превосходными качествами, которыми обладают мои. Вы давно меня знаете как честного торговца, поставщика безупречного товара.
— Посмотрите-ка, — продолжал он, указывая на сильного, красивого, с гордой осанкой арморийца лет тридцати, — хотя бы на этого молодца. Где найдете вы столь красивого невольника? Посмотрите на его мускулы, — этот человек может изображать Геркулеса[93]. Но я должен еще сказать вам, благородные римляне, и верьте моим словам, потому что мне незачем лгать, — этот невольник еще в тысячу раз дороже, благодаря тем прекрасными качествам, которыми щедро одарен; он послушен, смышлен, трезв, честен; словом, в нем все те качества, которые должны быть у хорошего раба. Кто же из вас пожалеет незначительную сумму, чтобы приобрести такое сокровище?
И чем больше возрастала толпа кругом подмостков, тем более говорливым и лживым становился торговец. Можно было сказать, что отвратительно гнусное лицо этого «торговца людьми», живое воплощение всех постыдных и грубых страстей, было там лишь для того, чтобы живее показать всю громадную разницу между бесчеловечными римлянами и теми чистыми лицами прекрасных кельтов, на которых отражались лишь высокие и светлые помыслы.
Уже было заключено несколько сделок, уже несколько арморийцев сказали последнее, роковое «прости» своим ближним… Не один старик проводил взором удаляющегося сына; не один ребенок видел удаляющуюся мать… И однако все кельты свято хранили завет не давать наслаждаться врагам их тоской и слезами. Тот подавлял вздох в груди, другая сдерживала жгучие слезы при каждом новом удалении товарища. И если бодрость матери покидала ее при виде уходящего ребенка, арморийцы теснее прижимались друг к другу и скрывали от взоров любопытной толпы горе несчастной.
Все эти сцены раздирающей душу живой, но безмолвной драмы, отзывались в душе бедной Норвы. При каждом новом ударе, который падал на кого-нибудь из ее собратьев, в душе Норвы пробуждалось болезненное чувство невыносимой тоски и жалости. Но когда она чувствовала, что силы покидают ее, она поднимала глаза на Моргана, и вид этого сильного человека возвращал ей бодрость.
Раз, впрочем, сердце бедной женщины забилось на мгновение радостно: одна мать была куплена вместе со своим ребенком неким господином! Но тоска быстро вернулась и болезненно сжала ее сердце: вокруг нее было столько матерей, лишенных детей, столько детей без матери…
Оставалось не более десяти арморийцев, среди которых были еще Морган, Норва и Арвен, когда взор одного вольноотпущенного[94] с особенным вниманием остановился на мальчике.
Торговец, все время зорко следивший за своими покупателями, заметил этот взгляд. Он быстро подошел к Арвену и, касаясь палочкой плеча ребенка, сказал:
— Посмотрите, благородный римлянин, на этого мальчугана: глядя на его высокий рост и развитые мускулы, смело можно на вид дать ему лет 14-15, а между тем, я клянусь вам, что ему едва минуло 9 лет! Вы можете сами судить, каким великолепным рабом он будет, когда вырастет! Эти арморийцы, право, удивительный народ!
Бедная Норва не могла не содрогнуться при виде, как торговец коснулся плеч ее сына. Но Арвен, во все время продолжительного осмотра покупателем, оставался тверд и не выказал никаких признаков слабости.
Наконец, убедившись, что мальчик ему подходит, покупатель предложил торговцу триста сестерций. Несколько голосов подняли цену до четырехсот сестерций, но дальше торг прекратился.
Последний наддатчик[95] подошел тогда к особым подмосткам, где находился стол, на котором стояли медные весы, и, взяв их в руки, сказал человеку, стоявшему за столом:
— Я говорю, что, по римскому закону, этот мальчик теперь принадлежит мне. Я купил его этими весами и этой монетой.
И он бросил монету на одну из чашек весов.
Звон ее был словно смертный удар для Норвы. Она знала, что этот звон сопровождал покупку каждого ее соплеменника. Арвен на минуту смутился при виде смертельной бледности, покрывшей лицо матери, но повелительный взгляд Моргана вернул ему прежнее спокойствие.
Старик быстро нагнулся к Норве, прошептал ей несколько слов, и бедная мать овладела собой. Все это произошло так быстро, что никто не успел ничего заметить. Так, по крайней мере, думал Морган и по-прежнему гордо смотрел на толпу.
Торговец подошел к Арвену, чтобы отвести его к прежним невольникам вольноотпущенника, которые ждали нового товарища у подмосток.
Грубо оторвал он ребенка от матери, и бедная женщина не успела даже поцеловать на прощание сына.
— Прощай, мать! — крикнул Арвен. — Мы скоро увидимся. Я надеюсь на мои силы и терпение. Прощай, Морган!
— Прощай! — крикнул старик и поднял вслед мальчику руку.
Рука его долго оставалась так: он скрывал от взоров жадной до зрелищ толпы бледное опущенное лицо несчастной Норвы.
III
Вольноотпущенник, купивший Арвена, был управляющим одного из самых богатых патрициев[96] Рима. Клавдий Корвиний, так звали молодого патриция, лишь за несколько лет перед тем получил громадное наследство, состоящее из двухсот миллионов сестерций, и уже успел растратить большую часть его.
Дом Клавдия Корвиния считался одним из самых известных домов на Целистийском холме. В нем царила безмерная роскошь: полы были выложены дорогим белым мрамором, колонны из литой бронзы украшали входные двери, серебристые фонтаны наполняли каменные резервуары прозрачной водой и освежали воздух. Все диваны и подушки были на чисто лебяжьем пуху, а чехлы на них из дорогого заморского шелка.
Когда вольноотпущенный подошел с Арвеном к этому великолепному дворцу, он позвонил у бронзовой двери. Привратник вышел из своей будки, к которой он был прикован на цепи, вместе с дворовым псом, и торопливо отпер дверь. Управляющий велел позвать к себе «карфагенянина».
Это был переводчик, на обязанности которого лежало объясняться с вновь приобретенными невольниками, которые еще не знали латинского языка, на котором говорили римляне. Еще до неволи, путешествуя по делам торговли на кораблях, «карфагенянин» бывал во многих странах и знал почти все наречия приморских народов.
Вольноотпущенник передал ему мальчика, чтобы он переодел Арвена в приличную одежду и сделал ему необходимые наставления. «Карфагенянин» повел ребенка в помещение, где жили рабы.
— Кто-нибудь уже сообщил тебе твои новые обязанности? — спросил он.
— Я получал наставления лишь от свободных людей, как свободный, — сухо ответил Арвен.
Переводчик улыбнулся.
— Ты достойный сын арморийцев, которые страшатся лишь гнева небес, — сказал он. — Но все же тут я советую тебе больше всего остерегаться ударов кнута. Ты должен помнить, что, как раб, ты уж не «человек», а «вещь», и твой господин может сделать с тобой, что захочет: или заковать тебя, без всякой причины, в цепи, или наказать тебя палками для своего удовольствия, или даже отдать тебя на съедение диким змеям.
— Он может пользоваться своим правом, — гордо ответил молодой армориец.
— Но Клавдий Корвиний не злой, — продолжал «карфагенянин». — Он принадлежит к первым щеголям Рима и занимается тем, что постепенно разоряет себя. Он встает обыкновенно около четырех часов дня и отдается в руки своих приближенных, которые расчесывают его волосы, покрывают благовониями его тело и одевают его. Сто пятьдесят человек невольников работают лишь для него одного, и у каждого из них есть свои определенные обязанности.
— В чем будут состоять мои обязанности? — спросил Арвен.
— Ты назначен на заведование колесницами, — ответил переводчик. — Следуй за мной. Я покажу тебе твои владения.
Он повел молодого кельта в сараи, где хранились различные колесницы.
— Вот четырехколесные колесницы, какие употребляют германцы, на которых перевозят невольников и провизию. Там стоят экипажи, в которых господин выезжает в плохую погоду. А эти, что ты видишь, украшенные слоновой костью и серебром, на этих легких колесницах Корвиний совершает обыкновенно свои прогулки. Налево — носилки, украшенные персидскими коврами с пурпуровыми занавесками…
Арвен был очарован всей этой роскошью. «Карфагенянин» свел его в конюшни, вымощенные лавой. Ясли и стойла были там из мрамора.
— Пятьдесят мулов, что стоят там, — сказал переводчик, — предназначены, чтобы возить колесницы Корвиния. А на этих шестидесяти конях ездят рабы, сопровождающие господина на прогулках и выездах. Теперь пойдем к главному заведующему конюшнями, и он отдаст тебе некоторые приказания.
Арвен последовал за переводчиком к управляющему экипажами и конюшнями, и тот передал молодому арморийцу через «карфагенянина» некоторые указания.
— Мне остается лишь предупредить тебя об одном, — сказал переводчик. — Никогда не заговаривай с господином, даже когда выучишься латинскому языку. Клавдий Корвиний так горд со своими рабами, что никогда не говорит с ними. Свои требования он выражает знаком или пишет их на дощечках. Теперь пойди, получи твою ежедневную порцию еды, а потом примешься за работу.
Все, только что виденное Арвеном, так его поразило, так было ново для него, что он на время забыл свое горе. Но совсем иное дело было, когда появился Клавдий Корвиний в пурпуровой мантии, с раздушенными волосами, с богатыми браслетами на руках. Никогда Арвен не мог и вообразить ничего подобного. Но это было лишь в первую минуту.
Мало-помалу Арвен стал приглядываться к образу жизни своего господина, и возникшее было чувство удивления сменилось презрением к той праздности, безделью и лживости, которая царила кругом. Приученный с малых лет ненавидеть безделье и изнеженность, пренебрегать всем тем, откуда нельзя было почерпнуть мудрости или силы, он гордо отвернулся от всей этой излишней роскоши и грустно задумался о родной Арморике.
Воспоминания о матери никогда не покидали Арвена. Он сохранил к ней горячую любовь, мать была единственным интересом в его тоскливой однообразной жизни. Он надеялся путем долгих поисков разыскать господина, купившего ее.
Арвен понимал, что нельзя начинать этого трудного дела, не зная латинского языка, не имея возможности объясняться. Он принялся изучать этот чуждый ему язык с таким рвением и постоянством, какое может возбудить лишь истинное святое чувство. К несчастью, латинский язык давался ему очень трудно, так как он привык к твердому выговору своего родного языка и не мог произносить более мягкие слоги латыни. Память его словно отказывалась запоминать слова языка врагов… Но все-таки, благодаря силе воли, Арвен превозмог, наконец, все трудности и уже через несколько месяцев мог объясняться на латинском языке.
Он начал свои розыски, но вскоре заметил, что для успешного результата их у него было слишком мало времени и свободы. Его время принадлежало его господину, а ему самому едва выпадали два-три часа свободы.
Так прошло нисколько месяцев, а Арвен не имел никаких сведений о матери. Печальный и разочарованный, ребенок напрасно искал в себе силы, напрасно придумывал средства, как бы найти мать, когда одно неожиданное обстоятельство совершенно переменило его планы.
IV
Однажды вечером Арвен сидел на пороге сарая и отдыхал от дневных работ. Вдруг он услышал громкие крики радости. В ту же минуту он увидел еще не старого германца, которого все знали за усердного работника, выходящего из помещения рабов. Волосы его были обриты. Германец шел, окруженный другими рабами, которые поздравляли его. Все они направились к жилищу господина.
— Что случилось? — спросил Арвен.
— Этот человек получает свободу, — сказал переводчик.
— Что вы говорите?! — вскричал молодой кельт. — Разве раб может получить свободу?
— Конечно, если он заплатит за себя.
— А как же можно добыть для этого денег?
— Делай, как этот чудак: вот уже три года, как он питается одной половиной своей ежедневной порции, а другую продает. Он работает ночью и бережет каждый «ас»[97]. Мало-помалу, ему удалось скопить сумму в шесть тысяч сестерций, и теперь он покупает свою свободу.
В то время, как переводчик делал эти пояснения Арвену, германец вошел в покой господина, где за столом сидел Клавдий Корвиний с судьей. Остальные рабы остановились у входа, и Арвен поспешил присоединиться к ним, чтобы видеть все, что будет. Германец подошел сперва к своему господину, который положил ему руку на голову и сказал:
— Я хочу, чтобы этот человек был свободен и пользовался правами римского гражданства.
Потом он взял от раба прутья, ударил ими раба по спине, схватил его за руки, повернул, и сказал, ударив его слегка по щеке:
— Иди… Но помни, что, когда я разорюсь, ты будешь обязан содержать меня, потому что ты мой вольноотпущенный.
Германец удалился, и его прежние товарищи повели его в соседнюю гостиницу праздновать получение долгожданной свободы.
Все, только что виденное Арвеном, дало совершенно новое направление его мыслям и пробудило в нем надежду. До сих пор он мечтал лишь о том, как бы найти мать, чтобы вместе с ней переносить муки рабства. Но он почувствовал себя опьяненным от одной мысли, что они могли вернуть себе свободу.
С твердостью и постоянством, которые были отличительными чертами его народа, молодой кельт тотчас же решил начать трудиться для освобождения себя и матери, не переставая, кроме того, разыскивать мать.
Он хорошо сознавал всю трудность этого долгого дела и предвидел, что придется употребить для успешного достижения заманчивой цели много сил, но это нисколько не пугало его. С малых лет Арвен приучился к терпению и хорошо знал, что и из малого зернышка может вырасти могучий дуб, но для этого надо время.
Мальчик начал с того, что сократил свою еду до самых малых размеров. Он взялся за несколько сестерций выполнять работу других невольников, заведующих также экипажами, а по ночам он мастерил любопытные вещицы своей страны и продавал их за небольшую плату.
Что же касается поисков Норвы, мальчику скоро пришлось отложить их на время; пришло лето, и господин Арвена перебрался в свое имение недалеко от Рима.
Арвен с грустью покидал Рим, но вскоре ему пришлось порадоваться отъезду на дачу. Господин его жил здесь проще, а потому требовал меньше услуг от невольников, и у них оставалось больше свободного времени. Кроме уже означенных доходов, Арвену удалось зарабатывать еще немного денег, так как он нанялся к одному соседнему садовнику на несколько часов ежедневно и за это получал небольшую плату.
Таким образом, капитал мальчика, хотя, правда, медленно, но все же увеличивался. Каждый вечер Арвен любовался монетами, заработанными им столькими трудами. Он пересчитывал их, звенел ими друг о дружку. Звук этот радовал его, словно скрягу. Каждая монета, падая на дно глиняного сосуда, заключавшего сокровище ребенка, словно разбивала еще одно звено цепи, державшей Арвена и его мать в неволе.
Благодаря непрерывным трудам, мальчику некогда было предаваться праздным разговорам и разгулу с товарищами-рабами, и он оставался им чужд.
Один только из них сблизился с ним и казался глубоко тронутым неустанными трудами ребенка. Это был армянин со спокойным и кротким лицом. Над ним глумились другие невольники за его покорность и безропотность. Нафел, так звали армянина, был обязан переписывать книги, которыми Корвиний обогащал свою библиотеку. Это был хорошо и разносторонне образованный человек, но вследствие его застенчивости его можно было принять за человека весьма обыденного. Он знал наизусть многие места из сочинений древних философов и поэтов, но предпочитал писания каких-то совершенно неизвестных евреев, которые Нафел переписал для себя и постоянно читал.
Гордое терпение и постоянная деятельность Арвена поразили Нафела. Он старался заслужить доверие молодого арморийца. Сначала Арвен отверг стремление старика, но Нафел не отступал и, наконец, Арвен покорился кротости старика. Однажды он поверил ему свои планы. Армянин же грустно улыбнулся в ответ.
— Разве ты думаешь, что мне не удастся купить свободу матери и себе? — спросил Арвен с беспокойством.
— Я так не думаю, но что ты будешь делать с этой желанной свободой? Не надейся вернуться в Арморику, твой бывший господин не позволит тебе этого. Тебе придется жить под его покровительством и надзором, тебе надо будет поддерживать его, если он разорится. По закону, он — твой наследник; по крайней мере, на половину всего твоего имущества. А если ему представится повод донести на тебя, он может изгнать тебя за двадцать миль[98] от Рима. Вот свобода вольноотпущенных! Это та же неволя, только в немного более широких рамках.
— Все равно, — сказал Арвен. — Я буду, по крайней мере, вместе с моей матерью. Мы будем говорить с ней о лесах нашей родины, и я буду ожидать дней, когда мне боги помогут отомстить ненавистным врагам!
— Ты, значит, хочешь жить с чувством мести в душе?
— И боги Арморики помогут нам, — продолжал Арвен глухим голосом. — Жрецы наши говорили нам: «Придет день, когда каждый осиротелый сын обагрит кровью врагов могилу отца!» Я знаю место, Нафел, где покоится прах моего отца. Я сделаю могилу его краснее пурпура, в который облекаются наши победители!
Правая рука молодого кельта поднялась, как будто держа меч. Нафел хотел было что-то ему возразить, но воздержался и сказал лишь:
— Время еще не пришло; пока ты будешь надеяться лишь на свои силы, дитя, ты не поймешь истины.
И, завернувшись в свою шерстяную мантию, он ушел, склонив голову и сложив руки на груди.
V
Между тем Арвен обратил на себя внимание точным исполнением всех приказаний. Рвение, которое другие выказывали из страха перед наказанием, мальчик выказывал из гордости. Сознавая всю тяжесть сопротивления, он отказался от него с первой же минуты, и решил делать больше, чем от него будут требовать. Он избегал, таким образом, наказаний и выговоров, которые мучительно напоминали бы ему о его невольничестве, и его покорность имела вид и характер добровольного подчинения.
Это усердие расположило в его пользу главного управителя и, когда умер главный возница экипажей, Арвен был назначен на его место.
Клавдий Корвиний покидал Рим лишь от скуки. Утомленный празднествами, блеском и роскошью, он воображал, что уединение будет ему приятной переменой. Он хотел даже попробовать сделать попытку, модную в то время среди щеголей Рима, устроить себе самое скромное жилище, наподобие хижин бедняков. В последний раз он было заперся там с одним только невольником, питался плохим горохом и другими овощами, но эта тихая жизнь быстро наскучила Корвинию, и он отдал приказание вернуться в город, не дождавшись наступления холодов.
Новые обязанности Арвена заключались, между прочим, в том, что он должен был сопровождать своего господина в его загородных прогулках на колеснице.
Во время одной из таких прогулок, всадники, ехавшие впереди колесницы Корвиния, принуждены были остановиться. Дорогу им пересекала целая процессия.
То направлялась куда-то Метелла, известная римская аристократка, в сопровождении целого множества рабов и рабынь. Полулежа на богатых носилках, она оперлась правой рукой на роскошную подушку; на голове у нее была легкая вуаль, которая, казалось, готова была улететь от каждого дуновения ветерка, а ее чудные черные косы были перевиты мелким жемчугом.
Чтобы смягчить невыносимый зной, Метелла держала в каждой руке по хрустальному сосуду с прохладной водой, а вокруг ее обнаженной шеи обвилась ручная змея. Два африканских скорохода, в ослепительно белых поясах из египетского полотна, с серебряными браслетами на руках, шли впереди. За ними следовала молодая невольница с пальмовой веткой, украшенной перьями павлина, и защищала лицо Метеллы от солнца. Рядом с носилками шли невольники, которые несли небольшую скамеечку из слоновой кости, по которой Метелла выходила из носилок. Шествие замыкалось сотней богато одетых невольников.
Посмотрев с минуту на великолепный поезд, Арвен равнодушно отвел глаза. Он уже успел привыкнуть ко всей этой роскоши… Уже почти все невольники, находившиеся в свите Метеллы, прошли, и передовые всадники поезда Корвиния двинулись вперед. Арвен хотел было последовать их примеру, как вдруг внезапный крик, раздавшийся вблизи него, заставил мальчика быстро обернуться: одна невольница отделилась от прочих рабынь Метеллы и протягивала к нему руки…
— Мать! — вскрикнул ребенок и выронил вожжи.
Мулы, почувствовав свободу, понесли…
Напрасно молодой кельт старался остановить их бешеную скачку, напрасно силился снова овладеть вожжами, все его попытки оставались безуспешными…
Наконец, потеряв всякую надежду, Арвен выпрыгнул из колесницы и огляделся. Он был уже далеко от того места, где встретил Норву. Он бросился ее догонять, но всадники, старающиеся обогнать друг друга, и новые поезда мешали ему и заставили остановиться. Растерянный ребенок помчался среди экипажей и лошадей, не замечая ни ругательств, ни ударов, которыми осыпали его. Но было уже поздно: ему не удалось догнать матери, так как Метелла вернулась со всей своей свитой в Рим.
В первую минуту мальчик почувствовал отчаяние, не поддающееся описанию. Но потом он утешил себя тем, что теперь несравненно легче будет найти Норву, так как он расслышал имя ее госпожи. Он уже придумывал различные способы, как разыскать жилище Метеллы, как вдруг один из всадников Корвиния догнал его и велел ему снова браться за вожжи.
После минутного колебания Арвен повиновался.
Молодой патриций, принужденный ждать некоторое время, ничего не сказал Арвену, но, как только они вернулись домой, сделал знак своему управляющему. Мальчик не понял значения этого таинственного знака, но вскоре он сообразил, в чем дело, и побледнел. К нему подошел палач с рогатиной и сказал, улыбнувшись:
— Наконец-то, мой милый, ты попался мне! Ты долго не хотел со мною познакомиться?! Впрочем, господин слишком добр к тебе: он довольствуется просто шуткой. Клянусь богами, что, если бы ты принадлежал вольноотпущенному, он отдал бы тебя на съедение змеям!..
Говоря так, палач приложил рогатину к груди и плечам мальчика, связал его руки, и приковал на цепи к столбу у входа. Взглянув на него, он засмеялся злорадно и сказал:
— Ты проведешь чудно эту ночь на свежем воздухе. Чтобы тебе не было скучно, ты займись изучением звезд!..
Он знаком простился с Арвеном и удалился.
Молодой армориец все время хранил молчание. Он гордо поднял голову, весь выпрямился и взглядом, полным презрения, смотрел на своего мучителя, а в душе ребенка клокотала целая буря гнева и тоски. Он готов был в эту минуту перенести все самые ужасные наказания, но с тем условием, чтобы и Клавдий Корвиний разделял их… Воспоминание о матери еще больше разжигало его злобу. Не будь он подвергнут этому постыдному наказанию, он уже нашел бы ее, прижимался бы к ее груди! Она ждет его, конечно, и теперь, может быть, винит за то, что он медлит!..
Отчаяние охватило его. И вдруг он услышал свое имя, в нескольких шагах от себя… Кровь застыла в его жилах… Он повернул голову… Какая-то женщина бросилась к нему…
Это была Норва. Арвен с минуту ничего не слышал, не видел и, как без чувств, от радости упал в объятия матери. Никогда в жизни не испытывал он столь сильного волнения. А Норва была словно безумная от счастья! Она плакала и смеялась, била в ладоши и осыпала сына страстными поцелуями…
После первых порывов ласки и нежности, Арвен пояснил Норве причину своего наказания. Узнав, что она была невольной виновницей этого, бедная мать снова начала со слезами ласкать и целовать сына.
Мальчик старался утешить ее, как мог. Он забыл о рогатке и цепях, которые удерживали его; он готов был согласиться всю жизнь провести в таком положении, лишь бы мать была с ним, лишь бы она могла ласкать и утешать его.
Норва, сидя у ног сына, в свою очередь рассказала ему, как, узнав имя и дом его господина, она бежала от Метеллы, не думая о последствиях, желая лишь разыскать Арвена. Она расспросила его обо всем, узнала все, что передумал и перечувствовал ее сын в этот длинный, тяжелый год разлуки.
Что касается ее самой, ей пришлось испытать муки самого тяжелого рабства. Метелла, занятая лишь собой, донельзя тщеславная и мелочная, вымещала на своих невольниках все свои малейшие неудачи. Минутная досада, нетерпение, капризы ее всегда выражались каким-нибудь жестоким наказанием тех, кто ей прислуживал. Ей доставляло какое-то дикое наслаждение видеть мучения других. При самом малейшем поступке Метелла заставляла своих рабов становиться перед собой на колени и надувать щеки, чтобы ей было удобнее ударять по лицу. Морган, купленный вместе с Норвой, уже два или три раза подвергся наказанию за то, что не хотел согласиться на такое унижение.
Слушая этот рассказ, Арвен не мог не сознаться, что судьба благоприятствовала ему, сделав его рабом Клавдия Корвиния.
Между тем Нафел, узнав о наказании Арвена, улучил удобную минутку, когда господин посещал библиотеку, и, пользуясь хорошим настроением Корвиния, просил его за ребенка. Клавдий Корвиний дал знак, и молодой кельт был тотчас освобожден от оков.
Арвен свел мать в уединенное место, где беседа их могла быть более откровенной и задушевной.
В продолжение нескольких часов Норва и ее сын совершенно забыли про свое тяжелое положение. Они говорили об Арморике на родном языке. Они вспоминали свою прошлую жизнь на родине, повторяли дорогие имена и места, где они были так счастливы!
Арвен быстро унесся в прошедшее. Он видел себя не рабом, не в Риме, а сыном великого вождя, сидящим у пылающего радушного очага, слушающим рассказы матери о преданиях своего народа.
Ночь пришла, а Норва и Арвен и не заметили ее. Подняв глаза к синему небу Италии, усеянному мириадами сверкающих звезд, они все говорили о далекой родине, не замечая, как летело время. Арвен поведал матери свою мечту об освобождении.
— Морган тоже говорит нам об освобождении, — сказала Норва. — Но он рассчитывает сделать это мечом, а не золотом.
— Уж не готовится ли восстание? — с живостью спросил Арвен.
— Я боюсь думать об этом, — ответила Норва. — Морган поддерживает отношения с рабами нашей родины. Большая часть из них уже запаслась оружием и при первом призыве они готовы восстать. Дакийцы[99] и германцы тоже хотят принять участие в восстании, я постоянно слышу, как повторяют они тайно имя Спартака.
Глаза Арвена засверкали. Это заметила Норва и, с беспокойством и нежностью схватив руку ребенка, обратилась к нему со словами:
— Помни, Арвен, что ты еще слишком молод, чтобы принимать участие в этом опасном деле.
— Мне уже пятнадцать лет, — возразил Арвен с нетерпением.
— Но ты еще не достиг возраста воинов, ты ведь знаешь это. Чтобы поддержать главное великое имя, которое ты носишь, нужны более опытные и сильные руки. Морган так сказал, и я запрещаю тебе принимать участие в этом восстании.
— Я повинуюсь, мать, — грустно ответил мальчик глухим голосом и с глазами, полными слез.
Норва положила голову его на колени с нежной лаской матери и сказала, целуя его в лоб:
— Не печалься, дитя. Когда ты достигнешь возраста взрослых мужей, я уже не буду иметь над тобой никакой власти. Ты можешь тогда свободно избрать себе поле брани. Но до тех пор дай же мне воспользоваться моим правом матери, дай охранять пока твою юную жизнь. Дай мне напоследок насладиться этим чудным правом, которое скоро мне придется потерять. Увы! Скоро ты уже будешь не мой! Ты будешь принадлежать своим чувствам, своей воле, другой женщине, может быть… Не жалей же этих последних часов моего царства, не противься нужной власти той, которая дала тебе жизнь. Сегодня ты еще мой, я еще убаюкиваю дитя на руках своих, а потом ты станешь взрослым мужем, а я буду матерью наполовину и не смогу больше охранять тебя от всего этого.
Норва говорила эти слова с такой нежной и ласковой грустью, что Арвен был глубоко тронут. Он прижал ее к сердцу, называл ее самыми ласковыми нежными именами и обещал ей без сожаления подчиниться всем ее желаниям.
VI
Ночь прошла в задушевных беседах.
Но вскоре снова взошло солнце. Норва вспомнила, наконец, что ей надо вернуться к своей госпоже. Ребенок спросил и получил разрешение проводить ее. Оба шли, мирно беседуя, как вдруг они заметили отряд невольников под предводительством одного вольноотпущенного. При виде их Норва остановилась в волнении.
— Это слуги Метеллы, — сказала она.
Невольники узнали мать Арвена. Они подбежали к ней и окружили ее.
— Наконец-то мы тебя поймали! — сказал вольноотпущенный.
— Что хотите вы этим сказать? — вскричала Норва.
— Разве ты не убежала из дома своей госпожи?
— Я возвращаюсь туда.
Вольноотпущенный громко расхохотался.
— Все сбежавшие рабы говорят так, — заметил он. — Свяжите ей руки и ведите!
Норва хотела было объясниться, но ей приказали молчать. Арвену тоже не удалось заставить себя выслушать, и его увлекли вместе с матерью.
— Что вы будете с ней делать? — спросил ребенок с испугом.
— Разве ты не знаешь, что делают с беглыми рабами? Чтобы они не вздумали снова убегать, их клеймят на лбу раскаленным железом.
Арвен вскрикнул.
— Это невозможно, — сказал он. — Я увижу вашу госпожу и на коленях буду ее умолять…
— Если ты ей будешь надоедать, она подвергнет и тебя этому наказанию, — заметил вольноотпущенный.
— Меня? — вскрикнул мальчик.
— Да. Она может это сделать, заплатив твоему господину убыток, который он понесет. Ведь раб — это вещь. Если ее испортят или разобьют, за нее надо заплатить ее стоимость хозяину. Вот и все!
— Оставь, оставь меня! — твердила обезумевшая от ужаса мать.
Но Арвен не слушал ее. Они пришли к жилищу Метеллы. Госпожи еще не было дома. Известили управляющего о случившемся. Арвен хотел было просить за мать, но его грубо оттолкнули.
— Неужели же нет никакого средства спасти мою мать? — спросил мальчик в отчаянии.
— Купи ее, — ответил насмешливо управляющей.
— Купить! Разве раб имеет на это право?
— Ты разве не знаешь, что значит «викарий»?
Арвен вспомнил, что, действительно, некоторые рабы имели под своим началом невольников, которых заставляли делать самые грубые, тяжелые работы, но он не знал, что эти невольники принадлежали рабам.
— Сколько нужно для выкупа моей матери? — спросил мальчик с беспокойством.
— Три тысячи сестерций.
— У меня есть лишь две тысячи! — в отчаянии вскричал мальчик.
Но вдруг луч надежды озарил его. Он знал, что у многих его товарищей были небольшие сбережения. Они, конечно, не откажут ему в просьбе, дадут взаймы денег, и он наберет, таким образом, необходимую сумму. Арвен бросился догонять управляющего, который уже уходил.
— Я скоро вернусь с тремя тысячами сестерций, — сказал мальчик умоляющим голосом. — Обещайте мне только, что не начнете пытки до моего возвращения!
— Я даю тебе срок до четвертого часа, — сказал управляющий.
Арвен поблагодарил, со слезами обнял еще раз мать и убежал. Он достал, прежде всего, свои деньги, которые тщательно пересчитал. Да, не доставало лишь тысячи сестерций, чтобы спасти мать! Арвен направился в помещение рабов, чтобы просить кого-нибудь из них о помощи. Но там уже никого не было.
В доме Корвиния все были в страшной тревоге. Преследуемый кредиторами, молодой патриций едва успел покинуть свой дом, как в него вступили представители правосудия. На пороге, у входа, были вывешены объявления о продаже всего имущества Корвиния, опись которого была уже сделана оценщиком.
Как раз в эту минуту Арвен показался с деньгами в руках. Один из кредиторов, посланный другими, чтобы присутствовать при продаже, остановил мальчика:
— Что это ты там несешь? — спросил он.
— Мои сбережения, — ответил Арвен.
— А как они велики?
— У меня две тысячи сестерций.
— Прекрасно, они помогут рассчитаться с должниками Корвиния, — сказал римлянин и протянул руку к сосуду, в котором Арвен хранил свои деньги.
— Это мои деньги! — закричал мальчик, стараясь их защитить.
— Эти деньги принадлежат твоему господину, — ответил кредитор. — Ты ничего не имеешь своего, даже жизни… Давай же эти сестерции, а то, берегись, тебя накажут плетьми.
— Никогда, никогда, — повторял мальчик, прижимая свое сокровище к груди. — Эти деньги я скопил путем долгих тяжелых трудов, многих бессонных ночей и голодом. Они предназначены длч того, чтобы спасти мою мать. Ее хотят подвергнуть страшному наказанию беглых рабов. Я должен выкупить ее у ее госпожи за три тысячи сестерций. Не отнимайте у меня этих денег, граждане. Если не по справедливости, то хотя бы из сострадания. Сжальтесь, сжальтесь, я молю вас на коленях!
Молодой кельт упал на колени перед судьей и кредитором. Этот последний пожал плечами и сделал знак, чтобы приступили к продаже имущества. Несколько слуг подошли к Арвену и хотели силой отнять у него деньги… Мальчик начал было с угрозами и проклятьями отбиваться, но они были сильнее его, они свалили его и вырвали у него его деньги…
Арвен вскочил весь в пыли и вне себя от дикой ярости. Он искал глазами оружие, которым бы мог биться. Но слуги схватили его, вытолкали со смехом на улицу и заперли дверь.
В бессильной злобе, мальчик рвал на себе волосы, негодуя на себя за беспомощность. В эту минуту кто-то ласково положил руку на его плечо. Арвен обернулся, это был Нафел.
— Что с тобою, дитя? — спросил он.
— Мать! — закричал Арвен, и в его задыхающемся от рыданий и гнева голосе нельзя было ничего разобрать, кроме этого слова.
— Успокойся, — говорил Нафел, с трудом добившись, наконец, чтобы Арвен рассказал ему о случившемся. — Утешься, мое сбережение не было отнято. У меня есть четыре тысячи сестерций, я даю их тебе.
Арвен остолбенел от неожиданности, не смея верить собственным ушам.
— Пойдем, — продолжил армянин. — Эти деньги находятся у одного брата. Мы сейчас получим их.
Молодой кельт хотел было благодарить.
Но Нафел перебил его:
— Услуга, которую человек оказывает своему ближнему, приносит гораздо больше пользы дающему, чем получающему, потому что последний получает лишь помощь земную, преходящую, тогда как первый получает надежду на благо вечное, небесное. Не благодари же меня и следуй за мной.
Оба отправились к еврею, у которого хранились деньги Нафела, но того не оказалось дома.
Пришлось ждать, довольно долго… Беспокойство Арвена не имело границ; он содрогался от мысли, что может прийти слишком поздно. Наконец еврей вернулся, и четыре тысячи сестерций были вручены Арвену, который стремглав помчался к жилищу Метеллы. Пробегая мимо часов, он поднял голову — был четвертый час! Как безумный, мальчик помчался дальше.
В тот момент, как Арвен уже был на повороте, раздался страшный, раздирающий крик. Мальчик, шатаясь, прислонился к стене.
— Поздно! — сказал Морган, ждавший у входа.
— Мать!.. Что она? Где?! — кричал мальчик.
Старый кельт, не отвечая, взял его за руку и вошел во двор.
Двор был переполнен рабами, они шептались друг с другом. Посередине стоял палач у горячей жаровни. Норва пригнулась к земле у его ног.
Арвен бросился к ней, протягивая руки; но едва он увидел ее, крик ужаса вырвался из его груди, ноги его подкосились, в глазах потемнело, и он без чувств упал рядом с матерью…
VII
Два часа спустя умирающая Норва лежала распростертая на покрытой соломенной лежанке, служившей ей постелью. Обе руки свои она держала в руках сына и все повторяла его имя. Морган с поникшей головой стоял у ее изголовья.
Бедная мать, чувствуя около себя Арвена, сдерживала стоны и жалобы, душившие ее, и через силу старалась ему улыбнуться, но от ее улыбки леденело сердце. Лоб ее был окутан полотняным бинтом, сквозь который сочилась черная кровь. Ее веки, распухшие от невыносимой боли, были опущены, а из побелевших губ ее со зловещим свистом вырывалось дыхание.
Арвен, не помня себя от горя, едва удерживал рыдания, клокотавшие в его груди, чтобы не прибавить нового страдания к страшным мучениям матери. Но пережитые им в этот день испытания оставили на лице его ясные следы, как будто он перенес тяжелую болезнь. Склонясь к матери, ребенок с беспокойством следил за каждым ее движением, прислушивался к ее дыханию.
Вдруг она протянула к нему руки и сделала усилие, чтобы подняться.
— Арвен, — шептали ее леденеющие губы. — Где твои руки, я их не чувствую больше… Где ты?.. О, прижми меня к своему сердцу, не оставляй меня… Бедное дитя!..
Голова ее упала на плечо сына. Настала минута ужасного молчания… Арвен не смел даже взглянуть на нее.
— Мать, — сказал он, наконец, сдавленным голосом.
— Она переселилась к богам, — проговорил Морган.
Ребенок схватил голову матери, но, безжизненная, она тяжело упала назад… Арвен стал сиротой!
Не будем описывать горе и отчаяние мальчика.
В первую минуту он напугал даже самого Моргана. Мальчик за одни сутки испытал столько волнений, что силы его иссякли. Его схватила горячка; в течение нескольких часов он чувствовал себя совершенно безумным, был в бреду… Но вскоре немного успокоился и пришел снова в себя.
Морган, находившийся неотлучно при нем, воспользовался этим и попробовал вернуть ему самообладание.
— Они убили твою мать, — сказал он. — Теперь не время плакать и предаваться горю. Подумай о мести.
— Отомстить за нее! — закричал Арвен. — Да! Но скажи, что надо для этого сделать?
— Иметь силы следовать за мной, когда настанет время, — сказал старик.
Арвен вскочил на ноги.
— Идем! Я готов.
— Еще время не пришло, — продолжал старый кельт. — От того, что мы отложим на время месть, она не будет менее ужасна.
Он изложил Арвену планы рабов.
В самом Риме должно произойти восстание. Решено было предать город огню и умерщвлять все, что пощадит пламень.
Со смешанным чувством радости и возбуждения выслушивал мальчик эти жестокие слова о мести, ведь он вполне мог дать удовлетворение своей ненависти к врагам. Воспитанный во взглядах своего народа, Арвен искренно верил, что эти кровавые жертвы будут приятны тени Норвы. Пролить римскую кровь — означало выказать нежность и преданность усопшей. Арвен не считал месть личным удовлетворением, это был, в его понимании, долг по отношению к невинной жертве, святое искупление.
Мысль таким образом удовлетворить тень матери, придала силы Арвену. Он заглушил в глубине души все свое горе и с нетерпением несколько месяцев ждал условленного сигнала. Знак этот был, наконец, подан.
В один из дней невольники бросились в Форум с оружием в руках. Но власти были предупреждены. Римляне предприняли специальные меры, и рабы были тотчас окружены. Большинство из них побросали оружие и старались спастись бегством. Но несколько германцев и кельтов, среди которых находились Морган и Арвен, попробовали оказать сопротивление. Подавленные большинством римской стражи, они были разбиты и пали на месте восстания, среди множества трупов убитых и раненых римлян. Полумертвых, Моргана и Арвена подняли с кровавого места боя и отвели в тюрьму, где перевязали им раны и поместили в разные камеры. Власти надеялись получить от них некоторые ценные сведения…
Оба они вернулись к жизни, но ни пытки, ни мучения не заставили их выдать заговорщиков. Палачи вынуждены были признать себя побежденными их стойкостью, и обоих арморийцев перевели в тюрьму, где содержались рабы, предназначенные на растерзание диким зверям.
При встрече в этой страшной тюрьме Арвен и Морган молча протянули друг другу руки. Оба они были обмануты последней своей надеждой и умирали побежденными.
Долго длилось их взаимное молчание.
— Моя мать не будет отомщена, — сказал, наконец, Арвен с мрачным видом.
— Боги не захотели этого, — ответил Морган.
— Кто они, твои боги? — горько заметил сын Норвы. — Они не могут ни защищать нас в отечестве, ни помогать на чужбине! Зачем мы поклоняемся им, когда они недостаточно могущественны и велики?! А если они сильны, зачем покидают они нас, зачем предают в руки врагов? Боги Рима одни истинны. Они дают своему народу господство над всей землей! Они помогают ему оставаться свободным!
— Поклоняйся, молись им в таком случае, — насмешливо заметил Морган. — Но напрасно ты думаешь, что они услышат и исполнят молитву раба. Они милостивы лишь к господам, к римлянам, а нам они не боги-покровители, а враги.
— Итак, — продолжал молодой кельт, — целый мир ныне будет существовать лишь для подчинения одному народу — римлянам! О, зачем же тогда жизнь дается человеку? Почему не задушить из жалости ребенка при самом рождении, чтобы избавить его от тяжелого рабства? Какой злой гений создал мир, который должен забыть справедливость и быть в подчинении?
— Царство мира и свободы приближается, — вдруг произнес кроткий голос.
Арвен в удивлении поднял голову: это был Нафел.
— Ты здесь?! — воскликнул он. — Разве и ты принимал участие в восстании против притеснителей?
— Нет, — ответил армянин. — Они приговорили меня к этой казни лишь за то, что я поклоняюсь Тому Богу, Которого ты сейчас желал.
— Что ты хочешь сказать?
— Я — христианин.
Арвен с любопытством посмотрел на Нафела. Он много раз слышал, что имя «христианин» произносилось с презрением. «Христианство, — говорили, — религия преступных и презренных. Эта история о Христе, которая шла из Иудеи, была выдумкой и соблазнила лишь самых последних из народа, как всякая новинка».
— Если твой Бог добр, — сказал сын Норвы, — Он верно бессилен, если предает тебя твоим врагам?
— Мой Бог любит меня, — сказал Нафел. — Он хочет лишь утвердить мною Свою истинную веру. Каждый верующий, умирая, прославляет новый правый закон Христа. Глядя на христианских мучеников, которые с радостью умирают, возглашая: «Я — христианин», — люди спросят себя, что это за слово, которое научает умирать без сожалений, прощая своим палачам.
— А что хочет твой Бог? Что значат эти слова? — спросил Арвен.
— Он хочет, чтобы веровали и исповедовали Единого Истинного Бога, сотворившего небо и землю. Он хочет, чтобы все люди как братья любили друг друга. Все ложные божества, которые не что иное, как олицетворение страстей человека, падут, и останется лишь один Бог для всех. Как Солнце!
— Что же повелевает учение твоего Бога? — продолжал расспрашивать мальчик.
— Он возвещает свободу и братство между всеми людьми. Он заповедует любить каждого, заповедует самоотвержение, обещает блаженство в будущем. Самые достойные, по Его святому закону, — не самые счастливые на земле, а те, которые страждут (страдают — ред.) за правду. Он хочет, чтобы нигде не было насилия, но уничтожить его надо не железом и возмущением, а убеждением. Придет день, и он, может быть, уже не далек, когда восторжествует всеобщее равенство, христианство, ибо оно не есть лишь верование, но нравственный закон каждого человека, голос совести!
— А мы и не увидим этого славного времени, — грустно сказал сын Норвы.
— Так что же? Земля — только временное место жительства человека. Даже переделанная по закону Христа, она будет лишь отблеском лучшей жизни, где каждый получит награду по делам своим.
— А кто откроет нам двери в этот мир?
— Смерть! — ответил Нафел.
Арвен с минуту молчал. Слова армянина глубоко тронули его. Он вдруг увидел светлый луч высшего мира… Ему открывались словно новые пути. Никогда разуму его не представлялась столь прекрасная, великая, утешительная мысль…
Он сравнивал эту новую религию, построенную на братской любви, с грубыми варварскими учениями Моргана. Он сличал все бессилие своих прежних богов, которые без всякой жалости оставались чуждыми его горестям, с человеколюбием Бога христианского, Который за страдания в жизни земной вознаграждал человека в жизни, где царила вечная правда.
— Итак, — сказал Арвен, — твоя вера, Нафел, восстанавливает правду и на земле, где жизнь столь несовершенна, и обещает новую жизнь, где виновные будут наказаны, а печальные утешены? Там будет все то, что закон Христа не может утвердить на земле, вследствие порочности людей, и такая блаженная жизнь продолжится без конца?
— Да, — сказал армянин, — и нам, которым открыл Господь истину, надлежит исповедовать ее перед всеми, не страшась смерти и, погибая в цирке, возвещать роду человеческому эту благую весть!
— Нафел! — воскликнул Арвен, я хочу умереть христианином!
VIII
Через несколько дней, афиши, вывешенные на улицах, объявляли римлянам о зрелище, которое давал император своему народу. Толпа направлялась к цирку и наполняла его постепенно, как во время морского прилива вода заливает окрестности.
Рабы с граблями в руках сглаживали пыльную арену, в то время как звероборцы прохаживались у решеток.
Привели осужденных. Их были сотни. Впереди шли Нафел и Арвен, за ними следовал Морган, с гордо поднятой головой.
Проходя мимо ложи императора, все склонили головы, говоря, как это было принято:
— Император! Идущие на смерть приветствуют тебя!
Они пришли на середину цирка, где их освободили от оков. Затем все слуги цирка удалились, и на арене остались лишь осужденные…
Наступило томительное молчание ожидания; все головы зрителей и прислуги цирковой сцены потянулись вперед, все взоры устремились на арену. В эту минуту Нафел взял Арвена за руку и громко сказал:
— Римляне! Великий Бог христианский есть Единый Истинный Бог! Я и этот отрок умираем, прославляя Его святое имя!
Не успел он окончить, как раздался дикий рев. Все клетки были открыты, и звери с яростью ринулись на арену.
Большинство осужденных разбежалось. Арвен и Нафел бросились на колени, подняв руки к небу. Началось беспорядочное метание людей по арене, и вскоре все превратилось в страшную свалку несчастных осужденных и диких зверей-людоедов. Поднялась невообразимая пыль, перемешанная с брызгами человеческой крови и словно кровавым облаком затянула все кругом. Мелькали лишь бегущие люди, раздавались нечеловеческие крики страха и ужаса, рыканье диких голодных зверей и их истошный рев от запаха свежей крови… Когда все стихло, и облако пыли рассеялось, на арене императорского цирка можно было различить зверей, обученных терзать человеческую плоть — ягуаров, тигров, львов и медведей. Присев на задние лапы и купаясь в крови, они грызли остатки мертвых тел несчастных осужденных…
Н. Черепнин
Журнал «Отдых Христианина», май, июнь, июль 1902 г.
Крест Христов
Симбирцев
Легенда
I
Тихий и свежий весенний день склонялся к вечеру, когда в невзрачный домик, стоявший недалеко от ворот Иерусалима, вошел римский воин.
— Эй, Вениамин! — крикнул он, ища глазами хозяина домика — плотника Вениамина.
Навстречу воину выдвинулась низенькая, тощая, едва видная в темноте фигурка пожилого еврея. Это и был хозяин дома.
— О чем ты думаешь?.. — закричал воин. — На завтра заказаны три креста, а ты сделал только два!
— Но… и преступников тоже… двое… Я так слышал…
— Ну вот! Мало ли ты чего слышал. Ничего ты не понимаешь! Правда, у нас на завтра только два преступника, но центурион[100] требует, чтобы один крест был всегда в запасе — быть может, и пригодится.
И воин грубо засмеялся: предусмотрительность начальника казалась ему очень остроумной… Бедный плотник бормотал слова извинения, но воин не слушал его.
— Завтра ты доставишь нам третий крест… — сказал он не допускающим возражений тоном и круто повернулся к выходу.
— Но это невозможно, мой добрый Персий, — воскликнул жалобным голосом плотник.
Восклицание это остановило воина. Он стал раздумывать, как бы сделать так, чтобы не разгневать своего начальника и в то же время не притеснить этого бедного, честного и работящего плотника. А тот продолжал твердить все то же, что воин прежде пропустил мимо ушей и к чему теперь машинально прислушивался:
«Дерева нет, купить негде… Наступает Пасха, дела закончены… Нет, ничего нельзя поделать! Пускай доблестный и благородный (еврей не жалел лести) Персий обратится к кому-либо другому… Разве он, Вениамин, один только плотник в Иерусалиме?..»
— Да к кому я пойду? — задумчиво и протяжно говорил воин, от нечего делать оглядывая невзрачную обстановку убогого жилища.
— А вот! — вдруг воскликнул он, когда понемногу привыкшие к темноте глаза его увидели большое, гладко обструганное бревно… — Что же ты мелешь там и пугаешь, что нет дерева? А это чем не дерево?
И он, чтобы убедиться, так ли хорошо дерево внутри, как и снаружи, ткнул в бревно ногою.
— Великолепное дерево: крепкое, упругое, словно на заказ для креста…
— Ты прав, великодушный Персий, — поспешил согласиться Вениамин. — Это прекрасный кусок дерева…
И, увлекшись, он подбежал к бревну и стал его расхваливать, как обыкновенно делал перед заказчиками, стараясь получить лишний динар за материал.
— Посмотри, — твердил он, — какое нежное, тонкое и в то же время крепкое дерево, просто железо! Я дожил до старости, а не только такого, но даже подобного не видывал. Это редкий сорт… Это редкое дерево…
Так выхвалял он бревно, увлекшись своим ремеслом и совершенно забыв, что при начале разговора с Персием он очень желал бы укрыть его от зорких глаз воина. На этот раз похвалы его были вполне искренни, так как Вениамину и незачем было расхваливать свой товар, запроданный уже другому, и он действительно был исключительным по своему превосходному качеству.
— Ну, так в чем же дело? — прервал Персий ставшего внезапно красноречивым еврея.
— В том, что нельзя этого дерева употребить на крест, благородный Персий!
— Вот еще новости, — воскликнул воин. — Это почему?
— Я уже приготовил его для дома кожевника Симона. Он видел дерево и очень хвалил. Сейчас же после Пасхи я обещал вставить в осевшую стену его дома это бревно. А не исполнить нельзя — с Симоном, знаешь сам, шутки плохи.
— Да мне-то что за дело до твоего Симона? Я и знать его не желаю. Ну да вот что: нечего мне с тобой и время попусту терять. Пойдем к центуриону — поговори сам с ним! Это будет почище твоего Симона.
Вениамин на минуту задумался!
Отдать такое хорошее бревно — значит рассердить привередливого богача Симона, лишиться постоянного щедрого заказчика, а по его милости, пожалуй, и всех богатых давальцев. Но ослушаться центуриона — этого сурового офицера, беспрекословного исполнителя приказаний грозного претора Понтия Пилата!.. Этого человека, который велит делать «на случай» орудие страшной казни, от одного воображения которой способна стынуть кровь и волосы подниматься дыбом… Этого беспрекословного служаки, способного распять человека так же легко, как ему, Вениамину, отрубить сучок от дерева…
Нет, об этом нечего и думать…
Внезапно удачная мысль осенила его голову.
— Нельзя ли будет, добрый Персий, возвратить мне дерево после казни, — несмело предложил он.
— Ну вот! Давно бы так! — воскликнул воин, которому уже начинал надоедать весь этот разговор.
Затем они, в два слова, поладили… Завтра утром Вениамин сделает к бревну перекладину, принесет крест к претории, где Пилат будет производить суд над преступниками, а после казни Персий возьмет крест себе и отдаст его Вениамину. Это тем более удобно, что ввиду кануна еврейского праздника тела распятых не будут оставлены на крестах на несколько дней, как это обыкновенно делалось, а сняты завтра же, до заката солнца.
Поладив таким образом, они расстались, довольные друг другом, особенно когда Вениамин пообещал воину отблагодарить его за такой благоприятный исход.
II
Утром на другой день Вениамин со своим подмастерьем сперва отпилили от бревна довольно длинный конец и прикрепили его, как перекладину, немного ниже верхнего конца бревна. Сделав крест, они понесли его, как было условлено, на судный двор у здания претории.
— Вот и кстати, — весело кричал им навстречу Персий. — Наш центурион прав, как всегда! Есть и третий осужденный. Даже сразу двое. Только не знаю, который…
— Как так? — спросил Вениамин, осторожно сбрасывая крест и вытирая обильно проступивший пот…
Утро было холодноватое, свежее, но дерево креста было невыносимо тяжело, так что тщедушный Вениамин и подмастерье — почти подросток — едва донесли его.
— Да вон, слышишь?
Вениамин и подмастерье прислушались.
С улицы доносился, как гул от морского прилива, неясный шум толпы.
— Отпусти Варавву… — можно было иногда разобрать в этих криках.
— Варавву! Варавву! — росло по рядам.
Гул утихал и опять рос…
В криках слышалось озлобление и угрозы.
Вениамин простился с Персием, попросив его еще раз не забыть обещанного, и вышел на улицу в тот момент, когда освирепевшая толпа, жестикулируя и хрипя, кричала: «Распни Его!»
— Кого это? — спроси он у знакомого старика, поднимавшегося на цыпочки, махавшего рукой и кричавшего во весь голос: «Распни», воспользовавшись молчанием, последовавшим за сделанным претором властным жестом, после чего тот начал что-то говорить, чего, за дальностью расстояния, нельзя было совершенно расслышать.
— Иисуса из Назарета…
— Этого Пророка?! — воскликнул Вениамин, слышавший о Нем так много чудесного, но только раз, мельком, да и то недавно — нет еще и недели — видевший Его, когда Он проезжал мимо его домика, окруженный ликующей толпой, на маленьком белом ослике, что-то говорил махавшему пальмовыми ветвями народу и о чем-то плакал.
Хотел было Вениамин послушать Его, да так и не собрался: все недосуг.
— Какой Пророк? — презрительно ответил старик. — Сын плотника, такого же, как и ты.
Новый взрыв криков не дал ему дослушать речи злобного старика.
— Кровь Его на нас и на детях наших! — неистовствовала толпа.
Вениамин отбежал в сторону и, так же приподнявшись на цыпочки, увидел на Мраморной площадке лифостротона[101] двоих людей. Один был одет в блестящую белую одежду. Окаймленное темными волосами и зеленым венком на голове лицо Его было окровавлено, и капли крови, сверкая, падали на белоснежную Его одежду. Почти рядом с Ним стоял высокий полный человек в ярко-красной одежде; несколько нагнувшись, он подставил ладони под струю воды, которую лил из серебряного кувшина смуглолицый полуголый раб…
Вернувшись домой, Вениамин поспешно взялся за работу: Пасха на дворе, а в доме почти ни гроша.
Только на минуту оторвался он от работы, когда услышал крики на улице. Выглянув в дверь, он увидел толпу народа и воинов. Среди них шли один за другим, с крестами на плечах, приговоренные к смертной казни.
Иисус шел последним и едва мог нести Свой Крест, падая под его тяжестью. Это был Крест, только что сделанный Вениамином «на случай». Воины кричали, что Иисусу не донести Креста, и выискивали глазами в толпе, кого бы заставить исполнить эту тяжелую и позорную обязанность.
III
Работа у Вениамина не спорилась, тем более что подмастерье-подросток убежал смотреть на страшное, но захватывающее душу зрелище бесчеловечной казни сразу троих преступников.
Перед глазами Вениамина все стояло бледное лицо, оттененное венком, с кровавыми каплями на бело-мраморном лбу и смертельной бледностью на щеках.
Слышался и голос — слабый, тихий, какой-то беспредельно грустный, но спокойный голос, говоривший: «Плачьте не обо Мне, а о себе и о детях ваших» (ср. Лк.23:28).
А этот взор, полный невыразимой муки, который на момент встретился с полными тупого ужаса глазами Вениамина, когда Страдалец упал под непосильным бременем Креста!
Тут мысли бедняка переходили на тяжесть и крепость дерева, которое он приобрел на последние гроши, чтобы угодить Симону. «Не обманул бы Персий, — тревожно мелькало в голове плотника. — Что тогда делать с Симоном, где взять дерева?»
Наступивший среди яркого дня мрак и глухие подземные удары, от которых тряслись стены его убогой хижины, заставили его совсем бросить работу.
Он вышел на улицу и сел у порога своего домика, подперев голову руками, локти которых он упер в колени. На душе его было как-то особенно грустно и жутко. Впрочем, то же самое, очевидно, чувствовали и проходившие мимо него с места казни люди: шли они без слов, в каком-то странном и грустном раздумье. Эту пеструю, всегда подвижную, резко крикливую толпу, бушевавшую, как лава, всего несколько часов тому назад, нельзя было узнать.
Дик и страшен был также вид шумного города, который вновь начинало озарять появившееся перед закатом солнце: точно он весь замер, ожидая чего-то томительно тяжелого, грозного и в то же время неизбежного. Впечатление это усиливалось, благодаря отсутствию птиц и животных, попрятавшихся при наступившей темноте кто куда и не издававших ни звука.
Подошедший подручный вывел Вениамина из задумчивости…
— Иди! Персий зовет забрать Крест.
— Как, уже все окончено, Осия? — вырвалось у Вениамина.
— Все, все… Пойдем скорее!
Они быстро зашагали по извилистой улице к воротам.
— Ну и натерпелся же я страху! — говорил словоохотливый Осия, не обращая внимания, что Вениамин почти не слушает его, занятый расчетом, сколько придется дать воину за Крест и останется ли от работы барыш, если даже Симон будет так же щедр, как и всегда.
— Как плакала Мать и какие-то женщины… Должно быть, родня… А впрочем, может быть, и не родня…
И ему так жалко было доброго и кроткого Учителя.
— А как ужасно было смотреть на страшную сцену перебивания голеней! Хорошо, что Он уже умер в это время… Какой-то подлый воин все-таки не утерпел: ударил Его копьем в бок… Ох, уж эти римляне! Жаль, что бедный Иисус не повел против них народ… А многие надеялись было на это! Ну, да они еще дождутся со своим проклятым Пилатом новых Маккавеев[102]!..
Юноша говорил так все время, перескакивая с предмета на предмет, ругая римлян.
Вениамин по-прежнему не слушал его и только раз повел глазами по направленно руки Осии, показывавшего на храм, к которому бежали какие-то люди:
— Говорят, там во время землетрясения произошло что-то неслыханно чудесное и страшное…
На Голгофе было уже мало народу. Вдали виднелась удалявшаяся по направлению к саду небольшая толпа людей, несшая в белом полотне только что снятое со среднего Креста Тело.
Вениамин был очень доволен, что этот Крест — тот самый, который ему был нужен, — освободился.
Перекинувшись взглядом с Персием, стоявшим около сотника, выбиравшего из своего отряда воинов, которые, по какому-то странному капризному приказу проконсула, должны были в течение трех дней охранять гроб Распятого Иисуса, Вениамин с помощью Осии быстро вытащил клинья, укреплявшие Крест в земле; а затем они вынули и сам Крест.
Пока уставший от натуги Вениамин отдыхал, положив Крест на землю, любознательный Осия сорвал прибитую вверху Креста дощечку и старался прочитать сделанную на ней длинную надпись. Но он давно уже бросил едва начатое ученье и с большим трудом разобрал еврейские слова: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Остальные слова были на неведомом языке, и Осия передал дощечку рядом стоящему воину, спросив, не может ли тот прочесть; тот передал другому, а этот третьему. В это время Вениамин, отдохнув, взял Крест за перекладину и, повернув на бок, крикнул Осии, чтобы тот помог ему. Юноша беспрекословно взял Крест за противоположный конец, и они понесли его, торопясь поспеть домой до заката солнца, иначе, исполняя в строгости закон, им пришлось бы оставить Крест на полдороги, чтобы не нарушать житейской суетой торжества наступающего святого дня еврейской Пасхи.
Осия раздумывал, что бы могли значить неизвестные, не еврейские, слова надписи. То же ли самое, что и еврейские? Но какой смысл и в этих словах?..
Вениамин тоже думал, но совершенно о другом; он был доволен, что будет в состоянии сейчас же после Пасхи выполнить выгодный заказ. Одно только смущало его — дерево Креста сильно пропиталось кровью, пятна которой краснели особенно в тех местах, где находились вынутые теперь гвозди, державшие пронзенные руки и ноги Распятого… «Ну, да остругается дерево, и ничего не будет видно!» — мысленно утешал он себя.
IV
Сейчас же после праздника Вениамин начал свою работу по ремонту дома Симона тем, что стал обтесывать Крест с целью удалить кровавые пятна. Перекладину он не сбивал: она могла пойти в дело, как была, чем Вениамин был доволен. Но немного стесавши Крест, он убедился, что пятна почти не уменьшились. Попробовал еще стесать — еще хуже: на как бы поновевшем дереве красные пятна стали еще ярче, еще заметнее. Обтесывать дальше было рискованно: дерево не годилось бы для предназначенной цели. Вениамин решил вставить дерево в стену, как оно есть, в смутной надежде, что Симон не усмотрит причиненного облюбованному им дереву изъяна. Расчеты его оказались тщетными: не такой глаз был у Симона, недаром слывшего образцовым хозяином. Он, конечно, сам вышел посмотреть, как Вениамин будет поправлять ранее пошатнувшуюся стену, теперь же, после недавно бывшего землетрясения, близкую к падению.
— Что это за бревно ты хочешь поставить, Вениамин? Разве это то дерево, которое я выбрал, а ты запродал его мне? — резко спросил он.
Плотник растерялся и, путаясь, сбиваясь и заикаясь, кое-как рассказал Симону, в чем дело, твердя только, что он ни в чем не виноват…
Обыкновенно сдержанный, Симон пришел чуть не в бешенство, когда, наконец, понял из бессвязной речи плотника, в чем дело.

— Несчастный, — закричал он. — Ты хочешь навлечь проклятие на весь мой род! Добро бы, на этом дереве распят был разбойник или вор, про которых и в законе сказано: проклят всякий, висящий на дереве!
— А ты знаешь ли, безумец, — продолжал он, задыхаясь и понизив голос до шепота, — Кто был распят на этом Кресте?… Пророк! Понимаешь ли ты? Праведник! Да будет десять раз проклято это дерево, на котором распято было Его Тело!
— Иди, иди, — снова закричал он. — Долой с моих глаз. Уноси скорее это зловещее дерево, куда хочешь!
Вениамин вообще не привык спорить и возражать кому бы то ни было, а тем более богатому Симону. Тяжело вздохнув, он молча взял Крест на плечи и побрел с ним, кое-как волоча от тяжести Креста ноги, домой. Хорошо, что еще не далеко было нести: хижина его была в нескольких десятках сажен от богатого Симонова дома.
Крик Симона был услышан соседями, которые сейчас же стали спрашивать и у него, и друг у друга, в чем дело. Симон с негодованием передавал соседям о «проделке» Вениамина, встречая всеобщее негодование, ибо сказанное Симоном о том, что распят был Пророк и Праведник, шевелилось уже в общем сознании, хотя и говорилось еще, также тайком, скрываясь от нескромных ушей «страха ради Иудейска». Смерть на Кресте осужденного Пилатом Христа отрезвила живой, легко поддававшийся первому впечатлению, легкомысленный, по характеру, народ. «Кровь Его на нас и на детях наших»* (Мф.27:25), — отдавалось в ушах евреев постоянным укором.
Пилат, первосвященники Каиафа и Анна и фарисеи сделались предметом глухой злобы, время от времени выражавшейся ругательствами и угрозами по их адресу. Народ смутно чувствовал, что сделано что-то такое редкое по своей жестокости и несправедливости, подобного чему не найти было в предыдущих веках.
Сделано с поразительной головокружительной быстротой, так что все это беззаконие мелькнуло, как сон!
Тяжелый, мрачный сон.
Только не рассеялся этот сон!
Потеря Великого Учителя сказалась вдруг страшной душевной пустотой, которой были охвачены все.
Томился Пилат, которому в его беспечную голову ни во что не верующего язычника приходил неотвязный ответ на вопрос: «Что есть истина?»
Стоя пред его глазами, бледный, облитый кровью Богочеловек давал ему теперь тот ответ, который он не хотел понять тогда, хотя было так просто и так легко понять: «Истина — это Я!»
Томилась и жена его, ведь стоило ей немного настоять, и Праведник был бы жив. Она, жалкая женщина, не захотела в этом случае потратить хотя бы десятой доли той настойчивости, которую она могла проявить, если бы захотела обладать какой-нибудь блестящей безделушкой или пестрым попугаем.
Томились и оба первосвященника, углубляясь в книги пророков: им, изучившим весь закон и пророков, стало вдруг казаться, что они проглядели в них именно наиболее важное. Точно впервые видели они много раз читанные слова и с ужасом убеждались, упорно все же гоня от себя эту мысль, что ни к кому не применимы так слова Писания, как к погубленному ими Иисусу.
Томились и фарисеи, вдруг невольно усомнившиеся в своей правоте. Тщетно старались они стряхнуть с себя гнетущую мысль, распуская в народе слухи, позорившие Христа и Его учеников — десать, «Сам Он обманщик и ученики Его тоже: вот теперь они украли Его тело и говорят, что Он Воскрес!»
Юный ученик самого мудрого фарисея Гамалиила — Савл — со свойственной ему горячностью жадно слушал толки старших, настаивавших на необходимости беспощадного преследования этих обманщиков, которые одни ходят с веселыми лицами и радостно приветствуют друг друга!.. Томился, наконец, казалось, и самый воздух над каменистой землею под синим безоблачным небом, которое точно навеки заснуло, окаменев от ужаса при невиданном еще им, но теперь совершившемся под его покровом несказанном злодеянии.
Даже чуждых народу, всегда презиравших его римлян коснулось это тягостное настроение. Персий и его товарищи не только совершенно даром уступили Вениамину лучший Крест, но принесли и доску, бывшую вверху его, и два другие креста, и даже гвозди, и тоже не взяли денег, пробормотав только несколько презрительных слов против проклятого народа, опозорившего себя новой низкой местью и гнусным злодеянием…
Вениамин сначала обрадовался было прибыли, но скоро ему пришлось разочароваться. Он никуда не мог сбыть кресты. Редкие давальцы если и обращались к нему с заказами, то с непременным добавлением: смотри только, Вениамин! не из этого дерева! Из какого — не говорили, словно условившись не напоминать о страшном злодеянии, не тревожить неизлечимую, нанесенную в безумном ослеплении самим себе, рану. Так и стояли три креста у стены убогой хижины Вениамина постоянным укором и напоминанием того, что и так постоянно грызло сердце и никак не могло забыться!..
Да и как забыть? День ото дня чудные вести и слухи шли со всех сторон. Бедные рыбаки на разных языках проповедовали собравшемуся на праздник Пятидесятницы разноплеменному народу.
Начались преследования их, но число уверовавших в Христа росло, несмотря на ужасную, давно невиданную казнь отступника от веры отцов Стефана, побитого каменьями, о чем с ужасом в широко раскрытых глазах рассказывал Вениамину Ocия, бегавший, по свойственному ему любопытству, смотреть и на эту казнь, как смотрел он на крестный путь и страдания Христа.
Не мудрено поэтому, что когда в тех домах, где работал Вениамин, почти в одно время случились несчастья: в одном сын был убит в драке с римскими воинами, в другом внезапно захворал тяжелой болезнью глава семьи, а в третьем — что ужаснее того и другого — дочь богатых родителей приняла веру рабов и нищих в Этого Распятого Иисуса. А на Вениамина со всех сторон посыпались обвинения:
— Это он сделал роковой Крест, на котором умер дивный Назорей!
— Это он навлекает на всех Божий гнев!
— Это он призывает кровь Распятого на весь народ тем, что зачем-то хранит этот ужасный Крест!..
Вениамин долго крепился, но когда однажды собралась целая толпа, грозя разнести его убогую хижину, если он не уничтожит роковых крестов, он решился от них отделаться и дал толпе слово сжечь кресты.
Но когда толпа разошлась, он, по совету Осии, который за последнее время стал отчего-то серьезен и задумчив, решил закопать кресты в землю. Ночью они вырыли глубокую яму в углу двора за хижиной и положили туда кресты один на другой. Почва оказалась каменистой, рыть было очень трудно. Свою работу они закончили только на рассвете, растоптав и заровняв землю так, что никому бы и в голову не пришло, что здесь когда-то была вырыта яма. Осия бросил в яму и гвозди, и дощечку, бывшую над головой Распятого. Он теперь уже знал от других, что надпись на двух неведомых ему языках — греческом и римском — гласила то же самое, что и на еврейском. Это троекратное провозглашение Царем Назаретского Учителя — на его родном языке и на двух наиболее распространенных в тогдашнем мире — казалось ему чем-то странным и в то же время полным глубокого смысла, заставлявшим его серьезно задумываться над таинственным значением все-таки непонятных, в сущности, слов Пилата.
V
Уходил год за годом, принося с собою события, одно страшнее и чуднее другого. Число последователей «безумного учения» из нескольких бедных рыбаков превратилось в десятки тысяч; не было уже семьи, где бы не было члена, увлеченного в это «пагубное» учение…
«Да, это и предсказал Распятый Галилеянин! Ведь это Он говорил о восстании сына на отца, дочери на мать — таком невиданном на свете явлении! — часто думалось поседевшему, сгорбившемуся Вениамину. — Вот и Ocия — кроткий и послушный, как всегда. Просто только, кажется, жалеет старость его, Вениамина, заменившего ему отца, а то и он ушел бы к этим “сумасбродам”».
Старый Вениамин это отлично чует сердцем: недаром же Ocия так отстаивает память Этого несчастного Распятого. «Вот еще сегодня он говорил эти слова Назорея о семейном разладе… Да! да!.. Тысячу раз прав Распятый!..»
Видел Вениамин и другое, что опять-таки доказывало справедливость иных слов Чудного Пророка…
Иудея глухо волновалась… Горячие юные головы грезили возможностью свергнуть тяжелое, ненавистное римское иго. Эти же люди, устраивая заговоры и местные бунты, гнали и преследовали, как только могли, тех людей, которые не хотели присоединиться к их заветным грезам о восстановлении царства Иудейского и говорили о каком-то царстве «не от мира сего», о пришествии которого они усиленно молились…
Прогремевшая по Иудее весть о том, что самый ярый гонитель этих людей — фарисей Савл, «дышавший угрозами и убийством» против них, перешел на их сторону и уже заявил себя ревностнейшим последователем Иисуса, готовым на раны, преследования и смерть, застала Вениамина на смертном одре.
Все гибло в глазах старого иудея, весь ветхий мир рухнул, наступал какой-то новый век, с невиданным, неведомым светом, жегшим и освещавшим даже те сердца, которые не находили в себе никакой уже веры, взамен так явно рухнувшей старой.
Так, по крайней мере, казалось Вениамину, умиравшему с каким-то смутным неопределенным чувством страха за будущее и в то же время будто бы радости за него, радости за то, что в нем уже не повторится такого тяжелого состояния ни его родины, ни соплеменников, ни других людей.
Он боялся самому себе и Осии, остававшемуся его наследником, признаться в том, что умирает. Умирает если не с верою уже, то во всяком случае, с полуверою в Того, для Кого он сделал этот «ненавистный» Крест, теперь глубоко зарытый в землю, изображение которого — как он слышал от Осии — служит предметом почитания у этих безумцев, или… или… И он так и умер, не зная, как же их наконец назвать!
Умер он, не сознавая, что зарытый в землю Крест еще глубже зарыт в сердцах его, Осии и этих жалких, как он думал, людей, и уже льет оттуда тепло, свет и радость на все окружающее.
А годы идут да идут… Завещанная Вениамином своему наследнику мастерская переходит уже в третьи или четвертые руки. А где же наследник? Ушел куда-то. Немного времени спустя после смерти своего благодетеля чудак продал мастерскую, которая при конце жизни Вениамина, благодаря энергии и трудолюбию его помощника, давала уже хороший доход. Деньги отдал бедным и ушел. Куда — никто не знал.
Правда, старый Матфан рассказывал, что лет десять-двенадцать тому назад, будучи по торговым делам в Киликийской[103] области, он видел на площади среди толпы народа старца, поразительно похожего на Осию. Звали его другим именем, в городе он был пришельцем.
Сказывали также, что он ходит из города в город, проповедуя Распятого Иисуса. Матфан из любопытства подошел ближе и слышал, как старик, поднимая вверх руки, говорил окружающим:
— Братья! Вот руки, делавшие, по неведению, тот Крест, на котором распростерто было божественное Тело Христа! Вот руки, глубоко закопавшие в землю это орудие смерти и позора — знамение нашей жизни и грядущей славы Господа Иисуса.
Старик рыдал, плакала и окружавшая его толпа и рвалась к нему, ловя и целуя руки, державшие некогда Крест Распятого, и кричала:
— Блаженны очи того, кто видел то, что видел ты!
Матфану все они казались безумцами… Но рассказу его никто не верил. Богобоязненый ученик Вениамина, правда, был чудаковат, но не настолько, чтобы бросить иудейскую веру отцов и пойти проповедовать Какого-то плотника из Галилеи, Который хотя и умер, как кажется, напрасно… Да мало ли римляне переказнили так иудеев. Поди, и Ocия попал им в руки и пропал без следа!
Иисус начал уже позабываться в той внутренней смуте, которая теперь только ждала себе выхода.
Внутреннее брожение все росло да росло и, уже давно не сдерживаемое, наконец превратилось в открытое восстание… Тут уже было не до преследований учеников Распятого, слова Которого буквально исполнялись теперь во всем их ужасном значении, как на то указывали более благоразумные, получавшие в ответ прозвище «изменники вере отцов». Но уж и вера теперь не пробуждалась в сердцах, наполненных одним безнадежным, беспросветным отчаянием. С ним, и только с ним в душе шли на страшный бой с врагом последние защитники Иepyсалима и умирали тысячами от неприятельских стрел, голода и заразных болезней.
Беспримерно упорное сопротивление иудеев, потерявших веру в победу и старавшихся только о том, как бы дороже продать свою жизнь, было не только сломлено, но буквально раздавлено. Римляне жестоко мстили упорному врагу: щадить побежденного не было в их нравах.
Чтобы дать понятие о их мести побежденному народу, достаточно будет сказать только, что от самого города ничего не осталось, кроме груды дымящихся развалин; что на месте выстроенного Иродом Великим великолепного храма прошел плут; что даже само название «Иерусалим» было уничтожено, и те несколько хибарок, которые построили себе каким-то образом уцелевшие жители Иерусалима на его развалинах, названы были городом в честь Элии Капитолины[104], дочери “владыки вселенной”, Римского императора[105] Адриана, на долю которого выпало привести в исполнение грозное пророчество Христа.
А что сталось с домиком Вениамина?
Он был сожжен еще в самом начале осады самими же иудеями, чтобы прогнать римских воинов, ворвавшихся было в город через близлежащие ворота. И тщетно было бы искать его теперь, когда не осталось не только от богатого Симонова дома и от великолепных городских ворот, но и от грандиозного храма «камня на камне», по слову Христову.
VI
Чуть не три века прошло с того времени, как Вениамин и Ocия закопали в землю три креста.
Сколько промелькнуло событий, сколько сменилось поколений! С каждым новым событием, с каждым новым поколением все более и более забывалось прошлое. Учение Распятого Богочеловека широкой волною растекалось по вселенной, разносимое полными веры и самоотвержения проповедниками Евангелия по всему лицу земному «даже до последних земли» (Ис.8:9 — на церк.-слав. яз.).
Многие, конечно, спрашивали, где же тот Крест, который служил великой цели искупления рода человеческого и изображение которого уверовавшие во Христа делали и на стенах своих храмов, и на гробницах умерших, и на священных одеждах, и на стенах своих жилищ…
И не раз, и не один христианин, осеняя чело свое знамением этого Креста, спрашивал: «А где же тот Крест, на котором распят был наш Божественный Учитель?»
«Он остался в Иерусалиме!» — получал он в ответ.
«Говорят, что он зарыт иудеями где-то недалеко от городских ворот, ведших на Голгофу. Но теперь нет и самого Иерусалима. Не найти не только следа ворот, но даже сравнялась с землею и развалинами сама Голгофа».
«Итак, значит, Крест Христов потерян навсегда для Его учеников и последователей?..»
«Нет, — отвечали ему. — Крест Христов в твоем сердце. Это он — символ нашего спасения через совершенство самоотверженной любви к ближнему. Это он, как некогда звезда на востоке, освещает и указывает путь истинной жизни во Христе. Это он и тебя привел к Божественному Христову подножию.
Храни и помни его образ».
А Крест Христов действительно скрыт был в чудных, полных детской веры и самоотверженной любви к людям, сердцах первых христиан. Оттуда он проливал всюду животворящий свет свой, блистая в жизни и делах Христовых последователей яснее, светлее и ярче, чем тогда, когда в конце самой жестокой борьбы против христианства, со стороны умиравшего под лучами Божественной любви и истины язычества, воссиял на темном, южном небе перед изумленными и в то же время восхищенными очами Римского императора Константина.
Именно в душу императора Константина заронены были еще с младенчества его благочестивой матерью Еленою семена христианства. Росли там, то пробиваясь, то заглушаясь, и дали после чудного видения на небе пышный цвет и роскошный плод — полную победу Истины и Света над ложью и тьмою язычества.
Мать Константина Елена принадлежала к числу тех жен-христианок, о которых язычники с удивлением и с восторгом восклицали:
«Какие женщины у этих христиан!»
Рассказ обратившего ее ко Христу проповедника — о Кресте Христовом — глубоко запал ей в душу.
Она не сочла его легендой, как уже стали считать многие. Она постоянно расспрашивала о Кресте Христовом всех, кто, по ее мнению, мог бы о нем что-либо слышать. Мало могли ей сказать даже предположительного или гадательного, а не то что верного или определенного. Но и этого ей достаточно было для того, чтобы робкая надежда на то, что Крест Христов уцелел от рук Его врагов, сокрытый в земле, затеплившаяся в ней в тот момент, когда она услышала о смерти Спасителя, превратилась сперва в уверенность, а потом в твердое убеждение.
Долго Елена искала случая посетить Иерусалим, но постоянные внутренние смуты, которыми вечно обуревалась отживавшая свой век громадная Римская Империя и при которых жизнь Елены и сына ее не были даже вполне надежно защищены, не давали ей привести в исполнение заветнейшую ее мечту. Зато уже когда Константин сумел водворить в Империи мир, она не стала медлить с исполнением давнишнего намерения и, явившись в Иepycaлим, не щадила ни сил, ни труда, ни средств, чтобы отыскать Крест Господень, — до такой степени, что кажется, если бы Господь и хотел скрыть Крест Свой от людских взоров, то, по силе веры, любви и терпения святой Елены, вновь явил бы его миру!..
И действительно, Крест Христов был обретен Еленой!
Теперь уже понесли его не два бедных плотника, тайком, в безмолвии, крадучись под покровом ночной темноты. Несли его патриарх, епископы и сановники в блестящих одеждах, среди яркого дня с возженными для большого торжества светильниками, в клубах фимиама, при громком пении священных гимнов в честь и славу Распятого Христа. Теперь Крест Господень не лежал зарытый в землю в темном углу грязного и тесного двора, а стоял на особом возвышении во вновь выстроенном блестящем храме, служа предметом поклонения для бесчисленного числа верующих, несших к его подножию со всей вселенной за многие тысячи верст свою любовь, веру и благоговение ко Кресту.

Еще три века с лишним протекло…
Бедствие снова постигло Иерусалим, давно-давно уже христианский город. Персидский царь, овладев Иерусалимом, взял из его великолепного храма вместе с драгоценностями и Крест, зная, что он для христиан представляет самое дорогое, бесценное и незаменимое сокровище. Поэтому преемник его, будучи побежден Византийским императором, предложил, в виду скорейшего заключения мира, возвратить Крест в Иерусалим.
Но только шесть лет пробыл возвращенный Крест в Святом граде. Иерусалим теснили вновь появившиеся враги — арабы, и император, отчаявшись в возможности отстоять от них город, увез Крест в Константинополь.
Трудно и тяжело было Иерусалимским христианам, подпавшим под мусульманское иго, чувствовать, что нет у них Божественного Креста. Неотступно просили они возвратить его, в смутной надежде на его силу… Горячие мольбы подействовали: Крест был возвращен, но положение иерусалимских христиан все ухудшалось и ухудшалось. Последователи ислама теснили их как только могли, следуя завету своего учителя Магомета, заповедовавшего им проповедовать свой Коран огнем и мечом.
Не меньшим притеснениям подвергались и те христиане, которые рисковали явиться в Иерусалим на поклонение Животворящему Древу.
Наконец, вопли и стоны их дошли до царей Западной Европы и Римского папы. Собрано было большое войско, в ряды которого добровольно вступили десятки тысяч благочестивых людей. Изображение креста красовалось на их оружии и щитах, красноречиво говоря о цели их похода, названного историей «Крестовым». Горячая вера, одушевлявшая эти дружины, преодолела отчаянное сопротивление мусульман, и Иерусалим снова стал христианским городом. Но уже христиане были не те, которые поклонялись когда-то только что обретенному Кресту.
Те видели в Кресте новое доказательство и утверждение своей веры, как древле Фома видел это утверждение в язвах воскресшего Христа. А эти просто видели в Кресте предмет, обладающий какой-то таинственной силой, могущий причинить вред врагу христианства. Поэтому крестоносцы брали это знамение «на земли мира и в человецех благоволения» (Лк.2:14) в сражения, как воинское знамя. Когда с ним выходили в бой первые крестоносцы, полные еще горячей веры в предпринятое ими и совершенное богоугодное дело, преднесение Креста действительно имело то значение, которое ему старались приписать: воины воодушевлялись, видя Крест, бросались в самую беспощадную сечу и резню, а враг бежал и разносил такую панику, что новые неприятельские отряды бежали или складывали оружие при одном виде ненавистного им Креста.
Но когда стали выносить его в мелких стычках, даже при междоусобицах, очень частых в тогдашних войсках, то, естественно, у врагов ослабел этот страх перед таинственным Крестом. Поэтому, когда в битве при Тивериаде крестоносцы, для которых этим сражением решался вопрос о дальнейшем обладании ими Святой Землей, вынесли этот Крест в поле сражения, то достигли только того, что арабы всю тяжесть нападения обрушили на ту часть отряда крестоносцев, где был Крест, в справедливом расчете, что, захватив Крест в свои руки, крестоносцы упадут духом и сдадутся.
Это и случилось на самом деле… Впрочем, арабы не уничтожили Креста Господня. Они отнеслись к христианской святыне с должным уважением, тем более что основатель ислама Магомет признавал Ису (Иисуса), сына Марии, одним из величайших пророков. Они снова возвратили Крест в Иерусалимский храм…
Но у иерусалимских христиан не оставалось теперь никакой надежды ни на то, что мусульмане, еще более, нежели прежде, начавшие теснить их принуждением перехода в ислам, не уничтожат их заветной и главной святыни, ни на то, что они когда-нибудь освободятся от ига неверных. Поэтому христиане раздробили Крест, давая части его паломникам со всех концов земли, а также рассылая эти части по различным известным святым местам, обителям, царям и знатным мира сего или просто, наконец, благочестивым людям…
VII
При Втором Пришествии Своем Господь потребует от нас, ленивых и лукавых рабов, отчета о том, что мы сделали с Его Крестом… Не с тем Крестом, который теперь в тысячах кусков разнесен чуть ли не по всему лицу земному, ибо Он Сам, если бы восхотел, мог сохранить целым и невредимым это вещественное оружие нашего избавления от греха, проклятия и смерти.
Нет! Он будет в наших сердцах искать изображения Своего Креста…
Найдет ли Он его там?
Некогда Господь сказал, без сомнения, одно из самых глубоких и в то же время безотрадно печальных и горьких изречений: «Сын Человеческий, пришед, найдет ли веру на земле?» (Лк.18:8). Да! Найдет ли веру в людских сердцах, найдет ли в них Крест Свой, ибо вера и Крест Христов, Крест и вера — то же самое…
Крест этот велик, громаден. Его не может вместить вся вселенная. А места в наших сердцах делается все меньше и меньше… Пристрастие к миру, к его радостям и утехам, жажда наслаждений, погоня за деньгами, славою и почестями, зависть и злоба, злоба и злоба без конца — все это так занимает наши сердца, что для великого Креста остается самый ничтожный уголочек.
Да и то — остается ли?
В ничтожном маленьком уголке и Крест поместится также весьма малый. Признает ли его Иисус Христос за тот громадный, все больше и больше возрастающий, чем далее отходит от нас страшное Голгофское событие, Крест Свой, на котором пролита Его Божественная Кровь?
И найдет Он Свой Крест не в наших гордых окаменевших сердцах, а в сердцах малых сих, ничтожных мира сего, нищих духом — в сердцах, полных той высокой христианской любви, которая, по слову Апостола, «долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1Кор.13:4-7).
Эта любовь никогда не иссякнет, по тому же слову, «хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится…» (там же ст. 8), и в сердцах, полных ею, Крест Христов стоит и блистает, как некогда в пышном и величественном храме Иepycaлимском, изливая свет и радость на все, что только приходит в малейшее соприкосновение с сердцем, скрывающим в своих недрах величайшую святыню христианства…
О, если бы у всех нас были такие сердца!
Симбирцев
Журнал «Отдых Христианина», Март 1901 г.
[1] Рахиль — в Ветхом Завете — одна из двух жен патриарха Иакова.
[2] Иаков — библейский патриарх (после Авраама и Исаака), родоначальник 12 колен Израилевых.
[3] Вениамин — младший сын патриарха Иакова и Рахили (библ.).
[4] Эфрафа (с евр. плодоносная земля) — местность близ Вифлеема.
[5] Магдалы — древний галилейский город, упоминаемый в Библии как родина Марии Магдалины.
[6] Триклиниум — в древнеримской архитектуре обеденный зал с тремя ложами для возлежания во время трапезы.
[7] Очищение — обряд омовения в иудаизме, который был установлен по завету Моисея для очищения от ритуальной нечистоты; источн. нечистоты могли быть лица, страдающие определен. заболеваниями, женщины после родов и т.п., передающие нечистоту другим людям и предметам через продукты. «Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук; и, придя с торга, не едят, не омывшись» (Мк.7:3-4).
[8] Иегова — одно из основных имен Бога (устаревш.) в иудаизме.
[9] Ibis ad crycem! — в переводе с латыни означает приговор судьи: «Ты взойдешь на крест».
[10] Лифостротон — каменнный помост в Иерусалиме, на котором Понтий Пилат судил Иисуса.
[11] Автор написал это повествование к началу ХХ века.
[12] Либитина — в римской мифологии богиня смерти, богиня погребения усопших.
[13] Нола — древний город Италии, расположенный на берегу Лигуорийского моря.
[14] Епископ Ноландский Павлин — скончался в 431 году. Память его Православной Церковью празднуется 23 января — авт.
[15] По переводу с греческого имя Памфил значит всем милый, всеми любимый (примеч. авт. текста).
[16] (Пс.89:10) «Дней лет наших — семьдесят лет…»
[17] Водолив —рабочий, выливавший или откачивавший воду на барже.
[18] Приглубый берег (мор.) — берег, около которого большая глубина воды.
[19] Приставник — надзиратель (для надзора, охраны и т. д.).
[20] Варяющего (от глагола «варять») — предваряющего, опережающего, оберегающего, упреждающего (см. «Толковый словарь» Даля).
[21] Кумы — первая древнегреческая колония Италии. Кумы были главным центром распространения и влияния греческой культуры на римлян. Кумы имели несколько колоний в Южной Италии, в том числе — Нола, Неаполь и др. Завоеваны римлянами в 338 г. до н. э. Наибольшего могущества достигли в начале V века. Разрушен в VI веке.
[22] Адолламская пещера (евр.) — пещера, где Давид спрятался от Саула (1Цар.22:1-2; 2Цар.23:13). По преданию, пещера находится к югу от Вифлеема, в ней может разместиться несколько тысяч человек.
[23] Моавитские горы — горы современного государства Иордания, расположенные на востоке от горы Иордан и Мертвого моря.
[24] Центурион — сотник римского войска.
[25] Легионер — древнеримский солдат.
[26] Патриции — высшее сословие в древнем Риме.
[27] Сципионы — римская аристократическая фамилия, давшая много знаменитых государственных мужей Риму.
[28] Фивы (библ.) — город на Ниле; в разное время столица Верхнего Египта или всей страны; ныне — археологический памятник, расположенный примерно в 480 км южнее Каира
[29] Лютня — струнный музыкальный инструмент, похожий на бандуру, ныне вышедший из употребления.
[30] Атриум — главная зала в древнеримских домах.
[32] Непраздная — то есть женщина, носящая под сердцем ребенка, пребывающая в состоянии, противоположном праздности; беременность — это то бремя, на которое женщину благословляет Господь, и через которое она спасается.
[33] Апис — бык, коему поклонялись в древнем Египте.
[34] Сети (он же Сет, Сетах) — египетский бог; считалось, что Сет должен поддерживать мировой порядок; позднее его стали считать богом разрушения, хаоса, войны и смерти; изображался человеком с головой животного (лисицы или шакала, или осла, или крокодила).
[35] Некрополь (мертвый город) — обширное кладбище у древних (примеч. в тексте).
[36] Перистиль — крытая галерея, поддерж. столбами (примеч. в тексте).
[37] Патриций — аристократ в Древнем Риме.
[38] Снедать (ироническое) — терзать, мучить.
[39] Весталками у древних римлян назывались девушки-жрицы, посвященные богине Весте, на обязанности которых лежало поддерживать вечный огонь в храме этой богини (примеч. в тексте).
[40] Вифиниец — житель Вифинии. Вифиния — римская провинция, образованная в 63 г. до н. э. на территории северо-западной части Малой Азии (современная Турция).
[41] Диана — в древнеримской мифологии, богиня женственности…
[42] Церера — в древнеримской мифологии, богиня урожая и плодородия.
[44] (Ср. Мк.12:38-40)
[46] (Ср. Втор.23:20)
[49] Бахус — в древнеримской мифологии бог виноградарства, вина и веселия.
[50] (Мф.10:24-25) — примеч. редакции.
[51] Ср. (Мф.19:29) — примеч. редакции.
[52] (Ср. Мф. 10: 34; Лк. 12: 49-53).
[53] Иуда Галилеянин (См. Деян.5:37) — предводитель народного восстания в 6 г. по Р. Хр., мятежник против Рима. Убит римлянами.
[55] См. (3 Царств.17:7-24)
[56] См. (4 Царств.4:32-37)
[57] (Ср. Лк.4:18-19)
[58] (Ср. Лк.15:11-24)
[59] (Ср. Лк.15:24-30)
[60] (Ср. Лк.15:29-30)
[61] Кедрон (черный, темный) — название ручья, долины или места между Иерусалимом и Елеонской горой.
[62] Фиговое дерево — смоква или смоковница обыкновенная, или инжир.
[63] Терпентинное дерево — вид листопадных деревьев и кустарников рода Фисташка, высотой до пяти-шести метров; отличается сильным смолистым запахом; из этой древесины добывают смолу (кипрский скипидар).
[64] Филиппика — гневное, грозное, обличительное выступление против кого-нибудь. Термин произошел от речей афинского оратора Демосфена, произнесенных им в IV в. против царя Филиппа II Македонского.
[65] Филактерии — одна из двух кожаных коробочек, кот. иудеи подвязывают во время утрен. молитвы на лбу и на левой руке и котор. содержит пергаментн. листки с текстом молитв и изреч. из Торы. (Лопухин А. П., «Толков. Библия», 2013 г.).
[66] Пария — человек из низшего сословия, лишенный всяких прав (у индийцев).
[67] Подгородные — находящиеся, расположенные в окрестностях города.
[68] Либертинцы (вольноотпущенники) (Деян. VI, 9) — иудеи, побежденные римлянами во время войны с ними, находившиеся у них в рабстве и затем получившие свободу.
[69] Пришельцы врат — новообращенные в иудейство язычники, которым позволялось только доходить до врат притвора иудейского храма.
[70] Семь заповедей Ноя (в иудаизме) — запреты: идолопоклонства, богохульства, убийства, прелюбодеяния, воровства, употребления в пищу крови животных; обязанность: создать справедливую судебную систему.
[71] Полевые запашки — вспашка, пахота, количество обработанной (запаханной) земли.
[72] Иудеи рассеяния (греч. диаспора) — иудеи, расселенные за пределами Ханаана, обетованной и дарованной им Господом земли. Библия рассматривает рассеяние как суд Божий (См. источн.: Библ. Энцикл. Брокгауза).
[73] Сихарь — Самарянский город, находившийся поблизости от колодца Иакова. У этого колодца Иисус Христос разговаривал с самарянкой, пришедшей из города Сихарь взять воды (Ин.4:5).
[74] П. М-ов — сокращ. имя протоиерея Павла Миртова.
[75] Феска — мужская шапочка из фетра или шерсти в форме усеченного конуса, обычно с кисточкой.
[76] Пейсы — длинные пряди волос от висков до плеч; традиционный элемент прически религиозных евреев-мужчин. В Торе есть заповедь, запрещающая выбривать волосы на висках.
[77] Тир — (Сур) город Южного Ливана, один из крупнейших торговых центров Средиземноморья. Основан в 3 тыс. г. до н. э.
[78] Сидон (Сайда) — город Южного Ливана, находится в 40 км к северу от от Тира. Крупнейший торговый центр древнего мира в X—IX вв. до н. э.
[79] Иегова (устаревш. славян. Сущий) — искусственно созданное имя Бога; одно из имен Бога в переводах Ветхого Завета (Исх.3:13-15).
[80] Осенённых — от глагола «осенить»: закрыть, покрыть (тенью чего-нибудь), заслонить (поэт. устаревш.) / Толковый словарь Ушакова.
[81] (Ср. Иоиль 3, 28-32).
[83] Яникульский холм — холм в Риме, где был распят апостол Петр.
[84] Площадь в Риме, где происходили народные собрания (примеч. в авторском тексте).
[85] Область Галлии (Франция); теперь она называется Бретань (примеч. в авторском тексте).
[86] Сестерций — римская медная монета, по нашей цене около 6 копеек (примеч. в авт. тексте).
[87] У римлян счет часов начинался с восхода солнца. Четвертый час утра соответствовал 10 часам дня (примеч. в авторском тексте).
[88] Ворота Аврелия — последняя преграда до входа в Рим.
[89] Племя, населявшее Арморику (Бретань) — (прим. в авт. тексте).
[90] Так называлась крепость в Риме, высоко поднимавшаяся над всем городом (прим. в авт. тексте).
[91] Озеро Курция — историко-мифологическое место в центре римского Форума, связанное с одним из древниих преданий о поступке воина Марка Курция, бросившегося в пропасть во имя Рима, принося себя в жертву.
[92] Храм Кастора и Поллукса — один из старейших храмов на римском Форуме, был посвящен близнецам Кастору и Поллуксу, сыновьям Юпитера (согласно римской мифологии). Построен в 484 году до Р. Х. К настоящему времени сохранилось четыре колонны этого храма (примеч. ред.).
[93] Геркулес — один из героев греческих народных сказаний, отличавшийся необыкновенной силой (примеч. в авт. тексте).
[94] Вольноотпущенными назывались рабы, получившие свободу (примеч. в авт. тексте).
[95] Наддатчик — тот, кто наддает, надбавляет цену на что-нибудь, преимущественно на аукционе. / Толковый словарь Ушакова.
[96] Патрициями называлось высшее сословие (примеч. в авт. тексте).
[97] Ас — мелкая римская монета, немного более нашей копейки (примеч. из авторск текста 1902 г.).
[98] Римская миля равнялась тысяче шагов (примеч. из авторск. текста 1902 года).
[99] Дакийцы — народ, покоренный римлянами, живший по берегам Черного моря (примеч. из авторск. текста 1902 года).
[100] Центурион или сотник — начальник отряда римских воинов.
[101] Лифостротон — каменный помост, на котором Понтий Пилат судил Иисуса Христа,
[102] Маккавеи — ветхозаветные мученики, защитники и исповедники иудейской веры, пострадавшие в 166 году до н. э. во время гонений на иудеев сирийского царя Антиоха IV.
[103] Киликия — историко-географическая область на юго-востоке Малой Азии.
[104] Элия Капитолина — римская колония, построенная в 135 году на месте Иерусалима, разрушенного императором Адрианом.
[105] Публий Элий Адриан — римский император с 117 по 138 гг.

























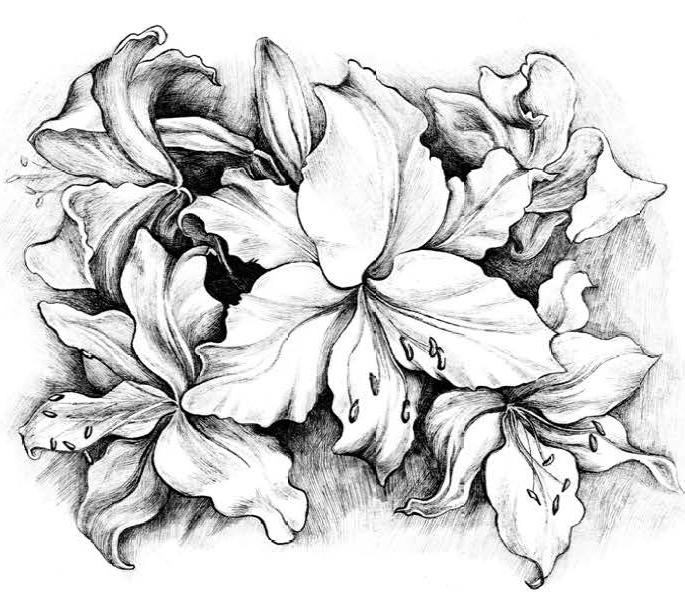









































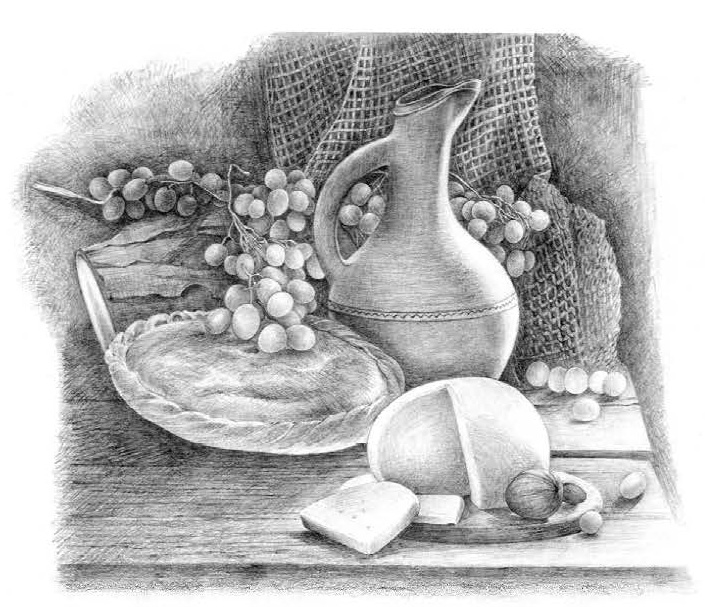












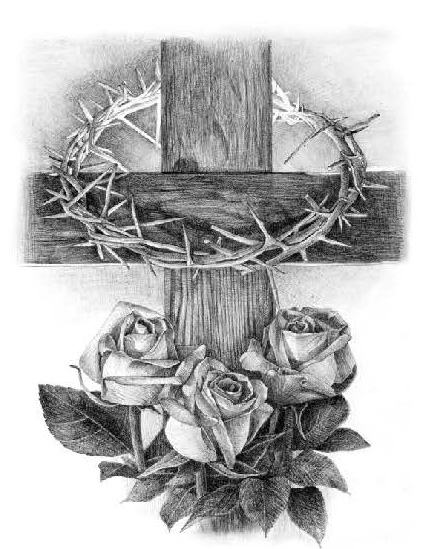





Комментировать