- Глава I. Крушение Германии и его ближайшие последствия для России
- Глава II. Внутреннее и военно-политическое положение советской России к концу 1918 года
- Глава III. Эвакуация австро-германских войск. Изменение политической карты России и организация противобольшевицких сил на Западе. Финляндия. Северо-Западная область. Эстония. «Северный корпус». Ген. Юденич
- Глава IV. Латвия. Группа ген. фон дер Гольца. Литва. Польша. Идея объединенного «Северо-Западного фронта»
- Глава V. Появление союзников на Юге России и их первые шаги. Планы интервенции
- Глава VI. Кубань: правительство Быча и Чрезвычайная рада
- Глава VII. Кубань: атаман Филимонов, правительство Сушкова и Законодательная рада
- Глава VIII. Дон: события на Донском фронте в конце 18-го и в начале 19 года. Борьба за единство военного командования на Юге
- Глава IX. Дон: трагедия Донского фронта. Объединение вооруженных сил Юга России. Уход атамана Краснова
- Глава X. Добровольческая Армия и флот. Силы, организация и снабжение
- Глава XI. Моральный облик Армии. «Черные страницы»
- Глава XII. Борьба на Северном Кавказе летом и осенью 1918 года
- Глава XIII. Северо-Кавказская операция Добровольческой армии
- Глава XIV. Терек в 1919 году
- Глава XV. Терско-Дагестанский край в 1919 году. Междуусобная борьба. Меджилис и англичане
- Глава XVI. Наша и английская политика в Закавказье. Батумское генерал-губернаторство. Юго-Западная республика
- Глава XVII. Грузия
- Глава XVIII. Азербейджан
- Глава XIX. Армения. Результаты английской политики
- Глава XX. Украина: изменение политики с падением Германии. Борьба партий. Вооруженная сила
- Глава XXI. Украина: последние дни гетманства
- Глава XXII. Национальная диктатура. Особое Совещание: состав и общее направление политики
- Глава XXIII. Особое Совещание: гражданское управление и самоуправление; рабочее и аграрное законодательство
- Глава XXIV. Особое Совещание: деятельность финансово-экономическая, юстиции, просвещения; пропаганда. Церковь
- Глава XXV. Внешняя политика правительства. Парижское военное и политическое представительство. «Русский вопрос»
Том 4-й. Вооруженные силы Юга России. (Берлин: Издательство «Слово», 1925).
При составлении последних томов «Очерков Русской Смуты», я получил возможность пользоваться многими официальными и частными материалами — зачастую такими, которые в свое время мне не были известны. Это обстоятельство расширяет осведомленность мою, как составителя «Очерков», по сравнению с той, которою я обладал в качестве главнокомандующего.
Читатель примет это во внимание в тех случаях, когда в книгах грань между элементами прошлого и настоящего проведена не достаточно ясно.
А. Деникин
Глава I. Крушение Германии и его ближайшие последствия для России
Эпилог мировой войны вызвал глубокие сдвиги в ходе русской смуты.
Падение центральных держав — неизбежное, намечавшееся давно уже целым рядом зловещих признаков, явилось все же неожиданным по своей стремительности и катастрофическим размерам. Но только реальные последствия его, но и сама грандиозность события ошеломили и победителей, и побежденных, и тех, что стояли уже за сценой мировой трагедии, но были еще связаны прочными цепями с одной из сторон. В ближайшие месяцы после окончания войны мы станем, поэтому, свидетелями крайней неустойчивости и непонятных на первый взгляд противоречий в политике держав–победительниц. Мы увидим также, что те скрепы, которые в 1914 году искусственно связали мир в два взаимно враждебных лагеря, начинают понемногу рушиться, и пути народов расходятся вновь. Что, наконец, в нравственный облик человечества конец борьбы не внес умиротворяющего начала, но углубил еще более последствия войны и революций: безбрежную ненависть, разлившуюся по всему свету, и бездонный эгоизм — государственный, классовый и личный.
Изменились «театры», средства и способы, но сама борьба не стихла.
* * *
Наиболее разительные противоречия в этот период являет собою жизнь Российского государства.
В течение 6–8 месяцев от Балтийского моря до Азовского стояла сплошная стена немецких штыков, отделявшая 19 губерний[1] от советских владений. По одной стороне этого рубежа шло неприкрытое расхищение или балканизация российской территории и тяжелая экономическая эксплуатация ее. Но жизнь и достояние населения находились там под защитой чужеземной власти, поскольку впрочем… полевая юстиция и широкие реквизиции не попирали права.
По другой стороне бушевала анархия…
Немецкий кордон, создавая тесную блокаду советской России, отрезая ее от морей, житниц и угля, ставил в весьма тяжелое положение всю политико-экономическую жизнь страны. Но он имел и некоторые положительные стороны для советов: присутствие немцев и договорные отношения с ними обеспечивали советские пределы от вторжения с запада какой-либо иной враждебной внешней силы[2], и вместе с тем, в районе оккупации не допускали сколько-нибудь серьезной организации противобольшевицких элементов. Австро-немецкая оккупация давала советам «передышку», столь необходимую, в виду надвигавшейся с Востока и Юга опасности.
Поражение центральных держав должно было в корне изменить это положение.
И по одну, и по другую сторону «стены» возникла продиктованная, где надеждой, где страхом, уверенность в том, что изменятся лишь внешние декорации; что австро-германцев сменят союзники, и военно-экономическая блокада советской России примет отныне характер активной интервенции. Русская общественность видела в такой постановке вопроса естественное продолжение борьбы и морально связывающих союзнических отношений, видела и существенные интересы самих держав Согласия, для которых распространение большевизма представляло прямую и явную угрозу. Так же думали и большевики: «опасность велика — говорил Троцкий — (тем более), что у союзников руки развязаны… Вся история сейчас, как в одном комке, сгустилась для нас в этом вопросе…»[3]. Но не только мотивы чисто умозрительные поддерживали это убеждение: оно основывалось на письменных актах держав Согласия и, как увидим ниже, на официальных заявлениях ответственных их представителей.
29 октября Германия приняла условия перемирия, продиктованные ей победителями. В части, касающейся России, Согласие потребовало: отхода австро-германских войск Восточного фронта на государственную границу 1914 года, не определяя, однако, срока; эвакуации портов Черного моря, с выдачей союзникам всех судов и портовых материалов — германских, нейтральных и русских; аннулирования Брест-Литовского договора; возвращения русского золотого запаса[4]; обеспечения свободного прохода союзного флота через Категат в Балтийское море. Через два дня общие условия перемирия были несколько изменены в пользу Германии, причем очищение областей, «принадлежавших перед войной России», было отложено до того момента, когда союзники признают его возможным, сообразно внутреннему положению этих областей. Немцы обязывались лишь прекратить реквизиции и иные принудительные меры, имевшие целью «добыть вспомогательные средства в России», и открыть свободный доступ союзникам на восток через Данциг и Вислу «для обеспечения населения продовольствием и поддержания порядка».
Насколько серьезны были первоначальные намерения союзников в этом отношении, русская общественность не отдавала себе ясного отчета. Но отовсюду — из западных областей, с Украины, с Юга и из Крыма от правительственных кругов, общественных и политических групп, всеми доступными путями текли просьбы к союзникам об интервенции и, вместе с тем, об оставлении в оккупированных областях германских войск впредь «до смены». Эти пожелания разделялись отчасти и германским командованием на Востоке, хотя бы по техническим соображениям: оно стояло перед стихийным напором солдатской массы, стремившейся вернуться домой и, вместе с тем, перед полным расстройством — временами параличом — транспорта: на Востоке — от общего неустройства, социальной и экономической распри, повстанчества и бандитизма; в Германии — от первых потрясений революции и хлынувшей с фронта трехмиллионной армии, затопившей всю железнодорожную сеть страны. В результате, главная немецкая квартира в Киеве давала успокоительные заверения делегациям киевского населения, что германская армия «не покинет края, так как явилась она сюда не для завоевания, а по приглашению украинского народа для его защиты…» И в то же время в приказе войскам определялся порядок начавшейся уже эвакуации — первоначально Крыма — с требованием сохранения войсками дисциплины и порядка, без чего невозможно благополучное возвращение их на родину… А злополучное украинское правительство, для которого уход немецких войск знаменовал приближение конца, чтобы успокоить возбуждение немецких солдат и, вместе с тем, снискать расположение союзников, вынуждено было говорить, скрывая свое тяжелое положение: «слухи, будто правительство преднамеренно задерживает отправку германских войск на родину… настолько бессмысленны, что только злонамеренность могла их придумать. Украинская держава ни в каком отношении не может быть заинтересована в удержании на своей территории германских войск…»[5].
* * *
Отношения советской власти с официальной Германией долго оставались неопределенными. В октябре берлинская полиция обнаружила в багаже приехавшего советского представителя тюки прокламаций, призывавших немцев к убийствам и террору. Только тогда немецкое правительство решилось, наконец, принять меры в отношении «русского посольства», где под защитой экстерриториальности вел разрушительную работу тесный комплот русских большевиков, немецких спартаковцев и «независимых». «Большевицкий яд — говорит Гельферих — через русское посольство был привит немецкому народному организму. В благодарность за спасительную помощь, оказанную нашим правительством большевизму, он отблагодарил организацией революции в Германии, несомненно способствовавшей нашей катастрофе». Это довольно распространенное мнение страдает, конечно, большой односторонностью: как весною 1917 года не одно только немецкое золото послужило причиной распространения в России большевизма, так и в конце 1918 года не одна только агитация Иоффе и его сподвижников вызвала восстание спартаковцев…
Отношения с советами были порваны. Германское правительство потребовало отъезда из Германии в 24 часа всех находящихся в Берлине «русских официальных лиц» и одновременно отзывало своих представителей из Москвы. Это выступление побежденной уже Германии все же произвело в Москве известное впечатление, и Чичерин предостерегал «всех военкомов, командиров и советы»[6], что «хотя нет признаков, заставляющих ожидать военного выступления германцев, но следует быть наготове, на случай всяких неожиданностей со стороны Германии…» В то же время из Москвы по всем направлениям передавались призывы к «немецким товарищам» — свергнуть «правительство принцев (Макс Баденский), капиталистов и предателей… Шейдемановцы с Эрцбергером продадут вас… Они договорятся с английскими и французскими капиталистами о разоружении… и тогда обратят вас в рабов. Только с оружием в руках вы захватите власть в свои руки и образуете рабоче-солдатско-матросское правительство с Либкнехтом во главе…»[7].
27 октября разразилась в Берлине революция, и власть в Германии перешла к директории (по 3 члена от соц.-демократ. большинства и независимых), во главе с Эбертом. По образцам, выработанным русской революцией, повсюду в стране — в городах, гарнизонах, на фронте — возникли советы солдатских и рабочих депутатов. В Берлине образовался главный совет, выделивший из своего состава центральный исполнительный комитет из 27 членов. Совет и комитет делали попытки правотворчества и декларирования максималистских принципов, но, тем не менее, признали исполнительную власть директории.
Немецкая революция возбудила в советском стане безграничные надежды. Волны радио несли из Москвы «восторженные приветствия», «оплакивали жертвы, павшие в священной борьбе» и были полны такой плакатной пошлости и такого неприкрытого эгоистического ликования, что произвели, вероятно, гнетущее впечатление в поверженной стране, переживавшей свой национальный траур. Откликнулся берлинский совет рабочих и солдатских депутатов, но с ним невозможно было технически установить прочную связь. Правительство же Эберта–Гаазе, «стоя на основах нормальных правовых взаимоотношений», явно уклонялось от близкого общения с московской властью, под предлогом оскорбления германских консулов Москвы и Петрограда, с которыми совет комиссаров, «как с представителями Гогенцоллернов», отказался продолжать сношения. А главное — германское правительство подчеркивало, что оно «не в состоянии устранить те препятствия, которые могло бы встретить на пути своего возвращения русское посольство (Иоффе)…» [8].
И московское радио начало мало-помалу менять ликующий тон своих сообщений. Посыпались жалобы «всем, всем, всем», что «русское правительство стремится вступить в связь с товарищами нового германского государства, но тщетно, несмотря на искренне выраженное желание берлинского рабочего народа…» Просьбы, встречаемые с недоверием, «установить прямой провод Ковно–Берлин, во избежание кровавых столкновений в оккупированных областях…» Щедрые посулы — в уплату за возобновление дипломатических отношений: «…Два поезда с зерновыми продуктами стоят наготове для трудового немецкого народа… И это только лишь начало…»[9]. Пресловутые «два поезда» в советской политике считались, очевидно, золотым ключом к сердцу германского народа, так как о них говорится в нескольких телеграммах Чичерина, наряду с предложением другого важного предмета экспорта: Чичерин просил также о пропуске в Берлин «всех представителей московского совета немецких солдатских депутатов», и беспрепятственного распространения в стране «документов, изготовленных в Москве… немецким революционным солдатством…» Нетерпение советского правительства было так велико, что уже на 9-й день германской революции московское радио не могло побороть его: «Скорбь, раздражение усиливаются от доходящих до нас сведений, что немецкие революционные рабочие и революционные солдаты не пытаются вовсе проявить свою солидарность перед лицом этой опасности…[10]. Правительство обращается с призывом к революционным массам в Германии…»
В это время германский народ сам, без содействия московских правителей, вернее, вопреки ему, разрешал вопрос своего бытия. Группа Либкнехта (спартаковцы), поддерживаемая большевицким золотом, в конце декабря произвела восстание, кроваво подавленное войсками, верными правительству; вожди независимых — Либкнехт и Роза Люксембург были убиты; созванное на 6 января 1919 г. Национальное Собрание установило новую конституцию германской республики. Первому правительству ее пришлось скоро (в феврале) напрячь большие усилия к подавлению нового восстания спартаковцев, охватившего Баварию, но это была уже последняя серьезная вспышка воинственного коммунизма.
Революция охватила только страны побежденные. Психология победителей оказалась не восприимчивой к проповеди крушения современного государственного строя. Но и там, в стране побежденных события протекали иначе, чем в России: Германия, за ней Венгрия, в силу индивидуальных черт народного характера, особенностей социально-экономического строя и не без влияния наглядных результатов русского опыта, избегли участи, предначертанной судьбою русскому народу.
Это обстоятельство похоронило надолго надежды московских коммунистов на близкую возможность мирового пожара.
* * *
Не достигнув желательных результатов в сношениях с центральной германской властью, советское правительство обрушилось всеми средствами агитации и пропаганды на войска Восточного австро-германского фронта. Делегации, воззвания, телеграммы внушали фронту идеологию и практику русского большевизма, в том числе необходимость «расправиться со своими офицерами и генералами, так как только вступление во власть солдат и рабочих вызовет доверие в пролетариате Англии и Франции, и он заставит свои правительства заключить почетный мир…» Ставились общие задачи и более активные: «…В России, на Украине, на Дону и в Кубанской области есть хлеб для нас и для вас. Поэтому-то англичане спешат, чтобы помочь генералам Скоропадскому, Краснову и Деникину вырвать хлеб у рабочих. Если вы хотите хлеба, то спешите действовать. Германские рабочие и солдатские и матросские советы должны немедленно по радиотелеграфу приказать находящимся на Украине частям напасть на красновские банды, в то время, как Красная армия атакует (их) с севера… Совместно мы можем в две недели раздавить их…»
Все эти призывы, влияя на ускорение общего развала австро-германского фронта, бессильны были, однако, побудить к действиям людей, все помыслы которых были направлены к возвращению на родину, объятую пожаром, к своим очагам, затерянным в его пламени и дыме. Этот момент в психологии оккупационных войск на западе России сыграл такую же решающую роль, как и в чехо-словацком движении на Востоке.
Не достигнув результата в привлечении на свою сторону германских войск, советская власть вскоре изменила тактику: московское радио стало разносить по свету воззвания новоявленных «рабочих и крестьянских правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии» и проч., возникших на стогнах Москвы и требовавших скорейшего ухода оккупационных войск.
Развал разноязычной, разноплеменной австрийской армии, с потерей идеи общей государственности, проявился немедленно и окончательно. На пространстве от Елисаветграда до Одессы и до Новоселиц, распущенные банды австрийцев, при содействии темных элементов русского населения, иногда при участии крестьян целых деревень, стекавшихся к городам и станциям, жгли, грабили магазины, базисные склады, запасы спирта и в пьяном угаре учиняли погромы. Австрийские офицеры, бросив свой походный скарб, бежали сотнями в зону германской оккупации. Командующий австрийскими войсками в Одессе покончил с собой, не вынеся картины развала. Австрийские оккупационные войска сразу перестали играть роль внешнего военно-политического фактора в «русском вопросе», увеличив лишь собою ряды разбойной вольницы, поддерживавшей в крае анархию.
Германские войска не избежали общей участи, восприняв все внешние формы русской «революционной армии». С разных сторон шли вести о разложении немецких частей, о волнениях, митингах, оскорблениях, убийствах офицеров, самовольном уходе частей из занятых районов и повальном дезертирстве солдат, торопящихся на родину. Одновременно шла широкая спекуляция и распродажа военного имущества, лошадей, оружия и даже пушек.
Все это было.
Но было и другое: в мятущейся солдатской массе шла внутренняя борьба анархического мятежного начала с врожденной дисциплиной немецкого ума и духа, не позволившей переступить ту последнюю грань, за которой начинается самоубийство армии и нации. Германская армия перестала существовать, но осталась все же вооруженная сила, хотя и не желавшая больше воевать, но достаточно еще крепкая и организованная, чтобы в минуту отчаяния проложить себе путь на родину. Правительство Эберта–Гаазе–Шейдемана требовало от армии, чтобы, «несмотря на все обстоятельства, военная дисциплина и уголовный кодекс сохранялись в неприкосновенности». Из Ковно, Киева и других военных центров, из высших советов солдатских депутатов раздавался трезвый голос о поддержании порядка. «Мы твердо решили удалить из своей среды все элементы, могущие вредить социалистической идее солдатских депутатов, но… энергично протестуем против всякого большевицкого движения в нашей среде… Мы не допустим над собой насилия никакого террористического меньшинства» — писал в воззвании-приказе Ковенский совет. Словно по внушению, почти все солдатские комитеты выносили резолюции, сводившиеся к трем основным положениям: 1) сохранить организацию планомерного очищения оккупированной территории и правильной отправки войск в Германию; 2) до своего ухода оказывать противодействие наступлению советских войск; 3) в случае внутренних восстаний держать нейтралитет.
В ноябре начался исход.
Даже в техническом только отношении это была задача огромной трудности. Ибо на территории пылающей России от Балтийского до Черного морей стояла еще полумиллионная армия — 36 австро-германских дивизий, удаленных от своих государственных границ от 600[11] до 3½ [12] тысяч верст.
Глава II. Внутреннее и военно-политическое положение советской России к концу 1918 года
К 1919 году положение советской России во мнении не только врагов коммунистической власти, но и правителей ее, представлялось глубоко безотрадным. В стране не было свободной печати, но и казенная, и подневольная[13] изо дня в день рисовала картину полного и безнадежного развала всех сторон народной жизни. Советские правители в своих многочисленных выступлениях под маской официального оптимизма не могли скрыть своей жгучей тревоги. Перечитывая теперь, спустя пять лет, все эти поблекшие от времени и «проявленные» в некоторой исторической перспективе страницы — свидетельства наших тогдашних настроений, видишь, насколько далеки были и мы, и они от правильной оценки мощных туков российской почвы, которую не может обесплодить в конец даже самое варварское, истребительное хозяйничанье; от оценки неисчерпаемых богатств, накопленных веками трудом народа и расточаемых трутнями и хищниками смутного времени; необыкновенной живучести народного организма, противостоящего невзгодам ряда лет войны, голода, мора, морального и физического рабства; наконец, как далеки мы были от понимания того безграничного долготерпения и непротивления русского народа, с которым он несет свое постылое ярмо!..
Все отрасли народной хозяйственной жизни шли к окончательному упадку, ведя к продовольственному и товарному голоду и к параличу транспорта. Государственные финансы держались только мощностью печатных станков[14] и инерцией общественного доверия к государственным денежным знакам старого образца. Достойно внимания, что с 25 октября 1917 г. до апреля 1919 г. советское правительство не решалось подвергнуть испытанию доверие страны к «рабоче-крестьянской власти» и печатало фальшивые билеты Временного и Царского правительства — по старым клише, со старыми годами, дублируя нумерацию, и за подписью «царского» министра и управляющего государственным банком Шипова…
Немногочисленный правящий класс — коммунисты, составлявшие едва ½% населения советской России, изображали из себя в стране осажденный лагерь. Московская власть кроила по живому телу страны «новые, небывалые формы организации», издавала и отменяла декреты и одновременно вела борьбу против всех. Борьбу против самовластья мест, где комиссары, комитеты, советы с их чрезвычайными комиссиями «расхищали власть центра», проявляя нетерпимый областной (местный) партикуляризм… Где, по выражению Ленина, «правила не коммунистическая партия, а просто трехвостка…» Откуда, с низов общественной иерархии, из волости доносился вопль: «члены советов губят нас, насилуют нашу волю, над нами издеваются, как над бессмысленными скотами…»[15]. Борьбу с фабрично-заводскими комитетами, отстаивавшими свои элементарные права против кабальной системы, введенной коммунистической администрацией фабрик и заводов, права на личную свободу, на «вольный труд» и голодный паек, низведенный в первую треть 1919 года до размеров 30% минимальной потребности… Борьбу с кооперацией, которая декретом 20 марта 1919 г. была обращена в государственный аппарат, с мертвящей рутиной советского бюрократизма… Продолжалась борьба — широкая, вооруженная — власти и города против деревни… Вооруженный пролетариат шел походом на деревню не только за хлебом, но и за землей: удержание в руках государства значительной земельной площади (совхозы), официально объяснявшееся соображениями государственного порядка, имело обоснованием чисто классовые соображения: «надо закреплять и поддерживать движение рабочих на землю без разрыва с фабрикой» — комментировал Ларин советский декрет. «Рабочий заинтересован в производительности завода, несущей ему освобождение от невыносимого гнета продовольственной диктатуры деревни…» Деревня оборонялась по своему: пассивно — уменьшением общей запашки до 40% и сокращением посевов технических растений до 75%; активно — «голодными бунтами» в уездах северной и центральной России, непрекращавшимися крестьянскими восстаниями, охватившими Московскую, Тамбовскую, Смоленскую, Рязанскую, Костромскую и друг. губернии. Наконец, борьба жестокая, истребительная продолжалась против русской буржуазии, интеллигенции, людей науки и литературы, служителей церкви, бывшего офицерства. Словом, «борьба против Бога, человека и природы». Террор «Че-ка» по-прежнему не знал границ в числе своих жертв и в жестокости мучителей.
Не избегли гонения советской власти и социалистические партии, бывшие на полулегальном положении до февраля 1919 г., когда им был нанесен большой удар многочисленными арестами видных членов. С тех пор прекратилась всякая легальная деятельность в советской России соц.-рев. и соц.-дем. и органы их ушли в подполье. Тем более странным представлялся тот поворот в партийных взглядах и тактике этих партий, который привел их к безрезультатным попыткам соглашательства и к отказу от вооруженной борьбы с большевиками.
Официально в постановлении московской конференции соц.-рев., состоявшейся 6–9 февраля 1919 г., мотивы такого решения приведены были следующие[16]:
«…4. Все более объединяющаяся буржуазно-помещичья реакция, питаясь методами большевицкой власти и опираясь на поддержку союзного империализма, стремится восстановить в России дореволюционные порядки и ввергнуть страну во власть монархической реставрации. Непримиримая борьба с ней трудящихся классов диктуется их жизненными интересами…»
«…8. Конференция решительно отвергает попытки свержения советской власти путем вооруженной борьбы, которая при распыленности и слабости трудовой демократии и все растущей силе контрреволюции служит только на пользу последней и используется реакционными группами в целях реставрации…»
Позиция соц.-дем. меньшевиков в этом вопросе была более туманной, хотя и приводила к тем же результатам. Лидер меньшевиков Дан говорил обратившемуся к нему представителю Национального центра: «…Мы не считаем возможным сохранить наш прежний нейтралитет по отношению к той или иной части демократии, которая связывает себя с союзниками, потому что объективно эта часть демократии теперь становится врагом революции… Мы стоим за такое Учредительное Собрание, которое рождено революционной волей. А чтобы создать такую волю, необходимо прекратить, прежде всего, гражданскую войну между двумя частями демократии — крестьянством и пролетариатом. Навязать эту волю силой пролетариату нельзя. Поэтому наша тактика должна быть направляема к тому, чтобы рабочие большевики сами бы пришли к необходимости соглашения с другими частями демократии. Вот почему, мы являемся решительными противниками свержения большевиков вооруженной силой в союзе с имущими классами…»
Без сомнения, такая мотивировка была не искренней. Она прикрывала моральное и политическое бессилие и одиночество революционной демократии. Исторические и социальные процессы привели к созданию на территории России трех разнородных вооруженных сил: Белой, Красной и Зеленой армий. Ни в одной из этих сил революционная демократия не могла создать себе не только политического главенства, но и сколько-нибудь прочного влияния. Ходом событий она была отброшена поэтому в сторону от поля битвы, не переставая, однако, и затем наносить извне удары, направленные по преимуществу в сторону белого движения.
* * *
Тяжело было положение советской власти и в области международных отношений: после падения центральных держав изменился состав внешних фронтов, но блокада — политическая, экономическая, моральная и стратегическая замкнулась окончательно, отрезав советскую Россию от внешнего мира.
В октябре 1919 г., давая отчет о внешней политике советов за два минувших года, Чичерин характеризовал ее, как отчаянные попытки «вырваться из изолированного положения». До осени 1918 г., в период полной неналаженности государственного аппарата и армии, это было достигнуто ценою Брест-Литовска, используя противоположение интересов Согласия и центральных держав. С тех пор, как выяснилось близкое крушение Германии, совет комиссаров начал всевозможные попытки сближения с державами Согласия, впоследствии и с западными новообразованиями, ценою хотя бы тяжелых материальных и территориальных компенсаций.
Советская власть отнеслась с серьезным беспокойством к новой военно-политической конъюнктуре. В своем докладе 6-му съезду советов в конце октября Бронштейн говорил: «в связи с зимним временем, на севере нам опасность не грозит, (но) на южном фронте до сих пор дела обстоят плохо… На юге нам грозит объединение немецко-красновских банд с французско-бельгийско-алексеевскими…» В начале октября Чичерин опубликовал в московских «Известиях» свою ноту президенту Вильсону, составленную в обычном стиле большевицкого лживого пафоса: «…мы готовы… заключить перемирие, если вы намерены удалить войска с Мурмана, Архангельска и Сибири. Мы согласны заключить мир, но ставим следующий вопрос: намерены ли правительства Согласия перестать требовать крови русского народа, если он согласится уплатить и откупиться от них… Если да, то какую дань требуют союзники концессиями, рудниками, приисками и территорией. Если вы не дадите ответа, то народ русский поймет, что условия Согласия столь тяжелы, что вы не желаете даже сообщить их русскому правительству…»
Нота эта, предназначенная, очевидно, исключительно для агитации, осталась без ответа.
21 октября Чичерин вновь уже в более корректных выражениях обратился по радио к державам Согласия, «желая положить конец враждебным действиям», с запросом — когда и куда должны прибыть советские представители для переговоров…
В то же время (конец октября) всероссийский ц. и. к. принял резолюцию об аннулировании Брест-Литовского мира…
Наконец, в ноте от 4 февраля советское правительство пошло на полную капитуляцию: оно предлагало за мир «признать свои финансовые обязательства по отношению всех кредиторов, как государств, так и отдельных лиц, входящих в состав союзных держав», выражало готовность «предоставить концессии на рудники, леса и т. д. гражданам союзных держав», и даже… «вести переговоры с союзными державами по вопросу о территориальных уступках».
Эти попытки чередовались, впрочем, с резкими призывами московского радио от имени III интернационала[17], коммунистической партии и отдельных представителей советской власти — призывами к низложению буржуазных правительств Европы, для которых персонально и огульно в большевицком лексиконе находились самые презрительные определения. В то же время между советом комиссаров и германским правительством по официальной большевицкой терминологии — «социал-предателями и палачами» — шли также переговоры: тайно — о политическом и военном соглашении и открыто — о восстановлении экономических отношений обоих государств. Особенности нового «пролетарского» языка и приемов большевиков перестали, по-видимому, смущать реальных политиков запада, привыкших по традиции облекать в изысканную форму даже тягчайшие акты насилия и теперь искавших безнадежно выхода в игре, небывало запутанной и осложненной грубым политическим и социальным шантажом.
Все эти многократные попытки сближения с державами Согласия оставались без результата, свидетельствуя лишь о том, в каком тяжелом внутреннем и международном положении находилась тогда советская Россия, и какие, поэтому, огромные объективные возможности имели союзники для разрешения русского вопроса.
Эти неудачи, по словам Чичерина, поставили перед большевиками вопрос о решении восточной проблемы, как единственного способа борьбы с сильными империалистическими державами.
«Революция на западе замедлилась. Мы должны зажечь восток, поднять бедноту Турции, Персии, Индии, поднять Афганистан!..»[18].
Тем временем в начале 1919 года завершилась и стратегическая блокада советской России. Намерения противников были совершенно не ясны советской власти, силы их оставались невыясненными. В сохранившемся боевом расписании большевицкого ген. штаба в середине января они определялись следующим образом:
- Северный фронт (от Мурмана до Печоры) 57 955 штыков.
- Финляндский фронт 55 800 штыков.
- Западный фронт (от Финского залива до Риги и до Мозыря) 20¾ пех. дивизии и 1 кавал. дивиз., из которых 12 пех. и 1 кав. — германские, прочие — «белогвардейские».
- Германо-украинскийфронт (от Мозыря до Азовск. моря) 17 пех. дивиз. и 4 кав. дивиз.
- Донской и Добровольческийфронт (по советским границам Донск. обл. и между Азовским и Каспийским морями) 51 пех. див. и 32 кав. дивиз.
- Восточный фронт (от Верхотурья до Гурьева) 35½ пех. див., 17½ к. д.
Число дивизий у врагов советской власти, как увидим ниже, было фактически меньше, внушительные названия «дивизия» нередко на русских фронтах носили части не свыше тысячи штыков… Но, тем не менее, в тесном кольце, сжимавшем со всех сторон советскую Россию, стояло под ружьем до полумиллиона врагов; все пять морей и два океана находились во власти флота Согласия, а в портах Белаго и Черного морей и Великого океана высаживались международные десанты союзников…
Предстояла борьба тяжелая, борьба за самосохранение и за власть коммунистической партии, роковым образом ставившая на карту судьбы всего русского народа.
* * *
Одно из могучих средств борьбы — пропаганда — велась большевиками в размерах небывало широких. Она проникала всевозможными путями в ряды оккупационных и белых войск и в занятые ими районы. По мнению советских военных авторитетов эта работа «играла решающую роль в организации победы красной армии».
«Буржуазию мы не находили нужным привлекать на свою сторону, — говорит советский официоз[19]. — Правда, делались попытки разложить буржуазию, вернее, тех, кто находился у нее в услужении: части офицерства делались предложения о переходе на сторону советской власти…» Весь центр тяжести агитации и пропаганды был перенесен в рабочую и крестьянскую среду.
Отдавая пальму первенства в технике ведения пропаганды буржуазным государствам и, в частности, Франции, перед которой «мы жалкие пигмеи», Бронштейн поясняет: «дело не в том, что мы выдумали пропаганду… дело даже не в методах, которые значительно более совершенны у наших противников, а дело в классовом содержании, в той идеологии, которой мы насытили свою пропаганду». И хотя, по словам Ленина, круто менявшего в 1919 г. крестьянскую политику, «классы нельзя обмануть», хотя суровая действительность стояла в разительном, вопиющем противоречии с обольстительными посулами большевичкой пропаганды, но она имела действительно известный успех, не только в силу ошибок, проявленных противниками советской власти, но и потому, что не встречала равноценных по демагогической сущности обещаний с другой стороны, потому, что не улеглась еще вырвавшаяся из берегов народная стихия.
Народ жил еще миражами, хотел быть обманутым и поддавался соблазну.
Сфера деятельности большевицкой пропаганды выходила далеко за пределы России. В марте 1919 г. во французских и швейцарских газетах появилась «инструкция» советского правительства представителям и агентам советской республики за границей, выработанная в Кремле в начале ноября 1918 г. Она давала указания для революционной работы в грандиозном мировом масштабе. В области международных отношений указывалось поддерживать шовинистические движения и национальные конфликты; в области внутренней политики — вызывать противоправительственные движения; в экономической — поддерживать забастовки, дезорганизовать транспорт, создавать финансовые затруднения — между прочим и наводнением рынка фальшивыми деньгами; в военной области — разлагать армии пропагандой и возбуждением солдат против офицеров. Все эти действия должны были способствовать внутренним переворотам и волнениям в «буржуазных империалистических странах», подготовляя почву для пришествия всемирной революции.
Оставляя в стороне вопрос о подлинности этого документа, нельзя не признать объективной его правды: все его положения соответствуют в полной мере заявлениям советских правителей и служебного органа советской власти — III интернационала, соответствуют деятельности их, поглощающей огромные средства — последние финансовые ресурсы обнищавшей страны.
Перед миром встала новая угроза, симптомы которой начали вскоре появляться в самых отдаленных углах земного шара.
* * *
Принимались чрезвычайные меры и к созданию Красной армии.
В начале 1919 г. большевицкая власть почти окончательно ликвидировала прежние добровольческую и партизанскую системы комплектования, перейдя повсюду к общеобязательной воинской повинности и к регулярным нормам организации. К октябрю 1918 г. призваны были уже «все трудящиеся» в возрасте от 18 до 35 лет. Собранный в декабре 1918 г. в Москве «военный конгресс» вынес постановление о «всеобщем военном обучении», которое по заявлению Подвойского должно было к весне 1919 г. поставить в ряды Красной армии до 3-х миллионов бойцов. «Конгресс» призывал Россию «бороться с протягивающимися к ней руками черного интернационала трудами непобедимой армии пролетариев красного интернационала». Таким образом, национальный момент в предстоящей борьбе был исключен вовсе. «Наша борьба — говорит один из советских деятелей — шла под лозунгом не защиты России, как таковой, а защиты власти крестьян и рабочих. Наша борьба была не борьбой против какого-либо государства, как такового, а борьбой против буржуазии, где бы она ни находилась…»[20].
Не раз, впрочем, большевики отойдут от этого принципа, когда это им будет выгодно или необходимо. Так они поведут под национальным лозунгом красные эстонские и латышские полки в Прибалтику. «Повстанческую Украинскую армию» Антонова-Овсеенко против немцев и петлюровцев на Украину; наконец, в 1920 г. в критический момент войны с поляками трагичным и недоуменным диссонансом прозвучит призыв Брусиловым всей нации к патриотизму… Призыв, родившийся по инициативе терявшего почву правительства и командования, «несмотря на борьбу (с этим) руководящей партии»[21].
Красная армия, в значительной степени, утратила тот сословный характер, который имела Красная гвардия. Но, вместе с тем, она стала слабее морально. В ней не было никогда того пафоса, того энтузиазма, о которых слагают легенды советские историки. Она была скована только силой государственного аппарата, террора и принуждения и до некоторой степени примирена тем привилегированным положением, в котором находился солдат в голодной, нищей стране. В состав ее входили, ведь, в огромном числе, элементы, чуждые коммунистической идеологии: на верхах — старый генеральный штаб и многочисленные представители «царского» офицерства, внизу — в преобладающей массе крестьянство — по словам советских авторитетов — «в громадном большинстве мелко-собственническое, не имевшее ярко сознанных классовых интересов», крестьянство, которое «без большого труда комплектовало и те массы, которые буржуазия направляла против (советской власти)»[22].
Красная армия сделала известные успехи в организации, обучении и устройстве технической и материальной части. Потому ли, что не было времени на приискание новых пролетарских форм организации, потому ли, что военная наука таких форм не знает, а во главе армии фактически стоял старый командный состав — Красная армия строилась всецело по образу и подобию армии императорской. Исключение представляли лишь коллегиальная форма верховной военной власти, институт комиссаров и ком-ячейки, в руках которых находился надзор за командным составом и политическое воспитание массы. Во главе вооруженной силы поставлен был «Высший военно-революционный совет» с председателем Бронштейном и членами Подвойским, Антоновым, Сталиным и друг. Фактически, однако, вся власть была в руках Бронштейна. Центральное Управление снабжений, созданное в июле 1918 г., имело также коллегиальный состав — во главе «специалист» и при нем два комиссара. В таком виде управление просуществовало до декабря, когда перешло окончательно к единоличному возглавлению.
К началу 1919 года вооруженные силы советской России сведены были в 12 армий, состоявших из отдельных пехотных и кавалерийских дивизий, насчитывавших вместе с внутренними резервами номинально до 800 тыс. бойцов. Главнокомандующим был офицер генерального штаба, латыш Вацетис.
В половине ноября 1918 г. на соединенном заседании Совета народных комиссаров и Совета народного хозяйства было выяснено отчаянное экономическое положение страны, отрезанной от источников питания сырьем.
В общих ресурсах государства имелось не более трехмесячной потребности железа, 14% чугуна и почти полностью отсутствовала медь; запасы хлопка на фабриках и заводах определялись к октябрю 1918 г. в 775 тыс. пудов, против 3-х миллиардов, имевшихся к октябрю 1917 г.; нефти было всего 30 милл. пудов; каменного угля — треть минимальной потребности и т. д. Единственное спасение советской России совещание видело в расширении ее пределов и, главным образом, в походе за донецким углем и ташкентским хлопком. Эти основания, наряду с военно-политическими соображениями, в частности, бессилием Украины и стремлением Бронштейна «просунуться между уходящим германским милитаризмом и приближавшимся англо-французским» — легли в основу выработанного тогда же советским командованием плана зимней кампании 1919 года.
В феврале[23] и апреле 1919 г. я получил два варианта этого плана, несколько различавшихся в деталях, но по существу тождественных. Красной армии ставилась задача:
- На Северном фронте (VI отд. армия ген. Самойло, 16½ тыс.)[24]— активная оборона Архангельского направления.
- На подступах к Петроградуот Олонца, Выборга, Нарвы и Пскова (40–50 тыс.) — также активная оборона.
- На Западном фронте (ген. Снесарев: VII и Западн. армии, позднее и XVI, 50–60 тыс.) ставилась задача — захватить важнейшие железнодорожные узлы — Валк, Ригу, Двинск, Ковно, Брест-Литовск и др.
- На Украинскийфронт под командой Антонова-Овсеенко были двинуты только небольшие кадры, сведенные в две регулярных дивизии (16 тыс.), пополнявшиеся исключительно местным элементом по мере продвижения и выросшие затем в «Повстанческую Украинскую армию». Назначение дивизий Антонова — поднять Украину и воссоединить ее с советской Россией.
- На Южном фронте (ген. Сытин — группа Кожевникова, позднее XIII армия, VIII, IX, X армии и отряд Терехова, свыше 100 тыс.) указано было первоначально овладеть Донецким каменноугольным бассейном и отбросить Донское войско за Дон, нанеся удар в трех главных направлениях: от Воронежа, Балашова и Царицына.
- На Восточном фронте (полк. Каменев: I, II, III, IV и V армии, свыше 100 тысяч), активная оборона по Уралу и наступление в Ташкентском направлении.
На Кавказе в начале 1919 года происходила окончательная ликвидация Добровольцами XI и XII советских армий, насчитывавших еще до 75 тыс. штыков.
Таким образом, по распределению сил и стратегическим директивам советского командования, главный удар заносился на Южном фронте, над многострадальным Войском Донским, волею судеб стоявшим на путях к углю и нефти и преграждавшим связь центральной России с Северо-Кавказской красной армией, которой угрожала окончательная гибель.
— На южном фронте, — говорил Бронштейн, — бьется пульс советской республики. Мы кликнули клич Петроградским и Московским советам. Последние дни туда посланы сотни новых работников… Все на южный фронт: работников, автомобили, винтовки, орудия… Нам нужно занять Дон, Северный Кавказ, Каспий, поддержать Украину… В Донской области мы должны разрубить завязывающийся узел контрреволюции[25].
Глава III. Эвакуация австро-германских войск. Изменение политической карты России и организация противобольшевицких сил на Западе. Финляндия. Северо-Западная область. Эстония. «Северный корпус». Ген. Юденич
По требованию держав Согласия германские войска в середине декабря покинули Финляндию. Уходили они провожаемые сожалениями и добрыми пожеланиями. Но создавшаяся в стране обстановка исключала возможность продолжения германофильской политики: английский флот в конце декабря появился в Финском заливе; разрыв с Россией, являвшейся почти исключительным рынком сбыта финляндской промышленности и, вместе с тем, хлебным источником Финляндии, вызвал глубокий экономический кризис; нужны были свободные руки, новые рынки, кредиты и, прежде всего, хлеб. И реальные политики нового государства легко переменили ориентацию, получая английские товары, американский хлеб и даже французское вооружение, снаряжение и инструкторов для организации своей армии.
Державы Согласия, имея в этот период неограниченное влияние на финляндское правительство, не оказывали на него давления в смысле направления русской политики. От Финляндии требовались лишь лояльность в отношении Согласия и прекращение всяких обязательств в отношении Германии.
Отделение Финляндии от России, не обеспеченное никакими стратегическими гарантиями, ставило в невыносимое положение нашу сухопутную и морскую государственную оборону. Но новая держава с первых же шагов своих проявила настойчивое стремление к дальнейшему округлению своих границ за счет метрополии, по мотивам весьма противоречивым:
Аландские острова, населенные шведами[26] и приобретенные Россией по Фридрихсгамскому миру, требовались Финляндией по условиям… географическим, как составляющие естественное продолжение Финского побережья, и историческим, как включенные в состав Финляндии актами императора Александра I-го в 1809 г. Этот архипелаг является ключом к обладанию Ботническим заливом и преграждает все внутренние шхерные пути к побережью Финляндского залива от Петрограда…
Восточная Карелия[27] причислялась к Финляндии но принципу «самоопределения народов», на основании атавистических признаков племенного родства… К тому же захват этой территории, вместе с частью Мурманской жел. дор. и рекой Свирью, отрезал от России единственный выход к незамерзающему порту и лишал ее свободного плавания по северной речной системе…
Печенгская губа, где еще в XII столетии ходили суда Великого Новгорода и где поселения — по преимуществу русские, требовалась финляндцами просто по соображениям экономическим, как выход к океану.
Наконец, Финляндия присвоила себе уже без всяких оснований огромное многомиллиардное русское имущество — казенное и общественное, запасы, арсеналы и склады Северного фронта и морских баз, военные и коммерческие суда и т. д., и т. д. Без соглашения, без войны, просто в силу беспомощности, или вернее, отсутствия законной русской власти. Этот вопрос также должен стать неминуемо когда-нибудь на очередь…
Какая же Россия, какое русское правительство могло пойти навстречу всем вожделениям финляндцев?
Даже советская власть, так легко поступающаяся и национальным достоинством, и экономическими интересами России, противилась им. Но она, по крайней мере, признала безоговорочно независимость Финляндии, дав тем прочную политическую базу для дальнейших переговоров. Организации, представлявшие в то время противобольшевицкую Россию — поборники национальной идеи — не шли так далеко. Русский посланник в Париже Маклаков выступил с декларацией[28] «от имени русского правительства» (?), в которой, между прочим, обещал Финляндии «восстановление временным правительством конституционных прав (ее) и готовность России идти навстречу стремлениям (Финляндии), при условии соблюдения военных и экономических интересов России…» «Русский комитет» в Гельсингфорсе, возглавляемый Карташевым, и военная партия ген. Юденича — эмбрионы будущей гражданской и военной власти на Западе России — «стояли на почве лояльного признания независимости Финляндии», но окончательное решение вопроса ставили в зависимость от Российского Учредительного собрания. Такого же взгляда придерживался Омск, поручавший Сазонову «содействовать установлению дружественных отношений с Финляндией», но, вместе с тем, «дать понять, что признание независимости должно быть отложено до Национального собрания»[29].
Я лично вначале не исключал возможности содействия финляндской армии в противобольшевицкой борьбе и вел по этому поводу беседы с полковником ген. штаба Энкелем, занявшим впоследствии высокий пост в финляндской армии. Но под впечатлением финляндских требований, гонений там на русских людей и более чем двусмысленной политики держав Согласия, с конца 1918 г. я стал окончательно на точку зрения, что помощь Финляндии была бы куплена нами слишком дорогой ценой и что, поэтому, вступление финляндских войск на русскую территорию недопустимо.
По поводу признания независимости Финляндии правительствами Англии и Соединенных Штатов, я обратился к этим державам с заявлением:
«Россия относится с полным сочувствием к мысли о самостоятельном развитии Финляндии; однако, высшие интересы обоих народов повелительно требуют, чтобы будущие их взаимоотношения были основаны на принципах, способных обеспечить обоюдное их преуспеяние и ограждение жизненных потребностей. С этой точки зрения, решение финляндского вопроса, принятое независимо от России и без соображения с ее первостепенными государственными интересами, в первую голову стратегическими, является для русского народа неприемлемым»[30].
Подобное же официальное заявление в твердой и категорической форме было сделано Парижским совещанием. Неофициально, однако, совещание не было так непримиримо. И когда в мае 1919 г. до Парижа дошли слухи, что ген. Юденич ценою безоговорочного признания Финляндии желал купить помощь ее для похода на Петроград, В.А. Маклаков писал на Юг[31]: «В этом вопросе у нас здесь (полное) разнообразие мнений… Мы не благословляем Юденича делать подобное заявление, но и не решаемся его властно и грозно остановить. Грубо — я бы сказал, что мы предоставляем ему сделать это для нас, а в случае неудачи сломать себе шею одному…»
Таким образом, перед финляндским правительством стояла дилемма: советская власть и перспектива длящейся смуты и бессилия русского государства, дающая время и возможность новообразованию сложиться и окрепнуть — или противобольшевицкие силы и вероятность скорого восстановления России… С одной стороны — безусловное признание самостоятельного бытия Финляндии, с другой — условное, поставленное в зависимость от Всероссийского Собрания, ни политический облик, ни решения которого нельзя было предвидеть.
Была еще одна чисто объективная данная — грозная опасность, вытекавшая из длительного соседства с большевицким очагом… Московское радио уверяло о миролюбии советов и настойчиво напоминало финляндцам, что «только союз с советской Россией может гарантировать Финляндии ее самостоятельное существование». Тогда как Колчак и руководимые им правительства собираются уничтожить самостоятельность балтийских государств… Но, в то же время существовавшая в Москве «Финская коммунистическая партия» проявляла оживленную деятельность в деле пропаганды и военной организации. Центральный комитет ее издавал и переправлял через границу две газеты на финском языке, журнал для солдат и агитационную литературу, побуждавшую к вооруженному перевороту в Финляндии и присоединению ее на федеральных началах к советской республике… Но финляндская власть считала, очевидно, свой народ мало податливым к восприятию коммунистических идей, свою армию, составленную из элементов городской и крестьянской буржуазии, вполне надежной, а крайние левые группы, после кровавого подавления большевицкого восстания ген. Маннергеймом весною 1918 г., совершенно разгромленными. Настолько, что финляндское правительство сочло возможным дать широкую амнистию находившимся в заключении участникам коммунистического выступления.
Что касается стратегического положения в отношении советской России, оно представлялось финляндцам, и было на самом деле, чрезвычайно благоприятным для них. Финляндия владела укрепленным побережьем и шхерными путями Финского залива; ее армия состояла из 3-х, 4-х дивизий, силою в 40–50 тыс. и располагалась передовыми частями в 25 верстах от Петрограда и в 60–80 верстах от Мурманской жел. дороги, западнее Петрозаводска, составляя прямую угрозу русской столице и тылу большевицкой армии, стоявшей против войск генералов Айронсайда и Миллера. Против себя финляндская армия имела парализованный русский балтийский флот и слабые численно красногвардейские части, прикрывавшие столицу и Петрозаводск.
Вся эта совокупность политической и стратегической обстановки предрешала направление русской политики Финляндии: она до конца[32] сохранила «вооруженный нейтралитет», одинаково поддерживаемый и руссофобами Свинховудом и Стольбергом, и руссофилом Маннергеймом — тремя главами государства, сменившимися в течение 1917–1919 г.г. Только, однажды, в правление последнего, в мае 1919 года, когда началось наступление русского Северного корпуса Родзянки[33] на Лугу с севера ударил на большевиков не без ведома правительства, финский «партизанский отряд» Эльвенгрейна. Отряд считался «повстанческим» и действовал формально по призыву бутафорской «Карельской делегации»[34]. От него финляндскому правительству ничего не стоило отказаться при неудаче и, вместе с тем, можно было использовать его в случае успеха. Ибо направление удара Эльвенгрейна на Петрозаводск и Лодейное Поле[35] одинаково соответствовало и отвлечению сил петроградской группы красной армии, и… оккупации восточной Карелии… При отряде находилось, между прочим, и «временное правительство», имевшее целью, кроме управления занимаемой территорией, подготовить созыв «национального собрания» (!), которое должно было объявить присоединение восточной Карелии к Финляндии…
Достойно внимания, что все это предприятие подготовлялось втайне от русских организаций.
Отряд Эльвенгрейна силою не более 1½ тыс. человек имел в начале успех, но вскоре был разбит большевиками и рассеялся.
* * *
Период междувластья оказался трагическим для оккупированной немцами Северо-Западной области[36].
Так называемая Северная или Псковская армия[37], к декабрю 1918 г. достигнув численно 4½–5 тыс. человек, не получила дальнейшего развития. В ней не был даже разрешен вопрос о возглавлении. Ненормальность такого положения отзывалась на успехе набора, и поэтому в Пскове временами появлялись плакаты с именами видных генералов, в качестве предполагаемых командующих армией, по-видимому, без их ведома и согласия. Так военный представитель армии в Киеве в середине октября телеграфировал в Псков: «…Бессмысленно ждать командующим Драгомирова, который находится (в) Добровольческой… Точное имя командующего необходимо для вербовки людей… На этой почве много отказов. Вандам не популярен. Келлер в Киеве. Уполномочиваете ли вступить (с ним) в переговоры»[38].
И военное представительство, и псковские общественные организации в лице Дерюгина обратились к ген. графу Келлеру с просьбой принять на себя командование Северной армией, армией без средств, находившейся в полной зависимости от немцев. Гр. Келлер поручил генералу Розеншильд-Паулину отправиться в Яссы просить материальной помощи у союзников. Придавая огромное политическое и стратегическое значение прибалтийскому району и направлениям Ревель–Петроград и Либава–Петроград, он считал необходимыми предпосылками успеха формирования армии и ее операций: 1) Занятие союзным флотом Ревеля и Либавы; 2) отпуск широких кредитов; и 3) передачу немцами армии богатых русских складов Пскова, Двинска, Вильны и друг. городов оккупационной зоны.
И в начале ноября, после крушения центральных держав, в период расцвета надежд на союзническую помощь, гр. Келлер решился принять командование, поставив Северную армию в зависимость от Екатеринодара. 2 ноября он прислал мне телеграмму:
«Признаете ли Вы меня командующим Северной Псковской монархической армией или мне следует сдать эту должность. Если признаете, то с какими полномочиями. Необходимо разрешение принять меры к охране разграбляемых в Малороссии военных складов, воспользоваться украинскими кадрами и продолжать формирование, для чего необходим немедленный отпуск денег, которые можно добыть в украинском правительстве».
Я ответил принципиальным согласием. Хотя первые шаги нового командующего, политическое окружение и декларативные заявления его вызывали некоторое смущение…
Но прошло всего три дня и обстановка в корне изменилась: гр. Келлер телеграфировал[39] мне, что «…по настоянию общественных кругов, гетмана Украины и его правительства (он) принял на себя всю полноту военной и гражданской власти на Украине…»[40].
Северная армия осталась без главы[41]. В силу внутренней распри, за несколько дней до ухода немцев, оставил свой пост заместитель командующего генерал Вандам, и его место занял полк. Неф. Полувооруженные добровольческие отряды начали стягиваться к железнодорожным узлам и Пскову, в надежде при немецкой помощи остановить наступление слабых советских сил. Во Пскове объявлена была мобилизация 12 возрастов (18–30 лет), которая не имела никакого успеха.
В то же время собравшийся вновь в конце ноября в Ревеле Национальный эстонский совет[42], правительство[43] и «главнокомандующий» полк. Лайдонер, приступили, в свою очередь, к формированию вооруженной силы: в Ревеле, Пернове, Нарве и друг. городах, собирали по мобилизации небольшие отряды, преимущественно, из бывших эстонских батальонов, которые Лайдонер начал развертывать в две дивизии.
Южнее, в губерниях Белоруссии, раздавались безнадежно призывы Минской, Виленской и других рад и правительств, к формированию «национальной армии для защиты суверенных прав Белорусского народа». Члены их частью остались на местах, частью попали в волну всевозможных эвакуаций, создавая затем «полномочные» и «всенародные» органы белорусской власти в Минске (коммунистич.), в Вильне, Гродне, Ковне, Киеве, Одессе… Все — одинаково немощные и все — враждебных друг другу ориентаций. Одно из таких «правительств» — инженера Бахановича, обосновавшееся в Одессе, в январе–феврале 1919 г. серьезно мистифицировало Екатеринодар. Не зная тогда всех этих деталей и придавая большое значение созданию противобольшевицкой организации и вооруженной силы в западной России, я по докладу военного управления согласился поддержать это движение материально и послать туда кадр военного командования. Но вскоре выяснились самозваный и авантюристический характер «правительства» и безнадежность положения в Белоруссии. Кредит был во время закрыт, и связь Юга с Западом, в смысле явной или тайной совместной работы так до конца, и не налаживалась.
Делегации ото всех этих правительств появились в Берлине, в Яссах, Париже, и Сазонов[44] безнадежно добивался ответа от Екатеринодара — кто же является истинным представителем Белоруссии?..
* * *
Эвакуация германскими войсками Эстляндии и Северо-Западной области протекала при совершенно иной обстановке, чем в Финляндии. Немцы уходили провожаемые сожалением небольшой лишь части немецкой и русской буржуазии, равнодушием широких слоев русского населения и враждебным злорадством эстонцев, безразлично — большевиков и националистов — пасынков немецкого оккупационного режима. Железные дороги были забиты, и потому конница и артиллерия потянулись походным порядком; хлынули беспорядочными толпами и дезертиры. Уходя, германские войска по частной инициативе и организованно, с ведома высших властей и комитетов, увозили «военную добычу», подводя под это понятие не только всякого рода базисные запасы, казенное русское имущество, по и подвижной железнодорожный состав и частное добро русских граждан — частью беспризорное, частью реквизированное. Ограбление Минска, например, достигло таких размеров, что вызвало серьезные волнения в городе, частную забастовку железнодорожников и протест совета комиссаров. Последний, впрочем, отнес эти события за счет «немецких контрреволюционеров», стремящихся «поссорить между собой революционные народные массы Германии и России»[45].
Желание уехать домой и увезти добро доминировало над политическими симпатиями. Германцы относились равнодушно и к большевикам, и к русским, и к местным национальным формированиям. Временами у немцев происходили с ними столкновения, чаще, однако, — с большевиками, выступление которых в Ревеле, Клинцах и других пунктах окончились для последних весьма плачевно. Комитеты отменили официально выдачу средств и боевого снаряжения противобольшевицким организациям, затруднив до крайности возможность дальнейшего их формирования. Одновременно неофициально происходила широкая распродажа «по вольным ценам» и русского, и немецкого военного снаряжения, попадавшего, по преимуществу, в руки красногвардейцев…
Большевики силами, первоначально не превышавшими 2–3 слабых дивизий, следовали почти беспрепятственно за немецкими войсками, захватывая один за другим западные города, вводя в них советскую власть и жестоко расправляясь с буржуазией. Почти без сопротивления они прошли по Белоруссии, заняв Вильну, Минск, Лиду, Барановичи. 25 ноября, после краткого боя, пал Псков, и Северная армия стала отходить в двух направлениях — на Валк и Юрьев. Большевики, тесня эстонско-русские отряды, к середине января достигли линии Везенберг–Юрьев–Валк, угрожая Ревелю и отрезав сухопутное сообщение между Эстонией и Латвией.
На этом успехи их замерли.
В Эстонии борьба приняла скоро характер исключительно национальный — под лозунгом независимости страны от России… В таком политическом аспекте в борьбе приняли участие и внешние силы — Англия и Финляндия по расчету, и русская Северная армия — в силу роковой необходимости.
Английское правительство проявило большой интерес к прибалтийским новообразованиям. Английский флот появился в Ревеле, английские военные и дипломатические представители приобрели решительное влияние на политику эстонского правительства. Вместе с тем, Англия начала оказывать серьезную экономическую помощь Эстонии и доставлять ей военное снабжение. Цена такой дружеской услуги, помимо установившегося в скрытом виде английского протектората над Эстонией, оказалась не малой: Ллойд Джордж вел настойчивые переговоры с эстонским правительством о долгосрочной аренде островов Эзеля и Даго, и только вмешательство французского правительства остановило возникновение нового Гибралтара в Балтийском море.
В то же время, в середине января, по инициативе Финляндии, начались переговоры между нею и Эстонией об унии этих двух новообразований, как «наилучшей гарантии против русской опасности». Обращенная в разгар взаимных конвенансов, просьба Эстонии о помощи нашла широкий отклик: финляндские добровольцы потекли в Эстонию, и сформированные из них отряды под начальством финского генерала приняли в январе и феврале видное участие в боях на юрьевском направлении. Но надменность начальников и бесчинства финских добровольцев в крае, на который они смотрели, как на покоренный, вызвали вражду между народностями и серьезное столкновение между правительствами. К тому же англо-американская комиссия, имевшая большое влияние на эстонское правительство, отнеслась к проекту унии сдержанно, «не находя в таком соединении достаточно серьезной экономической базы…» Эти причины похоронили надолго планы военного сотрудничества[46] и идею политической унии соседних новообразований. Идею, острием своим направленную всецело в сторону будущей России.
Наконец, большую роль в освобождении края от большевиков сыграла Северная армия, переименованная в Северный корпус. Попав при отступлении на территорию «независимой» Эстонии, командир его, полк. Неф заключил с эстонским правительством договор[47], в силу которого устанавливались «общие действия, направленные к борьбе с большевиками и анархией». Корпус подчинялся эстонскому военному командованию, поступал на содержание эстонской казны, получал право комплектования не-эстонскими гражданами, ограниченное, однако, условием, чтобы численность его не превышала 3½ тыс. человек…
Таким образом, идея борьбы в государственном масштабе временно падала, русские контингенты обращались в служебное начало для частных целей, в которых поражению большевиков неизменно сопутствовало углубление и закрепление разрыва государственной связи окраины с Россией… Естественно, что в психологии командования и офицерства это положение воспринималось только как тягостный этап, на котором за временный приют оно платило честно своею кровью. Ведя борьбу за свою независимость, эстонцы требовали безоговорочного признания ее. Русское командование не хотело брать на себя такой ответственности… «На одном из заседаний старших чинов в Ревеле — говорит ген. Родзянко[48] — я заявил, что признание является совершенно необходимым, если русские люди хотят в борьбе своей с большевиками опираться на Эстонию, и предлагал объявить… о признании Северным корпусом независимости Эстонии». Командир корпуса полк. Дзерожинский[49] ответил, что «в принципе он совершенно согласен, но не знает, как посмотрят на это русские люди, и что, поэтому, он сделает эстонскому правительству такое заявление, какое найдет для себя, как для русского офицера, более приемлемым»[50].
Такая неопределенность вызывала взаимную подозрительность и недоверие, хотя образ действий Северного корпуса оставался строго лояльным и в политическом, и в военном отношении за все время пребывания его на территории Эстонии.
Как бы то ни было, соединенными усилиями и русских, и финляндских, и эстонских войск большевики были остановлены и отброшены к Чудскому озеру; к концу февраля они начали новое наступление, более серьезными силами, в общем направлении от Пскова на Валк, но были разбиты вновь. И к весне армия Лайдонера прочно занимала оба берега Наровы, западный берег Чудского и далее по границе Псковской губернии на Мариенбург, прикрывая этнографические пределы Эстонии.
Английский флот имел небольшое столкновение с советской эскадрой в Финском заливе, но от участия в операциях против большевиков решительно уклонился.
А в то же время, начиная с весны 1919 г., Москва настойчиво предлагала Эстонии мир…
* * *
Стратегическое значение Северо-Западного противобольшевицкого фронта было чрезвычайно велико. Близость Петрограда[51], возможность организации обеспеченной союзным флотом базы по Балтийскому побережью и боевого содействия флота; удобство морских сообщений с союзными державами и легкость снабжения ими противобольшевицких армий; богатые склады русских и немецких боевых припасов в прифронтовой полосе бывшего театра мировой войны, наконец, огромный запас людских контингентов, который представляла из себя миллионная армия русских пленных, собранная в концентрационных лагерях Германии и бывшей Австро-Венгрии[52] — масса, подорванная морально и неустановившаяся в политическом отношении, но могшая все же выделить большое число здоровых, пригодных элементов. Воздействие в этом направлении на правительства Согласия, на печать и общественное мнение Европы велось долго и настойчиво частными и официальными русскими организациями, проявившими в этом вопросе полное единомыслие.
Вопрос о военном возглавлении движения прошел с некоторой внутренней борьбой и впоследствии стал роковым на почве столкновения германской и союзнической ориентаций… Одно время на пост главнокомандующего Северо-Западным фронтом выдвигался ген. Вас. Иос. Гурко. С ведома ли английского правительства, или по собственной инициативе с ним вступил в частные переговоры по этому поводу английский военный представитель в Прибалтике. Ген. Гурко поставил весьма решительно три основных вопроса, от правильного разрешения которых, по его убеждению, зависел успех предприятия: 1) какие политические или экономические цели преследуют союзники в виде компенсации за помощь? 2) какие средства — денежные и материальные, намерены они предоставить? 3) и будет ли русский главнокомандующий облечен полною мочью? Ответа не последовало, и переговоры прекратились. В дальнейшем на авансцене западнорусских событий фигурировало исключительно имя ген. Юденича. Но, по совокупности различных обстоятельств, движение на Западе, развиваясь совершенно самостоятельно, было поставлено все же в моральную, позже в официальную зависимость от Востока и Юга. Так относилось к вопросу высшего возглавления офицерство, так гласили заявления составных частей фронта — Северного корпуса, отряда кн. Ливена и др.; союзники во время переговоров ставили открытие кредитов в зависимость от согласия адмирала Колчака; также, наконец, смотрели и прибалтийские новообразования, выражая опасение, что бы «панрусские правительства Колчака и Деникина и русская Северо-Западная армия, сражающаяся под их знаменами… не нарушили бы (нашей) независимости»[53].
21 января 1919 г. ген. Юденич послал адмиралу Колчаку телеграфный доклад, рисующий ту первоначальную военно-политическую базу, на которой строился Северо-Западный фронт:
«…С падением Германии открылась возможность образования нового фронта для действия против большевиков, базируясь на Финляндию и Прибалтийские губернии… Около меня объединились все партии от кадет и правее. Программа тождественна с Вашей. Представители торгового класса, находящиеся в Финляндии, обещали финансовую поддержку. Реальная сила, которою я располагаю в настоящее время — Северный корпус (3 тыс.)[54] и 3–4 тыс. офицеров, находящихся в Финляндии и Скандинавии…[55]. Я рассчитываю также на некоторое число — до 30 тысяч — военнопленных офицеров и солдат… Без помощи Антанты обойтись нельзя и в этом смысле я вел переговоры с союзниками, но положительного ответа еще не имеется. Необходимо воздействие союзников на Финляндию, дабы она не препятствовала нашим начинаниям и вновь открыла границу для русских беженцев, главным образом, офицеров. То же в отношении Эстляндии и Латвии… Необходима помощь… вооружением, снаряжением, техническими средствами, финансами и продовольствием не только на армию, но и на Петроград… Вооруженная сила не требуется — достаточно флота для обеспечения портов. Но, если таковая будет, то это упростит и ускорит решение. Благоволите поддержать мое ходатайство перед Антантой…[56].
Посылая мне копию этой телеграммы, ген. Юденич писал: «…Я обращаюсь к Вам с просьбой — помогите мне. Не можете уделить из имеющихся у Вас средств — я знаю, до последнего времени Вы сами во всем нуждались — убедите наших представителей в Париже, убедите союзников. Если моя личность не угодна адмиралу Колчаку, Вам или союзникам, сообщите — я отойду в сторону, передав дело другому, но не губите самое дело»[57].
Последняя фраза вызвана была, по-видимому, слухами, что южное правительство относится отрицательно к формированиям на Северо-западе и лично к ген. Юденичу. Английское военное министерство действительно запрашивало мое мнение о ген. Юдениче. Я знал его весьма мало, но, считая, что уклонение от ответа может повредить делу снабжения западных формирований, дал отзыв благожелательный[58].
Моральная, дипломатическая помощь и отчасти облегчение прохождения вопросов комплектования и снабжений — это все, что мог сделать и делал Юг — непосредственно и через военного представителя в Париже ген. Щербачева.
Время проходило. Прошла зима и весна 1919 года, события шли своим чередом, а ген. Юденич и русский комитет, возглавляемый Карташевым, все еще оставались в Гельсингфорсе, продолжая малорезультатные переговоры с представителями держав Согласия, с правительствами Финляндии и Эстонии.
Пока, таким образом, в Гельсингфорсе находился в потенциальном виде главнокомандующий Северо-Западным фронтом, полупризнанный англичанами, но не проявляющий своей власти и руководства, Северный корпус жил независимо от него своею жизнью. Под командой сначала полковника Дзерожинского, потом, после мирного переворота, учиненного ген. Родзянко[59], корпус в середине мая перешел в наступление в Петроградском направлении, разбил 7-ю армию большевиков и при содействии одной дивизии эстляндцев, занявшей Псков, продвинулся к Красной горке и к востоку от Пскова, серьезно угрожая Гатчино и Луге. Большевицкие войска целыми полками переходили на сторону белых и, корпус, возросши в числе бойцов, был переименован в Северную, потом в Северо-Западную армию, независимую уже в командном отношении от эстонского главнокомандующего Лайдонера.
Между тем, в середине июня последовало утверждение адмиралом Колчаком в звании главнокомандующего Северо-Западным фронтом генерала Юденича, которому, вместе с тем, предоставлено было «осуществлять верховную власть именем Верховного Правителя в губерниях, освобожденных (его) войсками…»[60].
Ко времени, когда ген. Юденич переехал со штабом в Эстонию (июль), Северо-Западная армия стояла на фронте от Копорского залива (Пейпия) до станции Молосковицы (в полпути между Нарвой и Гатчиной) и оттуда в сорока верстах западнее Луги и в 20 верстах восточнее и южнее Пскова, до р. Великой. На этом фронте располагалось два корпуса, общею численностью в 12 460 штыков и сабель. Эта армия лишена была самого необходимого, ходила в отрепьях, до осени снабжалась почти исключительно средствами, отбитыми от большевиков, и денежное довольствие, сначала весьма скудное, получала от эстонского правительства, потом, за неимением иных источников — от перепродажи американской муки, предназначенной для населения западной России. Щедрые, в отношении эстонцев, англичане пока ничего не давали армии. А постоянные трения с эстонским правительством и не прекращавшиеся мирные переговоры между Эстонией и Латвией с советской Россией, ставили весь тыл армии в положение тяжелой и опасной неопределенности.
Большевики решительно не верили в серьезность угрозы своему западному фронту. Даже майские успехи Родзянко не заставили их переменить свое отношение к нему. Переговоры о мире с эстонцами и латышами, по выражению Бронштейна, «имели характер опиума, поселив уверенность, что война на этом фронте близится к концу… Мы снимали, поэтому, с фронта 7-ой армии и хорошие части, и лучших работников, и командиров, и опытных военно-политических работников…»[61].
Все шло на Юг!..
Только осеннее наступление генерала Юденича вызовет панику в Петрограде — у Зиновьева и советов — и побудит советское командование «с лихорадочным напряжением» возвращать на Западный фронт и силы, и людей.
Глава IV. Латвия. Группа ген. фон дер Гольца. Литва. Польша. Идея объединенного «Северо-Западного фронта»
Если в северной Прибалтике всецело и безраздельно царило влияние союзников, преимущественно Англии, то в южной оно боролось еще долго с влиянием германским. Эта борьба — нервная, непоследовательная и лишенная какой-либо иной идеи, кроме неприкрытого и грубого соперничества — наложила свой резкий отпечаток на все военно-политические события в крае.
На основании требований союзников германские войска спешно очищали Прибалтику. За ними следом от Полоцка, Пскова и Орши шли советские полки, численностью до 10–12 тысяч, направляя главные силы через Ригу к немецкой границе… Такая перспектива не без основания встревожила германское командование и правительство, и эвакуация под предлогом закупорки железных дорог несколько замедлилась.
Тем не менее, к концу декабря большевики подошли к Риге. Латышский народный совет, возгласивший 18 ноября 1918 г. самостоятельность Латвии, не имел в своем распоряжении никаких сил и средств для обороны края. Большинство латышских полков находилось на советской службе и теперь 6–7 из них наступали против Риги; небольшой добровольческий отряд полковника Замитаниса был отрезан от Риги и находился на службе Эстонии; другой отряд полк. Колпака не превышал тогда 400 штыков; русский элемент края, преимущественно офицерство, стал собираться в отряд князя Ливена, к январю представлявший из себя одну только роту; в свою очередь немецкое балтийское дворянство приступило к организации Балтийского ландвера, который, в силу классового своего состава и неприкрытого максимализма в аграрном вопросе, представлялся опасным в глазах латышского народного совета и правительства Ульманиса.
При таких условиях правительство обратилось за помощью к немцам, прося продолжить оккупацию края до создания им собственной армии. Между латвийским правительством и советом солдатских депутатов 8-й германской армии был заключен договор в Риге 29 декабря 1918 г.[62], в силу которого Германия соглашалась формировать для защиты Латвии добровольческие отряды и снабжать латвийское правительство денежными средствами и военным снаряжением для организации собственной армии. За эту услугу «Временное правительство Латвии… (соглашалось) признать, по ходатайству о том, все права гражданства за всеми иностранцами (германцами?), состоящими в армии и прослужившими не менее 4-х недель в добровольческих частях, сражающихся за освобождение латвийской территории от большевиков». Это тяжелое обязательство, делавшее германских солдат участниками будущего земельного раздела, и впоследствии нарушенное Латвией, одинаково соответствовало планам и курляндских помещиков, и германского правительства, которые совместно с конца 1916 года принимали ряд мер для немецкой колонизации Прибалтийского края. Первым результатом этого договора явилось формирование крупного добровольческого отряда из трех родов оружия под названием «Железной дивизии», во главе которой стал майор Бишоф.
К январю, когда большевики подступили к Риге, все эти силы были еще в стадии формирования; германские линейные части наотрез отказались сражайся против большевиков; Согласие настойчиво требовало скорейшего очищения Прибалтики, и местные представители его в формах грубых и надменных, возмущавших одинаково и местные правительства, и русский элемент, и германское командование, распоряжались на побережья, как в своих колониях.
22 декабря Москва передавала «всем» радио, полученное ею из Берлина: «накануне нового года (18 дек. ст. стиля). Железная дивизия должна была очистить свою позицию у Хинценберга… Когда большевицкие войска достигнут позиции Эгеля, очищение Риги станет неизбежным. Английский флот (Адмирал Синклер) заявил, что он не может оказать помощи… Решено очистить Ригу в течение этой недели».
После такого более чем странного предупреждения советские войска 2 января заняли Ригу. Расстроенные добровольческие части 8 января отдали и Митаву, задержавшись затем на линии р. Виндавы. Правительство Ульманиса, германские и добровольческие штабы и организации перешли в Либаву.
К этому времени наступил поворот во взглядах правящих кругов Лондона и Парижа. Быстрое продвижение советских войск к Неману и возможность соединения их с германскими спартаковцами сильно обеспокоили союзников. По инициативе, главным образом, Клемансо возникла идея барьера, предохраняющего Европу от вторжения русского большевизма — идея, воспринятая и использованная в сугубый вред России Ллойд-Джорджем. Первоначально роль такого барьера должны были в силу необходимости играть германские войска, покуда не организуются национальные армии русских окраин.
В этом смысле даны были Согласием указания германской главной квартире, эвакуация задержалась, и большевицкое наступление на западе было приостановлено к середине января на линии Виндава–Шавли–Ковно–Гродно–Лунинец и по р. Припяти.
В Курляндии и частью в северной Литве в ближайшие два месяца исключительно на германские средства была сформирована сильная добровольческая группа генерала гр. фон дер Гольца. В состав ее вошли: несколько пополнившийся русский отряд кн. Ливена, латышский полк Баллода (до 2-х тыс.), Балтийский ландвер, пополненный немецкими офицерами и солдатами и обращенный в чисто германскую часть (2–3 тыс.); наконец, состоявшие исключительно из германских добровольцев, Железная дивизия и 6-й резервный корпус. Боевой состав этих войск не превышал вначале 20 тысяч, а к лету достиг 40 тысяч. Номинально группа фон дер Гольца считалась на службе у латвийского правительства, фактически же была совершенно автономна.
В начале марта фон дер Гольц предпринял успешное наступление против большевиков в рижском направлении, отбросил 10–15 тыс. армию красных, захватил Виндаву, Тукум и Митаву. На линии реки Курляндской Аа пришлось, однако, остановиться на целых два месяца: организация корпуса была еще не закончена, а подозрительная и ревнивая политика Согласия вновь ставила всевозможные препятствия к перенесению «барьера» вглубь страны. К этим внешним затруднениям присоединились и внутреннеполитические: офицерство Балтийского ландвера 16 апреля свергло социалистическое правительство Ульманиса и поставило новый кабинет германофила, правого, пастора Недра. Одновременно части ландвера разоружили и ограбили в Либаве латвийский отряд. Вражда между латышами и немцами еще более усилилась; представители Согласия не признали правительства Недра; Ульманис бежал в Эстонию и там, опираясь на латышский отряд Замитаниса, при содействии эстонского правительства и представителей Согласия, стал готовить почву для вооруженного вмешательства в дела Латвии…
Только 22 мая после вторичного наступления взята была Рига.
В этом углу России весной 19 года завязывался узел нитей, исходивших из глубин мировой политики и перепутанных в местной жизни взаимной ненавистью и старыми политическими и социальными счетами. Во всяком случае курляндские бароны, обладавшие 50% всей земли Латвии, и немецкие добровольцы, мечтавшие о колонизации ее — в роли защитников самостоятельности латышского народа представляли картину весьма своеобразную.
Здесь на периферии затихавшей европейской бури боролась политика французская, английская, германская, балтийско-немецкая, латышская. И только русская политика, русские интересы не находили никакого отражения. Ибо не было в крае ни организованной русской общественности, ни сколько-нибудь серьезной военной силы, с который считались бы союзники и враги.
А между тем территория Латвии летом и осенью 19 г. станет ареной событий, разыгравшихся вокруг имен Гофа[63], Марча[64], фон дер Гольца, Вермонта — событий, отразившихся роковым образом на судьбе Северо-западного противобольшевицкого фронта.
* * *
Далее на восток германские войска, как упоминалось выше, к середине января остановились на линии Ковно–Гродно–Лунинец–р.Припять, располагаясь на территории Литвы и Белоруссии и прикрывая западную часть Литвы и Польшу.
Литву оккупировал 7-ми тысячный отряд вестфальских добровольцев Пфейфера. Германское правительство, стараясь создать противовес Польше, отнеслось с большим вниманием к литовскому правительству, гарантируя самостоятельность государства и доступ к морю под германским контролем, предоставив крупную денежную помощь, и обещав вооружение и снаряжение на 50 тыс. армию. Начался набор и формирование литовской армии, проходившие, впрочем, весьма вяло. Согласие, не проявляя большого интереса к Литве, тормозило, однако, германскую помощь, категорически воспрещая вывоз предметов военного снабжения за границу Германии…
Положение новообразования было весьма трудным: давление большевиков, своекорыстная помощь немцев, немилость Согласия и бурно проявлявшиеся захватные стремления Польши, добивавшейся в Версале присоединения к ней Литвы. Отношения к последней становились все более враждебными, находя отклик и в столкновениях на общем фронте, и в сношениях правительств, и в постоянных жалобах их Верховному союзному совету. Но, негодуя на алчность польских шовинистов, ковенское правительство руководствовалось также не слишком идеалистическими соображениями… Когда польская армия занимала западнорусские города и области, литовские дипломатические представители обращались с горячим протестом к державам Согласия, претендуя сами на Белосток, Гродну, Лиду, часть Минской губ. и т. д.
Беспризорный Белорусский край становился объектом вожделений всех соседей…
Как бы то ни было, литовский фронт, в состав которого кроме германской группы входила литовская дивизия полковника Беньяшевича и несколько мелких русских и польских партизанских отрядов под общим польским командованием, успешно отражал наступление большевиков.
* * *
Польша в конце 18 и начале 19-го годов представляла кипящий котел.
Внутри страны шла ожесточенная борьба между правыми и левыми политическими партиями, проявившаяся вначале выступлением образованного в Люблине «Временного народного правительства»[65] против Варшавского регентского совета, потом с особой напряженностью — вокруг выборов в Сейм. С трудом налаживалась внутренняя связь между отдельными частями государства, где сложившиеся течением событий власти — «Ликвидационная комиссия» в Галиции, «Главный народный совет» в Познани, даже такия, как «Народный совет княжества Тешинского», стремились сохранить некоторую обособленность и в военном, и в экономическом отношении. Также плохо налаживались взаимоотношения между регентским советом и польским парижским комитетом.
По всей русской Польше, Познани, верхней Силезии шли непрерывно кровавые столкновения между германскими гарнизонами и польскими войсками, которые, не дожидаясь решений и санкций Версаля, спешили закончить «Odbudowanie ojczyzny», — «Ойчизны», охваченной бурным подъемом и подлинного патриотизма, и близорукого, исторически взращенного шовинизма… Галиция, где еще с конца октября 18 г. польская «ликвидационная комиссия» принимала бразды правления от австрийских властей, была объята всеобщим восстанием, в котором всеукраинское течение соперничало с всероссийским, но оба объединялись в общей ненависти к польскому владычеству[66]. Война сопровождалась неслыханными жестокостями с обеих сторон, отражала веками накопившиеся исторические счеты, напоминая времена Сагайдачного и Наливайки… В начале января из-за спорной части Силезии дошло до вооруженного столкновения и с Чехией…
Державы Согласия, обеспокоенные разгорающимся на востоке пожаром, принимали меры воздействия на враждующие стороны дипломатическим путем и посылкой комиссий от Верховного союзного совета в пораженные междуплеменной распрей области. В отношении Галиции эти меры оставались безрезультатными. В польско-германское столкновение они внесли некоторое, внешнее по крайней мере, успокоение: польское правительство умерило свое стремление к насильственному разоружению германских войск и вступало в соглашения относительно обоюдно приемлемых форм эвакуации немцев.
Наиболее легким оказался вопрос «na kresach wschodnich»[67]. В феврале между польским и германским командованием состоялось соглашение о передаче Польше оккупированной немцами части Белоруссии и Волыни. Двенадцать русских уездов, в которых польское население едва достигало 5%, были включены в пределы польского государства, составив в военно-административном отношении три округа: Гродненский[68], Подляско-Палецкий[69], и Волынский[70]. Для успокоения общественного мнения Европы, которая, впрочем, относилась к русским делам с большим равнодушием, заграничной печати было сообщено, что при дальнейшем продвижении по территории России, занимаемые области не поступят в общее управление польского кабинета министров, а через особого комиссара будут подчинены «начальнику государства»[71].
Этот первый захват, вместе с занятой еще осенью 1918 г. Холмской Русью, составлял частичное выполнение плана умереннейшей части польского общества — так называемой «программы minimum», включавшей в польские вожделения, кроме перечисленных земель, губернию Виленскую и два уезда Подольской. Ибо общественное мнение страны в своем представлении национальных задач шло гораздо дальше — вплоть до «границы 1772 года» — плод в равной мере исторического романтизма, как и национального шовинизма, раздвигавших пределы Польши «od morza (балтийское) do morza (Черное), до Двины и Днепра, со включением Курляндии, части Лифляндии, губерний Витебской, Могилевской, Киевской и Подольской. Только судьба Новороссийского края великодушно предоставлялась «третейскому международному суду»…
Генеральный комиссар восточных «крессов» в своем приказе объявил[72], что «правительственным языком (является) язык польский. На этом языке ведут переписку городские органы между собой, с властями и частными лицами. Вне этого все местные языки равноправны». Через день последовало разъяснение: «какие же языки считаются местными?.. В общественных и самоуправляющихся учреждениях, так же как и в школах, допускаются наряду с польским языком языки литовский, белорусский и малорусский»… Звуки русского языка, по комментариям тогдашней польской «крессовой» прессы, будут восприниматься «как свидетельство враждебного отношения к польскости»…
Версальский высший совет, ввиду остроты пограничных споров и, может быть, стесняясь еще в ту пору так резко нарушать интересы своего бывшего союзника — России, медлил с разрешением вопроса о восточных границах. 5 июля была указана им лишь военная разграничительная линия между Литвой и Польшей по течению Немана и далее параллельно ж. д. Гродно–Вильно–Двинск; а в конце 1919 г.[73] последовало частичное исправление границ суверенной Польши присоединением к ней Белостокского уезда, а к Литве северной часта Сувалкской губ.
Так начинались новые взаимоотношения между родственными народами. С тех пор пресс полонизации в школе, суде, в религиозной, общественной, даже хозяйственной жизни занятых русских окраин стал давить все сильнее и нестерпимее, в стремлении вытравить все, что было связано с представлением о русской культуре и гражданственности. Бесправие, тюрьма, мучения и издевательства стали уделом новых «польских граждан», не хотевших забыть свое русское происхождение. Ослепление и ненависть становились основными двигателями польской политики на Востоке.
* * *
С огромным напряжением польская власть стремилась к организации национальной армии. В командном составе и в обученных контингентах, после крушения трех армий — германской, австрийской и русской, в рядах которых сражались поляки, недостатка не было; существовали также и кадры, в виде организованной немецким командованием «Wehrmacht», польско-американских формирований Галлера[74], возникших во Франции, австро-польских «легионов» Пилсудского, укомплектованных по преимуществу буржуазной молодежью, стрелковой бригады, сформированной Добровольческой армией в Екатеринодаре, и т. д. Боевое снабжение, вначале крайне разнообразное, составилось из богатых складов трех армий, сражавшихся на территории Польши, и постепенно заменялось доставляемым в большом изобилии французским. Французская помощь вообще, во всех отраслях народно-хозяйственной жизни Польши, была велика[75], и столь же велико было там политическое влияние Франции. Во всяком случае, французская военная миссия ген. Генри, находившаяся в Варшаве, руководила всецело польским штабом и, следовательно, если не в политическом, то в стратегическом отношении у нее была полная возможность направлять действия польской армии на Востоке во вред или на пользу России. По крайней мере, когда войскам Галлера французами было воспрещено принимать участие в войне за восточную Галицию, это их требование было исполнено.
Но французская политика и польская стратегия не считались к сожалению с интересами России.
Постепенно развертывая свою армию, к весне 19 г. Польша имела на внешнем фронте, кроме войск Познани, 8–9 пех. дивизий и 4 кавалерийских, более или менее организованных, под верховным командованием ген. Пилсудского. Армия располагалась на большом пространстве, разделяясь на отдельные группы: Польско-литовскую (Виленское направление), Белорусскую (Минское и Мозырское), Волынскую и Галицийскую. Опасность с запада все еще висела над страной: Гинденбург не торопился с демобилизацией имперской армии, обнажив совершенно западный фронт и сосредоточив для прикрытия северных и восточных границ Германии 9 корпусов, личный состав которых понемногу начинал отходить от революционного угара. В силу этих обстоятельств, необходимости организационной работы и условий зимнего времени, военные действия поляков против советских войск не отличались вначале большой активностью. Только весною 19 года поляки совместно с литовцами перешли в наступление в северном направлении, в середине апреля взяли Вильну и пододвинулись к Минску; в начале мая, искусно пользуясь войной советов с директорией, прошли по тылам отступающих украинских войск Петлюры к востоку от Лунинца и Луцка.
Ни явным, ни скрытым мотивом польского вторжения в пределы России никогда не была борьба с советской властью. Оно вдохновлялось исключительно тем двуличным лозунгом, который, отражая взгляды польской общественности, провозгласил Пилсудский 10 февраля при открытии Сейма:
«Наши соседи, с которыми мы желали бы жить в дружбе, не хотят забыть временную слабость Польши… Мы не хотим вмешательства во внутренние дела наших соседей… Но мы не отдадим ни одной пяди польской (?) земли и не позволим урезывать наши границы, на которые имеем право».
* * *
Вопрос объединения всего широкого фронта внешних противобольшевицких сил — от Ботнического залива до Припяти — в русских кругах никогда серьезно не ставился: слишком противоречивы были интересы окраинных государств и подчас слишком неумерены их национальные устремления.
Что давала им нарождавшаяся национальная власть в России? Я ограничусь приведением выдержки из ответа адмирала Колчака на обращение Верховного совета союзных держав. Он составлен был позднее, 4 июня 19 г., но заключал в себе существенные мотивы многократных заявлений — его, моих, Юденича, парижского совещания, отражая взгляды широких слоев русской общественности самых разнообразных политических оттенков[76], кроме «самостийных», наконец огромного большинства командного состава и офицеров белых армий.
«… 3. Признавая, что естественным и справедливым следствием войны является создание единого Польского государства, русское правительство считает себя вправе подтвердить независимость Польши, объявленную в 1917 году Временным Правительством России, все распоряжения и обязательства которого мы приняли на себя. Но окончательная санкция определения границ между Польшей и Россией, в соответствии с выше приведенными основаниями, должна быть отложена до Учредительного Собрания.
Мы готовы также ныне признать настоящее правительство Финляндии, но окончательное решение финляндского вопроса должно принадлежать Учредительному Собранию.
4. Мы готовы теперь же подготовить решение вопросов по отношению к национальностям Эстонии, Латвии, Литвы, Кавказских и Закаспийских стран. Мы имеем полное основание предполагать, что дело скоро уладится, как только правительство обеспечит различным народностям автономии. Из этого следует, что границы и формы этих автономий будут определены особо для каждой народности. В том же случае, если при разрешении этих разнообразных вопросов возникнут затруднения, то в целях достижения удовлетворительного решения их, правительство готово прибегнуть к содействию и помощи Лиги Народов.
5. Выше изложенные основания, предусматривающие утверждение Учредительным Собранием всех соглашений, очевидно, должны быть применены и к Бессарабии».
Такая постановка вопроса ни одно из новообразований совершенно не удовлетворила.
Если бы, однако, руководители белого движения, вопреки определенно сложившемуся тогда общественному мнению, от имени России дали свою санкцию всем требованиям новообразований, является еще большой вопрос: имело ли бы это самопожертвование непререкаемую ценность в глазах окраинных правительств и побудило ли бы окраинные народности жертвовать своею кровью и рисковать своей судьбой для дела освобождения России? Вся дальнейшая история восточной Европы даст ответ ярко отрицательный[77].
Но и другие внешние факторы далеко не способствовали объединению западных фронтов. Французское влияние в Финляндии, английское в Эстонии и северной Латвии, германское в южной Латвии и Литве, французское в Польше — таков пестрый переплет политической жизни окраин. Державы Согласия, в силу давления своей демократии не желавшие и не могшие принять участия в вооруженной борьбе, не оказывавшие в то же время и сколько-нибудь серьезного давления в этом направлении на окраинные правительства… зимою 18 г. требующие ухода немецких войск из Прибалтики, в начале 19-го, наоборот, требующие усиления их для создания «кордона», и летом, из-за опасения все возрастающего влияния Германии, разрушающие ее военные организации в Прибалтике — таковы непоследовательные этапы русской политики союзников. Наконец, Германия — в теории, в лице военной партии и даже отчасти социалистического правительства своего в то время допускавшая возможность выступления в роли спасительницы России — в чаянии моральной реабилитации и будущих политических и экономических перспектив, но в корне отвергающая мысль, чтобы эта помощь шла в той или другой форме под флагом Согласия… Германия — на практике развертывающая широко добровольческий корпус фон дер Гольца, как предлог обойти стотысячную норму, ограничившую развитие ее военных сил, как способ сохранения баронских латифундий и вместе с ними своего влияния в Прибалтике, как барьер против советской армии и вооруженный кулак, нависший на фланге оперативных путей польской армии в Восточную Прусию — таковы внутренние мотивы германской частичной интервенции.
«Русско-германское сближение» в течение долгого времени было одним из главных мотивов, которыми английское правительство сдерживало напор оппозиции, требовавшей прекращения вооружений и материальной помощи врагам советской власти. В возрождении России англичане не сомневались. Но с чьей помощью? «Я никак не могу отделаться от мысли — говорил в парламенте Черчиль — о страшной опасности, которая произошла бы, если бы ставшая врагом нашим Россия и жаждущая мести Германия пришли бы к убеждению, что все их несчастья произошли оттого, что они друг с другом враждовали и что они могли бы вновь стать могущественными, если бы соединились вместе»[78].
Какими же методами правительство Англии, при непротивлении Клемансо, осуществляло идею приоритета в воссоздании России? Близкий к французскому министерству иностранных дел «Temps» осенью 19 года в ряде статей, констатируя, что общественное мнение Франции порицает политику держав Согласия, подводил ее итоги:
«В течение 11 месяцев после перемирия, что сделали союзники в Балтике? Они поддерживали — и временами эксплуатировали — вожделения эстов и латышей, которые они не могут осуществить. Они противодействовали стремлениям русских, которым они не смогут помешать осуществиться.
Нет сомнения, что Ревель — великолепный порт и что лен латышских землевладельцев весьма пригоден для британских ткачей. Но никакие соглашения, никакой флот в мире не в силах помешать России восстановить рано или поздно свое прежнее положение на берегах Балтийского моря. Обещать эстам и латышам, что им будет обеспечена подходящая автономия в децентрализованной России, вполне резонно; со стороны Антанты это было бы обязательством, на выполнение которого союзники могут надеяться. Но идти дальше и заманивать эти мелкие группы людей призраком независимости, значит сеять невозможное: из таких семян вырастают одни лишь разочарования».
«Вы желаете более существенных плодов? Тогда нужно смотреть открыто в лицо действительности: в Балтийской авантюре — весь русский вопрос».
«Два направления политики могут быть приняты по отношению к России — первое заключается в расчленении российского государства, второе в его восстановлении. Союзники должны решиться раз навсегда избрать одно из двух направлений, а именно второе, тогда как до сих пор мы колебались между обоими».
«Если бы мы хотели расчленения России, то предоставляя ей гноиться в большевизме, то применяя на севере и на юге противоположные методы действия — и в том и в другом случае все преимущества были бы на стороне Германии. Германия обладает гораздо большими возможностями в технике пользования противоположными крайностями. Она поставляла инструкторов и деньги большевикам. Сегодня она поставляет их сторонникам абсолютного царизма[79]. В России, равно как и во всей Европе, во время войны и до ее возникновения, она специализировалась в деле разложения, и всякое разложение идет на пользу Германии…»
«Напротив, наша задача — строить».
И в то время, когда глава английского правительства, Ллойд-Джордж проводил настойчиво план расчленения России, другой государственный деятель Англии, член его кабинета Черчилль, всей силой своего слова ополчался против такой близорукой политики. В своем ведомстве он принимал и ряд доступных мер, чтобы путем материальной поддержки белых армий ослабить явную для него опасность опытов Ллойд-Джорджа. Как могли сотрудничать эти «две руки» — одна дающая, друга отъемлющая — это тайна британской политики.
Черчилль говорил[80]:
«Война вызвала к жизни целую цель небольших и слабых государств, которые сами до известной степени проникнуты большевицкими идеями, подавлены гнетом банкротства и голода и лишены дисциплинированных армий. И на этот-то колеблющийся, трескающийся оплот мы здесь рассчитываем для предотвращения наступательного движения на Запад большевицких войск и большевицкой анархии; на него же мы рассчитываем и для предотвращения объединения этих войск и этого учения с недовольством могучей германской нации!
Шесть месяцев тому назад никто не верил, чтобы эти новые слабые державы могли удержаться без могущественной поддержки союзническими деньгами и союзническими войсками. Но к нашему великому облегчению, они удержались без обращения к нам за какой-либо непосредственной поддержкой[81].
Эстония, Литва, Польша, Чехо-Словакия, Румыния все еще выступают жизненными факторами мировой общественной и национальной жизни, и вся Западная Европа в настоящее время укрывается за их слабым оплотом. Но почему же они оказались способными поддержать свое существование? Потому, что никто на них серьезно не нападал. Усилия большевиков захватить их были слабыми, и с ними они справились. Но почему же они были слабы?
А по той причине, что по меньшей мере две трети всей большевицкой армии, по меньшей мере две трети всех сил, были заняты борьбой с силами Колчака и Деникина, которых не существовало совсем год тому назад и которые теперь борются, но с основательной надеждой на победу против трех сот тысяч организованных большевицких боевых войск.
И если бы эти армии были разбиты и уничтожены, и вся Россия со всеми своими ресурсами попала под неоспоримую власть Ленина и Троцкого, то вся сила большевицкого войска могла бы обрушиться — и обрушилася бы — на линию еле держащихся небольших государств — с последствиями, в которых никто из знакомых с их пожеланиями не может сомневаться».
* * *
В этом сплетении разнородных, взаимно враждебных интересов рисовалась только одна объективная возможность, грозившая быстрым крушением советской власти, по существу, однако, ирреальная, противоречащая психологии победителя и побежденного в первый острый период расплаты:
Примирение держав Согласия с Германией…
Некоторые политические круги обеих группировок еще с 17 года выдвигали и такое положение, едва ли не наиболее грозное для судеб России. В нем напрасно было бы искать моральные обоснования или стремление к спасению нашей Родины. Обнаженный национальный эгоизм ставил вопрос гораздо более реально:
Мир за счет России…
Глава V. Появление союзников на Юге России и их первые шаги. Планы интервенции
— Salut à nos Alliés!
— Wellcome dear friends!
Эти возгласы, выражавшие искреннюю, непритворную радость, горячее дружественное чувство и безграничные надежды на скорую перемену злосчастной судьбы, были неизменными спутниками союзных вымпелов, появлявшихся в Черном море. Никогда еще моральная связь между русской интеллигенцией, южным казачеством и всеми теми широкими слоями, которые связали себя с национальным противобольшевицким движением, и нашими союзниками не была такой крепкой. Никогда еще державам Согласия не представлялась лучшая возможность закрепить надолго и прочно эти узы со страной нищей, но таящей под спудом неисчерпаемые сокровища, с народом ныне безумным, но в нормальном состоянии своем наиболее честно относящимся к выполнению международных обязательств, великодушным и помнящим добро.
Это радостное настроение, по мере удаления от портов Черного моря к северу, омрачалось только беспокойными мыслями: «успеют ли придти»… и «как пережить переходное время, когда могут захлестнуть большевизм и анархия»…
По всему югу России шла спешная перемена «ориентаций», изменение программ и широкая дифференциация партий, групп, организаций, которых прежде разделяло германофильство. Перестраховывались спешно и правительства. Новые «Варяги» стали тем фундаментом, на котором строились политические комбинации и утопии, не раз совершенно противоречивые. Так польский Регентский совет взывал к союзникам о помощи против «украинских банд» — восставшего народа Галицкой Руси, а правительства Галицкой и гетманской Украйны просили союзников оградить Галицию от поглощения Польшей. В Киеве гетманское правительство давало союзникам заверения в своей лояльности и дружбе, указывая, что «войска центральных держав были призваны (не им, а) прежним правительством»[82]; а прежняя и будущая директория, рожденная Брест-Литовском, еще не выйдя из подполья, оперировала теми же аргументами в пользу своего первородства и против «немецкого ставленника» — гетмана.
Украинская печать того времени обоих лагерей представляет разительные переливы всех тонов политического спектра по кривой линии от Берлина к Парижу. Донской атаман Краснов, еще недавно писавший о «дружбе, спаянной кровью на общих полях сражений воинственными народами германцев и казаков»[83], устраивал теперь «достойную встречу представителям тех государств, с которыми вместе в продолжение 3½ лет мы сражались за свободу и счастье Российского государства», «на которых мы и теперь смотрим, как на своих союзников»… «Без помощи союзников освободить Россию невозможно» — писал он генералу Франше д’Эспре[84]… И при первых же известиях о проходе союзным флотом Дарданелл обратился уже с воззванием к «красному Вердену» — Царицыну, требуя сдачи города до 15 ноября и угрожая, в противном случае, что по приходе союзников город будет сметен артиллерийским огнем…
Чтобы облегчить и ускорить выход союзного флота в Черное море, которое находилось еще в руках немцев, адмирал Ненюков в середине октября послал из Ясс старшему союзному адмиралу все документы, касавшиеся минных заграждений портов Черного моря, числа и тоннажа военных и коммерческих судов, а также «планы, описания, статистические данные портов и рейсов всего Черного моря, обработанные нашим бывшим морским генеральным штабом»[85]. Помощь — союзному флоту весьма существенная, не знаю только — не были ли при этом, в пылу увлечения альянсом, перейдены пределы осторожности, необходимой даже в отношении друзей…
На фоне разгоравшейся вокруг появления союзников большой и малой политики не обошлось без элемента комического: 29-го октября наша радиостанция перехватила телеграмму, адресованную испанскому послу в Софии: «Совет министров Крымского правительства решил просить Вас сообщить представителям Соединенных Штатов, Франции, и Британии, что (оно) обязуется соблюдать нейтралитет при входе в Черное море флота держав Согласия до заключения перемирия между державами Согласия и Германией»…
Флагман союзного флота мог следовательно дерзать!
* * *
10 ноября в новороссийскую бухту вошла эскадра в составе двух миноносцев и двух крейсеров — французского «Эрнест Ренан» и английского «Ливерпуль». Почти одновременно на болгарском пароходе под французским флагом пришел, командированный мной на Балканы ген. Эрдели, привезя чрезвычайно ценный для нас груз русских патронов и ружей, и вместе с ним прибыли представители Салоникской французской армии.
Новороссийск, затем Екатеринодар встречали союзников необыкновенно радушно, со всем пылом открытой русской души, со всей страстностью истомленного ожиданием, сомнениями и надеждами сердца. Толпы народа запрудили улицы Екатеринодара, и их шумное ликование не могло не увлечь своей непосредственностью и искренностью западных гостей. 20 ноября приехала английская военная миссия во главе с ген. Пулем, бывшим главнокомандующим союзными войсками на Северном (Архангельском) фронте, и торжества повторились вновь.
Большинство союзных военных представителей всецело разделяло ту психологию, во власти которой находились мы все — Добровольческая Армия, белый Юг. В их сознании, как и в нашем, взаимные обязательства оставались непререкаемыми, война еще не кончена, и активная помощь армий несомненна. Оторванные годами войны от политических будней своих стран, они жили еще эмоциями бранной славы и победы, располагавшими к великодушию. Оттого в словах их было более чувства, чем расчета, в обещаниях — более личного убеждения, чем фактической осведомленности…
Застольные речи дышали широким оптимизмом.
Я говорил: «…В этот час возрождения русской государственности вновь сомкнулся фронт и к нам протянулись дружеские руки… Я желаю от души счастья Франции и Англии. Но, если когда-нибудь над Сеной и Темзой сгустятся тучи, знайте, что Россия — не эта лоскутная, беспомощная — а новая сильная, Единая Россия никогда не забудет бескорыстной дружественной помощи и свято исполнить тогда свой долг»… Генерал Драгомиров вспоминал фразу ген. Пуля, ведавшего в 17 году снабжением русской армии, сказанную в октябре, накануне большевицкого переворота, в ответ на его «мрачные предвидения надвигающегося развала страны»:
— Через десять лет вы будете самой могущественной страной в мире…
Ген. Пуль в медленном, внешне бесстрастном, но согретом внутренней теплотой слове, говорил нам:
«…У нас с вами одни и те же стремления, одна и та же цель — воссоздание Единой России… Как представитель Великобритании, я передаю вам от своей страны: мы ни одной минуты не забывали, что Россия наш старый и верный союзник; мы радовались вашим успехам в начале войны, мы горевали, когда вы были преданы, и русская армия оставила фронты, вынужденно закончив войну; мы не забыли и никогда не забудем, как вы героическими усилиями спасли нас в 14 году, когда положение было критическим. Мы никогда не забудем, что вы, будучи поставлены в крайне тяжелое положение, не соединились, однако, с немцами, рискуя всем, и остались до конца верными своим союзникам.
Я послан своей страной, чтобы узнать, как и чем вам можно помочь; с большим удовольствием, с большою охотой мы вам эту помощь дадим»[86]…
Дипломатический представитель Франции, лейтенант Эрлиш, будущий депутат французского парламента, прекрасный и с большим темпераментом оратор, владеющий свободно русским языком, пожинал восторги собрания, затрагивая больные и трепещущие струны — словами тогда еще не захватанными, не опошленными.
— Вы можете рассчитывать безусловно на помощь великой Англии и свободной Франции. Мы с вами. Мы за вас… Я твердо верю, что скоро на высоких башнях святого Кремля красный флаг, забрызганный невинной кровью многочисленных жертв насильников, будет заменен славным трехцветным знаменем Великой, Единой, Неделимой России»[87]…
Отзвуки этих событий и этих речей разносились по Югу, по боевым линиям Добровольческой и Донской армий, проникали сквозь большевицкие позиции на Терек, повсюду подымая дух и волю к продолжению борьбы.
Я должен отдать справедливость этим первым представителям союзников: в генерале Пуле, лейтенанте Эрлише, Гокье[88] и других мы имели действительных и деятельных друзей России. Но их влияние и вес были недостаточны, чтобы изменить русскую политику держав Согласия.
* * *
Являлась необходимость выяснить вопрос, на какую же помощь союзников могут рассчитывать армии Юга?
Взаимоотношения союзного командования были неопределенны и осложнялись взаимным соперничеством держав. В Константинополе имел пребывание «главнокомандующий союзной Салоникской армией», французский генерал Франше д’Эспре; там же главная квартира «главнокомандующего британской армией на Балканах» — ген. Мильна; им были подчинены первоначально союзные представители в Екатеринодаре. Командированный в Константинополь ген. Эрдели привез оттуда весьма учтивое письмо ген. Франше д’Эспре и неопределенные обещания. В то же время в Бухаресте находился штаб ген. Бертело, именовавшегося «главнокомандующим союзными силами в Румынии, Трансильвании и на Юге России». Вошедший с ним в сношения по моему поручению представитель Добровольческой Армии в Яссах, ген. Щербачев прислал мне в начале ноября подробную ориентировку[89], бросающую свет на первоначальные предположения союзного командования в русском вопросе:
«Я посетил ген. Бертело в его главной квартире в Бухаресте для предварительных переговоров о своем проезде в главную квартиру генерала Франше д’Эспре и далее в Париж, с целью ускорить прибытие союзных войск и средств войны — в Россию.
В Бухаресте мне удалось достигнуть результатов, которые значительно превзошли мои предположения. Путем непосредственного общения и обмена мнениями с Генералом Бертело, с коим нас связывала и прежняя общность идей и действий, ныне удалось придать переговорам в Бухаресте форму исчерпывающе-решительную настолько, что временно отпала надобность проезда в Париж и к Генералу Франше д’Эспре.
Генерал Бертело, имеющий личную идейную сильную поддержку г. Клемансо, председателя союзных Версальских совещаний, облечен полною мощью Главнокомандующего армиями Союзников в Румынии, Трансильвании и на Юге России» и в качестве такового лица имеет возможность проектировать и осуществлять все вопросы политические и военные, касающиеся Юга России и спасения его от анархии. Мне удалось подвинуть этот вопрос настолько, что ныне уже едва ли остается желать в этом отношении чего-либо сверх предположенного на совещании моем с генералом Бертело.
Решено нижеследующее:
- Для оккупации Юга России будет двинуто, настолько быстро, насколько это возможно, 12 дивизий, из коих одна будет в Одессе на этих же днях.
- Дивизии будут французские и греческие.
- Ябуду состоять, по предложению Союзников и генерала Бертело, при последнем и буду участвовать в решении всех вопросов.
- База Союзников — Одесса; Севастополь будет занят также быстро.
- Союзными войсками Юга России первое время будет командовать генерал д’Ансельм с главной квартирой в Одессе, где буду находиться и я с состоящими при мне Вам известными лицами.
- Генерал Бертело, до времени, со своей главной квартирой остается в Бухаресте.
- По прибытии союзных войск, кроме Одессы и Севастополя, которые будут несомненно заняты ко времени получения Вами этого письма, Союзники займут быстро Киев и Харьков с Криворожским и Донецким бассейнами, Дон и Кубань, чтобы дать возможность Добровольческой и Донской армиям прочнее сорганизоваться и быть свободными для более широких активных операций.
- Под прикрытием союзной оккупации, необходимо немедленное формирование русских армий на Юге России, во имя возрождения Великой, Единой России. С этой целью теперь же должен быть решен и разработан вопрос о способах и районах формирования этих армий по мере продвижения Союзников. Только при таком условии будет обеспечено скорейшее наступление всех русских южных армий под единым командованием на Москву.
- В Одессу, как главную базу Союзников, прибудет огромное количество всякого рода военных средств, оружия, боевых огнестрельных запасов, танков, одежды, железнодорожных и дорожных средств, аэронавтики, продовольствия и проч.
- Богатые запасы бывшего Румынского фронта, Бессарабии и Малороссии, равно как и таковые Дона, можно отныне считать в полном нашем распоряжении. Для сего осталось сделать лишь небольшие дипломатические усилия, успех коих обеспечен, так как он опирается на все могущество Союзников.
- Относительно финансовой поддержки нам, у Союзников вырабатывается особый, специальный план».
Это письмо своей определенностью выводило нас, наконец, из области предположений. Широкая и конкретная постановка вопроса открывала перед нами новые необычайно благоприятные перспективы, ставила новые задачи в борьбе с большевиками. На основании письма и затем предложения французского представителя штаб мой составил и послал генералам Бертело и Франше д’Эспре записку о политическом и стратегическом положении Юга России и план совместной с союзниками кампании. Сущность его вкратце сводилась к следующему:
Общей задачей русских армий ставилось: «разбить советские войска, овладеть центром — Москвой с одновременным ударом на Петроград и вдоль правого берега Волги».
Ближайшая стратегическая задача… «1) Не допустить противника занять Украину и Западные губернии и, прикрыв их на протяжении прежней германской демаркационной линии, создать плацдарм для будущих формирований и для наступления вглубь России». «2) Использовать фронт Донской и Добровольческой армий, с той же целью и для окончательного очищения от большевиков Северного Кавказа».
Линия развертывания русских армий намечалась: Ямбург–Псков–Орша–Рогачев–Белгород–Балашов–Царицын.
Так как сохранение областей, еще оккупированных немцами, от занятия и разгрома их большевиками представлялось крайне необходимым, а задача эта для нас непосильной, то к выполнению ее привлекались союзные войска. Состав их, включая обеспечение черноморских баз союзников и коммуникационных линий, определялся штабом в 18 пех. и 4 кав. дивизии[90]. «Силы эти — говорилось в записке — будут использованы исключительно для прикрытия линии нашего развертывания и для обеспечения наших формирований. Ни в каких активных действиях им участвовать не придется… Нам нужна не столько сила, сколько авторитет дружеской помощи».
Под прикрытием союзных войск и по окончании своего формирования, русския армии должны были начать наступление с запада и юга к Петрограду, Москве и Казани.
Одновременно с планом французскому командованию вручены были перечни необходимых предметов и военного снабжения для армий Юга.
* * *
Время шло, все хорошие слова были высказаны, а реальная помощь все еще не прибывала. Даже вопрос о возглавлении союзного командования (Франше д’Эспре, Бертело, Мильн?) оставался спорным в течение трех с половиной месяцев, и только 11 марта я получил уведомление от ген. Франше д’Эспре, что «союзные силы, оперирующие на юге России, переходят под его командование»[91]. Сообщение — тотчас же и категорически опровергнутое английской миссией.
Целый ряд последующих эпизодов вносил еще большую неясность в общую политическую ситуацию и значительно понижал наше настроение.
Прежде всего телеграф принес нам официальное известие о существовании линии «разграничивающей английскую и французскую зоны действий»[92]. На востоке она проходила от Босфора через Керченский пролив к устью Дона и далее по Дону на Царицын[93]. Эта странная линия не имела никакого смысла в стратегическом отношении, не считаясь с меридианальными оперативными направлениями к Москве и с идеей единства командования. Разрезая пополам область войска Донского, она не соответствовала также и возможности рационального снабжения южных армий, удовлетворяя скорее интересам оккупации и эксплуатации, чем стратегического прикрытия и помощи.
13 ноября союзный флот появился в Севастополе и приступил к принятию от германцев судов русского Черноморского флота. Командированный мною в Севастополь адмирал Герасимов встретил со стороны союзного морского командования обидное и жестокое отношение к русскому достоянию. На том основании, что русские суда находились в распоряжении германцев, старший адмирал союзного флота (англ.) лорд Кольсорн, по распоряжению из Константинополя, отказался передать их русскому командованию. Лучшие из этих судов заняли иностранными командами и подняли на них флаги — английский, французский, итальянский, и даже… греческий. Все годные к плаванию корабли приказано было отвести в Измит для интернирования. На просьбу Герасимова отпустить хотя бы два, три миноносца в Новороссийск для охраны и патрулирования внутренних вод района Добровольческой Армии, сменивший Кольсорна французский адмирал Леже ответил резким отказом: «союзные правительства не потерпят присутствия вооруженного русского судна на Черном море, так как таковое, будучи отнято большевиками, может наделать державам Согласия многочисленные беды и хлопоты»[94]. На том же основании французские и английские команды, по приказанию Леже, топили и взрывали боевые припасы, хранившиеся в Севастопольских складах, рубили топорами аккумуляторы и баки подводных лодок, разрушали приборы управления и увозили замки орудий….
Образ действий союзников походил скорее на ликвидацию, чем на начало противобольшевицкой кампании.
В то же время началась перепись и реквизиции союзниками русских торговых судов под тем же фиктивным предлогом, что на них развевался временно германский или австрийский флаг.
Эти обстоятельства вынудили меня с первых же дней соприкосновения с союзниками вступить с ними в длительную, упорную борьбу за сохранение русского достояния и воссоздание Черноморского флота.
Между тем волнения на Украине, поднятые соединенными усилиями Украинского национального комитета и Москвы разрастались все более, а на северных рубежах ее готовилась уж ко вторжению большевицкая «повстанческая армия», формировавшаяся в «нейтральной зоне…»[95]. Опираясь на план кампании, выработанный генералом Бертело, я обратился к ген. Франше д’Эспре[96]: «чтобы сохранить юг России, богатый продовольствием и военными запасами, необходимо, как можно скорее двинуть хотя бы две дивизии союзных войск в район Харькова и Екатеринослава». Через несколько дней пришел ответ, что одна французская дивизия 5 декабря начнет высаживаться в Одессе, т. е. в районе, при создавшихся условиях, второстепенном.
Вступлению французских войск на русскую территорию предшествовало широко распространенное воззвание от имени генерала Бертело «к населению юга России» [97]. В нем вспоминались заслуги России в мировой войне и излагались цели интервенции: «…Все державы Согласия идут вам навстречу, чтобы снабдить вас всем, чем вы нуждаетесь, и чтобы дать вам, наконец, возможность свободно, а не под угрозами злоумышленников, решить, какую форму правления вы желаете… Окажите добрый прием войскам союзников… Они покинут Россию после того, как спокойствие будет восстановлено…»
В этом обширном и дурно переведенном с французского воззвании, обращало на себя внимание полное отсутствие таких понятий, как «большевик», «петлюровец», «украинец», «доброволец». Оно противополагало только «злоумышленников», «благонамеренным жителям», давая широкий простор для всевозможных догадок и слухов.
* * *
В таком же неопределенном положении находился и вопрос о материальной помощи.
Самая вопиющая нужда фронта — в патронах и снарядах — удовлетворялась далеко не в достаточном количестве и с серьезными затруднениями путем доставки из складов б. Румынского фронта.
Однажды к генералу Романовскому зашел представитель английской миссии и сказал ему:
— Бросьте вы разговаривать с французами — они только обещают и ничего вам не дадут. Прикажите прислать нам перечни необходимого для армий снаряжения.
О том же писал мне непосредственно ген. Мильн, заявив, что «без промедления приготовит (нам) все, что находится в его власти»[98].
Перечень был послан в английскую миссию — без больших надежд. Прошло два месяца в тяжелых боях, в которых решалась судьба Северного Кавказа. Доблесть и кровь Добровольцев по прежнему искупали недостаток, иногда отсутствие боевых припасов… 3 февраля я был в Новочеркаске, на Донском кругу, когда получил телеграмму ген. Драгомирова[99]:
«Прибыл ген. Бриггс, назначенный английским военным министерством начальником миссии при Добровольческой Армии… При нем будет штаб из (60 офицеров разных специальностей… За ним идут пароходы с вооружением, снаряжением, одеждой и другим имуществом, по расчету на 250 тысяч человек. Первый пароход уже пришел. Живой силы английскими войсками не обещает, вопрос еще не разрешен Парижской конференцией… Бриггс выражает полное желание работать всеми силами на нашу армию и помогать (ей) делом, а не словами…»
Через несколько дней прибыли в Новороссийск одиннадцать английских пароходов с тоннажем до 60 тыс. тонн.
Екатеринодарская английская миссия действительно оправдывала в полной мере свои обещания и свое дружеское отношение к России. Но вскоре мы узнали, что есть якобы «две Англии» и «две английских политики…» Что в наличии имелась и свободная английская живая сила, направленная, однако, в то время, когда назревало крушение Украины и Дона, на театр, совершенно второстепенный в стратегическом отношении, но имеющий мировое экономическое значение…
В середине ноября войска ген. Томсона вступили в Баку. В своем обращении к населению Азербейджана Томсон говорил: «От имени союзников Баку занимается великобританскими войсками. Меня сопровождают представители Франции и Соединенных Штатов и мы здесь находимся с ведома и полного согласия нового русского правительства (?)… Мы не забываем великих услуг, оказанных русским народом делу союзников в первые годины мировой войны. Союзники не могут возвратиться к себе домой, прежде чем не восстановят порядок в России и не доставят ей возможность занять свое место в ряду других народностей мира…» В своем обращении «К народам Северного Кавказа» Томсон давал обещания еще более конкретные: «…те войска, которые находятся в данный момент под моим командованием в Баку, являются лишь первой частью союзной армии, которая в скором времени займет Кавказ».
Генерал Форестье-Уокер, высадившийся 18 декабря с десантом в Батуме, говорил короче, лапидарнее и без лирических отступлений: «Британские войска заняли Батум во исполнение условий перемирия с Турцией и для того, чтобы обеспечить сохранение порядка в стране. Британское правительство не имеет намерения занимать страну навсегда». Далее следовал перечень назначенных членов «Совета по управлению областью» и угрозы суровыми карами, до смертной казни включительно, всем, кто проявит враждебное отношение к англичанам…
* * *
Мне необходимо было остановиться на утомительном, быть может, потоке речей, обращений, воззваний союзных представителей, ибо они создали в ту пору настроение на Юге России. Легко было верить в то, во что так сильно хотелось верить. «Слово», всем слышное, часто искреннее, будило подъем, надежды, иллюзии; но «дело» — не всем видное, приводило в смущение, в печаль. С первых же дней русская политика держав Согласия приняла характер двойственный, неопределенный и побуждала меня к особливой осторожности. Во всяком случае никогда за все время моего правления и командования на Юге России, я не давал державам Согласия ни письменно, ни устно никаких политических, территориальных и экономических обязательств за счет России. Во всех сношениях с их представителями я проводил тот взгляд, что помощь нам является их моральной обязанностью и вытекает из их же собственных интересов.
Это обстоятельство должно быть учтено в тот день, когда новая Россия будет сводить старые счеты со своими кредиторами.
Глава VI. Кубань: правительство Быча и Чрезвычайная рада
«Международное» положение Добровольческой Армии осложнялось во внутренней жизни непрекращавшимися тягостными трениями между ее командованием и кубанским правительством. Необходимо было во что бы то ни стало установить строго определенные взаимоотношения и государственную связь с Кубанью.
Каждый раз, когда я пишу о Кубани, во мне возникает чувство глубокой грусти. О горестных судьбах этой колыбели ранней славы Добровольчества, обильно орошенной его кровью… О кубанском казачестве — храбром, приветливом и чуждом совершенно политиканства своих верхов — казачестве, принесшем такие большие жертвы жизнью, кровью и достоянием в общей нашей борьбе… И о нашей розни — Добровольческих и кубанских правителей, не сумевших за 1½ года совместной жизни установить терпимые взаимоотношения — вопрос, который сыграл роковую роль в исходе южнорусского движения.
21 сентября 1918 г. был окончательно подготовлен проект конституции, устанавливающей на территории Добровольческой Армии единоличную диктатуру, с предоставлением особых прав Кубани: «Кубанская область — гласил раздел VI «Положения»[100] — пользуется правами автономии, во внутренних своих делах управляется особыми установлениями на основании особого законодательства».
Еще в период разработки «Положения» составители его в частном порядке обсуждали основные статьи совместно с некоторыми видными представителями кубанской общественности и власти[101], чтобы выяснить их отношение. Впечатление от этих собраний получилось неблагоприятное: кубанцы не удовлетворялись проектируемыми пределами автономии и отстаивали свободу внешних сношений Кубани, самостоятельность ее в области товарообмена и самостоятельную кубанскую армию; они совершенно непримиримо отнеслись к идее единоличной диктатуры, противопоставляя ей коллегиальную. При всем этом в качестве неопровержимого аргумента своих требований кубанцы ссылались обыкновенно на… декларацию Вильсона о самоопределении народов.
В октябре признано было необходимым ранее созыва Чрезвычайной рады вступить в официальные переговоры об организации власти с кубанским правительством. К переговорам в качестве «третьих лиц» были привлечены донские к.-д.-ты — председатель Донского крута Харламов, Зеелер и Воронков. 16 октября под председательством ген. Драгомирова состоялось предварительное заседание членов «Особого Совещания»[102] с донскими деятелями для установления общности взглядов и, как предпослал ген. Драгомиров, для «выяснения вопроса о возможности принятия нашего проекта в основу переговоров с кубанским правительством». «Быть может — говорил он — мы ошибаемся, и власть должна быть сконструирована на каких то иных началах»[103]… Совещание имело интимный и откровенный характер, сосредоточившись главным образом вокруг центрального вопроса — о диктатуре. Большинство членов совещания высказывалось за единоличную диктатуру, причем все сошлись в необходимости организации власти путем соглашения. Зеелер так формулировал это положение:
— Диктатура возникает не путем соглашения, а просто путем объявления. В нормальное время этот образ правления недопустим, но сейчас в условиях небывалой гражданской войны иначе конструировать власть не следует… Если имеется власть и сила, то нечего спрашивать, а нужно делать то, что является необходимым. Ну, а если (есть) колебания и нет уверенности в том, что все пройдет гладко, тогда давайте разговаривать…
Только два члена совещания склонялись к коллегиальной диктатуре, но и то не по принципиальным, а по тактическим соображениям — Степанов и Харламов. Первый, признавая эту форму власти «наиболее уродливой», останавливался на ней все же потому, что «насилие нежелательно, к соглашению мы не придем, а коллегиальная диктатура сама выльется… в форму единоличной… если реальная сила будет находиться в руках главнокомандующего». Второй — добавил, что соглашения надо искать не с главами правительств, а с представительными учреждениями и что соглашение с донским атаманом недопустимо.
26 окт. состоялось второе совещание уже совместно с кубанскими представителями[104], под председательством ген. Лукомского. Лица более одиозные для кубанских деятелей — ген. Драгомиров и Шульгин, участия в нем не приняли.
Председатель во вступительной речи указал, что взаимные трения не только в области гражданского управления, но и в чисто военных вопросах достигли такого напряжения, что «жить стало невозможно». Что и другой фактор — вероятность скорого окончания войны и появления союзников в Черном море — повелительно требует создания такого представительства, которое бы могло говорить авторитетно от имени Юга России… по крайней мере того, который «не запятнал себя связью с неприятелем». После этого был оглашен проект «Положения», и начался диспут, в котором все участники совещания объединились против кубанской группы[105], вернее, против ее руководителя — Быча.
Я остановлюсь на основных только мотивах взаимного расхождения.
Одна сторона рассматривала Добровольческую Армию, как фактор общегосударственного значения, взявший на себя задачу государственного строительства, к чему, по признанию Харламова, «местные власти стремились очень мало»… Другая — видела в Д. А. лишь «представительницу Ставропольской и Черноморской губерний», которая «не должна являться фактором политическим, управляющим страной».
Ген. Лукомский, не считая возможным в силу соображений внешней политики, теперь же вступать в соглашение с новообразованиями, союзными Германии, находил, однако, естественным, что в общую схему управления войдут неизбежно и эти, и другие районы России «по мере того, как они будут освобождаться от большевизма и отказываться от немецкой ориентации». Во всяком случае он считал необходимым, не дожидаясь создания «широкого фронта», теперь же, безотлагательно урегулировать отношения Кубани с Армией. Быч протестовал: «Кубань и Ставропольская губерния, которую представляет Добровольческая Армия, слишком ничтожны, удельный вес их слишком мал; в настоящий момент речь должна идти о широком фронте от Закавказья до Белоруссии… Большая ошибка винить земли, «запятнавшие себя немецкой ориентацией»… И Дон, и Грузия сделали это, спасая свой народ от физического истребления»…
Одна сторона видела спасение страны только в военной диктатуре, хотя и ограниченной местными автономиями, но допускающей наибольшую концентрацию власти в интересах вооруженной борьбы… Быч, отвергая диктатуру и признавая нецелесообразным парламентаризм, предлагал в качестве верховной власти сложную комбинацию: «представители договаривающихся государств должны образовать орган с решающим значением и этот орган выделит другой орган исполнительного значения… назначит командование и определит организацию армии»… «Мы должны — говорил он — заключить соглашение на таких основаниях…, при которых можно рассчитывать на присоединение без насилия других государственных образований… Власть должна быть организована путем сложения местных властей». Словом, на то «подчинение» Добровольческой Армии, которое проектируется Положением, не пойдет ни Грузия, ни Азербейджан, ни Украина, ни Дон. Не пойдет и Кубань, так как на это не согласятся прежде всего ее войска (?)…
Ни Быч, ни его противники ни одним словом не касались самого главного мотива, препятствовавшего объединению и предрешенного уже главенствующей на Кубани черноморской группой — принципа суверенности края — не временной только, а во веки.
Бычу возражал Харламов: «…установление общегосударственной власти путем сложения местных — путь очень сложный и длительный, а жизнь требует быстрого решения… Мне кажется, что Дон пойдет на предоставление (командованию) полноты власти в области военных и дипломатических вопросов, а в отдел о местной автономии придется внести поправки»…
Это последнее предложение и было повторено председателем, который в заключительном слове предъявил его, как conditio sine qua non Добровольческой Армии.
Кубанская группа обещала подготовить и представить до созыва Рады свой контрпроект, и совещание было закрыто. Контрпроекта мы не увидели, а вопрос о построении государственной власти был поставлен кубанским правительством впоследствии неожиданно на повестку Чрезвычайной рады.
* * *
Деловые заседания Чрезвычайной рады открылись 28 октября. Состав ее классовый определялся в 89% казаков и горцев и 11% иногородних[106]. По общественному положению — 25% офицеров, 15% прочей казачьей и иногородней интеллигенции и 60% рядовых казаков и крестьян. Политической физиономии Рада в массе своей не имела никакой; отношение ее к Армии было вполне благоприятным, но преобладающее политическое течение среди кубанских вожаков определилось с первых же шагов Рады — избранием в председатели Рябовола[107] — лидера черноморцев — социалиста (в казачьем смысле слова), украинофила, самостийника и явного недоброжелателя Добровольческой Армии.
В первый же день Рада обратилась с «горячим приветствием к славной Добровольческой Армии и родным сынам Кубани, льющим свою кровь в едином и совместном подвиге тяжелой борьбы». А 30 октября «осведомившись о полном изгнании из пределов Кубанского края полчищ большевиков», обратилась и лично к главнокомандующему: «…президиум с гордостью свидетельствует, что Вы до конца довели принятое решение освободить Кубанский край. Никакие невзгоды не поколебали этой решимости. Ваше твердое и непоколебимое стремление к намеченной цели, завершившееся освобождением Кубани, внушает полную веру в Вас и беспредельную надежду на доблестную армию».
1 ноября происходило торжественное открытие Рады. После молебна в войсковом соборе, мы отправились в здание городского театра, заполненного до верхов, кроме официальных участников торжества, многочисленными посетителями — кубанцами и «русскими людьми».
Атаман во вступительном слове приветствовал Добровольческую Армию, которая вместе с «Законодательной радой бережно, благоговейно разобрали (некогда) стяг власти и блюли его, чтобы в этот радостный день передать его хозяевам кубанского края»… После этого слово было предоставлено мне, и я произнес речь, являвшуюся вместе с тем декларацией Добровольческой власти[108]:
«С полей Ставрополя, где много дней идет кровопролитное сражение, я приехал к вам на несколько часов, чтобы приветствовать Кубанскую Краевую Раду и высказать, чем живет, во что верит, на что надеется Добровольческая Армия.
Завтра годовщина зарождения Армии. 2 ноября приехал в Новочеркасск ген. Алексеев, собрал вокруг себя 200 офицеров — бездомных, изгнанных, голодных, получив от России первый взнос, в количестве 400 руб. на формирование Армии…
В феврале месяце, видя полную невозможность оставаться и бороться на Дону, Добровольческая Армия, предводимая генералом Корниловым, двинулась на Кубань. С тех пор судьбы ее тесно переплелись с судьбами Кубани и в боевом содружестве, и в перенесенных страданиях, и в тысячах братских могил, и в радости ратных побед.
Добровольцы шли в жару и стужу, переносили невероятные лишения, гибли тысячами… Шли бескорыстно: деревянный крест или жизнь калеки — были уделом большинства.
И только одна заветная мысль, одна яркая надежда, одно желание одухотворяло всех — спасти Россию.
В такой небывало-трудной обстановке прошел весь первый Кубанский поход.
Когда в мае принято было твердое решение в первую очередь приступить к освобождению Задонья и Кубани, командование Добровольческой Армии встретило осуждение со всех сторон. Все настойчиво требовали нашего движения на север. И Донское правительство, и киевские военные и политические круги, и московские центры, и кадетские лидеры, и целый ряд общественных политических деятелей всех оттенков.
Но решение наше осталось неизменным. Добровольческая Армия начала операцию, которая увенчалась освобождением Задонья, Кубани, Черноморской и большей части Ставропольской губернии от власти большевиков.
Это не было «частным предприятием», а велением совести и сознанием государственной необходимости. Командование Добровольческой Армии взяло на себя за этот шаг нравственную ответственность перед Родиной, глубоко веря, что на Кубани нет предателей, что, когда придет часть освобождения, вольная Кубань не порвет связи с Добровольческой Армией и пошлет своих сынов в рядах ее вглубь России, в смертном томлении ждущей избавления.
Этого повелительно требует не только долг перед Родиной, не только честь, но и прямые интересы Кубани. Разве возможна мирная жизнь на Кубани, разве будут обеспечены ваши многострадальные станицы от нового еще горшего нашествия большевиков, когда красная власть, прочно засев в Москве, отбросит своими полчищами Поволжский фронт, сдавит с севера и востока Донскую область и хлынет к нам? Разве могут жить спокойно кавказские и линейные станицы, когда у Ставрополя, Св. Креста и Минеральных Вод собираются десятки тысяч красных? А грозная опасность уже близка. Имеются достоверные сведения о скоплении масс большевиков на огромном фронте от Белгорода до Царицына. На Украине, при участии немцев, подготовляется совместное выступление большевиков и самостийных украинских социалистов, грозящее и этот край превратить в Совдепию.
. . . . . . . . . . . . . . .
При таком положении может ли Кубань успокоиться и заняться только своими внутренними делами?
Нет! Пора бросить споры, интриги, местничество. Все для борьбы. Большевизм должен быть раздавлен. Россия должна быть освобождена. Иначе не пойдет впрок ваше собственное благополучие, которое станет игрушкой в руках своих и чужих врагов России и народа русского.
Добровольческая Армия, в рядах которой доблестно сражается множество кубанских казаков, явилась сюда не для завоевания, а для освобождения. И то освобождение, которое другим досталось ценою национального унижения, потери политической самостоятельности и экономического рабства, — Кубань получила без цепей, без ярма, ценою лишь святой крови добровольцев, слетевшихся со всех концов России, и славных Кубанских казаков.
А стоило это крови не малой. Добровольческая Армия за два похода на Кубань потеряла своих вождей, великих русских патриотов генералов Корнилова и Алексеева, доблестного генерала Маркова, потеряла до 30 тысяч добровольцев и казаков. Особенно тяжкие потери легли на старые Добровольческие части — 1-й Офицерский генерала Маркова полк и Корниловский полк. Известно ли вам, господа, что Корниловский полк, насчитывающий сегодня едва 500 бойцов, провел через свои ряды свыше 5 тысяч!
В этих потоках крови, в этих длинных списках павших на поле брани, наиболее почетное место принадлежит великим страстотерпцам — русскому офицерству.
Я предлагаю Краевой Раде, еще раз поднявшись, почтить тихим, молитвенным молчанием светлую память тех, кто душу свою положил за спасение России и за счастье Кубани…
По мере роста сил Добровольческой Армии и боевых успехов, растет число ее друзей и крепнет злоба ее врагов.
Я с полным удовлетворением должен признать, что повсюду по Кубанскому краю, среди родного нам по крови и по духу славного, приветливого, храброго Кубанского казачества Добровольческая Армия встречала и встречает радушный, сердечный прием и гостеприимный кров. Но в последнее время идет широкая агитация, отчасти оплачиваемая иноземными деньгами, отчасти подогреваемая людьми, которые жадными руками тянутся к власти, не разбирая способов и средств. Хотят поселить рознь в рядах Армии и особенно между кубанскими казаками и добровольцами. Хотят привести Армию в то жалкое состояние, в каком она была зимою 1917 года. Это те самые люди, которые смиренно кланялись большевикам, скрывались в подполье или прятались за Добровольческие штыки.
И это делается тогда, когда Добровольческая Армия, не зная дня отдыха, в кровавых боях напрягает огромные усилия, чтобы сломить все еще сильное сопротивление врага, когда изо дня в день льется кровь и гибнет цвет русской молодежи.
Мне хочется сказать этим господам: Вы думаете, что опасность более не угрожает вашей драгоценной жизни? Напрасно. Борьба с большевизмом далеко еще не окончена. Идет самый сильный, самый страшный девятый вал… И потому не трогайте Армию. Не играйте с огнем. Пока огонь в железных стенах, он греет. Но когда вырвется наружу, произойдет пожар. И кто знает, не на ваши ли головы обрушатся расшатанные вами подгоревшие балки?
России нужна сильная, могучая армия.
В кровавой жестокой борьбе, близкого конца которой еще не видно, нельзя идти врознь. Иначе, если все-таки несомненна конечная победа, то праздновать ее мы будем только разве тризной на трупах бесконечного числа загубленных людей, на развалинах русского народного достояния и русской государственности.
Не должно быть Армии Добровольческой, Донской, Кубанской, Сибирской. Должна быть единая Русская Армия, с единым фронтом, единым командованием, облеченным полной мощью, и ответственным лишь перед русским народом в лице его будущей законной верховной власти.
И теперь, когда близится час окончания мировой войны, когда все государства в лице лучших своих «мужей совета», облеченных доверием народов, будут решать судьбу мира, кем будет представлена Россия? Теми ли, что надругались над всем святым нашим, которые плюнули в душу русского человека и грязным большевицким сапогом растоптали ее? Теми ли, что предательски отвернулись от своей Родины и вражескими штыками создали себе временное и призрачное благополучие? Теми ли, наконец, кто честно и беззаветно борются за спасение Родины, но говорят на разных языках и до сих пор не могут никак столковаться друг с другом?
За шесть с лишним лет двух войн, за время русской революции я достаточно часто смотрел в глаза смерти и перенес достаточно тяжелые нравственные пытки. Но когда я подумаю о том позоре, о том страшном несчастии, когда поверженную в прах и раздерганную в клочья Родину нашу на предстоящем судбище народов некому даже защитить, мне хочется рыдать от тяжкой, невыносимой боли…
Ее — Родную нашу, любимую, больную — мы должны поднять на свои плечи, должны довести до международного судбища, чтобы там она могла хотя тихим и слабым голосом сказать, что требует русский народ.
Да, требует!
Ибо я верую и исповедую, что великий русский народ, оправившись от болезни, стряхнув наваждение, станет вновь страшною силою, которая никогда не забудет ни тех держав, что в дни его несчастья любовно, бескорыстно поддержат его, ни тех, что с небывалой жестокостью и эгоизмом высасывали из него последние соки и толкали в бездну анархии.
Но для этого нужна единая временная власть и единая вооруженная сила, на которую могла бы опереться эта власть.
Добровольческая Армия, собирая вокруг себя и вооруженные силы, и людей государственного опыта, приглашает все части русского государства, признающие единую неделимую Россию, сомкнуться вокруг нас для совместного государственного строительства, для общей борьбы с врагами России, для единого представительства и защиты русских интересов на будущем мирном конгрессе.
Такое единение всех государственных образований и всех государственно мыслящих русских людей тем более возможно, что Добровольческая Армия, ведя борьбу за самое бытие России, не преследует никаких реакционных целей и не предрешает ни формы будущего образа правления, ни даже тех путей, какими русский народ объявит свою волю. От нас требуют партийного флага. Но разве трехцветное знамя Великодержавной России не выше всех партийных флагов? Разве вы не видите, как в кровавых боях, изо дня в день, под этим знаменем самоотверженно борются «за Русь святую», умирают и побеждают доблестные воины Добровольческой Армии? Единение возможно и по тому, что Добровольческая Армии признает необходимость и теперь, и в будущем самой широкой автономии составных частей русского государства и крайне бережного отношения к вековому укладу казачьего быта.
И с чувством внутреннего удовлетворения я могу сказать, что теперь уже, невзирая на некоторое расхождение, выяснилась возможность единения нашего с Доном, Крымом, Тереком, Арменией, Закаспийской областью… Возможно единение и с Украиной, когда, быть может, ценою тяжких внутренних потрясений, она сбросит с себя иноземное иго и вспомнит о сыновних обязанностях перед общей Родиной. Возможно и с мирным грузинским народом, когда изменится политика его правительства, которое воздвигнуло гонение на русских людей, присвоило себе русское государственное имущество, захватило в свое незаконное и несправедливое управление Сочинский округ и толпами красноармейцев угрожает русской Добровольческой Армии.
Наконец, в последние дни появилось новое государственное образование в Сибири, правительство которого объявило себя всероссийской государственной властью. Добровольческая Армия не имеет решительно никаких оснований признавать Уфимское правительство Всероссийской властью. Тем более, что, судя по известиям, проникшим в печать, это правительство ответственно и направляется Учредительным Собранием первого созыва, возникшим в дни народного помешательства, составленным на половину из анархических элементов и не пользующимся в стране ни малейшим нравственным авторитетом.
Но, наряду с этим, Добровольческая Армия от души приветствует мысль собирания Русской земли, положенную в основание Сибирского объединения, признает его исключительно важное значение и находит не только возможным, но и необходимым, путем взаимных соглашений направить русские силы востока и юга к одной общей цели возрождения Великодержавной России.
Проходя свой крестный путь, считая себя преемницей Русской Армии, Добровольческая Армия в самых тяжелых, казалось, безвыходных обстоятельствах своей жизни, оставалась верной договорам с союзными державами и ни на одну минуту не запятнала себя предательством. События последних дней доказали, что прямая и честная политика вернее… И мы с открытой душой шлем свои сердечные пожелания доблестным войскам наших союзников.
В предвидении близких переговоров о перемирии, представителю Добровольческой Армии при союзных посольствах предложено было еще 12 октября предъявить им следующие основания:
- Единство представительства России на мирной конференции, с исключением из него делегатов большевицких и тех территориальных образований, которые в своих основных принципах расходятся с целями Добровольческой Армии, т. е. по вопросу об единой, неделимой России.
- Упразднение договоров, заключенных с Германией или ее союзниками. Восстановление нарушенных такими договорами прав, возмещение причиненных этим путем убытков (возврат золота, военного и торгового флота, предметов вооружения, подвижного состава железных дорог и проч.) и прекращение вывоза из России продовольствия и имущества.
- Очищение Германией и ее союзниками русской территории в пределах границ 1914 года, включая и Финляндию.
Такое же требование признается необходимым и в отношении Польши. - Занятие на русской территории, оккупированной ныне германо-австро-турецкими войсками, главнейших стратегических пунктов русскими частями или же временно войсками держав Согласия до момента сформирования достаточно сильных русских отрядов.
- Немедленный обмен военнопленными.
- Обязательство Германии и ее союзников не препятствовать каким бы то ни было способом водворению в России единого прочного строя.
В такое исключительное, полное огромной исторической важности время, собралась Кубанская Краевая Рада строить жизнь Кубани. Собрались русские люди — Кубанские казаки, умудренные горьким опытом и тяжелыми испытаниями. Среди вас я вижу много моих боевых соратников по славным походам нашим, своими подвигами и кровью добывавших свободу Кубани.
Позвольте же выразить вам от имени Добровольческой Армии самый искренний, самый горячий привет.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дай Бог счастья Кубанскому Краю, дорогому для всех нас по тем душевным переживаниям — и тяжким и радостным, которые связаны с безбрежными его степями, гостеприимными станицами и родными могилами».
Осведомительное бюро кубанского правительства, описывая торжество открытия Рады, между прочим сообщало: «…Речь Деникина… вызвала бурные аплодисменты членов Рады, но такие же аплодисменты вызвала и речь представителя Украинского национального союза — безусловного самостийника»…
Быч, впрочем, умерил горячий пыл седовласого «батьки Левицкого», выразив в своей ответной речи уверенность, что Украина и Кубань «побачат свит сонца, спокий и сщастя под великою Всероссийскою хведеративною кришею»…
* * *
После взаимного обмена любезностями, Рада приступила к работе. 11 ноября Быч внес проект декларации, определявший основные вехи кубанской политики:
- «Образование на территории бывшего государства Российского самостоятельных государственных образований и принятие ими на себя верховной власти было актом неизбежным и, в то же время, актом самосохранения.
- Основной задачей всех этих государственных образований является борьба с большевизмом, далеко еще не изжившим себя в Центральной и Северной России.
- Для успешной борьбы необходимо в самое ближайшее время образование единого боевого фронта и единого командования[109].
- Необходима организация единого представительства от южнорусских государственных образований на предстоящей мирной конференции. Необходимо немедленно, не ожидая образования федеративной власти в освобожденных от анархии областях, принять меры к организации общего международного представительства.
- Для достижения целей, поставленных §§ 3 и 4, необходимо образование южнорусского союза на федеративных началах.
- Воссоздание России возможно в форме Всероссийской федеративной республики.
- Кубанский край должен войти в состав Российской федерации как член федерации»[110].
- Кубанская Краевая Рада, ставя своей задачей борьбу с большевизмом, стремится к проведению в жизнь принципов широкого народовластия.
- Восстановление будущей формы правления в государстве Российском население кубанского края ставит в зависимость от волеизъявления народа во Всероссийском Учредительном собрании нового созыва.
В заключительном своем слове Быч повторил, что у Украины, Дона, Кубани, Грузии и т. д. одна дорога и противоположности интересов нет. Что в этом объединении должна участвовать и Добровольческая армия, как «носительница государственной идеи»[111].
Напрасно ген. Лукомский в закрытой части заседания доказывал, что «таким путем создается коллегиальное, многоголовое собрание, которому будет всецело подчинено командование и которое будет вмешиваться в военные дела; напрасно, признавая необходимость автономии Кубани, просил повременить только с решением вопроса об организации государственной власти до соглашения с Добровольческой Армией… Рада, отвергнув необходимость государственной связи с армией и не сделав никакой попытки к соглашению, почти единогласно приняла «тезисы Быча».
Ждать соглашения столь разнородных элементов, как Украина, Дон, Кубань, Терек, Азербейджан, Грузия, Союз горских народов, из которых некоторые были еще под властью большевиков, другие порвали совершенно с русской государственностью (Грузия, Азербейджан), значило отложить дело объединения на долгое время, если не навсегда. Вручить судьбу национального противобольшевицкого движения и Русской армии в руки Петлюры, Быча, Хана Хойского, Ноя Жордания и Топы Чермоева представлялось злой и неуместной шуткой. Я не говорю уже о том впечатлении, которое должно было произвести в армии одностороннее предрешение государственного строя России, от чего так долго и с таким трудом мы предохраняли ее идеологию.
В тот же день, переговорив со мною, ген. Лукомский сделал в Раде от моего имени заявление об отозвании представителей Армии, указав, что «в дальнейших своих работах главнокомандующий не может быть связан решением Рады».
Это заявление, принятое Радой, казачеством и русской общественностью, как разрыв, произвело большое впечатление. В самой Раде начались бурные прения, в особенности после горячей речи полк. Шкуро, который говорил «о недовольстве и брожении, глухо растущем среди строевого казачества и лиц высшего и низшего командования» и предостерегал: «знайте, если Добровольческая армия уйдет от нас, то мы погибнем»[112].
Это была несомненная правда.
Черноморские лидеры пришли в большое волнение. С кафедры Чрезвычайной рады Быч убеждал присутствующих не верить «злонамеренным слухам о разрыве», утверждая, что «разрыва нет и его быть не может», что все вопросы должны быть разрешены по взаимному соглашению». Лидер самостийников И. Макаренко приписывал эти «слухи» «толпе, жадной до сенсации и разнесшей эту весть по базарам, городам и селам».
Тревожные события, однако, назревали не на шутку. В один из ближайших дней ген. Романовский доложил мне, что ген. Покровский и полк. Шкуро, введя в Екатеринодар свои конвойные сотни, решили произвести переворот, предполагая расправиться с черноморскими лидерами и понудить атамана, полковника Филимонова, принять на себя всю полноту власти. Филимонов, к которому они обратились с этим предложением, пришел в большое смущение и наотрез отказался.
Я приказал начальнику штаба вызвать ген. Покровского и передать ему, что категорически воспрещаю выступление.
Кубанские правители считали, тем не менее, несомненным участие в предполагавшемся перевороте и Добровольческих частей. Позднее в мои руки попала «диспозиция на случай тревоги», составленная кубанским комендантом Екатеринодара, полк. Ледовским, и кубанским «военным министром» полк. Савицким. В ней указывалось подробно занятие городских кварталов «верными правительству» кубанскими запасными частями, которым вменялось в обязанность встречать пулеметами всякую воинскую часть, показавшуюся на улицах города. Таким образом, случайный выход на ученье ничего не ведавшего Корниловского полка, расположенного тогда в Екатеринодаре, мог вызвать последствия роковые (или может быть спасительные?) для взаимоотношений Добровольческой Армии с Кубанью и, следовательно, отразиться весьма серьезно на судьбах движения.
Доверие к «верным» частям было, однако, не велико. 14-го или 15-го ноября меня посетили кубанский атаман, Быч и Рябовол и в присутствии генералов Драгомирова и Лукомского изложили волнующие их сведения, прося защиты. Кубанским правителям пришлось выслушать много горьких слов по поводу их работы во вред Армии; особенно от генерала Драгомирова, который с этого дня стал пользоваться особой ненавистью черноморских кругов.
В заключение я требовал изменения кубанской политики в отношении Армии и заверил, что насильственных мер допущено не будет.
В тот же день состоялось бурное заседание кубанского правительства. Представители оппозиции обрушились на Быча, обвиняя его в неискренности и самочинных действиях: вместо поддержки армии он выступил со своими «тезисами», «не обсудив своей речи с членами правительства» (Скобцов); благодаря такому отношению его, не так давно «мы едва не сделались подданными Украины (Сушков), «в наших действиях не было искренности в отношении Армии, которая нам братская; на всех заседаниях у нас была только ругань ее» (Воробьев) и т. д. Быч оправдывался: он: «не предполагал, что представители Армии могут уйти из Рады», его «ошибка, что он не представил «им» контрпроекта, недоразумение можно уладить»… Быч «беседовал с президиумом Рады, решено создать согласительную комиссию… Рада встретит овациями все «их» заявления»[113]…
В результате переговоров начались заседания согласительной комиссии в составе 16 членов с каждой стороны во главе с И. Макаренко от кубанцев и ген. Лукомским от Добровольческой Армии. Вопрос о «тезисах Быча» осложнился еще принятой уже Радой статьей «Положения об управлении кубанским краем» об особом кубанском гражданстве, обращавшем всех нас в иностранцев, проживание которых на территории Кубани и юридические права зависели всецело от усмотрения кубанской власти. Комиссия не привела ни к каким существенным результатам, подтвердив лишь непримиримое внутреннее расхождение сторон. Прикрывая эту пропасть и свое бессилие перекинуть через нее мост, она внесла в Раду явно беспомощное предложение, принятое 24 ноября единогласно, без прений: «первые два пункта постановления Рады 11 ноября («тезисы Быча») должны рассматриваться, как удостоверение существующего политического положения, а последние 7 пунктов — (только) как выражение мнений и пожеланий Рады»…
Непосредственные переговоры, однако, кубанское правительство более не возобновляло. Рада позднейшими постановлениями подтвердила «тезисы Быча».
В этом направлении кубанская власть получила большую моральную поддержку от донского атамана, ген. Краснова, который в то время, когда еще не назрела окончательная катастрофа на северном фронте Дона, проявлял полную солидарность с Кубанью во всех спорных вопросах ее с командованием Добр. Ар. и обещал поддержку кубанскому правительству[114] — «Нужно, чтобы Добровольческая Армия смотрела более жизненно на эти вопросы (о создании общей власти) — писал он, между прочим Кубанскому послу П. Макаренко[115] — и не требовала от донских и кубанских казаков невозможных жертв. Торговаться мы не умеем, и торговать кровью донских, да, думаю, и кубанских казаков не будем. Надо, чтобы Добровольческая Армия стала на практический путь работы с казаками, а не за счет казаков»…
Эта тирада в отношении Добровольцев, приносивших несчетное число жизней в борьбе за Россию, за Кубань, за Дон, была глубоко оскорбительна.
Кубанские самостийники относились, впрочем, к атаману Краснову с большим недоверием и осторожностью («самовластие и реакционность»); но в борьбе с Добровольческой Армией видели в нем естественного своего союзника. И то не до конца: донской атаман ведь все время призывал нас бросить Кубань и идти на север…
Все осталось по прежнему: двоевластие, две взаимно исключающих друг друга конституции (края и Армии) и в качестве единственного источника права — принятое Добровольческой Армией и оспариваемое кубанцами — «Положение о полевом управления войск».
* * *
И так во второй[116] раз я спасал «кубанское народоправство».
В своем решении я не был одинок. Однажды на докладе генералов Драгомирова и Лукомского зашел разговор о том, что общественное мнение обвиняет командование в попустительстве воинствующему сепаратизму «черноморской группы». Я сказал: — Дело не в степени решимости, а в холодном учете таких факторов, как военно-политическое положение и состав Армии. Быть может, однако, я ошибаюсь. И если вы скажете мне сейчас, что насильственные меры приведут к положительным результатам, я завтра же Корниловским полком разгромлю кубанское правительство…
Оба ответили — «нет».
Были, однако, группы, задавшиеся целью вызвать настолько серьезный разрыв между кубанской и добровольческой властью, чтобы принудить командование к решительным шагам. Одним из результатов их деятельности без сомнения было последовавшее позднее убийство Рябовола. Цели своей эти группы не достигли. Но то, что не удалось им, к концу 19 года будет сделано руками самих кубанских самостийников, поставивших в совершенно невыносимые условия жизнь и деятельность Армии.
Глава VII. Кубань: атаман Филимонов, правительство Сушкова и Законодательная рада
5 декабря Рада утвердила кубанскую конституцию[117], предпослав ей следующую декларацию:
«Мысля себя неразрывно связанным с Россией, единой и свободной, население Кубани твердо стоит на прежней своей позиции: Россия должна быть федеративной республикой свободных народов и земель, а Кубань — отдельной составной ее частью.
Ныне же Кубанский край, стоя на пути государственного строительства, сохраняет за собой всю полноту государственной власти в пределах Края и управляется органами, поставленными его населением».
«Носителями законодательной власти» в Кубанском крае признаны были Краевая и Законодательная рада, а «носителями исполнительной» — безвластный атаман и ответственное перед Законодательной радой правительство. При обсуждении текста присяги для атамана и членов рад в заседании правительства Быча произошло разногласие: часть членов настаивала на оставлении употребленной в проекте фразы — «нося в сердце своем любовь к матери России» (вариант — «к Родине»); Быч и большинство других требовали исключения приведенных слов, на том основании, что «присяга имеет целью связать человека в отношении честного исполнения возложенных на него определенных обязанностей; обязать же кого либо чувством любви к матери России или к Родине нельзя»[118]…
В результате оба понятия были из текста изъяты, и кубанские правители обязывались направить свой путь к «пользе Государственной и к величию Кубанского Края».
Атаманский вопрос составлял главное событие, вокруг которого сосредоточились усилия борющихся групп. Наиболее сильной по организованности и численности была «черноморская» группа, тем более, что весь административный аппарат, денежные средства, казенная печать и «осведомительный отдел» сосредоточивались в руках правительства Быча и направлены были всецело в интересах его единомышленников. Оппозиция, по преимуществу депутаты линейных отделов, была раздроблена, группируясь вокруг отдельных членов Рады, разбивая свои голоса в пользу нескольких кандидатов — полк. Филимонова, Ляхова, Покровского и других генералов[119], тогда как «черноморцы» единодушно проводили в атаманы Быча. Только перед самыми выборами по инициативе полковника Чекалова образовалась более сильная организация, по преимуществу линейцев, принявшая название «казачий круг», основавшая газету и поставившая своей задачей «борьбу с сепаратизмом и демагогией правительственной группы и полное соглашение с командным составом Добровольческой армии».
К декабрю в Раде шло состязание из-за атаманской булавы только уже между Бычом и Филимоновым — средствами весьма неразборчивыми, практикуемыми, впрочем, во всех парламентах мира. В числе интимных деталей этой борьбы можно отметить небезынтересный случай: лицо, близкое к Бычу и ведавшее официально политической работой в его кабинете, вело кампанию за Филимонова, освещая и ему, и председателю Особого Совещания всю игру противной стороны…
Командование приняло также участие в атаманских выборах, но вполне лояльное, оказав моральное содействие полк. Филимонову; заинтересованные круги были осведомлены, что избрание Филимонова даст прочное основание для соглашения Кубани с Добровольческой армией. Мне указывали настоятельно еще на другую возможность — поддержать кандидатуру ген. Покровского… Покровский сумел бы, вероятно, мерами суровыми и кровавыми подавить кубанскую оппозицию, но пошла ли бы за ним казачья масса и куда повел бы он ее — этого никто предугадать не мог.
В разгаре предвыборной борьбы по распоряжению куб. военного прокурора Лукина был арестован помощник Быча по управлению ведомством продовольствия — ген. Букретов по обвинению в ряде злоупотреблений. Оппозиция выдвинула и прямые обвинения против Быча — в заключении им заведомо убыточных для края договоров… Атмосфера обострялась до крайности, и в Раде ораторы не жалели черных красок для опозорения противных кандидатов. Под влиянием всех этих обстоятельств Быч снял свою кандидатуру в атаманы; Рада не приняла отказа; 5 декабря состоялась баллотировка, и полк. Филимонов 275-ю голосами был переизбран кубанским атаманом.
Председателем правительства стал Сушков, членами такие же умеренные представители бывшей оппозиции, в том числе большие доброжелатели Армии — полковники Н. Успенский (управ. внутр. дл.) и Науменко (воен. управл.). Создавалась, таким образом, как будто благоприятная обстановка для урегулирования наших взаимоотношений…
Но над правительством довлела Законодательная рада, впитавшая в себя наиболее активные элементы «черноморской группы». Еще в последние дни Краевой рады (13 февр.), новая оппозиция — прежняя правительственная партия — показала, что она далеко не бессильна… Под ее ударами по вопросу о «недостаточно настойчивом и энергичном осуществлении постановлений Рады» 13 марта Сушков и весь состав правительства сочли себя вынужденными подать в отставку. Под впечатлением этого правительственного кризиса через два дня состоялось закрытие Краевой рады, которую атаман напутствовал словами: «…я расстаюсь с вами, господа, с чувством неудовлетворения… Смысл и ценность (ваших решений) заключаются в том, чтобы вносить спокойствие, порядок, единение… И вот мне думается, что этого единения нет. Следующее наше свидание поэтому будет скорее, чем вы желали бы».
Рада обласкала всех: атамана Филимонова — линейца и автономиста — из полковников произвела через чин в генерал-лейтенанты; выразила желание о производстве в генерал-майоры полковника Шкуро — инициатора предполагавшегося переворота, приверженца Добровольческой Армии — «за выдающиеся военные подвиги»; и б. управляющего военным ведомством, полковника Савицкого — шовиниста и самостийника — «за самоотверженную защиту прав и идей кубанского казачьего войска и Краевой рады перед высшим командованием»[120].
Всех почтила, и всем искренно рукоплескала.
С 13 февраля в продолжение почти трех месяцев длился перманентный кризис правительства. Все усилия атамана сформировать новое правительство оказались безрезультатными, и у власти оставалось «временно» старое. Не выражая формально недоверия правительству Сушкова, Законодательная рада подвергала его, как и командование, поношению в каждом своем заседании, в каждом номере своего официоза «Кубанский край», издававшегося к тому же в краевой типографии, на счет казны… Газета в политическом задоре, пороча всемерно кубанское правительство и Добровольческую Армию, дошла даже до восхваления большевизма и призыва к отказу исполнять распоряжения командования[121]. Против Рады в формах более сдержанных выступали правительственный орган «Вольная Кубань» и листовки «культурно просветительного отдела» и с большой резкостью — «российская печать».
Создавалось положение, напоминавшее в миниатюре взаимоотношения Временного правительства и Совета раб. и солдатск. депутатов, — положение, которое Сушков, не без основания, так определил в последней своей речи: «…Вы хотите свалить правительство до войскового атамана включительно, но взять власть вы боитесь. Вы протягиваете к власти дрожащие руки. Действуйте прямо, не прикрываясь красивыми покровами. Берите власть, от которой правительство отказывалось открыто»[122].
5 мая, после резолюции недоверия, вынесенной наконец Законодательной радой, правительство Сушкова ушло в отставку. Его сменило правительство Курганского, составленное из лиц «черноморской группы», враждебное Армии.
Эта внутренняя рознь, поражавшая территорию войны и ближайшего тыла, отражалась чрезвычайно вредно на интересах борьбы. Она накопляла горючий материал в тылу и на фронте, понижала воодушевление кубанских войск и казачества, парализовала деятельность правительства, чувствовавшаго себя непрочным, и тем вносила большое расстройство в хозяйственно-экономическую жизнь края.
* * *
Междоусобная борьба кубанских деятелей имела характер чисто политический. Борьба за власть. Если не считать небольшой группы крупной кубанской буржуазии (Бабкин, Маймулин и др.), преследовавшей интересы своего класса и выдвигавшей своим орудием ген. Покровского, то вне рамок общероссийского вопроса, в области социального уклада и своеобразного казачьего демократизма, оба сектора кубанской общественности существенно не расходились. Главнейшия обвинения, которые предъявлял Рябовол и Законодательная рада правительству Сушкова, сводились к тому, что оно не проводит немедленного объединения новообразований Юга и выделения Кубанской армии и не ведет борьбы, а наоборот поддерживает дружбу с Добровольческой Армией[123].
Командование и Особое Совещание в свою очередь совершенно не вмешивались во внутренние дела Кубани, поскольку они не затрагивали общенациональной идеи борьбы, единства Армии и вопроса ее снабжения. Но и эти вопросы оказались почти неразрешимыми, ставя правительство Сушкова между молотом и наковальней, вызывая гнев оппозиции и неудовольствие командования, не всегда считавшегося с исключительной трудностью положения и с фактом подневольного бытия атамана и правительства. Не считая возможным переход власти в крае всецело в руки самостийников и, вместе с тем, избегая неизбежно кровавого переворота, мы — и я, и Филимонов — выходили естественно на скользкий и зыбкий путь компромиссов.
13 февраля Рада постановила «не позже марта созвать в Екатеринодаре конференцию из представителей Дона, Кубани, Терека, Дагестана, Крыма, Армении, Азербейджана и т. д.[124] на предмет составления и принятия союзного договора и конституции». Сушков во исполнение этого постановления решил обратиться к правительствам этих территорий с приглашением прислать своих представителей на конференцию к 5 мая. Такое же приглашение прислано было и мне[125]. Председатель Особого Совещания ген. Драгомиров ответил от моего имени отказом[126], мотивируя его следующими положениями: 1) командование может участвовать только в такой конференции, которая, приняла бы принцип «воссоздания Единой и Неделимой России с предоставлением самоуправления отдельным ее областям»; 2) командование отказывается входить в соглашение с теми новообразованиями, «которые строят свое благополучие на отторжении от России»; 3) в частности Грузия находится в состоянии войны с Добровольческой Армией, и приезд грузинских представителей поэтому не допустим; 4) Горские народы Северного Кавказа и Дагестана «находятся под верховным управлением главнокомандующего, а потому посылка им приглашений, минуя главнокомандующего, будет рассматриваться, как действие явно враждебное».
Конференция не состоялась. Я считаю своей ошибкой воспрепятствование ее осуществлению. Опасения наши в отношении усиления таким путем центробежных течений были вероятно преувеличены. Между тем, картина, которую представила бы екатеринодарская конференция, преломив в горниле словопрений все вожделения окраин — я убежден в том — была бы достаточно внушительна, чтобы разрушить в конец легенду о спасительности в то время лозунга общей «федерации» или «конфедерации» в борьбе Юга за освобождение России.
В перечне «держав», которые приглашались на конференцию, на этот раз отсутствовала Украина. Атаман Петлюра, потеряв Киев, вел в это время неудачную борьбу за последний клочок украинской земли возле Шепетовки. Официально Кубань с начала выступления Петлюры «сохраняла нейтралитет в борьбе между правительством гетмана и организациями Петлюры и Винниченко». Тайно — связь кубанских самостийников с петлюровским штабом, начавшаяся задолго до переворота, не прекращалась, будучи направлена острием своим против Добровольческой Армии. Петлюра несомненно имел основание тотчас по вступлении в Киев обратиться с приветом в лице Рябовола «к братам по крови, украинскому, кубанскому лыцарству»…[127] и говорить об «объяднани украинского нарида вид Кубани по Сян…» На заседании 15 ноября председатель перваго правительства Быч, по поводу предполагавшегося мною выдвижения дивизии Май Маевского в Донецкий район для прикрытия левого фланга Донской армии и Ростовского направления от вторжения большевиков, сделал заявление[128]: «…Добр. Армия бросает войска на Украину. И если она поддержит гетманское правительство, то нам казакам это будет тяжело. Я это буржуазное правительство поддерживать не могу»…
Таким образом, государственные по внешнему своему впечатлению речи Быча и «черноморцев» о «широком фронте», о «союзе от Закавказья до Белоруссии» оказались только тактическим приемом. Всего месяцем раньше, когда Украина твердо блюда идею суверенности, кубанский атаман и правительство «приветствовали его светлость (пана гетмана) и правительство державы украинской» и писали им: «буде на то воспоследует согласие Вашей Светлости, (мы решили) поставить вопрос о заключении в ближайшее время соглашения… Питая уверенность, что исстари связанные… полной ярких примеров борьбой за независимость Украины и Кубани, (обе страны) вновь явят пример могучего братского союза»[129]… Но когда 1 ноября гетман объявил грамоту о федерации с Россией и вскоре после этого у Белой Церкви зашевелился Петлюра, отношения изменились: в кубанской политике произошел крупный сдвиг, как раз обратный тому, который повернул Добровольчество в сторону единения с Украиной. Кубанские самостийники строили «широкий фронт» не для этой цели. Это был фронт центробежных сил, на котором естественно Добровольческой Армии места не находилось.
Осенью 1918 г. в Екатеринодар появился «министр-резидент» гетманского правительства барон Боржинский, оказавшийся тайным сподвижником директории, а в конце года и другой агент — по иронии судьбы «горячо рекомендованный гетманом Рябоволу»[130] — полковник Блохин (псевдоним Здобутволя), с несколькими спутниками. В январе 1919 года чинами нашей контрразведки был задержан курьер Блохина, ехавший в Киев с большой корреспонденцией, в том числе с докладами на имя Петлюры и Грекова. Возникшее следственное дело обнаружило большую агитационную работу украинцев на Кубани и тесный контакт членов директории, при посредстве Боржинского и Блохина, с кубанскими самостийниками — Бычом, Рябоволом, Макаренкой и друг.
По захваченным письмам обрисовалась и колоритная фигура Блохина. В 1915 году он попал в плен к австрийцам, был начальником солдатского лагеря в Зальцведене и затем командовал сформированной австрийцами дивизией «синежупанников». Появившись в Киеве во времена гетмана, он, поддерживая связь с Украинским национальным комитетом, вошел в доверие к гетману и командовал у него Черноморским полком, вскоре расформированным за большевицкое настроение. При выступлении Петлюры, Блохин был командирован последним «подымать Кубань». Мрачная ненависть Блохина к России сквозит в каждом письме[131]. «Готовься — пишет он в одном месте — к кровавой борьбе с проклятым москалем — представителем великой Руси, пускай в последний раз умоется в крови бедная наша мать Украина»…
В докладе Блохина Петлюре описана была подробно его деятельность[132]. По дороге на Кубань Блохин «раздавал призывы уважаемой директории, а, приехав в Екатеринодар, немедленно явился к Луке Лаврентьевичу Бычу (мой родственник)[133] и передал от Вас (Петлюры) поклон. Информировал Л. Л. в требованиях и домоганиях украинского народа и передал призыв директории, который я с великой опасностью довез до места»… Пользуясь своими связями Блохин получил в командование запасный кубанский батальон на Тамани, но это не удовлетворяет его — он желает попасть в члены Рады: «Лука Лаврентьевич имеет меня в виду, Рябовол говорит, что все будет отлично»… Мечтает о назначении «на великий пост — атамана Черноморского отдела, если не перебьют добровольцы-черносотенцы».
Одновременно Блохин со своими спутниками вел широкую пропаганду против Добровольческой Армии и распространял брошюры по станицам и по отделениям «Центральной Просвиты», во главе которой стоял один из лидеров самостийников — Безкровный, а в числе членов — видные представители Законодательной рады. Эти брошюры (Издания М. Грушевского, «катехизис украинца» и проч.) проповедовали единство «украинской нации» от Сана до Кавказа, ненависть к России и «изгнание чужеземцев — угнетателей».
Когда в газете «Кубанец» и на Армавирском «Съезде уполномоченных казачьего круга» поднято было это дело и упомянуты фамилии членов Рады — Шахим-Гирея, Рябовола и др. Законодательная рада выразила доверие своему председателю и его единомышленникам и потребовала от правительства решительных мер против «клеветы и провокации «Кубанца»»…
Блохин исчез. В своем последнем докладе украинскому военному министру — докладе, носящем признаки истерии и хлестаковщины, он явно преувеличивал результаты своей краткой работы, когда писал: «казаки симпатизируют, склоняются к Украине, вот, вот будет страшное восстание…» Но кое-что было сделано действительно… 23 января пришедший из Керчи к Перекопу для действий против скопившихся в северной Таврии большевицких и махновских банд 9-й пластунский батальон (Таманский) отказался выполнить приказ, бросил фронт и самовольно двинулся на Кубань. Представители батальона заявили, что этот фронт — против Украины и что до получения указания Краевой рады пластуны драться с «петлюровцами» не будут. Это был первый случай в Добровольческой Армии невыполнения целой частью боевого приказа — случай, явившийся грозным предостережением не только для Армии, но и для кубанских властителей… Насколько мало значения имел при этом элемент национально-украинский, видно из того, что тот же батальон, переброшенный в феврале на царицынское направление, только в пути дал 50% дезертиров… Вообще Таманский округ на почве петлюровщины и ее всегдашнего спутника повторного большевизма представлял из себя опасный очаг брожения, проявлявшегося пока сплошными разбоями и массовым дезертирством таманцев из рядов Добровольческой Армии. Кубанский военный министр полковник Науменко стремился подавить таманские бесчинства суровыми мерами, а Законод. рада, под предлогом злоупотреблений карательных отрядов, бурно протестовала и сваливала министерство[134]…
Вообще украинский вопрос, в особенности в краткий период второй директории, создавал чрезвычайно острую, напряженную атмосферу вокруг отношений Кубани и командования. Происходило какое то сплошное «недоразумение»… Директория объявляет грамоту гетмана о федерации с Россией[135] «здрадницким актом Скоропадьского про скасувани самостийности Украинскои Держави», а кубанские федералисты официально приветствуют директорию, и их официоз по поводу акта воссоединения Галиции с Украиной с пафосом восклицает: «прекрасная сестра своего замученного брата — кубанца возвратилась к своей горячо любимой матери-Украине»[136]… Петлюровские войска избивают русских офицеров, Петлюровский универсал[137] призывает казаков «не служить продавцам, которые сами продались и хотят Украину продать — недобитым царским министрам России и ее буржуазии, ленивому русскому офицерству, паразитам народным, собравшимся в контрреволюционное гнездо на Дону»… А секретарь украинской миссии Поливан при содействии председателя правительства Быча в то же время ведет разговоры по прямому проводу с повстанческими украинскими отрядами, сообщая им сведения о положении на территории Добровольческой Армии[138]… Посол гетмана, Боржинский, сбросив маску, в заседании Чрезвычайной рады сообщал полученные им известия об успехах Петлюры на Украине и даже привет от никому неведомаго «командующего войсками Екатеринославщины Горобця»: «вид имени украинських республиканьских вийск, що повстали зараз за незалежнисть и кращу будучину Матери Украини на боротьбу з виковичними ворогами, котрих репрезентуе на Кубани (?) Киивський черносотонець Шульгин»…
И Рада бурно рукоплескала[139]…
Искушенные политики знают цену всем этим патетическим фразам воззваний, деклараций и переменчивому настроению толпы, аудитории, парламента. Но рядовая русская общественность и в частности добровольческое офицерство принимали все украинофильские проявления горячо и непосредственно. Между ними и украинофилами–самостийниками вырастала острая ненависть. В печати, в собраниях, в повседневном обиходе установились вульгаризованные приемы отношений и ходячие эпитеты, из которых «предатели» для одной стороны и «черное воронье» для другой — были не наихудшими.
После ухода правительства Быча официальные отношения с украинской директорией и Петлюрой прекратились: неофициально же связь их с самостийной кубанской группой продолжалась все время при посредстве украинской миссии в Константинополе. При этом мы имели сведения, что Екатеринодар снабжал Петлюру денежными средствами и в период борьбы его с Добровольческой Армией, летом 1919 года.
* * *
Так же тяжело проходил вопрос о выделении Кубанской армии.
Желая дать нравственное удовлетворение кубанцам, я после поворота на север предполагал армию, предназначенную на Царицынское направление, наименовать «Кубанской», без изменения существовавшего порядка подчинения. Но под давлением Рады атаман Филимонов, после освобождения северного Кавказа, без соглашения со мною отдал приказ по войску: «…Ныне настало время и является возможность выполнить постановление Чрезвычайной Краевой рады — образовать свою Кубанскую армию… С этого дня все вооруженные силы, выставляемые Кубанским краем, объединяются в Кубанскую армию, под начальством походного атамана (ген. Науменко), подчиненного непосредственно мне… Для дальнейшей борьбы с большевиками Кубанская армия будет выделять части войск, сведенные в Кубанский корпус, …а остальные части армии будут заканчивать очищение, обеспечение и умиротворение края»[140]…
Борьба требовала не ослабления сил, а полного их напряжения и полного единства. Поэтому приказ остался мертвой буквой. При молчаливом непротивлении атамана, полковник Науменко ведал только тыловыми, учебными и гарнизонными частями, не вмешиваясь в командование, добросовестно боролся с дезертирством, пополнял фронт и формировал для него новые части.
В этом вопросе атаман лично разделял пожелания Рады, закрывая глаза на политическия последствия выделения самостоятельной армии при условии безвластия атамана, непрочности правительственного курса и враждебности к Армии главенствующей политической партии. Во всех речах ее членов, в самостийной печати — цель овладения армией, как орудием политики, ставилась совершенно открыто.
«Невыполнением этой претензии всех искренно расположенных и преданных делу Добровольческой Армии кубанских казаков — писал он однажды — дается пища для самой вредной агитации и отнимается всякая почва у кубанцев — доброжелателей Армии… Существование Кубанской Армии не будет грозить интересам общего дела и не может вызвать никаких дурных последствий для русского оружия»[141]…
Оптимизм атамана не разделяла вовсе сама армия, в лице ее командного состава и офицерства. В один из последующих острых периодов домогательств Рады, ген. Науменко послал запрос четырнадцати старшим кубанским начальникам о возможности выделения особой Кубанской армии и от 13 их них получил ответ резко отрицательный[142]. Мотивы были разнообразны: организационные, стратегические, бедность кубанского войска в командном составе и технике, наконец главный — опасение, что «армия окажется орудием в руках самостийников и крайних федералистов»[143]…
Что же касается рядового казачества, оно с полным равнодушием относилось к этому вопросу почти до осени, когда общее утомление и начавшиеся неудачи создали более восприимчивую почву для разрушительной пропаганды, исходившей от правительства Курганского и Законодательной рады, и с особенной силой обрушившейся на Армию.
Наконец, крупный вопрос — единства снабжения также не получил разрешения. 12 и 13 марта под моим председательством состоялось совещание представителей Д. Ар., Дона, Крыма, Терека и Кубани по вопросу об объединении дела продовольствия и товарообмена на Юге России в одном коллегиальном органе при главнокомандующем[144]. Все представители пришли к соглашению, кубанцы отказались. «Вопрос затрагивает самую суть нашей экономической жизни — говорил в Раде Рябовол. — Они ничего не могут дать. Только мы можем дать». Действительно, Кубань имела в своих руках огромную силу: невзирая на большевицкое разорение, в ее закромах к весне 1919 года оставалось все же до 30 милл. пудов хлеба четырех урожаев, богатые запасы растительных масл и табаку — для товарообмена. Без кубанского хлеба было бы до крайности затруднительным существование Армии и потребительных районов.
26 марта было утверждено мною положение о «Совете по продовольствию», фактически не осуществленное, благодаря противодействию кубанцев. Между тем, с весны 1919 года на Дону и на Тереке создалось тяжелое положение в отношении продовольствия, и главному командованию приходилось путем длительных переговоров, преодолевая сопротивление кубанского ведомства, производить наряд туда для армий и населения кубанского и Ставропольского хлеба[145].
* * *
Таким образом, ни один из важнейших вопросов взаимоотношений Кубани с Добровольческой армией разрешен не был. Весь наш совместный путь был усеян крупными и мелкими столкновениями, расчищался бесконечными компромиссами и вел к неизбежному разрыву.
Причины, как мы видели, многообразны и питались источниками с обеих сторон. Оставим обвинение в личном, своекорыстном стремлении к власти, которое печать и общество взводили на кубанских деятелей–самостийников. Эта область — больше психологии, чем истории, и трудно поддается анализу. Остановимся на положениях чисто объективных.
Кубанская революционная демократия, хотя и лишила в своей державе политических и земельных прав иногородних — половину населения области, но в отношении России блюла демократические заветы и не доверяла Добровольческой власти, считая ее реакционной, реставрационной, монархической. Неудачное управление первоначальной территорией нашей — Ставропольской и Черноморской губерниями — подрывало доверие к государственному творчеству этой власти. Безвременье открывало соблазнительные перспективы округления границ области за счет всей Черноморской и части Ставропольской губерний, главное — обладание черноморскими портами, ибо пока они в «чужих руках (командования, потом России), невозможно свободное развитие торговых отношений»[146]. Стремление к максимальной самостоятельности естественно толкало Кубань к союзу с единомышленными образованиями, а не к Добровольческой Армии, которая исповедовала Единую и Неделимую Россию и говорила только о «широкой автономии» и о «крайне бережном отношении к вековому укладу казачьего быта»…
Кубань хотела быть полным хозяином в своем доме, а в нем распоряжался также некто другой, и невыясненность правовых взаимоотношений порождала с обеих сторон в повседневной жизни, в практике войск и администрации целый ряд злоупотреблений, превышений власти, столкновений и обид.
Кубань хотела быть полным хозяином своих несметных богатств и вывозить их в Грузию — за равноценный товарный эквивалент, заграницу за доллары и франки, а командование ограничивало экспорт и требовало направления хлеба, жиров и проч. в армию и в нуждающиеся районы вооруженных сил Юга в обмен за малоценные знаки ростовской экспедиции… Известное утомление и видимая безопасность самой Кубани вызывали у многих близорукий взгляд на возможность отдохнуть и перейти к мирному порядку, а командование требовало новых призывов, новых жертв для продолжения борьбы за Россию — борьбы, конца которой не видно было.
Но над всеми этими причинами доминировала одна — главнейшая.
Официальный лозунг, выброшенный «черноморской» группой для успокоения казачьей массы, гласил:
— Через федерацию к Единой России.
Мы этому не верили. И неверие наше получило компетентное и исчерпывающее подтверждение — правда, несколько поздно — в 1921 году. Вся соль кубанской революционной демократии, все те лица — Быч, Тимошенко, Воропинов, Намитоков, П. Макаренко и проч., и проч., которые в течение 1917–1920 г.г. держали в своих руках власть на Кубани, теперь после крушения всех фронтов, не связанные более «тактическими соображениями», открыли нам свой символ веры в прошлом, настоящем и будущем[147].
«…Ровно 4 года тому назад народ кубанский[148] ясно и твердо выразил свою волю к государственной самостоятельности… Законодательная рада, на основании этого решения, в январе 1918 года провозгласила землю Кубанскую — Кубанской народной республикой…
С того времени Краевая рада… неоднократно подтверждала государственную независимость земли кубанской…
Эти страшные 4 года прошли для населения Кубани в беспрерывной, истощающей ее силы борьбе за свою независимость… В течение трех лет Кубань боролась и против советской России, и против военных организаций, пытавшихся представлять собою Россию антисоветскую, и вобравших в себя весь цвет великодержавной российской контрреволюции…
Борьба за независимость Кубани есть наш основной долг, наша первая задача».
На какие внешние силы опиралась эта борьба?
«Успех борьбы за независимость Кубани нам мыслится возможным не только в зависимости от усилий нашего народа, но в значительной мере и от тех отношений, которые будут установлены между Кубанью и ее естественными союзниками. Их нам указала Краевая рада в ноябре 1918 года на Севере — суверенный Дон, Украина, Белоруссия; на Юге — Горская Республика, Грузия, Азербейджан, Армения. С ними мы намерены установить или укрепить не только отношения добрососедства и дружбы, но считаем необходимым войти с ними в самые тесные договорные отношения на базе взаимного признания суверенности каждого из этих государств и взаимной помощи военной, дипломатической, экономической и финансовой».
Какая же роль предназначается при этом русским людям и России?
«Мы будем искать себе союзников также и в среде демократических русских политических групп и течений, при условии, если эти группы вполне определенно и совершенно искренно будут признавать право Кубани, как и других территорий и национальностей бывшей Российской Империи на полное самоопределение и политическую независимость. Со своей стороны, мы будем считать себя обязанными дать гарантии, обеспечивающие законные экономические интересы России при условии ненанесения этим ущерба суверенным правам Кубани».
При такой политической идеологии вопросы о личности главнокомандующего[149], «реакционности» его правительства, о формах верховного возглавления (диктатура или директория), наконец о путях сложения власти (октроирование свыше или сговор снизу) и т. д., и т. д. значения иметь не могли.
Кубанский сепаратизм по существу ополчался против национальной России.
Глава VIII. Дон: события на Донском фронте в конце 18-го и в начале 19 года. Борьба за единство военного командования на Юге
Падение Германии поставило в весьма затруднительное положение Донское войско. Во второй половине ноября германские части очистили территорию области, открыв опаснейшее и кратчайшее к ее столице направление — Воронежское. В то же время немцы, занимавшие Украину, объявили нейтралитет, и в «пограничных» районах Харьковской и Екатеринославской губерний появились петлюровские атаманы, ниспровергая власть гетмана, прервав снабжение Дона боевыми припасами с Украины и неизбежно подготовляя вторжение большевиков с не менее грозного направления — Харьковского.
К началу ноября фронт Донской армии шел от Кантемировки на Таловую и далее, приблизительно по северной и восточной границе области, подходя к Камышину на 20–30 верст и к Царицыну 30–40 в.; на юго-востоке фронт шел через станцию Житово по большому Царицынскому шляху до Маныча, где он входил в соприкосновение с левым флангом армии Добровольческой. На этом фронте Дон располагал 52 тысячами против 100 с лишним тысяч войск советского Южного фронта.
Задача, данная армии донским командованием, заключалась в обороне на юго-востоке и овладении важнейшими ж. д. магистралями путем занятия станций Лиски–Поворино–Елань–Камышин–Царицын.
Затихшие было в октябре военные действия на Воронежском направлении в начале ноября возобновились с новой силой, начавшись блестящим делом ген. Гусельщикова в районе Таловой и развившись затем в большую операцию, завершившуюся поражением VIII советской армии и занятием донцами линии Лиски–Таловой–Новохоперска. В районе Луганска небольшой отряд «молодой» донской армии стоял прочно и отбивал все атаки противника.
В середине ноября усилившиеся советские армии вновь перешли в наступление, нанося концентрический удар на Воронежском направлении и с северо-востока на фронт Урюпинская–Усть-Медведицкая. 9 советская армия имела вначале успех, проникнув глубоко в Хоперский округ, но, благодаря подошедшему к донцам с царицынского и воронежского фронта подкреплению, была опрокинута, и донские полки, преследуя ее, доходили до Елани и Камышина. Это наступление, прервав ж. д. связь между Повориным и Царицыным, поставило в критическое положение советскую 10-ю армию, вследствие прекращения навигации по Волге, оставшуюся без подвоза. Точно также успешно отражались все настойчивые атаки красных на царицынском направлении, и войска ген. Мамонтова, с конца ноября, сами перейдя в наступление, к 5 января подошли вплотную к городу Царицыну на линию Сарепта–Воропоново–Гумрак.
Весь ноябрь и декабрь на огромном фронте от Луганска до Царицына, от Царицына до Маныча, в мороз и стужу, поставив в строй поголовно всех казаков, способных носить оружие, изнемогая от потерь и лишений, Дон доблестно отстаивал свое существование против вдвое сильнейшего врага. Донская армия неизменно одерживала верх, брала тысячи пленных и богатую военную добычу. По существу — стратегически победа была уже на стороне донцов: зимняя операция красных расстроилась, потеряла свой планомерный характер и продолжалась лишь по инерции, без внутренней идейной связи.
Но в гражданской войне моральный элемент более, чем где бы то ни было, властвует над всеми прочими слагаемыми успеха. То, что было выиграно в течение многих месяцев моральным подъемом и оружием, в один миг было потеряно упадком духа. В казачьем настроении опять наступил перелом, который умело использовала советская пропаганда. Наиболее чувствительным ее аргументом были обещания советской власти сохранить казачий уклад и уверения в тщетности надежд на иностранную помощь, о которой так часто и неосторожно говорил атаман колеблющемуся фронту.
Уже в ноябре, невзирая на успехи, в армии чувствовалась некоторая моральная неустойчивость. В конце декабря сначала один донской полк предался на сторону красных, потом несколько станиц, и войска Верхне-донского округа заключили мир с большевиками и начали расходиться по домам. Пораженческое настроение ширилось по фронту, и одновременно ширились прорывы, в которые безпрепятственно вливались волны красных, выходя в тыл и угрожая окружением еще боровшимся войскам Хоперского округа.
В то же время большевики напрягали большие усилия, посылая для вразумления войск 8 и 9 армии карательные отряды, усилив Южный фронт четырьмя новыми дивизиями и направив из Харькова на линию Бахмут–Луганск армейскую группу Кожевникова.
И к концу января Донская армия на северном и северо-восточном фронте отхлынула за Дон. «Прекрасно вооруженные, снабженные пулеметами и пушками отряды наши — говорил атаман Краснов на Круге[150] — уходят без боя вглубь страны, оставляя хутора и станицы на поругание врагу. Теперь сдаются на милость красной сволочи целыми сотнями и с нею вместе идут избивать своих отцов и братьев. Теперь арестовывают офицеров и старших начальников, выдают их на расстрел красным и тем подрывают в них веру в казаков и лишают их необходимого мужества»…
Чем же объяснялся такой резкий перелом в настроении казачества и такой глубокий, ничем не оправдываемый развал армии?
Общество, армия, Круг искали прежде всего «виновных». Их назвал Круг, собравшийся в феврале, осудил и удалил. Виновными сочтены были — командующий Донской армией и начальник штаба ее, генералы Денисов и Поляков. Круг поставил им в вину, косвенно и атаману, «недостаточную осведомленность о фронте… легковесную самоуверенность… трения с Добровольческой Армией… убеждение в период успехов, что справятся собственными силами, и делить победу с кем бы то ни было не хотелось… оповещение фронта о скором прибытии (неприбывшей) союзной помощи»… Наконец, непосещение фронта командующим, «невнимание к нуждам фронта, злоупотребление реквизициями, особенно в Южной армии» и т. д., и т. д.[151]. Ген. Денисов указывал причины иные: 1) утомление казачества, 2) гибель веры в союзников, 3) возрастание сил противника, 4) лютая зима при недостатке одежды и теплых вещей, 5) агитация большевиков, 6) агитация «общественных деятелей» против атамана и против командующего, 7) развал тыла[152]. В сущности обе стороны в своих обвинениях исследовали только нездоровую почву, на которой могло произрасти то явление чисто психологического характера, которое Краснов и Денисов определяли согласно «заболеванием фронта большевизмом». Определение — верное только в отношении симптомов той болезни, которая поражала временами не одно донское, но и другие казачества, русскую интеллигенцию и русский народ. Болезни — воли и духа. Ибо Донское казачество, органически чуждое коммунистическому укладу, прияв внешния формы и даже практику большевизма, как личину, как средство кого-то провести и от кого-то спастись, на другой же день вступало с ним в глухую борьбу всем своим нутром, всем бытовым укладом, в свою очередь встречая со стороны советской власти полное недоверие и прямое посягательство на жизнь казачью, быт и достояние.
Эта двойственность казачьих настроений чрезвычайно ярко проявилась в красочной истории донского казака, войскового старшины Миронова. Демагог и честолюбец, мечтавший об атаманском перначе, он с самого начала гражданской войны поступил на службу к большевикам и, командуя бригадой, потом дивизией, дрался весьма усердно на их донском фронте. Но после большевицкого вторжения на Дон в начале 1919 г. зверства большевиков пробудили совесть в нем и в его казаках. Миронов стал на защиту разоряемых станиц, был обвинен в демагогии и отправлен на Западный фронт. Летом, однако, ввиду тяжелого положения на Юге, его переводят обратно на Донской фронт и ставят во главе вновь сформированного «Донского корпуса», ядром которого служили казаки северных округов. В августе Миронов поднял восстание, к которому примкнули несколько донских советских полков. В приказе — воззвании от 9 августа он говорил казакам:
«…Что остается делать казаку, объявленному вне закона и подлежащему беспощадному истреблению? Только умирать с ожесточением.
Что остается делать казаку, когда он знает, что его хата передана другому, его хозяйство захватывается чужими людьми, а скотина выгнана в степь в загон? Только сжигать свои станицы и хутора. Таким образом, в лице всего казачества мы видим жестоких мстителей коммунистам за поруганную справедливость, что в связи с общим недовольством трудящегося крестьянства России, вызванным коммунистами, грозит окончательной гибелью революционным завоеваниям и новым тяжким рабством народу. Чтобы спасти революционные завоевания, остается единственный путь свалить партию коммунистов».
Восстание было подавлено в несколько дней полу-казачьими войсками Буденного. Миронов и его соучастники были преданы суду и приговорены к смертной казни. Но все они «выразили чистосердечное раскаяние» и просили взять их опять на службу в красную армию… Миронова большевики помиловали, и в 20 году мы видим его вновь командующим 2-й конной армией, сражавшейся против крымских войск ген. Врангеля. Зимою 1921 года он снова принимает участие в организации восстания в Донской области и, не будучи более нужен большевикам, использовавшим его популярность до конца, предается снова суду и кончает свою жизнь под расстрелом.
* * *
Взаимоотношения наши с донской властью с мая и до конца 1918 г. определялись непримиримой позицией ген. Краснова в вопросе об едином командовании.
Если огромный вред, приносимый отсутствием общего плана и разрозненностью действий белых армий во всероссийском масштабе (Сев., Вост., Юг и Запад), не всеми сознавался достаточно отчетливо, то на общем, по существу, Доно–Кавказском театре эти тягчайшие нарушения основ военного искусства сказывались ясно и разительно на каждом шагу. Вопрос этот раздирал Юг, отражаясь крайне неблагоприятно на ведении военных операций, вовлекая в борьбу вокруг него общественность, печать, офицерство, политические организации, даже правительства Согласия. Ген. Краснов суживает теперь весь этот вопрос больного прошлого до размеров «екатеринодарской интриги» и «борьбы Краснова с Деникиным», которого он «не хотел признать», отрицательно относясь к его личным качествам, как государственного деятеля и стратега… Наши взаимные характеристики могут быть несколько пристрастными. Но ясно одно: личная незаинтересованность и государственные побуждения донского атамана в этом вопросе теряют значительно свою цену, если принять во внимание, что одним из «наиболее желательных вождей для объединенного командования» он называл… ген. Н. И. Иванова[153], на котором — по его же, Краснова, словам — отозвались «пережитые потрясения и немолодые уже годы и несколько расстроили его умственные способности»…
Отбросим личности. За ними стояло явление несравненно более крупного масштаба: вопрос шел о признании военного центра в борьбе Юга: «Дон» или «Добровольческая Армия»? В глазах огромного большинства русской общественности первый представлялся началом областным, вторая — общегосударственным; в глазах правительств и командования держав Согласия Дон был недавним союзником — пусть даже невольным — немцев, а Добровольческая Армия «сохранила верность Согласию до конца». Эти две предпосылки имели решающее значение в спорном вопросе.
Были, очевидно, объективные причины — не только «интриги Екатеринодара» — которые задолго до образования мощной организации «вооруженных сил Юга», привлекали в орбиту Добровольческой армии спутников из самых отдаленных краев разваленной России. Мы видели стремление к объединению с нами «Волжской армии» Чечека и даже «Армии Учредительного Собрания»…[154] К нам тянулись «Псковская армия», Балтийские отряды и Терек. Крым просил о присылке Добровольческих войск… Подложный приказ от имени главнокомандующего Добровольческой Армией о подчинении ему украинских войск достаточно выяснил отношение к нам русской общественности и офицерства Украины…[155] Уральское войско сообщало, что «ожидает с большим нетерпением» подхода к Волге Добровольческой Армии, «имея желание в общих интересах объединиться с нами»[156]. Оренбургский атаман Дутов писал мне[157]: «…Наше войско сепаратических стремлений не имеет и борется за всю Россию. На Вашу Армию мы все возлагаем большие надежды и полагаем, что только Вы и решите окончательно судьбу России. Ваша армия находится на юге и имеет все под рукой. В Ваших руках уголь, железо, нефть, лучшие пути сообщения, сравнительно короткое расстояние до Москвы. Кроме того, Вы имеете возможность, владея Черным морем, получить всевозможные пополнения и припасы…»
Расходясь, подчас серьезно, в вопросах государственного устройства, с большим единодушием относилась к военному верховенству Добровольческой Армии и организованная русская общественность (кроме крайней правой) до Союза Возрождения включительно. Даже весьма демократический «Съезд земских и городских самоуправлений Юга»[158], представленный такими столпами революционной демократии, как Руднев, Гоц, Вишняк, Гвоздев и друг., возлагал на Добровольческую Армию «ответственную роль служить на Юге России ядром для воссоздания российской народной армии…»
Только самостийные круги смотрели иначе… «Меморандум четырех государственных образований»[159], представленный французскому командованию, отрицал самую идею необходимости единства армии, допуская лишь создание «общего генерального штаба, для руководства всеми операциями на основе соглашения государственных новообразований…» «…Защита своего дома, своего очага, своей семьи, своего народа — таковы должны быть лозунги, к которым следует апеллировать для искоренения большевизма…» Составитель «меморандума» Марголин рассказывает, что «настроение у всех (собравшихся для обсуждения этого «акта») было торжественное»; и единственный военный представитель совещания, внесший сей новый вклад в военную науку, донской генерал Черячукин «осенил себя даже крестным знамением перед подписанием…»[160].
Молил, должно быть, у Господа прощения…
В этом отношении соединенное заседание Донской законодательной комиссии и кубанских делегатов выказало большую широту взглядов. Требуя автономности Донской и Кубанской армий, оно считало, однако, необходимым «скорейшее подчинение Донск., Кубанск., Добров., и других армий… в пределах России единому командованию» и допускало возможность борьбы с большевизмом, «выходящей за пределы охраны Донской и Кубанской области».
Интересно, что такая же борьба за единство командования, вызванная мотивами другого рода — боязнью бонапартизма, велась и в советской России между Бронштейном, проникшимся идеями «военспецов», с одной стороны, и большинством коммунистической партии — с другой. Только после поражений, понесенных большевиками на Востоке и Юге летом 1918 года, советская власть создала «Революционный военный совет республики»[161] с единым главнокомандующим (Вацетис, потом Каменев) на всех фронтах. Это единство командования, по словам Бронштейна[162], спасло красную армию, дав, наконец, возможность переброски, сосредоточения и вообще использования центрального положения армии для действия по внутренним операционным линиям. «Только после установления общего оперативного руководства и строгого исполнения боевых приказов, идущего сверху вниз, все почувствовали на деле… огромное преимущество централизованной армии над партизанством и кустарничеством».
* * *
В вопросе единого командования, и притом возглавляемого главнокомандующим Добровольческой Армией, сошлись и союзные представители.
В начале ноября вернулся из Румынии командированный туда Донским атаманом за снабжением ген. барон Майдель и представил доклад[163]:
«…С 2 по 12 ноября (нов. ст.) я находился в полном контакте с представителями Согласия… Меня уполномочили уведомить: а) что Согласие верит лояльности Дона, но требует полного объединения командования всей русской армии в лице ген. Деникина; б) ген. Краснов скомпрометирован все-таки своей деятельностью, письмом Вильгельму и речами на Круге… Поэтому, если общественное мнение, ген. Деникин и Вы[164] укажете, что Краснов, согласившись на полное подчинение главнокомандующему, ген. Деникину, может остаться, то пусть остается; а если нет, желательно, чтобы он добровольно ушел; в) если объединение произойдет и Дон войдет в Русскую армию, то союзники обеспечивают помощь войсками, деньгами, всем. Мои требовательные ведомости (на снабжение) вручены румынам при вербальной ноте послов Согласия…»
6 ноября Донской атаман, очевидно, встревоженный этими сведениями, послал в Яссы и Бухарест посольство в составе генералов Сазонова и Янова и дипломатического чиновника Карасева. Посольству вменено было в обязанность, кроме проверки доклада Майделя, ознакомить союзников с положением Дона, убедить их в неприемлемости подчинения мне Донской армии, указать наиболее желательных вождей для объединенного командования на Юге (генералы Н. И. Иванов и Щербачев) и просить непосредственной помощи — боевым снабжением, деньгами и войсками.
Донское посольство, посетив ген. Бертело, русского посланника Поклевского-Козелл и ген. Щербачева, выяснило, что вопрос об едином командовании решен окончательно в пользу главнокомандующего Добровольческой Армией. Генерал Янов — человек крайне невоздержанный, по природе демагог, ненавистник Добровольческой Армии — не жалел красок, чтобы очернить Армию и ее командование в глазах союзников, доказывал невозможность подчинения ген. Краснова мне и счел даже уместным «запугивать их (союзников) возможностью соглашения казаков с большевиками, если будут настаивать на подчинении Краснова…»[165].
Русская распря произвела тяжелое впечатление и в русских, и в союзных кругах и вызвала отповедь ген. Бертело Янову:
«Не хорошо бросать упрек в сторону родственной вам армии. Вы на первых же порах затрудняете работу союзников своими раздорами… Донская армия многочисленнее Добровольческой? Но если бы у генерала Деникина был даже один солдат, то и тогда симпатии наши будут все-таки на его стороне: он был одним из немногих генералов, который при невероятно трудных условиях остался верным идее союза…»
В результате Бертело остался при первоначальном решении, сообщив его письмом атаману Краснову, а генерал Щербачев категорически отказался участвовать в этой сомнительной игре.
Представители Согласия, прибывшие в Екатеринодар — Пуль, Эрлиш, Фуке — также единодушно поддерживали идею объединения русских армий в лице Добровольческого командования. В виде протеста против политики Краснова они ответили отказом на его приглашение посетить Новочеркасск… Пышными речами и приказами население и фронт были уже оповещены широко о союзниках, спешивших па помощь Дону, и отсутствие представителей их наносило большой урон атаманскому престижу. С большим трудом генералу Краснову удалось устроить непосредственным обращением к командовавшему союзными морскими силами в Севастополе адмиралу прибытие двух миноносцев — английского и французского, шедших в Мариуполь за углем — в Таганрог и визит затем их экипажей в Новочеркасск. С большой торжественностью были встречены в Новочеркасске иностранные гости, рекою лилось вино и вдохновенные патриотические речи; но среди них диссонансом для недоброжелателей Добровольческой Армии прозвучало ответное слово французского гостя[166]:
«…Пусть будет дозволено солдату Франции сказать вам: все достоинства и доблесть не привели бы к положительным результатам, если бы не существовало самого тесного единения между всеми союзными армиями в лице славного маршала Фоша и такого же единого командования на море под славным английским флагом… Благородная и великолепная армия казаков и неустрашимая, героическая Добровольческая армия станут (также) непобедимыми, тесно соединившись и образовав из себя гранитную скалу, страшную для врагов…»
* * *
Ни в вопросах политики, ни в вопросах войны мы не могли понять, какие, собственно, конкретные цели преследует атаман Краснов. Его перо, его слово были полны такими внутренними противоречиями, в них так художественно переплеталась правда с вымыслом, что мы становились в полнейшее недоумение.
8 сентября 1918 г. он писал ген. Алексееву:
«Я не думаю о будущем России — это не мое дело — это решит Учредительное Собрание, Земский Собор, вернее Господь Бог, но я мечтаю об одном — освободить Россию от большевиков…»
А в октябре (без даты, № 02) он писал ген. Драгомирову:
«Приближается время мирной конференции народов… И думается мне, что время Добровольческой Армии, Дону, Украине, Кубани, Грузии и другим свободным от большевицкого террора частям России собраться и сговориться… по следующим вопросам:
- Что будет представлять из себя бывшая Российская Империя в политическом отношении (монархию, республику, федерацию и, если федерацию, то какого типа?)
- Какие части бывшей Российской Империи войдут в это новое государственное образование и какие станут вне его (Финляндия, Прибалтийский край, Белоруссия, Польша, Украина, Крым, Закавказье?)
- Кто поможет объединиться тем частям России, которые не заражены самостийностью?.. Помогут в этом отношении союзники, которые кругом должны нам за 1914, 1915 и 1916 годы, или центральные державы, как соседи?»
Решение в то время вопроса о будущем государственном устройстве России Добровольческим командованием, Скоропадским, Красновым, Бычом и Жордания представлялось мне несвоевременным и недостаточно компетентным[167].
«Выдвигать (этот вопрос) на первый план теперь же — отвечал ген. Драгомиров[168], — это значило бы вносить раздор чрезвычайно острого характера в ту минуту, когда для спасения Родины нужно, прежде всего, единение всех сил…» «Что же касается «выбора ориентации», то «является совершенно невозможным, чтобы в ту минуту, когда союзники наши со дня на день могут прибыть в Новороссийск и пожелают опереться на Добровольческую Армию, последняя стала бы на путь колебания — на кого опираться».
А еще через 2–3 дня глава Донского правительства, по поручению атамана, обратился ко мне с предложением[169] созвать совещание в Екатеринодаре по вопросу об едином представительстве на мирной конференции, на которой, «конечно, должны быть представители настоящей России, желающие ее восстановления в прежних пределах и мощи…»
Я ответил полным согласием, прибавив, что общность наших задач властно требует объединения всего дела внешних сношений и полного взаимодействия всех вооруженных сил путем объединения командования. «Если…, исходя из самого искреннего желания найти пути к полному единству, нам удастся сговориться по (этим) кардинальным вопросам, — писал я[170], — то в недалеком будущем можно было бы выдвинуть на очередь объединение и в тех отраслях государственного устройства, которые Донской атаман перечислил в своем письме от 3 сентября № 679»[171]: финансовых, юстиции, продовольственного дела и торгово-промышленной политики, путей сообщения и телеграфа…
8 ноября[172] ген. Драгомиров вызвал в Екатеринодар представителей Дона на совещание по следующим вопросам:
«Первое — единое представительство на предстоящем мирном конгрессе, второе — объединение командования всеми вооруженными силами Юго-Восточной России в оперативном отношении и вместе с этим объединение всего дела военного снабжения всех фронтов этого района в руках Главного начальника снабжения Добровольческой Армии, в распоряжение которого от союзников в ближайшее время поступят громадные запасы».
Совещание под председательством ген. Драгомирова состоялось 13 ноября[173]. Вопрос о представительстве на мирном конгрессе был разрешен легко, возложением миссии персонально на бывш. мин. иностр. дел Сазонова «с тем, чтобы в состав технических советников делегации вошел бы представитель от Дона». Прочие вопросы были донцами сорваны. Ген. Поляков от имени Донского атамана заявил, что «для осуществления единого фронта и единого командования Дон может дать гвардейскую стрелковую бригаду (не казачью), конную казачью дивизию, 4–6 броневых поездов, 4 брон. машины и… Южную армию»[174]. И то только при условии движения Добровольческой Армии на север. Донская же армия оставалась вне подчинения. Такую постановку вопроса ген. Лукомский назвал «с военной точки зрения безграмотной», а ген. Драгомиров «насмешкой над идеей единого командования»[175]. Она находилась, однако, в полном соответствии с теми взглядами, которые атаман внушал войску относительно будущего характера борьбы: казаки скоро отдохнут от трудов бранных, а их сменят на севере «Народная» и Добровольческая армии… Внушение — психологически опасное для стойкости Донского фронта и производившее тягостное впечатление на Добровольчество, разрушая идею общей борьбы за Россию.
Замечательно, что по возвращении в Новочеркасск, ген. Поляков по поручению атамана, чтобы сгладить впечатление от совещания, тотчас же вызвал к аппарату донского посла в Екатеринодаре ген. Смагина и приказал ему передать союзным представителям, что атаман не отказывается от единого командования, но ставит, между прочим, «непременным условием, чтобы армия имела определенную борьбу против большевиков (?) и чтобы войско Донское сохранило свою самостоятельность до образования единой России»[176]. Первое глубоко оскорбило нас и вызвало горячий письменный протест ген. Драгомирова, второе весьма удивляло, так как вопрос шел только об армии, а о «войске» (области) ни на совещании, ни в разговорах с союзниками не подымался вовсе.
* * *
Из Новочеркасска обильно текли письма, речи, заявления, в которых крупица правды была переплетена с вымыслом.
Донской фронт начинал морально колебаться и в виду закрытия границ с Украиной, терпел крайнюю нужду в снабжении…[177] Ген. Краснов писал горячие послания союзным представителям, прося о помощи, без которой считал невозможным дальнейшее сопротивление Дона, и в то же время заявлял горделиво полковнику Кизу: «Передайте ген. Пулю, что я являюсь выборным главою свободного пятимиллионного народа, который для себя ни в чем не нуждается. Ему не нужны ни ваши пушки, ни ружья, ни амуниция — он имеет все свое и он убрал от себя большевиков. Завтра он заключит мир с большевиками и будет жить отлично (!). Но нам нужно спасти Россию, и вот для этого-то нам нужна помощь союзников…»[178].
Я требовал нормального подчинения армий, чтобы иметь возможность дивизии и корпуса Донской, как и Добровольческой армий, перебрасывать на тот фронт, где это вызывается стратегической обстановкой… В художественном переложении атамана это требование преподносится казачеству в таком виде: «…полное подчинение вооруженных сил Дона, с получением конницы казачьей с фронта и перемешиванием казачьих частей с частями добровольческими, иными словами: нарушение образа служения войска толикою славою покрытого».
Замечательно, что в то же время ген. Краснов, не боясь перемешивания, настойчиво просил о переброске добровольческих частей на донской фронт, справедливо видя в этом единственное спасение Дона.
«Общерусские» войска были желательным гостем в противоположность «общерусским учреждениям»… 9 января 1919 г. (№ 092) по поводу размещения в Ростове отдела пропаганды атаман Краснов писал генералу Драгомирову: «На земле войска Донского не может и не должно помещаться ни одно из учреждений общерусских. Это требование автономии Войска…»
«…Старшие начальники и офицеры — говорил он ген. Щербачеву и внушал без сомнения эту мысль армии — будут бояться, что от них отнимут все высшие командные должности и заменят их лицами, угодными Деникину, и не казаками, и это может вызвать упадок их энергии в решительные минуты борьбы…»[179].
Я добивался сосредоточения всего военного снабжения в одних руках, для правильного распределения снабжения, доставляемого союзниками, для учета и регулирования потребности фронтов в хлебе и стратегических железнодорожных линий — в нефти и угле. Это мое требование, проявившееся реально в снабжении Дона английскими запасами и в довольствии края и армии кубанским и ставропольским хлебом, в стилизованном изложении атамана формулируется словами: «Снабжение, находящееся в распоряжении войска Донского, хлеб и уголь передаются в распоряжение Добровольческой армии» (?) — «выгоды и угодия (войска), утвержденные грамотами Императрицы Екатерины Великой, от него отходят».
Я писал Богаевскому о желательности объединения некоторых отраслей государственного управления, предложенного некогда самим ген. Красновым, — это предложение превращалось в «полное подчинение всего войска Донского с его населением и армией генералу Деникину…» Мои помощники, ведшие непосредственно переписку с атаманом, нервничали и положительно терялись от изумительных оборотов в посланиях атамана, извращавщих самую элементарную сущность всяких вопросов.
Атмосфера, между тем, сгущалась все более и более. Ширился круг лиц, принимавших участие во взаимной распре военачальников, осложняя своим вмешательством и без того тяжелое положение. Печать принимала все более резкий, нервный тон. Атаманский официоз «Часовой» возбуждал казачество против Добровольческой Армии… Кубанские самостийные органы, сохраняя в отношении ген. Краснова «вооруженный нейтралитет», травили меня и Добровольческую Армию… Все екатеринодарские «российские» газеты, не исключая и социалистических, и кубанские — «линейные» травили атамана Краснова… И атаман жаловался на них моему представителю в Новочеркасске, принимал у себя, на Дону, ряд драконовских цензурных мер в отношении екатеринодарской прессы и относил все это всецело к работе своих недругов — Харламова, Парамонова, Сидорина и других, «под крылом Добровольческого командования ведущих кампанию против него…» Председатель Особого Совещания ген. Драгомиров, поставленный в очень щекотливое положение в отношении поддерживавшей армию печати, писал редакциям письма, прося их воздержаться от выступлений против донского командования и «использовать (свое) влияние для упрочения хороших отношений с Доном, начало которых уже положено…»[180] Содействие союзников принимало иногда недопустимые формы, ставя меня в чрезвычайно тягостное положение. Так, при посредстве телеграфного агентства, 20 ноября в газетах появилось сообщение «из достоверных источников», что груз, привезенный первым транспортом и предназначенный совместно для Добровольческой и Донской армий, по распоряжению французского командования передан только ген. Деникину для Добр. Армии…, что «Донская армия ничего не получит из транспортов, которые находятся уже в пути или будут отправлены в будущем… до тех пор, пока Дон не признает ген. Деникина верховным главнокомандующим». Ген. Драгомиров сделал серьезное внушение газетам, поместившим это ложное известие, и произвел расследование, которое выяснило, что сведение было прислано агентству непосредственно из… французской военной миссии…
О ходе переговоров с ген. Красновым ген. Драгомиров осведомлял председателя Донского круга Харламова и при его посредстве законодательную комиссию Круга и донскую общественность. Иногда союзников и прессу. Содержание этих переговоров было таково, что без всякого злого умысла давало агитационный материал против ген. Краснова донской и «российской» оппозиции. Харламов и комиссия в вопросе об едином командовании были на нашей стороне. Они ставили вопрос этот «вне связи с вопросом о помощи извне Донской армии, руководствуясь, прежде всего, стратегической целесообразностью»[181]. Это единомыслие, естественно, сближало нас с донской оппозицией, причем, во взаимоотношения ее с атаманом и во внутренние дела, мы, конечно, совершенно не вмешивались. Комиссия не раз пыталась устранить трения с Добровольческой Армией, но совершенно безуспешно. Прибывшей к нему 12 ноября делегации комиссии ген. Краснов заявил категорически, что «признание ген. Деникина для него является неприемлемым и что Донская армия ни в чем, кроме разве танков, не нуждается».
Лично для меня эта борьба за приоритет Добровольческой Армии, веденная вокруг моего имени, была до крайности тягостна. И в душе я готов был не раз помириться со всеми недостатками разъединенного фронта, лишь бы окончилось это прискорбное соревнование, возбуждавшее общественные страсти, отзывавшееся на фронте и ронявшее нас в глазах союзников. Положение мое было тем более трудным, что ни одна из известных мне русских общественных групп, ни одна область, ни одна армия, не исключая даже Донской, не выдвигали ген. Краснова на пост главнокомандующего соединенными силами Юга.
А других претендентов на главнокомандование в ту пору еще не было.
Глава IX. Дон: трагедия Донского фронта. Объединение вооруженных сил Юга России. Уход атамана Краснова
В начале декабря ген. Пуль обратился ко мне со словами:
— Считаете ли вы необходимым в интересах дела, чтобы мы свалили Краснова.
Я ответил:
— Нет. Я просил бы только повлиять на изменение отношений его к Добровольческой Армии.
— Хорошо, тогда будем разговаривать.
Через день-два Пуль прислал ген. Драгомирову копию своего ответа ген. Краснову[182], на письмо, полученное от него 7 декабря:
«Я должен благодарить Вас за помощь и откровенное выражение Вашей точки зрения, хотя к сожалению я нашел, что Ваше мнение несогласно с моим по вопросу о назначении генералиссимуса для командования всеми русскими армиями, действующими против большевиков.
Я также намерен ответить совершенно откровенно.
Я должен указать Вашему Превосходительству, что я полагаю, по вопросу о назначении Главнокомандующего, необходимым предварительно ознакомиться с мнением союзников, ибо, как я понимаю из Вашего письма, только при условии содействия союзников и получения от них снабжения, Вы считаете, что будете в состоянии двигаться вперед или даже только обороняться.
В полученных мною инструкциях моего Правительства, мне указано было войти в сношение с генералом Деникиным, как с представителем, согласно английскому мнению, Русских армий, действующих против большевиков. Я сожалею поэтому, что для меня является невозможным даже рассмотрение вопроса о признании какого-либо иного офицера в качестве такого представителя.
Я вполне сознаю ту великолепную работу, которую Ваше Превосходительство так искусно выполняли с Донскими казаками, и я смею поздравить Ваше Превосходительство со славными походами.
Я бы желал надеяться, что Ваше Превосходительство проявите себя не только выдающимся воином, но и великим патриотом.
Если я принужден буду возвратиться и донести своему Правительству, что между русскими генералами существует зависть и недоверие, это произведет очень тяжелое впечатление и наверное уменьшит вероятность оказания помощи союзниками. Я бы предпочел донести, что Ваше Превосходительство проявили себя столь великим патриотом, что готовы поступиться собственными желаниями для блага России и согласиться служить под начальством генерала Деникина.
Как я уже словесно изложил князю Тундутову, я был бы рад встретиться с Вашим Превосходительством неофициально и обсудить все это дело, если бы Вы этого пожелали; и я мало сомневаюсь в том, что мы могли бы придти к удовлетворительному решению.
В случае этой встречи меня сопровождал бы ген. Драгомиров — помощник Главнокомандующего Добровольческой Армией».
Свидание состоялось 13 декабря на границе двух областей, в Кущевке. После встречи двух поездов и длительного, довольно оригинального вступления, когда между «суверенным главой пятимиллионного народа» и «представителем Великобританского правительства» шел спор о первом визите, состоялся, наконец, обмен мнений и намечены были общие основания возможного соглашения:
- Не объявлять об этом подчинении в приказе до той поры, пока, по заявлению Атамана, — мысль о необходимости подчинения Донской Армии генералу Деникину не войдет в сознание казаков.
- Избегать на первых порах отдачи категорических приказов, касающихся Донских казаков, а заменять их «указаниями» о желательном направлении операции, с предоставлением права Донскому Атаману представлять на нем свои соображения.
- Невмешательство высшего командования Добровольческой Армии во внутреннее управление Донской Армии, т. е. в назначения командного состава, производства в чины, призыва казаков и т. п.
Эти условия, в сущности, сводили на нет единство командования, но, во всяком случае, признавали идею его, сдвигали вопрос с мертвой точки и давали основания для дальнейших переговоров. Они состоялись на станции Торговой 26 декабря[183]. Их описал впоследствии ген. Краснов[184], переплетая правду с вымыслом и внеся в рассказ обычные особенности своего стиля: высокую самооценку свою личную и своих помощников — мудрых, красноречивых и государственно-мыслящих — прямую противоположность противникам, которым приписываются наивные по форме и содержанию речи, циничные взгляды и побуждения…
Нет надобности повторять те положения и доводы, которые сводились с одной стороны к определению нормальных форм единого командования, с другой — к полному отрицанию их на том главнейшем основании, что казачество с недоверием относится к «солдатским» (не казачьим) генералам и офицерам и что «гласное признание подчинения разложит Дон…»
— Отчего же вы мне предлагали пост главнокомандующего? — задал недоуменный вопрос ген. Щербачев…
Собеседование открыло такую бездну накопившейся ненависти к нам со стороны донского командования, что дальнейшие прения казались бесполезными. Дважды я прекращал переговоры и дважды атаман и ген. Щербачев просили меня продолжить их: положение Донского фронта становилось трагичным, донская оппозиция росла в числе и в силе, и весть о разрыве могла отразиться действительно печально на судьбе фронта и атамана. Меня также заботила немало участь донского фронта и одолевало искреннее желание прекратить это постыдное единоборство какою угодно ценою.
В силу этих побуждений появились на свет два акта:
- Мой приказ (26 декабря 1918 г., № 1):
«По соглашению с атаманами Всевеликого войска Донского и Кубанского, сего числа я вступил в командование всеми сухопутными и морскими силами, действующими на Юге России».
- Приказ Донского атамана, отданный «во избежание кривотолков»:
«Объявляя этот приказ (мой, № 1) Донским армиям, подтверждаю, что по соглашению моему с главнокомандующим в. с. на Юге России, ген.-лейт. Деникиным, конституция Войска Донского, Большим войсковым крутом 15 сентября с. г. утвержденная, нарушена не будет. Достояние донских казаков, их земли и недра земельные, условия быта и службы Донских армий затронуты не будут. Единое командование есть своевременная и необходимая ныне мера для достижения полной и быстрой победы в борьбе с большевиками».
Эти акты не определяли совершенно правовых взаимоотношений между главным командованием и Донской армией.
Их должна была установить жизнь.
* * *
Пока происходили все эти события, Добровольческая Армия кровавыми боями приступала к финальному акту освобождения Северного Кавказа и разгрома большевицких сил. Как только улучшилось положение под Ставрополем, я перебросил оттуда 6 декабря 3-ю дивизию ген. Май-Маевского с бронепоездами, броневиками и авиационными отрядами, в район Юзовки для прикрытия каменноугольного района и обеспечения левого фланга Донской армии[185]. Май-Маевский попал в чрезвычайно сложную военную и политическую обстановку в районе, где перемешались повстанческие отряды Махно, Зубкова, Иванько и друг., петлюровские атаманы, советские войска группы Кожевникова и, наконец, застрявшие немецкие эшелоны. Кубанские самостийники подымали сильную агитацию против «вторжения на территорию Украины»; донской атаман настойчиво добивался наступления отряда на Харьков, взятый большевиками 21 декабря, и «занятия северных границ Украины»; а Май-Маевский в течение двух месяцев со своими 2½, потом 4½ тысячами штыков, с огромным напряжением и упорством едва отбивался от Махно, петлюровцев и двух дивизий большевиков.
Вместе с тем, с ноября месяца я непрестанно напоминал союзникам о необходимости скорейшего направления вооруженных сил, прежде всего, на Дон, где помощь эта имела бы колоссальное значение для морального подъема уставшего духом казачества. «Целым рядом телеграмм я просил оказать содействие союзными войсками на донском фронте… Донские казаки в течение года героически сражались и сопротивлялись превосходным силам врага, но теперь усталые начинают терять веру в поддержку союзников… Если союзным командованием решено помочь нам в борьбе с большевиками, то эту помощь надо дать теперь же, чтобы поддержать дух казаков и сохранить Донскую область…»[186].
Был один момент (21 ноября), когда французская миссия сообщила нам о подходе двух дивизий к Новороссийску, и штаб мой отдавал уже спешное распоряжение о подготовке поездных составов для перевозки головной французской дивизии на Дон… Твердой уверенности, однако, в ее прибытии у меня не было. Поэтому, об ожидаемом событии штаб никаких объявлений не делал, а переписка о перевозке велась в «весьма секретном» порядке. Действительно, десант в Новороссийске не появился, а взамен того, вскоре начали высаживаться небольшие части союзников в Одессе, Севастополе и Батуме.
На мои телеграммы генералу Франше д’Эспре ответов не поступало.
Англичане были положительнее и откровеннее: на мою телеграфную просьбу в Батум ген. Уоккеру о необходимости оказать «немедленную моральную помощь Дону, которая могла бы выразиться в присылке на Донской фронт (хотя бы) двух-трех английских батальонов»[187], ген. Мильн выразил «крайнее сожаление, что указания, полученные (им) от Великобританского правительства, не дают (ему) права выслать (мне) войска…»[188].
А советские прокламации, разбрасываемые во множестве по Донскому фронту, злорадно утверждали, что никакой союзной помощи и не будет…
Французская военная миссия, между тем, продолжала поддерживать иллюзии. К несчастью, во главе ее стоял некто, капитан ген. штаба Фуке — человек мало соответствовавший трудной роли представителя Франции. И начал-то он свою карьеру на Юге как-то странно — представлением мне на подпись дифирамба своим заслугам, для ходатайства перед Франше д’Эспре о производстве его в следующий чин. Окончил же — совсем печально.
30 января я получил письмо ген. Краснова[189], весьма меня поразившее. 27 числа к нему явился капитан Фуке, заявив, что он действует по поручению ген. Франше д’Эспре. Фуке сообщил, что немедленно же будет послана французская дивизия из Севастополя на помощь Дону в район Луганска, если атаман подпишет два «соглашения». Первое из них, заключавшееся от имени французского правительства, гласило:
- События, происшедшие в районе Донецкого бассейна, позволили советским войскам его занять и совершенно дезорганизовать и разрушить промышленную жизнь. Эти события были вызваны недостатком средств защиты и охраны, так как Донские войска, которые были бы необходимы, охваченные большевицкой пропагандой, изменили, или не выполнили всего того, что при иных обстоятельствах они могли бы сделать.
- Донское Правительство признавая, что, не будучи в состоянии обеспечить охрану и защиту заводов, рудников и других промышленных учреждений, считает обязательным справедливое удовлетворение как за погибшие человеческие жизни, так и — для полного возмещения причиненных убытков — восстановление, вознаграждение за бездействующие предприятия и т. д.
- Атаман Краснов и Донские власти, выше перечисленные, настоящим принимают на себя, как выборные и признанные представители настоящего Донского Правительства, а также как представители одной из будущих частей Великой России, — обязательство удовлетворить лиц и общества французских и союзных подданных Донецкого бассейна, как на территории в пределах Донского войска, так и соседних районов, куда могли распространиться волнения, вследствие материальных затруднений Дона. Право взыскания убытков с Украинских и других властей предоставляется Войску Донскому.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Возмещение убытков также, как и 5% доходов (проторей) со дня прекращения работы вследствие событий, будут уплачены потерпевшим в 10 сроков, считая со дня решения комиссии. Способ и правила уплаты, будут совершенно те же, как принятые для оплаты купонов русской 5% ренты 1906 года.
Другое соглашение, заключаемое от имени французского главнокомандующего, ген. Фраише д’Эспре состояло в следующем:
- Соглашение, подписанное 26 декабря между генералом Деникиным, главнокомандующим армиями Юга России и генералом Красновым, Донским Атаманом и Всевеликой Донской Армией, с сегодняшнего дня будет иметь полное применение.
- Генерал Краснов, Донской Атаман, заявляет о признании полной власти ген. Деникина, а как высшего командования и власти по вопросам военным, политическим и общего порядка, обусловленным обстоятельствами — генерала Франше д’Эспре, командующего Армиями союзников, все инструкции которого будут исполнены немедленно по передаче их французской миссией.
«Вы знаете, В. В–ство — писал мне ген. Краснов — в каком критическом, почти безвыходном положении находится Донское войско. Но при всем этом я не считаю возможным взять на себя подписать такие документы. Я прошу Ваших, как главнокомандующего, указаний. Можете Вы помочь Донскому войску — сейчас послать две или три дивизии в район Зверево, Морозовская, Царицын для выпрямления фронта».
Я ответил в тот же день телеграммой[190]:
Письмо Ваше 109 получил. Вполне разделяю Ваше негодование по поводу предложения капитана Фуке и одобряю Ваш отказ подписать соглашение. Со своей стороны заявляю следующее: 1) Какие бы ни бывали между нами несогласия и различие во взглядах, я никогда не позволял себе какого-либо действия, направленного во вред интересам Донского казачества и которое могло бы затруднить героическую борьбу казаков против нашего общего врага. Еще до нашего соглашения об едином командовании, я настойчиво требовал от союзников помощи живой силой и всегда совершенно определенно указывал, что таковая должна быть дана прежде всего Дону, выдерживающему главный напор большевиков. 2) Поэтому, предложение капитана Фуке оказать Вам помощь только при условии подписания особого соглашения сделано не только без моего ведома, но я считаю верхом цинизма подобное ультимативное требование в ту тяжелую минуту, которую переживает доблестное Донское казачество. Считаю также верхом бестактности предъявление капитаном Фуке подобного требования Вам без предварительного испрошения на то моего согласия. 3) При всех требованиях помощи союзными войсками я всегда совершенно определенно и настойчиво подчеркивал, что таковая ни под каким видом не должна носить характера оккупации, что никакое устранение или даже ограничение власти военной и гражданской не будет допущено. Между тем предложенное Вам соглашение предусматривает подчинение ген. Франше д’Эспре по вопросам военным, политическим и общего порядка. На подобное подчинение я сам никогда не пойду и не допущу, чтобы таковое было бы признано какою-либо из подчиненных общему командованию частей. 4) Равным образом никогда не допущу никакого вмешательства в наши внутренние дела и считаю, что вопросы общего порядка, равно как и политического, должны решаться только нами русскими по нашему усмотрению, как мы их понимаем, и никакие чужеземные власти не смеют даже претендовать на какое-либо руководство в этом направлении. 5) На Ваш вопрос отвечаю: Донской атаман не может подписывать подобных соглашений, и Добровольческая Армия всецело станет на защиту достоинства и чести Донских казаков, если бы то потребовалось, как последствие отказа дать подпись под такими позорными для русского имени документами. 6) Мною принимаются все меры переброски частей Кавказской Добровольческой Армии на помощь Донским Армиям и последним в скором времени будет оказана всяческая поддержка, которая, не сомневаюсь, скоро поможет остановить продвижение красных и с Божьей помощью и верой в наше правое дело позволит обратить временный успех противника в полное его поражение».
Вместе с тем я сообщил ген. Франше д’Эспре[191] о действиях капитана Фуке, выразил свою уверенность, что «эти не соответствующие достоинству русского имени документы… не были присланы французским командованием, а явились результатом неправильного понимания капитаном Фуке всей ответственности сделанного им по личной инициативе выступления»…
Фуке был отозван, но на вопрос мой ответа не последовало.
* * *
Донская армия откатывалась, и депутаты северных округов, собиравшиеся на Круг, который должен был открыться 1 февраля, приносили тяжелые вести о том полном развале, который охватил северный фронт. Росли растерянность, уныние и, вместе с тем, недовольство властью и особенно командованием.
Генерал Краснов в ряде писем сообщал об отчаянном положении Дона и просил помощи.
Еще до открытия Круга, по постановлению частного заседания его прибыла ко мне в Екатеринодар депутация членов Круга во главе с ген. Поповым узнать, правда ли, что благодаря нежеланию Донского атамана подчиниться фактически единому командованию, Дону не будет оказана помощь. Я ответил:
— Это вздор. Наши личные отношения ни в малейшей степени не могут повлиять на отношение к Дону. Снабжение, которое мне дадут союзники, будет посылаться и Дону; все иноземные силы, которые пришлют мне, будут отправлены исключительно на Дон. Все, что можно будет извлечь с Кавказского театра, я перебрасываю на помощь Дону…
Не закончить операции на северном Кавказе — значило бы свести на нет все огромные наши усилия, допустить вновь залить многострадальную Кубань красной гвардией, лишить себя и Дон открытого во внешний мир окна (Черное море, Новороссийск) и поставить самую Донскую область под угрозу окружения.
Только к январю 1919 г. обозначился решительный перелом операции в нашу пользу. И в январе была переброшена на усиление Май Маевского еще одна Добровольческая дивизия (1-я), жестоко пострадавшая в боях под Ставрополем и не имевшая отдыха. 23 января мы взяли Грозный, 29 — Владикавказ, а уже 2 февраля ген. Попов телеграфировал Кругу, что кубанские дивизии для переброски на Дон готовы, но мало подвижного состава, застрявшего после перевозки Добровольцев на Дон, и необходимо… избрать членов Круга для сопровождения поездов…
Ибо тот прием, который практиковался Донским атаманом для «успокоения умов казаков» — объявление в приказах и речах о необходимости «заняться строительством своей разоренной родины» и о невыводе их поэтому за пределы Дона, вызвал подражание на Кубани: кубанцы также не хотели удаляться «от родных хат» и не понимали, почему донцы могут не оставлять свои пределы, а они должны «бросать Кубань».
Поэтому, кроме непосредственного воздействия на кубанцев, мне пришлось просить Донской круг выслать на Кавказ своих делегатов — уговаривать кубанских казаков, во что бы то ни стало желавших побывать в своих станицах, ехать на помощь старшему брату.
В связи с предстоящим открытием Донского круга, часть екатеринодарской прессы вновь ополчилась в чрезвычайно резком тоне против ген. Краснова. Я приказал закрыть газету «Истина», и в официальном сообщении штаба[192] это распоряжение мотивировано было недопустимостью «подрывать доверие к атаману, под руководством которого доблестная Донская армия прилагает величайшие усилия к спасению своей области». Надо было окончательно рассеять недоразумения, поддержать донцов морально и заверить их в помощи. И я решил поехать на Круг, о чем уведомил атамана.
Атаман, чувствуя неблагоприятное для себя настроение съезжавшихся членов Круга, 20 января запрашивал меня, не считаю ли я «своевременным, чтобы в февральскую сессию он просил Круг освободить его от должности атамана». Я ответил, что вмешиваться в его отношения с Кругом не буду.
Генерал Краснов считал, что я в союзе с ген. Богаевским и Харламовым готовлю его свержение и не верил в искренность моего «невмешательства»[193]. Письма этих лиц ко мне, относящиеся к концу января, должны значительно ослабить возводимое обвинение… «Страшная усталость — писал мне Богаевский[194] — падение духа, измена — все соединилось против нас… Надежды на союзников нет… Верьте тому, что пишет Вам атаман. Я не завидую его положению: он готов пасть духом под ударами судьбы… Блестящие успехи Добровольческой Армии дают всем надежду на быструю помощь. Ваш приезд всех радует»… То же писал и Харламов[195]: «С чувством большой радости я услыхал о Вашем желании посетить Дон и быть на Войсковом круге… Узнал об этом от атамана Краснова… Проникавшие на фронт сведения о трениях по вопросу об едином командовании вселили в казаков тревогу, что Вы из за этих трений не даете помощи и что наше командование не сделало всего, чтобы устранить эти трения… Сейчас Ваш приезд психологически необходим».
* * *
К февралю месяцу на севере Донской фронт представлял из себя неопределенную прерывчатую линию, шедшую от Луганска через Миллерово в общем направлении на Царицын. Еще в середине января насчитывавшая до 40 тыс. Донская армия таяла с каждым днем. У Луганска отбивал успешно наступление противника ген. Коновалов с 1½ дивизиями «молодой Донской армии»… У Миллерово медленно отходил вдоль ж. д. на юг восьми, десяти тысячный отряд ген. Фицхелаурова… Далее на расстоянии 100–150 в. фронта не было, и только где-то, у п. Петровского, храбрый ген. Гусельщиков, затерянный с тысячным отрядом среди мятущихся или переходивших на сторону врага станиц, атаковал еще и бил большевиков, брал пленных и оружие… За Чиром поспешно отходили на юго-запад растаявшие отряды Саватеева, Сутулова, Старикова и к февралю приблизились на пол перехода к ж. д. линии Лихая–Царицын, поставив тем под угрозу коммуникационную линию ген. Мамонтова, который все еще дрался под самым Царицыным.
В такое тревожное время собрался 1 февраля Войсковой круг.
Донской атаман в длинной волнующей речи нарисовал историю 10 месячной борьбы Дона, его героических подвигов и падения. Очертил без утайки тяжелое, но не безвыходное положение фронта, и призывал Донцов бросить колебания и робость и воспрянуть духом. Помощь близка. «Мы живем в сказке великой… Царевна с нами, господа. Русская красавица. Это Добровольческая Армия. Покончив покорение Кавказа, освободивши Терское войско, помогши кубанцам, она пришла к павшему духом Донскому богатырю и вспрыснула его живой водой… А левее, уступом медленно и грозно поднимается французская армия ген. Бертело. Она заняла Раздельную и идет дальше на север от Одессы… Великая борьба за Россию вступила в новый и последний период. Единое командование осуществлено. И вашими болями, вашими неудачами болеет вся Россия и спешит вам на помощь»…
Круг отнесся отзывчиво к речи атамана, но в тот же день в вечернем заседании встретил враждебно доклад командующего армией, ген. Денисова. В заседании 2 февраля все округа выразили единодушно недоверие ему и начальнику штаба армии ген. Полякову. Три округа[196] предоставляли решение вопроса об их замене главнокомандующему В. с. Ю. России. Атаман Краснов заявил[197]: «недоверие, выраженное ген-ам Денисову и Полякову, принимаю на себя, как верховный вождь Донской Армии. Да, я знаю — горе побежденным! Мы побеждены болезнью, которая разъела нашу армию… Вы теперь отрубаете у меня сразу и правую, и левую руку… Я прошу… выбрать мне заместителя». После баллотировки отставка атамана была принята и по донской конституции временная власть перешла к председателю правительства, ген. Богаевскому.
Если в вотуме Круга в отношении ген. Краснова можно было видеть прежде всего осуждение его общей политики, то враждебность, проявленная всем Кругом чрезвычайно остро и ярко к Денисову, была основана в значительной мере на личных его качествах: этот человек обладал исключительной злобностью и самомнением, вооружавшим против него людей. Даже несколько лет спустя, после жестоких уроков, заставляющих, казалось бы, осторожнее относиться к прошлому, он остался неизменным и в таких словах свидетельствует перед лицом истории о самом себе в третьем лице: «под его командованием Донская армия не видала поражений, а военное управление не ведало разрухи…» И противополагает «правлению донской власти, воцарившейся со 2-го февраля 1919 г.» — «выдающийся по мудрости, красоте и деятельности период их предшественников»[198]…
Рано утром 3 февраля мой поезд подходил к Кущевке. Здесь на границе Донской области встретил меня бывший атаман, ген. Краснов, предупредивший лидеров донской оппозиции, также желавших побеседовать со мной до выступления моего на Круге… В третий раз за время борьбы на Юге я встречался с человеком, с которым судьба так резко столкнула меня на широкой, казалось, русской дороге. Передо мной был уже не гордый своими и Донского казачества заслугами атаман, а человек, жестоко придавленный судьбой за свои и чужия вины. Человек несомненно одаренный, но не владевший своим словом и чувствами, создавший себе повсюду противников и врагов и нерассчетливо расточавший свои силы на борьбу с ними. И никакой горечи против него в душе моей тогда не было. Я выразил Краснову сожаление об его уходе. Он ответил: «Круг подчинится всякому вашему слову»…
После приветствий по моему адресу Круга, я сказал:
Господа члены Войскового круга, я так взволнован вашим приемом, так овеян вашей лаской, что вряд ли сумею сказать все, что хотел сказать, и так сказать, как хотел…
С чувством душевного волнения, после года отсутствия, я вновь приехал в Новочеркасск. В тот город, где с огромным трудом, окруженные слепою стеной злобы, предательства и непонимания, три великих русских патриота — Каледин, Корнилов и Алексеев начали строить заново русскую государственность.
Я приехал исполнить свой долг: поклониться праху мертвых и приветствовать живых, чьими трудами и подвигами держится Донская земля. Я приехал приветствовать Войсковой круг, олицетворяющий разум, совесть и волю Всевеликого войска Донского.
Перенеся вместе с Добровольческой Армией через ее крестный путь неугасшую и непоколебленную веру в великое будущее единой и неделимой России, я не отделяю от блага и пользы России интересов Дона. Я знаю, что силы, благоденствие и процветание Донского войска служат залогом спасения России.
Вот почему год тому назад, защищая подступы к Таганрогу и Ростову, я болел душой, видя полное наше одиночество. В феврале я с тяжелым чувством покидал Донскую землю; в апреле я с великой радостью узнал, что Дон очнулся от навождения и встал на защиту поруганной свободы своей. Летом соединенными силами Добровольцев, кубанцев и донцов боролся в Задонье. И в героической борьбе Дона, вместе с Добровольческой и Кубанской армиями, радовался вашим успехам и скорбел при ваших неудачах.
То, что сделано Доном в беспримерной борьбе его с разрушителями Родины, никогда ею не будет забыто.
Теперь опять стряслась беда над Доном. Неужели же вся огромная созидательная работа целого года должна пропасть даром? Нет. Донское свободолюбивое войско не может пойти в кабалу к грязному, безумному, проклятому большевизму. А те, кто предал Дон, забыв честь и совесть, пусть знают, что «отдыхать» им не придется. Если «новоявленные друзья»–красноармейцы не пошлют их на восток проливать братскую кровь сибирских, оренбургских и уральских казаков, то здесь они встретятся в смертном беспощадном бою с нами.
В помощь Дону я развернул уже самый крепкий корпус Добровольцев и посылаю все, что можно оттянуть с Кавказского фронта и что могут перевезти растроенные несколько железные дороги.
Доблестные кубанские казаки, которым посчастливилось освободить уже всю землю и которые, самоотверженно сражаясь в Терско-Дагестанском крае, докончили его освобождение, поспешат на помощь Дону — я в этом глубоко уверен. Идут и Терцы. Союзники пока не пришли к нам. Трудно сказать, какие технические и политические условия тормозят прибытие союзных войск, но, очевидно, имеются на это свои причины. Во всяком случае, живая сила, которую пошлют они мне в помощь, будет направлена на Донской фронт.
В конечной победе не сомневаюсь, ибо дело наше правое.
Я знаю, что Дон может колебаться, что от перенесенных лишений, невзгод, тяжких потерь у малодушных упало сердце. Положение грозное — нет сомнения. И не потому, что враг силен, а от усталости, уныния и, может быть, предательства некоторых станиц и Донских частей. Но ведь было еще хуже. Ведь год тому назад весь Дон заполнен был большевиками, которые нагло издевались над всем укладом казачьей жизни, над вашими вольностями, которые завладели казачьим добром, убивали лучших людей ваших.
Однако, Дон встал. Встал во весь рост. Также будет и теперь.
Не могут же донцы допустить, чтобы наглые пришельцы–красноармейцы сели на их землю, лишили их свободы, обобрали их до нитки и посылали в братоубийственный бой против своих же казаков, как это делают уже в северных округах.
Я верю в здоровый разум, русское сердце и любовь к Родине донского казака.
Верю, что ваша внутренняя распря, в которой я не могу и не хочу быть судьей, не отразится в борьбе с врагами Дона и России, на общей дружной работе.
И Дон будет спасен.
Но на этом путь наш не кончится. Путь тяжкий, но славный. Настанет день, когда, устроив родной край, обеспечив его в полной мере вооруженной силой и всем необходимым, казаки и горцы вместе с Добровольцами пойдут на север — спасать Россию от распада и гибели. Ибо не может быть ни счастья, ни мира, ни сколько-нибудь сносного человеческого существования на Дону и на Кавказе, если рядом с ними будут гибнуть прочие русские земли. Пойдем мы туда не для того, чтобы вернуться к старым порядкам, не для защиты сословных и классовых интересов, а чтобы создать новую, светлую жизнь всем: и правым, и левым, и казаку, и крестьянину, и рабочему…
Много терний на этом пути. Но при добром желании, при общем и искреннем стремлении всех новых образований к государственному объединению он приведет нас к желанной цели — к счастью Родины.
И я от души желаю сил, мужества и удачи Кругу, Атаману и Правительству в их непомерно тяжкой, но благодарной работе. В тесном единения с Добровольческой Армией, с кубанцами, терцами и горцами Северного Кавказа, опираясь на все государственно мыслящие круги, донская власть примирит интересы разнородного населения, внесет начала справедливости и внутреннего мира, даст победу над врагом и счастье родной области. В этом — залог нашего общего благополучия, в этом — важный этап в строительстве Великодержавной России, которой мы без сомнений, без колебаний, отдадим все свои желания, все помыслы, и даже жизнь.
Речь отвечала тому, чего хотел Круг, и по свидетельству официального отчета[199] «влила бодрость в удрученные сомнениями души членов Круга, дала им уверенность, что Дон не будет одинок в борьбе»…
Но того слова, которого хотел услышать ген. Краснов, я по совести сказать не мог.
— «В вашей внутренней распре я не могу и не хочу быть судьей»…
Вот все, что я считал себя вправе сказать атаману и Кругу накануне атаманских выборов, решивших судьбу ген. Краснова… «Невмешательство» мое пошло несколько далее: я не считал возможным в эти тяжелые для Дона дни предъявлять Кругу требования, которые обеспечивали бы реальное содержание «договору» в Торговой и реальную власть главнокомандующему — требования, которые были бы выполнены несомненно.
Кавказская добровольческая армия, овеянная столькими победами, была уже свободна, и эшелон за эшелоном текли на север без всяких кондиций, просто — для спасения Дона и общерусского противобольшевицкого фронта.
* * *
Ввиду ухода Денисова и Полякова, Донское правительство в выборе командующего остановилось на ген. Абрамове и в качестве начальника штаба армии — на ген. Райском. Я согласился на эти назначения, уехал на фронт, а через три дня телеграф принес известие об избрании атаманом ген. А.П. Богаевского и одновременно — ходатайство нового атамана о назначении командующим армией ген. Сидорина и начальником штаба — ген. Кельчевского. Первого — очевидно по соображениям политическим[200], второго по военным. Так как военные познания и опыт Кельчевского компенсировали отсутствие командного стажа у Сидорина, я согласился и на эти назначения.
Обращение ко мне по этому вопросу нового атамана было большим шагом вперед, ибо «договор» в Торговой не предусматривал даже такого «вмешательства» моего в управление автономной Донской армией.
Новая Донская власть вступала в исполнение своих обязанностей в момент исключительно тяжелый. Кроме восстановления разложившегося фронта, ей предстояла задача умиротворения сильно замутившейся внутренней жизни Дона.
Глава X. Добровольческая Армия и флот. Силы, организация и снабжение
Добровольческая армия к началу 1919 года имела в своем составе: 5 дивизий пехоты[201], 4 пластунских бригады, 6 конных дивизий, 2 отд. кон. бригады, армейскую группу артиллерии, запасные, технические части и гарнизоны городов. Численность армии простиралась до 40 тыс. штыков и сабель, при 193 оруд., 621 пулем., 8 брон. автомоб., 7 бронепоезд. и 29 самолетах.
Главная масса войск сведена была в пять корпусов: I, II и III армейские, Крымско-азовский и I конный[202] (генералы Казанович, Май-Маевский, Ляхов, Боровский и барон Врангель), позднее в феврале был сформирован и II куб. корпус ген. Улагая. В состав I-го и II корпусов в феврале вошли переданные донским атаманом части бывших Астраханской и Южной армий, на которые возлагалось столько надежд немцефильскими кругами и которые были тогда уже, к сожалению, в стадии полного развала.
В начале декабря 1918 года Добровольческая действующая армии располагалась в четырех главных группах[203]:
- Кавказская группа (I, III, I кон. позднее II кон. корпуса, с приданными частями), силами в 25000 и 75 орудий, располагалась между Манычем и Кавказскими предгорьями у Минеральных вод. Она имела общей задачей — окончательное освобождение Северного Кавказа до Кавказского хребта, овладение зап. берегом Каспийского моря и низовьев Волги, что давало возможность войти в связь с англичанами у Энзели и с уральцами у Гурьева и отрезать советскую Россию от бакинской и грозненской нефти.
- Донецкий отряд (ген. Май-Маевского), силою в 2½ –3½ тыс. и 13 оруд., в районе Юзовки прикрывал Донецкий каменноугольный район и Ростовское направление.
- Крымский отряд ген. Барона Боде (потом Боровского), первоначально только 1½ –2 тыс. и 5–10 оруд., прикрывал Перекоп и Крым, базы и стоянки Черноморского флота; он должен был служить кадром для формирования на месте — Крымского корпуса.
- Туапсинский отряд ген. Черепова (2-я дивиз. с приданными частями), силою в 3000 и 4 оруд., имел задачей прикрывать нашу главную базу — Новороссийск со стороны Грузии.
Таким образом, всех действующих сил мы имели 32–34 тыс. и около 100 орудий, из которых на главном театре сосредоточено было 76%.
Против нас противник располагал следующими силами:
- На Северо-Кавказском театре — XI и XII (формирующаяся) советские армии, насчитывавшие до 72 тыс. и около 100 оруд.
- На Ростовском и Крымском направлениях в течение декабря действовали объединенные шайки «батьки» Махно силою в 5–6 тыс. и в низовьях Днепра 2–3 тыс. передавшегося на сторону советов петлюровского атамана Григорьева. Кроме того, вся северная Таврия была наводнена неорганизованными, «аполитичными» шайками, занимавшимися грабежом и разбоями. Только с конца декабря, после овладения Харьковом, большевики направили через Лозовую на юго-восток, против Май-Маевского, и на юг, в направлении Александровска, первые регулярные дивизии из группы Кожевникова.
- На Сочинском направлении стояло, эшелонируясь от Лазаревки до Сухума, три, четыре тысячи грузинских войск, под начальством ген. Кониева.
Всего, следовательно, на фронтах Добровольческой Армии в соприкосновении с нами советских войск было около 80 тыс. и грузин 3–4 тыс.
Когда 26 декабря 1918 г. состоялось объединение Добровольческой и Донской армий, и театр войны расширился новыми обширными территориями, явилась необходимость выделения Добровольческой Армии и создания при мне объединяющего штабного органа. Я принял звание «главнокомандующего вооруженными силами на Юге России», прежний армейский штаб стал штабом главнокомандующего, а для Добровольческой армии приступлено было к формированию нового штаба.
Предстоял весьма важный вопрос о назначении командующего Добровольческой армии.
Я считал наиболее достойным кандидатом на этот пост — по широте военного кругозора и по личной доблести — участника Добровольческого движения с первых же шагов его, генерала Романовского. Однажды, после очередного доклада я предложил ему на выбор — армию или штаб главнокомандующего. Не скрыл, что его уход будет тяжел для меня: нет подходящего заместителя, придется назначить случайного человека, и я останусь в своей большой работе и в своих переживаниях одиноким. С другой стороны (перед глазами у нас был пример незабвенного Маркова), я не сомневался, что и Романовский, став в строй, выйдет из удушливой атмосферы политики, быстро приобретет признание войск, развернет свои боевые способности и покроет славой себя и армию.
Иван Павлович думал день и на другое утро сказал, что останется со мной… Принес в жертву нашей дружбе свое будущее.
Непроницаемым покровом завешаны от глаз наших пути Господни. Кто знает, как сложилась бы тогда судьба армии и Романовского… Вынесла ли бы его на гребень волны или похоронила в пучине… Мы знаем только одно: это решение стоило ему впоследствии жизни.
Обсудив вместе с начальником штаба вопрос о командующем, остановились на ген. бароне Врангеле. Он был моложе других корпусных командиров и только недавно вступил в ряды Добровольческой Армии — это должно, было вызвать обиды. Но в последних славных боях на Урупе, Кубани, под Ставрополем он проявил большую энергию, порыв и искусство маневра. Назначение барона Врангеля состоялось[204]. Один из достойных корпусных командиров, первопоходник, ген. Казанович благодаря этому ушел в отставку[205], другие поворчали, но подчинились. Начальником штаба армии стал ген. Юзефович.
В виду последующего развертывания Крымско-азовского корпуса в армию, войска, подчиненные ген. Врангелю, получили наименование Кавказской Добровольческой Армии. С 27 дек. по 10 января, чтобы дать закончить ген. Врангелю операцию 1 кон. корпуса на путях от Петровского до линии Св. Крест — Минеральные воды, армией временно командовал ген. Романовский.
1 января 1919 г. я отдал приказ[206]:
«Четырнадцать месяцев тяжкой борьбы. Четырнадцать месяцев высокого подвига Добровольческой Армии. Начав борьбу одиноко — тогда, когда рушилась государственность и все кругом бессильное, безвольное спряталось и опустило руки, горсть смелых людей бросила вызов разрушителям родной земли.
С тех пор льется кровь, гибнут вожди и рядовые Добровольцы, усеяв своими могилами поля Ставрополя, Дона и Кубани.
Но сквозь ужасы войны, сквозь злобу и недоверие ничему не научившихся тайных врагов своих, Армия пронесла чистой и незапятнанной идею Единой Великодержавной России.
Подвиги Армии безмерны.
И я, деливший с нею долгие, тяжкие дни и горе, и радость, горжусь тем, что стоял во главе ее.
Я не имею возможности теперь непосредственно руководить Добровольческой Армией, но до конца дней моих она останется родной и близкой моему сердцу.
Сердечно благодарю всех моих дорогих соратников, чьими беспримерными подвигами живет и крепнет надежда на спасение России.
* * *
Название «добровольческих» — армии сохраняли уже только по традиции. Ибо к правильной мобилизации было приступлено в кубанских казачьих частях с весны, а в регулярных — со 2 августа 1918 г. Три последовательных мобилизации этого года подняли на Северном Кавказе десять возрастных классов (призывн. возр. 1910–1920 г.), в Приазовском крае — пока два (1917, 1918 и частью 1915, 1916 г.г.), в Крыму один (1918 г.). Ввиду того, что революция повсеместно разгромила органы учета, установить точно процент уклонившихся штаб мой не мог. По приблизительным его подсчетам цифра эта для Северного Кавказа определялась в 20–30%. Мобилизованные поступали в запасные части, где подвергались краткому обучению или — в силу самоуправства войсковых частей — в большом числе непосредственно в их ряды. Число прошедших через армейский приемник в 1918 г. определялось в 33 тыс. человек. К концу 1918 г. был использован широко другой источник пополнения — пленные красноармейцы, уже многими тысячами начавшие поступать в армию обоими этими путями.
Весь этот новый элемент, вливавшийся в Добровольческие кадры, давал им и силу, и слабость. Увеличивались ряды, но тускнел облик и расслаивались монолитные ряды старого Добровольчества. Лихорадочно быстрый темп событий среди непрекращавшегося пожара общей гражданской войны, если и допускал поверхностное обучение, то исключал возможность воспитания. Масса мобилизованных во время пребывания в тылу, в мирной обстановке запасных батальонов, была совершенно пассивной и послушной. За вторую половину 1918 г. из запасных батальонов дезертировало только 5%. Но, выйдя на фронт, они попадали в крайне сложную психологически обстановку: сражаясь в рядах Добровольцев, они имели против себя своих односельчан, отцов и братьев, взятых также по мобилизации Красной армией; боевое счастье менялось, их села переходили из руки в руки, меняя вместе с властью свое настроение. И дезертирство на фронте значительно увеличивалось. Тем не менее, основные Добровольческие части умели переплавить весь разнородный элемент в горниле своих боевых традиций и по общему отзыву начальников мобилизованные солдаты вне своих губерний в большинстве дрались доблестно.
Что касается кубанского казачества, оно несло тяготы значительно большие: выставляло десять возрастных классов в состав действующей армии и во время борьбы на территории Кубани — почти поголовно становилось в ряды в качестве гарнизонов станиц и отдельных, партизанского типа, отрядов. Природные конники — кубанцы неохотно шли в пластунские батальоны; пехота их была поэтому слаба и малочисленна, но конные дивизии по-прежнему составляли всю массу Добровольческой конницы, оказывая неоценимые услуги армии.
В отношении старых Добровольцев мы были связаны еще формально четырехмесячным «контрактом». Первый период для главной массы кончился в мае, второй в сентябре, третий кончался в декабре. Еще в августе я хотел покончить с этим пережитком первых дней Добровольчества, но начальники дали заключение, что психологически это преждевременно… Мне кажется, что и тогда уже они ошибались. 25 октября я отдал приказ[207] о призыве в ряды всех офицеров до 40 лет, предоставив тем из них, кто освобождался из армии, или покинуть территорию ее в семидневный срок, или подвергнуться вновь обязательному уже призыву… А через полтора месяца состоялся приказ[208] об отмене четырехмесячных сроков службы, которая стала окончательно общеобязательной. К чести нашего Добровольческого офицерства надо сказать, что приказы эти не только не встретили какого либо протеста, но даже не привлекли к себе в армии внимания — так твердо сложилось убеждение в необходимости и обязательности службы.
Итак, с конца 1918 г. институт добровольчества окончательно уходил в область истории, и добровольческие армии Юга становятся народными, поскольку интеллектуальное преобладание казачьего и служилого офицерского элемента не наложило на них внешне классового отпечатка.
* * *
С января 1919 г. в штабе учрежден был отдел, ведавший формированиями. Войска специальных родов оружия организовывались обыкновенно в тылу и уже готовыми поступали на фронт; также было и с кубанскими полками, которые комплектовались территориально в своих округах. С формированием пехоты дело обстояло иначе: необыкновенно трудно было поставить материальную часть полков средствами нашего немощного армейского интендантства, и штаб мирился с формированиями на фронте, где заинтересованные непосредственно в своем усилении начальники находили возможность, с грехом пополам, обуть, одеть, вооружить и снарядить новые части. Но бои кипели непрерывно, фронт ввиду большого неравенства сил, всегда нуждался в подкреплениях, резервов в тылу не было, и новые части бросались в бой задолго до своей готовности. Противник не давал нам времени на организацию. У нас не было такой предохранительной завесы, которую для Украины представлял немецкий кордон, для Сибири фронт Народной армии, для Грузии — Добровольческая Армия. Добровольческие части формировались, вооружались, учились, воспитывались, таяли и вновь пополнялись под огнем, в непрестанных боях. Тем не менее войсковые части, рожденные и воспитанные на фронте при такой обстановке, иногда за счет ослабления кадровых полков, являлись более боеспособными, чем тыловые формирования.
Другим крупным злом в организации армии было стихийное стремление к формированиям — под лозунгом «возрождения исторических частей Российской армии». «Ячейки» старых полков, в особенности в кавалерии, возникали, обособлялись, стремились к отделению, обращая боевую единицу — полк — в мозаичный коллектив десятков старых полков, ослабляя ряды, единство и силу его. Такие формирования возникали и в тылу, существовали негласно по целым месяцам, добывая частные средства или пользуясь попустительством властей разных рангов, ослабляя фронт и превращая иной раз идейный лозунг «под родные штандарты» — в прикрытие шкурничества.
Также велико было стремление начальников к формированию частей «особого назначения». Таковы, например, «Летучий отряд особого назначения Кавказской Добровольческой армии» (у ген. Врангеля), во главе с ротмистром Барановым, имевший довольно темное назначение — борьбы с крамолой… «Волчьи сотни» ген. Шкуро — его личная гвардия, постепенно терявшая боевое значение, обремененная добычей… «Карательные отряды», формировавшиеся ставропольским военным губернатором ген. Глазенапом, превратившиеся в лейб-охрану богатых местных овцеводов и т. д….
Со всеми этими бытовыми явлениями мы боролись, но, очевидно, не достаточно сурово, так как, меняя внешние формы, они продолжали существовать.
* * *
На Севастопольском рейде ко времени прихода союзников находились остатки нашего Черноморского флота, уцелевшие после новороссийской катастрофы[209]. Среди них линейный корабль (дредноут) «Воля»[210], крейсер «Кагул», более десятка миноносцев, несколько подводных лодок, старые линейные корабли и много мелких судов вспомогательного назначения. Большинство боевых судов требовало капитального ремонта.
Как я уже говорил, с приходом в Севастополь, союзники подняли на наших судах свои флаги и заняли их своими командами. Только на «Кагуле», трех находившихся в ремонте миноносцах и на старых линейных кораблях оставались еще русские флаги.
Необходимо было кому-нибудь взять на себя охрану андреевского флага и беспризорного русского достояния. Центрами притяжения были только Украинская держава и Добровольческая Армия. Первая обосновывала свое право на русское наследство «историческими границами Великой Украины», включавшими весь северный черноморский берег, и обещанием германцев передать Украине к ноябрю весь Черноморский флот. Вторая выступала как общерусский военный центр Юга. Основания Украины к тому времени были настолько одиозны в глазах русской общественности и морского офицерства, что вопрос о подчинении флота был предрешен и не потребовал ни малейшей борьбы.
Вся трудность заключалась в выборе лица, которое могло бы возглавить флот и успешно повести дело его возрождения. Я совершенно не имел никаких знакомств в морских кругах и вынужден был руководствоваться мнением моряков, находившихся в сношениях со ставкой. Получалась картина полного безлюдия. Мне называли только два имени: один — контр-адмирал князь Черкасский, который оставался где-то в советской России и которого нам так и не удалось разыскать; другой — вице-адмирал Саблин; деятельность последнего в качестве командующего советским флотом перед новороссийской катастрофой требовала еще выяснения, и сам он жил тогда за границей. Пришлось остановиться на адмирале Канине, который пользовался известной популярностью в морской среде и авторитетом в морских вопросах, но не отличался качествами боевого вождя…
13 ноября я отдал приказ о назначении адм. Канина и. д. командующего Черноморским флотом. Канин, под влиянием «украинских» адмиралов Покровского, Клочковского и др., некоторое время колебался, потом вступил в должность, и присоединение Черноморского флота к Добровольческой Армии совершилось автоматически и безболезненно. Присоединение номинальное, так как был командный состав, но не было в его распоряжении боевых судов. Началась длительная, нелепая и глубоко обидная борьба с союзным морским командованием за право существования русского флота.
Только в начале января старший в то время французский адмирал Амет предложил Канину укомплектовать два находившихся еще в ремонте миноносца; в то же время союзным командованием дано было разрешение подготовить крейсер «Кагул» для отправки в Новороссийск с целью… поднятия затопленного парохода «Эльборуса».
А между тем, вскоре по побережью Черного и Азовского морей начались бои, и помощь флота стала необходимой. Снова, как в первые дни Добровольчества — в дни деревянных бронепоездов и краденых пушек — офицерская молодежь заряжала старые пароходы и баржи, с тихим ходом и неправильным механизмом, вооружала их орудиями и ходила вдоль берегов, вступая в бой с большевиками, рискуя ежечасно стать жертвой стихии или попасть в руки врага.
А боевые суда наши в это время томились в плену у союзников…
Между тем, штаты морских учреждений росли непомерно, собравшееся в большом числе в Севастополе морское офицерство томилось бездельем, а боевая готовность даже ничтожного числа судов, которое было предоставлено нам, подвигалось плохо. В марте приехал Саблин и сменил Канина. Саблину пришлось уже попасть в волну первой эвакуации Крыма и быть свидетелем тяжелой картины, как союзники, при общем паническом настроении, топили лучшие наши подводные лодки, взрывали цилиндры машин на оставляемых в Севастополе судах, топили и увозили запасы. Было невыразимо больно видеть, как рос синодик остатков русского флота, избегнувших гибели от рук немцев, большевиков и матросской опричнины…
«Кагул»[211], подводную лодку «Тюлень» и еще 5 миноносцев и 2 подводных лодки на буксирах удалось, с огромным трудом, вывезти в Новороссийск, где приступлено было к ремонту, вооружению и укомплектованию их. Наши решительные протесты, возмущение, с которым русская общественность отнеслась к факту бездеятельности войск и флота союзников в трагических одесских и крымских событиях, а может быть, и возросшее доверие к силам Юга, заставили союзников прекратить противодействие: летом 1919 года во время операции по вторичному овладению Крымом и Новороссией, в составе флота числились уже 1 крейсер, 5 миноносцев, 4 подводных лодки и десятка два вооруженных пароходов, лодок и барж.
К осени союзники возвратили нам все остальные захваченные суда, в том числе дредноут «Воля», получивший наименование «Генерал Алексеев».
* * *
Снабжение армий находилось в руках главного начальника снабжений[212], непосредственно подчиненного начальнику военного управления[213].
Главным источником снабжений до февраля 1919 года были захватываемые нами большевицкие запасы. При этом войска, не доверяя реквизиционным комиссиям, старались использовать захваченное для своих нужд без плана и системы. Часть запасов получалась с бывшего Румынского фронта. Все это было случайно и крайне недостаточно. В ноябре, к приходу союзников, официальный отчет штаба рисовал такую картину нашего снабжения:
Недостаток ружейных патронов принимал не раз катастрофические размеры. «Бывали периоды, когда на всю Армию оставалось несколько десятков тысяч патронов, и, если пулемет в начале боя имел 2–3 ленты, то это считалось очень и очень благополучным…» Такое же положение было с артиллерийскими патронами: «к 1 ноябрю весь запас армейского склада состоял из 7200 легких, 1520 горных, 2770 гаубичных и 220 тяжелых снарядов. Обмундирование — одни обноски…» Санитарное снабжение… «можно считать несуществующим. Нет медикаментов, нет перевязочных средств, нет белья. Имеются только врачи, которые бессильны бороться с болезнями. Индивидуальных пакетов не имеется вовсе. Часто бывают случаи, когда полное отсутствие перевязочных материалов заставляет применять грязное белье самих же раненых…» Грозность нашего положения была тем больше, что к весне, благодаря непрерывным кровопролитным боям и эпидемиям, число раненых и больных в лечебных заведениях армий доходило до 25 тысяч.
С начала 1919 года, после ухода немцев из Закавказья, нам удалось получить несколько транспортов артиллерийских и инженерных грузов из складов Батума, Карса, Трапезунда. А с февраля начался подвоз английского снабжения. Недостаток в боевом снабжении с тех пор мы испытывали редко[214]. Санитарная часть улучшилась. Обмундирование же и снаряжение, хотя и поступало в размерах больших, но далеко не удовлетворявших потребности фронтов[215]. Оно, кроме того, понемногу расхищалось на базе, невзирая на установление смертной казни «за кражу предметов казенного вооружения и обмундирования». Таяло в пути и, поступив, наконец, на фронт, пропадало во множестве, уносимое больными, ранеными, пленными, дезертирами… Замечательно, что всякого рода хищения военного имущества и распродажа его на сторону встречали в обществе безразличное, часто покровительственное отношение. Рынок имеет свои законы: предельное сжатие его вызывает противодействие, чуждое моральных побуждений. Обмундирование, поступавшее на Дон, после раздачи казакам, отправлялось обыкновенно в станицы и пряталось на дно все еще не опустошенных казачьих скрынь.
Собственным попечением наши органы снабжения заготовляли совершенно ничтожную часть потребности. Причин много. Были и общие, вытекавшие из финансовых затруднений армии, недостаточного развития в промышленном отношении Северного Кавказа, общего развала торговли и промышленности; были и частные — шаблоны нормальной войны и нормального полевого положения, отсутствие у нас системы и творчества, властно требуемых обстановкой, совершенно новой и исключительной; наконец — всеобщая деморализация нравов.
Один из видных армейских интендантов по поводу гонения, воздвигаемого обществом и печатью на интендантство, писал в то время:
«Промышленность разрушена; сырья в армии нет, технических и транспортных средств почти нет, опытных специалистов мало, конъюнктура рынка, не регулируемая никакими финансово-промышленными органами, своевольно стремится в беспредельную высь. Тыл, органы снабжения должны напрячь все свои творческие, административные и изобретательные способности, чтобы при таких условиях, дать армии хотя бы малое, необходимое. Условия работы неизмеримо труднее, чем во время австро-германской войны и требуют исключительных специальных знаний, опыта и энергии.
Между тем, вместо компетентных работников, специалистов, школой и большим опытом подготовленных к работе снабжения армии, хорошо знакомых с организацией снабжения, промышленным миром и рынком, дело снабжения находится в руках исключительно офицеров генерального штаба, не знакомых ни с рынком, ни с торгово-промышленным миром, ни с политической экономией, ни с квалификацией товаров и продуктов.
Законы нормы отстали от жизни, а новых еще не создано. Каждый активный исполнитель-заготовитель вынужден на свой риск и страх во много раз превышать те права, которые даны ему законом. События совершаются с невероятной быстротой, и жизнь не терпит промедления. Чтобы не отставать от жизни, приходится отбрасывать в сторону всякие бумажные нормы и преступать всякие законы, для чего нужны компетентные, честные исполнители, свобода действий и полное доверие».
«Честные исполнители, полное доверие», — конечно, это первооснова успеха работы. Но где их взять! Когда на Дону, на Кубани, не переставая, одна за другой выплывали на свет панамы… Когда несколько месяцев главное интендантство вооруженных сил находилось под воздействием назначенной мною сенаторской ревизии Таганцева… Ревизия добросовестно искала «виновных», привлекала к ответственности крупных и мелких нарушителей закона, но не умела найти грехи системы, не умела и не могла изменить общих условий, питавших преступность.
От общественности, так дружно отозвавшейся на нужды армии в 1916 году, мы, в этом отношении, помощи видели мало: военно-промышленный комитет, земгор, красный крест были разрушены и только начинали проявлять свою деятельность. От «демократии»? Один из органов Шрейдера «Родная Земля», описывая вопиющие нужды армии, говорил: «нуждалась ли бы армия в чем-нибудь, если бы была окружена горячей и любовной заботливостью русской демократии? Конечно нет: русский народ умеет самоотверженно отдавать последнюю свою рубаху, последний свой кусок хлеба тому, кому он верит, в ком он видит борца за святое и правое народное дело. Очевидно, есть что-то в атмосфере, окружающей Добровольческую армию, что расхолаживает нашу демократию…»[216]. Русский народ и демократия господина Шрейдера это далеко не одно и то же. Народ отверг эту «демократию» на Волге, на Востоке, на Юге, по всей России. Но он не усыновил также в родительской любви своей ни красной, ни белой армии: не нес им в жертву добровольно ни достатка своего, ни жизни.
Пресловутый частный торговый аппарат претерпел, очевидно, с революцией серьезное перерождение: я не помню крупных сделок наших органов снабжения с солидными торговыми фирмами, но за то в памяти моей запечатлелись ярко типы спекулянтов-хищников, развращавших администрацию, обиравших население и казну и наживавших миллионы: М. — на Кубани, Ч. — на Дону и в Крыму, Т. Ш. — в Черноморьи и проч. и проч.
Но все это были партизаны, рожденные безвременьем и чуждые традиций промышленного класса.
Крупная торгово-промышленная знать появилась на территории Армии, главным образом, после падения Одессы и Харькова в начале 1919 года. Многия лица из ее рядов успели вынести с пожарища русской храмины часть своих достатков, сохранили еще кредит, а главное — организационный опыт, в широком государственном масштабе. Мы ожидали от них помощи и, прежде всего, в отношении армий. Эта помощь была предложена действительно, но в такой своеобразной форме, что на ней стоит остановиться…
14 сентября 1919 г. между донским правительством в лице начальника отдела торговли и промышленности Бондырева и «Товариществом Мопит»[217] был заключен договор на поставку Донской армии и населению заграничной мануфактуры. «Мопит» являлся комиссионером казны, взяв на себя, «при всемерном содействии войска Донского»[218] на территории Дона — и, без ведома командования — на территории Добровольческой Армии (§ 2) — скупку сырья, отправление и продажу его за границей, покупку там и доставку на Дон мануфактуры. Основной капитал для оборота, в общем до миллиарда рублей, должен был выдаваться донской казной по частям авансом; все решительно расходы, как-то провоз, хранение, пошлины и т. п., ложились на казну. «Мопит» за услугу Донской армии брал себе в качестве «организационных расходов» и предпринимательской прибыли за покупку сырья 19% и за операцию с мануфактурой 18%. Весь договор был полон неясностей и недомолвок, позволявших при желании значительно расширять размеры прибыли. Но самое странное было то, что статьи договора ставили выполнение его в зависимость от доброй воли «Мопита», предоставляя ему возможность воспользоваться самому всеми выгодами реализации драгоценного и купленного сравнительно за бесценок донского сырья. Статья 9-я гласила:
«Если полученные товариществом авансы не будут по вывозе сырья за границу и его реализации покрыты поставками товаров или вырученной от продажи сырья валюты в обусловленный срок, то Товарищество обязуется возвратить войску полученные авансы, с начислением процентов со дня просрочки в размере взимаемых Государственным банком по учету векселей…»
И только.
С договором этим я ознакомился из газет. Я не имел нрава вмешиваться во внутренние дела суверенного Дона, но, так как весь экспорт регулировался Особым Совещанием и выполнение поставок на Донскую армию договором обеспечено не было, я приказал выдачу Товариществу разрешения на вывоз сырья и хлеба за границу прекратить. Особая комиссия рассмотрела затем договор и, после разъяснений его статей учредителями и видоизменения, Особое Совещание сочло возможным допустить деятельность «Мопита».
А. В. Кривошеин, объясняя свое участие в «Мопите», жаловался мне[219] на «газетные инсинуации» и утверждал, что учредители его преследовали цели исключительно государственные, а лично он «с содержанием злополучного договора познакомился впервые, когда начался уже газетный поход». «Учредители Мопита, — писал он, — обширная группа издавна пользующихся уважением и всероссийской известностью москвичей обратилась ко мне с предложением избрать меня председателем совета, придавая этому политическое значение, как лишней возможности объединить их на общей платформе сейчас и особенно в виду предстоявшего прихода в Москву. Мысль — основать здесь крупное московское дело и, таким образом, теснее сплотить черноземный юг с промышленной Москвой казалась правильной и своевременной…»
Но, общество, взволнованное этим делом, видело в нем только коммерцию, а не политику. Часть прессы чрезвычайно резко ополчилась против «мопитян», которых вины наиболее умеренный в своих заключениях «Приазовский Край»[220] определял такими словами: «…В договоре нет элементов заведомого обмана или заведомого введения в невыгодную сделку… Тяжелая сторона ее заключается в том, что и именитые москвичи также являются одними из многих, наживающихся на армии, на гражданской войне…»
Как бы то ни было, и печать, и общество, и армия постепенно пришли к одинаковому заключению.
Нет больше Мининых!
И армия дралась в условиях тяжелых и роптала только тогда, когда враг одолевал и приходилось отступать.
* * *
Казна наша пустовала по-прежнему, и содержание Добровольцев, поэтому, было положительно нищенским. Установленное еще в феврале 1918 г., оно составляло в месяц для солдат (мобилизованных) 30 руб., для офицеров от прапорщика до главнокомандующего, в пределах от 270 до 1000 руб.[221]. Для того, чтобы представить себе реальную ценность этих цифр, нужно принять во внимание, что прожиточный минимум для рабочего в ноябре 1918 г. был определен советом екатеринодарских профессиональных союзов в 660–780 рублей. Дважды потом, в конце 1918 и в конце 1919 года, путем крайнего напряжения, шкала основного офицерского содержания подымалась, соответственно на 450–3000 руб. и 700 — 5000 руб., никогда не достигая соответствия с быстро растущей дороговизной жизни. Каждый раз, когда отдавался приказ об увеличении содержания[222], на другой же день рынок отвечал таким повышением цен, которое поглощало все прибавки. Одинокий офицер и солдат на фронте ели из общего котла и, хоть плохо, но были одеты. Все же офицерские семьи и большая не фронтовая часть офицерства штабов и учреждений бедствовали. Рядом приказов устанавливались прибавки на семью и дороговизну, но все это были лишь паллиативы. Единственным радикальным средством помочь семьям и тем поднять моральное состояние их глав на фронте, был бы переход на натуральное довольствие. Но то, что могла сделать советская власть большевицкими приемами социализации, продразверстки и повальных реквизиций, было для нас невозможно, тем более, в областях автономных.
Только в мае 1919 г. удалось провести пенсионное обеспечение чинов военного ведомства и семейств умерших и убитых офицеров и солдат. До этого выдавалось лишь ничтожное единовременное пособие в 1½ тыс. рублей…
От союзников, вопреки установившемуся мнению, мы не получили ни копейки.
Богатая Кубань и владевший печатным станком Дон, были в несколько лучших условиях.
«По политическим соображениям», без сношения с главным командованием, они устанавливали содержание своих военнослужащих всегда по нормам выше наших, вызывая тем неудовольствие в Добровольцах[223]. Тем более, что донцы и кубанцы были у себя дома, связанные с ним тысячью нитей — кровно, морально, материально, хозяйственно. Российские же Добровольцы, покидая пределы советской досягаемости, в большинстве становились бездомными и нищими.
Глава XI. Моральный облик Армии. «Черные страницы»
Ряды старых Добровольцев редели от постоянных боев, от сыпного тифа, косившего нещадно. Каждый день росли новые могилы у безвестных станций и поселков Кавказа; каждый день под звуки похоронного марша на екатеринодарском кладбище опускали в могилу по несколько гробов с телами павших воинов… Пал в бою командир 1-го арт. дивизиона, полк. Миончинский, известный всей армии своим искусством и доблестью… Умер от тифа начальник 1-й дивизии ген. Станкевич, выдержавший во главе сборного отряда всю тяжесть борьбы на степном Манычском фронте, и много, много других.
В начале января мы похоронили умершего от заражения крови, вследствие раны, полученной под Ставрополем, ген. Дроздовского. Одного из основоположников Армии — человека высокого патриотизма и твердого духом. Два месяца длилась борьба между жизнью и смертью. Навещая Дроздовского в лазарете, я видел, как томился он своим вынужденным покоем, как весь он уходил в интересы Армии и своей дивизии и рвался к ней.
Судьба не судила ему повести опять в бой свои полки.
Для увековечения памяти почившего, его именем назван был созданный им 2-й Офицерский полк, впоследствии дивизия, развернутая из этого полка. Приказ, сообщавший Армии о смерти ген. Дроздовского, заканчивался словами:
«…Высокое бескорыстие, преданность идее, полное презрение к опасности по отношению к себе — соединились в нем с сердечной заботой о подчиненных, жизнь которых всегда он ставил выше своей.
Мир праху твоему — рыцарь без страха и упрека».
* * *
Состав Добровольческих армий становился все более пестрым. Ряд эвакуаций, вызванных петлюровскими и советскими успехами (Украина), и занятие нами новых территорий (Крым, Одесса, Терек) дали приток офицерских пополнений. Многие шли по убеждению, по еще больше по принуждению. Они вливались в коренные Добровольческие части или шли на формирование новых дивизий. Коренные части[224] ревниво относились к своему первородству и несколько пренебрежительно к последующим формированиям. Это было нескромно, но имело основания: редко какие новые части могли соперничать в доблести с ними. Это обстоятельство побудило меня развернуть впоследствии, к лету 1919 года, четыре именных полка[225] в трехполковые дивизии.
Вливание в части младшего офицерства других армий и нового призыва и их ассимиляция происходили быстро и безболезненно. Но со старшими чинами было гораздо труднее. Предубеждение против Украинской, Южной армий, озлобление против начальников, в первый период революции, проявивших чрезмерный оппортунизм и искательство, или только обвиненных в этих грехах по недоразумению — все это заставляло меня осторожно относиться к назначениям, чтобы не вызвать крупных нарушений дисциплины. Трудно было винить офицерство, что оно не желало подчиниться храбрейшему генералу, который, командуя армией в 1917 году, бросил морально офицерство в тяжелые дни, ушел к буйной солдатчине и искал популярности демагогией… Или генералу, который некогда, не веря в белое движение, отдал приказ о роспуске добровольческого отряда, а впоследствии получил по недоразумению в командование тот же, выросший в крупную добровольческую часть, отряд. Или генералу, безобиднейшему человеку, который имел слабость и несчастье на украинской службе подписать приказ, задевавший достоинство русского офицера. И т. д., и т. д.
Для приема старших чинов на службу была учреждена особая комиссия под председательством ген. Дорошевского, позднее Болотова. Эта комиссия, прозванная в обществе «генеральской чрезвычайкой», выясняла curriculum vitae пореволюционного периода старших чинов и определяла возможность или невозможность приема на службу данного лица или необходимость следствия над ним. Процедура эта была обидной для генералитета, бюрократическая волокита озлобляла его, создавая легкую фронду. Но я не мог поступить иначе: в виду тогдашнего настроения фронтового офицерства, эта очистительная жертва предохраняла от многих нравственных испытаний, некоторых — от более серьезных последствий… Вообще же, «старые» части весьма неохотно мирились с назначениями начальников со стороны, выдвигая своих молодых — всегда высоко доблестных командиров, но часто мало опытных в руководстве боем, и в хозяйстве, и плохих воспитателей части. Тем не менее, жизнь понемногу стирала острые грани, и на всех ступенях служебной иерархии появились лица самого разнообразного служебного прошлого…
Труднее обстоял вопрос с военными, состоявшими ранее на советской службе.
К осени 1918 г. жестокий период гражданской войны «на истребление» был уже изжит. Самочинные расстрелы пленных красноармейцев были исключением и преследовались начальниками. Пленные многими тысячами поступали в ряды Добровольческой Армии. Борьбу, и при том не всегда успешную, приходилось вести против варварского приема раздевания пленных. Наша пехота вскоре перестала грешить в этом отношении, заинтересованная постановкой пленных в строй. Казаки же долго не могли отрешиться от этого жестокого приема, отталкивавшего от нас многих, желавших перейти на нашу сторону. Помню, какое тяжелое впечатление произвело на меня поле под Армавиром в холодный октябрьский день, после урупских боев, все усеянное белыми фигурами (раздели до белья) пленных, взятых 1-й конной и 1-й кубанской дивизиями…
В ноябре я отдал приказ, обращенный к офицерству, остававшемуся на службе у большевиков, осуждая их непротивление и заканчивая угрозой: «…Всех, кто не оставит безотлагательно ряды красной армии, ждет проклятие народное и полевой суд Русской Армии — суровый и беспощадный». Приказ был широко распространен по советской России нами, и еще шире… советской властью, послужив темой для агитации против Добровольческой Армии. Он произвел гнетущее впечатление на тех, кто, служа в рядах красных, был душою с нами. Отражая настроение Добровольчества, приказ не считался с тем, что самопожертвование, героизм, есть удел лишь отдельных личностей, а не массы. Что мы идем не мстителями, а освободителями… Приказ был только угрозой для понуждения офицеров оставить ряды красной армии и не соответствовал фактическому положению вещей: той же Болотовской комиссии было указано мною не вменять в вину службу в войсках советской России, «если данное лицо не имело возможности вступить в противобольшевицкие армии, или если направляло свою деятельность во вред советской власти»[226]. Такой же осторожности в обвинении, такой же гуманности и забвения требовали все приказы Добровольческим войскам, распоряжения, беседы с ними.
В отношении генералов, дела которых доходили до главнокомандующего, цифровые данные дают следующую картину: за период с сентября 1918 г. по март 20-го суду было предано около 25 лиц. Суд присудил одного к смертной казни, четырех к аресту на гауптвахте и 10 оправдал. О трех, четырех, справки не имею. По моей конфирмации — смертной казни, каторжным работам и арестантским отделениям не был подвергнут никто из них. Наказание заменялось арестом на гауптвахте, и в важных случаях, разжалованием в рядовые, причем к декабрю 1919 г. все разжалованные были восстановлены в чинах.
Судьба младшего офицерства разрешалась в инстанциях низших; я приведу здесь результат маленькой анкеты, рисующей и психологию, и практику разрешения этого вопроса самими войсками.
«Не будучи долго поддержаны другими, первые добровольцы вместе с тяжкими испытаниями, выпавшими на их долго, впитывали в себя презрение и ненависть ко всем тем, кто не шел рука об руку с ними.
В Кубанских походах, поэтому, как явление постоянное, имели место расстрелы офицеров, служивших ранее в красной армии…
С развитием наступления к центру России изменились условия борьбы: обширность театра, рост наших сил, ослабление сопротивления противника, ослабление его жестокости в отношении Добровольцев, необходимость пополнять редеющие офицерские ряды — изменили и отношение: расстрелы становятся редкими и распространяются лишь на офицеров-коммунистов.
Поступление в полки офицеров, ранее служивших в красной армии, никакими особенными формальностями не сопровождалось. Офицеры, переходившие фронт, большею частью отправлялись в высшие штабы, для дачи показаний. Таких офицеров было не так много. Главное пополнение шло в больших городах. Часть офицеров являлась добровольно и сразу, а часть после объявленного призыва офицеров. Большинство и тех, и других имели документы о том, что они в красной армии не служили. Все они зачислялись в строй, преимущественно в офицерские роты, без всяких разбирательств, кроме тех редких случаев, когда о тех или иных поступали определенные сведения. Часть «запаздывающих» офицеров, главным образом высших чинов, проходили через особо учрежденные следственные комиссии (судные).
Отношение к офицерам, назначенным в офицерские роты, было довольно ровное. Многие из этих офицеров быстро выделялись из массы и назначались даже на командные должности, что в частях Дроздовской дивизии было явлением довольно частым. В Корниловской дивизии пленные направлялись в запасные батальоны, где офицеры отделялись от солдат. Пробыв там несколько месяцев, эти офицеры назначались в строй также в офицерские роты. Иногда ввиду больших потерь, процент пленных в строю доходил до 60. Большая часть из них (до 70%) сражались хорошо, 10% пользовались первыми же боями, чтобы перейти к большевикам, и 20% составляли элемент, под разными предлогами уклоняющийся от боев. При формировании 2 и 3 Корниловских полков состав их состоял, главным образом, из пленных. Во 2-м полку был офицерский батальон в 700 штыков, который по своей доблести выделялся в боях и всегда составлял последний резерв командира полка.
В частях Дроздовской дивизии пленные офицеры большею частью также миловались, частично подвергаясь худшей участи — расстрелу. Бывали случаи, что пленные офицеры перебегали обратно на сторону красных.
Что касается отношения к красному молодому офицерству, т. е. к командирам из красных курсантов, то они знали, что ожидает их, и боялись попасться в плен, предпочитая ожесточенную борьбу до последнего патрона или самоубийство. Взятых в плен, нередко по просьбе самих же красноармейцев — расстреливали».
Этот больной вопрос возник и в красной армии и был разрешен как раз в обратном направлении.
Для агитации среди белых, Бронштейн составил лично и выпустил воззвание:
«…Милосердие по отношении к врагу, который повержен и просит пощады. Именем высшей военной власти в Советской республике заявляю: каждый офицер, который в одиночку или во главе своей части добровольно придет к нам, будет освобожден от наказания. Если он делом докажет, что готов честно служить народу на гражданском или военном поприще, он найдет место в наших рядах…»
Для красной армии приказ Бронштейна звучал уже иначе:
«…Под страхом строжайшего наказания запрещаю расстрелы пленных рядовых казаков и неприятельских солдат. Близок час, когда трудовое казачество, расправившись со своими контрреволюционными офицерами, объединится под знаменем советской власти…»[227].
Мы грозили, но были гуманнее. Они звали, но были жестоки.
Советская пропаганда имела успех не одинаковый: во время наших боевых удач — никакого; во время перелома боевого счастья ей поддавались казаки и добровольческие солдаты, но офицерская среда — почти вся оставалась совершенно недоступной советскому влиянию.
* * *
Армии преодолевали невероятные препятствия, геройски сражались, безропотно несли тягчайшия потери и освобождали шаг за шагом от власти советов огромные территории. Это была лицевая сторона борьбы, ее героический эпос.
Армии понемногу погрязали в больших и малых грехах, набросивших густую тень на светлый лик освободительного движения. Это была оборотная сторона борьбы, ее трагедия. Некоторые явления разъедали душу армии и подтачивали ее мощь. На них я должен остановиться.
Войска были плохо обеспечены снабжением и деньгами. Отсюда — стихийное стремление к самоснабжению, к использованию военной добычи. Неприятельские склады, магазины, обозы, имущество красноармейцев, разбирались беспорядочно, без системы. Армии скрывали запасы от центрального органа снабжений, корпуса от армий, дивизии от корпусов, полки от дивизий… Тыл не мог подвезти фронту необходимого довольствия, и фронт должен был применять широко реквизиции в прифронтовой полосе — способ естественный и практикуемый всеми армиями всех времен, но требующий строжайшей регламентации и дисциплины.
Пределы удовлетворения жизненных потребностей армий, юридические нормы, определяющие понятие «военная добыча», законные приемы реквизиций — все это раздвигалось, получало скользкие очертания, преломлялось в сознании военной массы, тронутой общенародными недугами. Все это извращалось в горниле гражданской войны, превосходящей во вражде и жестокости всякую войну международную.
Военная добыча стала для некоторых снизу — одним из двигателей, для других сверху — одним из демагогических способов привести в движение, иногда инертную, колеблющуюся массу.
О войсках, сформированных из горцев Кавказа, не хочется и говорить. Десятки лет культурной работы нужны еще для того, чтобы изменить их бытовые навыки… Если для регулярных частей погоня за добычей была явлением благоприобретенным, то для казачьих войск — исторической традицией, восходящей ко временам Дикого поля и Запорожья, прошедшей красной нитью через последующую историю войн и модернизованную временем в формах, но не в духе. Знаменательно, что в самом начале противобольшевицкой борьбы представители Юго-Восточного союза казачьих войск, в числе условий помощи, предложенной Временному правительству, включили и оставление за казаками всей «военной добычи» (!), которая будет взята в предстоящей междоусобной войне…[228].
Соблазну сыграть на этой струнке поддавались и люди лично бескорыстные. Так атаман Краснов, в одном из своих воззваний–приказов, учитывая психологию войск, атаковавших Царицын, не двусмысленно говорил о богатой добыче, которая их ждет там… Его прием повторил впоследствии, в июне 1919 года ген. Врангель. При нашей встрече, после взятия Царицына он предупредил мой вопрос по этому поводу:
— Надо было подбодрить кубанцев. Но я в последний момент принял надлежащие меры…
Победитель большевиков под Харьковом, ген. Май-Маевский, широким жестом «дарил» добровольческому полку, ворвавшемуся в город, поезд с каменным углем и оправдывался потом:
— Виноват! Но такое радостное настроение охватило тогда…
Можно было сказать a priori, что этот печальный ингредиент «обычного права» — военная добыча — неминуемо перейдет от коллективного начала к индивидуальному и не ограничится пределами жизненно необходимого.
После славных побед под Харьковом и Курском 1-го Добровольческого корпуса, тылы его были забиты составами поездов, которые полки нагрузили всяким скарбом, до предметов городского комфорта включительно…
Когда в феврале 1919 г. кубанские эшелоны текли на помощь Дону, то задержка их обусловливалась не только расстройством транспорта и желанием ограничить борьбу в пределах «защиты родных хат…» На попутных станциях останавливались перегруженные эшелоны и занимались отправкой в свои станицы «заводных лошадок и всякого барахла…»
Я помню рассказ председателя Терского круга Губарева, который в перерыве сессии ушел в полк рядовым казаком, чтобы ознакомиться с подлинной боевой жизнью терской дивизии.
— Конечно, посылать обмундирование не стоит. Они десять раз уже переоделись. Возвращается казак с похода нагруженный так, что ни его, ни лошади не видать. А на другой день идет в поход опять в одной рваной черкеске…
И совсем уже похоронным звоном прозвучала, вызвавшая на Дону ликование, телеграмма ген. Мамонтова, возвращавшегося из Тамбовского рейда:
«Посылаю привет. Везем родным и друзьям богатые подарки, донской казне 60 миллионов рублей, на украшение церквей — дорогие иконы и церковную утварь…»
* * *
За гранью, где кончается «военная добыча» и «реквизиция», открывается мрачная бездна морального падения:
Насилия и грабежа.
Они пронеслись по Северному Кавказу, по всему Югу, по всему российскому театру гражданской войны — творимые красными, белыми, зелеными — наполняя новыми слезами и кровью чашу страданий народа, путая в его сознании все «цвета» военно-политического спектра и не раз стирая черты, отделяющие образ спасителя от врага.
Много написано, еще больше напишут об этой язве, разъедавшей армии гражданской войны всех противников на всех фронтах. Правды и лжи.
И жалки оправдания, что там, у красных, было несравненно хуже. Но ведь, мы, белые, выступали на борьбу именно против насилия и насильников!.. Что многие тяжелые эксцессы являлись неизбежной реакцией на поругание страны и семьи, на растление души народа, на разорение имуществ, на кровь родных и близких — это не удивительно. Да, месть чувство страшное, аморальное, но понятное, по крайней мере. Но была и корысть. Корысть же — только гнусность. Пусть правда вскрывает наши зловонные раны, не давая заснуть совести, и тем побудит нас к раскаянию, более глубокому, и к внутреннему перерождению, более полному и искреннему.
Боролись ли с недугом?
Мы писали суровые законы, в которых смертная казнь была обычным наказанием. Мы посылали вслед за армиями генералов, облеченных чрезвычайными полномочиями, с комиссиями, для разбора на месте совершаемых войсками преступлений. Мы — и я, и военачальники — отдавали приказы о борьбе с насилиями, грабежами, обиранием пленных и т. д. Но эти законы и приказы встречали иной раз упорное сопротивление среды, не восприявшей их духа, их вопиющей необходимости. Надо было рубить с голов, а мы били по хвостам. А Рада, Круги, казачество, общество, печать в то же время поднимали не раз на головокружительную высоту начальников храбрых и удачливых, но далеких от моральной чистоты риз, создавая им ореол и иммунитет народных героев.
* * *
За войсками следом шла контрразведка. Никогда еще этот институт не получал такого широкого применения, как в минувший период гражданской войны. Его создавали у себя не только высшие штабы, военные губернаторы, почти каждая воинская часть, политические организации, донское, кубанское и терское правительства, наконец, даже… отдел пропаганды… Это было какое-то поветрие, болезненная мания, созданная разлитым по стране взаимным недоверием и подозрительностью.
Я не хотел бы обидеть многих праведников, изнывавших морально в тяжелой атмосфере контрразведывательных учреждений, но должен сказать, что эти органы, покрыв густою сетью территорию Юга, были иногда очагами провокации и организованного грабежа. Особенно прославились в этом отношении контрразведки Киева, Харькова, Одессы, Ростова (донская). Борьба с ними шла одновременно по двум направлениям — против самозванных учреждений и против отдельных лиц. Последняя была мало результатна, тем более, что они умели скрывать свои преступления и зачастую пользовались защитой своих, доверявших им начальников. Надо было или упразднить весь институт, оставив власть слепой и беззащитной в атмосфере, насыщенной шпионством, брожением, изменой, большевицкой агитацией и организованной работой разложения, или же совершенно изменить бытовой материал, комплектовавший контрразведку. Генерал-квартирмейстер штаба, ведавший в порядке надзора контрразведывательными органами армий, настоятельно советовал привлечь на эту службу бывший жандармский корпус. Я на это не пошел и решил оздоровить больной институт, влив в него новую струю, в лице чинов судебного ведомства. К сожалению, практически это можно было осуществить только тогда, когда отступление армий подняло волны беженства и вызвало наплыв «безработных» юристов. Тогда, когда было уже поздно…
Наконец, огромные расстояния, на которых были разбросаны армии — от Орла до Владикавказа, от Царицына до Киева — и разобщенность театра войны в значительной мере ослабляли влияние центра на быт и всю службу войск.
* * *
Я прочел эти черные страницы летописи и чувствую, что общая картина не закончена, что она нуждается в некоторых существенных деталях. В разные периоды борьбы вооруженных сил Юга, моральное состояние войск было различным. Различна была также степень греховности отдельных войсковых частей. Десятки тысяч офицеров и солдат — павших и уцелевших — сохраняли незапятнанную совесть. Многие тысячи даже и грешников, не будучи в состоянии устоять против искушения и соблазнов развратного времени, умели все же жертвовать другим — они отдавали свою жизнь. Боролись и умирали. Быть может за это суд Божий и приговор истории будет менее суров:
— Виновны, но заслуживают снисхождения!
Черные страницы Армии, как и светлые, принадлежат уже истории. История подведет итоги нашим деяниям. В своем обвинительном акте она исследует причины стихийные, вытекавшие из разорения, обнищания страны и общего упадка нравов, и укажет вины: правительства, не сумевшего обеспечить Армию; командования, не справившегося с иными начальниками; начальников, не смогших (одни) или не хотевших (другие) обуздать войска; войск, не устоявших против соблазна; общества, не хотевшего жертвовать своим трудом и достоянием; ханжей и лицемеров, цинично смаковавших остроумие армейской фразы — от благодарного населения — и потом забросавших Армию каменьями…
Поистине нужен был гром небесный, чтобы заставить всех оглянуться на себя и свои пути.
Глава XII. Борьба на Северном Кавказе летом и осенью 1918 года
Добровольческая Армия, по мере своего продвижения в глубь Кавказа, попадала в обстановку сложных и запутанных взаимоотношений.
Чрезвычайно разнообразны те исторические, национальные, социальные, религиозные и бытовые условия, которые создали удивительную кавказскую мозаику и приводили в движение события там в первый год революции.
Мы видели, что конец 1917 и начало 1918 годов ознаменованы были расслоением русского элемента в крае (иногородние, казаки), разложением терского казачества и обособлением в этнографических пределах мелких народностей Северного Кавказа — обособлением, болезненно отозвавшимся на судьбах казачества.
С весны 1918 года эти процессы углубляются, и кавказские народы подпадают, в большей или меньшей степени, под влияние советской власти; оно оспаривается, впрочем, Турцией, с конца 1917 г. усиленно привлекавшей горцев, при посредстве своих и туземных эмиссаров, пантурецкой и панисламистской пропагандой. Вначале эти два влияния резко враждебны, потом, после заключения мира, они временно теряют свою остроту. Эти внешние воздействия запутывают еще больше внутриплеменную рознь, которая сдерживалась некогда сильной центральной властью, а теперь положительно раздирала кавказские народы, давая возможность ничтожной советской силе утвердиться на Северном Кавказе.
Состав населения Терской области определялся в 1917 г. следующей примерной таблицей:
| Все население | 1450712 |
| В том числе русских: | |
| а) Казаков | 20% |
| б) Иногородних | 20% |
| Всего | 40% |
| Горцев: | |
| а) Осетин | 17% |
| б) Чеченцев | 16% |
| в) Кабардинцев | 12% |
| г) Ингушей | 4% |
| Всего | 49% |
| Кочевников | 4½% |
| Прочих (арм., груз., перс., немц. и т. д.) | 6½% |
Участие этих народов в политической жизни края далеко не соответствовало их численному составу.
Ингуши — наименее численный и наиболее спаянный и сильный военной организацией народ оказался, по существу, вершителем судеб Северного Кавказа. Моральный его облик определен был давно уже учебниками географии: «главный род занятий — скотоводство и грабеж…» Последнее занятие здесь достигло особенного искусства. Политические стремления исходили из той же тенденции. Ингуши стали ландскнехтами советской власти, ее опорой, не допуская, однако же, проявления ее в своем крае. Одновременно они старались завязать сношения с Турцией и искали турецкой помощи из Елисаветполя, немецкой из Тифлиса. В августе, когда казаки и осетины овладели Владикавказом, ингуши своим вмешательством спасли терский совет комиссаров, но при этом жестоко разграбили город и захватили государственный банк и монетный двор. Они грабили всех соседей: казаков и осетин во имя «исправления исторических ошибок», своего малоземелья и чрезполосицы; большевиков — в уплату за свои труды и службу; кабардинцев — просто по привычке, и владикавказских граждан — за их беспомощность и непротивление.
Их ненавидели все, а они занимались своим «ремеслом» дружно, широко, организованно, с большим размахом, став наиболее богатым племенем на всем Кавказе.
Осетины — помимо многих частных взаимно враждебных подразделений, представляли два основных лагеря — православных и мусульман. Первые дружили с казаками, вторые с ингушами. Командование в лице ген. Фидарова[229] тянуло к объединению с Турцией и к ингушам, национальный совет и большая часть интеллигенции поддерживали советскую власть. Народ же, ненавидя большевиков, оставался пассивным и не следовал ни за своими правителями, ни за командованием; официально признавал советскую власть и тайно, неорганизованно входил во все комбинации для ее свержения.
В конце июня две, три сотни осетин приняли участие в нападении на Владикавказ. После неудачи этого выступления, собравшийся Ардонский совет, под влиянием оплачиваемой большевиками партии «Кермен», вновь признал единогласно власть народных комиссаров и даже высказался за вооруженную поддержку ее. Но народ не откликнулся и тогда на постановления своих представителей. Большинство осталось пассивным, часть же осетин поступала в ряды терцев или в дерущиеся на их стороне отряды полковников Хабаева и Кибирова. Эта приверженность Осетии к старым государственным связям и полная несклонность ни к большевизму, ни к крайним формам национальной независимости, послужили источником многих бед: и ингуши, и в особенности большевики, разорили и уничтожили много осетинских аулов и хуторов на Курпе, в Моздокском отделе, возле Владикавказа и на Военно-Грузинской дороге.
Кабарда, занятая большевицкими гарнизонами и управляемая большевицкими комиссарами, смирилась сразу. Отношение края к советской власти определялось просто географическим положением его: Малая Кабарда, сдавленная между большевиками и ингушами, признала всецело советскую власть, а Большая Кабарда (Нальчикский округ), примыкая к фронту восставших терских казаков (Прохладненскому), выставила против большевиков отряд сначала в две сотни, потом разросшийся до бригады конницы, под начальством ротмистра Серебрякова — представителя кабардинских узденей (дворянства). В то же время представитель «кабардинского пролетариата» пастух Катоханов на советские средства сформировал отряд из кабардинцев-большевиков, понесший вскоре поражение в бою с Серебряковым.
Чеченцы, помимо сложной внутренней своей распри, разделились и по признакам внешней политики, образовав одновременно два национальных совета: Грозненский округ, имевший старые счеты с терцами, по постановлению Гойтинского съезда шел с большевиками и получал от них деньги, оружие и боевые припасы. Другая часть чеченцев — Веденский округ, подчиняясь решению Атагинского съезда, стоял на стороне казаков, хотя и не оказывал им непосредственной помощи, и был против большевиков. Первые были связаны поэтому теснее с Ингушетией, вторые с Дагестаном. Между обеими группами разгоралась сильнейшая вражда, приводившая иногда к многодневным кровопролитным боям, чем до некоторой степени смягчалась опасность положения терских казаков.
Осенью 1918 г. Чечня установила близкие сношения с турецким командованием в Баку, которое через Дагестан оказывало чеченцам помощь оружием.
Наиболее стойкою в борьбе с большевиками оказалась Дагестанская область. Вся весна и лето 1918 г. прошли в мелких стычках дагестанцев с красногвардейскими отрядами, стремившимися проникнуть по астраханскому тракту в Баку, и с плоскостными кумыками (на сев. области), примкнувшими всецело к большевикам. Исход борьбы был неблагоприятен для дагестанцев: Петровск, Темир-хан-Шура, Дербент были заняты местными и пришлыми красногвардейцами, овладевшими железнодорожной линией и приморской дорогой. Борьба в нагорной части, однако, продолжалась. Турецкая пропаганда в Дагестане раздувала всемерно религиозный фанатизм и возбуждала туркофильские симпатии; в край ввозилось в довольно большом количестве оружие и боевые припасы, и с середины мая в него проникали турецкие инструктора и аскеры; со 2 сентября 1918 г., когда турки заняли Баку, эта связь значительно упрочилась, в Дагестане появились турецкие отряды и, в результате соглашения, турки обещали двинуть туда дивизию.
«Все дороги, ведущие из России в Азербейджан и Анатолию, проходят через Северный Кавказ, который должен, поэтому, находиться в надежных руках» — таков был лозунг пантурецкого движения, воспринятый, по преимуществу, местной политиканствующей интеллигенцией. Но в народе это движение, по-видимому, не имело глубоких корней. Потому ли, что турецкая оккупация Азербейджана наглядно показала свою темную изнанку, потому ли, что связь с Россией была еще достаточно сильна. Дагестанцы расценивали приходящие извне разноплеменные войска, прежде всего, как помощь против большевиков, как средство водворения порядка. Кинематографическая лента прикаспийской жизни в 1918 году меняла, поэтому, быстро и почти безболезненно свои картины. Летом турецкие инструктора и отряды… В начале сентября — появление войск Л. Бичерахова, в состав которых входило много ненавистных мусульманам армян; Бичерахов занял Петровск и заключил договор с полк. кн. Тарковским[230], «командующим Дагестанскими войсками», о выводе турок в двухдневный срок в Гуниб и об удалении их затем в двухнедельный срок из пределов Дагестана… В октябре к Петровску подходит турецкая бригада, Бичерахов на судах уходит в море, турки совместно с дагестанцами режут несчастных армян и восстановляют взаимный альянс… В ноябре турецкие эшелоны спешно уходят на Баку и Тифлис, их сменяет полковник Роуленсон и небольшой английский отряд: туркофильское настроение быстро бледнеет, а имам Дагестана Нажмудин Гойтинский, вместо газавата, проповедует связь с единой Россией…
Такова была та национально-политическая канва, на которой кавказская советская власть, не блиставшая ни умом, ни талантами, рисовала свои кровавые узоры, не заглядывая в будущее, не стесняясь государственными интересами, ей чуждыми, исходя только лишь из чувства самосохранения.
* * *
9 марта 1918 г., после добровольного устранения «Терско-Дагестанского правительства»[231], на Тереке установилась советская власть. Номинально Терская область объявлена была составной частью Российской советской республики, связь с которой поддерживалась, впрочем, лишь присутствием во Владикавказе представителя всероссийского ц. и. к. «чрезвычайного комиссара» Ордженикидзе. Верховною властью края считался «Терский народный съезд»[232], органом управления и законодательства — выделенный им «Народный совет»[233] и — как власть исполнительная — «Совет народных комиссаров». Эта трех-степенная власть имела соответственные подразделения в казачьих отделах и горских округах. Независимо от этих органов, в крае продолжали свое существование полунезависимые местные советы и исполн. комитеты рабочих и солдатских депутатов, сохранившиеся в Кизлярском и Моздокском отделах органы терского казачьего самоуправления, а во Владикавказе, Моздоке и других городах некоторое время и социалистические городские думы. Такое нагромождение властей усиливало лишь безвластие и анархию[234].
Во главе совета народных комиссаров стал эмигрант Ной-Мойше-Баучидзе[235], грузинский еврей, начавший свою революционную деятельность еще в 1905 г. ограблением Квирильского казначейства; в состав совета вошли люди по преимуществу с уголовным прошлым — Пашковский (землед.), Фигатнер (вн. дел), Бутырин (воен.) и друг.; почти все совершенно чуждые краю.
Новая власть не имела надежной опоры в крае, в котором почти не было промышленности и, следовательно, фабричного пролетариата, основной ее силы. Красногвардейские отряды, формировавшиеся из солдатчины и местных иногородних, обслуживали преимущественно местные совдепы, плохо подчинявшиеся центру. Поэтому, наряду с попытками создания собственной армии из подонков Владикавказских окраин и пришлого бездомного, бродячего люда, вся политика власти, все декреты, постановления съездов, агитация — направлены были к разделению местных элементов и к привлечению благоприятствующей военной силы, связанной с советами, если не идеологией, то материальными обоюдными выгодами.
Поперек пути совета стояло терское казачество, хотя и сильно тронутое внешними проявлениями большевизма, но цепко державшееся еще за свои привилегии, преимущественно экономического характера. Совет считал, поэтому, необходимым разрушить военную и экономическую силу казачества. Это решение было обосновано первоначально не столько на реальном противодействии терцев, сколько на инстинктивном страхе нового правящего класса перед «страшной силой казачества» и его «реакционной ролью» в прошлом. Об этом большевицкие ораторы говорили на всех съездах, сопровождая свои речи личными красочными воспоминаниями о «казачьей плети». Происходило большое недоразумение, так как казаки наиболее склонны были опереться на советскую власть в своей борьбе против чеченцев, ингушей и притеснявших их непокорных центру местных совдепов.
Насаждая и поддерживая материально горские национальные советы, большевики начали тщательно вытравлять остатки казачьего самоуправления. Особым декретом все существовавшие до того времени войсковые части объявлены были распущенными, но исполнение декрета последовало только в отношении казачьих частей, так как в то же время по предложению комиссара воен. дел Бутырина, собрание горских фракций Народного совета постановляло организовать сводный отряд «для борьбы с контрреволюцией…» Совдепами наряжались целые экспедиции для поголовного разоружения станиц. За разоружением следовало полное истощение реквизициями и грабежом, насилиями и убийствами. Весьма примитивный «аграрный закон», принятый на «3-м Терском народном съезде», отнимал у казаков земли в пользу крестьян и «исправлял исторические ошибки» в пользу чеченцев и ингушей мерами крайне элементарными по замыслу и крайне жестокими по выполнению. Так, например, соединенными силами ингушей и красной гвардии были разгромлены 4 станицы Сунженской линии, стоявшие поперек пути между горной и плоскостной Чечней[236]; казаки из них выселены поголовно (до 10 тыс.) и с остатками своего добра безоружные потянулись на север, без каких-либо определенных перспектив; гибли и мерзли по дороге, подвергаясь вновь нападению и ограблению со стороны горцев. Положение этих острых чересполосных клиньев исторического казачьего расселения по Тереку и Сунже было особенно тяжело.
Под ударами со всех сторон воля к сопротивлению начала падать в казачестве. Многие станицы Волжского и Сунженского отделов разоружались по первому окрику большевиков и выдавали небольшим красногвардейским частям и ингушам припрятанное оружие, пушки, боевые припасы. Ибо вопрос шел уже не об сохранении «вольностей», а только о самосохранении.
На 7-м казачьем съезде, под давлением совета комиссаров и большевиствующих казаков, терцы постановили отказаться от всех своих привилегий и «вольностей». Но и это самоотречение не изменило положения, и преследование казачества продолжалось с прежней силой.
* * *
Политика и практика советской власти на Кавказе неизбежно должна была привести к восстанию наиболее угнетаемых элементов, какими являлось русское офицерство вообще и терское казачество.
По Кавказу и особенно на минераловодской группе сосредоточилось много тысяч офицеров (на одной группе не менее десятка тысяч), проживавших остатки своего достояния или бедствовавших, обезоруженных совдепами и находившихся под их моральным гнетом и усиленным надзором. Под влиянием требований Москвы, совет Владикавказских комиссаров в апреле решил приступить к формированию красной армии, для чего обратился к офицерам с патриотическим воззванием — помочь родине, угрожаемой немецко-турецким нашествием. Вместе с тем, совет обратился с предложением стать во главе формирований «народной армии» к генералам Рузскому, Радко-Дмитриеву и Мадритову. Первые два отклонили предложение и были убиты; генерал Мадритов вошел в сношения с Ноем Баучидзе. По распоряжению советской власти, в мае состоялся офицерский митинг в Пятигорске, с участием не менее тысячи человек, который после долгих прений вынес резолюцию: «принимая во внимание крайне тяжелое положение родины, необходимо создать для борьбы с внешним врагом народную армию, построенную на самой суровой дисциплине, принятой в одной из лучших республиканских армий. При этом все боеспособные офицеры обязаны вступить в таковую, не сводя личных счетов и не предъявляя никаких личных требований. Что касается поступления офицеров в красную гвардию, то это предоставляется доброй воле каждого». Эта резолюция, по-видимому, удовлетворила совет комиссаров, который вначале июня обратился к выделенной митингом комиссии с предложением рекомендовать ему генерала в качестве командующего войсками Терской области. Предназначен был ген. Мадритов, который, сформировав себе штаб, переехал во Владикавказ в распоряжение совета комиссаров.
Руководители всей этой сложной комбинации уверяли, что целью их было «сформировать Терскую армию, совершить переворот и присоединиться к Добровольческой Армии…»[237]. Вероятно, такие иллюзии поддерживали многих офицеров в советской России, успокаивали совесть и оправдывали бездеятельность. Фактически у кавказского офицерства[238] ни желания, ни смелости, ни малейшей работы мы не видели. Штаб Мандритова не проявлял никаких признаков жизни, а вскоре всякая связь его с минераловодской группой порвалась: в июне временно захватил Кисловодск партизан, полк. Шкуро и оставил его, а из Петрограда вернулся на Кавказ жестокий пятигорский сатрап Анджиевский[239]; всякие местные организации распались, начались казни… Офицерство беспомощно подставляло свои головы под удары большевицких палачей или распылялось по станицам и аулам; очень немногие ушли со Шкуро и в последовавшей летом и осенью 1918 г. вооруженной борьбе из двух, по крайней мере, десятков тысяч офицеров, приняли участие лишь отдельные лица, небольшой отряд в 300–500 человек полковника Литвинова и два, три более мелких.
Общерусского белого центра на Кавказе так и не создалось; терские же казаки в этот период жили еще фронтовыми настроениями и относились холодно к своему офицерству и недружелюбно к пришлому. По крайней мере отряд Литвинова, ставши на Владикавказский фронт, испытывал большую нужду: «продовольствие от казаков было самое недостаточное, даже воду офицеры возили себе — в станицах не нашлось для этого быков или лошадей. При этом… никакого содержания офицеры не получали, были совершенно раздеты и босы». Элемент этот был, однако, наиболее послушным и боеспособным, и терское командование охотно использовало его на опаснейших участках фронта, где многие «пришельцы» сложили свои головы, защищая терские станицы…
* * *
Подготовка Терского казачества к восстанию велась с конца мая — на Минеральной группе, в Моздоке, в Кизляре и Владикавказе (казачья фракция Народного совета). Выступление предполагалось в августе, после окончания полевых работ, но захват полк. Шкуро Кисловодска в середине июня дал сигнал к преждевременному восстанию Волжского отдела, наиболее пострадавшего (минеральн. группа), быстро перекинувшемуся и в отдел Моздокский, который большевики не успели обезоружить. Большевики спешно направили против восставших отряды красной гвардии из Пятигорска, Владикавказа и Минеральных вод. Георгиевск был скоро ими взят, но под Прохладной казаки нанесли большевикам тяжелое поражение. С тех пор в течение пяти месяцев шла упорная борьба восставших терцев, заключенных в тесном районе между Прохладной и Кизляром и окруженных со всех сторон врагами.
Военно-политическим центром стал Моздок. Туда же переехала казачья фракция Народного совета из Владикавказа. 20 июня в Моздоке состоялся съезд казаков и крестьян (юртовых) Терского войска, который избрал в качестве исполнительного органа «Казаче-крестьянский совет», во главе с соц.-рев., инжен. Бичераховым[240]. Этот совет и стал во главе движения, признав командующим войсками, вместо ген. Мистулова, раненного под Прохладной, полк. Федюшкина.
Политическое возглавление наложило свой отпечаток на весь ход борьбы. В течение июля шли длительные переговоры между Казаче-крестьянским советом и комиссарами, потом между советом и 4-м «Съездом трудовых народов», собравшимся во Владикавказе. Казаче-крестьянский совет, признавая советскую власть, требовал только изменения политики советов комиссаров в отношении терцев, прекращения репрессий, возвращения вооружения и отставки наиболее одиозных комиссаров. «Съезд народов» требовал «полного подчинения и выдачи зачинщиков мятежа». Переговоры прервались неожиданно восстанием во Владикавказе, поднятым полк. Беликовым и Соколовым, которые опирались на несколько осетинских сотен, стоявших в пригородной слободе, на городскую самооборону и на казаков трех ближайших Сунженских станиц. В ночь на 25 июля полк. Соколов с 80 казаками ворвался в центр города, завладел Апшеронскими казармами и разоружил часть красноармейцев, но никем поддержан не был. Сотни то подходили к городу и вступали в бой с засевшими в нем большевиками, то вновь расходились по домам, не проявляя никакого подъема, никакой связи с организацией.
Тем временем часть комиссаров во главе с Пашковским была схвачена, но отпущена на свободу по просьбе «Народного съезда». Сам «съезд» вскоре разбежался, а оставшиеся члены его, преимущественно соц.-рев., в виду падения «совнаркома», выделили из своего состава «Исполнительный комитет», который возглавил собою «Терскую республику» и владикавказское восстание и назначил «командующим всеми вооруженными силами республики» ген. Мадритова»[241]. Так как, однако, ближайшие «вооруженные силы», в виду угрозы ингушей их станицам, драться не хотели, то на 12-й день полной и беспросветной путаницы комитет и командующий покинули Владикавказ. Злополучный город грабили сначала уходящие осетины, потом оставшиеся красноармейцы и, наконец, вошедшие в него ингуши. Совнарком был восстановлен, а исполнительный комитет, прибыв в Моздок, при содействии Бичерахова, объявил себя там «Временным народным правительством Терского края», подчинив своей власти Казаче-крестьянский совет и восставших терцев[242]. Одновременно в Моздоке открыл действия «областной комитет соц.-рев.», став фактически третьей надстройкой многостепенной и чужеродной казачеству власти.
Все эти сцены политической чехарды сильно напоминали бы сатиры Щедрина или пародии Вампуки, если бы не были густо окрашены человеческой кровью, если бы не ставили на карту судьбы терского войска, Кавказа и белого движения.
В середине сентября в Моздоке созван был новый казаче-крестьянский съезд Терского края (края — в пределах полосы Прохладная–Кизляр!), который должен был разрешить капитальнейшие вопросы: о построении власти в Терской республике, о том месте, которое должна занять она в федеративной России, и об отношении к надвигающейся на большевиков с севера Добровольческой Армии…[243]. В то время, когда фронт изнывал уже от боевых тягот и неустройства, поистине, недуг словоблудия поразил глубоко российских граждан, извратив масштаб и перспективы, отвлекая их от простых и ясных целей борьбы.
Связь с Добровольческой Армией установилась только в сентябре посылкой аэропланов через фронт XI советской армии. 9 сентября на аэроплане был послан на Терек ген. Колесников и небольшая сумма денег для офицерских формирований, в распоряжение ген. Левшина[244], которому, вместе с тем, предписано было добиваться установления на Тереке единоличной атаманской власти. Штаб мой послал терцам общую ориентировку и сообщил ближайшие задачи и цели Добровольческой Армии, а именно: движение к пределам Терека и освобождение от большевиков Северного Кавказа. Это известие о близкой помощи подняло значительно настроение командного состава и казаков, но встречено было холодно революционной демократией. Бичерахов по этому поводу говорил ген. Мадритову: «неизвестно, что нам несет Добровольческая Армия — быть может, нам (терцам) придется и с ней сражаться…»[245].
В результате, на Тереке образовались две влиятельные группы. Одна — в Прохладной, вокруг командующего войсками полк. Федюшкина, бывш. председателя войскового круга Губарева и Левшина. Другая — в Моздоке — вокруг Бичерахова, Семенова и соц.-рев. комитета.
Все начинания терского командования разбивались о противодействие правительства. Командование желало ввести всеобщую мобилизацию, полковую организацию и нормальную дисциплину… Правительство объявляло о формировании «добровольческих отрядов имени учредительного собрания, на основах добровольной сознательной дисциплины», с митингами, часто с выборами начальников. Командование стремилось на запад, чтобы через Пятигорск войти в боевую связь с Добровольческой Армией… Правительство тянуло на восток, к Петровску, где обосновалось соц.-рев. Каспийское правительство Бичерахова — брата, мечтавшее также подчинить своему влиянию весь Северный Кавказ, Черноморье, Кубань[246], и где сосредоточился в начале сентября его отряд. А казачество не разбиралось, конечно, в стратегии, не имело большого желания идти ни на восток, ни на запад, наивно думая побороть большевиков обороной родных станиц и зная определенно, что ослабление их гарнизонов повлечет неминуемо чеченское или ингушское нашествие… «Родные хаты» — стимул большого морального значения, но почти всегда гибельный для стратегии.
Армия так и не сложилась. Бились отдельные отряды, чисто ополченского характера. Казаки служили посменно, появляясь на фронте на основании «сознательной дисциплины», на одну, потом на две недели и не раз, не дожидаясь запаздывающей смены, расходились по станицам, обнажая фронт. Боевые припасы были на исходе, помощь ни откуда не приходила…
Под влиянием всех этих условий, при содействии большевицкой агитации и более чем странной правительственной пропаганды, падал дух казачий. Некоторые станицы целиком или частью приняли сторону большевиков. «Происходила невиданная война — говорит Е. Бунаковский — население делилось на части и неделями сражалось друг с другом на улицах родной станицы. Сторонникам советской власти помогали красноармейцы. И когда борьба делалась невозможной, нежелавшие подчиняться большевикам уходили в сторону Грозного. Образовался новый казаче-казачий фронт…»
Достойно удивления, как при этих условиях, без дисциплины, без денег, без боевых припасов, почти в полном окружении — в течение пяти месяцев командный состав и лучшая часть казачества находила силы продолжать борьбу. Дрались и умирали, не теряя веры в свое дело и в конечный его успех.
* * *
Ведя бой с переменным счастьем, казачьи отряды постоянно меняли свой состав, доходивший в среднем до 12 тыс. при 40 оруд., и к осени 1918 г. занимали следующее расположение: полк. Агоев стоял у ст. Зольской, в переходе от Пятигорска; полк. Вдовенко — в переходе к юго-востоку от Георгиевска. Это были лучшие по стойкости и дисциплине войска. Отдельные терские отряды прикрывали казачий «остров» с севера у Курской, с юга — от Владикавказа — у Котляревской. Бои шли и у Грозного — с местными большевиками, и у Кизляра, к которому подошли красноармейские части из Астрахани; при этом оба города переходили из рук в руки.
Большую Кабарду и г. Нальчик занимали осетинские и кабардинские отряды Кибирова и Серебрякова, а против Владикавказа стояли осетинские сотни полк. Хабаева.
Под давлением Добровольческой Армии, северокавказский фронт большевиков становился все в более угрожаемое положение, имея в своем распоряжении только одну коммуникационную линию — безводный Астраханский тракт. Очевидно, с целью пробить себе путь через Моздок и Кизляр, большевики предприняли в начале ноября серьезную операцию в этом направлении, поведя наступление двумя главными колоннами: от Георгиевска на Моздок и от Пятигорска на Прохладную.
21 октября большевики заняли ст. Зольскую и 28-го Прохладную. Одновременно сильная колонна их подошла к Моздоку. Терцы отступали без серьезного сопротивления… Пал Грозный вследствие отсутствия подкреплений, отвлеченных к Моздоку, и благодаря самовольному оставлению казаками важнейшего участка позиции. Снята была блокада Кизляра, и казаки, атаковавшие город, разошлись по станицам, где началась уже веселая пора давки винограда.
Командующий войсками, полк. Федюшкин был к тому времени смещен правительством и на его место назначен выздоровевший от ран ген. Мистулов — человек высоко доблестный и честный, но еще менее самостоятельный. На соединенном заседании Временного правительства и Казаче-крестьянского съезда решено было «объявить всеобщую мобилизацию и командировать особую комиссию в отделы для ознакомления населения с критическим положением всего казачества, необходимостью новых жертв».
Но было уже поздно.
На важнейших направлениях выбыли из строя начальники: полк. Агоев был ранен, Вдовенко заболел; боевых припасов почти не оставалось; все чаще стали случаи самовольного оставления позиций и митинги. На всех направлениях шло полное отступление, и ген. Мистулов под влиянием непрекращавшихся ссор и интриг в правительстве и совете, не будучи в состоянии остановить развал фронта, покончил жизнь самоубийством.
Еще одна искупительная жертва за чужие грехи.
Между тем, большевики заняли и Моздок, разделив терские отряды, действовавшие к западу и востоку от него. Правительства передали власть «триумвирату» из Бичерахова, Букановского и вновь избранного командующего войсками ген. Колесникова и рассеялись. Терский фронт рухнул. Часть войск, тысячи две, с командующим, новым правительством и соц.-рев. комитетом направилась к Петровску; отряды Литвинова, Агоева, Серебрякова и Кибирова общим числом около 4 тыс. человек, кружным путем, через горы, южнее Пятигорска, вышли к Баталпашинску на соединение с Добровольческой Армией; часть казаков «Владикавказского фронта» вместе с отрядами Хабаева пробилась к Военно-Осетинской дороге… Остальные казаки разошлись по станицам.
Весь терский край вновь попал во власть большевиков, начавших кровавую расправу.
Глава XIII. Северо-Кавказская операция Добровольческой армии
После поражения, понесенного 7 ноября под Ставрополем[247], XI советская армия отступала в двух главных направлениях: Таманская группа на северо-восток, к с. Петровскому и группа Гудкова — на восток, к Бешпагиру. 11 ноября 1-й конный корпус ген. Врангеля, форсировав реку Калаус и преодолев сопротивление Таманской группы, соединившейся уже с частями красных, действовавших севернее, взял село Петровское, узел дорог, ближайшую базу противника. В течение четырех дней в этом районе происходили тяжелые бои, и село дважды переходило из рук в руки. Корпус понес большие потери, особенно в офицерском составе, причем едва не попал в руки противника штаб корпуса, расположившийся в с. Константиновке. Только 15-го ген. Врангель овладел окончательно Петровским. Измотанные до последней степени многомесячными непрерывными боями кони отказывались уже работать, и кубанцы преследовали противника шагом, атаковали рысью… Большевики несколько раз переходили в контрнаступление против с. Петровского, но были отражаемы с большим уроном.
1-й армейский корпус ген. Казановича, преследовавший Гудкова, встретил также серьезное сопротивление на линии р. Бешпагирки, и в течение девяти дней дрался с переменным успехом в районе Бешпагира. Только 20 ноября обозначился успех и на этом направлении: ген. Врангель, оставив небольшой заслон у Петровского, бросил 1-ю конную дивизию к юго-западу на Спицевку, в тыл войскам Гудкова. Застигнутая врасплох этим неожиданным ударом, атакованная одновременно с фронта 1 дивизией и обойденная кубанцами полк. Науменко долиной реки Горькой с юга, группа Гудкова была смята и, теряя пленных (более 3-х тысяч) и орудия, бросилась на восток. Ген. Казанович преследовал большевиков за Калаус на расстоянии двух переходов и только к 24-му был остановлен ими на параллели с. Медведского. В то же время ген. Врангель, искусно действуя по внутренним операционным линиям, к вечеру 21-го спешно сосредоточил свои силы вновь к Петровскому, и на другой день таманские и ставропольские полки, успевшие обложить село с севера и юга и даже ворваться в южную его окраину, были разбиты и спешно отошли к востоку.
* * *
К концу ноября общее стратегическое положение на Северо-Кавказском фронте было таково:
- На крайнем правом крыле в направлении Минеральных вод действовал третий армейский корпус ген. Ляхова[248], силою в 10 тыс. при 30 оруд. и четырех бронепоездах. Он занимал фронт по обе стороны Владикавказской жел. дор. против ст. Курсавки, а правым флангом своим подходил на переход к жел.-дор. линии Кисловодск – Минеральные воды. Корпус был недавно сформирован и главную массу его составляли войска ополченского типа.
- В центре, в районе Ставрополя расположено было два корпуса: а) 1-й армейский ген. Казановича[249] — силою в 6800 шт. и саб., 21 оруд., стоял у Сергиевки, выдвинув передовые части против Медведского и Александровского; б) 1-й кон. корпус ген. барона Врангеля[250], силою до 6200 саб. и шт., 20 оруд. — в районе Петровского.
- В Приманычских степях действовал отряд ген. Станкевича[251] — две, три тыс., 4 оруд., держа связь с Донской армией и прикрывая левый фланг нашего расположения.
Всего в Кавказской группе Добровольческой Армии было около 25000 при 75 орудиях.
Против наших войск располагалась XI армия красных, под командой немца Крузе. Состав, командование и организация ее непрестанно менялись, как менялась и человеческая волна, переливавшаяся через ее кадры. В состав ее входило 12 пех. дивизий трех-пяти полкового состава и 7½ кав. дивизий. В рядах их числилось огромное количество людей, не менее 150 тыс., из которых около половины действительно сражавшихся. В течение декабря предполагалось произвести полную реорганизацию армии, путем очистки ее от небоевого элемента и сведения многочисленных колонн, отрядов в 5 стрелковых и 5 конных дивизий. В ноябре армия усилилась частями, освободившимися после падения Терского фронта, в том числе Терской дивизией и Кабардинской бригадой.
К концу ноября войска XI армии располагались следующим образом:
- Манычская группа («ставропольские» дивизии), 15 тыс., против ген. Станкевича и к востоку от Петровска, между Манычем и с. Овощи.
- Благодарненская группа («таманские» дивизии), 10 тыс., против прав. фланга ген. Врангеля и против лев. крыла ген. Казановича, впереди Благодарного. 3. Александровская группа (бывш. Гудкова), 10 тыс., против прав. крыла ген. Казановнча, впереди с. Александровского.
- Терская группа, до 25 тыс., против ген. Ляхова, от Курсавки до Кисловодска. Ближайшим резервом этим силам могла служить XII армия, под командой Дьякова, силою до 12 тыс. человек, образовавшаяся после падения Терского фронта в районе Кизляр–Моздок–Грозный из трех красных полков сильного состава, пришедших из Астрахани, и местных формирований.
Всего против нашей Северо-Кавказской группы стояло 72 тыс., при 80–100 орудиях. Войска эта базировались на Астрахань, а передовой базой для XI армии служил обильно снабженный всякими запасами Св. Крест.
* * *
24 ноября части Добровольческой Армии получили ближайшую задачу: ген. Врангель, с подчинением ему отряда Станкевича — разбить группу противника, сосредоточившегося к северу от Петровского[252], теснившую донцов (по Манычу) и Станкевича и угрожавшую выдвинутому вперед положению 1 кон. корпуса.
Ген. Казановичу — наступлением на Благодарное обеспечить операцию Врангеля.
Ген. Ляхову — перейти в наступление на фронт Кисловодск — Минеральные воды, для овладения Минераловодской группой.
Во исполнение этой директивы с 25 ноября по 20 декабря шли тяжелые бои, с переменным успехом, изнурительные для обеих сторон.
Ген. Врангель, наступая главными силами по обоим берегам Калауса на север и отрядом Станкевича на восток, на Стар. Бурукшун, в течение 26 ноября — 1 декабря, рядом удачных боев очистил северный район; большевики, неся большие потери, бежали на Рагули. Мелкие бои, однако, в этом районе не прекращались; 5 декабря большевики атаковали вновь на фронте Кистенское–Дербетовское, но были отброшены. Атаки противника повторились 11-го от Овощи на Камбулат бригадой пехоты и кавалерии и 13-го более крупными силами — всей Манычской группой, до 15 тыс. — на фронт Кистенское–Предтеча, в охват Петровского с севера… Направленный ген. Врангелем во фланг наступающих, ген. Улагай, к вечеру того же дня, разбил южный отряд большевиков в районе Барханчака и затем, действуя быстро и искусно, в течение трех дней нанес ряд сильных ударов и средней колонне у Винодельнаго, Дербетовского, отбросив большевиков далеко за Дивное.
Но упорство большевиков сломлено не было. Новые мобилизации и подкрепления, прибывшие из Астрахани и с Терека, усилили XI армию, которая не только стойко оборонялась, но временами переходила в общее наступление по всему фронту (10–11 декабря).
Был сильный мороз. Бушевала страшная вьюга. И люди и кони работали из последних сил.
Наступление ген. Казановнча, имевшего против себя в центре наиболее сильную Таманскую группу, подвигалось медленно. Только на правом фланге его 1-я дивизия ген. Колосовского имела успех, разбив 6-го у Александровского две бригады большевиков. Все усилия свои Казанович направлял для фронтального прорыва в направлении на Медведское, которое, после перегруппировки, атаковал и взял 15-го; но уже через два дня таманцы перешли большими силами в контрнаступление со стороны Благодарного, и ген. Казанович, неся большие потери, стал отходить к р. Калаусу.
Когда было взято Медведовское, я полагал использовать успех Казановнча движением с севера во фланг и тыл противнику частей 1-го коп. корпуса. Людской и конный состав его, однако, был измотан до крайности и ген. Врангель считал необходимым для восстановления боеспособности корпуса по крайней мере двухнедельный отдых. Но через несколько дней, в виду серьезного положения группы Казановича, он сам предложил ударить по тылам противника на фронт Медведское–Шишкино. На крайнем левом фланге группы — отряд ген. Станкевича утвердился в Б.-Джалге, одна бригада прикрывала Петровское с востока; прочие силы 1-го кон. корпуса начали сосредоточение в районе к юго-востоку от Петровского.
На Минераловодском направлении — гололедица, большие морозы и снежные бураны, свирепствовавшие с особой силой в предгориях Кавказа, до крайности затрудняли операции. 28 ноября ген. Ляхов занял ст. Барсуки; к 3 декабря дивизия ген. Шкуро, следуя на соединение с корпусом, вышла на фронт его севернее ст. Курсавка, которая и была взята 14-го, после горячего боя соединенными усилиями бронированных поездов, пластунов и ударом в тыл дивизии Шкуро. На всем фронте корпуса изо дня в день шли бои, типичные для «малой войны», причем, оперативные сводки, отмечали перемежающиеся успехи и неудачи — переход из рук в руки станиц Боргустанской, Суворовской, Воровсколеской, станции Курсавки… 16 и 17-го одновременно с наступлением в центре на Казановича, Терская группа красных повела общее наступление и на корпус Ляхова, развивая небывалой силы артиллерийский огонь. В направлении Владикавказской жел. дор. линии наступление это было сдержано бронепоездами и атаками кубанцев Шкуро и горцев Бековича Черкасского[253]. На правом фланге нашем противник имел, однако, успех и, сбив Черкесскую дивизию, быстро двигался к Баталпашинску. Ген. Шкуро направился туда, чтобы личным своим влиянием на казаков Баталпашинского отдела поднять там поголовное ополчение.
* * *
Наступление в центре Северо-Кавказского Добровольческого фронта назначено было на 21 декабря. В этот день на рассвете я с Романовским и английским представителем ген. Пуль прибыли на сборный пункт конницы генерала Врангеля, верстах в 20 к юго-востоку от Петровского. На наших глазах происходило развертывание и движение в атаку славных полков 1-го кон. корпуса, сыгравших решительную роль в последовавшем генеральном сражении.
Для прикрытия левого фланга от Маныча (Киевское) до Овощи оставлены были отряды ген. Станкевича и ген. Бабиева. Остальные войска корпуса ген. Врангель бросил на фронт Медведское–Шишкино — в тыл Таманской группе противника. Стремительной атакой кубанцев большевики, занимавшие этот район, были разбиты, и главные силы Таманской группы, потеряв пути отхода на Св. Крест, в беспорядке бросились на юг и юго-восток. В то же время войска Казановича, наступая с фронта, на левом своем фланге взяли 21-го Ореховку и Высоцкое, а на правом, в ближайшие дни, овладели последовательно Грушевской, Калиновкой и Александровским…
Вслед за тем, 24-го, ген. Врангель овладел Благодарным, ведя преследование на юг и восток, после чего сосредоточил свой корпус в районе этого села. Дважды еще большевики переходили в контрнаступление — 25-го на Благодарное и 26-го против Казановича, но были обращены в бегство. Число пленных, оружия, обозов, попадавших в паши руки, все более увеличивалось. И 27 декабря штаб имел основание сообщить печати, что «Таманская армия противника приведена в полное расстройство и управление ею потеряно».
В виду общности фронта и задачи, я объединил командование над войсками генералов Казановича и Врангеля в руках последнего. Эта армейская группа должна была докончить поражение центра XI советской армии, наступая на Святой Крест — Георгиевск, в то время, как корпус Ляхова выполнял прежнюю задачу — овладеть линией Кисловодск — Минеральные воды.
24 декабря сборный отряд ген. Шкуро отразил противника, обстреливавшего уже орудийным огнем Баталпашинскую, и погнал его в направлении Есентуков; к 29-му наши части атаковали Курсавку, Есентуки и Кисловодск…
Ген. Врангель, между тем, направил дивизию Улагая на Святой Крест, главными же силами продолжал теснить Таманскую и Александровскую группы противника на юге. Шаг за шагом, разбивая еще сопротивлявшиеся отряды, забирая много пленных и орудий, войска его в начале января продвинулись в район Новоселицы–Александровское.
К этому времени расстроенная и деморализованная XI армия красных, насчитывавшая еще в своих рядах до 40 тыс. при 50–80 оруд., сбилась в две группы: в районе ст. Нагутская–Кисловодск–Минеральные воды — около 20–25 тыс. и в районе Св. Креста — до 10 тыс.; оторванная от главных сил Манычск. группа (ставропольский корпус) противника, силою до 10 тыс., делала попытки облегчить положение всей армии наступлением в охват нашего левого крыла, но в боях в долине Маныча и в районе Овощи и Рагули ген. Станкевич и полк. Бабиев нанесли ей ряд поражений и вскоре вытеснили большевиков в Астраханские степи.
К вечеру 4 декабря дивизия ген. Улагая, наступая по Благодарненск. дороге, после жестокого боя овладела Св. Крестом, и одновременно другая колонна ген. Топоркова, направленная Врангелем из главных сил, взяла Преображенское (южнее), прервала там ж. д. сообщение, не допустив эвакуации Св. Креста.
Овладение нами Св. Крестом, помимо огромной военной добычи, которую представляла эта передовая база всего Северо-Кавказского советского фронта, окончательно лишало остатки XI армии северо-восточных путей отступления. Перед нею лежало две дороги — одна через Владикавказ на Грузию, другая — на Моздок–Кизляр к Астрахани. Первая сулила ей темное будущее в стране, враждебной большевизму, вторая — спасение; но была она страшно длинной и трудной, и огромному большинству принесла гибель…
6 января, продолжая наступление по всему фронту, войска ген. Врангеля заняли Георгиевск и тем предрешили участь Минеральной группы. Корпус Ляхова на другой день овладел Ессентуками, Кисловодском и Минеральными водами, а 8-го Пятигорском. 12 января ген. Шкуро после горячего боя взял Нальчик и, бросившись затем на север, 14-го занял Прохладненский узел[254], отрезав тем большевикам путь отступления на Владикавказ. Безостановочно преследуя противника, наши войска к 14 января вышли на линию Нальчик–Прохладная–Эдессия–Правокумское–Арзгир–Дивное.
Это был полный разгром противника — тактический и моральный, требовавший лишь неотступного преследования, невзирая на страшное утомление Добровольческих войск. Эта сводившаяся к освобождению Терской области и к выходу к Каспийскому морю задача возложена была мною на ген. Врангеля, сыгравшего такую блестящую роль в истекшей операции. 10 января он стал фактически во главе Кавказской Добровольческой армии, в состав которой я включил все войска, стоявшие на фронте от Дивного до Нальчика[255].
В конце января ген. Врангель заболел сыпным тифом и не мог руководить операцией. Это обстоятельство поставило меня в большое затруднение, так как передавать командование старшему (ген. Ляхову) я не хотел — его стратегия не разделялась мною, а начальник штаба армии ген. Юзефович только что поступил в наши ряды и не мог поэтому приобрести авторитета в глазах доблестных, но своенравных начальников Кавказской армии. Решено было официального приказа о замещении не отдавать, а ген. Юзефовичу руководить армией от имени ее командующего.
* * *
К середине января Северо-Кавказского советского фронта уже не существовало, оставались только разрозненные отряды: остатки разбитой XI армии (до 20 тыс.) группировались в районе Прохладной и по путям от нее, частью к Владикавказу, преимущественно же к Моздоку; другая группа (около 5 тыс.), оторванная от главных сил и стремившаяся соединиться с X армией, сосредоточилась у Приютного, севернее оз. Манычского; на всем огромном протяжении между этими пунктами — по воздушной линии свыше 250 верст, только в кумском районе собирались остатки, до 3 тыс. красных, разбитых у Св. Креста. Восточнее — XII армия, силою около 12 тыс., занимала Грозный, Кизляр и Старотеречную, прикрывая единственный путь отхода — прикаспийский Астраханский тракт. Наконец, в районе Владикавказа сосредоточились крупные местные отряды «Северо-Кавказской республики», и неизвестно было — дружественная или враждебная сила — войска Ингушетии.
Таким образом, Кавказская добровольческая армия имела перед собой еще до 50 тыс., хотя и разрозненных, лишенных управления и деморализованных советских войск.
14 января командующий армией, оставив для прикрытия Астраханских направлений и Ставропольской губ. отряд ген. Станкевича на Маныче и дивизию ген. Улагая у Св. Креста, двинул для преследования противника два корпуса: ген. Ляхова (3 арм. к.-с.) — на Владикавказ и Грозный, ген. Покровского (1 кон. к.-с.) на Моздок–Гудермес–Кизляр к Каспийскому морю.
Человеческая волна катилась бурно и неудержимо на восток, покрывая все дороги на много десятков верст, запрудив их обломками повозок, брошенным скарбом, трупами людей и животных. Кому удавалось спастись от пули и шашечного удара, тот находил смерть от сыпного тифа, косившего нещадно. Многие участники похода, свыкшиеся, казалось, с ужасами войны, не могли потом без содрогания вспоминать эти кошмарные картины: мечущиеся толпы, брошенные на произвол судьбы поезда с больными и ранеными, тысячи изнемогающих людей в жару и бреду, ползущих по рельсам и откосам полотна и давимых немилосердно уходящими поездами…
Иногда толпы большевиков останавливались и, побуждаемые страхом и чувством самосохранения, принимали вновь облик воинской силы и вступали в бой с преследовавшими — бой жестокий, упорный, безнадежный…
Ген. Покровский двигался несколькими колоннами с сев. зап. к Моздоку на перерез пути противника, отходившего левым берегом Терека. На рассвете 15-го Покровский обрушился на большевиков на широком 25 верстном фронте, прижал их к реке и в упорном бою, в котором со стороны большевиков принимало участие и 8 бронированных поездов, разбил их на голову, взял до 10 тыс. пленных и занял Моздок. Бегущие пытались переправиться на правый берег, но единственный деревянный мост рухнул, и много людей, спасаясь вплавь, утонуло в Тереке.
Еще раз у станицы Мекенской корпус встретил сопротивление, но после двухдневного боя опрокинул противника и, сбивая его короткими ударами, шел безостановочно вперед, заняв 24 января Кизляр, достигнув разъездами Брянской пристани и войдя в связь у Хасав Юрта с Терским отрядом ген. Колесникова, стоявшего в Петровске. Остатки большевицких войск частью рассеялись по Чечне, частью (3–4 тыс.) были настигнуты и порублены севернее Кизляра. Весьма немногим удалось уйти на Астрахань.
Этот беспримерный марш — 350 верст с боями — 1-й конный корпус ген. Покровского совершил в 14 дней!
Ген. Ляхов, оставив часть сил для обеспечения Прохладненского узла, двинул войска генералов Шкуро и Геймана обоими берегами Терека к Владикавказу, а Черкесскую дивизию ген. Келеч-Гирея — в долину Сунжи на Грозный.
Пройдя до Ахлово, черкесы встретили неожиданное сопротивление со стороны ингушей, которые, выставив хорошо вооруженный двухтысячный конный отряд, прикрыли отступление большевиков и отказались пропустить наши войска до решения ингушского национального совета, заседавшего в Назране. Ген. Келеч-Гирей вступил в бой с ингушами, но потерпел неудачу и, не рассчитывая на свои силы, свернул кружным путем на станицу Слепцовскую и взял ее с боя. Но попал в трудное тактическое положение между ингушами и большевиками. Ген. Ляхов направил крупные части из своего резерва — Прохладной для ликвидации сопротивления непокорных аулов и одновременно предъявил ингушскому народу ультимативное требование — сдать оружие, очистить Владикавказ и окрестные селения, восстановить снесенные терские станицы. Переговоры намеренно затягивались ингушами и наступление Черкесской дивизии на Грозный задержалось. Между тем до сведения моего дошло, что какие-то сборные отряды под английским командованием направлены из Петровска к Грозному[256]… Во избежание нежелательных последствий иностранной оккупации огромной важности нефтеносного района, я приказал возложить задачу овладения Грозным на ген. Покровского. С левого берега Терека он свернул от ст. Калиновской на юг части 1-й кон. дивиз. ген. Шатилова и 23-го, после двухдневного жестокого боя, город был взят.
На Владикавказском направлении шло наступление отрядов Шкуро и Геймана, которые, преодолев сопротивление противника на линии Ардон–Эльхотово, к 19 января подошли к ст. Беслан, в двухдневном бою опрокинули большевиков, беспорядочно отступивших к Владикавказу, и 21-го ген. Шкуро ворвался уже в заречную часть города, заняв кадетский корпус; 24 в его руках было северное предместье — Курская слобода, а южнее города — гора Лысая, чем отрезан был противнику путь отхода и по Военно-Грузинской дороге. Многие комиссары и совдепы кавказских городов успели, однако, бежать в первые дни осады в гостеприимную Грузию.
Большевики совместно с ингушами оборонялись с большим ожесточением[257]. Части ген. Геймана, наступавшие с севера, находились под ударом с фланга и тыла, со стороны ингушских аулов, с населением поголовно вооруженным, поднявшимся в защиту большевиков. Потребовалось 6 дней упорной борьбы, ряда последовательных ударов по ингушским аулам, в которых большевики совместно с ингушами отчаянно защищали каждую саклю. И только 27-го ингушский национальный совет выразил от имени народа полную покорность, приняв все наши условия, а 28-го после десятичасового уличного боя, наши войска овладели Владикавказом.
В последующие дни происходила только ликвидация остатков противника, рассеявшегося в окрестностях Владикавказа и зажатого нашими войсками в тесном районе Сунженской долины между Владикавказом и Грозным. В Грузию бежало свыше 3-х тыс. красноармейцев, которых, по моему настоянию перед английским командованием, грузинское правительство обязалось интернировать в Мцхете[258].
Северо-Кавказская операция закончилась. Вся Ставропольская губ. и Терская область были освобождены от советской власти. В пределах Северного Кавказа не оставалось более ни одной организованной большевицкой части. Много крови, много жизней стоила и огромных усилий потребовала эта борьба, давшая чудесные страницы Добровольческого эпоса, богатая яркими примерами высокой доблести и искусства многих вождей и воинов.
Стотысячная армия Северо-Кавказского большевицкого фронта перестала существовать. Она оставила в наших руках 50000 пленных, не считая больных и раненых, 150 орудий, 350 пулеметов и огромное количество всякого военного имущества. Она усеяла своими трупами Ставропольские поля и предгорья Кавказа во имя чуждых ей идей и непонятных целей. В течение 7½ месяцев она отвлекала на себя почти все Добровольческие силы Юга и хоть за это должна бы получить некоторое признание со стороны московских правителей. Но они вбили в могилу ее осиновый кол и написали на нем бранную надпись. И мне — врагу, приходится заступиться за память погибшей армии перед историей.
Бронштейн о причинах неудач на Южном фронте говорил[259]:
«…За спиной Краснова, на юге, стояли Деникинские белогвардейские войска. Знали мы о них? Конечно, знали. Но за спиной Деникинских войск стояли северо-кавказские советские армии. Эти две армии насчитывали чуть не 150000 или даже 200000 человек. По крайней мере, снабжение они требовали на такое число. Но это не были правильно организованные войска, а партизанские отряды, за которыми тащилось много беженцев и просто дармоедов и мародеров. Никакой правильной организации снабжения, управления и командования не было и в помине. Самодельные командиры не желали никому подчиняться и боролись друг с другом. Как всегда водится у партизан, страшно преувеличивали свои силы, с презрением относились ко всем предостережениям центра, а потом, после первого серьезного удара со стороны Деникинцев, стали рассыпаться на части. При этом сдали врагу множество военного имущества и погубили при отступлении неисчислимое количество человеческих сил. Нигде, может быть, партизанщина не обошлась так дорого рабочим и крестьянам, как на Северном Кавказе.
Таким образом, основною причиной наших южных неудач являются не недостатки организации армий южного фронта, а предательская, в полном смысле слова, роль пережившей себя партизанщины».
Нет сомнения, что много язв разъедало Северо-Кавказскую армию — вероятно не в меньшей степени, чем прочие красные армии. Но, очевидно, воинский дух ее, невзирая на отсутствие непосредственного управления центра и плодотворного влияния «московских и петроградских сознательных товарищей», влитых во множестве на другие фронты (или, быть может, благодаря отсутствию этого влияния?), был неизмеримо выше, чем в других красных армиях. Потому что справляться с нею нам было труднее, чем с другими, потому что борьба с нею стоила нам относительно больших потерь. И не раз, разбитая, казалось, до основания, она возрождалась вновь и вновь, давая твердый отпор Добровольцам.
* * *
В начале февраля Кавказская добровольческая армия, имея обеспеченный и относительно замиренный тыл, получила, наконец, возможность повернуть на север для выполнения своей основной задачи.
Глава XIV. Терек в 1919 году
Когда войска Добровольческой Армии овладели Минеральной группой и определился ясно исход операции, я назначил командира 3 арм. корпуса ген. Ляхова «главноначальствующим и командующим войсками Терско-Дагестанского края». Одновременно письмом на имя начальника края я определял общие основания той политики, которой надлежало придерживаться русской власти:
«Милостивый государь Владимир Платонович,
Героическими подвигами Кавказской добровольческой армии, в которой слились в одном беззаветном порыве славные кубанские казаки, Добровольцы, терцы и горские воины, освобождается весь Северный Кавказ от власти большевиков.
Кончаются дни беспросветной тьмы, хулиганского разгула и бесправия. Народная жизнь потрясена до основания, тем более, что смута еще более обострила взаимоотношения, существовавшие между народностями Северного Кавказа.
Вам предстоит тяжелая, но благодарная задача умиротворить Терско-Дагестанский край. Ввести начала законности и порядка. С высокой справедливостью и беспристрастием примирить интересы подчас враждующих соседних народностей. Восстановить правильную экономическую жизнь, чему всемерно будут содействовать органы управления, при мне состоящие. Помочь свободному развитию местных установлений. Создать вооруженные силы для защиты родных очагов и для участия в борьбе за освобождение России. Наконец, вновь приобщить край к русской государственности.
От всей души желаю скорейшего прекращения междуусобий, счастья и мира многострадальному краю.
Уважающий Вас А. Деникин».
Вместе с тем, «в целях воссоздания Терского казачьего войска», ген. Ляхову приказано было собрать круг для выбора войскового атамана, поручив эту работу находившемуся в районе Добровольческой Армии, бывшему председателю Терского округа, И.Д. Губареву.
Если во взаимоотношениях с Доном и Кубанью вопрос о необходимости единой государственной власти ставился нами, как необходимость подчинения общим интересам частных, то для Терека, при его крайней черезполосности, при страшно запутанных межплеменных отношениях, острой вражде к нему чеченцев и ингушей и далеко не соразмерных силах сторон, установление общероссийской власти являлось вопросом физического существования казачества, вопросом жизни и смерти. Только такая власть, чуждая областных интересов, могла иметь известный авторитет в глазах горцев, примирить враждующие элементы и остановить или, по крайней мере, не дать разгореться на Северном Кавказе новому пожару, открывающему путь для новой волны большевизма — пожару, в пламени которого, прежде всего, сгорело бы Терское войско. Наконец, только русская власть могла обеспечить Северный Кавказ, как тыл наступающих на север противобольшевицких армий и, ослабив развитие панисламистских и центробежных течений, сохранить край для России. Это сознавала ясно российская общественность Юга, так думали тогда, в период начальной борьбы терские деятели — будущие законодатели и правители, в том числе ген. Вдовенко[260] и Губарев. Понимание положения не чуждо было и горской интеллигенции. Представители наиболее культурного племени — осетины имели смелость высказать его открыто[261]: «Не располагая умственными и материальными силами даже для совместной автономности, не говоря уже о государственной независимости, горцы по пути к своей независимости стали добычей как авантюристов из своей собственной среды, так и большевиков. Это было неизбежно. Ведь в прошлом Кавказ представлял из себя арену непрерывной войны его народов, и только сильная русская власть в состоянии была отчасти умиротворить их, отчасти заставить их приступить к мирным видам труда».
Даже яркий проповедник горской независимости, председатель горского правительства Коцев, на одном из заседаний, в порыве интимной откровенности, заявил: «слабые наши стороны нам не давали лгать. Это — грабежи и разбои, кои не дают нам ходу. Вот почему нас хотят умиротворять, вот почему хотят назначить генерал-губернаторов… Это и есть наше слабое место — «если хотите самоопределяться, то обеспечьте свободное проживание гражданам» — вот что нам могут сказать…»[262].
Ляхову даны были указания относительно организации местной власти, которые он стал осуществлять практически с середины января. Само же «положение» вырабатывалось детально в недрах комиссий Особого Совещания очень долго, претерпевало частичные видоизменения и только к концу мая появился официально проект его.
В общем, система управления намечалась следующая:
Высшая гражданская и военная власть в крае принадлежит главноначальствующему и командующему войсками, который по второй своей должности подчинялся непосредственно главнокомандующему вооруженными силами Юга России, а по первой — Особому Совещанию. При главноначальствующем состояли помощники, из которых один — по горским делам, выбираемый, как и члены совета при нем, на общем горском съезде.
Территорию края составляют области Терского войска и Дагестанская, четыре горских округа — Кабарда, Осетия, Ингушетия, Чечня и выделенные в особые административные единицы градоначальства: Владикавказское[263], Грозненское[264] и Минераловодский район[265].
Терек получал широкую автономию, аналогичную той, которая была составлена для Кубани[266]. «Терское войско — говорилось в «Основных положениях» — пользуется правами автономии во внутренних своих делах и управляется, в этом отношении, на основании законодательных постановлений, издаваемых войсковым кругом, при посредстве Круга, выборного Войскового атамана, правительства и других органов, которые будут учреждены войсковым кругом…» «Дела общегосударственные (перечень тот же, что для Кубани)[267], разрешаются в порядке законодательства и верховного управления Главнокомандующим вооруженными силами Юга России, в порядке же управления подчиненного ведаются главноначальствующим Терско-Дагестанского края и иными подлежащими органами…» «В порядке военного управления Терское войско и его войсковое начальство подчиняются Главнокомандующему вооруженными силами Юга России. Распоряжения Главнокомандующего приводятся в исполнение через командующего войсками в крае…»
Во главе каждой горской народности стоит правитель по выбору народа и при нем совет, также из выборных. Они ведают делами местного управления, хозяйства и вопросами культурно-бытовыми; сохраняются и шариатские суды. Правители подчиняются непосредственно главноначальствующему.
Круг деятельности этих органов точно установлен не был, и фактически горские племена пользовались полнейшей самостоятельностью. Единственной государственной тяготой была для них платная поставка продовольствия расположенным в их районах войскам и обязанность выставить в действующую армию боевые части, сообразно численности своего населения. Требование это диктовалось мотивами не военными, а исключительно политическими: не было иных средств, чтобы выкачать из аулов массу накопленного там оружия и беспокойные элементы и тем хоть до некоторой степени обеспечить общий внутренний мир в крае и, в частности, Терское войско, ослабленное посылкой своих полков на север. Численность всех горских контингентов в рядах Армии до конца мая не превышало 3–4 тыс.
* * *
Терский большой войсковой круг открылся 22 февраля.
Круг выслушал доклад ген. Ляхова о конструкции власти в Терско-Дагестанском крае, решения по этому вопросу не вынес, но выказал готовность всемерно поддерживать Добровольческую Армию. Признал необходимым тесное объединение с Кубанью; избрал малый круг в качестве «комиссии законодательных предположений» для будущей сессии войскового круга; утвердил временную конституцию края; и избрал атаманом ген. Вдовенко, вручив ему полную военную и исполнительную власть, обязав лишь атамана и поставленное последним правительство «по вопросам законодательного характера, не терпящим отлагательств (займы, налоги и т. п.), обращаться за утверждением к Малому кругу». Вслед за сим, через 9 дней Большой круг разошелся на неопределенное время, предоставив инициативу своего созыва Малому кругу и атаману.
При таких условиях началось соправление двух властей — казачьей и Добровольческой, обосновавшихся в Пятигорске. Недоговоренность взаимоотношений, ряд спорных вопросов, восходивших еще к периоду дореволюционному, происки кубанских самостийников, чрезвычайно чуткое, прямо болезненное отношение новых терских властей к своему престижу, чтобы он не был ничем умален «против старших братьев — Дона и Кубани» — все это не могло не породить трений. К тому же ген. Ляхов был человек властный, крутой, с характером тяжелым и обращением резким, обламывавший, а не сглаживавший острые углы взаимных отношений. В результате, после двухмесячного управления, главноначальствующий в своем отчете[268] свидетельствовал:
«Приходится отметить постоянные неофициальные спошения (моего) управления с новой образовавшейся в крае властью в лице Войскового правительства Терского казачьего войска. Непрерывно возникающие трения на почве резких выступлений указанного правительства по предметам явно не подлежащим его компетенции, как например, распоряжения в пределах минераловодского района, в области государственных финансов, передвижения грузов, закрытия границ Терской области, попытки захватить учреждения бывшего правительственного продовольственного аппарата, постоянно заставляют Управление относиться с особой бдительностью к распоряжениям Войскового правительства — при чем до последнего времени удавалось полуофициальным путем и переговорами с Войсковым атаманом и его правительством улаживать все недоразумения. При этом Войсковым правительством отменены все изданные им распоряжения, несогласные с общей конституцией власти, установленной Добровольческой Армией.
Управление однако отмечает, что трения увеличиваются и могут быть весьма серьезными, в особенности в области земельного вопроса, который, по-видимому, предполагается казачеством к разрешению в благоприятном только для казаков смысле».
Ляхов правил этнографической мозаикой Северного Кавказа с большой энергией, в условиях крайне трудных. Восстановил суд, администрацию, правительственные учреждения. Создавал примирительные комиссии, формировал войска и с февраля вел самостоятельно операции против большевиков и горцев[269]. Центр наш медлил, отставая от быстро текущей жизни, и главноначальствующий вводил, по собственной инициативе, законодательные новеллы в области земельных отношений, акциза и т. д., иногда расходившиеся с политикой центра. Так, управление его взяло на себя самочинно разрешение в административном порядке ходатайств о восстановлении владельцев земли и движимых имуществ в их правах — мера, создавшая почву для недовольства и обвинений власти.
Правление ген. Ляхова продолжалось только три месяца, так как в марте произошел печальный случай, прервавший его служебную деятельность. Начальником конвоя главноначальствующего (или комендантом его штаб-квартиры), лицом пользовавшимся его неограниченным доверием был некто капитан Чайдоянц, состоявший ранее комендантским адъютантом штаба Армии и удаленный с этой должности. Ляхова предупреждали не раз о сомнительной репутации Чайдоянца, но он не обращал на это внимания. Противодействовал даже задержанию Чайдоянца, когда тот был уже обличен. Следствие раскрыло такие картины провокации, арестов и садических убийств с корыстной целью, связанных с деятельностью Чайдоянца, что косвенно репутация самого главноначальствующего была скомпрометирована, и он вынужден был оставить пост. Ген. Ляхов удалился от всякой деятельности и жил в глухом углу в окрестностях Батума, где было крайне не спокойно. Человек лично мужественный, Ляхов пренебрегал опасностью, не принимал никаких мер и, при вторичном покушении на его жизнь, был убит злоумышленниками.
* * *
На должность главноначальствующего 16 апреля был назначен ген. Эрдели.
Хотя новый главноначальствующий отличался большим тактом и известными дипломатическими способностями, но трения с терскими властями продолжались и у него; в особенности после того, как в мае донское правительство односторонним распоряжением отпустило из ростовской экспедиции 80 милл. Тереку и тем уменьшило зависимость терского правительства от командования. Проект организации Терско-Дагестанского края, данный генералом Эрдели на заключение терскому правительству в середине мая, вызвал решительный протест последнего даже по основному вопросу о самом бытии «Терско-Дагестанской» власти… В «чрезвычайном» заседании по этому поводу терское правительство вынесло резолюцию[270]:
«Область войска Терского должна быть исключена из состава Терско-Дагестанского края с непосредственным подчинением войскового атамана Терского войска Главнокомандующему в. с. Юга России генералу Деникину на равных основаниях с атаманами Донским и Кубанским. Поэтому проект закона об управлении Терско-Дагестанским краем к управлению территорией Терского казачьего войска не должен относиться. Это и должно лечь в основу переработки означенного закона во всей его совокупности, — о чем и представить главнон-у Терско-Дагест. края».
Терские правители и Круг желали, чтобы общерусская власть железным обручем сковала горские народы и требовали особенно решительных военных мер против ингушей и чеченцев, угрожавших пределам области. Но, вместе с тем, настаивали, чтобы эта власть отнюдь не вмешивалась в суверенное существование Терека. В этом отношении, они нашли полную поддержку в кубанских политических кругах, и первое чествование терских правителей в Екатеринодаре (27 мая) было ознаменовано речами, направленными против Добровольческой Армии — «врага казачества», против командования и, в особенности, против Особого Совещания…
Такое однобокое решение вопроса о построении кавказской власти было и несправедливо и неосуществимо… В записке, приложенной к приведенной выше резолюции и составленной по предложению Эрдели, терцы сообщали и ряд конкретных пожеланий: отдачу им Минераловодской группы, потому что с нею «политически тесно связаны казачьи станицы»; упразднение грозненского градоначальства, существование которого «со включением туда нефтяных казачьих земель создает у широких казачьих масс впечатление, что казачье достояние — промысла — власть хочет оттянуть у Войска»; передачу «всего горного дела, в частности, нефтяного, на территории войска, как со стороны горнотехнического надзора, так и с хозяйственной… исключительно в ведение терского правительства…»[271]. К этим чисто экономическим требованиям присоединялось и военное — чтобы атаман являлся «прямым начальником всех терских войсковых частей, вне зависимости от места их нахождения, и ему принадлежало право инспектирования и всех назначений…»
Терское правительство обосновывало свои «претензии на некоторую долю государственной власти… революционной неустойчивостью момента» и выражало даже некоторую угрозу: «если этого не учитывать и не считаться с этими взглядами широких казачьих демократических и общественных слоев войска, то возможно серьезное коренное расхождение во взглядах и пагубный для обеих сторон разрыв… Дело в том, что процесс революционного строительства еще продолжается…»
Если отбросить всю обязательную в то время «революционную» терминологию, камень преткновения лежал, главным образом, в некоторых экономических вопросах, к которым я и Особое Совещание, оберегая общерусские интересы, относились, быть может, слишком ригористически. Все остальное — было только декорацией. Угроза была неуместна по адресу Армии–освободительницы и бессильна по существу. Ибо частичный даже увод весною частей армии с Кавказа на север, для отражения большевиков, обрушившихся на нас с Царицынского направления, вызвал совместное представление и атамана, и главноначальствующего[272], рисовавшее такую картину:
«При наличии восстания «керменитов» в Осетии… при взаимной кровной ненависти терцев с одной стороны и чеченцев и ингушей с другой, (при) ясно обнаруженных намерениях (большевиков) наступать на Кизляр и Св. Крест, увод первой конной дивизии неизбежно приведет к отдаче (большевикам) Владикавказа… Грозного и Кизляра, что вызовет восстание всех горских народов и полный распад всего Терского казачьего войска, которое разбредется по станицам защищать свои пепелища…»
Трения создавала, в сущности, только небольшая, но влиятельная часть псевдо-радикальной и самостийной терской интеллигенции в правительстве и Круге[273], тогда как казачество было совершенно инертно, глубоко чуждо политической борьбе и сердечно расположено к Добровольческой Армии; города же всемерно вырывались из подчинения отдельской (уездной) казачьей власти, и городские самоуправления, в конечном результате, настояли на проведении выборного производства, на основании закона Особого Совещания. Даже революционная демократия, во образе «Севкагора»[274], в поисках выхода между «стремлением сословно-казачьих кругов растворить город в сельской казачьей массе, враждебной городской культуре», и «недоверием власть имущих кругов в Особом Совещании, установивших опеку над целесообразностью действий городских самоуправлений»[275], — склоняясь явно на сторону второй комбинации…
Терский круг, собравшийся на вторую сессию в конце июня, просил меня прибыть на свое совещание, встретил и принимал чрезвычайно тепло. Говорили, что мой приезд уравновесил влияние кубанской делегации, работавшей весьма энергично против объединения Терека с командованием Добр. Армии. Но в постановлении Круга о построении власти — это отношение не проявилось. Круг стал на точку зрения правительства и отнесся отрицательно к предъявленной ему конституции Терско-Дагестанского края, подчеркнув особенно свое несогласие по вопросу о Грозном, Минеральной группе и о правах на недра. Территория Терской области управлялась, поэтому, до конца двумя властями: ген. Эрдели правил на основании положения о Терско-Дагестанском крае, атаман Вдовенко — применительно к Терской конституции — со всеми отрицательными последствиями такой сепаратной деятельности.
Было бы долго и затруднительно перечислять все те разногласия, которые возникали между терским правительством и командованием. Я приведу один лишь эпизод, характеризующий трагикомическое положение Владикавказской жел. дор., имевшей несчастье пересекать одиннадцать раз суверенные государства. В этом эпизоде, как в кривом зеркале, отражается вся лоскутная государственность Юга.
В июне–августе 1919 г. имела место следующая переписка:
- От начальника управления торговли и промышленности Терского войска — Управлению Владикавказской ж. д., телеграмма 29 июня:
«Терское войсковое правительство, являясь высшим органом правления в Терской области, сохраняет за собой всю полноту власти и вместе с нею неотъемлемое законное право, как такового, в издании законов и распоряжений в области. Отмена и запрет на провоз товаров, как по области так и за пределы ее по разрешениям на то Терского правительства лицами, неимеющими к нему никакого касательства[276], является незаконной, претендующей ограничить власть Войскового правительства. А потому Терское правительство требует в пределах Терской области исполнять распоряжения только Войскового правительства. Производить отправки грузов за пределы области — по разрешениям на то правительства, а по области — без всяких разрешений. 806.
Уторгпром Орлушин.
- От правителя Кабарды — управлению Владикавказской дороги, сношение 3 июля, № 3799:
«Управлением дороги сделано распоряжение начальникам станций Нальчик, Докшукино, Котляревская, Прохладная, Солдатская и Муртазово…, находящимся на територии Кабарды, не принимать никаких грузов без разрешительных свидетельств Терского правительства.
…Настоящим ставлю Вас в известность, что.., Кабарда есть самостоятельное административное управление, в своих правах равное Терскому правительству, и одно лишь может запрещать или разрешать ввоз и вывоз в пределы и за пределы Кабарды. А потому, означенное распоряжение прошу отменить, поставив в известность г.г. начальников вышеупомянутых станций и предписать им принимать товары к отправлению лишь по моим разрешениям и окружных Нальчикских управлений.
Ген. маиор князь Бекович Черкасский».
- От помощника правителя Кабарды — Управлению Владикавказской ж. д., сношение 10 июля, № 4999:
«Советом при правителе Кабарды установлен самый минимальный налог с вывозимых из Нальчикского округа и ввозимых в таковой разных грузов… Вследствие этого прошу сделать распоряжение, чтобы вывозимые из Нальчикского округа и ввозимые грузы принимались для отправки и выдавались получателям по разрешениям Нальчикской окружной администрации.
За помощника по гражданской части N. N.
- От ген. Эрдели — председателю Особого Совещания, телеграмма 5 августа, № 4648, с просьбой
«…сделать распоряжение и указать управлению Владикавказской ж. д., что оно должно исполнять приказания общегосударственных властей, каковым Терское войсковое правительство не является».
- Главному начальнику военных сообщений отправлена предыдущая телеграмма, с резолюцией ген. Лукомского:
«Что это за безобразие? Срочно прошу расследовать, отменить распоряжение и доложить. 7/VII. - От председателя Особого Совещания — главноначальствующему Терско-Дагестанского края, сношение 8 августа, № 1011:
«…Мною сего числа сделано соответствующее распоряжение главному начальнику военных сообщений.
Препровождая в копиях всю относящуюся к делу переписку, прошу распоряжений о беспрепятственном следовании грузов в пределах и из пределов вверенного Вам края.
Ген. Лукомский».
Так жили и правили власти Юга.
И только благодаря сознанию смертельной опасности, в случае разрыва, отсутствию в массе Терского казачества всяких самостийных тенденций, личным отношениям ген. Эрдели с некоторыми терскими деятелями, в том числе с атаманом Вдовенко и председателем Круга Губаревым, наконец, умеренности и общероссийским тенденциям атамана, государственный механизм на Кавказе мог работать в течение года, правда, с перебоями, но без потрясений, которые имели место на Кубани.
Но, стремясь к возможной независимости от власти вооруженных сил Юга, Терек считал себя всегда неразрывной частью Единой России, не вел по крайней мере с нею заблаговременно торга о пределах своих вольностей и не обеспечивал их требованием «федерации» или «конфедерации» — понятий столь ярко выдвинутых русской смутой и столь чуждых в устах коренной русской области, по отношению к своей стране. Это значительно умеряло остроту терской фронды. А терское правительство, пройдя несколько месяцев горьким, тернистым путем власти, пришло к заключению:
«При такой обстановке (большевизма и восстания горцев) мысль о создании новых форм государственной и общественной жизни, в соответствии с выдвинутыми идеями местного самоуправления, замирает, так как приходится думать больше не о гражданском устроении жизни, а о защите свободы и физической безопасности граждан. Правильная сознательная работа возможна только в нормальных условиях спокойной, мирной жизни»[277].
Глава XV. Терско-Дагестанский край в 1919 году. Междуусобная борьба. Меджилис и англичане
Умиротворение горских народов шло своим чередом, встречая большие трудности.
Еще в мирное время, жизнь на Кавказе местами была неспокойной, и кавказские пути требовали усиленной военной охраны. С выводом войск на фронт мировой войны, потом с началом революции и ослаблением центральной и местной властей, положение стало еще хуже. Наконец, гражданская война, бесчисленные фронты, разрушение железных дорог, общее разорение и кровавые счеты — все это произвело в крае небывалый хаос. Грабеж, как занятие, пользовавшееся почетом на Кавказе, стал теперь обычным ремеслом, значительно усовершенствованным в приемах и «орудиях производства» — до пулеметов включительно. Грабили все «народы», на всех дорогах и всех путников — без различия происхождения, верований и политических убеждений. Иногда сквозь внешний облик религиозного или национального подъема хищным оскалом проглядывало все то же обнаженное стремление. Дороги в крае стали доступными только для вооруженных отрядов, сообщение замерло, и жизнь замкнулась в порочном круге страха, подозрительности и злобы.
Осетия и Кабарда присоединились к нам сразу и добровольно, созвали вскоре национальные съезды, избрали правителей и советы, установили вполне благоприятные отношения с главноначальствующим и Особым Совещанием. Роль последнего первое время ограничивалась почти исключительно денежными ассигнованиями на многообразные нужды этих округов и поддержку их культурно-просветительных начинаний. Внутренний мир и в них наладился не скоро: пришлось им подавлять оружием, подчас весьма жестоко, вспышки экстремистов[278], не утративших еще связей и симпатий к большевикам, и бороться с разбоями. В Осетии, по-видимому, самоуправление налаживалось, и устанавливались хорошие отношения к местной выборной власти; а из Кабарды не раз приходили жалобы на произвол старшин, взяточничество аульной администрации и самовольные взыскания с населения узденями убытков, понесенных во время господства большевиков.
Подчинившаяся официально Ингушетия жила фактически почти вне связи с русской властью. Не проявляясь активно, не прекращалось в ней брожение, подогреваемое извне постоянными сношениями с так называемым «горским правительством» и укрытыми в аулах, после падения Владикавказа, коммунистами, комиссарами, среди которых называли и «чрезвычайного комиссара» московского совнаркома Орджекинидзе. Формирование ингушских полков для Добровольческой Армии не подвигалось, а вместо этого шло тайное формирование местных отрядов. Ингушетия по прежнему представляла из себя враждебный вооруженный стан, который считался с одним лишь аргументом — силой.
Иначе обстояло дело в Чечне и Дагестане, где мы встретили неожиданно противодействие со стороны одного из кочующих правительств (характерное порождение русской революции) — «республики горских народов Кавказа» и… англичан. Избранный на 2-м горском съезде «центральный комитет союза горцев» имел вначале узкую задачу — отстаивания обще-горских интересов. Но, после падения Российского временного правительства, «горский союз, под влиянием фанатизма одних и честолюбивых замыслов других, перешел сначала к чисто горской автономности, а позже к независимому государственному образованию, требуя от всех признания своего суверенитета над территорией и над народами, населяющими во многих местах чрезполосно с русскими и казаками Северный Кавказ. Эти политические стремления дали горским народам только междуплеменную вражду и иго большевиков в Терском крае». Так определяли впоследствии правитель и совет Осетии роль горского правительства, протестуя против домогательств последнего на власть[279].
После январских событий во Владикавказе, горское правительство бежало в Тифлис и, оторванное от событий на Кавказе, частью рассеялось, частью — в лице кабардинца Пшемаха Коцева[280], чеченца Топы Чермоева[281] и др. — продолжало еще выступать в центрах восточной политики. Они побывали в Константинополе, призывая единоверных турок помочь им освободиться от «русского владычества»[282] они, явившись на Батумскую мирную конференцию в качестве «полномочных» представителей Сев. Кавказа, всемерно поддерживали германо-турецкую дипломатию в ее захватных стремлениях против закавказской делегации… В Тифлисе они добивались у германского командования помощи ингушам (?), но осторожные немцы, кроме посылки во Владикавказ грузовиков с миллионом патронов и 3 тыс. винтовок, воздержались от прямого вмешательства в горские дела.
Вся дипломатическая, декларативная, публицистическая деятельность этого кружка носит следы специфически восточной хитрости и наивной хлестаковщины, производившей, однако, известное впечатление на несведущих иностранных представителей. Все, например, сложные эпизоды борьбы в Чечне и Дагестане, осложненные соревнованием советской власти, турок и англичан и их вооруженным воздействием, изображались горским правительством в таком виде: «к осени 1918 г. Правительством горским были очищены от большевиков вся Дагестанская область, Хасав-Юртовский и Чеченский районы Терской области, кроме Грозного. Правительство обосновалось тогда в Темир-хан-Шуре»[283].
В середине ноября пала Турция, на Каспии появились англичане, и роль горского правительства, крепко связавшего свою судьбу с Турцией — без средств, без армии и без влияния — казалось, должна была окончиться. Но 26 ноября горская делегация посетила в Баку английского генерала Томсона, обратилась к нему за помощью, и Томсон счел полезным для английских интересов поддержать существование горского правительства. Вот как об этом повествует Пшемахо Коцев[284]:
«Когда анархия и развал коснулись и нашей окраины, то для меня стало ясно, что собственными силами и авторитетом мы не можем водворить у себя порядка. И вот все это время прошло в хлопотах за поисками этой внешней силы.
Эти внешние силы были заняты собственными делами, все же они нам помогли, как могли, и снабдили военным снаряжением. Но одни силы ушли, а другие пришли. В тот самый момент, когда я собирался пробраться в залитую кровью Кабарду, я был приглашен в Баку главным английским командованием для переговоров.
Английское командование, признав, впредь до всемирной конференции, существование Горской республики и правительства, предложило мне организовать новое коалиционное правительство, которое действовало бы в единении с союзниками.
Согласившись в принципе, я отказался сделать это без народного доверия горских племен. С 18 по 22 н. ст. декабря происходил в Темир-хан-Шуре съезд представителей Дагестана, Чечни, Осетии и нескольких кабардинцев. Это совещание вручило мне всю полноту власти, как от горского, так и от казаче-русского населения (!). После этого английское главное командование назначило при моем правительстве военную миссию во главе с полковником Роулинсоном, который уже приехал в Темир-хан-Шуру…»
Этими фактами определяется генезис новой власти «всего Северного Кавказа», восходящей, следовательно, к генералу Томсону и собранию случайных людей, проживающих вблизи Дагестана, так как в начале декабря вся Кабарда, Осетия, Ингушетия и половина Чечни находились во власти советов и фактически были отрезаны от Дагестана. Распространение этой власти на Терек обусловливалось договором, заключенным горским правительством с беженцами с Терека, проживавшими в Петровске и именовавшимися еще «Временным военным правительством казаков и крестьян Терского края». В силу договора, область Терского войска должна была войти в состав союза горских народов, причем «командование вооруженными силами договаривающихся сторон вверялось представителю держав Согласия на все время операции против большевиков»[285].
В письме своем к «горскому правительству Северного Кавказа», посланном 27 ноября и подтверждавшем данное горцам обещание признания de facto, Томсон говорил: «Вас больше всего интересует стать самостоятельной республикой… Эти вопросы будут разрешены мирной конференцией союзников… До этого времени у Вас есть полная возможность проявить Вашу способность к самоуправлению…» В числе предъявленных Томсоном требований, между прочим, были: удалить турок с территории республики, устранить турецкую и германскую пропаганду и помочь союзникам в установлении связи «с армией ген. Деникина». Со своей стороны Томсон обещал «помочь всеми средствами народам Кавказа в их стараниях превозмочь те трудности, которые стоят перед ними».
Пока горское правительство, организовав бесчисленные министерства, заключало международные соглашения и собирало силы, на Северном Кавказе наступили известные события, и войска Кавказской Добровольческой армии 23 января овладели Грозным и 28-го Владикавказом. После этих событий 10 февраля ген. Томсона посетила делегация в составе горского министра Малачихана и «представителя ингушского народа» Плиева, сообщила официально «о взятии горскими войсками Владикавказа и Грозного» и просила «содействия в прекращении наступательной операции Добровольческих частей[286]. Генерал Томсон выразил живейшую радость по поводу таких успехов горского правительства в борьбе с большевиками, особенно трогательно — по адресу ингушей: «Я был весьма рад — писал он Плиеву[287] — встретить сегодня и поздравить Вас, как представителя ингушей, с теми большими успехами, которые достигнуты последними в очищении своей родины от большевиков. Ингуши были очень лояльными друзьями союзников…» (!) Томсон выражал также уверенность, что у ингушей не будет никаких затруднений с войсками ген. Деникина…
Одновременно Коцев обратился через ген. Эрдели, находившегося в то время, по моему поручению, в командировке в Закавказьи (Баку), с ультимативным требованием «отвода частей Добровольческой армии с Владикавказского и других горских районов… в противном случае, горское правительство снимает с себя ответственность, за могущие произойти тяжелые последствия…»
* * *
Пока происходила вся эта буффонада, горское правительство приступило и к прямым действиям. В Грозный, занятый войсками ген. Шатилова, 1 февраля явились «губернатор» и «командующий войсками» по назначению от меджилиса и пожелали вступить в управление городом и краем. Им было отвечено, что горское правительство не признано ни Добровольческой Армией, ни большинством горских народов и что весь Терский край находится под управлением главноначальствующего ген. Ляхова. После того горское правительство вступило с нами в длительные и безрезультатные переговоры, послав делегацию во главе с «председателем союзного совета» Темирхановым в Екатеринодар[288] и председателя правительства Коцева — в Пятигорск, к ген. Ляхову. Вопрос стоял на мертвой точке, так как обе стороны ставили непримиримые условия: меджилис добивался очищения Добровольческой Армией «территории союза горцев Северного Кавказа»[289], причем Коцев предполагал созвать обще-горский съезд, который должен был определить дальнейшую судьбу края… Командование во избежание кровопролития через ген. Ляхова требовало прекращения агитации и сложения с себя власти горским правительством, после чего будет созван ген. Ляховым съезд, перед которым членам «правительства» будет предоставлена возможность дать отчет в своей деятельности; съезд изберет помощника главноначальствующему по горским делам и членов совета, и горским племенам будет предоставлено широкое внутреннее самоуправление.
Все послания горского правительства кончались неизменно угрозами, подкрепленными ссылками на единомыслие с ними Англии и на ее помощь, и на содействие Азербейджана. Коцев прислал нам и копию ноты «союзного» правительства Азербейджана, адресованной Томсону[290].
…Народы Кавказа имеют полное основание думать, что целью и задачей Добрармии является борьба с анархией и большевизмом в России, а не дерзкие посягательства на стремление народов к свободе и попрание их прав к самоопределению, признанных за ними всеми великими державами в Европе и Америке. С этой точки зрения вышеуказанные акты вопиющего насилия над волей и суверенными правами дружественных Азербейджану горских народов Кавказа не могут не вызывать самого горячего протеста со стороны Азербейджанского правительства… Правительство, конечно, сочтет себя обязанным всеми доступными ему средствами прийти на помощь горским народам».
Нота заканчивалась настоятельной просьбой «принять решительные меры к быстрейшему удалению войск Добрармии из пределов республики».
Одновременно послана была специальная миссия в Грузию, и первым результатом ее была нота Гегечкори английскому командованию, в которой также был выражен «категорический протест» против нарушения Добр. Армией «принципа самоопределения народов и покушения на независимость Горской республики, признание или непризнание коей всецело зависит от решения всемирного конгресса».
По примеру других потентатов и Коцевское правительство послало «делегацию на мирную конференцию»[291], и вскоре в европейской прессе появились удивительные рассказы из «официальных» источников об истории кавказской борьбы и жизни горских народов.
Тем временем горское правительство продолжало развивать на Северном Кавказе сильнейшую агитацию, нашедшую отклик в сопредельной с Дагестаном Чечне и отчасти в Ингушетии.
Не имея своей вооруженной силы (дагестанские формирования были ничтожны), правительство обратилось к системе подкупа шейхов и главарей Чечни, сообразно их влиятельности, снабжало деньгами, оружием и боевыми припасами чеченские аулы, в которых начали организовываться и красногвардейские отряды (аулы Гойты и Шали) из большевиков, укрывшихся в Чечне после разгрома фронта. В союзном совете (парламенте) в Темир-хан-Шуре раздавались речи, дышавшие ненавистью к России, «под гнетом которой изнывали горские народы», к Добровольческой Армии, история, цели и образ действий которой подвергались полному искажению, и в частности — к «генералам, бывшим царским сатрапам, которые будут скоро разбиты и будут валяться в прахе» [292]. Эти речи распространялись по Чечне и Ингушетии вместе с личными призывами членов совета и правительства, посещавших аулы и чеченские съезды и обещавших вооруженную помощь Дагестана и Азербейджана.
Интересно, что стремления горского правительства всецело поддерживались кубанскими самостийниками. И однажды в органе Кубанского краевого правительства «Вольной Кубани»[293] мы прочли обстоятельную статью о том, как большевицкая анархия была занесена на Терек «самим терским казачеством еще в 1918 году с Моздокского народного съезда, устроенного некоторыми безответственными кругами терского казачества с явной целью борьбы с ингушами и чеченцами…» И как это нехорошо, что Добровольческая Армия, «не ограничиваясь своей задачей наказания казаче-осетинских большевицких элементов, внесших разруху в Терскую область, повела борьбу в сторону уничтожения горского союза и горской объединенности…»
Такое отношение не мешало, однако, кубанским самостийникам пользоваться влиянием среди терского правительства и Круга.
Дважды назначенный в Грозном съезд чеченских представителей не состоялся, в виду отказа большевицких органов прислать своих поверенных. Чечня волновалась, район Грозного становился непроезжим, повсеместно участились нападения и обстрелы; вместе с тем чеченцы прервали жел.-дор. сообщение с Петровском, произведя крушение двух рабочих поездов. Начиналось серьезное восстание, центром которого стал аул Гойты, верстах в 25 от Грозного.
Наше почти двухмесячное выжидание было понято горцами, как слабость. Между тем стратегическая обстановка на Дону и Маныче требовала спешной переброски возможно больших сил на север. Медлить дольше не представлялось возможным. Переговоры были прерваны, и решение вопроса предоставлено силе оружия.
16-го — 23 марта сильный отряд, в составе кубанских и терских казаков, под начальством ген. Драценко, нанес поражение чеченцам особенно тяжкое у аула Алхан-Юрта, где они потеряли до 1000 человек. Бои сопровождались жестокостями с обеих сторон и разрушением нескольких аулов. Потрясенные этой неудачей чеченцы грозненского округа начали присылать со всех сторон депутации с изъявлением покорности, и ген. Ляхов в третий раз назначил на 28 марта чеченский съезд, пригласив присутствовать на нем и Коцева. К назначенному дню я приехал в Грозный совместно с английским представителем, ген. Бриггсом. Коцев не приехал. По-видимому, он считался в своей среде слишком умеренным. Горский совет командировал в Грозный трех лиц во главе с ярким руссофобом и полубольшевиком, председателем своим Каплановым, для переговоров с командованием. Но делегация, узнав о событиях в Чечне, задержалась в ауле Шали, не решаясь проехать в Грозный. Из Шали Капланов сообщил мне в Грозный, что, «никакие переговоры с отдельными племенами или селениями не имеют в глазах Горского союза никакой определенной силы». Не признавая вовсе прав горского правительства, командование в свою очередь не могло входить с ним в обсуждение участи кавказских племен. Да и дальнейшие разговоры, как оказалось, были бы совершенно бесполезными: инструкция, данная делегации на секретном заседании совета, гласила: «1) Потребовать от Добр. Армии очищения всей горской территории; 2) никакого сотрудничества с армией ген. Деникина; 3) роспуск всех мобилизованных горцев»[294].
Среди народных избранников — вероятно лучших представителей аулов[295] царила беспросветная тьма. Никакими политическими, ни религиозными побуждениями нельзя было объяснить народного брожения: оно питалось исключительно самыми нелепыми слухами, извращениями фактов. Чеченцы с одинаковым недоверием относились и к меджилису, и к Добровольческой власти, и совершенно не шли дальше прикладных интересов своих аулов; пожалуй, большую симпатию они питали к большевикам, которых укрывали в своих саклях и которые не препятствовали, когда были в силе, их расправам с местным русским населением и терскими казаками. Они боялись мести. И теперь, когда в разосланном по аулам оттиске речи Коцева они прочли, что «в Терскую область назначается генерал-губернатор из казаков»[296] — это известие повлияло на них больше, нежели призывы меджилиса к построению горской республики. Велика вина крайне немногочисленной туземной интеллигенции, которая в большинстве своем во всех стадиях русской смуты не работала в реальных интересах своего народа, а народ этот — темный, совершенно инертный в политическом смысле, не вышедший из рамок средневековья по культуре, обратила в орудие своих политических или лично честолюбивых целей.
Я говорил чеченцам о мире, о том, что никто не посягает на их земли и промысла. Что если порвать с Россией и допустить, что все народы Кавказа будут жить своей собственной жизнью, не считаясь со своими соседями, то кроме резни ничего не выйдет. Повторил требования, предъявленные ген. Ляховым, невыполнение которых вызвало тяжелые репрессии…[297]. Генерал Бриггс говорил о содействии, оказываемом Англией Добровольческой Армии, и советовал «дать возможность исправить железную дорогу, прекратить междоусобицу и помочь ген. Деникину в борьбе против большевиков».
Собрание после краткого совещания вынесло постановление — выполнить предъявленные условия.
Но мир долго еще не устанавливался.
Под влиянием темных слухов и не раз благодаря насилиям, чинимым казачьими отрядами во время усмирений, началось усиленное движение чеченцев с семьями и имуществом из плоскостной Чечни на юг в горы. Там собрался весь беспокойный элемент, образовались крупные шайки абреков, державшие под постоянной угрозой наши малочисленные гарнизоны. Горское правительство продолжало агитацию и посылало в нагорную Чечню мелкие дагестанские отряды и азербейджанских добровольцев. Правда, окончились эти попытки неудачно: аул Шали, где собрались дагестанцы, был обложен нами, и жителям было предложено разоружить и удалить иноплеменную помощь под угрозой разрушения аула. Требование было выполнено. А возле Гудермеса произошло даже 13 апреля кровавое столкновение между чеченцами и их непрошенными защитниками, когда дагестанский отряд отказался покинуть чеченский аул. Не раз происходили также междоусобные бои между чеченцами — одними, желавшими мира, и другими — насильственно поднимавшими аулы к восстанию.
Восстания сменялись усмирениями, усмирения восстаниями, все эти события сопровождались неизбежными актами жестокости и произвола, поддерживая психологию мести и раздражения. Бороться с произволом можно было только — поборов сопротивление и достигнув искреннего примирения.
А его не было.
* * *
На пути нашем к Каспийскому морю лежал Дагестан, край наиболее бедный по природным условиям, наиболее мирный по характеру своего населения (лезгины) и почти не имеющий своей интеллигенции[298]. В крае, лишенном совершенно экономических предпосылок отдельного существования, наступил экономический кризис и полное бюджетное банкротство — обстоятельства, осложненные воинствующей и беспочвенной политикой меджилиса.
Положение меджилиса становилось все более и более безнадежным. Горское правительство меняло своих министров, писало отчаянные ноты «своим народам», союзникам и англичанам и постановляло всеобщую мобилизацию (18–30 летних) для борьбы против Добровольческой Армии, «посягающей на нашу свободу и завоевания революции». Но создание серьезной вооруженной силы решительно не удавалось[299]. Англичане принимали участие в командовании «союзными силами республики», но свои силы считали совершенно нейтральными, призванными только «охранять порядок». Терский отряд Колесникова, расположенный в Петровске, при первом же соприкосновении с частями Добровольческой Армии был двинут на соединение с нею в направлении Кизляра. «Союзники» дали денег (Азербейджан 12 милл.), боевые припасы (Грузия), но войск прислать не могли. Мобилизация не прошла совершенно; формирование красноармейских частей из большевиков, осевших в Чечне и Дагестане, и вообще широкое покровительство большевикам восстановило против горского правительства всю буржуазию и туземное офицерство. В конце апреля местная военная партия произвела аресты в Темир-хан-Шуре 36 видных большевиков и препроводила их в тюрьмы Петровска при бессильных протестах правительства и совета.
* * *
В Петровске находился еще в весьма оригинальном положении отряд из трех родов оружия ген. Пржевальского, числившийся в Добровольческой Армии. История его интересна для характеристики англо-русских отношений.
Командующий английским флотом Черного моря — адмирал Сеймур, признавая русские силы в Баку подчиненными командованию Юга, в начале января обратился ко мне с просьбой «отдать ген. Бичерахову приказ снять с судов Каспийского моря русские команды, сплошь зараженные большевизмом и угрожающие связи англичан с Петровском». Я послал телеграмму ген. Эрдели, бывшему тогда в Закавказье, на месте ознакомиться с положением дела и принять надлежащие меры. Связь Баку (через Грузию) была очень затруднительна, и только 6 марта, post-factum, мы узнали о происшедших там событиях.
Приехав в Баку 22 января, ген. Эрдели застал следующее положение: Томсон, в виду полного разложения отряда Бичерахова, и тех осложнений, которые вызывала его деятельность, полупринудительно заставил его покинуть Баку под предлогом почетной командировки в Англию и назначил его заместителем ген. Пржевальского. Одновременно Томсон закрыл кредиты на содержание отряда, обходившегося англичанам ½ милл. руб. в день, отпустив только три миллиона на его ликвидацию. Эрдели, считая желательным сохранение на Каспии хоть небольшой русской силы, решил использовать этот отряд, приняв его в состав Добровольческой Армии, и утвердил ген. Пржевальского в должности начальника войск Прикаспийского района, с подчинением его Ляхову.
Но вместе с тем Томсон заявил, что ни стоянка, ни формирование русских добровольческих частей в зоне оккупации англичан не допускается… Эрдели протестовал, и вопрос поступил на разрешение ген. Мильна.
Тем временем ген. Пржевальский приступил к реорганизации отряда: большая часть его числилась только на бумаге (10 тыс.) и фактически дезертировала; негодный элемент был уволен; часть была направлена на службу в Закаспий. Из остального состава начаты формирования в Баку и Петровске.
Труднее обстояло дело с флотилией[300], которая после ликвидации «Каспийского правительства» и отказа подчиниться Пржевальскому оказалась, фактически, никому не подчиненной, не имеющей ни средств, ни кредитов. Комитет флотилии «Центрокаспий» после долгах переговоров с ген. Эрдели заявил, что флот согласен подчиниться Добровольческому командованию, но лишь в тактическом отношении, оставляя свой внутренний распорядок — с советами, комитетами и прочими аттрибутами «революционной дисциплины». Ген. Эрдели требовал полного подчинения и полной реорганизации личного состава. Предстояла, поэтому, неизбежно, тем или иным путем, насильственная ликвидация строптивой флотилии.
Бакинский революционный пролетариат, находившийся в полном единении с судовыми командами, волновался. На заседании Бакинской рабочей конференции при обсуждении судеб флотилии поставлен был вопрос: «К Деникину, в Астрахань или к Азербейджану?» Первое — невозможно, так как «Деникин борется с демократией всей России и есть зло во всероссийском масштабе»; второе невозможно технически, так как все Каспийские порты в руках англичан, а астраханский рейд замерз… И конференция склонилась к третьему решению, полагая, что «Азербейджан — болезнь местная, в нем может взять власть в свои руки демократия… и добиться признания необходимости воссоединения с Россией и согласия на нейтрализацию флота»[301].
Англичане, однако, думали иначе. Томсон требовал от Эрдели скорейшего разоружения флотилии русскими руками, чтобы отвести от себя одиум этого мероприятия; но, вместе с тем, предупреждал, что суда после спуска команд, оставаясь русской собственностью, укомплектованы не будут «до более благоприятного времени», в виду отсутствия гарантии в благонадежности нового состава.
Эрдели для сохранения за нами судов до присылки укомплектования от Черноморского флота, решился на насильственное разоружение; но встретил неодобрение со стороны всех войсковых начальников, указывавших на небоеспособность своих частей, невыполнимость задачи без участия англичан, и бесполезности этого шага, в виду полученных от разведки сведений, что англичане по настоянию азербейджанского правительства решили удалить из Баку безотлагательно русские войска.
После ряда бесплодных переговоров был получен от Томсона ультиматум[302]: «к 12 часам следующего дня разоружить флот; в противном случае всем русским Добровольческим частям к 16 часам того же дня покинуть г. Баку, а к 24 часам и пределы Бакинского генерал-губернаторства».
Генералы Эрдели и Пржевальский сочли себя вынужденными подчиниться последнему требованию, заявив протест против самого факта вывода русских войск и ничем не оправдываемой краткости срока, указывая, что «такие действия принесут неисчислимый моральный и материальный ущерб для дела борьбы вооруженных сил Юга России против большевиков».
Генерал Пржевальский с войсковыми частями перешел в Петровск, не успев захватить всего войскового имущества и обозов, большинство которых попало в руки азербейджанских властей. А 16 марта последовало от ген. Томсона новое требование — петровскому отряду в кратчайший срок покинуть Дагестанскую область. Ген. Пржевальский ответил решительным отказом, заявив, что он исполнит приказ только своего начальства.
Каспийская флотилия, между тем, была разоружена англичанами без кровопролития, одной лишь угрозой потопления судов английскими истребителями. И в то время, когда уходили из Баку русские войска и покорно разоружались уже буйные матросские команды, к ген. Томсону обратились делегаты революционной демократии[303] с изъявлением своего запоздалого патриотизма: «всякое действие, — говорили они, — против российской армии, хотя бы и Добровольческой, и Каспийского флота бакинским пролетариатом рассматривается, как действие против России!» Делегаты, предполагая, что флот стоит еще в боевом порядке — по словам отчета — «говорили с Томсоном твердым революционным языком», а он в ответ им «улыбался»…
Все эти события произвели в Екатеринодаре удручающее впечатление. Дело было уже непоправимо. Я предписал ген. Пржевальскому отнюдь не уводить войск из Петровска, обратился с протестом к английскому правительству, указав, что «отдача распоряжения, касающегося вооруженных сил, находящихся в моем ведении, без моего согласия, является актом враждебным Добровольческой Армии». Вместе с тем, я стал еще более настойчиво добиваться воссоздания русской каспийской флотилии, что при содействии ген. Бриггса и личного воздействия на адм. Сеймура, удалось выполнить только в июне…
Таким образом, в Петровске, на территории враждебного нам горского правительства, при молчаливом непротивлении англичан, находился русский отряд, непосредственно подчиненный полк. Плотникову[304], силою до 2½ тыс., имевший задачей — восстановление жел.-дор. сообщения по линии Петровск–Грозный.
* * *
В апреле положение горского правительства окончательно пошатнулось. Началась железнодорожная забастовка на экономической почве, с предъявлением требования к правительству об уплате 12 милл. руб. Участились крупные трения, интриги, борьба самолюбий и честолюбий внутри самого правительства и союза, особенно с дагестанской фракцией его, тяготившейся все больше пришлой и слишком дорого обходившейся народу властью. По существу власть эта не распространялась далее Темир-хан-Шуры. Дагестан жил своей жизнью, объединяясь вокруг своих шейхов и мулл, попадая не раз под влияние натур неуравновешенных, фанатиков и авантюристов. И, тем не менее, население Дагестана не теряло тяготения к русской власти.
В поисках выхода горский парламент стал стремиться к политическому объединению с Азербейджаном, «во имя защиты религии и самобытности Дагестана».
К маю сознание невозможности продолжать такое существование стало всеобщим. 26 апреля в с. Ишкары собрались старшины и судьи Верхнего Дагестана для обсуждения вопроса о помощи чеченцам и объявления газавата. На бурном заседании этом была внесена революция: «1) Не объявлять войны Добровольческой Армии; 2) войска, города и берег моря передать Добр. Армии, с тем, чтобы Дагестанцам остался их закон; 3) послать в Шуру представителей от беков и духовенства и предложить правительству присоединиться к (этому) постановлению или сложить власть, передав ее новым выборным лицам».
Под влиянием всех этих обстоятельств, горское правительство 2 мая в полном составе вышло в отставку. Формирование нового было поручено ген. Халилову[305], который и приступил к составлению «военного кабинета».
* * *
Все эти события находили весьма серьезное отражение в дипломатических сношениях наших с Англией.
В Екатеринодаре имел пребывание представитель при Добровольческой Армии ген. Пуль; в Тифлисе — ген. Форестье-Уоккер, начальник экспедиционного корпуса (27-я и части 13 и 39 дивизий), оккупировавшего Закавказье и Закаспий и считавшего в своих рядах 15–20 тыс.; в подчинении Уоккера находились начальники войск — генералы Моллисон[306], Томсон и Коллис — в Закаспии, Баку и Батуме. Над Пулем и Уоккером стоял ген. Мильн, главнокомандующий английскими войсками на Востоке, пребывавший в Константинополе. Сменивший Пуля ген. Бриггс, находившийся в известной связи с ген. Мильном, подчинялся непосредственно английскому военному министру Черчиллю. В этой сложной схеме явственно различались две совершенно несхожие линии английской политики — екатеринодарская и тифлисская, руссофильская и руссофобская. Несомненно, это расхождение инсценировано было Лондоном для проведения двойственной политики — задачи преграждения большевицкого потока, угрожающего Европе, и закрепления британского экономического влияния в Закавказье. Для меня, однако, также несомненно, что те лица, которые последовательно представляли Англию в Екатеринодаре — генералы Пуль, Бриггс и Хольман — люди большого благородства и солдатской прямоты — не были причастны к кривым путям дипломатии, и деятельность их вытекала из искреннего доброжелательства к России, находясь в то же время в полном соответствии с правильно понимаемыми интересами их отечества.
Расхождение началось с первых же дней. Ген. Томсон издавал обращение «К народам Северного Кавказа», обещая им вооруженную помощь от Англии и устроение судьбы от союзной конференции[307]; возрождал из пепла горское правительство, на знамени которого написано было «самостоятельная республика», назначил полк. Роуленсона командующим горско-терскими формированиями, и от имени своего правительства устанавливал зону английского влияния к югу от линии, проходящей через Петровск по северо-западной границе Дагестана и далее по Кавказскому хребту. Наименование, поэтому, Ляхова главноначальствующим Терско-Дагестанского края он считал вмешательством в сферу английского влияния…[308]. Я протестовал, и Пуль, всецело поддерживая меня, «просил пересмотреть решение о поддержке искусственного образования, предоставив формирования в Дагестане единому командованию Добровольческой Армии», и т. д.[309].
3 февраля приехал в Екатеринодар ген. Бриггс, сменивший Пуля, и привез ответ, что командировка генерала Добровольческой Армии на Каспий для формирования противобольшевицких войск не встречает препятствий, так как «это действие на Северном Кавказе не входит в задачи английских войск и должно быть передано ген. Деникину. Но последний не должен вмешиваться в район к югу от линии Кизил-Бурун–Закаталы–Кавказский горный хребет–Туапсе»[310].
Таким образом, устанавливалась английская оккупация всего Закавказья.
В виду того, что Англия, вопреки первоначальным заявлениям, отказалась двинуть свои войска против большевиков, а территория Закавказья была уже свободна от турок и германцев, такое решение лишено было всяких стратегических обоснований. Оно могло быть продиктовано мотивами только политико-экономическими: грузинский марганец, бакинская нефть и нефтепровод Баку–Тифлис–Батум сами по себе определяли вехи английской политики и английского распространения. Но этим обстоятельством далеко еще не исчерпывалось значение и ценность Закавказья. На очереди стояло объявление английского протектората над Персией, и Закавказье являлось естественной преградой против России и территорией, по которой пролегают пути, идущие из северной Персии к открытому морю через главный выход — Батум[311].
Закавказских английских представителей решение это, очевидно, не вполне удовлетворило. Ген. Томсон, заняв одним батальоном Петровск, продолжал оказывать моральную поддержку горскому правительству и принимал реальные меры к вытеснению русского влияния и русских формирований с Прикаспия. Вместе с тем, он сообщил мне через ген. Эрдели[312], что согласно полученным инструкциям «все русские заводы, железные дороги и учреждения перешли к Азербейджану» и что «смотреть на Баку и Дагестан, как на нашу (русскую) базу мы не можем». Это обстоятельство вызвало вновь представление ген. Бриггса своему правительству о необходимости соблюдать установленную разграничительную линию[313] и мой протест:
«Такая постановка вопроса, — писал я[314], — приводит не к объединению России, а к ее расчленению, лишает меня базы для противодействия наступлению со стороны Астрахани и связи с Уральским фронтом и Закаспийской областью. Если бы на такую точку зрения в отношении русского государственного добра и, в частности, железных дорог, стали все мелкие случайные правительства, образовавшиеся на территории Русского государства, борьба Добровольческой Армии была бы бесцельна и немыслима…»
Вслед за сим, 11 марта пришел телеграфный ответ из Лондона, всецело подтверждавший точку зрения Уоккера—Томсона и притом в форме угрожающей. В нем говорилось[315]:
Генерал Бриггс должен объяснить ген. Деникину, что:
- В ответ на полное сочувствие, которое питается к нему в его усилиях освободить Россию от большевиков, и которое проявляется не только на словах, но и на деле присылкой оружия, снаряжения и обмундирования в большом количестве в Новороссийск, от него ожидается, что он будет лояльно придерживаться общей политики союзников по отношению к маленьким государствам. Великобритания не намерена оставить свои войска на Кавказе, ее войска были посланы туда для приведения в исполнение условий перемирия и сохранения мира. Часть этой задачи уже исполнена с изгнанием немцев и турок. Что касается до второй, то ген. Деникин должен понять, что временное присутствие союзных войск в Закавказье обеспечивает его от нападения с тыла и дает в руки союзникам Каспийское море. Эти факты должны бы повлиять на него сосредоточить все возможные силы против большевиков в России. Вопрос об окончательном устройстве Кавказа во всяком случае не может быть решен до восстановления порядка в России, и Деникину следовало бы избегать всякое действие, предрешающее этот вопрос.
- Поэтому его войска не должны были бы вступать в Дагестан, кроме как в случае действительных военных операций против большевиков, и его надо очень просить серьезно пересмотреть вопрос о назначении ген. Ляхова губернатором этого края; правительство Его Величества смотрит на это назначение с большим неудовольствием. Линия, указанная в телеграмме Военного Министерства за № 74791 от 1 февраля с. г., относилась всецело к действиям против большевиков.
- Важно, чтобы ген. Деникин избегал всякое действие, военное или другое, могущее увеличить существующее трение между его приверженцами и грузинами и другими кавказцами. С другой стороны будут приложены все усилия, дабы эти народы сохранили нейтральное положение.
- Полагают, что теперь блестящая победа его войск на Тереке отстранила большевицкую опасность в этом направлении. Ген. Деникин имеет возможность, если он будет снабжен необходимым военным материалом, нанести совместно с адмиралом Колчаком решительный удар большевизму и было бы весьма прискорбно, если бы своим нетерпением и беря направление ни в коком случае не приемлемое для Великобритании, он принудил Правительство Его Величества отказать ему в своей поддержке и остановить отправку ныне посылаемых запасов.
Из этого ультиматума, устраняющего нас от Каспийского моря, мы могли заключить, что вехи английского распространения намечены гораздо далее Закавказья: Петровск–Баку–Энзели — это уже ключи к обладанию средней Азией, Красноводск — путь к Закаспийскому хлопку…
Ген. Романовский по этому поводу беседовал с ген. Бриггсом, изложив ему вновь причины, побуждающие нас стремиться к Каспийскому морю и не допускающие мириться с существованием в Дагестане очага брожения всего Северного Кавказа — горского совета и правительства. Указывал на то, что особой нужды в «обеспечении от нападения с тыла» нет, ибо закавказские образования и горское правительство без содействия Англии для нас не представляются опасными.
Из последующих бесед своих с ген. Бриггсом и приехавшим в Екатеринодар 10 апреля главнокомандующим, ген. Мильном, отнесшимся с большим вниманием к нуждам Армии и нашему военно-политическому положению, я вынес впечатление, что оба они разделяют стратегические мотивы нашего стремления к Каспию. Во время совместной с ген. Бриггсом поездки в Чечню, я сообщил ему доверительно, что отказаться от занятия Дагестана я не могу, однако же, избегая осложнений с английским командованием в Дагестане, я займу эту область только тогда, когда обстановка будет благоприятствовать мирному разрешению вопроса.
Но 11 апреля старший английский начальник в Петровске обратился к председателю горского правительства с письмом, которое проникло скоро в кавказскую печать и привело нас в полное изумление.
Я получил приказание передать следующее правительству Горской республики. На британское предложение Деникин согласился не продолжать операцию, и не будет наступать на Дагестан. Ген. Ляхов будет смещен[316]. Ген. Деникин сам устроил modus vivendi с чеченцами, ингушами, балкарцами и осетинами, и мир восстановлен в ожидании мирной конференции, которая решит вопрос о независимости и границах горского государства. В ответ на это горское правительство должно позволить Добровольческой Армии пользоваться Петровск-портом, как средством для укрепления Гурьева…»
В заключение говорилось, что «всякое нападение на ген. Пржевальского (в Петровске) будет объяснено британским командованием, как враждебный против него акт».
Это искажение наших целей и намерений, носящее, как будто, следы доброжелательства, укрепляло пошатнувшееся окончательно положение горского правительства, вызвало с нашей стороны новые протесты и побудило ген. Бриггса послать в газеты опровержение, в котором он удостоверял, что «командующий британскими войсками в Петровске не имел никакого права делать заявления, подобные опубликованным, так как таковые лишены всякого основания»[317].
* * *
Невзирая на все противодействия, стратегическая директива вооруженных сил Юга ставила командующему войска Терско-Дагестанского края задачу ясную и определенную: «продолжать очищение Северного Кавказа до линии Кизил-Бурун–Закаталы–Кавказский хребет, прикрывать пути от Астрахани вдоль побережья Каспийского моря и на Св. Крест и иметь наблюдение за побережьем Каспийского моря, не допуская десанта противника».
Необходимо было лишь дождаться подходящего момента.
В начале мая обстановка сложилась окончательно в нашу пользу: Верхний Дагестан высказался за приход в область Добровольческой Армии, весь Хасав-Юртовский округ заявил о своем подчинении, и горское правительство Коцева-Капланова пало. Грозненская колонна ген. Драценко продвигалась вперед без единого выстрела со стороны дагестанцев и 8 мая, совершив последний переход по железной дороге, появилась неожиданно в Петровске, приветствуемая восторженно всем русским населением города. 10-го ген. Драценко занял мирно и Дербент.
Появление русских произвело огромное впечатление в области и вызвало ряд важных событий. Прежде всего — политический переворот. 10 мая председатель горского правительства ген. Халилов обратился к ген. Драценко со следующей телеграммой:
«Правительство Горской республики во главе ген. Халилова, осведомившись о целях прибытия в Шамил-Калу (Петровск) Добровольческой Армии, взглядами ее командования на независимость означенного Государственного образования, и не желая, чтобы на этой почве между населением Дагестана и Добрармией происходили вооруженные столкновения, 23 мая в 10 часов вечера сложило свои полномочия. Дагестанская фракция парламента совместно с исполнявшим должность шейх-ислама и группой дагестанской интеллигенции, обсудив создавшееся положение и учитывая бесцельность взаимного кровопролития, постановила предложить парламенту: 1) отставку кабинета принять; 2) Союзный Совет республики горцев Кавказа закрыть. Вместе с тем принимая во внимание, что впредь до созыва дагестанского областного совета, страна не может оставаться без власти, дагестанская фракция, представители народа и духовенство единогласно избрали временное дагестанское правительство в лице генерал-майора Халилова, предоставив ему самому создать временный совет из двух или трех лиц. Извещая о вышеизложенном, прошу Ваше Превосходительство не отказать сообщить, когда и где Вам будет угодно переговорить о взаимных отношениях Дагестана и Добрармии».
Переговоры с Халиловым привели к признанию Дагестаном власти Добровольческой Армии, с предоставлением области автономии на тех же началах, как и прочим горским народам. Прибывший в Темир-хан-Шуру 21 мая главноначальствующий, ген. Эрдели, встреченный с большим почетом, закрепил акт присоединения, и ген. Халилов впредь до созыва народного совета назначен был временным правителем Дагестана.
Не меньшее впечатление произвело занятие Дагестана на англичан. 28 мая английская миссия сообщила мне телеграмму военного министра Черчилля: «Занятие Дербента генералом Деникиным не способствует установлению мира на Кавказе и потому противно его же интересам»[318]. Одновременно, минуя екатеринодарскую миссию и меня, министерство отдало распоряжение английскому закавказскому командованию, в результате котораго 3 июня наш начальник петровского отряда получил требование от имени «правительства Его Величества» отвести войска севернее «линии, которая начинается в 5 милях к югу от Петровска и идет параллельно Грозненской железной дороге». Вскоре разъяснилось основание этого требования: ген. Корри, сменивший Уоккера в должности «командующего британскими силами Закавказья», 20 мая сообщал председателям грузинского и азербейджанского правительств:
«От имени правительства Его Величества, в Лондоне решено, что демаркационная линия между ген. Деникиным и кавказскими государствами должна быть следующая: от устья реки Бзыби к северу по этой реке до границы Сухумского округа, дальше восточнее по границам Кутаисской и Тифлисской губ. и Дагестанской области до пункта в 5 милях к югу от ж. д. Петровок–Владикавказ, оттуда к юго-востоку параллельно ж. д. до точки на побережье Каспийского моря в 5 верстах к югу от Петровски.
Генерал Деникин получил указания, чтобы войска его не переходили к югу от указанной линии, Закавказские государства не должны переходить к северу от нее. Согласно вышеизложенному, грузинские войска должны отойти к югу от Бзыби. Закавказские государства должны воздержаться от всяких агрессивных действий против Добровольческой Армии, кооперировать с ген. Деникиным доставкой ему нефти и других припасов и недопущением проникновения этих запасов большевикам. Неисполнение этих условий повлечет за собой в будущем полное прекращение британского расположения и поставит правительство Его Величества в невозможность воспрепятствовать ген. Деникину перейти к Югу от этой линии».
Это письмо было напечатано в Азербейджанском официозе[319] и сопровождено правительственным сообщением о беспочвенности нападок прессы на англичан, вполне благожелательных к республике; при этом впредь за враждебные выступления против англичан правительство грозило суровой ответственностью…
Представлялось чрезвычайно странным, что о таком важном решении я узнал только через месяц и то из ноты Азербейджанского правительства, требовавшей исполнения «предписаний» английского правительства…[320].
Генералу Эрдели я дал приказание — требований англичан не исполнять и войск из Дербента не уводить. Азербейджанскому правительству через нашего представителя в Баку разъяснено было, что главнокомандующий осуществляет верховную власть на территории, занимаемой армиями Юга России, и потому ему никто не вправе давать предписания и что Дагестан, добровольно подчинившийся, покинут не будет. Одновременно и Азербейджану, и англичанам разослано было вновь подтверждение, что Азербейджану с нашей стороны никакая опасность не угрожает. Наконец, английской миссии была послана новая нота протеста о недопустимости умалять престиж вооруженных сил Юга России, резать Дагестан по живому телу в угоду кавказским республикам и создавать на нашем фланге и в тылу район свободный для большевицких и противо-добровольческих организаций[321].
На этот раз протест, поддержанный вновь екатеринодарской английской миссией, имел успех, и новый английский командующий в Баку ген. Шательворт в начале июля сообщил азербейджанскому правительству об отмене последней демаркационной линии и включении в зону Добровольческой Армии всего Дагестана.
Этим эпизодом закончились наши столкновения с Англией по вопросам Северного Кавказа. Английская политика становится здесь отныне или нейтральной, или благожелательной к интересам вооруженных сил Юга России. Придет время, и тот самый полк. Роулинсон, который руководил «военными силами горского правительства» и потворствовал его политике, обратится с воззванием к народам Сев. Кавказа: «Правительство Англии поддерживает ген. Деникина и его цели… Английская миссия хорошо знает, что восстание горцев не есть национальное движение, а большевицкое, и вызвано отдельными лицами, преследующими личные цели… Противодействие ген. Деникину будет рассматриваться, как акт недоброжелательства к союзникам».
Эти поздния увещания не имели, впрочем, значения, так как в это время (сентябрь) английския войска покидали уже Баку и Тифлис…
* * *
Северный Кавказ был присоединен, но не замирен. Слишком много горючего материала накопилось в крае, чтобы разбушевавшаяся с началом революции стихия вошла так скоро в спокойные, мирные берега. Отзвуки расцветшего было, но вскоре поблекшего воинствующего панисламизма; обострившиеся межплеменные счеты; упадок народного хозяйства и развившиеся, как никогда, абречество и мюридизм; темнота масс, живших нелепейшими представлениями и слухами; деятельность местных народных вождей — фанатиков и авантюристов, подымавших народ жестокими расправами с непокорными аулами — все это подогревало брожение изнутри. Извне с большой энергией и слепою ненавистью поддерживали его бежавшие за пределы нашей досягаемости члены бывшего меджилиса, все еще рядившиеся в атрибуты власти и народного избранничества, заключавшие союзы, подписывавшие договоры, раздававшие закавказские земли[322], наводнявшие территорию Кавказа своими агентами и пропагандой. Они находили средства и деятельную, совершенно открытую поддержку в новообразованиях Грузии и Азербейджана, питавших восстания деньгами, оружием, даже живой силой — офицерами и инструкторами. И пока, таким образом, фактические и мнимые правительства Кавказа подготовляли пришествие третьей силы с севера, их заграничные делегации подрывали всемерно в общественном мнении Европы авторитет вооруженных сил Юга, стремясь лишить их моральной и материальной помощи.
На северном Кавказе восстания не прекратятся. Во второй половине июня они пронесутся по Ингушетии, горному Дагестану (Али-Хаджа), нагорной Чечне (Узун-Хаджи и Шерипов); затихнув в июле, они повторятся в августе с новой силой в Чечне и Дагестане под руководством турецких и азербейджанских офицеров и при сильном влиянии советских денег и большевицкой агитации, направляемой из Астрахани… И хотя восстания эти неизменно будут подавляться русской властью, хотя они никогда не разгорятся до степени, угрожающей жизненно нашему тылу, но все же создадут вечно нервирующую политическую обстановку, отвлекая внимание, силы и средства от главного направления всех наших стремлений и помыслов.
Глава XVI. Наша и английская политика в Закавказье. Батумское генерал-губернаторство. Юго-Западная республика
Закавказская проблема стояла перед нами не менее остро, чем вопрос о Северном Кавказе. Главной целью моей было удержание в государственной связи с Россией закавказской окраины или, по крайней мере, территориальное ограничение распада. В этом стремлении своем я встретил противодействие и новообразований, и Англии.
С осени 1918 г. в Батуме, Тифлисе, Баку и Эривани в полуофициальном положении находились представители Добровольческой Армии[323], связь с которым была всегда до крайности затруднительной. Полученные ими лично и письменно указания от меня и военного управления, относительно направлении Добровольческой политики, сведены были позднее в общую инструкцию, данную мною ген. Баратову, когда в июле он был послал официально в Тифлис, в качестве главного представителя моего в Закавказье. Эта секретная инструкция, помеченная датой 2 июля 1919 г., является, таким образом, истинным отражением всей пашей политики в Закавказье — от начала л до конца — и ключом к уразумению последовавших там событий.
ИНСТРУКЦИЯ
Главному представителю в Закавказье Главнокомандующего вооруж. сил. Юга России.
Вам надлежит осуществить следующие задачи и руководствоваться следующими основаниями:
А) По части военной.
- Принять все меры для скорейшего и полного вывоза из Закавказья в распоряжение Главного Начальника снабжения всех видов военного российского имущества, принадлежащего бывшему Кавказскому фронту.
- Предложить всем русским офицерам, находящимся в Закавказье, прибыть в распоряжение Дежурного генерала штаба главнокомандующего.
- Принять меры к обеспечению остающихся в Закавказье семейств офицеров, отправляемых и находящихся и составе Вооруж. сил Юга России.
- Принять все меры к обеспечению связи с Тифлисом.
Б) По части политической.
Имея в виду, что все Закавказье в пределах границ до начала войны 1914 г., должно быть рассматриваемо как неотделимая часть Российского Государства, Вам надлежит подготавливать почву для безболезненного воссоединения этих областей в одно целое с Россией под верховным управлением общероссийской государственной власти.
Что касается будущего государственного устройства, то, не предрешая частностей его до волеизъявления всего населения российского государства, необходимо иметь в виду, что в решении этих вопросов примут участие представители всей областей и народов России и что широкая внутренняя автономия в делах местной, краевой и народной жизни составляет одно из оснований будущей государственной жизни России.
Одновременно с тем, впредь до окончательного установления общегосударственной российской власти, допускается самостоятельное управление этих областей, ныне в них образовавшееся и существующее.
В частности: а) но отношению Грузии:
Главное командование вооруж. сил Юга России требует полного очищения грузинскими войсками Сочинского округа, с отводом их за реку Бзыбь.
По выполнении этого непременного условия, возможны два положения во взаимоотношениях с Грузией: 1) если ею будет признана принадлежность Грузии к Российской государственности и прекращены гонения на русских людей, силою обстоятельств находящихся в Грузии, — то возможно установление вполне дружелюбных отношений с восстановлением свободного товарообмена и со снятием таможенных ограничений; 2) если же указанные выше в п. 1 условия Грузией осуществлены не будут, то, сохраняя нынешнее состояние товарообмена и таможенных ограничений, возможно лишь обоюдное обязательство на прекращение военных действий.
До отвода же войск из Сочинского округа за р. Бзыбь, какие-либо иные взаимоотношения, кроме готовности к боевому противодействию против этого покушения на целость Российской Государственности, не представляются возможными.
б) По отношению к Азербайджану
Главное командование вооруж. сил Юга России, считая Азейберджан неотделимой частью России, допускает временное самостоятельное управление Азербейджана впредь до окончательного установления общероссийской государственной власти и не имеет никаких намерений к переходу в наступление южнее границ Дагестанской области, если со стороны Азербейджана не будут проявлены какие-либо попытки к агрессивным действиям.
в) В отношении Армении:
Вполне сочувствуя стремлениям Армянской народности к ее объединению Б этнографических границах и считал армян тесно связанными в их исторических и экономических интересах с Единою, Неделимою Россией, в пределы которой входит наиболее цветущая часть Армении, главное командование вооруж. сил Юга России, так же как и в отношении Грузии и Азербейджана, допускает временное самостоятельное управление Армянских областей, впредь до окончательного установления обще российской государственной власти, не имея никаких агрессивных в отношении Армении намерений, но всемерно стоя на страже Единства Российской Государственности.
В связи с этим на Вашей обязанности лежит:
- Охранение и защита интересов всего постоянного русского населения в Закавказье и православной русской Церкви.
- Забота о русских беженцах, ныне водворенных на место своих постоянных жительств в Закавказье;
и 3) Периодическое осведомление Военного управления о военно-политическом состоянии края.
В) По части экономической на Вас возлагается;
а) Содействие и обеспечение свободного хождения по всему Закавказью денежных знаков, устанавливаемых к обязательному обращению на всей территории вооруж. сил Юга России и
б) в зависимости от выполнения временными властями Грузии и Азербейджана основ взаимоотношений, указанных выше в инструкции по части политической, подготовка соглашений по снятию таможенных границ и по установлению товарообмена, а также защита интересов гражданских управлений при главнокомандующим в получении различных предметов и оборудований, принадлежащих Российскому Государству, оставшихся в пределах Закавказья[324].
В Сочинском и Сухумском округах, насильственно захваченных грузинами, – бесправное положение аборигенов и русского элемента, гнет грузинской власти, неумеренная грузинизация и разорительная экономическая политика создавали очаг недовольства и брожения, готовых ежеминутно вылиться в восстание. Помимо принципиального непризнания захвата, Добровольческая власть не могла оставаться равнодушной к тем расправам, которые чинились над русским, армянским, абхазским населением, не желавшим мириться с фактом захвата, к тем постоянным жалобам и призывам, которые раздавались оттуда. Не могла, не входя в слишком очевидную коллизию с провозглашенной идеей единства России, с традицией заступничества за элементы, тяготеющие к русской государственности. В эту распрю мы вовлекались невольно и неизбежно – не только в силу побуждений государственных, но и под напором единодушного в этом вопросе общественного мнения.
Было, впрочем, и исключение… Когда собравшийся в Тифлисе 1–7 июня «2-й закавказский съезд русских граждан», искусственно подобранный, раскололся[325], большая часть его членов покинула съезд, а оставшийся социалистический блок, совместно с представителями сектантских общин, получив крупную субсидию от грузинского правительства, отдал себя под покровительство его и грузинского совета рабочих и солдатских депутатов. В вынесенной ими резолюции говорилось о «лояльном отношении ко всем Закавказским республикам», о федеративном объединении их с «революционно-демократической Россией» и о том, что «в стремлении Добровольческой армии, исполняющей волю реакционных черносотенных сил, завоевать Закавказье кроется смертельная опасность для всех закавказских народов и российской трудовой революционной демократии»… Это заявление, впрочем, не воспрепятствовало совету просить и у главного командования крупное денежное пособие…
Я требовал от Грузии очищения Черноморской губ. до ее южных границ по р. Бзыби и, чтобы создать столь желательный для нее «буфер», допускал нейтрализацию Сухумского округа – с введением в нем местного абхазского управления.
От Азербайджана я требовал свободы сообщений по Каспийскому морю и приморской ветви Владикавказской ж., д., урегулирования торговых сношений (нефть) и недопущения снабжения советской России. И только.
Насильственный захват территорий Грузии и Азербайджана не входил в мои планы и был политически нецелесообразен. Но правительства этих новообразований не могли, или по тактическим соображениям не хотели, отнестись с доверием к нашей политике. Официальная печать их с необыкновенным жаром подогревала ненависть к нам, возбуждала страсти, искажала до самоочевидной нелепости наши намерения и планы, облекая свою хулу не только против Армии и ее вождей, но и против России в формы, по грубости и оскорбительности превосходящие даже большевистские плакаты. Такой же был нередко тон речей в парламентах.
И хотя при этих условиях все более нарастало в русском обществе и Армии враждебное настроение против грузинского и азербайджанского правительств, и лицам, стоявшим у власти, необыкновенно трудно было сохранять самообладание, попытки примирения интересов наших с закавказскими новообразованиями продолжались, и военно-политическая работа командования – явная и тайная – не выходила из рамок, начертанных в наказе Баратову.
В конце концов, главной, вернее, единственной причиной борьбы на Кавказе являлось противоположение идеи Единой России идее полной независимости кавказских новообразований. Все остальное было лишь крупными или мелкими, важными или маловажными поводами.
* * *
Какие тайные инструкции давало английское правительство своим представителям в Константинополе и Закавказье, и в какой мере последние вносили в свои заявления и деятельность элемент личного усмотрения, это мы узнаем не скоро, если вообще когда-либо узнаем. Но сопоставление того обильного, хотя зачастую противоречивого материала, которым располагало правительство Юга, определяло безошибочно основные вехи английской политики.
Осень и зима 1918 г. прошли под знаком продолжения мировой войны. Поэтому военная экспедиция англичан в Закавказье не вызвала большого противодействия в социалистических кругах парламента и страны. Но к концу года, когда задача вытеснения германских и турецких войск и влияния была выполнена, давление тред-юнионов и левой общественности, находившихся под сильным влиянием Москвы, значительно возросло, и английское правительство вынуждено было изменить официальные мотивы помощи противобольшевистским организациям. В одном из своих многочисленных объяснений в парламенте Ллойд Джордж излагал эти мотивы следующим образом:
«Вопрос о признании большевистского правительства никогда не подымался и никогда не обсуждался. Большевистское правительство совершило тяжкие преступления против союзных подданных, что делает невозможным признание его, даже если бы оно было цивилизованным правительством. Другая причина заключается в том, что в этот самый момент они атакуют наших друзей в России. Я чувствую отвращение ко всем большевистским учениям, мы оплакиваем их ужасающие последствия – голод, кровопролитие, разрушение, разорение и ужас, но военная интервенция все же была бы поступком величайшей глупости.
Но меня спросят, в таком случае, почему мы поддерживаем Колчака, Деникина и Харькова (?)[326]. Я буду совершенно откровенен. Когда был подписан Брест-Литовский договор, обширные области и многочисленное население в России восстали против подписавшего этот договор правительства и по нашему побуждению образовали армии. Большевизм угрожал распространить свое господство на восставшее против него население, которое было организовано по нашему требованию. Если бы мы сейчас же по достижении поставленной нами цели сказали бы: «Спасибо, Вы нам больше не нужны. Пускай большевики режут вам горло» – мы были бы недостойны считать себя великой страной. Это наше дело помогать нашим друзьям, и потому мы их снабжаем материалами. Всякий, кто знает Россию, понимает, что она должна быть спасена ее собственными сынами. Единственное, что они просят, это чтобы их снабжали необходимым вооружением, дабы дать им возможность сражаться для своей защиты и освобождения. Поэтому я считаю, что помощь Колчаку, Деникину и Харькову вовсе не есть отклонение от основной политики Великобритании – невмешательства во внутренние дела другого государства.
Следующая задача нашей политики состоит в том, чтобы не допустить проявления вооруженного большевизма в союзных странах. Вследствие этого мы организуем силы всех союзных стран, окружающих Россию от Балтийского до Черного моря, и снабжаем эти страны необходимым снаряжением для установления преград против большевистского вторжения».
Заявление Ллойд Джорджа, повторенное не раз потом им самим, Черчиллем и Бонар Лоу, в части, касавшейся роли Англии в создании белых армий, получило большое распространение в мировой прессе и было надлежаще использовано большевистской пропагандой. Широкое национальное и патриотическое движение, возникшее самостоятельно по всей России, низводилось до степени служебного начала английским интересам.
Но пусть будет неправда, если она во спасение.
Итак, главною целью английского правительства, по словам его представителей, была «поддержка своих друзей»…
Некоторый диссонанс в эти заявления вносили более откровенные речи представителей могущественного английского капитала… Так, в декабре 1918 г. председатель 4-х кавказских нефтяных компаний[327] на годовом собрании в Лондоне говорил:
«На Кавказе – от Батума до Баку и от Владикавказа до Тифлиса, Малой Азии, Месопотамии, Персии – британские войска появились и были приветствуемы народами почти всех национальностей и верований, которые взирают на нас как на освободителей – одних от турецкого, других от большевистского ига. Никогда еще в истории наших островов не было такого благоприятного случая для мирного проникновения британского влияния и британской торговли, для создания второй Индии или Египта. Но слабые голоса наших политических деятелей под пятой демократии глушат все эти стремления. Русская нефтяная промышленность, широко финансируемая и правильно организованная под британским началом, была бы ценнейшим приобретением истории»…
Официально англичане пришли в Закавказье с программой Верховного союзного совета: самоопределения народов по Вильсону, сохранения status quo в отношении границ до решения мирной конференции и невмешательства во внутренние дела новообразований. Поскольку и как проводились эти идеи в жизнь, мы видели и увидим в главах, посвященных жизни Кавказа. Однажды на один из моих бесчисленных протестов по поводу закавказской политики англичан екатеринодарская миссия прислала объяснение[328]:
«Во время заключения перемирия с Германией, когда главные принципы, руководящие Мирной конференцией, должны были быть выработаны заранее, ни в одной части России не было правительства, которое могло бы считаться правительством Объединенной России, и не было никакой связи между различными силами, борющимися против большевиков. Даже в районе, занятом теперь ВСЮР, Дон тогда притязал на самостоятельность, и власть главнокомандующего Добр, армией была очень ограничена на Кубани.
Россия, кроме как через Мурман и Владивосток, была оторвана от сношений с союзниками. Принцип самоопределения мелких народностей был преобладающим: Грузия, Азербайджан, Армения и так называемое горское правительство имели своих представителей в Париже и Лондоне, которые требовали полного отделения от России. При таких обстоятельствах общие указания, даваемые британским войскам, первоначальная задача которых была принудить неприятеля к эвакуации Закавказья, заключалась в том, чтобы в ожидании решения Мирной конференции охранять порядок и поддерживать правительство, находящееся у власти, пока оно будет вести себя подобающим образом.
Русские представители в Закавказье и даже командование ВСЮР, не сумев оценить этих основных принципов, часто обращались к британским военным властям в Закавказье с требованиями, которые шли вразрез с полученными ими распоряжениями и неминуемо бы ввели нас в войну с упомянутыми республиками, что было бы противно принципам, одушевляющим Мирную конференцию».
Фактическая обстановка вызывала, однако, сомнение в такой объективности.
Желая войти в непосредственные сношения с закавказскими английскими властями, я командировал в январе 1919 г. ген. Эрдели в Батум, Тифлис, Баку и Закаспий. Его поездка дала много интересного материала, тем более, что английские генералы, не искушенные в дипломатии и политике, были в достаточной мере откровенны.
Прежде всего английский главнокомандующий, ген. Мильн, посетивший в это время Закавказье, уклонился от встречи с ген. Эрдели под тем предлогом, что «при назначении главнокомандующим войск Восточного фронта он не получил инструкций входить в сношения и переговоры с Добровольческой армией. На его обязанности было иметь переговоры с представителями закавказских народностей и областей, по их вопросам и нуждам, и потому на территории Закавказья вести переговоры с Добровольческой армией он не может». Точно так же ген. Эрдели было сообщено, что «приезд его в Тифлис не желателен, и посему английское командование не может взять на себя заботу об его приезде»[329].
Генерал-губернатор Батума Коллис объяснил последнее обстоятельство «происходящими сейчас важными событиями»… По его сведениям, «грузинская республика будет признана союзниками как самостоятельное государство и, может быть, с полным отделением от России; на очереди стоит даже вопрос о том – присоединить или нет Батумскую область к Грузии». По этому вопросу ген. Мильн запрашивал мнения Коллиса, и последний был в большом затруднении, откровенно сознаваясь в свосй полной неосведомленности в истории Аджарии и Батума.
Рамки status quo, по-видимому, несколько раздвигались…
Прождав разрешения на дальнейшую поездку целых две недели, Эрдели проездом через Тифлис был неожиданно приглашен Уоккером, с которым имел продолжительную беседу. Уоккер сообщил о существовании трех проектов разрешения судеб Закавказья:
«1. Присоединение его к России в границах 1914 г., с автономным управлением в различных областях.
- Признание самостоятельности образовавшихся республик, с полным отделением их от России.
- Образование соединенных штатов на Кавказе – в отделе от России или в конфедерации с ней»…
И Уоккер, и Томсон (в Батуме) были в высокой степени любезны, но высказались совершенно определенно, что поддержание идеи общей русской государственности не входит в их задачу, что на Добровольческую армию они смотрят только как на одно из противобольшевистских образований, и никакого русского влияния в ущерб самостоятельному развитию местных «государств» в оккупированной зоне, впредь до решения Мирной конференции, не потерпят.
Эта идея могущественной и целебной силы «мирной конференции» и ее компетенции разрешать самостоятельно, без самой России, ее судьбы проводилась чрезвычайно настойчиво всеми союзными представителями на Юге. Она встречала признание среди кавказских новообразований и казачьих самостийных групп и вызывала глубочайшее негодование среди всех национально мыслящих элементов русского общества. Протест и противодействие этому международному насилию были, поэтому, нашим правом и обязанностью. Зима 1918–1919 г. пройдет в острых столкновениях на этой почве с английским правительством и командованием.
Останутся ли английские войска в Закавказье и надолго ли, это зависело, очевидно, от течения переговоров на Версальской конференции, от настроения парламента и рабочей партии, наконец, от хода событий в самом Закавказье. Во всяком случае, до весны 1919 г. надежды англичан на длительность и прочность их оккупации были еще велики.
В этот период мы увидели наибольшее развитие их политики вытеснения русского влияния в крае, поддержания его раздробленности и создания почвы для перманентных конфликтов межплеменных и межправительственных, как будто для того, чтобы наличием их оправдать необходимость британской оккупации. Первое и второе достигались внушением закавказским новообразованиям мысли о неизбежности признания их самостоятельности и поддержкой их в столкновениях с Добровольческой армией; третье не требовало ни труда, ни искусства: горючего материала было слишком много, и стоило лишь поднести спичку, чтобы вызвать пожар.
* * *
В связи и в большой зависимости от направления английской политики протекала жизнь Закавказья. В середине ноября англичане заняли Батум. Турецкая оккупация, длившаяся девять месяцев, оставила известные следы в политических настроениях города и области.
Во-первых, пестрое интернациональное население города-порта изменило свой состав благодаря бегству весною 1918 г. значительного числа русских и грузин, боявшихся турецкой расправы. В волне русского беженства уходили, главным образом, пролетариат и революционная демократия, и потому оставшееся население представляло довольно однородное и сплоченное ядро буржуазного и служилого элемента. Русский национальный совел в Батуме возглавлялся вначале ген. Терменом, а с ноября 1919 г. прис. поверенным, лидером местных кадетов П. М. Масловым – фактическим основателем и душою совета. В городе существовали также малодеятельные национальные советы грузинский, греческий, еврейский, польский и мусульманский.
Во-вторых, временное турецкое владычество, с сопровождавшими его реквизициями, поборами, воинской и трудовой повинностью и жестокими мерами административного воздействия, вызвало большое разочарование в местном аджарском населении, покончив надолго, если не навсегда, с основанным на исторических легендах тяготении его к Турции. Сообразно с этим усилились симпатии аджарцев к России. Местного «аджарского» сепаратизма в области не существовало вовсе[330], если не считать одного эпизода: потомок владетельного бека, полковник русской службы Джемал-бек подымал народ, организовывал вооруженные четы и предлагал город Батум и свои услуги сначала Грузии, потом Турции, с тем чтобы остальная территория Аджарии стала автономной областью под его наследственным правлением. Затея эта не имела никакого успеха, кроме пожалования Джемал-беку ордена и чина паши правительством султана. Картвелы по происхождению, мусульмане по вере – аджарцы сохраняли привитую им турками ненависть к грузинам.
Еще во время турецкого господства Русский национальный совет вошел в связь с командованием Добровольческой армии, признавая ее объединяющим центром и запрашивая директивы. Когда в Батуме появился ген. Уоккер, Совет представил ему меморандум о положении края, громадной культурной роли русского населения в области в течение 40 лет и проект-схему административного ее устройства. Ген. Уоккер призвал председателя совета Маслова и предложил ему организовать «Совет по управлению Батумской областью» под руководством английского генерал-губернатора. По взаимному соглашению в состав совета, для придания ему надлежащего авторитета в глазах смешанного населения города, были назначены представители различных национальностей[331], во главе с русским председателем (Маслов) и его заместителем (С.А. Анисимов). Все постановления совела подлежали утверждению военного губернатора, бригадного генерала Кук-Коллиса.
«Совет по управлению», находясь в полном согласии с Национальным комитетом, так же как и он, считал себя в подчиненных отношениях к главному командованию Юга и просил руководящих указаний. В основной цели, которую поставил себе совет, мы сходились вполне: «Необходимо отстоять Батумскую область с Батумом и сохранить этот первостепенной важности порт и единственный в своем роде по красоте и богатству дарами природы край за Россией»… Маслов запрашивал, «как поступать в тех случаях, когда английское командование отдает распоряжение, идущее в ущерб русским интересам? Проявлять ли уступчивость в предвидении лучшего будущего или категорически отстаивать свое мнение, не останавливаясь перед постановкой вопроса об отказе от власти». Я отвечал: «Не задираясь по мелочам, в основных вопросах русской государственности прямо, открыто и резко защищать русскую идею, не останавливаясь ни перед чем».
Также категоричны и безапелляционны были притязания на Батум Грузии. Вся грузинская печать с необыкновенной страстностью относилась к батумскому вопросу, разжигая национальный шовинизм в своей стране, впадая не раз в истерику и, по обычаю, допуская бульварное сквернословие в отношении своих «врагов – русских». «Батум и мусульманская Грузия – наши, – писала «Сахалко Сакке»[332]. – Они – мы. Они должны быть наши. Мы должны быть вместе, непременно вместе, иначе невозможна наша жизнь, наша независимость, наша национальность, это – неизбежно, это – главный очередной вопрос нынешнего дня… Мы должны осуществить это объединение, ничего для него не жалеть и принести в жертву все… Мы должны вернуть себе Батум»…
Грузинское правительство наводняло город и область грузинами во главе с агитаторами и террористами; по области ходила безвозбранно шайка Аслам-бека, проповедуя вражду против России, побуждая аджарские селения к принятию грузинского подданства; отряды грузинских войск сосредоточивались к Нотанеби, возле Батума, бряцая оружием и нервируя батумский совет.
Таким образом, в батумском вопросе столкнулись три стороны: Россия, Грузия и Англия. За кулисами стояла еще временно вышедшая из игры, побежденная, но не оставившая своих притязаний на Батум – Турция. Территориально к первой группировке примыкали верхняя и нижняя Аджария, сохранявшие привязанность к своей метрополии, посылавшие с таким заявлением делегацию к англичанам; ко второй – Кобулетский район и аджарцы города, поддававшиеся несколько грузинской пропаганде – в общем около 10% коренного населения. Политически – к русской группе примыкали все прочие, кроме грузин.
Третья сторона – англичане – хранили в тайне свои намерения и цели, а видимая непоследовательность их заявлений и действий приводила в раздражение и нас, и грузин. Неопределенность положения «русского вопроса» на мирной конференции служила покровом этой непоследовательности. Так, английские представители высказывали не раз предложение, что Батум перейдет то к Грузии, то даже к Армении, питая тем грузинский шовинизм и создавая натянутые отношения к русскому направлению со стороны местного армянского совета.
Английский губернатор устранял русскую администрацию в Артвинском округе и передавал ее темным туркофильским элементам, находившимся в связи с так наз. Юго-Западной республикой[333]. В начале апреля он распустил «Совет по управлению», обвинив его в ведении «личной политики» и в неудачных финансовых мероприятиях, заместив все должности английскими офицерами, причем во главе гражданского управления был поставлен еврей Харрис – до войны маклер Лондонской биржи. Одновременно распоряжением губернатора спускался «с почестями» русский флаг, развевавшийся на батумо-грузинской границе, и заменялся британским, а в пограничном районе расклеивались объявления, что слухи о присоединении Батума к Грузии ложны и «Батум всегда останется Батумской провинцией…» (?)[334].
Англичане реквизировали богатые запасы нефти, бензина и друг. – в качестве приза, взятого «у немцев»; большие русские военные запасы – в качестве военной добычи, захваченной «у турок»; брали под свой «протекторат» Артвинскую опытную станцию и богатейшее Чаквинское имение; устанавливали произвольный курс фунта, понизив вдвое местную валюту; сравняли рубль с грузинской боной, уронив почти вдвое курс рубля. Одновременно они отдавали ВСЮР большое количество ненужного им боевого имущества крепости, до некоторой степени принимали меры к облегчению населению продовольственного вопроса и к помощи российским пенсионерам.
Граница с Грузией была свободна для въезда всех агитаторов и членов грузинской мафии, тогда как в отношении лиц, следовавших с территории Юга России в Батум, англичане установили требование персонального разрешения из Константинополя от штаба Мильна[335], норму – не более 150 человек в один пароходный рейс, притом только имущих. В Новороссийске и других портах скопились, поэтому, толпы беженцев – в обстановке грязи, тифа и голода.
Англичане отдали Грузии «по техническим соображениям» участок жел. дор. Батум – Нотанеби, и первым следствием этого было удаление всего русского жел.-дор. персонала и появление в Батуме грузинского агитационного поезда с знаменательным девизом: «Кто не с нами, тот против нас». Шовинистическая литература на русском и местных языках наводнила край. Опытные грузинские агенты терроризировали русское население, преимущественно видных общественных деятелей, применяя угрозу подметными письмами, разбойные нападения и убийства, и русский национальный совет вотще взывал к английской власти о принятии более действительных мер охраны от злоумышленников.
Наряду с этим английским губернатором разрешались повсеместно митинги, устраиваемые грузинами с призывом присоединения к Грузии и выступления против Добровольческой армии. На мой протест по этому поводу английская миссия дала весьма оригинальное разъяснение[336]: «Британский губернатор, будучи уверен, что область настроена враждебно по отношению к грузинам, разрешил организовать собрания в Батуме, Артвине и друг., чтобы дать возможность населению проявить свое недоброжелательное отношение к Грузии. Его политика увенчалась полным успехом[337]… Губернатор, установив, таким образом, публично антигрузинскую ориентацию населения, запретил дальнейшие собрания».
Русское правление и Русский совет Батума неоднократно просили меня поставить в городе небольшой Добровольческий гарнизон для охраны порядка и символического изображения государственной связи Батума с Россией. Англичане воспрепятствовали этому, но разрешили открыть в Батуме вербовочное бюро для комплектования Добровольческой армии. Взявший на себя эту работу ген. Натиев – аджарец по происхождению – возбудил против себя сильно и англичан и грузин. Опасности для Грузии ген. Натиев не представлял никакой. Весь итог его работы выразился в привлечении 40 офицеров и 300 солдат – армянских беженцев, мало пригодного элемента.
В мае ген. Натиеву запрещены были всякие формирования и предположено было заменить его другим лицом. Но грузинская разведка приписывала Натиеву формирование «Закавказского корпуса», предназначенного для покорения Грузии, и грузины решили убрать его со своего пути. 15 июня Натиев и его адъютант, проходившие по людной улице города, были убиты наповал шайкой грузин во главе с офицером. Это событие возмутило глубоко русские круги и в ответ на мой протест вызвало весьма уклончивый ответ английской миссии: «Британскому военному губернатору известны те лица, которые убили генерала Натиева. Попытка задержать их была сделана, но они скрылись в Грузию. Не имеет смысла доносить об них грузинскому правительству, которое будет защищать своих агентов; но если они, как то ожидается, вернутся, то их арестуют»[338].
Так шли дела, писались ноты, заявлялись протесты – мною, батумским русским правлением, потом русским национальным советом, далеко не всегда достигавшие практических результатов. Но иные средства, более активные, нам были недоступны: по бедности, материальной зависимости от англичан, по недостатку вооруженных сил и несклонности к методам, практиковавшимся грузинами… Во всяком случае, наша борьба оказывала, без сомнения, сдерживающее влияние на темп сложного процесса – отрыва от метрополии русской окраины, не оставляя ее вконец беспризорной.
В конечном результате английская политика в Батуме вооружила против себя всех. Я просил английскую миссию разъяснить – «имею ли я в лице английского командования в Закавказье друзей или врагов?». Русский национальный совет констатировал, что, «к сожалению, ожидания и надежды русских людей, связанные с прибытием союзников-англичан, не оправдались, ибо, по-видимому, они являлись сюда не для выполнения союзнических обязательств и помощи исстрадавшейся России, а для преследования своекорыстных – не только экономических, но и политических – интересов»[339].
Наконец, грузинское правительство и печать, в свою очередь, ополчились против англичан. «Здесь, в Тифлисе, – писал официоз правительства «Борьба», – произошло наше взаимное понимание (с английскими властями) и были изысканы один общий язык, одни общие пути. В Батуме имеет место диаметрально противоположная политика». Орган грузинских соц.-рев. «Шорма» изливал свою злобу: «Грузинское общество с радостью встретило весть о переходе Батума в руки англичан, так как оно надеялось, что благородное британское командование поймет, что Батум является сердцем Грузии, и последняя никому его не уступит, пока в ней будет жить чувство собственного достоинства. Добровольцы и Деникин поняли это, и потому Батум они превратили в гнездо интриг, подкупа и шпионажа. Не проходит дня, чтобы они не бросали в нас отравленные стрелы. И Грузия вынуждена переносить это унижение только потому, что этот бессовестный и продажный народ опирается на престиж и авторитет Британии».
Такие изо дня в день повторяющиеся выпады некультурной, лишенной традиций и чувства меры грузинской прессы, поощряемой правительством[340], сыграли, без сомнения, немаловажную роль в наших взаимоотношениях.
* * *
Англичане потребовали от турецкого командования очищения русского Закавказья до границ 1914 г. к половине января. В связи с этим в Карсской области наместо турецкого военного управления образовалась «Юго-Западная республика»[341]. Правительство ее («Шуро»), исключительно из мусульман, было поставлено турками и находилось всецело в руках видных деятелей партии «Единение и прогресс» – Нури-паши (брат Энвера) и Халил-паши. «Республика» имела свои «войска» – тысяч 5–6 плохо организованных банд, в изобилии снабженных турками оружием и боевыми припасами; в составе их были турецкие офицеры и немало аскеров.
Англичане отнеслись с большим интересом к новообразованию, но хранили полное молчание относительно его будущей судьбы, приводя тем в крайнее беспокойство претендентов на Карсское наследие – Грузию и Армению. Со времени турецкого нашествия большая часть русского населения и почти все армянское население бежало из Карсской области, в которой образовалось фактическое преобладание турецкого элемента. Все земли, скот, сельскохозяйственный инвентарь, всякое добро беженцев попало в руки турок, и теперь «Юго-Западное правительство» противилось всеми способами возвращению беженцев.
Политическое положение «республики» к концу декабря было весьма сложное. В Карсе сосредоточились три власти: английский губернатор полк. Тимперлей, турецкий – начальник 12-й дивизии и «Шуро»; там же находились и войска трех армий: английский гарнизон, турецкая дивизия и местные формирования. Турки, впрочем, вскоре ушли.
Политические настроения правительства и населения определялись неизбежностью предстоящей ликвидации, расчетов и расплаты и выражались совершенно определенно: «Если не турецкая, то только русская власть». Делегация, встречавшая в Карсе первых английских представителей, приветствовала их непривычными для английского уха словами: «Мы рады вас видеть как союзников, победителей и как дорогих гостей на русской территории»… Мой представитель в Армении полк. Лесли, прибывший в Карс 31 декабря, был встречен на границе области – депутацией от населения, в Карсе – представителями «Шуро» и турецкого командования. Все они выражали пожелания о скорейшем присоединении области к России и назначении русского губернатора как единственный бескровный выход из запутанного положения межплеменной распри. С таким же заявлением дважды впоследствии правительство обращалось к англичанам и посылало делегацию в Америку и Европу.
Английское командование не имело вовсе своей политики в карсском вопросе или она была чересчур маккиавелистической, во всяком случае, по отношению к России – вполне определенной: ген. Уоккер ставил непременным условием возвращения русских беженцев в Карсскую и Батумскую области, чтобы они «не вели пропаганды большевистской и за воссоединение этих областей с Россией»[342]. Такие же приказы в Карсе отдавал английский губернатор. В то же время полк. Тимперлей, покровительствовавший полутурецкому правительству «Юго-Западной республики», тормозил возвращение в край армянских беженцев, и ген. Бич[343] заявлял армянскому правительству твердо и решительно, что Карсская область Армении не принадлежит»[344]; ген. Уоккер «не видел препятствий» к занятию грузинами Посхова[345], а когда грузинские войска Квинитадзе приступили к занятию этого участка, это вызвало вооруженное сопротивление мусульман и заявление карсского губернатора, что наступление грузин «будет считаться направленным против Великобритании»…
В конце марта обстановка круто меняется: туркофильские тенденции англичан исчезают окончательно, сменивший Тимперлея новый губернатор Карса ген. Ассер свергает «Юго-Западное правительство», заключает в тюрьму его членов и видных турецких деятелей, и власть переходит единолично к губернатору и образованному им смешанного национального состава Совету. Совет правит только три недели. Пользуясь произошедшим замешательством, грузинские войска вторгаются в северную часть «республики» и занимают Ахалцык и Ардаган, но по требованию англичан очищают последний. В свою очередь, армянские войска с согласия англичан занимают всю Карсскую область, которая входит в состав Армении, ив Карее водворяется армянский губернатор.
Жизнь области, в которой причудливой мозаикой переплелись взаимно враждебные народности, где даже в наиболее благоприятных районах армяне составляли лишь относительное большинство населения[346], приняла после этого иной колорит: там, где турко-татары давили армян, армяне стали давить турко-татар, и атмосфера ненависти становилась все напряженнее, все гуще…
Среди этой обстановки не менялись лишь судьбы русского населения, небольшими оазисами вкрапленного в область[347]: не проявляя в отношении русских ни особенной вражды, ни племенной и религиозной нетерпимости, просто пользуясь безвременьем, их грабили и притесняли и турки, и татары, и армяне. Карсский национальный совет обращал постоянно свои взоры на Екатеринодар, посылал туда горькие жалобы и искал там заступничества и экономической помощи…
Глава XVII. Грузия
Своеобразную картину представляла из себя жизнь Грузинской республики.
Для европейского общественного мнения, благодаря усилиям грузинской заграничной делегации, – это была маленькая культурная страна, окруженная недругами и героически борющаяся за свое существование, имеющая свободно избранное социалистическое правительство, пользующееся народным доверием; страна, текущая млеком и медом и нуждающаяся только в признании de jure и в надлежащих границах, чтобы явить миру «чрезвычайно интересный пример нового демократического типа организации государства». Действительность далеко не соответствовала этому идиллическому представлению.
Власть (правительство, парламент и Учредительное собрание) находилась в руках небольшой тесно сплоченной группы, члены которой обладали большим опытом революционной деятельности. Их связывало и племенное (большинство имеретины), и зачастую кровное родство, партийная принадлежность (с.-д. меньшевики)[348] и общая работа по разрушению – вначале из подполья, потом с вершин – российской государственности[349]. В их однородности и узком кастовом составе была и сила, и слабость: внутренняя дисциплина, с одной стороны, и оторванность от населения, отсутствие технически подготовленных сил – с другой.
Грузинское крестьянство, составлявшее до 90% населения, получив добавочную землю за дорогую плату, не считало себя вовсе облагодетельствованным. При первобытных способах землепользования, крайней бедности в сельскохозяйственных орудиях и инвентаре, оно и не могло почувствовать сколько-нибудь заметного улучшения своего быта. Между тем, общие условия жизни с каждым днем становились все тяжелее. Падали «боны», росла дороговизна, усиливался товарный и продовольственный голод. Грузинские газеты отмечали новое растущее зло – непотизм, кумовство, землячество, – наложившее отпечаток на все правительственные учреждения и приведшее к небывалому взяточничеству, спекуляции и хищениям.
Не устанавливался и правопорядок. «Высокие фразы и лозунги, – писал орган национал-демократов «Сакартвело», – щедро бросаются правительством в народ, а последний жаждет мира и спокойствия и испытывает то тяжелое положение, когда личность человека не ограждена правосудием закона и самой администрации. К несчастью, деятельность нашей правящей партии всегда измеряется партийными расчетами, и только этим объясняется бесконечная анархия и беспорядки, существующие в нашей стране». Известная пристрастность в осуждениях политических противников, видевших причину зла в одном лишь правительстве, не исключает, вероятно, большой доли и его ответственности.
Грузия не выходила из финансово-экономического кризиса. Первое полугодие показало наглядно, что она живет исключительно русским наследством, бюджета свести нельзя и что это обусловливается не только лихолетьем, что было бы естественно и непредотвратимо, но и природной бедностью страны[350]. Поэтому, не только по мотивам политическим, грузинские правители тянулись к сухумскому табаку, к батумским субтропическим культурам и к богатым Закаталам. Министр финансов Журули сводил государственную роспись теоретически с превышением в четыре раза расходов над доходами (600 милл. и 150 милл.), практически ожидал восьмикратного превышения расходов и представлял, поэтому, один за другим законы об усилении налогового обложения.
Но так как население городов было ничтожно численно и очень бедно, налоговый пресс должен был прижать исключительно крестьянское население. А это было политически небезопасно и практически не осуществимо: деревня, как и везде, замкнулась в свой уклад, не платила налогов и не хотела нести государственных повинностей.
Надежды на экономическую помощь Англии также не сбылись: англичане, ввиду непрочности положения, уклонялись от участия своим кредитом и капиталом в хозяйственном восстановлении Грузинской республики. В грузинской общественности английская экономическая политика производила такое впечатление, как будто «англичане хотят поставить Грузию перед собою на колени»…
В Тифлисе наряду с правительственными учреждениями восседал совет рабочих и солдатских депутатов – «полномочный орган» почти несуществующего, и во всяком случае ничтожного численно, пролетариата Грузии. Этот тяжелый привесок составлял традицию соц.-дем. правительства, с которой нельзя было рвать, не вступая в слишком большие противоречия со своей партийной идеологией, и который к тому же опирался на «национальную гвардию». Оттуда предъявлялись неимоверные экономические требования, с трудом удовлетворяемые правительством в ущерб вопиющим государственным нуждам. Туда грузинские правители несли еще свои утопии, свой деланный пафос и революционное словоблудие, которым после их русского опыта не могло быть более места ни на кафедре парламента, ни в практической деятельности правительства.
Вообще положение соц.-дем. интернационалистов, ведущих шовинистическую политику, было необыкновенно трудным, и вождь грузинских соц.-дем. Жордания оправдывался перед русскою социал-демократией, из состава которой вышли грузины, классической по своей изворотливости фразой: «Соц.-дем. партия Грузии является организацией не национальной, а территориальной, с призывом поддерживать независимость Грузии»[351]. Достойно внимания, что даже такая позиция правящей партии была неприемлема для грузинских национал-демократов, которые жестоко нападали на правительство за его пристрастие к русским меньшевикам – «к злосчастной русской демократии», которая «не является уже никакой политической силой в России»… «Думать и заботиться ныне о восстановлении дружбы с Россией – это было бы не только осмеянием великого исторического акта, но и беспримерным политическим шантажом… Все счеты со всем, что является русским, должны быть покончены»[352].
Совдеп являлся связующим звеном с советской Россией, отношения с которой официальной Грузии никогда не прерывались; тем более, что, кроме столкновения летом и осенью 1918 г. в районе Сочи – Сухуми, грузины вооруженной борьбы с большевиками не вели. Чхеидзе в Париже усиленно подчеркивал, что «Грузия никогда и не вступит в борьбу с советской Россией… Мы не согласны с большевизмом, но мы являемся противниками того, чтобы внешние силы препятствовали развитию советской республики»[353]. Гегечкори в тифлисском совдепе должен был оправдываться против обвинения в «двусмысленной и соглашательской политике по отношению к Добровольческой армии в сентябре 1918 г.». «Правительство являлось врагом советской России, – говорил он, – из-за анархического характера советской власти»; теперь же выяснилось, что «советская власть все более эволюционирует в сторону социализма и, поэтому, возможно и необходимо выровнять единый фронт».
В Москве находилась не признаваемая официально, но исполняющая некоторые консульские обязанности грузинская дипломатическая миссия; Москва и Тифлис обменивались какими-то подозрительными радиограммами; большевистские комиссары, бежавшие с Северного Кавказа, пользовались в Тифлисе полной свободой, вниманием и были в тесном содружестве с тифлисским совдепом, снабжая его литературой и деньгами. Уже post factum, осенью 1919 г., по поводу большевистских восстаний мин. иностранных дел Рамишвили докладывая Учредительному собранию давно известные истины: «Кавказский областной комитет большевиков действовал по директивам Москвы и, прежде всего, выполнял стратегические поручения московского правительства. В Грузии на организацию восстания большевиками было израсходовано 12 милл. руб.»[354].
Это культивирование грузинскими соц.-дем. большевизма велось отнюдь не для внутреннего потребления, а исключительно для экспорта: в глубоком нашем тылу образовался форпост большевизма, который имел в Тифлисе свой печатный орган, работал пропагандой, деньгами, формированием и посылкой агитаторов и интернированных красноармейцев на Черноморское побережье, в южную Осетию и вообще повсюду сеял вражду против Добровольческой армии. Это было для Грузии хотя и несколько опасно, но вместе с тем полезно. И грузинское правительство не прочь было расширить рамки противодобровольческого фронта привлечением в орбиту своего влияния другого сильного и влиятельного в Закавказье центра российского большевизма – бакинской рабочей конференции. На призыв тифлисского совдепа к объединению для вооруженной борьбы с армиями Юга России (май – июнь) конференция откликнулась горячим сочувствием и предложением немедленного, не позже половины июня, созыва всех совдепов Закавказья в Тифлисе.
Это предложение было неожиданным и слишком опасным, возбуждая мысль о троянском коне, так как ни бакинские организации, ни большевистские комиссары, принимавшие участие в заседаниях тифлисского совдепа, не слишком скрывали свои истинные намерения – водворения в Закавказье московской советской власти. Правительство Жордания согласилось вначале на созыв съезда, но под условием, чтобы темою его была исключительно «деникинская опасность»; потом предъявлены были новые условия, чтобы «бакинские рабочие предварительно признали руководство в борьбе с генералом Деникиным за правительством Грузии».
Все эти требования подозрительно быстро и охотно принимались бакинцами… Разговоры, тем не менее, все затягивались и, наконец, правительство взяло обратно данное на созыв съезда разрешение. Произошло это не без серьезной борьбы. Меньшевистским лидерам пришлось самоотверженно тушить раздутый ими самими пожар: в бурном заседании тифлисского совдепа бакинские делегаты скорбели, что «рука бакинского пролетариата повисла в воздухе», и называли грузинских меньшевиков социал-предателями; последние заявили, что «рука, протянутая большевиками, тянется к горлу грузинских меньшевиков» и что «Зурабов[355] и большевистские комиссары – тайные и явные агенты генерала Деникина». Так говорил командующий народной гвардией, грузинский большевик Джугели, отрекаясь от русского большевизма.
В результате тифлисский совдеп принял резолюцию, гласившую: переговоры выяснили коренные разногласия между пролетариатом Грузии и Баку: «Коммунисты перед лицом деникинской опасности пытаются использовать момент для того, чтобы навязать демократам Грузии свою тактику, направленную к – полному разрушению Грузинской республики; при таких условиях созыв Закавказского рабочего съезда в данный момент нецелесообразен». Тем не менее заседание выразило уверенность, что, «независимо от всяких политических разногласий, в борьбе с деникинской контрреволюцией весь пролетариат Азербайджана и Армении выступит так же сплоченно, как и пролетариат Грузии».
Этот эпизод вызвал охлаждение, но разрыва не произошло. Большевистские организации и деятели приберегались для разрушительной работы вне пределов Грузии. Грузины пользовались ими, они пользовались грузинами. Их не хотели трогать, быть может, не смели – в предвидении всяких политических возможностей…
Даже в ноябре, после ряда большевистских восстаний, когда Рамишвили испросил у Учредительного собрания[356] декрет против пришлых большевиков, он облек его в такую тонкую и туманную форму: «Временно для борьбы с анархией предоставить мин. вн. дел право запретить существование на территории Грузии такой партии, которая представляет часть иностранной партии и подчиняется руководству главных партийных органов, находящихся в иностранном государстве, если она действует против независимости Грузии или вмешивается в ее внутренние дела; и вместе с тем закрыть печатный орган подобной партии». Конечно, никаких санкций для арестов и изгнания целых категорий русских граждан и закрытия русских газет, если они были не большевистского толка, от собрания не требовалось. Велик был страх грузинских правителей перед Москвой и не напрасен.
Для характеристики специфических приемов грузинской дипломатии нелишне заметить, что информированный ею начальник штаба Уоккера серьезно уверял полковника Зинкевича о существовании «документальных данных, что русское главнокомандование ведет в Грузии пропаганду большевизма»[357].
Культивируя очаги брожения против Добровольческой армии, Грузия с равным вниманием относилась к комитету бежавших из Темир-хан-Шуры бывших городских правителей, возглавленному Цаликовым, Джабагиевым и Богдановым, игравшими ранее видную роль в деле подчинения Сев. Кавказа советской власти. На грузинские деньги они издавали свой печатный орган, вели агитацию и находились в тесном контакте одновременно с тифлисским совдепом и с эрзерумским штабом.
* * *
Партийная диктатура, непотизм, злоупотребления, голод, безденежье, бандитизм и прочие недуги, разъедавшие страну, ставились – правильно или неправильно – в вину правительству и подрывали доверие к нему в народе. Правительство Жордания не имело сторонников в партиях меньшинства[358] и тяготилось дорогостоящей, иногда слишком опасной поддержкой пролетариата (совдеп). Необходимо было отвлечь общественность и партии от внутренних больных вопросов и объединить вокруг себя и националистические, и большевистские элементы одной общей идеей, выполнением одной общей задачи.
Таким громоотводом, сулившим к тому же неограниченные и, вероятно, неповторяемые возможности, благодаря замутившейся политической жизни России, стали внешние завоевания и в обратном преломлении – опять-таки препятствующая им «Деникинская опасность».
Грузинские меньшевики-интернационалисты простирали свои руки к Закатальскому округу[359], населенному лезгинами; они подавляли вооруженной силой сопротивление Южной Осетии[360], стремившейся к национальному объединению с Северной; устремлялись к Сочи, Батуми, Ардагану, к северным уездам Армении. Результатом такого национального шовинизма и империалистических стремлений был целый ряд местных восстаний, грузино-армянская война и то хроническое состояние «вооруженного нейтралитета», прерываемого вспышками локальной войны на Черноморском побережье, которое в равной мере ослабляло и нас, и грузин и доставляло торжество третьей стороне – московской власти.
Для ведения такой политики нужна была армия. Серьезного боевого испытания грузинская армия не имела, и потому от оценки ее боевых качеств я воздержусь. Численно в начале 1919 г. она составляла около 8–10 тыс., сведенных в две пехотных дивизии и одну кавалерийскую бригаду, с большим количеством артиллерии – до 100 орудий. Командный состав состоял исключительно из офицеров-грузин русской службы, во главе с ген. Гедевановым, Квинитадзе и Эристовым.
Независимо от этой регулярной армии имелась еще «национальная гвардия» под начальством Джугели, находившаяся в большей зависимости от совдепа, чем от правительства. Численность ее простиралась до 10–12 тыс., хотя более половины состава распускалось обыкновенно по домам. Комплектовалась она исключительно добровольцами по рекомендации с.-д. партии, совдепа и профес. организаций, относилась пренебрежительно к регулярной армии и враждебно к грузинскому офицерству и отличалась отсутствием дисциплины, бесчинствами и невысокими боевыми качествами. Правительство, тяготясь своими преторианцами, не решалось, однако, расстаться с ними и лишь в июне вошло с представлением в Учред. соб. о реорганизации армии, которая должна была впредь состоять из 4-х отд. бригад, из которых только одна – национальной гвардии.
Грузинская армия была очень бедна денежными ресурсами, но зато богаче всех армий Кавказа, не исключая и Добровольческой, артиллерией, боевыми запасами и военным снабжением, захваченными с быв. Кавказского русского фронта. Настолько богаче, что все это в изобилии посылалось грузинским правительством сочинским повстанцам, ингушским, чеченским и дагестанским сепаратистам, поднявшимся летом 1919 г. против власти Добровольческой армии.
* * *
27 ноября 1918 г. радиограмма из Тифлиса, составленная в специфических тонах грузинского пафоса, поведала «всем» «о предательском нападении на станции Воронцово на грузинскую пограничную стражу… армянских войсковых частей». Министр Гегечкори, свидетельствуя об исключительном миролюбии Грузии, заявлял «протест перед лицом всего мира» против «вероломных действий» армянского правительства… Дело обстояло несколько иначе.
В III томе «Очерков» я говорил о том, как летом 1918 г. Грузия при содействии германцев односторонним актом – вторжением войск – разрешила спорный вопрос владения Борчалинским уездом, с относительным большинством армянского населения[361], и объявила о включении в состав своих границ армянских территорий, оккупированных тогда турками[362]. В октябре, ввиду частичного очищения турками Лори, армяне заняли его, вступив в вооруженное столкновение с грузинами, быстро улаженное.
Вскоре после этого грузинское правительство предложило армянскому разрешить спорные вопросы на Кавказской конференции в Тифлисе, созываемой к 27 ноября. Опасаясь, что армяне останутся там в меньшинстве, эриванский парламент потребовал первоначально договориться о спорной границе между собой (т. е. грузины с армянами). Грузины согласились, послав в Эривань с надлежащими полномочиями своего дипломатического представителя Мдивани.
Тем временем началась эвакуация турецких войск, и турецкое командование в последний раз перед уходом своим сыграло злую шутку над обоими своими историческими врагами: армянское правительство было извещено, что турки очистят занятые районы 23 ноября, после чего армяне могут вступить в него; такое же сообщение сделано было грузинам, но срок был указан 21 ноября… Когда двинулись армяне, они встретили в спорных районах грузин. 22-го грузинский ген. Макаев, вступив без боя в Ахалкалаки[363], доносил своему правительству: «Население встретило радостно с хлебом-солью»… Войска его двинулись дальше на юг, вытесняя армянские части, согласно приказу, не вступавшие в бой.
Между тем, в Борчалинском уезде вдоль ж. д. линии Тифлис – Александрополь армянские селения, не вынеся бесчинств и реквизиций грузинских гарнизонов, начиная с 27 ноября, начали восставать поголовно и во многих местах прогнали грузин. Для усмирения восставших двинулись грузинские войска с бронепоездами и приступили к расправе, в которой местами приняло участие и татарское население.
Армянское правительство дважды обращалось с протестом в ультимативной форме в Тифлис[364] и, не получая ответа, по единогласному решению парламента, 30 ноября предписало своим войскам «занять армянскую часть Борчалинского уезда, до реки Храм, без объявления войны».
Только 4 декабря получен был ответ грузин. Возлагая всю ответственность «за братоубийственное столкновение» на армянское правительство, не приславшее в Тифлис своих делегатов, где их тщетно ждали[365], Грузия предлагала «прекратить враждебные действия, занять старые границы и созвать армяно-грузинскую конференцию»[366]. В тот же день последовал ответ армянского правительства, требовавшего вновь предварительного вывода грузинских войск из армянской части Борчалинского уезда, так как «правительство Армении не может оставаться безучастным зрителем того, как войска соседнего государства бесчинствуют в принадлежащей Армении территории и расстреливают граждан Армении».
Вмешательство англичан[367], предложивших перемирие с тем, чтобы до заключения мира обе стороны оставили спорные области (Лори и Ахалкалаки), также не увенчались успехом: армянский парламент принял предложение, но грузины не ответили и не прислали своих делегатов в назначенный день и пункт[368]. И война продолжалась.
Одновременно по всей Грузии под предлогом, что «армяне производят повсюду тайную мобилизацию», были предприняты репрессии против армян. А все лица – «подданные Эриванской республики призывного возраста, т. е. от 18 до 45 лет», – были объявлены военнопленными и направлены в концентрационные лагери в Кутаис[369]. Войска ген. Силикова в течение двух недель нанесли грузинам ряд серьезных поражений, захватили три бронированных поезда, 28 орудий, до 75 пулеметов, несколько сот пленных и военные склады, и в середине декабря подошли на переход к Тифлису. Но 16-го они потерпели неудачу у Шулавера и отошли на 10 верст к Садахло.
В это время вторично, уже в ультимативной форме, англичане потребовали прекращения военных действий, назначив срок – полночь на 19-е. В этот день противники, торопясь каждый создать более благоприятное для себя стратегическое положение, вели встречный жестокий бой, к полночи явно склонившийся на сторону армян.
Условия, предписанные воюющим сторонам, были тяжелы и несправедливы по отношению к Армении: войска ее отводились в исходное положение, существовавшее до начала военных действий, тогда как грузины оставались на занятой линии; в Борчалинском уезде введена была смешанная армяно-грузинская администрация, а в Ахалкалакском, сплошь населенном армянами, – грузинская, под контролем англичан. Как будто нарочно создавались очаги брожения и недовольства.
Хотя сношения наши с Арменией, даже дипломатические, совершенно не налаживались, но грузинское правительство считало само или, может быть, с умыслом внушало англичанам, что совпавшие по времени частичное продвижение Добровольцев в Сочинском округе к ст. Лоо и армянское наступление в Тифлисском направлении являлись «общим широко задуманным планом против Грузинской республики». И ген. Уоккер открыто грозил мин. ин. дел Армении Тигратяну, что, «если армяне совместно с Добровольческой армией нападут на Грузию, он со своими войсками выступит на ее защиту»[370].
* * *
С осени 1918 г., после разрыва переговоров с Грузией[371], войска Добровольческой армии на Черноморском побережье занимали передовыми частями с. Лазаревское, между Туапсе и Сочи, имея перед собой у станции Лоо грузинскую национальную гвардию ген. Кониева.
Положение русских войск было ненормальным в военном отношении – «ни мира, ни войны» – и весьма тягостным в морально-политическом. В Сочинском округе продолжались спешное расхищение грузинами русского казенного и частного имущества, всевозможные притеснения, аресты и высылки элементов, тяготевших к России, и, вместе с тем, покровительство большевикам и вооружение их. Шли повальные грабежи и разбои. Десятипроцентный сбор натурой со всех продуктов сельского хозяйства и товаров вызвал прекращение подвоза и торговли и усилил еще больше голод… Население Сочинского округа целым рядом депутаций и письменных постановлений обращалось в Екатеринодар с просьбой об избавлении от грузин; с той стороны фронта слышна была часто ружейная пальба, временами артиллерийская; прорывавшиеся через грузинский кордон русские и особенно армяне – жители окрестных селений – приносили на наши передовые посты рассказы о творимых над ними расправах и просьбы о помощи. В то же время из Сочи приходили воззвания и газеты российской революционной демократии («Свободная Мысль»[372] Цвангера и гагринские «Телеграммы»), жалкие по содержанию, от имени «всего населения» поддерживавшие грузинскую оккупационную власть и одновременно с приведением демагогических посулов грузинских комиссаров обливавшие потоками грязи Добровольческую армию.
9 декабря, в связи со вспыхнувшей армяно-грузинской войной, неожиданно для нас началась эвакуация грузинскими войсками Сочинского округа. Я приказал войскам продвигаться вперед и, не вступая в бой с грузинами, занимать оставляемую ими территорию Черноморской губернии. 16 декабря грузины оставили ст. Лоо, которая и была занята нашим полком. Дальнейший отход грузинских войск приостановился, и противники стояли на р. Лоо в течение целого месяца, не вступая в бой.
Через несколько дней перехваченные документы разъяснили несколько обстановку: 15 декабря «командующий Приморским фронтом» ген. Кониев сообщил населению[373], что «правительством приказано освободить Сочинский округ от войск республики Грузии», но что «всем административным учреждениям и должностным лицам (надлежит) оставаться на своих местах и продолжать исполнение служебных обязанностей». 16 декабря Кониев пояснил мотивы этого распоряжения: «Сочинский округ по соглашению с англичанами признается нейтральным. В силу этого соглашения вступление вооруженных войск какой бы то ни было армии или государства на территорию округа не может иметь места… Управление в округе остается грузинским»…
Такое вмешательство англичан, без предварительного согласия главного командования и даже без уведомления его, вызвало протест наш, обращенный к ген. Пулю. Ввиду того что Сочинский округ составляет искони неотъемлемую часть русской Черноморской губ., ген. Драгомиров от моего имени просил содействия Пуля к немедленному введению русских войск и русской администрации во всем округе. Это обращение, равно как и ряд других – по вопросам о расхищении грузинами имущества и притеснения русских людей в Сочинском округе – оставлялись Лондоном и Константинополем без ответа. Вместе с тем 9 января мы получили через английскую миссию сообщение ген. Уоккера[374] о том, что он «получил инструкцию поддерживать грузин, пока их поведение (?) удовлетворительно», и что поэтому «дальнейшее продвижение войск Д. А. в Сочинском округе без предварительного сношения с ген. Уоккером не должно иметь места». Это требование английского начальника дивизии, о существовании которого мы тогда узнали впервые, вызвало вновь мое обращение к Мильну[375], в котором я подтверждал, что «в этом крае должна быть немедленно водворена русская власть» и что я «не могу допустить с его стороны подобное несправедливое отношение к русским интересам».
Между тем, на почве притеснений грузинами вспыхнуло восстание армянских селений[376], охватившее весь прифронтовый и адлерский районы. В наши руки попала телеграмма комиссара Хочолава, после заседания с участием ген. Кониева доносившего правительству выяснившиеся причины восстания, которое легко было бы предотвратить, «если бы местные власти в лице комиссаров, а также регулярные войсковые части стояли на должной высоте». «Мне самому, – писал он, – пришлось лично видеть результаты ряда недопустимых деяний, хищений и грубого отношения к населению со стороны солдат». Хочолава, ввиду грозных событий, 17 января требовал «или уходить, или закрепить положение» и получил ответ правительства, что оно «в ночном заседании (на 18-е) постановило Сочинский округ не очищать». Грузинские войска предприняли широкую карательную экспедицию: в течение нескольких дней шли бои, грузинская армия громила армянские села; к нам доходили вопли о помощи. Дабы положить конец этому кровопролитию, я приказал войскам Приморского отряда занять Сочинский округ.
21 января наши с боем перешли р. Лоо и заняли Сочи, где были встречены с большою радостью населением; в течение ближайших четырех дней Добровольцы очистили от грузин весь Сочинский округ, и начальник дивизии, ген. Черепов, дойдя до р. Бзыби, послал грузинам телеграмму о прекращении им военных действий ввиду окончания возложенной на него задачи. Генерал Кониев и его начальник штаба полк. Церетели были взяты в плен; в Сочи интернировано 43 офицера и 700 солдат, причем офицерам оставлено оружие, а солдаты были обезоружены. Все воинские чины и оружие были отправлены морем в Грузию.
Тем временем начались репрессии со стороны грузин: старик ген. Шатилов и другие наши представители в Тифлисе, многие русские офицеры, даже из числа не имевших отношения к Добровольческой армии, в Сухуме, Поти, повсеместно были арестованы и ввергнуты в тюрьмы; грузины арестовали также и выслали президиум заступившегося за русских офицеров русского национального совета (Лебедева и Шубинского), вообще усилили репрессии в отношении русских граждан[377] и в моральном и материальном отношении. Так, в четверг на страстной седьмице грузинская милиция вторгнулась в Тифлисский кафедральный собор во время богослужения и потребовала прекращения службы. Ввиду единодушного протеста клира и молящихся служба была закончена, после чего грузины опечатали собор, отняли его у русского прихода. 24 февраля грузинское правительство обнародовало закон, по которому были конфискованы земли русских землевладельцев, бежавших в свое время от турецкого нашествия и не успевших к сроку, указанному в законе, именно к 1 февраля, т. е. на 23 дня ранее опубликования самого закона, вернуться в места своей оседлости. Это было уже прямо надругательством и над русскими людьми и над правом.
Под влиянием нашего наступления начались восстания абхазцев и армян в Сухумском округе, и представители его вновь обратились ко мне с просьбой избавить абхазский народ от насилий, могущих вызвать кровавую смуту. 1 февраля я отправил телеграмму ген. Мильну и Уоккеру (№ 176), указывая необходимые и неотложные меры для умиротворения Абхазии и устранения поводов взаимных столкновений наших с Грузией: «1) объявить Сухумский округ нейтральным, 2) немедленно вывести оттуда грузинские войска и администрацию, 3) возложить поддержание порядка на абхазские власти, свободно ими самими выбранные, и на военные отряды, сформированные из абхазцев»…
Сочинский эпизод принял совершенно неожиданный для нас оборот. 3 февраля нашей радиостанцией принята была телеграмма «всем, всем» из Тифлиса, подписанная воен. мин. Георгадзе. В ней обычным стилем грузинской дипломатии наше наступление названо было «актом самочинно-грубого насилия и вероломства». «Сочинский округ занимался нами, – писал министр, – по соглашению и настоянию (!) английского командования… 31 января (н. ст.) грузинским правительством было получено от английского командования в Константинополе письменное заявление, что со стороны ген. Деникина не будет предпринято никаких враждебных действий против Грузинской республики»…
Вслед за сим ген. Уоккер сообщил грузинскому правительству телеграмму «верховного союзного командования», что «британское правительство приказало (!) ген. Деникину вывести свои войска из Сочи». При посещении Уоккера 8 февраля делегацией парламента, принесшей ему благодарность по поводу этого решения, Уоккер заявил: «Последнее время отношение грузинской печати к Великобритании очень часто меняется… Несмотря на это, великобританское правительство, если и имеются какие-либо нарушения его политики к Грузии, всегда готово исправить таковые к выгоде грузинского народа»… Посланный Уоккером полк. Уайт прибыл в Сочи и предъявил требование о немедленном выводе войск Добровольческой армии из Сочинского округа, в котором «будет установлен английский контроль». Получил ответ, что «Сочинский округ очищен не будет»[378].
* * *
Английская миссия ген. Пуля, которую, очевидно, не информировали ни Константинополь ни Тифлис, находилась в весьма неловком положении. Ген. Уоккер выразил крайнее возмущение против деятельности екатеринодарского представителя, ген. Пуля, не предотвратившего этот эпизод, и в беседе с одним из чинов Добровольческой армии заявил, что Пуль, очевидно, совершенно не осведомлен о направлении «политики Его Величества» и должен получить указание в Константинополе. Ген. Пуль был вызван в Константинополь и к нам не вернулся.
Сменивший его 3 февраля ген. Бриггс, к нашему удовлетворению, оказался истинным и благородным другом России. Проявляя исключительную заботливость в деле снабжения русских армий, относясь горячо и искренне к нашим нуждам, невзгодам и успехам, он вместе с тем оказывал неизменно большую моральную поддержку и командованию и русской идее. Везде, где ему приходилось выступать – на Донском кругу, среди кубанских самостийников, на Чеченском съезде, – мы слышали от него полные достоинства и спокойствия призывы к единству, к поддержанию государственной связи с Россией. Он был добрый англичанин и исполнительный подчиненный. Но не раз, исполнив свой долг – предъявив мне в сухой и настойчивой форме неприятные для нас требования Лондона, в тот же день – мне это стало известно впоследствии документально – кроме моего отказа посылал и свой личный обоснованный протест против распоряжений Лондона.
Только с приездом ген. Бриггса пришли запоздалые ответы на мои обращения к ген. Мильну[379]. Мильн писал, что письма мои препровождены «правительству Его Величества». Британия «не имеет намерения вмешиваться в дела образованных в Закавказье правительств». Мильн охотно поддерживал бы русские интересы в Грузии, но это невозможно ввиду позиции, занятой русскими в Сочинском вопросе; просил «прийти к дружелюбному соглашению с Грузией». Но одновременно я получил через ген. Бриггса ноту ультимативного характера[380]:
«Я получил указание Военного Министерства предложить Вам немедленно прекратить операции против Сочи. Затем обратить Ваше внимание на постановление мирной конференции от 24 января, в силу которого захват силою спорной территории будет серьезно вменен в вину захватчику.
Если генерал Деникин не согласится ожидать решения из Парижа и не воздержится от перехода в район южнее линии Кизил-Бурун – Закаталы и далее по Кавказскому хребту до Туапсе на Черном море, то правительство Его Величества может оказаться вынужденным задержать (или отменить) помощь оружием, снаряжением и одеждой».
Все это было уже слишком поздно. Запоздалое вмешательство англичан не соответствовало ни русским интересам, ни достоинству русской армии, ни просто справедливости. Путем личных бесед с ген. Бриггсом и предъявлением ряда документов, относящихся к Сочинскому вопросу, я приобрел в нем фактического защитника наших интересов. При этом установлено было, что главное командование никогда не давало никому заверения или обещания не занимать Сочинского округа.
Такое ложное убеждение, повлекшее за собой приведенную выше ноту Мильна грузинскому правительству, создалось в Константинополе благодаря докладу Уоккера, который post factum оправдывал его тем выводом, который был им сделан из слов, сказанных якобы ген. Эрдели во время их беседы 20 января: «Ген. Деникин не имеет никаких агрессивных намерений относительно Грузии и, более того, не мог бы осуществить их, если бы хотел»… Донесение ген. Эрдели от 20 янв. (№ 6) и последующий доклад категорически опровергали и факт произнесения им этой фразы[381], и возможность ошибочного толкования Уоккером нашей позиции в Сочинском вопросе. Эрдели заявил тогда вполне определенно: «Мы не думаем о завоевании, а о возвращении принадлежащего нам по праву», и на вопрос Уоккера – «удовлетворило ли бы нас установление русской администрации в Сочинском округе, но с грузинскими войсками», – Эрдели ответил категорически: «Нет, войска должны быть выведены, и округ занят нами»[382].
Результатом всех этих событий было следующее: ген. Уоккер вскоре покинул свой пост; в Гаграх появилась рота англичан во главе с полк. Файнсом, ставшая по р. Бзыби, между расположением обеих сторон, с которых было взято обещание не возобновлять военных действий и не переходить реку; англичане признавали status quo, не облекая признания в декларативные формы, чтобы не подчеркивать некоторый урон, понесенный британским престижем[383].
Непосредственные отношения с грузинским правительством у нас решительно не налаживались. Грузины внушали англичанам, что я «отказываюсь принять грузинских представителей»[384]. Это было совершенно неверно. Гегечкори в январе 1919 г. сообщал доверительно некоторым лицам, не без намерения осведомить Екатеринодар, что им посылается дипломатическая миссия в составе «политических врагов правительства» (?)[385] к кубанскому правительству, но с главной целью «завязать конфиденциальные сношения с Добровольческой армией»[386]. Попытки сближения сделаны были и путем посылки в середине февраля к ген. Эрдели, находившемуся в то время в Баку, кн. Амилахвари, который от имени Жордания и Гегечкори зондировал почву относительно вступления в сношения с Добровольческой армией. Эрдели, обобщая свои впечатления, объяснял эту перемену тем, что «в Грузии замечается поворот к нам, сильное недовольство англичанами и тревога за будущее; боязнь, что англичане съедят Грузию и весь Кавказ и что единственная опора – это мы и Россия». Если известные круги и поддерживают непримиримость, сепаратизм и ненависть к Деникину, Колчаку, то «в массе все больше и больше наблюдается поворот к нам, (который) по-видимому начинает учитываться руководящими кругами»[387]. Не без влияния на изменение настроения было, конечно, и тяжелое экономическое положение Грузии, отрезанной от производительных районов Сев. Кавказа.
Какие бы ни были мотивы, руководившие грузинскими правителями, этот вопрос был встречен у нас с полным удовлетворением. И прибывший 10 февраля в Екатеринодар грузинский «уполномоченный» на Кубани Вачейшвили телеграфировал своему правительству о полученной гарантии непродвижения Добровольцев дальше Бзыби, о прекращении военных действий и о возможности начать переговоры; просил «срочно, по радио мандата правительства на имя Чичинадзе, Вачейшвили и Кикнадзе для ведения переговоров со штабом Добровольческой армии»[388].
Проходили недели, а Тифлис молчал. Первая пора растерянности прошла, благоразумие смолкло вновь, и грузинские меньшевики не рисковали не только примирением с главным командованием, но даже вступлением с ним в официальные дипломатические отношения дать оружие в руки своим политическим противникам – соц.-федер. и нац.-демокр. и «скомпрометировать» себя в глазах грузинского совдепа, русской революционной демократии и, главное,.. Москвы. На Сочинском фронте возобновилось прежнее, чреватое опасностями положение: ни мира, ни войны.
* * *
Весна 1919 г. была периодом тяжелых боевых испытаний для армий Юга: оставление французами Одессы, потеря почти всего Крыма, критическое положение Донского фронта и угроза Тихорецкой со стороны Царицына требовали сосредоточения всех сил на угрожаемые направления. Получив письменное ручательство ген. Бриггса, что, «ввиду занятия британскими войсками линии р. Бзыби, исключается всякая возможность каких бы то ни было наступательных действий со стороны грузин против Добровольческой армии[389], я ослабил значительно Сочинский фронт. Между тем, вскоре оттуда начали приходить тревожные сведения: грузины мобилизовали два возраста, вооружили интернированных в Веро большевиков и отправляли их в Сухумский округ, подвозили к Бзыби тяжелую артиллерию и понтоны.
Во второй половине марта грузины сосредоточили за Бзыбью 5–6 тыс. шт[ыков] и до 20 орудий, явно готовясь к нападению. На глазах у английской роты грузины строили второй мост через Бзыбь, и на протест по этому поводу начальника нашего отряда ген. Бурневича полк. Файнс ответил, что «это к военному делу не относится» (?)… Английские посты пропускали беспрепятственно с грузинского на наш берег всех желающих, не исключая и грузинских солдат, требуя только, чтобы они были безоружны… Был даже случай, что на глазах у английского офицера и караула грузинские солдаты на нашем берегу захватили Добровольца – поручика Бенуа, абхазца по происхождению, и увели его через мост в свое расположение…
Вновь начинались какие-то странные недоразумения, которые английская миссия при всем желании предотвратить не могла, так как части 27 англ, дивизии подчинялись командованию в Тифлисе.
В то же время при содействии грузин в Сочинском округе подымалось восстание зеленых.
Это движение имеет свою сложную историю, на которой я остановлюсь в другом месте; здесь же ограничусь лишь указанием на специально местные черты его характера.
Революционные организации обосновавшихся в Черноморье российских социалистов, совместно с покровительствующими им грузинскими властями, усиленно внушали крестьянам мысль, что при содействии англичан округ может быть «нейтрализован», и это избавит их от реквизиций, податей, налогов, вообще от несения всяких государственных повинностей, в том числе и от набора. И потому, когда объявлена была в середине марта мобилизация 4-х призывных классов, военнообязанные стали уходить поголовно в леса, там организовывались в отряды, снабжаемые в изобилии оружием и патронами от грузин. И 26 марта поднялось вооруженное восстание в д. Пластунской, распространившееся вскоре на весь район Сочи – Красная Поляна – Адлер. А 31-го были закончены и приготовления грузин к переходу в наступление.
Ему предшествовали два странных обстоятельства. 24 марта полковник Файнс обратился к начальнику нашего передового отряда с запросом – «Получены ли им приказания о выводе русских войск из Гагринского района» и, если нет, то просил «обратиться к ген. Деникину за соответствующим приказанием». А 3 апреля, т. е. накануне наступления грузин, получена была телеграмма ген. Мильна, извещающая о том, что «грузины предполагают атаковать (Добровольцев), несмотря на то, что им известно, что это явится актом враждебным по отношению к (англичанам)». Миссия добавляла[390], что ген. Мильн предпринимает шаги, дабы этому воспрепятствовать, и советовала удержать наши черноморские отряды «от враждебных действий и отвести войска к северу как можно дальше».
4 апреля получена была мною телеграмма грузинского главнокомандующего, ген. Гедеванова[391]:
«Во избежание возможности кровопролитного столкновения между Грузинской и Добровольческой армиями, необходимо немедленно разрешить вопрос об установлении пограничной линии, которою, по нашему мнению, является река (нерасшифрованно)[392].
Для того чтобы я имел возможность совместно с Вами действовать против общего врага – большевиков, и для сглажения существующих между русскими и грузинами неприятных недоразумений нужно Ваше срочное согласие по этому вопросу. Ваше согласие даст мне возможность обеспечить Ваш тыл так, как Вам будет желательно, и убедить наш народ в Вашем дружественном отношении к нему»[393]
(из протокола заседания 8 мая 1919 г. в присутствии ген. Бриггса).
И, словно в разъяснение истинного смысла происходящего, через несколько дней мы прочли воззвание от «Штаба национальной гвардии» Джугели – всем сочинским «товарищам»:
«…Цель предательского врага выбить из наших рук доблестное красное знамя, восстановить деспотизм, торжество темных сил и раздавить нашу свободу и демократию…
Объединившись и тесно сомкнувшись вокруг красного знамени с оружием в руках, будем биться на смерть с силами реакции, наступающими (!) на революционную Грузию.
Долой черную реакцию!
Да здравствует революционная демократия!
Да здравствует социализм!»[394].
В тот же день, когда получена была телеграмма Гедеванова, с рассветом грузинские войска, перейдя беспрепятственно линию английских постов и реку Бзыбь, ударили на слабый наш передовой отряд – Кавказский офиц. полк ген. Ушака. Ушак отбил атаку; но вскоре обнаружилось, что все высоты в тылу заняты зелеными, и отряду почти в полном окружении пришлось отходить за р. Мзымту, пробиваясь с большими потерями. Сухопутное сообщение с Сочи было отрезано. Только 7 апреля высланные из Сочи подкрепления расчистили тыл отряда от повстанческих банд и овладели Адлером и Пластунским – центром восстания, после чего оно пошло на убыль и вскоре замерло. Грузины продвинулись до Мзымты, но вскоре отошли, остановившись за р. Мехадырь, и начали расправу с армянскими селами…
Ввиду открытия военных действий грузинами, я приказал закрыть границу, выслать всех грузинских официальных представителей за пределы Вооруж. сил Юга и воспретить заход наших судов в грузинские порты. Войскам Черноморья приказано было перейти в наступление и выбить грузин из Сочинского и Сухумского округов.
Начались приготовления по сбору сил и подготовке десанта[395]. Тем временем ген. Бриггс, принимавший горячее участие в наших делах, снесясь с Константинополем, сообщил мне, что главнокомандующий (ген. Мильн) считает действия грузин «прямым нарушением данных британскими властями указаний» и «посылает британские войска для предотвращения дальнейших продвижений»[396]. Ввиду этого ген. Бриггс просил меня не предпринимать наступления, выражая твердую уверенность в мирном разрешении вопроса.
Англо-грузинские переговоры затянулись. Грузинское правительство опять, как в начале года, выразило пожелание начать переговоры с главным командованием при посредстве английского представительства. Генерал Бриггс взял на себя лично эту миссию и в начале мая поехал в Тифлис, ознакомившись предварительно с моими требованиями[397]. После двух заседаний, 8 и 10 мая (в Батуме и Тифлисе), выяснивших, между прочим, что инициатором приглашения был ген. Гедеванов, по-видимому, искренне стремившийся к примирению с Добр, армией, ген. Бриггс пришел к заключению, что он «напрасно потерял время, так как у грузин не было желания идти на уступки».
Основное требование об очищении грузинами Черноморской губ. отводом войск за Бзыбь было отвергнуто[398]; о нейтрализации Сухумского округа, тем более, они не хотели и слушать, и потому дальнейшие прения имели чисто академический характер, выясняя лишь общие взгляды грузинского правительства на отношения к России вообще.
Вероятно, с большим удивлением и впервые грузинские правители услышали из уст английского генерала такие фразы: «Англичане и итальянцы уйдут, но Россия останется навсегда; и дружеские отношения с нею – это лучшее, что может быть… Лига наций еще не вылилась в определенную форму… Мирная конференция закончится, Россия же будет великой и могущественной, и вы подготовляете себе не особенно благоприятную будущность… Генерал Деникин (считает, что) не имеет права и полномочий изменять границы областей России до Всероссийского народного собрания, которое одно может разрешить этот вопрос»…
К сожалению, позиция ген. Бриггса была не особенно прочной, когда Гегечкори не без иронии предложил ему вопрос: «Мы желали бы слышать – личное ли это мнение ген. Бриггса или… британского командования»… Так как «мы имеем сведения, что вопрос о границах будет разрешен не на Всероссийском собрании, а на Парижской мирной конференции… Мы имеем уверение, что Британское правительство поддержит нашу независимость от России»…
Эта уверенность во всемогуществе Мирной конференции была у грузинских правителей очень прочной, а перспектива решить вопрос своего суверенного существования и территориального распространения при отсутствии России – слишком заманчивой… Этим обстоятельством, в гораздо большей степени, чем стратегическими соображениями, обоснована была та торопливость, с которой велись грузинские захваты, та цепкость, с которою отстаивались приобретаемые ими границы «Великой Грузии». Поставить Мирную конференцию перед свершившимся фактом – это казалось самым главным. Вопрос же о «народном волеизъявлении» представлялся уже более легким: для этого существовали такие влиятельные факторы, как усиленная колонизация, национальная гвардия и… Мцхетский замок.
* * *
12 мая ген. Бриггс вернулся из поездки, а 23-го прибыл из Лондона в Новороссийск… его заместитель ген. Хольман. Приезд последнего был полной неожиданностью для ген. Бриггса, которого Британское правительство не известило о предстоящей смене. 30-го мы провожали с душевным сожалением «друга России и нашего друга», заслужившего глубокое уважение в русском обществе и в Армии.
Роль ген. Бриггса на этом не кончилась. Он защищал интересы России и Армии Юга в Лондоне – в военном министерстве и парламенте, ездил в Бухарест и Варшаву – убеждать Братиано и Пилсудского в необходимости общих усилий для освобождения Европы от мировой угрозы русского большевизма, в необходимости кооперации с Вооруженными силами Юга[399]. Осенью 1919 г. он вновь посетил Ростов, Харьков, Киев, желая возобновить связь с русскими армиями для наиболее целесообразной помощи им.
Удаление ген. Бриггса казалось странным и необоснованным, так как преемник его, ген. Хольман, с первых же шагов своих стал вести ту же дружественную нам политику.
* * *
Все на Черноморском побережье осталось по-прежнему. Ген. Мильн, будучи у меня 9 апреля, заявил, что он потребовал отхода грузин за Бзыбь, то же повторила английская миссия 12 июня. Но, видимо, британский авторитет был уже недостаточен ни для предупреждения, ни для ликвидации столкновения. Или, вернее, Лондон не желал подкрепить его аргументом более веским, чем бумажные ноты.
Грузины остались на Мехадыри. Между правительствами ВСЮР и Грузии по-прежнему не существовало официальных отношений. Граница была закрыта. А войска двух армий стояли на побережье друг против друга в постоянной боевой готовности, рискуя каждую минуту тем, что в силу какого-либо непредвиденного случая «заговорят сами» ружья и пушки.
Глава XVIII. Азербейджан
Взаимоотношения наши с другой закавказской «державой» – Азербайджаном – носили еще более оригинальный характер. Между нами не было никаких территориальных споров, никаких посягательств на ту границу, за которой самоопределился Азербайджан. «Самостоятельность» его правительства до Всероссийского учредительного собрания была признана мною с самого начала… Армия Юга ни разу не угрожала границам Азербайджана. В ответ на это мы встретили злобу и ненависть правительства и правящей партии, так сказать, a priori, тягчайшие оскорбления по адресу командования, правительства и Армии – в официальной печати, в официальных речах и актах, наконец, бессильное бряцание оружием и открытую поддержку – материальную, финансовую, вооружением и формированиями – наших недругов.
Эта «глава» нашей истории, когда она творилась, была распылена во времени и в массе событий и впечатлений. Теперь, когда она пишется и появилась возможность сосредоточиться на ее содержании, становится еще более ясным долготерпение и миролюбие командования и правительства Юга и выдержка Армии.
Бывали неоднократно моменты, когда занятие всей территории Азербайджана в военном отношении не представляло затруднений, и этим положен был бы, без сомнения, конец волнениям на Северном Кавказе… Политика Азербайджана являлась как будто сплошной провокацией в этом отношении главного командования. Но за этим актом явно виделась перспектива всеобщего закавказского пожара, в котором легко было опалить зарождающуюся мощь армий Юга. На чашки весов поставлено было: на одну – достоинство вождей и Армии, на другую – успех белого движения.
Естественно, что вторая перетянула.
* * *
Все в Азербайджанской республике было искусственным, «не настоящим», начиная с названия, взятого заимообразно у одной из провинций Персии. Искусственная территория, обнимавшая лезгинские Закаталы, армяно-татарские Бакинскую и Елисаветпольскую губернии и русскую Мугань и объединенная турецкой политикой в качестве форпоста пантюркизма и панисламизма на Кавказе… Искусственная государственность, так как на этих землях, лежавших на пути великого переселения народов и подвергавшихся воздействию разнообразных культур сменявшихся завоевателей, жили всегда разрозненные мелкие племена[400], враждовавшие друг с другом и доныне еще сохранившие черты кочевого быта. Наконец, искусственно держалось и Азербайджанское правительство: первоначально – волею Нури-паши, потом – ген. Томсона и в дальнейшем – просто по инерции.
Когда в Баку появились англичане, туркофильское правительство хана Хойского, не имевшее решительно никакой опоры в стране и почти никакой вооруженной силы, покорно ждало решения своей участи. Ген. Томсон, не получив, по-видимому, указаний из Лондона, стал первоначально на точку зрения «российской державности» и стремился к построению временной коалиционной власти чисто административного характера в составе представителей трех главных национальностей, населяющих край, – русских, татар и армян[401]. Томсон обратился прежде всего за содействием к русской общественности, но встретил там такой непримиримый антагонизм, что соглашение оказалось невозможным.
Русская организованная общественность представлена была в то время в Баку следующими группами: 1. Русский национальный комитет, возникший инициативным порядком и потом пополнивший свой состав кооптацией различных общественных организаций (союз офицеров, учителей, «русского демократического общества» и т. д.). Возглавлялся комитет[402] лидером местных к.-д. Подшибякиным, именовал себя беспартийным, но в целом разделял кадетскую идеологию и всецело поддерживал Добровольческую армию. Комитет считал возможным войти в состав правительства лишь при условии «признания принципа Единой России и разрешения вопроса о самостоятельности Азербайджана (только) Всероссийским учредительным собранием».
- Совет славяно-русского общества – организация, созданная лицами, прибывшими из Тифлиса[403], находившимися в близких отношениях к азербайджанскому министру внутрен. дел и получавшими субсидии от правительства. Политическая физиономия его была крайне неопределенна (с уклоном вправо), тактика – соглашательская. Комитет «откликнулся с чувством глубокого удовлетворения на призыв мусульманских руководящих кругов принять участие в политической жизни Азербайджана», надеясь тем «еще более укрепить русское влияние и сознание необходимости единения с Великой Россией»[404].
- «Прикаспийское правительство», созданное Бичераховым, в составе русских и армянских соц.-рев., переехавшее из Петровска и претендовавшее на управление Северным Кавказом и Прикаспием, включая Бакинскую губ. и «Закаспийскую республику». «Правительство» считало себя в духовной связи с «Комучем» и Уфимской директорией и полагало необходимым свергнуть азербайджанское правительство и установить свою власть.
- Наконец, левые организации – партия «с.-р. интернационалистов», рабочие, профессиональные союзы, объединенные в «рабочей конференции», не говоря уже о чисто большевистских, проповедовали и работали деятельно в пользу установления советской власти.
Соглашение между русскими небольшевистскими организациями не состоялось. Точно так же безрезультатными оказались совещания, устроенные Рус. нац. комитетом с представителями татар и армян, вследствие решительной непримиримости татар.
При таких условиях Томсон решил опереться на существующее азербайджанское правительство. В составе его дано было два места русским и одно или два армянам; точно так же в созываемом парламенте русским было предоставлено 10 мест, несколько мест армянам и евреям и по одному грузинам и полякам. Представителей этих «национальных меньшинств» предложено было избрать соответственным национальным советам. В состав правительства и парламента от русского населения пошли только члены «Славяно-русского общества»[405].
Правительство хана Хойского в большинстве своем состояло из членов партии «Мусават» («Равенство». – Ред.), и путем административного воздействия такое же большинство получилось в парламенте.
13 декабря, на торжественном заседании парламента, председатель его объявил, что он «остановился на хане Хойском, как на лице, наиболее достойном формировать новое правительство». Хан Хойский прочел декларацию, в которой определена была «первая и важнейшая задача» правительства: «Единодушное желание, которое было высказано здесь (в парламенте) представителями всех фракций, а именно – о независимости Азербайджана – правительство всемерно будет стараться разрешить окончательно», что, однако, не исключает возможности «свободному Азербайджану вступить в теснейшую связь с другими государствами, образовавшимися на территории России, а также и самой центральной Россией». А через два дня ген. Томсон октроировал рожденную им власть особой «Прокламацией»: «Ввиду образования коалиционного азербайджанского правительства под председательством хана Хойского, сим объявляю, что союзное командование будет оказывать полную поддержку этому правительству как единственной местной законной власти в пределах Азербайджана».
* * *
И политические партии в Азербайджане, пришедшие на свет только в 1918 г., были какими-то ненастоящими. Их было три: Мусават, «Иттихад» («Единение. – Ред.) и «Гуммет» («Энергия». – Ред.).Совершенно невозможно определить программы и идеологии первых двух. По составу своему правящая партия Мусават включала среднюю буржуазию и третий элемент, многие представители которого недавно вышли из рядов российской к.-д. партии. Иттихад комплектовался крупной тюркской буржуазией, помещиками и духовенством. Если первых по русской терминологии можно назвать «кадетами» с социалистической личиной, не мешавшей им поддерживать феодальный земельный строй, то вторым приличествует имя «октябристов». Партия Мусават проявляла исключительную враждебность по отношению к России, перенесенную всецело на Добр, армию, панисламизм и тяготение к Турции. Партия Иттихад весьма сочувственно отнеслась к туркам во время их кратковременной оккупации, перенесла свое благоволение на англичан, когда они были в силе, не оставляя в то же время сношений с русским национальным комитетом и мысли о возвращении к России. Обе партии разделяли со всем тюркским населением ненависть к армянам, проявляя ее широко и в административной практике.
Самой малочисленной и наименее влиятельной была партия Гуммет – откровенно большевистская. Вся остальная, крайне немногочисленная вообще, тюркская интеллигенция оставалась пассивной политически, именовалась «беспартийной», составляла лояльную оппозицию правительству в парламенте и склонялась скорее к русской ориентации.
Во внутренней жизни политика правительства сводилась к восстановлению русского права, суда и русских учреждений, так как народ без культуры и правительство без идеологии не могли и приступить к созданию новых форм жизни.
Неудержимое стремление к национализации перевернуло только вверх ногами иерархическую лестницу: из низов без всяких стажей и цензов, не исключая и морального, всплыли на поверхность татары-мусаватисты, захватив все видные и выгодные материально посты, а русские – люди науки, техники и административного опыта – скатились вниз, в силу тяжелых материальных условий мирясь с подчиненным положением. Ими, однако, держался весь механизм административного управления. Неоднократные приказы правительства о замещении должностей лицами тюркского происхождения или владеющими, по крайней мере, тюркским языком оставались мертвой буквой, за неимением своих служилых кадров и даже попросту образованных людей. И русский язык оставался по-прежнему языком государственным.
Не прошел и выработанный правительством закон о подданстве, юридически безграмотный, имевший в своей основе нелепое положение, что азербайджанскими подданными признаются все те лица, которые сами или их родители родились в Бакинской и Елисаветпольской губерниях.
Единственная область, в которой национализация имела известный, весьма печальный успех, это была школа, где бывшие российские к.-д.-ты начали с установления в младших классах обучения на тюркском языке и изъятия преподавания русской истории и географии. Парламент, по примеру Грузии, вотировал учреждение в Баку университета. Но т. к. весь ученый персонал его поневоле оказался русским, то «Союз трудовой интеллигенции» протестовал против его открытия на том основании, что университет станет орудием русификации и что открытие его возможно только после полной национализации средней школы.
Национализация административного аппарата привела к тому, что в глазах населения «старый полицейско-бюрократический режим» оказался гуманнейшим. Насилие, произвол и повальное взяточничество превзошли всякие ожидания, а в районах с преобладающим населением «национальных меньшинств», особенно армянского и русского, создали невозможные условия существования. К правительству Армении, в Русский национальный комитет, в Особое совещание стекались жалобы порабощенных «меньшинств». Дома, поля, инвентарь, имущество людей, бежавших от турецкого нашествия и теперь вернувшихся, были захвачены татарами, и положение беженцев оказалось безвыходным. «Мы обили все пороги, – писали мне молокане Шемахинского уезда, – нагайки и тюрьма единственный ответ, который получают потерпевшие… Нас грабят в деревнях, грабят по дорогам, грабят на работах, грабят и в столице – в гор. Баку, доводя до отчаяния»[406]…
Губернии Бакинская и Елисаветпольская находятся в исключительно благоприятных условиях по своим колоссальным природным богатствам[407], и поэтому правительству Азербайджана было легче, чем другим, справиться с финансово-экономическим вопросом. Но поставить рационально бюджет правительство не могло или не сумело, и базой его, как и во всех новообразованиях, служил печатный станок.
В 1918 г. Азербайджан находился в этом отношении в зависимости от Грузии, пользуясь общими закавказскими бонами, печатавшимися в Тифлисе[408], а в 1919 г. стал печатать свои, в неограниченном количестве, свободно субсидируя и меджлис горских народов. Эти боны имели, впрочем, хождение только в самом Азербайджане и отчасти в Дагестане. Но по мере переполнения нефтяных приемников и застоя в вывозе нефти, благодаря блокаде Астрахани, падала ценность жидкого золота, падал и курс азербайджанских бон, вызывая усиление дороговизны, невзирая на наличие других богатейших ресурсов края.
Англичане проявили исключительное внимание к Каспийскому судоходству и к бакинской нефти, взяв в свои руки управление судоходством, нефтяное дело и Бакинск. отд. гос. банка. Весьма характерно, что, удалив с территории Азербайджана русские войска и лишив нас военной флотилии, Томсон неоднократно обращался к ген. Эрдели, предлагая принять в ведение главного командования Юга военный порт в Баку и все морские учреждения, а также принять на средства русской казны содержание команд судов и личного состава Бакинского портового правления. При явном недружелюбии английского командования, враждебности азербайджанского правительства, невозможности иметь свою портовую администрацию и какую-либо вооруженную силу, на которую можно было опереться, такое предложение имело вид злой иронии.
* * *
И армия азербайджанская была ненастоящей. Те формирования, преимущественно из турецких добровольцев, которые вместе с войсками Марсала-паши брали Баку, под давлением англичан были распущены, и правительство приступило к формированию новых частей под руководством генералов русской службы Мехмандарова (воен. мин.), Сулькевича (бывш. крымский правитель), Али-Ага-Шахлинского (нач. артил.)[409] и др. К весне 1919 г. была сформирована одна пех. дивиз., одна кон. бриг, и три батареи, общим числом номинально 12–15 тыс., фактически не более 3–5 тыс. Ввиду того, что мусульмане Закавказья не несли никогда воинской повинности, эта армия не имела никаких кадров и строилась совершенно заново. Кроме высших командных постов, все офицерские должности занимались русскими офицерами (90%), а из числа остальных – тюркского происхождения – большинство сохраняло традиции русской армии и симпатии к России.
В силу крайнего нерасположения закавказских татар к регулярной службе, формирование армии решительно не удавалось, а повальное дезертирство расстраивало окончательно ее ряды. И ген. Мехмандаров однажды в парламенте вынужден был заявить, что его армия небоеспособна и не в состоянии противостоять армии Добровольческой[410].
Положение русских офицеров, ввиду шовинистической политики правительства, было тягостным и весьма щекотливым. Еще в конце декабря 1918 г. возгорелся спор между Закав. рус. нац. сов. и ген. Лебединским[411], поощрявшим поступление русских офицеров в азербайджанские войска, «дабы вывести офицеров из тяжелого материального положения». Спор поступил на мое разрешение.
Принимая во внимание, что пути в Добровольческую армию не были заказаны никому, и, с другой стороны, что русскому офицерству невместно было вооруженной рукою создавать враждебную России азербайджанскую государственность, я высказался против поступления русских офицеров в азербайджанскую армию. Позднее, в июне, когда Азербайджан готовился к войне с нами, положение там русского офицерства стало вконец невозможным. При посредстве моего представителя в Баку, офицерству отдано было секретное распоряжение о переходе в Добровольческую армию. Оно было исполнено не только большим числом русских офицеров, но и частью грузин и мусульман, что еще более расстроило ряды азербайджанских войск.
В конечном итоге положение азербайджанского правительства определялось четырьмя факторами: присутствием английских войск; лояльной оппозицией Иттихада и беспартийных; враждебностью армянского народа; полной аполитичностью, темнотой и инертностью тюркского народа, в котором революция не произвела тогда еще никаких социальных сдвигов; она усилила только бытовое явление – абречество – попросту разбой, лишенное социальных мотивов и искусно направляемое правительством в сторону национальной нетерпимости, религиозного фанатизма и территориальных захватов. Наконец, большое давление оказывал на власть многочисленный и организованный бакинский пролетариат, который был резко враждебен «реакционному правительству тюркских феодалов, буржуазии и паразитического духовенства», и под интернациональными лозунгами проводил идею единства всероссийской советской власти.
И только в одном интересы обоих противников сходились вполне – в противодействии «Деникинской опасности». При этом пролетариат откровенно заявлял, что он готов в этом вопросе идти вместе с «реакционным правительством», в расчете, что «потом мы справимся сами с ханами – Хойскими и Усуббековыми…»[412]. Вероятно, в силу этой общности настроений правительство терпело большевистские организации, прессу[413] и пропаганду, выступая против них активно при помощи англичан только во время всеобщих забастовок, имевших место в декабре и в мае.
* * *
В марте, на почве казнокрадства двух министров (один из них Лизгар), пало правительство хана Хойского и образовалось новое, под председательством Усуб-бекова, из состава той же партии – Мусават, но с участием социалистов. В декларации нового правительства (апрель 1919 г.) говорилось о предстоящем признании республики державами Согласия и «вступлении ее в семью культурных народов». Угрозой ее самостоятельности – по словам декларации – является «Добровольческая армия, нахлынувшая уже на северный Кавказ и залившая кровью снеговые вершины Дагестана, намереваясь вновь поработить как горцев, так и нас». Но поглощение Азербайджана не удастся: «Кровавый урок (?), данный горными орлами насильникам Добровольческой армии, подтверждает это». Декларация выражала желание установить мирные отношения с соседями, в том числе и с советским Российским правительством, и разрешить полюбовно острые пограничные вопросы с Грузией и Арменией. Особенное благоволение было проявлено по отношению к Дагестану – «второй родине Азербайджана», и особенный гнев – против самоопределившейся русской «Ленкоранской республики»[414].
Завести товарообмен с советской Россией не удалось: английская флотилия продолжала тесную блокаду Астрахани. Пограничные споры с более сильной в военном отношении Грузией окончились соглашением. Ленкоранской республики, пока она находилась во власти большевистского совета[415], тесно связанного с бакинскими рабочими организациями, правительство не трогало. Безучастно относились к этому вопросу и англичане. Но когда в конце июля советское правление было свергнуто народным ополчением под начальством полк. Ильяшевича, в Ленкорань посланы были азербайджанские войска и… английские офицеры; первые силой, вторые своим авторитетом и угрозами принудили ленкоранцев подчиниться Азербайджану[416].
Такую же энергичную деятельность проявляло правительство в Карабахе, Зангезуре и Нахичевани, где в течение нескольких месяцев шла резня армян татарами и бои между армянскими четами и татарскими, которые снабжались деньгами и оружием из Баку[417], добровольцами и патронами из Турции.
Это был один из этапов широко задуманного и настойчиво проводимого движения, руководимого Кемаль-пашой. Высокая Порта и «непокорный» Кемаль находились в полной связи и единении с Азербайджанским правительством. К нашему изумлению, какие-то тайные нити шли из Эрзерума и в Тифлис… По крайней мере армянское правительство и английское командование убежденно говорили о существовании переговоров и даже договора между Гегечкори и прибывшим в Тифлис видным деятелем Энверовской партии Киазим-беем, которого англичане арестовали… Грузины и турки за счет армянского народа искали путей ко взаимному соглашению и даже в остром вопросе о Батуме находили якобы компромиссный выход: грузинское управление и турецкие гарнизоны…
С возникновением предположений на мирной конференции об аннексии турецких вилайетов в пользу Греции и Армянской республики, – пантурецкое движение на Кавказе приобрело еще более интенсивный характер и организованные формы. Созванный в начале июня в Эрзеруме съезд делегатов анатолийских вилайетов, в котором приняли участие и представители грузинских районов, создал новое правительство с Кемалем во главе и вынес резолюцию, призывавшую к борьбе против отторжения турецких областей, дышавшую ненавистью к грекам и армянам и злобой против англичан.
Уже в конце 1918 г. турецкие штабы (XV-го корпуса) в Эрзеруме, Ване, Баязете и Хопа организовали широкое снабжение населения оружием; турецкие паши, сотни офицеров, тысячи аскеров «выходили в отставку» и шли в повстанческие отряды, возникавшие не только на территории Турции, но и за ее пределами в районах этнографического расселения мусульман Армении и Азербайджана – в Ольты, Кагызман, Нахичевань, Шушу и т. д.
Замечательно, что при всем этом наши представители отовсюду, где приходилось иметь сношения с турецкими властями и командованием, доносили о больших симпатиях и предупредительном отношении, которое проявляют турки к русским и России. Создавалось впечатление, что пантюркисты Азербайджана – plus royalistes, que le roi (большие роялисты, чем сам король (фр.). – Ред.) – черпают свое вдохновение исключительно в ненависти к усыновившей их России, тогда как национализм и религиозный фанатизм подлинной Турции стали орудиями борьбы ее за свое существование, находившееся под действительной угрозой после военного поражения.
К весне 1919 г. волнения в Карабахе усилились, и англичане сочли нужным выступить там в качестве миротворцев.
Командующий английскими войсками в Баку полк. Шательворт собрал в Шуше 23 апреля съезд представителей четырех уездов и предложил ему подчиниться «впредь до решения мирной конференции» Азербайджану, в лице назначенного правительством губернатора Салтанова. Съезд вынес резолюцию о недопустимости подчинения Салтанову, «продолжавшему кровавую политику Турции», и просил, ради физического сохранения армянского населения, о назначении английского губернатора. Шательворт не согласился и отдал приказ о признании «законной власти Салтанова».
Июнь, июль, август в Карабахе продолжались поэтому столкновения, в которых особенно жестоко пострадало население Шуши и ее окрестностей. В этих фактах армяне видели прямое попустительство англичан, азербайджанского правительства и парламента, который гласно стал на сторону насильников, отвергнув предложение, внесенное армянской фракцией – выразить осуждение участникам Шушинской резни…
* * *
С главным командованием Юга у Азербайджана не было вначале ни общей границы, ни официальных сношений. Мой представитель в Баку, полковник Лазарев, состоял при английском командующем; представитель Азербайджана в Екатеринодаре, Рустамбеков – при Кубанском правительстве. Со времени продвижения нашего к Владикавказу и Грозному отношение к нам азербайджанского правительства, парламента, печати, политических организаций становилось все более враждебным, а реальная помощь восставшим горцам и горскому меджлису все более явной и значительной. По инициативе парламента возникла «интерпартийная комиссия», которая 17 апреля обратилась к народу с воззванием:
«Граждане, братья Азербайджана!
На Северном Кавказе свободолюбивые горцы, верные заветам своих предков и принципам свободы и независимости малых народов, истекают кровью в неравной схватке с реакционными силами Деникина и К°. Геройская защита горцев своей независимости должна пробудить в гражданах Азербайджана сознание, что ген. Деникин, представитель мрака и порабощения, не пощадит самостоятельности и Азербайджана. Святой долг каждого мусульманина своевременно прийти на помощь братьям горцам.
Интерпартийная комиссия формирует на помощь горцам Азербайджанский добровольческий отряд под руководством опытных офицеров.
Граждане, записывайтесь в ряды добровольцев! Запись производится в здании Парламента».
Занятие Добровольческими войсками в мае Петровска и Дербента вызвало и в Азербайджане и в Грузии взрыв нового озлобления, смешанного с чувством страха. Большевистский «Набат» так определял произведенное этими событиями впечатление: «Деникинцы заняли Петровск и Дербент, они стучатся в двери Баку. Воскресный номер «Азербайджана» вышел без единого слова об этих убийственных для трудовых масс Азербайджана фактах. Усуббековское правительство потеряло голову перед грозной опасностью и предалось, кажется, восточной апатии. Стамбул заснул перед грозой!..».
Считая задачу ВСЮР с занятием Дагестана выполненной, я приказал полковнику Лазареву передать азербайджанскому правительству следующее: «Мы считаем Азербайджан частью России. До восстановления в России Верховной власти допускаем самостоятельное существование Азербайджана». Позднее, в середине мая, я телеграфировал вновь, что «мои войска в Азербайджан не вступят и не перейдут южнее линии главный хребет – Кизил Бурун, если не будет враждебных действий со стороны Азербайджанского правительства»[418]. Полковник Лазарев позволил себе проявить личную инициативу: передавая мою телеграмму Усуббекову, он выпустил первую фразу («Мы считаем Азербайджан частью России») и в препроводительном письме от имени главного командования развил теорию конфедерации, признав безусловную самостоятельность Азербайджана и пояснив, что «когда Россия будет освобождена от большевиков, то входить в соглашение с вновь образовавшимися государствами будет делом народного собрания или той верховной власти, которой все вооруженные силы, борющиеся против большевиков, передадут свои права»[419].
Усуббеков огласил в парламенте две моих телеграммы в изложении Лазарева и заявил, что «парламент и он не верят этим заявлениям. Что же касается взгляда Добровольческой армии на независимость Азербайджана, то он для республики неприемлем, т. к. в конечном итоге сводится к присоединению ее к России»… К тому же вскоре последовала известная уже нота ген. Кори, требовавшая отвода Добровольческих войск до линии в 5 верстах южнее Петровска, и определенное заявление бакинского английского командования, что пока мы «не исполним требования британского правительства, англичане (Добровольцам) ни в чем помогать не будут»[420]. И правительство заняло вновь непримиримую позицию, парламент вотировал новые кредиты на армию и бряцал оружием, печать еще резче ополчилась против Добровольческой армии, а рабочая конференция протягивала руку правительству для борьбы с общим врагом, требуя полномочий на формирование «рабочих отрядов».
Ввиду такого соответствия настроений и задач, Закавказской конференции, заседавшей в Тифлисе для разрешения территориальных споров, предложено было Грузией заключить военный союз трех республик для борьбы против Добровольческой армии.
3 июня между Грузией и Азербайджаном заключен был договор[421], обязующий «договаривающиеся государства выступить совместно, всеми вооруженными силами и военными средствами против всякого нападения, угрожающего независимости или территориальной неприкосновенности… республик»[422].
§ 10-м договора предусматривалось право Армении «в двухнедельный срок присоединиться к этому соглашению». Но Армения присоединиться не пожелала. Устами своего представителя на конференции, мин. ин. дел Тиграняна, она заявила: «Едва ли у Добровольческой армии стоит вопрос о занятии всего Закавказья… Армяне видят другую для себя опасность – именно со стороны Турции. От этого соглашения пахнет кровью. Такие союзы крепки, когда сами союзники живут между собой в мире и согласии. Этого армяне не видят. В Карабахе льется армянская кровь (Азербайджан)… Армению стараются заморить голодом (Грузия), предоставив в ее пользование всего 400 жел. дор. вагонов»…
Заключением этого договора окончательно закрепилась группировка действующих на Кавказе сил.
Глава XIX. Армения. Результаты английской политики
После дипломатического поражения, понесенного в войне с Грузией, положение Армении стало еще более тяжелым. Окруженная со всех сторон врагами[423]; связанная с внешним миром единственной ветвью ж. д. (Эривань–Александрополь–Тифлис), продолжение которой находилось в руках грузин и которая к тому же в любой момент могла быть перерезана Борчалинскими татарами[424]; разоренная революцией и турецким нашествием; переполненная беженцами со всех областей Закавказья и из Турции, непропускаемыми в места своего поселения ни англичанами, ни турками, ни татарскими республиками, – страна буквально задыхалась. Из русского наследия, стоя в стороне от важнейших стратегических направлений и составляя по территории всего лишь 5% Закавказья, она получила очень немного. Организм ее изнурял недостаток, иногда полное отсутствие трех важнейших элементов борьбы за существование: хлеба, денег и оружия.
Такое катастрофическое положение страны обусловило деятельность парламента и правительства, сводившуюся к изысканию способов удовлетворения этих насущных нужд ее и к поискам той внешней силы, которая могла бы хоть временно обеспечить ее существование.
В период турецко-германского нашествия стремление к России армянских правящих кругов было единодушным. Оно сохранилось и в первое время английской оккупации, но вскоре поблекло под влиянием настойчивого и резкого воздействия англичан. Английские представители – Уоккер, Бич и другие ополчились против русофильства армян, прибегая к давлению и запугиванию и, с другой стороны, рисуя армянам заманчивые перспективы самостоятельного существования соединенных русской и турецкой частей Армении с выходом к Черному морю… Ген. Уоккер официально в резкой форме ставил в упрек армянскому правительству его тяготение к России, нахождение на службе Армении русских офицеров и, в частности, присутствие в Эривани Добровольческого представителя[425]. Все это, по словам Пападжанова[426], «создало у многих армян опасение – не потому ли англичане лучше относятся к грузинам, что те определенно отвернулись от русских».
Когда в конце декабря парламент обсуждал наказ делегации, посылаемой в Париж, прежнего единства мыслей не оказалось. Правящая партия дашнакцаканов разделила свои голоса: часть стояла за автономию или федерацию обеих Армении с Россией; другая требовала «Великой и независимой Армении» с Киликией и выходами к Черному и Средиземному морям. Это был американский проект, рожденный фантазией победителей, живших тогда еще иллюзиями своего могущества; он приводил бы к соотношению на новой территории мусульманского населения к армянскому, как четыре к одному. Армянская «народная партия» (либералы) высказалась за воссоединение с Россией; к ней присоединились соц.-рев., в то время как соц.-дем., связанные тесно с грузинскими, поддерживали отделение от России вне зависимости от того или другого решения судеб страны[427].
Наказа делегации я не знаю, но, по свидетельству одного из членов ее, настроение их было далеким от утопий: «Армянский народ достаточно истек кровью, он стремится к спокойствию и мирному развитию… Правительство и народ вполне сознают, что самостоятельно Армения существовать не может… Сознавая свою слабость, мы не думаем предъявлять никаких требований и помиримся со всем, что решит конференция»[428]. Без сомнения, это решение находилось в полном соответствии с настроением армянского народа, который, сохраняя явное, даже усилившееся пережитыми несчастиями тяготение к России, готов был, однако, признать над собой чей угодно протекторат – «хоть черта», как говорили в народе, – какую угодно власть, лишь бы она избавила от голода и физического истребления.
Официально никаких деклараций о разрыве с Россией правительство пока не объявляло. Вскоре обнаружилось, что надежды на англичан не оправдались. С декабря до конца марта политика англичан была явно недружелюбна Армении. Ни финансовой, ни экономической помощи от них Армения не получила; боевого снабжения – также, под предлогом «строгого нейтралитета Англии»; сотни тысяч беженцев по-прежнему задыхались на площади не целых трех уездов. Армяно-грузинская распря была разрешена с явным пристрастием в пользу грузин. Росло разочарование и вместе с тем усиливались вновь два течения общественной мысли и народных симпатий, идущие одно – к России, другое – к великой заатлантической республике, о всесильном заступничестве которой появились и некоторые фактические данные, и еще больше легенд.
В конце апреля в связи с обострившимися англо-турецкими отношениями и возросшим панисламистским движением в Средней Азии англичане изменили свою тактику: при их вооруженном содействии пали две суверенных татарских республики – «Юго-Западная» и «Аракская», занятые затем армянами, и присоединена армянская «республика Андроника» – народного героя, официально «отступника», предвосхитившего роль д’Аннунцио и Желиховского и обосновавшего свою суверенную власть на официальной территории Азербайджана[429]. Таким образом, в начале апреля Армения занимала всю Карсскую область, всю Эриванскую и юго-западную часть Елисавегпольской губернии.
Эти события вернули вновь симпатии армян к англичанам, но ненадолго: категорический отказ англичан в дальнейшем от реального заступничества за армянский народ во время кровавых событий в Карабахе и Зангезуре, когда англичане заявили, что вооруженной помощи не окажут, а «используют лишь свой моральный авторитет», окончательно подорвал доверие и симпатии армян к англичанам. Председатель правительства Хатисов[430] с горечью и недоумением говорил ген. Уоккеру: «Мы удивляемся, что в то время, как в Лондоне нас уверяют в любви к армянам, здесь мы видим отношение обратного свойства. Мы ждали союзников как избавителей, теперь приходится разочаровываться в этом». А политические деятели Армении пришли понемногу к безнадежному заключению, что «англичане стараются создать буфер против России из Азербайджана и Грузии и уничтожить Армению – из тех соображений, что последняя будет служить проводником русского влияния, могущего привести к Средиземному морю»[431].
Между тем, в Армению прибыла Американская благотворительная миссия, которая, вместе с идеей «Великой Грузии», с ранней весны принесла с собой исстрадавшемуся от голода и эпидемий населению более реальные ценности – хлеб, рис, медикаменты и медицинскую помощь. Впечатление от этого филантропического шага было огромно, надежды неумеренны, и поэтому в парламенте и в правительстве смолкли всякие трения и колебания и установилось полное единство ориентации – «на Америку». 15 мая глава правительства Хатисов, основываясь на постановлениях состоявшегося в конце марта в Эривани съезда турецких и русских армян, объявил торжественно стране, что, «согласно воле всего народа, правительство провозглашает Армению на вечные времена объединенной (турецкая и русская) и независимой». «Правительство Армении в Закавказье, – говорилось в особом акте, – в настоящее время объявляет себя правительством объединенной Армении – с установлением в качестве формы правления демократической республики». Парламент – бывший «Национальный совет», образованный в свое время путем соглашения политических партий, был распущен, и новый, «всенародный», предложено было созвать в июле.
Весьма интересны мотивы, приведенные на решительном заседании парламента, заставившие дашнакцаканов переменить «русскую ориентацию на американскую»: «Цель независимости – стремление собрать весь армянский народ, чтобы уберечь его от рассеяния по всему свету, подобно евреям. Для этого нужна площадь, освобожденная от мусульман, и нужен покровитель, который защитил бы и поднял экономически будущую Армению. Россия как страна людей… равно относящихся ко всем нациям, не позволит армянам выселить татар. Что же касается экономической помощи, то она может быть оказана Россией только через 15 лет»[432].
Армянские деятели, не искушенные в политической игре мировой дипломатии и плохо осведомленные, играли в руку пантурецкому движению, подогревая фанатизм турок. Они не понимали, что среди Согласия нет ни одной державы, которая пожелала бы проливать кровь за армян, что появившийся вслед за благотворительной миссией американский полк. Хаскель – «Верховный комиссар Антанты в Армении» – приехал с широкими полномочиями[433] и… с заранее предрешенным постановлением «не посылать ни одного американского солдата в Армению». «Моральный авторитет Америки» должен был остановить кровопролитие в воинственных странах Ближнего Востока, где только сила внушала к себе уважение, страх и покорность…
* * *
Увеличение территории Армении в апреле, устранив чрезмерную скученность населения, имело, однако, два неблагоприятных последствия – увеличение числа голодных ртов и введение в организм страны новых значительных контингентов враждебного ей мусульманского населения.
Американская помощь была спасительной, но далеко не достаточной. В финансовом отношении республика зависела от Грузии, получая закавказские боны из тифлисской экспедиции. Это обстоятельство становилось критическим в такие моменты, как, например, в дни армяно-грузинского конфликта, когда у военного министра Армении (к 30 дек.) оставалось в казне 220 тыс. рублей! Страна нищая, не имевшая экспорта, не могла решиться на выпуск своих денежных знаков, заранее обреченных на полное обесценение. Поэтому, когда в июле были израсходованы закавказские боны, правительство «независимой Армении» прибегло к средству, совсем незаконному, но весьма показательному: от имени Эриванского отделения Российского государственного банка было выпущено на несколько сот миллионов «чеков». Эти чеки, имевшие подзаголовок «специальный текущий счет республики Армении», спасли страну от банкротства и имели обращение весь период ее самостоятельного существования[434].
Недостаток вооружения и, главным образом, боевых припасов был еще более чувствителен и препятствовал надлежащему развитию «армянской армии»[435]. Она состояла из дивизии пехоты (к лету – из трех отдельных бриг.), бригады артиллерии, конного полка и небольших технических частей. Состав ее, определенный штатами для «мирного времени» в 22 тыс. человек и для «военного» – в 44 тыс., фактически терпел большие колебания, не превышая никогда 10–15 тысяч. Было одно время, непосредственно после армяно-грузинской войны, когда, за отсутствием продовольствия и боевых припасов, дивизию пришлось довести временно до 4 тыс.
Июльские события застали армянскую армию в беспомощном положении: полное отсутствие запаса винтовок и наличность всего лишь 300 тыс. трехлинейных патронов ограничили ее боеспособность и лишали всякого смысла мобилизацию.
Между тем, весь юг и юго-восток страны были объяты восстанием мусульман. Оно подкатывалось с юга к Эривани, угрожало Карсу и Александрополю и в нейтральной зоне у Садахло[436] нависло грозной опасностью перерыва единственной питательной артерии страны…
Армян резали по всему Закавказью, по Анатолии и Киликии, а Верховный комиссариат отвечал на обращенные к нему недоуменные вопросы, что «вопрос о мандате на Армению еще не решен» и что в настоящее время делаются «глубокие изыскания», от которых будет зависеть решение. Ген. Харборд с огромной американской миссией совершал в это время путешествие на Диарбекир – Эрзерум – Муш – Каре – Эривань – Тифлис для «изучения армянского вопроса с точек зрения: этнической, экономической, финансовой, военной и проч.».
Перед несчастным народом с особенной яркостью встанет вопрос об его существовании. Суровая действительность рассеет все иллюзии об иностранной помощи, и мы увидим вновь резкий поворот общественного мнения в сторону России.
* * *
Сообразно с переменами армянским правительством «ориентации», менялись взаимоотношения его с Добровольческой армией.
Во время германо-турецкой оккупации из Армении приезжали негласно посланцы правительства, боявшегося «скомпрометировать» себя в глазах завоевателей. Они свидетельствовали о верности Армении русской государственности и просили помощи. В ноябре в Екатеринодар прибыл уже официально полк. Власьев, имевший титул «представителя Армянской армии при Добровольческой армии». Он также описывал яркими красками русофильское настроение Армении, в частности, особенное расположение там к Добровольческой армии. Власьев просил о сформировании и отправке через Батум армянского отряда, о помощи хлебом и боевыми припасами, о помощи армянским беженцам и возвращавшимся с запада бывшим военнопленным.
На основании этих данных в конце ноября был послан ген. Драгомировым в Эривань полк. Лесли с полномочиями «войти в сношения с представителями Армянской республики по вопросам политическим» и с письмом ген. Драгомирова министру иностр. дел, в котором указано было на желательность «делегирования представителей Армянской республики в г. Екатеринодар с целью информации о своих местных нуждах».
Лесли пришлось сильно разочароваться в екатеринодарских информациях. Прибыв в Эривань в самый разгар надежд на спасительницу Англию, он был встречен чрезвычайно холодно, и доморощенные армянские дипломаты вовсе недвусмысленно дали ему понять, что «лучше подождать, не открывая свои карты, так как неизвестно, кто сильнее, кто настоящая Россия – вы, Колчак или большевики». От Власьева армянское правительство отреклось, заявив, что он был только «разведчиком военного министерства, а не представителем».
Состоявший в то время начальником штаба армянской дивизии полк. Зинкевич передавал, что правительство не решается послать своего представителя в Добровольческую армию, «боясь скомпрометировать себя в глазах союзников, на случай, если вопрос о переходе Армении под протекторат другой державы является вопросом решенным или возможным». Не последним аргументом был, вероятно, и страх «скомпрометировать» себя и в другом направлении: весною парламентом принято было постановление, без всякого видимого повода, о «невмешательстве армян в борьбу Добровольческой армии с советской Россией».
Хотя увлечение английской ориентацией прошло и, после небольшого периода сомнений и колебаний, симпатии Армении всецело перешли к Америке, но в русском вопросе ничего не изменилось. «Хаскель потребовал от правительства Армении, – сообщал полк. Зинкевич, – чтобы оно не сносилось с главнокомандующим помимо него. Кроме того, в тех случаях, когда американцы видят проявление симпатий к России, они убеждают армян, что Россия никогда больше не будет великим государством, и что, поэтому, на нее нельзя рассчитывать в смысле помощи»[437].
В результате с марта до августа между Арменией и главным командованием Юга никаких официальных сношений не было, хотя в Екатеринодаре находился посол Армении при Кубанском правительстве Сагателян[438]. Негласно, однако, он бывал у меня и у ген. Драгомирова, просил не ставить в вину его правительству ту позицию, которую оно вынуждено было занять в отношении Вооруженных сил Юга, находясь в полнейшей зависимости от внешних сил и не желая раздражать Грузию, и без того «сдавившую армянам горло»[439]. Я ответил, что сочувствую несчастному армянскому народу, понимаю щекотливое положение правительства и не придаю значения задевающим нас декларациям.
В мере наших ограниченных возможностей мы оказывали некоторую помощь Армении, главным образом, заботами об ее беженцах и их реэвакуации. Отправка хлеба через Грузию была невозможна, и транспорт его, посланный в январе 1919 г., был захвачен или не пропущен грузинами. Впрочем, в июле, в самую тяжелую минуту, нам удалось переправить в Эривань с огромными трудностями, минуя Грузию, через Батум на Ардаган по сухопутью транспорт с несколькими миллионами патронов.
Осенью изменилась вновь «ориентация» и – в связи с этим – отношение к нам: в августе приехал в Екатеринодар «нач. ген. шт. Армении», полк. Зинкевич, который вернулся в Эривань уже в качестве «Военного представителя Вооружённых сил Юга России», встреченный там «подчеркнуто торжественно, по высшему ритуалу».
Таким образом, наш «союз с Арменией», который так пугал грузин и не нравился англичанам, принадлежал к одной из грузинских легенд. Но она сослужила нам, несомненно, большую службу, отвлекая силы и умеряя в значительной степени воинственный пыл Азербайджана и Грузии, считавших свой тыл при наступлении на север открытым для удара армянской армии.
* * *
Первое полугодие английской оккупации Закавказья показало наглядно, что ни одна из тех задач, которые провозгласили англичане или которые приписывались им общественным мнением Юга России и Закавказских новообразований, выполнена не была. Край пылал в огне восстаний и межплеменной вражды, не мог считаться ни «обеспеченным тылом Вооруженных сил Юга», ни «прочным барьером, прикрывающим Персию», ни – в силу общего разочарования английской политикой – «благоприятной ареной для английской колонизации».
К весне 1919 г. русская политика англичан несколько изменилась: внутренние политические затруднения в Англии, осложнения с Турцией, трения в Верховном совете и, по-видимому, подозрительность и соревнование держав Согласия поставили на очередь вопрос об уходе англичан из Закавказья и замене их итальянцами. Появились уже итальянские квартирьеры и военные миссии, посетившие Баку, Батум и Тифлис и очаровавшие закавказских правителей своими взглядами и щедрыми обещаниями…
К этому времени отношения наши с англичанами начали несколько налаживаться. Военное снабжение шло в широких размерах; екатеринодарская миссия по-прежнему поддерживала нас в спорных вопросах; ген. Мильн, посетивший Екатеринодар 10 апреля, воспринял лично нашу точку зрения на взаимоотношения с закавказскими новообразованиями; адмирал Сеймур проявлял полное доброжелательство в вопросах помощи нам силами английского флота, принимавшего участие в обороне Акманайских позиций; наконец, высшее командование в Тифлисе и Батуме было сменено, и екатеринодарская миссия ставила это обстоятельство в связь с предстоящим изменением всей английской политики в Закавказье.
Новый генерал-губернатор Баку Шательворт – один из крайних русофобов до того времени, пригласив моего представителя, доверительно развивал ему свои мысли[440]:
«Ваше общественное мнение склонялось к тому, что англичане, оккупировав Закавказье, хотят его удержать за собой как путь в Индию и местонахождение нефти. Это неверно, так как здесь мы являемся отрезанными от всех наших баз и, если бы впоследствии Россия атаковала нас, мы не могли бы защищаться.
Туркестан в совершенно другом положении: он представляет для нас большой интерес как преддверие Индии и плацдарм против Афганистана. Но мы там не хотим основаться, чтобы не увеличивать наших владений и так как предпочитаем жить в дружбе с восстановленной Россией. Доказательством этого вам может служить то обстоятельство, что мы вывели оттуда почти все наши войска и, несмотря на просьбу Закаспийского правительства помочь им людьми в борьбе с большевиками, отказали.
Что же касается Закавказья, мы отлично понимаем, что вся культура здесь – исключительно русская, и что оно ни экономически, ни политически без России существовать не может. Если бы мы остались здесь дольше, возможно, что народы Закавказья не хотели бы вернуться к вам, а предпочли бы остаться под Британским владычеством, так как мы постоянно балуем подвластные нам народы, наводняя рынок деньгами и сравнительно дешевым, хорошим товаром, а также предоставляя им полное самоуправление, поддерживая вместе с тем порядок и справедливость.
Этого не будет. Мы скоро уйдем отсюда, и нас заменят итальянцы. Картина переменится: их главная цель будет эксплуатировать страну, так как Италия – страна бедная и им нужно поправлять свои финансовые дела. Не знаю наверное, но, возможно, что она даже получит мандат на Закавказье. В таком случае, очевидно, содержание оккупационных войск будет отнесено на местные средства. Итальянцы будут усиленно вывозить нефть на льготных условиях. Вы сами понимаете, что это не привлечет ни правительств, ни население на их сторону; народ начнет естественно тяготеть к России, и все Закавказские республики сами вернутся к вам».
Побуждения, по словам Шательворта, заставлявшие англичан покинуть Кавказ, глубоко мудрые и политически дальновидные, вызвали у нас решительные сомнения. Мы видели причины в других явлениях: на страже русских интересов стали неожиданно и независимо от своего отношения к России тред-юнионы и мировая конкуренция… Во второй части своей беседы Шательворт был, однако, несомненно, прав: итальянская оккупация сулила нам еще горшие беды. Мы не питали никакого доверия ни к доброжелательности к нам политики Италии, ни к ее материальной незаинтересованности, ни к политической устойчивости итальянской армии. В перспективе рисовалось еще большее поощрение центробежных сил, экономическая эксплуатация, хаос во внутренней жизни Закавказья, подготовляющий пришествие большевизма и, наряду со всем этим, – прекращение материальной помощи Вооруженным силам Юга.
И потому, когда английская миссия неофициально осведомила нас, что англичане могли бы задержать свой уход до осени, если бы поступило соответственное заявление от главного командования, я, выбирая из двух зол меньшее, послал ген. Бриггсу письмо, в котором, отметив со стороны английских представителей поддержку идеи русской государственности, просил уведомить его правительство, что замена английских войск будет встречена (у нас) с сожалением…
Не знаю, где и как использовано было это письмо и имело ли оно вообще какое-либо значение, но в конце июня мы получили телеграмму из Лондона[441]: «Черчилль просит предупредить о неизбежности, вследствие настроения рабочих, постепенного отзыва войск со всех фронтов, начиная с зимней кампании. Помощь всяким снабжением обещал продолжать в прежнем размере». 12 июля английское военное министерство сообщило, что эвакуация начнется 15 августа; одновременно начальник итальянской миссии в Закавказье уведомил, что отправка итальянских войск взамен британских не будет иметь места.
Мое письмо было только признанием заслуг местных английских представителей, но отнюдь не доброжелательства к русским интересам английского правительства. Летом и осенью 1919 г. мы увидим наряду с возрастающим русофильством английских военных кругов Екатеринодара и Константинополя, связанных с Черчиллем, в области высшей политики Лондона все то же хитросплетение помощи и противодействия, все то же лавирование между Россией, советской властью и «наследниками России»; все те же «две Англии», «две руки», из которых, по признанию Бьюкенена, одна оказывала помощь белому движению, в то время как другая отрывала западные лимитрофы и закавказские республики, отталкивали тем патриотические элементы России.
Разительным и символическим диссонансом прозвучат слова двух англичан, сказанные осенью на разных концах старого мира – в Тифлисе и Лондоне.
Покидая Закавказье, командующий английскими войсками ген. Кори дал интервью журналистам, в котором, протестуя против обвинения англичан «в разжигании самостийных стремлений», заявил: «Единственной целью, преследуемой англичанами, было всеми силами удержать Грузию и Азербайджан от выступления против Добровольческой армии. Прикрываясь принципами самоопределения, англичане должны были охранять окраины до того момента, пока Россия, встав на ноги, могла бы шутя собрать все то, что от нее отпало».
И словно в насмешку над иллюзиями, покрывая «звонкие дисканты» поборников такого «политического сентиментализма», раздается из Лондона «фундаментальный бас» «реальной политики»: «Адмирал Колчак и ген. Деникин ведут борьбу не только за уничтожение большевиков и восстановление законности и порядка, но и за Единую Россию. Этот лозунг неприемлем для многих народностей… Не мне указывать – соответствует ли лозунг политике Великобритании… Один из наших великих государственных деятелей, лорд Биконсфильд, видел в огромной, великой и могучей России, катящейся подобно глетчеру по направлению к Персии, Афганистану и Индии, самую грозную опасность для Великобританской империи»[442].
Чрезвычайно трудно определить извилистую раздельную линию «двух Англии», двух морально-политических идеологий английской общественности. Но опыт полуторагодового правления убедил меня в том, что кроме ненависти Биконсфильда и беспринципности Ллойд Джорджа в Англии есть течения, есть люди и народные слои, которым не чужды общечеловеческие основы морали даже в политике, которые не относятся к России только как к угрозе английскому владычеству в Азии или к объекту беспощадной колониальной эксплуатации.
С этой Англией у новой России найдется еще общий язык.
Глава XX. Украина: изменение политики с падением Германии. Борьба партий. Вооруженная сила
После опубликования германского мирного предложения (от 22 и 29 сентября) в правящих кругах Украины наступило полное смятение и растерянность. Неизбежность и близость падения Центральных держав требовали спешных мер для закрепления шаткого положения украинской государственности и существующей власти и спешной политической перестраховки. Между тем, эти же передвижения усилили напор на власть извне со стороны всех сил, ей враждебных.
Украинский национальный союз (УНС) предъявил тотчас гетману требование об образовании нового демократического правительства из состава членов союза, сводившееся к фактическому возрождению покойной директории. Этот шаг нашел энергичную поддержку в германской оккупационной власти и, вместе с тем, путем сношений Винниченко с Москвою, был обеспечен некоторыми гарантиями со стороны совета комиссаров. УНС торопился захватить власть в свои руки, чтобы поставить державы Согласия перед совершившимся фактом.
Германцы, готовясь к исходу, старались также создать себе обстановку, благоприятную в ближайшем будущем. Интересы самой Украины, как и России, были для них глубоко чужды и безразличны; они поддерживали и насаждали там те силы, которые могли быть союзны им и противопоставлены державам Согласия или, по крайней мере, могли бы создать последним большие затруднения. Поэтому ген. Гренер[443], продолжая широкое покровительство большевицким организациям на Украине, вместе с тем потребовал от гетмана создания «национального правительства» путем удаления из кабинета «русофильских элементов» и включения членов УНС.
Эти домогательства встретили противодействие: в кабинете, среди некоторых членов его – по мотивам самосохранения, в российской общественности – в силу побуждений национальных, в союзе хлеборобов, «Протофисе» – из-за опасения прихода к власти социалистического правительства.
Под напором всех этих влияний гетман колебался, и переговоры о реконструкции кабинета затягивались. Но в начале октября произошло событие, вызвавшее министерский кризис и ускорившее развязку вопроса.
На Украине шла безвозбранно, на глазах у всех, большевицкая пропаганда и организация восстания. Извне ими руководила «девятка»[444] во главе с Пятаковым и Бубновым, которая обосновалась в Курске, формировала кадры «повстанческой армии», организовывала новые повстанческие отряды на территории Украины и помогала деньгами и оружием уже существующим. В самом Киеве такую же работу вели «мирная делегация» Раковского, советское консульство и военный эксперт делегации, бывший полк. Егоров, а в Одессе организующий центр создал Дыбенко. Большевицкие центры подготовляли повсеместно «революционные комитеты», производили учет сил и вербовку красноармейцев – якобы для Восточного фронта – настолько открыто, что адреса регистрационных бюро зачастую не были секретом, и объявления об их функциях появлялись иногда в печати. Обеспокоенные этим явлением украинские власти пробовали бороться с ним, что удавалось отчасти в Одесском районе, занятом австрийцами, но в зоне германской оккупации встречало решительное противодействие военной германской власти.
Неоднократные представления по этому поводу генералу Тренеру успеха не имели. Украинский совет министров телеграммой от 11 октября обратился к германскому правительству «с настойчивым указанием и предостережением, что при таких условиях (правительство) слагает с себя ответственность за могущее произойти восстание большевиков и что в значительной степени (оно) должно будет обвинить в этом вредящую деятельность германских властей на Украине». Это обращение тоже никакого успеха не имело.
Министр внутренних дел Кистяковский счел себя вынужденным, наконец, произвести арест Егорова. Дыбенко и обыск в помещении делегации консульства. Результатом были ряд новых арестов и изъятие документов, которые установили широкий организационный план большевицкого восстания, тесный контакт делегации Раковского с председателем УНС Винниченко и полную осведомленность, если не прямое соучастие в этом… немецкого штаба. Произошло крупное столкновение: временный заместитель барона Мумма, советник Тиль, в крайне резкой форме потребовал немедленного освобождения арестованных, возвращения захваченной переписки и… удаления с поста министра Кистяковского.
Первым результатом этого эпизода был демонстративный выход в отставку 9 министров, заступившихся за Кистяковского и подавших гетману записку «о необходимости совместной борьбы объединенными силами всех частей бывшей России с большевиками». Вторым – капитуляция гетмана и назначение по соглашению с Тренером и Винниченко нового министерства, в составе которого остались Лизогуб (председатель) и самостийники прежнего кабинета и вошло пять кандидатов УНС из числа соц.-федералистов. В новом составе правительства было обеспечено вполне преобладание резко самостийного и немцефильского течения.
Лизогуб от имени нового правительства делал боевые заявления о том, что отныне он будет «стремиться к более резкому выявлению лица Украинской державы». Но фактически, под гнетом грозной обстановки, деятельность правительства носила следы растерянности и нерешительности. Положение его было действительно необыкновенно трудным.
Мирные переговоры с советской Россией прервались. Раковский уехал в Москву. Еще 10 октября ген. консул Украины Кривцов прислал из Москвы тревожную телеграмму о возможности «радикального изменения политики совнаркома по отношению к Украине», так как с «аннулированием Брестского договора все обязательства совнаркома отпадают, следовательно, отпадает и обязательство заключения (с ней) мирного договора». Совет комиссаров слал грозные ультиматумы по поводу оскорбления своей делегации и грозил репрессиями. В «нейтральной зоне» сосредоточивались две советские дивизии; большевицкие отряды появились в северных уездах Черниговской и Харьковской губерний… И хотя заместитель Раковского – Мануильский уверял, что это «сепаратные акты недисциплинированных частей» и что советы не имеют никакого желания, «по крайней мере в настоящий момент», воевать с Украиной, но положение Северного фронта, лишенного украинских войск и прикрытого только колеблющейся уже «стеной» германских штыков, становилось критическим.
В то же время внутри страны шла тайно и явно деятельная работа украинских социалистов, объединенных в УНС, которые спешно (к 4 ноября) созывали «Национальный украинский конгресс» из состава отделов союза, чтобы путем симуляции воли народной принять окончательно падавшую из рук гетмана власть. Вероятно, в противовес гетман также торопил правительство с созывом «Державного сейма», чтобы закончить выборную кампанию до немецкого исхода… Сколько-нибудь правильные выборы в назначенные сроки были абсолютно невозможны, но к прибытию – казавшемуся несомненным – войск Согласия «голос народа» должен был сказать решительное слово. При этом все три группы (немцы, гетманское правительство и УНС) по разным побуждениям сходились в одном – в стремлении «утвердить самостоятельность Украинской державы».
Международное положение Украины было не менее шатким; перемена внешних декораций требовала поэтому исключительной осторожности. 2 октября украинский посол в Берлине бар. Штейнгель телеграфировал в Киев: положение безнадежно и «повелительно диктует нам необходимость войти в сношение с Согласием, которое одно в состоянии обеспечить державе ее интересы. Имею точные сведения, что Согласие не встретит препятствий для оккупации Украины, если об этом просить».
Сообразно с двойственным притяжением мировых центров, и внешняя политика Украины пошла по расходящимся дорогам. Министр иностранных дел Дорошенко, не терявший еще надежды на Германию, отправился в Берлин с целью добиться содействия ее в вопросе «допущения представителей самостоятельной Украины на мирный конгресс». Туда же отправился товарищ председателя УНС Никовский… Гетман в грамоте своей от 17 октября «стоял на почве независимости Украинской державы и на ее строжайшем дружественном нейтралитете», выражал надежду, что и державы согласия «признают наш государственный суверенитет». Лизогуб позволил себе даже некоторую угрозу по адресу Согласия[445]: «Украинское правительство заявляет, что оно будет всячески бороться со всеми проявлениями извне, которые были бы направлены к нарушению нейтралитета Украины». Но в то же время, с согласия германского командования, готовились уже посольства в Париж (Н. М. Могилянский), в Америку (Коростовец) и в Яссы (ген. Дашкевич-Горбатский)[446].
Насколько сильны были тогда еще (конец октября) в правительстве германофильские течения и иллюзорные надежды на силу германских штыков, можно видеть из письма Н. М. Могилянского к заместителю мин. ин. дел Платову. Могилянский просил «отложить отъезд миссии minimum на две недели» – «к этому времени, быть может, выяснится международная конъюнктура». Могилянский определял и «свой идейный багаж» как «глубокого сторонника немецкой общественности, солидарности и культуры». «Наибольшей угрозой будущему, – писал он, – я считаю «большевизм» Вильсона и зарывающихся в упоении момента французов… Экономический союз с Англией и Францией считаю фантазией… Наше будущее, как Украины, так и России, в добросовестных тесных отношениях с Германией – это определено географией, историей и здравым смыслом»[447].
Быстро развивавшееся наступление союзников на Балканах заставило правительство спешно командировать в Яссы Коростовца, который, «не претендуя на признание Согласием Украины», вступил в деловые сношения с его представителем в лице французского посланника гр. Сент-Олера. В предъявленной последнему вербальной ноте[448] правительство Украины, высказывая опасение, что военные действия могут быть перенесены на ее территорию, просило избавить от этого нового несчастья пострадавшее и без того население; заверяло державы Согласия в своем строгом нейтралитете и готовности «принять с большим удовлетворением всякое предложение сотрудничества в целях сохранения порядка и безопасности в стране». Сент-Олер, не отказываясь от «частных сношений», ответил, что «отношение держав Согласия к Украине будет зависеть от той помощи, которую украинское правительство окажет им (союзникам) в восстановлении порядка в России»…
* * *
Мирное предложение всколыхнуло, конечно, и общественную жизнь на Украине, и в особенности в Киеве. Оно вызвало громадный подъем в политических организациях и во многих произвело полный переворот «ориентации» и тактики.
Прежде всего изменилось отношение к существу гетманской власти тех групп, которые были ее опорой. «Союз хлеборобов» на всех съездах – уездных, губернских, в главном Совете – спешил отречься от украинской самостийности. 1 октября гетмана посетила делегация Союза[449], которая внушала гетману идеи о временном характере самостийности Украины, о необходимости социалистического правительства и – главное – об единстве России. Гетман бранил немцев, со всем соглашался, призывал к терпению. На 1 ноября н. ст. в Киеве был назначен всеукраинский съезд хлеборобов, но правительство – знамение времени – препятствовало созыву той организации, которая была восприемницей рожденного немцами гетманства… Только после заверения руководителей съезда, что вопрос об единой России подыматься не будет, заседания его были разрешены. В отношении социальном съезд раскололся, по существу, распался, на почве непримиримого отношения помещиков к вопросу об отчуждении земель, невзирая на то, что крестьянство ставило требования, более чем умеренные: сохранение частной собственности и выкуп части помещичьей земли. В отношении политическом, хотя и косвенным путем, съезд проявил полное единодушие: он горячо приветствовал гетмана, посетившего заседание, и в тог же день еще более бурными овациями встретил речь Пуришкевича об… единой России.
Киевский «Протофис», с его «интернационализмом», германофильством и неизменной поддержкой гетманской политики, потеряв почву под ногами, переживал период растерянности. Он присоединился официально к позиции Союза хлеборобов, искал сближения с Национальным центром; дружил с гетманом и будировал в отношении социалистического правительства; поддерживал близкие отношения с немецким штабом, в надежде, что не все еще потеряно, и делал уже неудачные попытки военных формирований для защиты Киева и Украины.
Так или иначе, гетман мог убедиться в лояльном отношении к нему лично Союза хлеборобов, «Протофиса», но ни на какую поддержку с их стороны ни самостийности, ни своему правительству рассчитывать более не мог. Одно еще сближало их – это стремление сохранить германскую оккупацию. В середине октября, после переговоров с германским командованием, веденных профессором Пиленко, от имени Союза и «Протофиса» послана была телеграмма Вильсону с просьбой оставить германские войска на Украине. Это обстоятельство вызвало большое возмущение в широких кругах российской общественности и еще более уронило в их глазах престиж обеих организаций. Точно так же выбита была временно из колеи деятельность «Монархического блока» и союза «Наша Родина», связанных с организацией «Южной», «Астраханской» и «Северной» армий: с переменой германского правительства и новым курсом в украинском вопросе («национализация и демократизация») немцы прекратили всякий денежный отпуск и поддержку этих организаций. Первые две армии, за полной невозможностью дальнейшего самостоятельного существования, перешли на иждивение Дона. Монархический блок сохранял близкое общение с гетманом и находился в контакте с Красновым. Ввиду полной неудачи, постигшей правых в Киеве, Замысловский был отправлен в Ростов, где к началу ноября он собирал монархический съезд, стараясь привлечь на него «представителей Добровольческой и Кубанской армий». Там должен был образоваться «единый фронт», имеющий лозунгом «великую, единую и неделимую Россию, на основе законопреемственной монархии». Что касается ориентации, «то этот вопрос, – по словам Замысловского[450], – при революции, вспыхнувшей в Германии, должно признать утратившим свою остроту, ибо ориентироваться на государство, находящееся в состоянии революции, явно невозможно».
* * *
Киев в это время, осенью 1918 г., продолжал вбирать в себя всю соль российской буржуазии и интеллигенции. Сюда постепенно перекочевывали из Москвы и отдельные деятели, и целые организации. Здесь происходили сложение и дифференциация сил, падение одних и нарождение других группировок, которые затем, перенеся свою деятельность на Юг России, играли известную роль в его судьбах.
«Совещание членов законодательных палат», не разрывая окончательно с германскими кругами, с которыми вел переговоры в Берлине посол Совещания бар. Розен на тему об «естественном союзе монархической Германии и монархической России против гегемонии Англии», решило командировать своего представителя и к союзникам с «выражением восторга по поводу близкого окончания войны… беспримерными подвигами героических народов», и за помощью, которая должна была выразиться: «1. в быстрой реальной поддержке Добровольческой армии, 2. в занятии обеих столиц хорошо дисциплинированными и дружественно к России настроенными войсками, 3. в сохранении в оккупированных Германией областях ее гарнизонов до замены таковых союзническими или имеющими быть образованными русскими». Из письма видного участника Совещания бар. В. Меллер-Закомельского я узнал неожиданно, что «Совещание никогда не видело путей спасения России вне тесной связи с союзниками»[451].
Совещание значительно увеличилось численно поступлением новых членов – беженцев из советской России – и сильно клонилось вправо. Среди крайних элементов нарастало неудовольствие по поводу присутствия в составе «бюро» совещания Милюкова, и шла сильная агитация за его устранение, не увенчавшаяся, однако, успехом: 3 октября в собрании членов законодательных палат состоялось переизбранное «бюро», состав которого остался прежним, но пополнен тремя членами из числа лидеров правых[452].
По мысли Милюкова, война была окончена, вопрос ориентации отпал и не было поэтому более препятствий к объединению широкого фронта русской общественности. На том же заседании 3 октября было одобрено составленное Милюковым обращение к русскому обществу, в котором указывалось на необходимость «скорейшего создания авторитетного общероссийского представительства, которое могло бы встать на место советской власти». Главнейшими основами сведения воедино разрозненных усилий возрождения России ставилось: 1. «признание за Россией того территориального состава и той независимости в международных отношениях, которые Россия имела до временной потери своей государственности»; 2. взаимное общение военных организаций и местных правительств; «отказ от преследования отдельными частями каких-либо частных или местных интересов» и, вместе с тем, «отказ вновь образуемого целого от вмешательства в местные интересы и в деятельность местной власти, неоправдываемого интересами объединения». Нормальным государственным строем для будущего обращение считало – конституционно-монархический.
Этими теоретическими предпосылками, далекими от вожделений не только южных и западных лимитрофов, но и казачьих областей, собрание заранее ограничивало возможность широкого в территориальном смысле объединения.
Совет законодательных палат приступил к созданию «широкого общественного фронта», который на деле оказался весьма узким, включив по преимуществу правое крыло русской общественности, сановную бюрократию, крупных аграриев и крупную буржуазию – элементы, глубоко консервативные по своему прошлому, традициям и идеологии[453]. Для придания реального значения и силы новому органу объединения Совет решил сделать попытку подчинить своему политическому руководству Добровольческую армию. С этой целью в Екатеринодар в середине октября были командированы гг. Вл. Гурко и Шебеко. В записке, врученной ими от лица Совета, мысль о значении объединенного органа (власти?) была выражена следующим образом:
«Этот политический орган, состоящий в тесном общении с Добровольческой армией и притом могущий всесторонне, а потому правильно осветить предложения и настроения руководящих кругов населения страны и обладающий тем самым должным авторитетом, явился бы не только мощным сотрудником Добровольческой армии в деле воссоздания единой государственной власти в России, но представлял бы и для других культурных государств тот голос страны, с которым бы они считались и глашатаев которого неминуемо бы допустили на мирный конгресс».
Я был в то время на фронте, руководя Ставропольской операцией, и послы Совета имели беседу с ген. Лукомским, который в своем докладе настоятельно советовал мне «опереться» на создаваемое объединение, высказывая опасение, что иначе «мы можем остаться в одиночестве». Не разделяя этих опасений, я ответил ему:
«Добровольческая армия отнюдь не может стать орудием политической партии – особливо с шаткой ориентацией. Строить «Южное объединение» и бросить его на полпути, чтобы начать новую комбинацию, нельзя. То, что предлагают они, было предположено Родзянко еще в Мечетке, строилось ими в Киеве, но неудачно. Противополагать сейчас эту комбинацию всем другим – нецелесообразно. Вооруженная сила никогда не «останется в одиночестве». Ее всегда пожелают!.. Во всяком случае, до решения вопроса об «Южном объединении» нельзя разрешать вопрос о новой комбинации, которая может только затруднить соглашения.
Если же эта комбинация возникнет сама собой без нашего участия; если она действительно будет иметь нравственный авторитет в стране и поддержит идеи и цели, преследуемые Добровольческой армией, то тем лучше для всех нас и паче всего для России».
В то же время государственные и общественные деятели, собравшиеся к тому времени в Екатеринодаре[454], откликнулись на предложение образования «Государственного объединения» особой запиской, в которой обусловили целесообразность его тремя положениями: 1. избрать местом пребывания организации пункт, находящийся вне воздействия германских сил; 2. признать Добровольческую армию «Всероссийским государственным центром»; 3. повести борьбу с самостийностью Украины. В вопросе о «расширении фронта» организации мнения разделились: меньшинство[455] высказало пожелание привлечь в него демократические круги и те социалистические, которые группируются вокруг «Союза возрождения России» и «Земско-городского объединения», тогда как остальные участники совещания считали привлечение этих групп «неосуществимым и нецелесообразным, ввиду того глубокого различия во взглядах между ними и теми слоями населения, из представителей коих образуется предположенный совет»; возможно – говорили они – привлечение лишь тех демократических кругов, которые «отстаивают современный социальный строй всех культурных стран и отвергают принцип борьбы классов… Соглашение с организациями социалистических партий, быть может, и возможно даже желательно, но исключительно лишь в деле общей борьбы с большевизмом[456].
К концу октября образовался окончательно в Киеве «Совет государственного объединения», во главе которого стал бар. В. Меллер-Закомельский; товарищами его были намечены А. В. Кривошеий, П. Н. Милюков и С. Н. Третьяков. Сообщая мне 31 октября о создании и задачах новой организации, председатель ее писал:
«Приступая ныне к своей работе, Совет государственного объединения России поручил мне сообщить В. Прев-ству, что он предоставляет все силы, знания и опыт объединившихся в нем лиц в распоряжение Добровольческой армии и будет всемерно счастлив, если он, хоть в небольшой доле, сможет облегчить Армии ее великий ратный подвиг и ее славное служение нашему общему делу воссоздания великой, единой и неделимой России».
Я ответил благодарностью и пожеланием успеха и сообщил, что «не премину использовать живые силы и государственный опыт» членов Совета, и вместе с тем высказал пожелание, чтобы «круг политических и общественных групп, обществ и учреждений, примкнувших к Совету, был расширен, дабы Добровольческая армия могла опираться на возможно широкий, беспартийный блок всех государственно-мыслящих слоев русской общественности»[457].
В отношении гетмана Совет Г. О. сохранил полную лояльность, находился с ним в частом общении и старался также влиять на направление его политики, но безуспешно.
* * *
Наряду с «Совещ. чл. закон, палат» и «Гос. об.», являвшимися прямыми наследниками покойного «Правого центра», проявлял оживленную деятельность «Киевский национальный центр», по идеологии и задачам представлявший как бы областной отдел центра Московского, или «Всероссийского». К концу октября в Киев из Москвы прибыла группа московской организации – M. M. Федоров, проф. Новгородцев, Волков, Салазкин и друг., и, таким образом, установилось непосредственное общение между обоими центрами.
«Национальный Центр» определил свое лицо как «общественно-политической организации, в состав которой входят представители всех несоциалистических политических партий, кроме крайних правых, всех общественных групп и проч., при условии признания ими необходимости восстановления единой и неделимой России, борьбы с большевизмом, антинемецкой ориентации и верности союзникам»[458]. Сохраняя московские традиции, киевский Национальный Центр находился в «полном контакте» с Союзом возрождения, перенесшим также центр своей деятельности в Киев, и признал «неприемлемым общение с Совещанием зак. палат, так как эта организация скомпрометировала себя соглашениями с немцами».
Таким образом, официально грань между двумя основными буржуазными группировками проходила как будто исключительно по «водоразделу» между Шпре и Сеной, тогда как фактически уже и в то время ясно определилось их крупное политическое расхождение, запутываемое еще больше такими видимыми несообразностями, как вхождение в «Совещание» Милюкова и содружество с «Центром» Шульгина. Только в екатеринодарский период, после некоторой дифференциации, эти два общественных течения проявят окончательно настоящее свое содержание, одно – консервативное, другое либеральное.
Киевский Н. Ц. ставил ближайшими своими задачами: 1) борьбу с украинской самостийностью, 2) поддержку Добровольческой армии как организующего противобольшевицкого российского центра и 3) осведомление союзников «об истинном положении дел на Украине». В своем обращении «к державам Согласия и руководителям Добровольческой армии»[459], центр развивал эти идеи: Украинского государства никогда не было: «Украинцы» – – не нация, а политическая партия, взращенная Австро-Германией; огромное большинство населения Малороссии считает себя русским пародом… и свято неизменно хранит верность союзникам растерзанной России; и Центральная рада, и гетманское правительство совершенно оторваны от страны». В заключение Центр умолял союзников и Добровольческую армию «спасти Малороссию от ига и тирании германской оккупации», заняв ее «одновременно с уходом немецких и австрийских войск Добровольческой армией и союзническими войсками… для спасения края от украинско-большевицкой анархии и резни».
Исходя из тех же взглядов, Н. Ц. вел борьбу против созыва гетманом «Державного сейма», считая это «покушением на верховные права русского народа», так как только «единая Россия в целом может решить судьбу и определить объем прав и обязанностей всех частей ее». Одновременно образована была смешанная комиссия из состава Московского («Всероссийского») и Киевского центров, с участием представителей от Сов. гос. об. под председательством проф. Новгородцева, для составления проекта областной автономии.
К гетману и украинскому правительству К. Н. Ц. относился с величайшей враждебностью. Когда в начале октября в Киеве распространились ложные слухи, что я веду переговоры о соглашении с Украиной, этот вопрос был поставлен на совещании Центра, которое единогласно постановило: «С изменником Скоропадс-ким и с возглавляемой им Украиной никакие переговоры и соглашения недопустимы; слухи и известия о каких-то переговорах Добровольческой армии со Скоропадией повергают деятелей Н. Ц. в уныние и скорбь, ибо, если Добровольческая армия признает Скоропадского и Украину, то это поведет к общему и окончательному признанию их и утверждению. Н. Ц. в Киеве решил сосредоточить свои усилия исключительно на борьбе с украинской самостийностью»[460].
Такое же отношение было, конечно, к Укр. нац. союзу. Назревающая опасность переворота, подготовляемого этим союзом во главе с Винниченко и Петлюрой, была очевидна. Н. Ц. в ряде своих заседаний, обсуждая меры противодействия, признал откровенно свое бессилие и видел выход только в прибытии на Украину войск Добровольческой армии. В этом смысле я получал оттуда постоянные представления. Так же освещали вопрос и сотрудники «Азбуки», и сам Шульгин, который главную причину беспомощности Центра видел в отсутствии в Киеве лица, «способного властно и авторитетно руководить военными организациями». «Может быть, – говорил он, – вооруженная сила и нашлась бы, если бы нашелся энергичный генерал, снабженный от Добровольческой армии полной властью действовать по своему усмотрению, в зависимости от обстоятельств, и приказывать именем Добровольческой армии, обаяние которой сейчас очень велико». Шульгин считал негласного представителя нашего в Киеве ген. Ломоновского[461] неподходящим для этой роли и настаивал на назначении нового лица, которое через Национальный Центр «в кратчайший срок подчинит себе все, тяготеющее к Добровольческой армии» («Особый корпус», «дружины» и т. п.). То же рекомендовалось в отношении Крыма[462].
Подобных обращений ко мне, и помимо этих организаций, было немало – со стороны общественных деятелей и просто обывателей, в глазах которых Украина Винниченки отличалась мало от Украины советской. Меня настойчиво втягивали в украинский водоворот, тогда как я считал, что задача эта для Добровольческой армии совершенно непосильна. В том необыкновенно сложном военно-политическом положении, в котором находилась Украина, одного престижа Добровольческой Армии было, на мой взгляд, совершенно недостаточно. Необходима была крупная вооруженная сила, которая могла бы поддержать или свергнуть гетманскую власть, разделаться с движением, поднятым УНС, и, главное, прикрыть северные рубежи Украины от готовящегося вторжения «Повстанческой» красной армии Антонова-Овсеенко. Это мог бы сделать народный подъем, но его не было. Это могли выполнить легко союзники, но они не приходили. Что касается Добровольческой армии, то к концу октября все решительно ее силы – 30–40 тыс. – были собраны на полях Ставрополя, где в жестоких боях решались судьбы кампании и самой Армии[463]. Посылать на Украину было некого.
* * *
Наконец, в Киеве проявляла оживленную деятельность третья крупная организация – «Союз возрождения России», стоявший как-то в стороне от других. Союз находился в «контакте» с Н. Ц. и в плохом мире с партиями с.-р. и с-.д.-м., не прощавшими ему сотрудничества с буржуазными организациями; поддерживал Добровольческую Армию «постольку – поскольку» и резко враждебно относился к украинской самостийности, к гетману и к УНС. Но методы действий Союза в отношении последних институций были намечены более решительные. Осведомители Н. Ц. и «Азбуки», невзирая на «контакт» с Союз, возрожд., не знали ничего о конспиративной деятельности его и только однажды в очередном докладе промелькнули сведения, что «в случае ухода немцев и попытки украинцев усилиться (?), С. В. намерен вклиниться и захватить власть по соглашению с Н. Ц.».
Это намерение звучало чрезвычайно странно, как в силу «бескровно-мирного» настроения руководителей СВР, так и ввиду отсутствия тех активных сил, на которые мог бы опереться Союз. Только впоследствии мы узнали от одного из руководителей[464], что «группа радикального офицерства в Киеве, опираясь на политическую поддержку левых организаций, решила устроить переворот. Целью его было свержение Скоропадского и передача власти кругам, группирующимся около Союза возр., которые должны были координировать свою деятельность с Уфимской директорией».
Тогдашний Киев и Уфимская директория! Нужно было обладать большой долей фантазии, чтобы строить такие комбинации. Но СВР относился серьезно к своей затее – настолько, что был даже намечен состав нового правительства во главе с Одинцом.
Станкевич, Одинец и другие лица вели какую-то тайную организацию офицерских дружин, вернее, материально поддерживали возникавшие самостоятельно, на что тратились суммы из французской субсидии. «Во мраке подполья и заговора, – говорит Станкевич, – политические контуры настолько терялись, что иногда после долгого разговора с каким-либо делегатом я вдруг убеждался, что передо мной стоит не мой единомышленник, а левый с.-р. или даже большевик»… Эти связующие нити Станкевич мог бы легко обнаружить и в другом направлении – ведущие к дружине ген. Кирпичова[465], полк. Винберга и даже к союзу «Наша Родина». Ибо «радикального офицерства» в природе не оказалось: были лишь отдельные офицеры – радикалы, социалисты, даже большевики, были также люди, которым безразлично, от кого получать деньги. В конце концов, вся военная мощь Союза покоилась в большинстве случаев на тех самых офицерских дружинах, которых гетманское правительство предназначало для защиты Украины от большевиков, Нац. центр – для противодействия самостийной Украине Винниченки – Петлюры, и Союз возр. – для свержения гетманской власти.
Когда настало время действовать, у Союза воз. не оказалось никаких сил.
* * *
19 сентября, обсудив внешнее и внутреннее положение страны, украинский совет министров признал, что «внезапно возникшие международные события угрожают независимости, самостоятельности и самому существованию Украинской державы». И потому постановил «немедленно приступить к формированию украинской национальной гвардии».
Формирование вооруженной силы, на что получено было гетманом разрешение германского правительства еще в бытность его в Берлине, представляло, однако, непреодолимые трудности. Всеобщий набор, на котором настаивал воен. министр Рагоза, не обещал никакого успеха и, по мнению гетманских кругов, мог дать ярко большевицкий состав. Формирование классовой армии – «вольного казачества» из добровольцев-хлеборобов имело уже плачевный опыт в виде почти разбежавшейся сердюцкой дивизии. Составленный в Генеральном штабе проект формирования национальной гвардии при сечевой дивизии, с ее инструкторами, готовил явно вооруженную силу не для гетмана, а для УНЦ и Петлюры… Вообще все формирования на национальном принципе встречали резкий, бурный протест в российском офицерстве, которое отнюдь не желало драться ни за гетмана, ни за самостийную Украину.
Ввиду таких настроений, в начале октября гетман отдал приказ о формировании «Особого корпуса», подчиненного непосредственно ему, минуя правительство. Корпус этот предназначался «для борьбы с анархией в пограничной полосе»; во внутренней своей жизни он должен был руководствоваться «положением бывшей российской армии, действовавшим с 1 марта 1917 г.»; чинам корпуса присвоена была «форма бывшей российской армии». Одновременно объявлена была регистрация всех офицеров и предупреждение о предстоящей мобилизации офицеров и сверхсрочных унтер-офицеров (до 35-летнего возраста) по их желанию в украинские войска или в «Русский корпус».
Первая комбинация – в глазах офицерства – приводила к утверждению украинской самостийности внутри страны; вторая – к немедленному выходу на фронт для защиты ее же от внешних посягательств. И офицерство не пошло никуда. Идейное – по убеждению, беспринципное – по шкурничеству. В той и в другой среде начался сильный отлив из Украины – одних в районы русских Добровольческих армий, других – в те края, где еще не было принудительной мобилизации, где можно было жить покойно, служить в ресторанах, зарабатывать на «лото» и спекулировать.
Ввиду полного провала правительственной организации и неудавшейся мобилизации, пришлось прибегнуть к частной. По инициативе «Протофиса», «хлеборобов» и Киевской городской думы, при деятельном участии проф. Пиленко, гр. Гейдена и Дьякова, министр внут. дел принял отвергнутое им ранее предложение – вступить в соглашение с существовавшими в Киеве офицерскими обществами самопомощи и дать им средства и полномочия для формирования «дружин»; эти части предназначались прежде всего для охраны спокойствия и порядка в столице. Так возникли дружины полк. Святополк-Мирского, ген. Кирпичова, Рубанова, Голембиовского и др. – частью чисто офицерские, частью смешанного типа, с добровольцами – преимущественно из учащейся молодежи, которая вообще откликнулась на призыв по-разному: одни пошли в офицерские дружины, другие искали «более демократических формирований», третьи – и их было немало – заявили, что предпочитают советскую власть украинскому самостийничеству, и выжидали развития событий.
Численность офицерских дружин была незначительна, вряд ли превосходила 3–4 тыс.; организация далеко не совершенна: разбухшие штабы, неизбежные контрразведки и «отряды особого назначения» доминировали над «штыками». Расплодились также многочисленные «вербовочные бюро» с громадными штатами, обширными реквизированными помещениями и автомобилями. Каждое из них формировало не менее, чем «армию», и имело в наличности 100–150 бойцов.
Кроме этих организаций в Киеве существовало еще офицерское общество «Свив»[466],стоявшее всецело на платформе Добровольческой армии и взявшее на себя на условиях вольного найма охрану арсенала, артиллерийских и интендантских складов и полигонов.
Министерства военное и внутренних дел конкурировали друг с другом, организуя вооруженные силы, и оба не были твердо уверены, в какую сторону повернуты будут их штыки.
Глава XXI. Украина: последние дни гетманства
1 ноября я был поражен представленной мне лентой телеграфного разговора: ген. Ломновский из Киева передавал начальнику моего штаба ген. Романовскому:
«В местных газетах объявлен ваш приказ о подчинении всех войск на территории России генералу Деникину и мобилизации всех офицеров[467]. Сейчас я был приглашен к гетману, который просил передать: сегодня командиры дружин и местных полков являлись ему и доложили о своем, переходе в подчинение вам. Ввиду сложного и тревожного положения в Киеве, осуществление этого может вызвать неурядицы. Необходимо выждать несколько дней до прихода сюда войск Согласия. Теперь здесь идут формирования дружин, и отлив офицеров может повредить делу. Мы находимся в области слухов, мало ориентированы».
Ген. Романовский: «Приказа такого главнокомандующий не издавал. Был приказ о мобилизации офицеров только на территории, занятой Добровольческой армией. Само собой разумеется, что войска на этой территории подчиняются главнокомандующему. Таким образом, приказ, появившийся в киевских газетах, результат какого-то недоразумения».
Я до сих пор не знаю автора этого приказа.
Через два дня получена была телеграмма украинского мин. ин. дел Афанасьева по тому же поводу, в которой он просил «разъяснить подлинный смысл («моего») приказа с сохранением авторитета власти гетмана… во избежание разрушения дисциплины в Украинской армии».
Положение мое было весьма затруднительным. Нарождающаяся киевская вооруженная сила решительно отказывалась идти под знаменем гетмана самостийной Украины. Для поддержания патриотического подъема офицерства и сохранения края от вторжения большевиков до ожидаемого прихода союзников я решил дать киевским формированиям флаг Добровольческой армии. Поэтому я ответил Афанасьеву: «Приказа в редакции, появившейся в киевских газетах, я не отдавал. Генералу Ломновскому – представителю Добровольческой армии в Киеве – приказано объединить управление всеми русскими добровольческими отрядами Украины, причем ему вменяется в обязанность всемерно согласовать свои действия с интересами края, направляя все силы к борьбе с большевиками и не вмешиваясь во внутренние дела края»[468].
«Приказ главнокомандующего, – сообщала «Азбука», – произвел потрясающее впечатление. Все моментально, как по щучьему велению, словно картина в кинематографе, перевернулось. Тысячи людей сразу осмелели. С других тысяч людей сразу отлетела украинская одурь, и они вновь почувствовали себя русскими людьми… За всем этим – за приказом вырисовывалась вся мощь поддержки союзников и весь колоссальный престиж их… Все помыслы огромного большинства Малороссии устремились навстречу союзникам и Добровольческой армии».
Если в нарисованной картине краски и сгущены, то нельзя – отрицать, что весь этот эпизод дал некоторую опору и уверенность русским национальным элементам в Киеве и вместе с тем послужил одною из причин дальнейших серьезных политических событий.
* * *
29 октября Германия приняла тяжкие условия перемирия, продиктованные победителями, признав свое полное поражение. 26 октября французский посланник в Яссах гр. Сент-Олер высказал Коростовцу пожелание, чтобы гетман «чем-нибудь проявил перемену германофильской политики и согласие (свое) поддержать работу союзников по восстановлению порядка в России».
1 ноября киевские военные начальники заявили гетману, что войска их выходят из его подчинения, являясь поборниками общерусских интересов.
Эти события произвели окончательный переворот в гетманской политике, результатом которого была «грамота ко всем украинским гражданам и казакам», опубликованная 2 ноября. В ней говорилось:
«…После пережитых Россией великих потрясений условия ее будущего бытия должны несомненно измениться. На иных началах, на началах федеративных должно быть воссоздано прежнее величие и сила Всероссийской державы, и в этой федерации Украине надлежит занять одно из первых мест.
…На этих началах, которые, я верю, разделяют и союзники России – державы Согласия, которым и не могут не сочувствовать все без исключения остальные народы не только Европы, но и всего мира, должна быть построена будущая политика нашей Украины. Ей первой надлежит выступить в деле создания всероссийской федерации, конечной целью которой явится как восстановление Великой России, так и обеспечение экономического и культурного преуспевания всего украинского народа на прочных основах национально-государственной самобытности… Вновь сформированному мною кабинету[469] я поручаю ближайшее выполнение этой великой, исторической задачи».
Об этих событиях гетман беседовал на другой день после опубликования «грамоты» с В. Маркозовым, явившимся за боевыми припасами для Добровольческой армии.
«В грамоте я ясно высказал то, что давно хотел (высказать), но не мог раньше, – говорил гетман. – Вы знаете, что они – «щирые» – хотели меня на днях арестовать, но я им сказал, что этого не стоит делать, так как беспорядки от этого еще больше усилятся; они и оставили эту мысль. Вообще теперь очень тяжело. Я, собственно, не хотел еще перемены кабинета – хотел дождаться ответа от вел. кн. Николая Николаевича, но ответ задержался. А обстоятельства требовали на что-нибудь сейчас решиться. Я ему писал[470], что прошу и предлагаю принять верховное командование всеми войсками бывшей России и управление. И в его лице объединить всех нас – генералов, а то мы только ссоримся. Когда он сделается не только Верховным главнокомандующим, но и Правителем, тогда я с радостью немедленно передал бы ему всю власть. К получению ответа хотелось приурочить и новый кабинет»[471].
В том же разговоре гетман с горечью коснулся вопроса по поводу нежелания моего «с ним сообщаться»… Я решительно не мог, не могу и теперь стать на ту упрощенную точку зрения, которая разительную противоположность идеологии, стимулов и лозунгов движения претворяет в «ссоры генералов». Гетман не желал понять, что между идеологией «Единой, Великой и Неделимой России» и той, которую до последних дней исповедовал гласно он – гетман: «во всех взаимоотношениях, как с нашими ближайшими соседями, так и со всеми другими мировыми государствами, мы стоим и будем стоять непоколебимо на почве самостоятельной и независимой Украинской державы»[472], что между этими идеологиями лежит непроходимая пропасть, через которую не перекинуть мостика слухами, будто это – лишь политическая игра, обман, средство, чтобы сквозь узкую щель украинского шовинизма пролезть легче в широкие ворота свободной российской государственности.
До конца сентября гетман не делал никаких шагов для сближения. Только с изменением положения Центральных держав, 9 и 11 октября н. ст. гетман при посредстве своего адъютанта гр. Олсуфьева устроил встречу с представителем киевского Добровольческого центра, полк. Неймироком[473], причем уверял последнего в своей русской ориентации, в необходимости личины самостийности как «единственной оппозиции большевизму» и в расположении своем к Добр, армии. Неймирок не получил никаких указаний от моего штаба и вел беседу от себя лично. В начале октября в Екатеринодар приехал Шидловский[474] и от имени гетмана предложил помощь оружием и снаряжением на условиях отказа моего от союзнической ориентации и признания «нейтралитета» в отношении Германии… Наконец, 21 октября, после свидания своего с гетманом на станц. Скороходово, атаман Краснов писал ген. Лукомскому, что гетман «предполагает на этих днях обратиться к Добр, армии, Дону и Кубани, если возможно – к Тереку, Грузии и Крыму… выслать депутатов на общий съезд. Цель… выработка общего плана борьбы с большевиками и большевизмом в России».
Все эти попытки гетмана самостоятельной и враждебной в отношении России Украины я считал бесцельными. Но когда мин. ин. дел нового украинского правительства Афанасьев в телеграмме ко мне (3 ноября) заявил, что «украинские силы в согласии с Доном и параллельно с Добровольческой армией направляются на борьбу с большевиками и на восстановление единства России», я ответил тотчас же: «Раз Украина стала на путь русской государственности, представляется необходимым войти в соглашение по вопросам единого фронта, единого командования – для борьбы с большевиками и единого российского представительства на международном конгрессе»[475].
В середине ноября от донского правительства получена была вторая телеграмма Афанасьева, повторяющая предложение гетмана о съезде в Киеве, причем целью съезда ставилось: «установление общего плана борьбы с большевизмом.., разрешение вопросов, касающихся… отношений к нейтральным странам, к державам Согласия, к Германии и бывшим ее союзникам, и установление прочной государственной власти в России». Ген. Драгомиров послал ответ о нашем согласии участвовать в съезде, но с указанием 1. что ввиду военной обстановки (к Киеву подступал Петлюра) как место съезда предпочтительнее Екатеринодар или Симферополь; 2. что Д. А. не имеет никаких оснований пересматривать свои отношения к союзникам; и 3. что участие грузинского правительства, враждебного к России и к Добр, армии, недопустимо.
Эта телеграмма в Киеве не была, еще, очевидно, получена, когда Афанасьев разослал третью – с указанием срока съезда на 5 декабря. На этом наши сношения пресеклись, так как одновременно радио принесло известие, что гетман отрекся от власти и белый Киев агонизирует.
* * *
Последние акты гетмана, знаменуя полный разрыв с УНС[476], имели весьма важные последствия. 2 ноября в Киеве по городу было расклеено воззвание, призывавшее «громадян до зброï и до порядку» и объявлявшее о свержении гетмана, который «останнiм зрадницкiм актом скасував самостiйность Украинскоï Держави». От имени «организованноï украиньскоï демократиï, вид всього активного народнього громадянства, яке обрало нас» – было оповещено о переходе власти в руки «Дiректорiï Самостiйноï Украиньскоï Народноï Республiкi» с «головою» Винниченко и членами Петлюрой, Швецом и Андреевским.
В воззвании предлагалось гетману и его министрам уйти «негайно, без пролитiя крови», а офицерским организациям сдать оружие и выехать, «куды хто охоча». В воззвании выражена была также уверенность, что «солдати германьского визволенного народу поставляться до боротьбы пригнiченного украиньского народу».
Директория переехала тайно из Киева в Белую Церковь, где находились галицийские сечевые части, собранные там для борьбы с Польшей. Петлюра, посаженный в свое время в тюрьму Кистяковским и выпущенный незадолго перед тем «национальным» правительством, принял звание «головного отамана»; на левобережной Украине «главнокомандующим» войсками директории стал Болбочан. В ночь на 5 ноября полк Болбочана арестовал в Харькове штаб Украинского корпуса, обезоружил офицерские дружины и при полном попустительстве немецких войск объявил там власть директории.
Силы восставших были невелики: два полка сечевых стрельцов, остатки дивизии серожупанников (б. наших пленных) и гайдамацких кошей, некоторые изменившие части гетманских войск (б. дивиз. Натиева), формируемые наскоро крестьянские банды – всего вначале не более четырех-пяти тысяч. Не ожидая накопления и сосредоточения своих сил, с имеющимся под рукой отрядами, Болбочан из Харькова двинулся на Полтаву, которую и занял 14-го, а Петлюра из Белой Церкви через Фастов – к стольному Киеву.
Навстречу ему двинуты были из Киева несколько рот дружины Святополк-Мирского и сердюцкой дивизии, которые между станц. Мотовиловкой и Васильков были разбиты и отошли к Жулянам, в 10 верстах от Киева. Здесь, получив подкрепление из состава других дружин, они заняли оборонительную позицию. Петлюровские войска, продвинувшись к Боярке, также приостановились, очевидно, Ввиду недоразумений с германскими войсками: захват Фастовского узла прекратил совершенно эвакуацию немецких эшелонов, и в тылу у петлюровцев на этой почве начались вооруженные столкновения с немцами. Противники стояли друг против друга – оба с ничтожными силами и оба неуверенные в своем успехе.
Германское правительство явно покровительствовало директории, хотя и объявило официально о своем нейтралитете. «Мы сохраняем нейтральное положение, – говорил приказ нем. главнокомандующего от 3 ноября, – по отношению к внутренним политическим событиям на Украине; однако спокойствие и порядок в стране неизбежно должны были нами поддерживаемы силою оружия, дабы не было препятствия к вывозу наших войск. Надлежит особенно твердо сохранять за собой обладание путями сообщения». В этом духе киевская гл. квартира старалась повлиять на солдатские советы, чтобы побудить войска к оказанию сопротивления. 14 ноября ей удалось двинуть против петлюровцев из состава киевского гарнизона 3 батальона с артиллерией к Фастову.
Немцы легко опрокинули передовые части петлюровцев у С. Белгородки, но вслед за сим на другой день представители штаба и солдатского совета заключили с ними перемирие. По договору, подписанному 19 ноября, петлюровцы предоставляли беспрепятственно пользование жел. дорогами немцам и кроме того обязались: «Войска Директории, впредь до прибытия представителей Антанты на Украину и впредь до заявления об отказе от этого соглашения, прекращают всякие оперативные действия в местностях, еще не занятых ими ко времени вступления в силу настоящего – договора, главным образом приостанавливают дальнейшее продвижение к Киеву».
Это постановление было обосновано отчасти и на решительных требованиях Энно, вновь назначенного в Киев французского консула «с особыми полномочиями». Энно из Ясс прибыл в Одессу и оттуда, начиная с 7 ноября, обращался к Киевскому германскому штабу и гетманскому правительству с рядом телеграмм от имени Согласия[477].
В них сообщалось во всеобщее сведение: 1. «Державы Согласия признают существующее сейчас украинское правительство, возглавляемое гетманом»[478]; 2. «Решение всех спорных политических и социальных вопросов, в особенности вопрос о самоопределении национальностей, будет детально рассмотрено после того, как военные силы держав Согласия и их политические представители прибудут в Киев»; 3. «Всякое покушение против существующей власти будет строго подавлено»; 4. «Немцы обязуются поддерживать и восстановить порядок в Киеве и во всем крае – до прихода союзников»; 5. «Державы Согласия ни в каком случае не допустят вступления войск Петлюры в Киев».
Между тем во всей Украине развивалось с необыкновенной быстротой движение – революционное в отношении гетманской власти, которую не хотел защищать никто, и бесформенное в своих политических контурах: УНС шел с молчаливого согласия Москвы и при дружественном нейтралитете германского командования за самостийность Украины – против гетмана; крестьянство подымалось за обещанную директорией «землю» – против помещиков и немцев; сельская беднота («незаможнi») и городской пролетариат – против «буржуев» вообще, за советскую власть; деревня шла на город с целью поживы… Наряду с остатками гетманского «уряду» и органами, насаждавшимися петлюровскими «отаманами», возникали, поэтому, повсеместно революционные комитеты и совдепы, а местами и новые формы самодовлеющих, ни от кого не зависимых анархических образований.
Винниченко объявлял декреты совершенно большевицкого характера о социализации, национализации, изъятии буржуйских ценностей; эти призывы находили отзывчивую почву в крае, еще не прошедшем всего круга большевицкого опыта, и претворялись в жизнь погромами, пожарами, разбоями, убийствами. По-прежнему, как и в начале года, в движении, поднятом на Украине, решительно не было национального момента. Директория разжигала социальный пожар в целях своего утверждения, бессильная потом локализировать его в целях своего существования. Полубольшевизм директории не удовлетворял никого и естественно катился по инерции в сторону большевизма советов. Люди, наблюдавшие жизнь Украины того времени, все наши осведомители – в один голос, задолго до переворота, предвещали правлению директории участь краткого и бесславного этапа по пути к большевизму, и, по общему признанию, этот этап, наконец осуществившись, носил наиболее анархический характер из всех девяти «режимов», сменившихся на Украине.
Тревога немецкой главной квартиры оказалась ненапрасной: повсюду подымалась волна ненависти против немцев, с которой директория совладать не могла; петлюровские и крестьянские банды нападали на немецкие эшелоны, грабили, оскорбляли и обезоруживали их; местами немцы оказывали сопротивление, и тогда происходили вынужденные кровавые столкновения.
Петлюровские атаманы не разделяли германофильства директории. Григорьев, например, говорил с германскими властями таким языком: «Объявляю вам именем командуемых мною рабочих войск, а также именем народа, восставшего против буржуазии, что вы не демократы, а предатели России. Если вы в течение четырех дней не покинете Николаева и Долинской, то ни один из вас не увидит своей родины: при первом же движении вы будете уничтожены бесследно, как мухи»[479]…
Стремясь стихийно домой и желая обеспечить себе свободный путь, немцы, по частной инициативе местных комитетов или сохранивших авторитет военных начальников, помогали и вооружали то одну, то другую сторону. Так, в Харькове они допустили занятие города Болбочаном, а к концу ноября заставили его отряды очистить город и вооружили организацию Добровольческого центра; в Бердичеве они вооружали повстанцев; в Полтаве они не позволили гетманским частям прервать путь двигавшимся из Харькова повстанцам, но через несколько дней разоружили овладевшие уже городом петлюровские банды «незаможнего селянства», принявшие ясно большевицкий характер и угрожавшие их безопасности. Солдатские комитеты продавали оружие и петлюровцам, и большевикам, и гетманцам, и Добровольцам. Солдаты зачастую отказывали в повиновении начальникам, бросали фронт и охрану ж. д. и уходили самовольно в ближайшие центры.
Немецких начальников многие обвиняли в маккиавелизме и предательстве, но обвинение это было нередко несправедливым: поведение немецких войск обусловливалось, кроме политики, развалом и стихийной тягой на родину.
Российское офицерство было сбито с толку, рассеяно, не организовано. Кое-где были отдельные, иногда доблестные, попытки сопротивления, лишенные, однако, общей идеи и растворившиеся бессильно в картине общего хаоса. Так, в Харькове, например, в течение одной недели произведено было три мобилизации: гетманская, петлюровская и Добровольческая… В Полтаве перед приближением отрядов Болбочана состоялся многолюдный офицерский митинг, на котором громадное большинство участников на призыв гетманского военного начальства ответило, что «готово сражаться исключительно с большевиками и только в Полтаве, а против Болбочана не пойдут». Несомненно, наряду с «идеологией» во всех таких выступлениях немалую роль играло и «шкурничество».
Украинский хаос, как нельзя лучше, характеризуется положением злосчастного Екатеринослава, о котором сводка к середине ноября сообщала: «Город разделен на пять районов. В верхней части укрепились Добровольческие дружины; в районе городской думы – еврейская самооборона; далее – кольцом охватывают немцы; Добровольцев, самооборону и немцев окружают петлюровцы и, наконец, весь город в кольце большевиков и махновцев».
С самого начала на всем движении Винниченко – Петлюры легла печать анархии, которая не оставляла его до окончательного крушения.
* * *
Петлюровско-немецкое соглашение не нарушалось до конца ноября, давая Киеву некоторую передышку и возможность собраться с силами.
Одновременно с обнародованием последнего акта гетман, порвав окончательно с украинскими национальными кругами, искал естественной опоры в русских организациях. На его попытки в этом отношении откликнулись «Протофис», «хлеборобы» и «монархический блок». «Сов. гос. об.» не хотел себя, по-видимому, связывать с режимом, уже обреченным, хотя устами Кривошеина доказывал, что «Скоропадскому можно все простить, даже оставить ему пожизненное гетманство, если он в дальнейшем будет служить верой и правдой единой России».
На соединенном заседании бюро Московского («Всероссийского») и Киевского нац. центров, при участии представителей Добровольческих организаций, 1 ноября под председательством профессора Новгородцева было решено единогласно, что какие-либо сношения с «изменником-гетманом» недопустимы и аморальны. Еще непримиримее, как мы знаем, была позиция «Союза возрож.», не оставлявшего мысли о вооруженном перевороте, и левее его стоящих организаций.
И гетман сделал надлежащие выводы: последний месяц его правления прошел под исключительным и полным влиянием блока крайних правых, разделяемым до известной степени с переменившим ориентацию мин. вн. дел Игорем Кистяковским.
Под влиянием «монархического блока» 5 ноября была опубликована «грамота» гетмана:
«Ввиду чрезвычайных обстоятельств, общее командование всеми вооруженными силами, действующими на территории Украины, я вручаю генералу от кавалерии графу Келлеру на правах главнокомандующего армии фронта, с предоставлением ему сверх того прав, определенных ст. 28 Положения о полевом управлении войск в военное время[480]. Всю территорию Украины объявляю театром военных действий, а потому все гражданские власти Украины подчиняются ген. графу Келлеру».
Этим актом устранялось неудобство непосредственного подчинения «украинскому гетману» российских дружин и, вместе с тем, последние косвенно выходили из распоряжения Добровольческого командования. Имя графа Келлера должно было привлечь новые контингенты монархического офицерства, а флаг Добровольческой армии, который был весьма неприятен и гетману и правому блоку, но сохранялся ими неукоснительно, должен был примирять с фактом засилия правых умеренную часть общественности и офицерства.
Но граф Келлер понял свое назначение как скрытую капитуляцию гетмана и передачу ему диктатуры – «всей полноты военной и гражданской власти на Украине»[481]. Сообразно с этим, он образовал при себе «Совет обороны» – по составу своему – бюро Монархического блока – с Безаком во главе; начальником своей канцелярии назначил ген. Спиридовича.
Столь явный переход власти к «правым большевикам», как называла «Азбука» деятелей Протофиса и Монархического блока, еще более возбудил против гетмана и украинского правительства прогрессивную и демократическую общественность.
В высокой степени достойный и храбрый генерал, граф Келлер как политический деятель был прямо опасен: своими крайними убеждениями, вспыльчивостью и элементарной прямолинейностью. Уже на третий день по пришествии к власти он написал приказ – призыв о восстановлении монархии, от распространения которого его, однако, удержал «блок», считавший такое обращение к пылающей Украине преждевременным.
Первые же шаги диктатора и «Совета обороны» привели в большое беспокойство украинское правительство. И 13 ноября к гр. Келлеру, по поручению правительства, явились министры Афанасьев и Рейнбот и заявили ему, что он неправильно понимает существо своей власти; ему не может быть подчинена власть законодательная, какою до созыва Державного сейма является совет министров. Что граф Келлер в своих воззваниях говорит только об единой России, игнорируя вовсе Украинскую державу, тогда как правительство «стремится к созданию Украинского федеративного государства и от этой своей программы для воссоздания целой и неделимой России отказаться не может».
Граф Келлер предъявил ультимативное требование полноты власти и в тот же день получил гетманский приказ о своей отставке и о назначении его заместителем ген. кн. Долгорукова. В своем прощальном приказе Келлер объяснял свой уход двумя причинами: «1. Могу приложить свои силы и положить свою голову только для создания Великой, нераздельной, единой России, а не за отделение от России федеративного государства и 2. считаю, что без единой власти в настоящее время, когда восстание разгорается во всех губерниях, установить спокойствие в стране невозможно»[482].
И хотя по существу ничего не изменилось, так как у кормила власти остался тот же «блок», возглавленный кн. Долгоруковым – председателем военной монархической партии и товарищем председателя «блока», но политическая неразбериха усилилась еще более: граф Келлер ушел потому, что не хотел бороться «за отделение от России федеративного государства»… А новое командование?..
* * *
Ввиду быстрого распространения анархии на Украине и изолированного положения Киева, прямое сообщение с ним Екатеринодара было нерегулярно, а с 11 ноября прервалось вовсе; и мой штаб получал только отрывочное и случайное осведомление кружными путями о происходящих там событиях. Взаимоотношения моего представителя ген. Ломновского – номинального начальника Добровольческих дружин – с гетманскими властями были весьма неопределенными. Как я уже говорил, гр. Келлер, в качестве «главнокомандующего Северной псковской армией», 2 ноября признал свое подчинение Добровольческому командованию. Став через три дня «главнокомандующим войсками Украины», он дал неопределенное объяснение Ломновскому: «По вопросу об установлении общего фронта и единого командования он держится своего прежнего взгляда; однако Украина столь тесно связана с Доном и столь зависит от него, что единое командование возможно, только включая и Дон»
По плану, одобренному гетманом и Келлером, предполагалось приступить к формированию особой «Юго-Западной армии», без фактического участия Ломновского, для чего просили все же «флаг Добровольческой армии». Ломновский категорически отказал[483].Тем не менее взаимоотношения его с Келлером не нарушались.
Ген. Ломновский, имея от меня общее указание предоставить Добровольческие отряды в оперативном отношении высшей украинской военной власти, в интересах борьбы и спасения Малороссии от большевизма, исполнял эту директиву с большой выдержкой, тактом и иногда самопожертвованием. Эта позиция Ломновского подвергалась суровому осуждению киевск. Нац. центра, который считал, что при сложившихся обстоятельствах человек, обладающий большей волей, дерзанием и авторитетом, мог бы не допустить экспериментов гетмана и взять у него падающую власть и все руководство обороной. На место Долгорукова и «монархического блока», по их мысли, должен был стать Ломновский и «киевский Нац. центр». Центр явно преувеличивал свое значение и возможности, особенно приняв во внимание, что полное неприятие им гетмана ставило вопрос о власти в прямую зависимость от внутреннего переворота.
Новый главнокомандующий кн. Долгоруков с первых же шагов проявил враждебное отношение к Добровольческому центру, стремясь устранить всякое вмешательство его в дело формирования вооруженной силы. Его усилия были направлены не по надлежащему адресу. Военный Киев действительно представлял из себя крайне неприглядное зрелище: всевозможные штабы и бюро комплектований Южной, Северной, Астраханской армий, Особого корпуса, тайных и явных организаций политических партий пухли, разрастались, конкурировали и враждовали друг с другом, способствуя распылению сил и легальному дезертирству.
Ненормальность этого положения была настолько очевидной, что в осуждении его объединились, казалось бы, совершенные антиподы: в первый раз во второй половине ноября явилась возможность устроить в Киеве ряд совещаний из представителей 1. Добровольческого центра, 2. Монархического блока[484], 3. Сов. гос. об.[485], 4. Нац. центра[486] и 5. Союза возрождения России[487].На этих заседаниях вопросу об упорядочении комплектования в одних руках предпослан был вопрос объединения командования всеми русскими вооруженными силами. Монарх, блок и Сов. гос. об. высказались за главнокомандующего силами Украины, Нац. центр и Союз воз. Рос. – за главноком. Добровольческой армией. Соглашения не состоялось.
Ген. Долгоруков решил идти напролом: в ночь на 23 ноября он вызвал к себе ген. Ломновского и заявил ему: «В дружинах Святополк-Мирского и Рубанова бунт. Там чуть ли не открыто говорят, что меня надо арестовать. Долг службы вынуждает меня арестовать вас. Я человек решительный».
Дальнейший ход этого дела так излагается генералом Ломновским[488]:
«Этот разговор происходил на ходу в назначенную мне комнату, где я был арестован с приставлением часового. Спустя час ко мне в комнату вошел Пиленко, по-видимому, крайне расстроенный. Он стал говорить о своих патриотических чувствах и просил меня быть вполне откровенным. Я заверил его, что на откровенность мою он может вполне положиться, но сказать я ничего не могу, так как решительно ничего не понимаю.
Тогда Пиленко стал говорить, что причиною всего – двойственное подчинение дружин и во имя общего дела необходимо найти выход из создавшегося положения. Я объяснил Пиленко, что суть дела совершенно не в двойственном подчинении, так как дружины в оперативном отношении всецело подчиняются местному командованию.., а исключительно в личностях.
Пиленко стал опять говорить о крайне тягостном положении Киева, что во имя общего русского дела необходимо найти все же выход, раз связь с ген. Деникиным прервана. На это я возразил, что теперь, с моим арестом, выход сам собою найден, и для меня вопрос не в двойственном подчинении дружин, а в недопустимом, неслыханном факте ареста представителя главнокомандующего русской Добровольческой армии».
Между тем в дом князя Долгорукова прибыли приглашенные им общественные деятели – граф Гейден, кн. Голицын, Масленников и ген. Шиллинг. Возмущенные случившимся, они потребовали от Долгорукова немедленного освобождения ген. Ломновского. На вопрос зашедшего к нему Шиллинга, как он думает поступить дальше, Ломновский ответил, что покинет Киев вместе с чинами своего штаба. На это Шиллинг сказал, что кн. Долгоруков не видит препятствий к выезду. Но через некоторое время в комнату к Ломновскому вошли все перечисленные выше лица…
«Гр. Гейден, очень взволнованный, обратился ко мне от имени общественных деятелей, умоляя меня, ради спасения в Киеве общего русского дела, в которое вложена громадная работа, не становиться в непримиримую позицию и согласиться аннулировать происшедшее; что отъезд представительства Добр, армии из Киева может повести к ужасным последствиям – к тому, что русские офицеры уйдут с занимаемых ими позиций и Киев вновь будет отдан во власть Петлюры и украинцев. Я ответил, что общее русское дело мне столь же дорого, как и им, я отдаю себе совершенно ясный отчет, к каким чреватым последствиям может повести выезд из Киева представительства Добр, армии, но не знаю, отдает ли себе ясный отчет князь Долгоруков, к каким последствиям может повести факт ареста представителя главнокомандующего и отъезд представительства.
На это гр. Гейден сказал, что кн. Долгоруков глубоко сожалеет о случившемся; что он погорячился, сказав, что не видит препятствий к выезду, и считает это совершенно невозможным».
После продолжительных переговоров ген. Ломновский заявил общественным деятелям:
«Ввиду крайне неустойчивого положения в Киеве и возможности перенесения гражданской войны внутрь города; ввиду того, что вопрос о недопущении повстанцев в город ставится чуть ли не всецело в зависимость от полного подчинения дружин, я решил подчинить их во всех отношениях местному командованию с тем, чтобы я был своевременно осведомляем о всех мероприятиях, касающихся этих дружин».
Все эти нелепые трения на верхах правления и командования становились немедленно достоянием широкой публики и производили глубоко деморализующее впечатление среди защитников Киева.
– Какая же в сущности идея борьбы?
Консул Энно чуть не ежедневно присылал телеграммы, что союзные войска идут, они уже близко, не сегодня – завтра будут в Киеве. Тогда положение ясно: продержаться несколько дней, а там вопрос разрешится союзниками, несомненно, в пользу единой России… Стоявшие в совершенно непримиримой оппозиции к гетману «Нац. центры», под влиянием смертельной опасности, угрожавшей Киеву, изменили несколько свою позицию: «Всероссийский центр» соглашался, что «до прихода русских и союзных сил – самое выгодное, если сохранится та власть, кpоторая пока существует, ибо всякий переворот явился бы новым условием для усиления большевицких настроений»; «Киевск. центр» 7 ноября обратился к русским людям с призывом – защищать порядок против банд Петлюры…
Но тот же Энно говорил о признании существующей власти гетмана. Добровольческое командование, отдавая дружины в распоряжение гетманского командования, как будто присоединялось к этому решению…
– Следовательно, защищать власть гетмана и Украинской державы?
К тому же в первой телеграмме главнокомандующего Добров. армии к мин. Афанасьеву говорилось о «борьбе с большевиками» и «невмешательстве во внутренние дела края». И хотя Ломновский пояснил, что обстановка с тех пор изменилась, что директория – это предтеча большевизма, но его понимали плохо.
– Следовательно, защищать гетмана от Петлюры?
В более радикальных кругах ставили вопрос в другой плоскости: «Там – «вся власть советам»; здесь – «вся власть Протофису»». Что лучше?
Эти и многие другие вопросы вызывали смуту в умах и приводили в уныние офицерство и учащуюся молодежь – почти единственный контингент защитников Киева. Да и мудрено было им разобраться в украинской проблеме, когда в среде значительно большего политического кругозора – в самом, например, ядре Союза воз. России – возникали такие недоуменные вопросы: «Кому помогать? Или социальной реакции, воплощаемой Скоропадским и защищаемой немцами, или демократическому движению украинцев, идущих с максимализмом, не только социальным, но и национальным, и открывающему дорогу максимализму настоящему (советскому)?»[489]. В результате Союз выпустил воззвание против гетмана, требуя создания «демократической объединенной власти на Украине» и предостерегая от оказания помощи гетману.
Среди защитников Киева эти вопросы для одних были действительно вопросами совести и долга, для других – вероятно, большинства – благовидным прикрытием своему оппортунизму или малодушию.
И в киевских казармах – общежитиях, и на позициях у Жулян царило подавленное унылое настроение; люди жили в области фантастики и нервирующих слухов. Это настроение усугублялось еще потрясающим неустройством в организации, снабжении, довольствии, особенно на позициях. Там люди приходили к сознанию своей полной заброшенности и беспомощности.
* * *
Вопрос решили немцы.
30 ноября в Казатине между германским командованием и петлюровским штабом был заключен второй договор, в силу которого немцы обязались не препятствовать вступлению в Киев войск «Украинской народной республики»; взамен этого им была обещана «взаимная дружественная работа», содействие их эвакуации, в частности 10 транспортных поездов по трем направлениям – через Пинск, Сарны и Казатин.
Удельный вес директории, после многих месяцев сотрудничества, был хорошо известен немцам. Но этот исход обещал облегчить трудное положение немецких оккупационных войск и, вместе с тем, создать большие затруднения державам Согласия… Когда немецкие батальоны, прикрывавшие Киев, прошли сквозь расположение киевских дружин, все поняли, что наступил конец.
По инициативе Нац. центра общественные организации, считая дело проигранным, обратились к председателю правительства Гербелю с предложением «поднять открыто над защитниками Киева флаг Добровольческой армии», передать командование ген. Ломновскому и разработать тотчас же вопрос об отходе из Киева Добровольческих дружин. Гербель ответил, что у него «все готово», что «директория пойдет, вероятно, на условия – разрешить выезд всего правительства, всех желающих и Добровольческих частей на Дон»…
«У меня все готово – не мешайте только довести дело до благополучного конца»[490]. Течение событий не соответствовало официальному оптимизму. Первого декабря галицийские сечевики Коновальца сбили киевские дружины и в тот же день к вечеру вошли в город. Гетман 1 декабря подписал акт отречения и скрылся в Германию. Правительство рассеялось[491]. Кн. Долгоруков сдал войска на капитуляцию без всяких условий и отбыл в Одессу. Трагически пал на улицах Киева граф Келлер, заколотый петлюровскими солдатами.
Дружинники рассеялись по городу, и значительная часть их, более тысячи, засела в здании педагогического музея под охраной германских караулов. Благодаря заступничеству киевских организаций, консулов, телеграммам Энно – Директории и моим – главнокомандующим союзными армиями, правительство Винниченки приняло меры к освобождению части интернированных и к выезду остальных в Германию.
Поезда, следовавшие на юг, увозили цвет российской эмиграции и политических партий на новый, третий по счету, этап, предназначенный им судьбою, – в Одессу.
Вся Украина была объята анархией.
Глава XXII. Национальная диктатура. Особое Совещание: состав и общее направление политики
На Юге России, на территории, освобождаемой Добровольческой армией, без какой-либо прокламации, самим ходом событий установилась диктатура, в лице главнокомандующего.
Основною целью ее было свергнуть большевиков, восстановить основы государственности и социального мира, чтобы создать тем необходимые условия для строительства земли соборной волею народа. Жизнь стихийным напором выбивала нас из этого русла, требуя немедленного разрешения таких коренных государственных вопросов, как национальный, аграрный и другие, окончательное разрешение которых я считал выходящими за пределы нашей компетенции. Худо ли, хорошо ли и что целесообразнее – это вопрос другой, но диктатуре национальной, к осуществлению которой стремились на Юге, свойственны иные задачи и иные методы, чем диктатуре бонапартистской.
«Непредрешение» и «уклонение» от декларирования принципов будущего государственного устройства, которые до сих пор вызывают столько споров, были не «теоретическими измышлениями», не «маской», а требованием жизни. Вопрос этот чрезвычайно прост, если подойти к нему без предвзятости: все три политические группировки противобольшевицкого фронта – правые, либералы и умеренные социалисты – порознь были слишком слабы, чтобы нести бремя борьбы на своих плечах. «Непредрешение» давало им возможность сохранять плохой мир и идти одной дорогой, хотя и вперебой, подозрительно оглядываясь друг на друга, враждуя и тая в сердце одни – республику, другие – монархию; одни – Учредительное собрание, другие – Земский собор, третьи – «законопреемственность». Неужели спасение России не стоило того, чтобы на время отложить эти споры?
Что касается лично меня, то такая постановка вопроса нисколько не смущала мою совесть и была вполне искренна уже потому, что я решил твердо и говорил об этом не раз – что за формы правления я вести борьбы не буду. Личный элемент в вопросе о диктатуре – тема для меня вообще слишком деликатная. Я коснусь одной только стороны ее.
В конце 18-го и в начале 19-го годов на роль диктатора и Верховного главнокомандующего выдвигался, как известно, определенными кругами, преимущественно правыми, вел. кн. Николай Николаевич. Живя в Крыму, в Дюльбере, он оставался центром внимания этих кругов, из которых к нему обращались не раз, первоначально – с просьбой о возглавлении армий Украинской, Южной и Астраханской[492]. Все эти предложения великий князь отвергал, справедливо видя в этом явную авантюру.
Другие группы правых, в том числе «Государств, объединение», признавая в принципе верховное возглавление вел. князя весьма желательным, считали выступление его тогда на политическую арену несвоевременным и в местном масштабе не соответствующим. Его авторитет приберегался ими до того момента, когда все четыре фронта – Колчака, Деникина, Юденича и Миллера – приблизятся к Москве… Оттого подчинение мое адмиралу Колчаку в конце мая 1919 г., укреплявшее позицию всероссийского масштаба, занятую Верховным правителем, встречено было правыми кругами несочувственно. Что касается прочих политических групп, левее стоящих, там к возглавлению движения великим князем относились отрицательно.
Я лично в непосредственных сношениях с великим князем не состоял. В Дюльбере его посетил официально ген. Лукомский и встретил там весьма радушный прием. Вообще вел. князь держал себя в отношении Южной власти с величайшим тактом, стремясь не давать ни малейшего повода к каким-либо политическим осложнениям.
Весною 1919 г., когда обозначилась прямая угроза Крыму со стороны наступавших с севера большевиков, местопребывание там императорской семьи сделалось невозможным, о чем мною было сообщено в Крым. Незадолго до отступления наших войск к Акманаю все лица императорского дома на английском военном суде выехали за границу. Вел. кн. Николай Николаевич поселился в С. Маргерита, в Италии. Вскоре после вторичного овладения нами Крымом до моего сведения дошло, что он томится на чужбине и сожалеет, что не может жить в России…
По моему поручению ген. Лукомский 7 июля сообщил вел. князю, что в данное время для него представляется полная возможность безопасного пребывания на южном берегу Крыма. В начале сентября был получен ответ, что велик, князь «отказывает себе в счастье вернуться на Родину, т. к. приезд его в Россию повлечет за собой всевозможные толки о выступлении его как политического деятеля, чем еще больше осложнится общее положение дел». Впрочем, им не исключалась возможность жить в Крыму «частным лицом на общих основаниях по водворении полного порядка». Но въезд в Россию был обусловлен «совместным решением этого вопроса адм. Колчаком, ген. Деникиным и союзниками»… Мы получили ответ этот в октябре, когда на Южном фронте назревала опасность, а на Восточном уже созрела, и вопрос о переезде затих.
Прочие лица императорской фамилии[493], находившиеся на Юге, в политической жизни никакого участия не принимали. Вел. князь Андрей Владимирович обращался ко мне в ноябре 1919 г., выражая желание «вступить в ряды войск, борющихся за освобождение России». Я вынужден был ответить, что «политическая обстановка в данное время препятствует осуществлению его патриотического желания». На службе состоял только герцог Лейхтенбергский (младший) в Черноморском флоте, в чине капитана II ранга; был дружен со Слащевым, который хотел использовать его для своих особых целей, до военного переворота включительно. Но безуспешно.
* * *
Особое совещание функционировало первоначально применительно к утвержденному 18 авг. ген. Алексеевым положению и проекту нашей «конституции», выработанной для установления взаимоотношений с казачьими войсками[494]. Жизнь раздвигала эти узкие рамки, облекая Особое совещание всеми функциями власти исполнительной и законодательной. Только 2 февр. 1919 г. было утверждено и опубликовано «Положение об Особом совещании при главнокомандующем ВСЮР», в основу которого положено, в известной степени, совмещение круга деятельности совета министров и старого Гос. Совета[495].
Ни этим положением, ни каким-либо другим государственным актом не определялось существо власти главнокомандующего, и только косвенно неограниченность ее вытекала из сопоставления отдельных статей законоположений. Точно так же не предусматривался в законодательном порядке вопрос преемства власти – ни гласно, ни тайно. Только осенью 1919 г., под влиянием постоянных настойчивых сведений о готовящихся на мою жизнь покушениях, я счел себя обязанным указать своего преемника. Я составил «завещание-приказ» Вооруженным силам Юга о назначении главнокомандующим моего начальника штаба генерал-майора Романовского.
Этим актом я готовил ему тяжкую долю. Но его я считал прямым продолжателем моего дела и верил, что Армия, хотя в среде ее и было предвзятое, местами даже враждебное отношение к Романовскому, послушается последнего приказа своего главнокомандующего. А признание Армии – все. Приказ этот в запечатанном конверте лежал в моем несгораемом шкафу, и о существовании его знали, кроме меня, только два человека: сам И. П. Романовский и генерал-квартирмейстер Плющевский-Плющик. Когда я сказал им об этом обстоятельстве, Романовский не проронил ни слова, и только на лице его появилась скорбная улыбка. Словно подумал: «Кто знает, кому уходить первым…».
Я вполне уверен, что оба они сохранили тайну. Но некоторые изощренные умы проникали интуитивно за ее покровы. Так, когда в конце октября был отдан приказ о назначении на должность одного из двух «помощников главнокомандующего» – генерала Романовского, неофициальная контрразведка отдела пропаганды, установившая тайное наблюдение за главнокомандующим[496], требовала от своего агента в Таганроге «разведать и быть все время au courant (в курсе (фр.) – Ред.): как относятся к назначению ген. Романовского и как расценивается этот шаг в политическом отношении в кругах Ставки? Значит ли это, что ген. Р. будет заместителем Главкома?».
Слух пошел, и борьба, веденная против Романовского, усилилась.
* * *
Совмещение законодательных[497] и правительственных функций в лице Особого совещания, напоминавшее до известной степени конструкцию Временного правительства, отвечая духу чистой диктатуры, имело и свои большие неудобства. Помимо естественного переплетения закона и правительственного распоряжения – переплетения, ослаблявшего силу и устойчивость закона, это совещание заключало всю законодательную работу в четыре стены Совещания, ослабляя связи ее с общественностью, заменяя трибуну «Освагом» или лишая Совещание должного авторитета. Зачастую необходимость мероприятия и причины, его вызвавшие, оставались неясными для массы, вызывая беспричинную подозрительность, искажая его смысл и цели. Даже меры, уже принятые и осуществляемые, ввиду технических затруднений, не скоро становились известными в стране.
Та политическая борьба, которая свойственна парламенту и которая велась среди политических организаций Юга, невольно врывалась сквозь стены Особого совещания, вместе с прениями по законодательству, претворяясь там в борьбу внутреннюю и поселяя рознь. А эту рознь в преувеличенном и изощренном виде разносила стоустая молва, возбуждая глухое недовольство в обществе и в Армии. Наконец, работа законодательная и административная – в общих и частных заседаниях Совещания, в бесчисленных комиссиях и в ведомственных управлениях – была непосильна для членов Совещания. Она утомляла их и терзала нервы, приковывала к месту нахождения правительства и отрывала от действительной жизни в крае, от непосредственной осведомленности в делах подчиненных органов.
Чтобы услышать «глас народа», приходилось не раз важнейшие законодательные предположения, раньше утверждения их, давать в печать. Насущная потребность связи со страной чувствовалась многими и вызывала в свое время различные предложения[498]. Я говорил уже о первой негласной попытке Родзянко, еще в мае 1918 г., воскресить IV Государственную думу, с присоединением к ней трех предшествовавших составов. В ноябре того же года он выступил уже гласно с призывом «к русским людям» – создать «Национальный совет» в составе всех четырех Дум, Всероссийского церковного собора и Совета республики при Временном правительстве как «носящих символ законноизбранных государственных учреждений». В качестве Национального собрания предлагал свою организацию в конце октября 1918 г. Совет государственного объединения… Было и вовсе странное для настроений Юга стремление «Юго-Восточного комитета членов Учредительного собрания» под главенством Шрейдера провести в качестве верховной власти и, вместе с тем, законодательного органа – уфимский «Комуч» (конец окт. 1918 г.).
Все эти комбинации были совершенно искусственны или носили узко политический характер, не могли иметь почвы и авторитета в стране и не отражали бы ее мнения. Вместе с тем, принятие какой-либо из них еще более затрудняло бы возможность нашего объединения с казачьими областями, на которое еще не была потеряна надежда.
Идея создания особого законосовещательного учреждения имела своих последователей и в Особом совещании. Так, Н. И. Астров в марте 1919 г. сделал заявление об образовании Совета из представителей местных самоуправлений; управляющий отделом законов К. Н. Соколов в мае представил мне записку об учреждении такого же органа, но «из лиц по назначению главнокомандующего», причем Особому совещанию в обоих случаях оставлялись бы функции совета министров.
Разделяя взгляд на необходимость представительного законосовещательного органа, я предполагал создать его из выборных представителей казачьих областей, горских округов и освобожденных от большевиков губерний; состав его предполагалось дополнить членами по назначению – из числа людей науки и практики, включая широко и видных представителей таких демократических учреждений, как кооперативы, профессиональные союзы и т. д. Но до лета 1919 г. казачьи области не шли на государственное объединение; земское положение, могущее дать базу для выборов, все еще вырабатывалось, возбуждая бесконечные споры; территория, подчиненная командованию, была невелика и могла бы дать представительный орган интеллектуально не выше губернского земского собрания… Когда же с июня наши пределы расширились до Днестра, Десны и Волги и, с другой стороны, когда «конференция южнорусского союза»[499] выходила как будто на путь соглашения, в духе моих предположений был выработан комиссией проект «Высшего совета», созыв которого зависел только от срока окончания конференции. А она затягивалась безнадежно. Я хотел было назначить созыв, не дожидаясь соглашения с казаками; посоветовался с Особым совещанием, которое отнеслось к этому предположению отрицательно.
Конференция спорила о духе, о форме, о словах – главным образом саботировали ее кубанские делегаты во главе с И. Макаренко – до тех пор, пока армии не покатились от Орла к Дону и далее к Кубани, когда весь вопрос потерял свое значение.
* * *
Что дал бы нам «Высший совет» в области устроения страны, не ведомо. Считая и ныне образование его для того времени психологически и политически необходимым, я, однако, не уверен – не прибавил ли бы он только лишнего звена в той цепи соборных опытов, которая началась «Демократическим совещанием» и «Советом республики»… Тем более, что три главнейшие течения общественной мысли, представленные на Юге – Сов. госуд. объед., Национальным центром и Союзом возрождения России[500], невзирая на усилия многих своих членов, не находили обыкновенно ни общего языка, ни общего пути[501].
Особое совещание никогда не пользовалось расположением русской общественности и навлекало на себя суровую критику и тогда, и теперь. При этом оно находилось всегда под двойным обстрелом – по обвинению, с одной стороны, в «черносотенстве», с другой – в «кадетизме». Формулы, одинаково сакраментальные, и «вины», одинаково непростительные, в глазах разных политических группировок. Прежде всего было бы справедливым разложить историческую ответственность Особого совещания. Давая в свое время определенные указания по кардинальным вопросам законодательства и управления и утверждая все законоположения, прежде всего разделяю эту ответственность в полной мере я.
Во-вторых, невзирая на отсутствие парламентаризма, общественное начало было далеко не чуждо Особому совещанию: все важнейшие законоположения, прежде чем попасть на рассмотрение Совещания, вынашивались в недрах двух основных политических организаций и в группе кадетской партии, по существу, впрочем, растворившейся в Национальном центре. Их мнения преломлялись в прениях Совещания, в котором участвовали и видные представители организаций. Только Союз возрождения не имел там своего голоса, хотя косвенно принимал известное участие в обсуждении дел путем редких, правда, собеседований со мной и личных отношений с руководителями Национального центра. И если в общем направлении политики Юга – в той средней линии – равнодействующей политических течений, к которой стремился я и которую, в конце концов, с уклоном вправо, проводило Особое совещание, организованная общественность не повинна, то во многих важных мероприятиях и ответственных назначениях есть немалая доля ее участия. Теперь, после всяческих переоценок и превращений, соблюдается часто библейский обряд умовения рук, и прошлое как-то забывается…
Личный состав Особого совещания[502] слагался по признакам деловым, а не политическим, поскольку это зависело от меня: по условиям своей жизни и военной службы, главным образом на окраинах, я имел ранее очень мало соприкосновения с миром государственных, политических и общественных деятелей и поэтому испытывал большое затруднение в выборе людей на высшие посты управления.
Вначале мною практиковалась такого рода проверка: когда предлагали кандидатуру «справа», я наводил справки «слева» и наоборот. Потом этот порядок оформился, и все предположения о замещении своего состава и высших постов были возложены мною на Особое совещание, председатель которого представлял мне результаты выбора. Иногда мнения разделялись, и мне предлагали двух кандидатов. Я останавливал свой выбор на том, который казался мне выше по своему удельному весу, а ближайшие отчеты политических организаций комментировали этот факт (одни – с удовлетворением, другие – с неудовольствием) как результат влияния одной из групп и «перемены правительственного курса».
Существовало, однако, и ограничение круга лиц, допускаемых в состав Совещания и на высшие должности, – оно относилось к крайним правым и ко всем социалистам. Я считал, что эти фланги могут быть в Совете, но не в правительстве. Этот взгляд разделяло и Особое совещание. Впрочем, некоторые члены Совещания предлагали мне включить в состав его без портфелей, для создания известного декорума, «безобидных социалистов». Я считал, что этот шаг не поможет делу, не прибавит популярности Совещанию в левых кругах, а в правых вызовет только озлобление.
Решение это находилось в полном соответствии с позицией социалистов: цен. комитеты с.-д. и с.-р. объявили Добровольческую армию силой враждебной, а с.-р-ы готовили даже террористические акты против вождей белого движения. Что касается самой умеренной организации, Союза возр., то и он оставался непримиримым в отношении военной диктатуры и в силу этого обстоятельства весною 1919 г. признал невозможным вхождение своих членов даже в состав Нац. центра.
Особое совещание, по своему общему облику, делилось на три группы: 1. беспартийную, но определенно правую группу генералов[503]; 2. политических деятелей правого направления; 3. либеральную группу – в составе четырех кадетов и примыкавших к ним – Бернацкого, Челищева, Малинина, Носовича, отчасти и ген. Романовского[504]. Существовали различные оттенки в умонастроениях членов каждой из этих групп; при решении различных вопросов указанные рамки то раздвигались, то суживались, но общее течение политической жизни Особого совещания вылилось ярко в два русла – правое и либеральное. Если первое («большинство») представляло из себя довольно однородное целое, связанное общностью мировоззрения и психологии, то во втором (меньшинстве) наоборот – даже небольшая кадетская группа не отличалась обычным до того времени единством. Довольно распространенная версия справа о «кадетском засилии» лишена основания. «У нас не было лидера[505], – говорит один из кадетов, – ни цент, комитета. Внутренняя спайка под давлением событий стала слабеть. Намечались различные течения, которые смущали и разойтись по которым мы не хотели. Партийная дисциплина при бывших условиях, конечно, не могла существовать. У нас состоялось соглашение о том, что в Особом совещании мы не можем быть связаны мнением маленькой группы кадетов, собравшейся в Екатеринодаре. Отдельные члены партии в Особом совещании и других учреждениях (напр., Донск. круг) действовали за свой страх и риск, за счет своего понимания слагавшихся условий и собственной совести».
Как бы то ни было, в Особое совещание осуществилась та коалиция двух политических направлений, к созданию которой после октябрьских дней стремились многие, в том числе Милюков в киевский период его деятельности. Эта коалиция соответствовала, как будто, соотношению слагаемых элементов белого движения на Юге и, во всяком случае, представляла предельный уклон «влево», допускаемый настроением Армии и близких ей кругов. Вне этой комбинации представлялись две возможности: однородное правое или однородное либеральное правительство.
Первое было бы спокойно принято Армией, но еще более недоброжелательно в стране, в особенности в казачьих областях; оно имело бы в своем распоряжении, вероятно, элементы волевые и признанное возглавление в лице Кривошеина. Но успех такого правительства и прочность его были весьма сомнительны, особенно принимая во внимание ту психологию и то игнорирование огромного социального сдвига, которые проявляли до крушения Юга даже умеренно правые круги.
Создание правительства второго типа было просто неосуществимым: в силу настроения офицерства, того натиска из правых кругов, который подрывал бы его существование и которому мирный, по природе своей, русский либерализм противостоять не мог.
Я должен, однако, оговориться. Собственно офицерство политикой и классовой борьбой интересовалось мало. В основной массе своей в классовом отношении оно являлось элементом чисто служилым, типичным «интеллигентским пролетариатом». Но связанное с прошлым русской истории крепкими военными традициями и представляя по природе своей элемент охранительный, оно легче поддавалось влиянию правых кругов и своего сохранившего авторитет, также правого по преимуществу, старшего командного состава. Немалую роль в этом сыграло и отношение к офицерству социалистических и либеральных кругов в наиболее трагические для офицеров дни – 1917 года и особенно Корниловского выступления[506]. Эти влияния в известные моменты выводили из равновесия в общем аполитичное наше офицерство.
Таковы предпосылки появления на свет «коалиции» и «средней линии» в политике Юга. Политика эта потерпела крушение.
Помимо личных ошибок правительства и правителя в этом печальном исходе явно обозначилась одна из причин его: возможная для мирного строительства в условиях нормальной жизни страны, полезная, без сомнения, для организации противобольшевицкого движения и расширения фронта его участников, коалиция, в качестве силы действенной, правящей, оказалась трудно применимой в дни революции, в дни борьбы.
Особое совещание, состоявшее из лиц, преданных Родине, но по-разному понимавших ее интересы, не могло работать с должным единодушием.
После крушения Воор. с. Юга один из правых членов Особого совещания поделился со мной своими мыслями о причинах неудачи, постигшей нашу политику, «своей критикой и самокритикой»:
«По составу Особое совещание делилось на два политических лагеря, в нем боролись два миросозерцания.
Эта борьба прежде всего влияла на подбор лиц, когда считались не только с технической подготовкой, но главным образом с политическим тяготением. Наружно для Вас все было прикрыто государственными лозунгами, большинство знало закулисную сторону. Обе стороны (Совещания) не свободны от греха.
Политика, проводимая аппаратом, заключавшим элементы для внутреннего трения, могла быть только компромиссной. Каждая из составных частей Особого совещания при обсуждении любого законопроекта социального значения стремилась отстоять свое миросозерцание и, сознавая, что не в силах провести его целиком, пыталась убедить другую на известные уступки.
Наша политика была поэтому осторожна, но лишена творческого авантюризма, решительности и напора. Она казалась недостаточно демократичной одним и слишком слабой против непомерных домогательств черни – другим. Она не удовлетворила ни одно из течений, боровшихся с оружием в руках.
Даже военная диктатура, для того чтобы быть сильной и устойчивой, нуждается в поддержке могущественного класса, притом активного, способного за себя постоять, бороться. Наша же средняя линия вызвала опасение одних классов, недоверие других и создала пустоту в смысле социальной опоры вокруг.
В результате – диктатуре пролетариата и выпущенной из тюрьмы братии мы не смогли противопоставить диктатуры здорового и достаточно сильного класса, а масса была еще апатична, не «подготовлена, чтобы активно, с оружием в руках встать на защиту своих идеалов.
Правда, над всем доминировала идея диктатуры, которая теоретически должна давать общую линию поведения и направления. Но ясно, что Особое совещание могло эти указания усилять или ослаблять при проведении в жизнь, мало того, оно могло влиять и влияло».
Действительно «диктатура», проводя одни направляющие линии прямо и непреклонно, в других – считалась с мнением Особого совещания, самоограничивая путем такой «внутренней» конституции свои неограниченные права. Постановления Совещания служили, во всяком случае в моих глазах, мерилом того, что можно было провести в жизнь без потрясений при тогдашних условиях и тогдашних исполнителях, причем необходимо заметить, что ни одно особое мнение либеральной группы не было оставляемо без внимания. Впрочем, в постановлениях Особого совещания такие эпизоды официального протеста, заявляемого лишь частью группы, бывали нечасто – обыкновенно находился компромисс. Иногда либеральная группа доводила до моего сведения в частном порядке через начальника штаба[507] о спорных сторонах принятого уже Особым совещанием решения. Только несколько лет спустя я узнал о мотивах такой постановки вопроса, для меня совершенно неожиданных:
«Мы избегали навязываемого нам положения официальной оппозиции и, лояльно поддерживая диктатуру, не хотели разводить около нее внутреннюю распрю. Первоначально мы действительно практиковали прием подачи «особых мнений». Эти особые мнения оказались, однако, весьма опасными и возымели довольно неожиданные последствия. Часть их была поддержана главнокомандующим. В результате по всей правой линии вспыхнуло резкое раздражение. Положение оказалось опасным – не для нас, а для главнокомандующего. Разлетелись слухи о том, что главнокомандующий идет по указке кадетов, и в частности двух кадетов Особого совещания. До нас это злобное раздражение дошло в виде зловещих слухов о возможных покушениях на главнокомандующего… Мы решили прекратить систему особых мнений и прибегать к ним только в экстренных случаях, что и делалось».
Конструкция Особого совещания и соотношение в нем сил делали положение оппозиции весьма трудным.
«Развивать в нем большую работу, – пишет один из членов оппозиции, – в духе, не отвечающем правым устремлениям, было довольно праздным занятием… Были ли мы, однако, безучастны к этому явлению? Искали ли выхода? Утверждаю, что выхода искали, положением чрезвычайно тяготились»… Прежде всего «мы стремились внести некоторое равновесие в Особом совещании и усилить в нем гражданский элемент, усилить нашу группу в Совещании с целью выправления его, как говорилось, «правого крена»…
Помню, как после одного из заседаний, изведенный пререканиями по одному из очередных спорных вопросов и видя, что пререкания проистекают из исключающих друг друга политических жизнепонимании, я обратился к… (двум правым членам Совещания) с заявлением: «Кончим же это бесцельное и вредное топтание на месте. Берите на себя ответственность, мы отойдем и не будем больше пререкаться. Нужно, чтобы дело двигалось. В застое его гибель. Нужно выбирать курс и действовать». Мои собеседники согласились, что положение тягостно, но отвергли мысль о том, что мы должны разойтись. Становилось все яснее, что для правого большинства мы были нужны как некоторое прикрытие»…
В конце концов, автор письма пришел к решению: «Мы не можем повлиять на ход правой политики, которая все более укрепляется в Добрармии. Это для меня ясно. Ставлю себе, однако, задачу хотя бы несколько смягчать неизбежные резкости в условиях военного окружения военной диктатуры в пору гражданской войны. Знаю, что эта задача весьма неблагодарная. Но уходить из Добрармии не буду».
Коалиция была необходима, а элементы, ее составлявшие, – органически несродны. В этом был глубокий трагизм положения.
И, наконец, отметая первенство причин социального и политического характера в неудаче движения, третий весьма видный участник Особого совещания – правый, военный – говорит: «Что касается того, какие течения преобладали в утвержденных главнокомандующим решениях Особ, совещания, – это вопрос спорный. Впрочем, это и несущественно. Дело не в правой или левой политике, а в том, что мы совершенно не справились с тылом».
Как бы то ни было, тяжелый воз правления шел в гору по ухабистой дороге и притом на тугих тормозах. Обе стороны винили в этом друг друга.
* * *
Программа правительства не объявлялась. Две речи, сказанные мною в Ставрополе и на открытии Кубанской рады, исчерпывали официальное изъявление нашей идеологии и политического курса; они служили темой для пропаганды, политических дискуссий и экспорта за границу[508].
В их неопределенности и «непредрешениях» различные секторы русской общественности, одни – с тревогой и подозрительностью, другие – с признанием и надеждой, видели маскировку, скрывающую «истинные» побуждения и намерения. Из кругов умеренно социалистических и либеральных, из Крыма, Киева, Одессы, от «Русского политического совещания» из Парижа шли все более настойчивые предложения «раскрыть лицо Добровольческой армии». Между тем «непредрешения» являлись результатом столько же моего убеждения, сколько и прямой необходимости.
В самом деле: «Борьба с большевизмом до конца», «Великая, Единая и Неделимая», «автономии и самоуправления», «политические свободы» – вся эта ценная кладь могла быть погружена на государственный воз явно при общем или почти общем (кроме федералистов и самостийников) сочувствии. Казалось, что с одной этой кладью, под трехцветным национальным флагом можно будет довезти его до Москвы, а если там при разгрузке произошло бы столкновение разномыслящих элементов, даже кровавое, то оно было бы, во всяком случае, менее длительным и изнурительным для страны, чем большевицкая неволя… Но идти дальше этого было уже труднее: в некоторых случаях пришлось бы вскрывать разъедавшее нас разномыслие.
Однажды, осенью 1918 г., по поводу толков о необходимости декларации мои оба ближайшие помощники сказали мне, что работать под лозунгом Учредительного собрания они считают для себя невозможным. Это было убеждение, широко распространенное в военной среде и правых кругах, где понятия «учредилка» и «учредиловцы» встречали презрительное отношение. Но и в либеральных кругах в то время признание Учредительного собр. было далеко не безоговорочным. На кадетском съезде в Екатеринодаре мы слышали, например, из уст Милюкова такие слова: «Я против предрешения как форм, так и способов создания новой власти. Идея народовластия и свободного волеизъявления народов более чем поколеблена… Необходима крайняя осторожность по отношению к Учредительному собранию»…
Оставляя в стороне другие паллиативные решения, оставалось декларировать кому-либо «самозарождение» или «законопреемственность», чтобы в минуту порвать слагавшееся с таким трудом, весьма непрочно сшитое единство военно-общественного фронта.
Это отношение к идее Учред. собр. под влиянием разнообразных причин со временем начинает вновь меняться, вероятно, не столько по убеждению, сколько по тактическим соображениям. Так, на заседании представителей Гос. об., Национального центра, Союза возр. и бюро «Советов объед. земств и городов Юга России»[509], представлявшем первую попытку объединения более широкого общественного фронта, возбужден был и этот вопрос; протокол заседания говорит:
«Учредительное собрание как суверенный орган государственного строительства, возникающее на основе народного волеизъявления, признано приемлемым в принципе, но не по наименованию членами всех представленных организаций. Члены Земско-городск. объединения, Союза возрождения и Госуд. об. в лице Е. Н. Трубецкого[510] признают его категорически, оставляя и название. Член Гос. об. Масленников считает неизбежным установление самого органа народного волеизъявления, не предрешая его названия. Член Нац. центра М. Федоров считает вопрос о наименовании несущественным, но предпочитает название «Народного собрания», настаивая при этом, главным образом, на установлении того момента выборов, который дал бы уверенность в разумном исходе голосования»[511].
Пока мужи совета таким образом искали путей, чтобы обойти не то острые углы взаимных отношений, не то друг друга, в Армии эти трения находили также отклик, но гораздо более элементарный: одни проливали кровь, не мудрствуя лукаво, другие заявляли: «Мы за «учредилку» умирать не будем»… Поэтому я призывал Армию бороться просто за Россию.
* * *
С большими еще трудностями проходил другой важный вопрос – аграрный. После долгих мук, споров, взаимных уступок Особое совещание подошло, наконец, к основным его положениям. В 20-х числах марта 1919 pг. состоялись заседания под моим председательством, окончательно установившие руководящие основания. Это было еще очень немного, но, по крайней мере, дело сдвигалось с мертвой точки. Когда возник вопрос – в какой форме объявить о принятом решении во всеобщее сведение? – один из членов Совещания высказал взгляд, что объявлять не следует вовсе; к нему присоединилась большая часть правых членов Совещания. Я выразил свое удивление и заявил, что принятые положения считаю обязательными, и они будут опубликованы в ближайший день.
«Декларация» как результат этого обсуждения составлялась в Национальном центре и принадлежит перу Н. И. Астрова. Я изменил ее редакцию, оставив сущность, и придал форму предписания на имя председателя Особого совещания[512]. Оно гласило:
«Государственная польза России властно требует возрождения и подъема сельского хозяйства. Полное разрешение земельного вопроса для всей страны и составление общего для всей необъятной России земельного закона будет принадлежать законодательным учреждениям, через которые русский народ выразит свою волю.
Но жизнь не ждет. Необходимо избавить страну от голода и принять неотложные меры, которые должны быть осуществлены незамедлительно. Поэтому Особому совещанию надлежит теперь же приступить к разработке и составлению положений и правил для местностей, находящихся под управлением главнокомандующего Вооруженными силами Юга России. Считаю необходимым указать те начала, которые должны быть положены в основу этих правил и положений:
- Обеспечение интересов трудящегося населения.
- Создание и укрепление прочных мелких и средних хозяйств за счет казенных и частновладельческих земель.
- Сохранение за собственниками их прав на земли. При этом в каждой отдельной местности должен быть определен размер земли, которая может быть сохранена в руках прежних владельцев, и установлен порядок перехода остальной частновладельческой земли к малоземельным. Переходы эти могут совершаться путем добровольных соглашений или путем принудительного отчуждения, но обязательно за плату. За новыми владельцами земля, не превышающая установленных размеров, укрепляется на правах незыблемой собственности.
- Отчуждению не подлежат земли казачьи, надельные, леса, земли высокопроизводительных сельскохозяйственных предприятий, а также земли, не имеющие сельскохозяйственного назначения, но составляющие необходимую принадлежность горнозаводских и иных промышленных предприятий; в последних двух случаях – в установленных для каждой местности повышенных размерах.
- Всемерное содействие земледельцам путем технических улучшений земли (мелиорация), агрономической помощи, кредита, средств производства, снабжения семенами, живым и мертвым инвентарем и проч.
Не ожидая окончательной разработки земельного положения, надлежит принять теперь же меры к облегчению перехода земель к малоземельным и поднятию производительности сельскохозяйственного труда. При этом власть должна не допускать мести и классовой вражды, подчиняя частные интересы благу Государства».
В день отдачи предписания ген. Драгомиров передал мне просьбу председателя Сов. гос. об. Кривошеина – повременить с выпуском его до представления проекта Гос. об., так как «такой государственной важности акт требует особливого, подобающего случаю изложения». Ждать дольше я не хотел, и предписанию дан был ход. В полученном post factum проекте Кривошеина пункт, касавшийся непосредственно аграрного вопроса, был изложен в такой форме:
«6. Безотлагательная разработка мероприятий, имеющих главнейшею целью обеспечить интересы широких народных масс и быстрый рост производительных сил страны. В этих видах, между прочим:
а) в области аграрных задач – постановка земельного дела в началах децентрализации в соответствии с особыми хозяйственными условиями отдельных районов; всемерное содействие образованию и скорейшему развитию мелкой земельной собственности; отмены ограничений в праве распоряжения крестьянскими надельными землями; широкое поощрение добровольных соглашений о переходе земли в крестьянские руки; создание примирительных земельных комиссий и принудительное, за справедливый выкуп, отчуждение земли во всех случаях, когда государственный интерес этого требует».
Так или иначе, провозглашен был столь страшный для многих принцип принудительного отчуждения.
Первым последствием издания аграрной декларации было крупное столкновение между Гос. об. и Национальным центром. Я уехал в Чечню, а декларация не появлялась в печати целую неделю. Задержка, по-видимому, произошла потому, что в это время в совместном заседании обеих групп шел горячий спор о целесообразности и своевременности издания декларации.
Сов. гос. об., устами, главным образом, Кривошеина, доказывал: «Неправильно усиливать вновь рознь в антибольшевицком лагере, где и без того элементы мщения играют большую и фатальную роль… Одни будут обвинять власть в демагогии, в стремлении их ущемить в угоду демократическим течениям, будут доказывать антигосударственность и экономическую нецелесообразность меры, которую будут считать направленной против их классовых и личных интересов. А так как влияние этих элементов в Армии и чиновничестве значительно, то последствием будет будирование против власти среди лагеря, на который она вынуждена опираться…
С другой стороны, официальный документ, который не может обещать больше, чем уже дано большевицким декретом о земле, дает оружие для агитации и пропаганды с левой стороны – соц.-рев. и тайных агентов большевиков»… Представители Национального центра возражали, что «с одними офицерами воевать больше нельзя, что нужно привлечь на свою сторону солдата или сделать его, по крайней мере, не враждебным… Необходимо немедленно парализовать агитацию, которую ведут большевики, будто новая власть идет восстанавливать старый режим, возвращать земли помещикам, мстить и наказывать… Наконец, что нужны доверие и поддержка европейских демократий»…
Обе стороны не пришли к соглашению и расстались еще большими врагами.
Появление аграрной декларации усилило те настроения, которые были созданы подготовительной борьбой. Так, например, газета «Великая Россия», руководимая тогда H. H. Львовым, после бурного заседания редакционной коллегии, на котором обсуждалось отношение к декларации, в конце концов напечатала ее в рубрике текущих дел («В Особом совещании») без всяких сопроводительных комментариев. Сильно и убежденно высказался тогда М. В. Родзянко, остерегавший меня «от опасного шага издания земельного закона (моей) единоличной властью»:
«Я отлично отдаю себе отчет, – писал он мне, – что земледельческий крестьянский класс в России должен быть наделен землей за счет крупного землевладения… Но нельзя признать права за случайно собранным Особым совещанием предвосхищать права неизбежного будущего Учредительного собрания, которое одно только вправе коснуться наиважнейшего права каждого гражданина – права собственности… Связанные с законопроектом сложные финансовые меры могут вызвать окончательное расстройство в наших поколебленных финансах… Наконец, если законодательство, касающееся земельной реформы, пойдет по такому пути, то неизбежно окажется, что Армия Ваша, адм. Колчака, ген. Юденича, Северная и др. могут его разрешить на различных основаниях, и тогда в этом жгучем, наболевшем вопросе страна будет заведена в такой тупик, из которого ее не выведет никакое Учредительное Собрание»…
Эти взгляды, не слишком, впрочем, противоречившие духу декларации, разделялись и Союз, возр., который также считал, что «окончательное разрешение аграрного вопроса может последовать лишь по воссоединении России и только властью Учредит, собр.» и что «ныне возможны только временные меры для урегулирования земельных отношений». Но при этом Союз считал необходимым «предоставить крестьянам пользование той землей, которая находится в их фактическом владении». Этот же взгляд правительством адм. Колчака был проведен фактически в жизнь в Сибири, где, правда, земельные отношения не имели вовсе той остроты, как в Европ. России[513].
Не лишним будет привести и тот взгляд, который высказывало в те дни лицо, шедшее на смену власти. В конце марта ген. Врангель говорил: «Полагаю, что требования части общества, обращенные к Армии, о провозглашении ее программы, ошибочны. Армия по самой природе своей вне политики. Политической программы у Армии не может быть. Мы должны завоевать порядок, при котором народ, освобожденный от гнета и произвола, свободно выскажет свою волю».
* * *
Несравненно легче проходил рабочий вопрос, не вызывая ни такой страстности, ни такого разномыслия, как аграрный. В тот же день, 23 марта, на имя председателя Особого совещания было мною послано предписание:
«Русская промышленность разрушена совершенно, чем подорвана государственная мощь России, разорены предприятия и лишены работы и хлеба миллионы рабочего люда.
Предлагаю Особому совещанию приступить немедленно к обсуждению мер для возможного восстановления промышленности и к разработке рабочего законодательства, приняв в основу его следующие положения:
- Восстановление законных прав владельцев фабрично-заводских предприятий и вместе с тем обеспечение рабочему классу защиты его профессиональных интересов.
- Установление государственного контроля за производством в интересах народного хозяйства.
- Повышение всеми средствами производительности труда.
- Установление 8-часового рабочего дня в фабрично-заводских предприятиях.
- Примирение интересов работодателя и рабочего и беспристрастное решение возникающих между ними споров (примирительные камеры, промысловые суды).
- Дальнейшее развитие страхования рабочих.
- Организованное представительство рабочих в связи с нормальным развитием профессиональных обществ и союзов.
- Надежная охрана здоровья трудящихся, охрана женского и детского труда, устройство санитарного надзора на фабриках и заводах и в мастерских; улучшение жилищных и иных условий жизни рабочего класса.
- Всемерное содействие восстановлению предприятий и созданию новых в целях прекращения безработицы, а также принятие других мер для достижения той же цели (посреднические конторы по найму и проч.).
К обсуждению рабочего законопроекта надлежит привлечь представителей как от предпринимателей, так и от рабочих. Не ожидая окончательной разработки и осуществления рабочего законодательства, во всех случаях текущей жизни и административной практики, в мере возможности применять эти основные положения и, в частности, оказать государственное содействие к обеспечению рабочих и их семейств предметами первой необходимости за счет части заработка».
«Рабочая декларация» была принята обществом и печатью также без особой страстности. В Екатеринодарский период борьбы торгово-промышленный класс не имел в кругах, близких к Армии и Особому совещанию, таких сторонников своих интересов, как аграрии.
В результате обеих деклараций образованы были две комиссии: для разработки земельного вопроса – под председательством нач. управ. земл. Колокольцова, и для разрешения рабочего вопроса – под председательством M.M. Федорова.
* * *
Настойчивые пожелания о необходимости общей политической декларации правительства Юга для Западной Европы приходили от Русского политического совещания из Парижа и от екатеринодарских иностранных представителей. В. Маклаков подсказывал и общие основные начала ее: «Временный характер военной власти, имеющей целью по восстановлении единства и порядка обеспечить свободное выражение народного суверенитета (?)… В земельном вопросе – правовое урегулирование совершающегося стихийного процесса… Утверждение самобытного устроения и развития народностей в пределах органически единой России в формах автономий или федерации» и т. д.
В начале апреля председатель Особого совещания ген. Драгомиров доложил мне, что ген. Бриггс настойчиво просит объявить декларацию, которая могла бы рассеять предубеждение о реакционности Южной власти, создавшееся в демократических кругах Европы, и дала бы возможность искренним друзьям Добровольческой армии оказывать ей более серьезную помощь. Ген. Бриггс предложил и проект декларации, которая могла бы, по его словам, удовлетворить английскую рабочую партию[514]. По существу почти все положения этого проекта были приемлемы и в той или другой форме объявлялись командованием; но внесение в проект «Национального собрания» шло значительно дальше «непредрешения»… И то обстоятельство, что оно не возбудило протеста в правом секторе Особого совещания, означало уже большой сдвиг.
10 апреля была составлена в несколько измененной мною редакции и послана английскому, французскому и американскому представителям нота, подписанная мною и всеми членами Особого совещания[515].
Вряд ли эта декларация имела какое-либо влияние на изменение международного положения Юга. В отечественных же политических кругах она не удовлетворила никого. Органы важнейших противобольшевицких группировок высказались сдержанно, но явно несочувственно. «Великая Россия» нашла, что обещаний дано слишком много, и «исполнение их принадлежит самой жизни русской – такой бурной, такой взбаламученной; что нет никакой возможности предвидеть, в каком реальном размере будет осуществлена эта декларация»… «Утро Юга» находило, что сказано слишком мало и слишком неопределенно, в особенности в части, касающейся Народного собрания, в рамки которого «может вместиться даже Булыгинская дума»… А «Свободная Речь» в изысканных, но туманных выражениях отдала преимущество «простым, но исполненным патриотического одушевления и не отравленным партийным буквоедством» словам, сказанным ранее[516], в сравнении с декларацией, «вызванной дружественной любознательностью союзников». И успокаивала умы взыскующие: «Не приспело еще время, не сложилась еще та обстановка, при которых можно пустить в обращение новые, отлитые пытливым проникновением в туманную даль – отчетливые представления».
Можно было подумать, что и те, и другие являются обладателями верного средства спасения страны, но таят его до времени под спудом, не желая открыть своей тайны непосвященным.
Создавался понемногу политический тупик, из которого могли вывести только победы Армии.
Глава XXIII. Особое Совещание: гражданское управление и самоуправление; рабочее и аграрное законодательство
Вопрос о национальностях и связанный с ним – о территориальном устройстве Российского государства разрешались в полном единомыслии мною и всеми членами Особого совещания: единство России, областная автономия и широкая децентрализация. Наши отношения к западным лимитрофам выражались только в декларативных заявлениях; с Украиной, Крымом, Закавказскими республиками и казачьими областями нас связывали многочисленные нити во всех областях жизни, борьбы и управления. Об них я говорю в соответствующих главах. Эти взаимоотношения были очень трудны и ответственны, а среди управлений Особого совещания не было органа, который мог бы руководить ими: управ, ин. дел старалось всемерно устраниться от этого дела, полагая, что принятие в свое ведение сношений с новообразованиями послужит косвенным признанием их суверенитета; управ, внут. дел по всей своей структуре и психологии было не приспособлено к такого рода работе.
В конце концов сношения с новообразованиями вел лично я, совместно с председателем Особого совещания при посредстве его канцелярии и при содействии начальника штаба и нач. воен. управ. – в части, касающейся военных обстоятельств и военного представительства[517]. На еженедельных заседаниях Особого совещания, под моим председательством, я знакомил членов его с принятыми мерами и зачастую обращался за советом, не встречая никогда сколько-нибудь серьезных расхождений[518].
Областное автономное устройство предполагалось не только в отношении территорий, населенных инородцами, но и русских. В январе 1919 г. по инициативе В. В. Шульгина возникла «комиссия по национальным делам»[519], бюджет которой был отнесен на счет ВСЮР. Целью своей комиссия поставила сбор и разработку материалов для защиты русских интересов на мирной конференции и для выяснения отношений России к национальным движениям, а также исследование вопроса об автономном устройстве ее, в частности Юга. Работы комиссии отразились на административном подразделении территории ВСЮР на области[520].
В плане предстоявшего устройства страны нам представлялась последовательная цепь самоуправлений от сельского схода до областных дум, снабженных в период подготовительный расширенными значительно правами губернских земских собраний и получающих впоследствии функции местного законодательства из рук будущего Народного собрания. Но линия фронта далеко еще не выражала пределов фактического распространения войны. Вся небольшая вначале территория Добровольческой армии являлась, по существу театром военных действий. Это обстоятельство побуждало к принятию исключительных мер для временного усиления и централизации власти на местах. Временные положения «о гражданском управлении и о государственной страже», выработанные Особым совещанием по схемам Нац. центра и выпущенные в марте 1919 г., должны были считаться с этим обстоятельством и поневоле ограничивать общественную инициативу.
Трем ступеням административной лестницы – главноначальствующему, губернатору и начальнику уезда по принадлежности был предоставлен надзор за состоянием и деятельностью всех правительственных установлений[521] и мирных самоуправлений. Гражданская стража, имея полувоенную организацию, находилась в двойном подчинении – местным гражданским начальникам и, через командиров губернских бригад, «командующему государственной стражей» – помощнику нач. управл. вн. дел, на которого возлагалось высшее руководство деятельностью стражи по предупреждению и пресечению преступлений. Главноначальствующий кроме высшего надзора за управлением нескольких губерний или области имел в своем подчинении войска и должен был согласовать действия военных и гражданских властей. Ему предоставлялись исключительные права и принятие чрезвычайных мер в случаях, угрожающих государственному порядку.
С восстановлением и утверждением порядка и полного успокоения в губерниях, с начальствующих должны были быть сложены все чрезвычайные полномочия, и отпадало действие исключительного положения.
Это устройство, удовлетворявшее правые и либеральные круги, вызвало жестокую критику в революционной демократии. Она находила в идее такого управления только «административное усмотрение, полицейскую опеку и произвол»; мы видели в нем необходимые условия, обеспечивающие интересы борьбы и Армии. Она считала это реставрацией; мы – временной мерой, долженствующей расчистить путь для утверждения покоя и нормальных форм самоуправления. В конце концов центр тяжести вопроса был не столько в системе, сколько в людях…
Но жизнь перевернула вверх дном все наши умозаключения и не оправдала ожиданий: наше гражданское управление не внесло законности и порядка, возбудив большое разочарование в населении.
На высших ступенях гражданской иерархии в должности главноначальствующих находились генералы, командовавшие армиями в данных районах; это положение имело свои достоинства и недостатки, тождественные с совместительством в дореволюционное время должностей генерал-губернатора и командующего войсками округа. При них были помощники по гражданской части и «советы» представителей ведомств. Имея функции только высшего надзора, деятельность главноначальствующего проходила на виду и была доступна в известной мере прямому воздействию центра. Но дальше, в области практического управления, дело обстояло хуже, нося внешние признаки реставрации.
Управляющий внутренними делами Чебышев ставил губернаторов почти исключительно из числа лиц, занимавших эти должности до революции, желая «использовать их административный опыт». Это были люди – некоторые по крайней мере – быть может, вполне подготовленные, но по психологии и мировоззрению, навыкам, привычкам столь далекие, столь чуждые свершившемуся перевороту, что ни понять, ни подойти к нему они не могли. Для них все было в прошлом, и это прошлое они старались возродить и в формах, и в духе.
За ними следом потянулись низшие агенты прежней власти: одни – испуганные революцией, другие – озлобленные и мстящие. Приходили они в районы, для них незнакомые, пережившие уже не один режим, с населением, потерявшим уважение к закону и власти и недоверчивым, с жизнью, выбитой из колеи, насыщенной взаимными обидами и классовой враждой. Уезды кишели шайками «зеленых», всевозможных атаманов и остатками рассеявшихся красноармейцев, до крайности затруднявшими передвижение и общение губернских и уездных властей с деревней.
Управление вн. дел, как оказалось, централизовало в своих руках все формирование отрядов государственной стражи, для особого подбора их, и даже назначения низших полицейских агентов, благодаря чему по многим неделям губернии оставались без полицейской охраны. Катившиеся по краю – театру войны или ближайшему ее тылу – войсковые части и своевольные начальники нарушали распоряжения гражданских властей. Жизнь гражданской администрации, как и всего служилого элемента Юга, была неприглядной, благодаря нищенскому содержанию, и толкала на искушения.
Наконец, изменчивость боевого счастья бросала целые территории из рук в руки, и многим администраторам не было зачастую времени устроить свой район. Только Ставропольская и Черноморская губернии были в наших руках более года; в них правили часто сменявшиеся военные губернаторы, в назначении которых управ, вн. дел не было повинно; но и там дело обстояло так же плохо, если еще не хуже.
Нет людей! Эта жалоба не сходила с уст интеллигенции и со страниц печати. В. Шульгин с горечью писал о том явлении, что «в гражданском управлении выявилось русское убожество, перед которым цепенеет мысль и опускаются руки… Ряды старых работников страшно поредели, а новых нет как нет»… С ним соглашалась вполне «Своб. Речь», но при этом добавляла: «Нет людей… Но там ли их ищут, где надо?.. Пока о местах и влияниях спорят люди, зараженные прошлым, будь то сановники или «самовлюбленные Нарциссы общественности», ничего путного получиться не может… Главное внимание должно быть обращено на более молодые поколения… Надо хотеть и уметь искать»[522]…
Нельзя сказать, чтобы мы не искали. Много раз я обращался к управл. вн. дел. с требованиями: изменить систему комплектования гражданской администрации, привлечь общественных деятелей – земских и городских, местных людей, пользующихся уважением и авторитетом… Однажды летом, после повторного резкого напоминания, ко мне пришел Пильц, временно замещавший Чебышева, и доложил: ввиду моего приказания он обратился с письмом к лидерам либеральных организаций и к некоторым видным общественным деятелям с просьбой указать лиц, могущих заместить открывающиеся посты начальников губерний. Прошло 2–3 недели и… не отозвался никто. Это было тем более странным, что и Чебышев, и сменивший его в должности начальника управл. вн. дел в июле Носович – оба были назначены по рекомендации либеральной группы, именно Нац. центра.
Положение создавалось довольно безотрадное. Наши противники слева винили не только людей, но и систему. В противовес единоначалию выдвигалась децентрализация власти путем передачи ее местным самоуправлениям или «полубуржуазным советам». Это расхищение власти имело уже место в опыте Временного правительства, когда самозародившиеся «общественные», «революционные» комитеты и «советы р. и с. депутатов» произвели полный хаос в управлении, порвав всякие связи мест с центром. Этот опыт был повторен отчасти и с таким же неуспехом самарским «Комучем». Наконец, его же ввела в широких размерах советская власть с первых дней своего существования и с первых же дней начала упорную борьбу против «самовластия мест», пока путем давления, подлогов, подтасовок не обратила выборное начало в фикцию, посадив на местах своих послушных и всесильных агентов.
Такой опыт в районах с колеблющимся настроением, где даже сама идея борьбы не пользовалась всеобщим признанием, представлялся невозможным. Положение на местах и общее состояние нашего тыла становилось, между тем, катастрофическим.
* * *
В силу указанных раньше причин законы выходили из Особого совещания с большим опозданием.
Серию компромиссов между двумя крыльями Совещания открыло Положение об «упрощенном управлении городским хозяйством» и таком же управлении для земства. Впредь до новых выборов деятельность земских собраний и городских дум, изживших себя и с 1 января потерявших юридическое право существования, не восстанавливалась, и все обязанности их возложены были на управы в составе последнедействовавших, избранных по закону Временного правительства. Но губернаторам предоставлено было право устранять из состава их тех лиц, которые будут признаны несоответствующими своему назначению. Так как последние управы были почти сплошь социалистического состава, часто даже с уклоном в сторону большевизма, то губернаторы довольно широко пользовались своею властью, переходя, вероятно, не раз пределы государственной необходимости.
Закон об общественном управлении городов, выработанный комиссией Астрова, сохранял демократические принципы, был принят общественным мнением благожелательно и только в среде левых социалистов вызвал обвинение в стремлении власти «урезать права органов самоуправления, стеснить свободу общественной деятельности». Закон этот был утвержден мною в марте, опубликован только в мае и, вследствие задержек, чинимых управл. вн. дел, первые выборы в городах происходили только в сентябре.
Земское положение постигла худшая участь. Никогда еще разница двух миросозерцании не была столь велика, как в этом вопросе. С самого начала рассмотрения вопроса в комиссиях Особого совещания между двумя крыльями его начались сильнейшие трения. «Мы тратили время и нервы, – говорит либеральный член Совещания, – на споры и отражение ожесточенных натисков справа в вопросе о том, каким может быть теперь земство. Исходя из положения «о культурном значении для деревни просвещенного помещичьего класса», они требовали построения земских учреждений с этим элементом в основе. На заявления наши, что этого класса уже нет, что он разбит в процессе революции, что земство в новой эпохе должно быть неминуемо демократическим, наши оппоненты доходили до крайней степени раздражения».
Волость являлась первоосновой государственного устройства новой России, предрешающей состав всех высших представительных органов страны, и тем социальным базисом, на который должна была опереться временная власть в период борьбы. Помещичий дворянский класс в силу неизбежных исторических причин уходил…
На кого же опереться? Либеральное меньшинство требовало принятия законопроекта, близкого к созданному Временным правительством. Правое большинство остановилось на куриальной системе выборов[523]. «Одни намечали будущим правящим классом, – говорит один из правых членов Особого совещания, – хозяйственного мужика и откровенно исповедовали это. Другие не говорили откровенно о своем идеале, но прямая, тайная и всеобщая подача голосов ведет к господству пролетариата и «лиц либеральных профессий». Вопрос ставился ясно и грубо: Колупаев или Тимошенко[524]? В зависимости от всей старой психологии, выработанной десятками лет предреволюционного времени, ответ был ясен для каждой из сторон».
Ввиду полного расхождения Особого совещания вопрос был сдан в согласительную комиссию под председательством Носовича и вышел из нее в виде компромиссного решения: куриальная система отвергалась, но вводился ценз – уплаты минимальной ставки земск. сборов. Опасаясь, что введением прямого подушного обложения земство может расширить выборное право до всеобщности, правые категорически отклонили компромисс.
В середине августа я сделал попытку примирить непримиримое и назначил заседание под своим председательством, предоставив обеим сторонам пригласить на него сторонних лиц по их усмотрению. На этом заседании правое крыло было значительно усилено Кривошеиным, всецело поддерживавшим куриальную систему. «С проведением аграрной реформы Россия делает прыжок с пятого этажа на мостовую. Надо подостлать соломы, чтобы не разбилась». Кривошеий коснулся и общего направления нашей политики, считая ее «левый уклон» и непровозглашение в свое время «единственно спасительных лозунгов» чреватым опасными последствиями.
Я ответил более резко, чем полагалось для официального заседания, что весною 1918 г. производилось сильное давление с целью провозглашения этих лозунгов, и, если бы это было сделано тогда, то мы были бы побеждены давно уже, а я не имел бы возможности беседовать с Кривошеиным в Ростове о государственном устройстве России.
Соглашение не состоялось. Споры продолжались. Я разрешил их, к сожалению, слишком поздно, утвердив закон в духе постановления комиссии Носовича: ни Колупаев, ни Тимошенко, а некто третий, чей облик не отразился еще ясно в зерцале бытия.
* * *
С апреля шли работы по составлению двух важнейших социальных законопроектов.
Комиссия M. M. Федорова к июлю разработала ряд либеральных законопроектов о профессиональных союзах, рабочих комитетах, об органах охраны труда, о 8-часовом рабочем дне, о примирительных камерах и страховании рабочих. В конце августа в Ростове было созвано совещание с участием представителей от промышленников и рабочих для рассмотрения этих законопроектов. Рабочая делегация тотчас после открытия заседания пожелала огласить резолюцию «Южн. сов. проф. союзов» – организации, всецело захваченной с.-д.-меньшевиками, отошедшими временно от чисто политической работы и перенесшими ее в область профессионального движения. Резолюция гласила:
«Лишь при режиме демократической республики, лишь при последовательном проведении принципа всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права для рабочего класса и его организаций открывается возможность успешной борьбы как за ближайшие, так и за конечные цели рабочего движения и создаются условия действительной охраны интересов трудящихся и защиты государственной властью интересов большинства населения.
Исходя из этих положений, рабочая делегация считает совершенно безнадежной всякую попытку сколько-нибудь удовлетворительно разрешить сложные вопросы социального законодательства в обстановке беспрерывной гражданской войны и полного отсутствия законодательных учреждений, признанных свободной волей населения».
На этой фразе Федоров прервал докладчика, лишив его слова, после чего делегация рабочих покинула совещание. Состоявшийся через несколько дней съезд профес. организаций Сев. Кавказа одобрил поведение делегатов – «товарищей, стойко стоявших на своем ответственном посту», и призывал всех «товарищей теснее сплотиться вокруг своих классовых организаций и не идти ни на какие ухищрения реакции – разбить единство рабочего класса путем подкупа части рабочих и фальсификации (?) их общественного мнения».
Было ясно участие в этих действиях и постановлениях Москвы. Оно подтвердилось впоследствии попавшей к нам инструкцией коммунистическим организациям Юга: «…Необходимо принять меры, чтобы соглашение между правительством и рабочими не состоялось, учитывая всю важность последствий для правительства Деникина, если бы этот первый шаг увенчался успехом. Данный случай является благодарной почвой для продемонстрирования классового антагонизма»…
Пришлось комиссии продолжать свои работы об устройстве судьбы рабочих без их участия. Работы эти протекали в обстановке ведомственных трений. Причем, по словам Федорова, «обнаружилась тенденция членов комиссии… к пересмотру законопроектов по существу… и ко внесению поправок;, направленных к ограничению прав рабочих; и в этом отношении замечания представителей ведомств шли значительно дальше пожеланий промышленников».
В результате часть законопроектов была утверждена мною только в конце ноября, другая не была закончена до эвакуации Ростова. Рабочее законодательство постигла та же участь, что и многие другие наши начинания: они осуществились слишком поздно.
* * *
Комиссия Колокольцова приступила к разработке земельного вопроса, привлекая многочисленных сведущих людей и со стороны. В комиссии наметились сразу три течения: левое с.-р. типа, с определенным стремлением к полной ликвидации помещичьего хозяйства; крайне правое, стремившееся выиграть время и отстоять интересы класса; наконец, среднее, искавшее путей для введения стихийного процесса в русло государственных интересов. По-видимому, ведомство Колокольцова принадлежало ко второму течению… Еще в процессе подготовительной работы мне приходилось обращать внимание на внесение проектов, в корне расходящихся с духом декларации.
«Правые, – говорит один из участников комиссии, – были идеологами и страстными, убежденными защитниками восстановления помещиков на их землях. Люди писали на бумаге свои чаяния и мечты, не считаясь с тем, что можно было сделать, в новых условиях и чего сделать было уже нельзя. Они представляли цифры и неопровержимые данные, касающиеся теории вопроса… «Вот государственный интерес, – говорили они, – и нам нет никакого дела до того, что кто-то говорит о революции. Революция пройдет. Россия останется. Наше решение должно быть для России, а не для революции»».
Колокольцовская комиссия закончила свои работы в начале июля. «Земельное положение», составленное, ею, в общих чертах имело следующие основания: помещичья земля свыше известной нормы продается добровольно или отчуждается в собственность крестьян – за выкуп; норма не подлежащих отчуждению частновладельческих земель, в зависимости от местности, – от 300 до 500 десят.; целый ряд изъятий в отношении культурных и заводских хозяйств еще больше уменьшал общую площадь переходящих к крестьянам земель; отчуждению не подлежали земли городов, земств, монастырей, церковные, духовных учреждений, ученых и просветительных обществ. По мере занятия отдельных местностей должны были немедленно вступать в распоряжение своими угодьями казна, банки, города, церкви, монастыри, перечисленные выше учреждения, а также, во многих случаях, частные собственники – как, например, землями, не использованными захватчиками или «находившимися в чужом пользовании в течение времени не большего, чем необходимо для одного озимого и одного ярового урожая»…
Наконец, Положение предусматривало, что земельные органы приступят к отчуждению только по истечении трех лет со дня восстановления гражданского мира по всей России!..
Проект этот был мною отвергнут. Колокольцов оставил пост. Проект передан на рассмотрение новой комиссии под председательством нач. управ, юстиции Челищева.
Замечательно, что даже это творение – акт отчаянной самообороны класса – вызвало смятение в правых организациях. На проект Колокольцова, ставший известным Совету гос. объединения, последний отозвался немедленно письмом Кривошеина и постановлением от 14 июля: «…Намечаемое законопроектом огульное принудительное перераспределение владения возбуждает серьезное опасение в том, что проведение его в жизнь породит тяжелые продовольственные последствия для государства и экономическое обессиление его». Совет успокаивал себя только тем, что в течение трехлетнего срока «непреложные законы экономического развития укажут на правильные пути для будущего русского сельского хозяйства». И рекомендовал ограничиться возобновлением деятельности Крестьянского банка и созданием землеустроительной и землемерной организации, которые «внесут в деревню успокоение вернее и скорее, чем «самые красноречивые обещания!»… А Совет всероссийского союза земельных собственников утверждал даже, что «по сведениям, идущим из деревни, народ сознает ныне глубокую моральную разницу между своим и чужим и относится к захвату как к действию преступному и не могущему быть терпимым при восстановлении законной власти». Не видели или умышленно закрывали глаза?
Были, впрочем, и редкие исключения: в Харькове союз земельных собственников в августе принял резолюцию о необходимости скорейшего издания земельного закона в духе моей декларации ввиду того, что дальнейшая проволочка может вызвать опять брожение среди крестьян.
Тем временем подходил сбор урожая и необходимо было дать временные нормы для надлежащего его использования. Злополучный «третий сноп», введенный еще в период нашего походного законодательства на клочке Ставропольской губ. для урожая 1918 г., сохранился в неприкосновенности. В Особом совещании был составлен и мною утвержден ряд положений, имевших тройную цель: обеспечение сельскохозяйственного производства, сохранение принципа собственности и по возможности меньшее нарушение сложившихся в деревне взаимоотношений.
Закон об урожае оставлял его за посеявшим и требовал уплаты аренды владельцу в размере ⅓ хлеба, ½ трав и ⅙ корнеплодов; закон о посевах на 1919–1920 гг. вменял в обязанность лиц, «в действительном пользовании коих земля находится», пахать и сеять, обещая «обеспечить интересы засевщиков при сборке урожая»; закон об аренде предоставлял фактическим обладателям земли (захватчикам) продолжать пользование ею на 1920 г. по договору или без договора, ограничивая известными пределами подесятинную арендную плату. Последующими законоположениями уменьшались нормы натурального арендного взноса (⅕–1/10) и облегчалась возможность дальнейшего пользования землей, подводя под «право захвата» некоторые юридические обоснования.
Правый член Особого совещания, одинаково уважаемый за прямоту и искренность обоими флангами, впоследствии говорил: «Из всех мер Особого совещания наиболее неудачной, наибольшей ошибкой были законы о хлебном налоге[525] и о «третьем снопе». Оба эти закона вышли из правого крыла Особого совещания и вполне на его совести». Это вмешательство власти в острые аграрные взаимоотношения не встретило тогда достаточно сильного отпора в несоциалистической общественности Юга. «Третий сноп» вызывал в буржуазной печати горячие споры о нормах, о деталях, но за редкими исключениями эти споры не колебали принципа. Не раз, когда я приносил в Особое совещание свои мучительные сомнения о правильности такого нашего курса, я слышал не только справа, но иногда и слева совершенно бесспорные юридически истины, что отношение российских законов к захватам гораздо суровее и что колебание принципа собственности грозит большими потрясениями… Наконец «демократический» Дон и сугубо «демократическая» Кубань в своем законодательстве об использовании урожая 1918–1919 гг. придерживались тех же принципов, что и «реакционное» Особое совещание[526]…
А тем временем за войсками следовали владельцы имений, не раз насильственно восстанавливавшие, иногда при поддержке воинских команд, свои имущественные права, сводя личные счеты и мстя. И мне приходилось грозить насильникам судом и напоминать властям их долг – предупреждать новые захваты прав, но не допускать самочинного разрешения вопроса о старых. В местностях, где уже наступило некоторое успокоение, некоторые землевладельцы возвращались в свои поместья и вносили вновь элементы брожения непомерным вздутием арендной платы…
Комиссия Челищева перерабатывала земельный проект при участии нового нач. управл. землед., проф. А. Билимовича, в значительной степени под его влиянием. Но со времени подчинения моего адм. Колчаку самая возможность издания земельного закона стала спорной по существу.
Телеграммой от 28 августа, определявшей пределы моей власти, Верховный правитель уведомил меня, что «общее руководство земельной политикой принадлежит Российскому правительству». На этой почве между Особым совещанием и Омским правительством завязалась переписка, в результате которой последовала на мое имя в особо секретном порядке телеграмма адм. Колчака от 23 окт. № 1005:
«Телеграмма Нератова относительно предоставления Вам самостоятельности в земельном законодательстве заставляет меня с полной искренностью высказать возникающие у меня опасения. Я считаю недопустимой земельную политику, которая создаст у крестьянства представление помещичьего землевладения. Наоборот, для устранения наиболее сильного фактора русской революции – крестьянского малоземелья и для создания надежной опоры порядка в малообеспеченных землею крестьянах, необходимы меры, укореняющие в народе доверие и благожелательность к новой власти. Поэтому я одобряю все меры, направленные к переходу земли в собственность крестьян участками в размерах определенных норм.
Понимая сложность земельного вопроса и невозможность его разрешения до окончания гражданской войны, я считаю единственным выходом для настоящего момента по возможности охранять фактически создавшийся переход земли в руки крестьян, допуская исключения лишь при серьезной необходимости и в самых осторожных формах. Глубоко убежден, что только такая политика обеспечит необходимое сочувствие крестьян в освободительной войне, предупреждая восстания, и устранит возможность разлагающей противоправительственной пропаганды в войсках и населении.
Основные принципы принимаемых правительством мер одновременно Вам сообщаются. Конструкция изданных здесь постановлений по земельному вопросу не всегда удачна и допускает улучшения и даже изменения, но я глубоко убежден в необходимости твердого соблюдения их основных принципов.
Обстановка, где нет острого земельного вопроса, позволяет отнестись к нему с объективной спокойной стороны. Думаю, что ссылка на руководящие директивы, полученные от меня, могла бы оградить Вас от притязаний и советов заинтересованных кругов.
Сердечно желаю Вам дальнейших успехов, как военных, так и в не менее важных делах гражданского и политического устройства.
Адмирал Колчак».
С тех пор работа земельной комиссии получила чисто академическое значение. Земельное положение было выработано в начале ноября, и я приказал отдать его печати, чтобы подвергнуть критике широких общественных кругов. Положение отличалось от Колокольцовского лучшей юридической формулировкой, осторожностью и стиранием острых углов, но основные его мысли были те же. Вот некоторые из его основ: добровольные сделки в течение двух лет; принудительное отчуждение по истечении этого срока; оставление за частными владельцами усадеб, лесов, открытых недр и земли от 150 до 400 десятин – на основании твердых максимумов или особой прогрессии; отчужденные земли могли быть проданы исключительно лицам, занимающимся земледельческим трудом, преимущественно местным; максимальные нормы для покупающих землю были установлены от 9 до 45 (на сев.) десятин.
Проект Билимовича – Челищева, при всех его спорных сторонах, представлял попытку проведения грандиозной социальной реформы и, если бы был осуществлен до войны и революции в порядке эволюционном, законным актом монарха, стал бы началом новой эры, без сомнения предотвратил бы революцию, обеспечил бы победу и мир и избавил бы страну от небывалого разорения. Но с тех пор маятник народных вожделений качнулся далеко в сторону, и новый закон не мог бы уже оказать никакого влияния на события и, во всяком случае как орудие борьбы был совершенно непригоден.
Для характеристики общественных настроений могут послужить те отзывы по поводу проекта, которыми полна была печать. Правые органы видели в нем «огульное уничтожение помещичьего землевладения», и H. H. Чебышев, б. член Особого совещания, писал в «Великой России»: «Отнять землю от хозяйственно образованного человека, любовно удесятерившего долгим трудом и затратами производительность земли, и отдать ее невежде, развращенному безделием, сельскому хулигану – тяжкая несправедливость, ничем не оправдываемый грех»… И грозил, что «в придачу к Махно мы получим Дубровских»…
«Свободная Речь» признавала «общую схему», спорила о деталях и решительно уклонялась от моральной ответственности: «Нам ясно, что силы будущей России – это мелкокрестьянская буржуазия… Мы понимаем, что эти силы должны служить главной основой власти… Но… можно ли спасти хоть что-нибудь и что именно – это может решить только власть… Если она признает, что во имя будущей России нужно санкционировать ликвидацию чуть не всего помещичьего землевладения – пусть будет так». Харьковский съезд партии к.-д. также уклонился от конкретного определения своих взглядов на земельную реформу.
Умеренно социалистические органы видели в проекте «стремление сохранить помещичье землевладение и притом не в виде исключения, а как общее правило». И стояли твердо против проведения аграрной реформы до Учредительного собрания.
Только группы, стоявшие еще левее, требовали немедленного и полного черного передела. Но они находились вне фронта противобольшевицкой борьбы – в стане наших врагов или сохраняли дружественный нейтралитет к советской власти.
Достойно удивления, как мало внимания уделяла печать всех направлений, увлеченная этими теоретическими интеллигентскими спорами, настроениям подлинной жизни деревни, крестьянства, как мало она стремилась проникнуть в замкнутый круг мужицкой стихии… Только официальные осведомители, с упорством верующих или сильно хотящих, изо дня в день твердили: «Мужик хочет «хозяина» и «синюю бумажку» – нотариальный акт на купленную землю»…
Таким образом, вся обстановка, создавшаяся на Юге России в 1919 г., психология общественности, соотношение сил и влияний решительно не способствовали проведению в жизнь в молниеносном революционном порядке радикальной аграрной реформы. Не было ни идеологов, ни исполнителей. Все, что можно было и, вероятно, должно, – это соблюсти «непредрешение», отказаться вовсе от земельного законотворчества, приняв колчаковскую программу – узаконения безвозмездного пользования захваченной землей впредь до решения Народ, собр. – рискуя разрывом с правыми кругами и, следовательно, осложнениями в Армии.
Только Новороссийская катастрофа, нанеся оглушительный удар белому движению, открыла многим людям глаза на тот геологический сдвиг, который совершился в России. Только тогда стало слагаться впечатление, будто «у многих землевладельцев зреет сознание необходимости жертвенного подвига»… Возможно. У одних, быть может, искреннее, у других – продиктованное безнадежностью положения и поисками новых, хотя бы «демагогических», средств для продолжения борьбы.
Только после этого несчастья у многих разверзлись уста, и они свидетельствуют наперерыв, что «знали», «предвидели», «предостерегали» – они, ничего не предвидевшие, слепые и глухие…
Глава XXIV. Особое Совещание: деятельность финансово-экономическая, юстиции, просвещения; пропаганда. Церковь
Один из наиболее серьезных вопросов, составлявший огромный тормоз всем начинаниям Юга, отражавшийся, без сомнения, на нравственном облике войск и на неудачах фронта, был вопрос финансовый.
Хаос в денежном обращении противобольшевицкого Юга слагался исторически, благодаря постоянным изменениям его политической карты. По мере освобождения новых территорий мы получали и новые «наследства», все более усложнявшие вопрос. Кроме кредитных билетов, выпущенных ростовской экспедицией, имели хождение деньги общегосударственные («царские» и «керенские»), советские ««пятаковские»), украинские (карбованцы и гривны), крымские; разменные денежные знаки, выпущенные городскими самоуправлениями и в разных местах Кавказа – советской властью; гарантированные чеки отделений Гос. банка, облигации старых займов, краткосрочные обязательства гос. казначейства и т. д., и т. д., вплоть до векселей, учтенных финансовой комиссией, состоявшей при полк. Шкуро во время его партизанских действий в районе Минеральной группы.
Такое положение было явно нелепо и требовало тех мер, о которых говорили постоянно российская печать, финансовые совещания, съезды торгово-промышленников и т. д.: объединения системы денежного обращения на всей территории освобожденной России, унификации денежных знаков, воссоздания единого Государств, банка и единого эмиссионного права. К этому мы стремились всемерно, но по условиям политическим – суверенности областей – достигнуть этого не могли.
Управление финансов принимало меры к упорядочению денежного обращения с известной осторожностью, так как они отражались сильно на интересах населения, вызывая всегда неудовольствие в массах. Деньги местного хождения заменялись постепенно. Но обмен советских денег оказался нерациональным и совершенно непосильным. Когда после занятия Харькова, в целях облегчения положения неимущего люда, был произведен первый раз частичный обмен «пятаковских» денег, по 500 руб. на человека, это вызвало громаднейшие злоупотребления. Деньги возили целыми возами вслед за наступающей армией даже из районов, ранее освобожденных. Управление финансов прекратило размен и аннулировало все советские денежные знаки, сделав исключение лишь для некоторых выпусков местного хождения на Кавказе: в отношении их определен был краткий срок и нормы обмена.
Наши денежные ресурсы долгое время находились в полной и тягостной зависимости от Дона, так как добиться справедливого распределения эмиссии ростовской экспедиции управление финансов не могло. Как распоряжалось донское правительство выпускаемыми кредитными билетами, видно из следующей справки:
Всего выпущено с 1 января 1918 г. по 15 октября 1919 г. в миллионах рублей – 9202.
Из них выдано:
Крыму – 45, Тереку – 80, Кубани – 601, Главн. командованию – 3982[527], Дону – 4493.
Только к осени 1919. г. управление финансов приступило к выпуску своих денежных знаков, оборудовав экспедицию в Новороссийске, потом – к печатанию их в Киеве, Одессе и Симферополе[528]. Но, отчасти не желая колебать привычные для населения донские знаки, отчасти не справляясь с техническими затруднениями, финансовое ведомство выпускало свои знаки в размерах ограниченных, и, во всяком случае, совершенно не удовлетворявших текущей Потребности.
И «донские», и «добровольческие» деньги не имели за собой никакого покрытия, и хождение их основывалось исключительно на распоряжении властей, инерции и доверии населения. Золотой запас России находился в то время в руках адм. Колчака – 652 милл. руб., у большевиков – 147 милл. и в Париже, у союзников – 320 милл. За границей нам был открыт адм. Колчаком небольшой кредит. Все усилия получить заем или кредит у союзников были безуспешны. Правительственные круги Согласия, связанные своей социалистической демократией, оказать нам серьезную экономическую помощь не могли. Насколько можно было понять из частных разговоров, иностранные правительства, быть может, и рискнули бы оказанием нам крупного кредита, но ценою таких тяжелых концессий, которые, на мой взгляд, сводились к распродаже России…
Финансовые круги стран Согласия, независимые от политических партий, не приходили на помощь, не доверяя прочности положения Юга, и еще по одной причине, о которой один из наиболее крупных русских финансистов и банковских деятелей писал нам из Парижа[529]: «Представители русских финансов, промышленности и торговли не имеют не только общего плана работы, но даже желания принести минимальную жертву своих узколичных интересов для блага родины… При таком положении руководящие финансово-экономические круги Антанты предпочитали воздержаться от помощи, не имея уверенности, будет ли она оказана кому следует и как следует».
При всех этих условиях оздоровление денежного обращения могло быть достигнуто только мерами внутреннего характера.
Тем временем освобожденная территория росла с каждым днем, с чрезвычайной быстротой росли и расходы. Вооруженные силы поглощали огромные средства; деньги нужны были и на содержание разоренных совершенно городов и земств, и на восстановление промышленности. Станок выбрасывал все больше бумажных знаков; в стране, тем не менее, ощущался денежный голод, цены росли непомерно, а рубль все падал и падал.
В печати и специальной литературе, на совещаниях и съездах шли горячие споры по поводу необходимости денежной реформы. Существовали три главных течения в этой области: 1. восстановление сделок на золотую валюту с сохранением обесцененного бумажного рубля, 2. девальвация и 3. повышение внутренней стоимости рубля путем изъятия из населения излишних денег мерами налогового обложения. Начальник финансового управления М. В. Бернацкии придерживался этой, третьей системы, считая в создавшихся условиях невозможным. коренную реформу. Его поддерживали в этом направлении многие ученые-экономисты, в том числе академик Струве, профес. Мануйлов, Ельяшевич и друг.; расхождение было только в вопросах о пределах эмиссии. На этой же точке зрения стояло дважды собираемое финансовое совещание и совещание торгово-промышленников (октябрь 1919 г.), которое, «признавая в будущем неизбежность общей денежной реформы», предостерегало «от всяких преждевременных и частичных опытов в этом направлении».
И правление нажимало налоговый пресс: комиссия Астрова создавала законы по принципам демократизма, облагая прямыми налогами имущие классы, прирост прибыли и предприятий, разницу старой и новой цен на недвижимости и т. д., законы – популярные среди демократии, вызывавшие острые споры между двумя крыльями Особого совещания, но дававшие мало дохода казне по причине общего оскудения, малой законопослушности населения и расстройства налогового аппарата. В то же самое время Бернацкии проектировал косвенные налоги – весьма популярные, но сулившие казне существенные выгоды. Бюджет 1920 г. исчислял доходные статьи в таких предположительных цифрах: от прямых налогов и пошлин – по миллиарду и от косвенных налогов – 18 миллиардов.
Тем не менее, все время и особенно с осени 1919 г. мы не выходили из крайне тяжелого финансового положения. Трудно решить, какая система была бы лучше. Поправила ли бы дело неограниченная эмиссия или, наконец, вся совокупность военно-политической обстановки исключала возможность существования иной финансовой политики и более здорового рубля. Но результаты нашего трагического безденежья – в политическом и военном отношении – играли роль поистине роковую. Если еще в районах, пользовавшихся более продолжительное время миром, жизнь, вопреки всему, кое-как приспособлялась к таким условиям, то на территориях, вновь занимаемых армиями, она становилась невыносимой.
Вот что телеграфировал мне главноначальствующий Киевской области ген. Драгомиров через два месяца после занятия нашими войсками Киева:
«В Государственном банке ни копейки. Все военные заводы, предприятия сокращают производство. Самые неотложные работы по заготовке топлива для железных дорог прекращены, за отсутствием денег и отказа рубщиков работать в кредит. Задолженность войск громадная. Не получая денег, продовольствия, войска переходят на незаконные реквизиции… Посланных мне 150 милл. едва хватит на расплату со старой задолженностью… Если не получу до среды денег и не будет выслана новая порция в 100–150 милл., буду вынужден объявить контрибуцию, что будет лучше, чем тот ужас, который мы переживаем от безденежья. Киев, 27 октября».
Конечно, киевский эпизод был явлением исключительным, но безденежье нас давило всегда и во всем. Что касается собственно обесценения рубля, то, сравнивая положение у нас с судьбой денежного обращения Центральных держав, пораженных войной и революцией, и в особенности – советской России, приходишь к заключению, что состояние нашего рубля было еще не наихудшим. Если даже после катастрофического отхода армий за Дон, в январе 1920 г., Новороссийская биржа определяла курс франка в 100–150 руб., а на внутреннем рынке фунт хлеба стоил там 20 руб., то следовательно инфляция далеко не достигла своих конечных пределов.
* * *
Струве высказывал взгляд, что «никакая реформа денежного обращения, взятая сама по себе, к оздоровлению русского рубля не приведет»; что «лучшая денежная политика – это политика экономическая – восстановление нашей промышленности». Эти две области были тесно связаны между собой и с общим политическим положением, взаимно влияя и сковывая друг друга, страдая общими недугами.
Лоскутность территории возродила порядки средневековья, отгородив таможенными заставами друг от друга все новообразования, и только «Россия», во образе управляемых главным командованием земель, держала открытыми свои границы. Новообразования вводили строгий товарообмен, устанавливали запретительные меры, регистрационные и иные сборы, стремясь развить свою самостоятельную промышленность и торговлю, нарушив совершенно слагавшиеся многими годами торговые и экономические отношения и естественный товарообмен. На этой почве возросли в больших размерах спекуляция, дороговизна и взяточничество. Бывали случаи, что проходившие через Екатеринодар в Новороссийск грузы должна была сопровождать воинская команда, чтобы протолкнуть их через кубанские заставы.
В течение целого года мы стремились к экономическому объединению Юга России и к снятию областных рогаток, но безуспешно. Еще 14 декабря 1918 г. между представителями Добр, армии, Дона и Кубани был заключен договор о таможенном союзе, оставленный новообразованиями без исполнения; 27 апреля 1919 г. заключено было новое соглашение, с присоединением к нему Терека, о создании общего совета для регулирования внешней торговли, но и оно не было одобрено Радой и Кругом; ввиду особенной непримиримости Кубанского правительства, осенью 1919 г. управление торг, и пром. вело отдельные переговоры с Донским правительством и также безуспешно.
Между тем из местностей, находившихся под управлением главного командования, свободно уходили их произведения без всякого товарного эквивалента; установление нами ввозных пошлин теряло смысл, благодаря донским и кубанским «отдушинам» – Ейску и Таганрогу. Наше регулирование вывоза не достигало цели, так как Дон вывозил за границу не только свои товары, но и те запрещенные для экспорта, которые он получал на территории Добровольческой армии. Дон экспортировал антрацит в Константинополь, когда Одесса оставалась без воды и света; Кубань заключала договор с враждебной нам Грузией о поставке ей хлеба, когда рядом страдала от голода Черноморская губ.
Чтобы побудить казачьи правительства к скорейшему упразднению рогаток, осенью было отдано распоряжение установить и у нас таможенные границы и поставить кордон в Керченском проливе. Эта мера, подчиняя экспорт новообразований ведению распределительных органов Особого совещания и воспроизводившая только практику новообразований в течение целого года, вызвала большое возбуждение в казачьих правительствах и получила тенденциозное название «блокады Дона и Кубани».
Круг и правительство Дона однако же пошли на объединение; южнорусская конференция 17 ноября решила немедленно снять все рогатки… Но законодательная Рада и Кубанское правительство после страстных дебатов, после ожесточенных нападок на Особое совещание, вовлекавших в наш спор станицы и кубанские войсковые части, заявило, что «запрещение вывоза и ввоза (ввоз не ограничивался вовсе) заграничных товаров оно считает покушением на экономическую самостоятельность Кубанского края». И не считает возможным участвовать в органе, регулирующем внешнюю торговлю, впредь до отмены всех запрещений… Изнурительная экономическая борьба с Кубанью продолжалась, и внутренние рогатки ее были сняты фактически… только с отступлением армий за реку Кубань.
Политика управления торг. и пром., возглавленного Лебедевым, в области внутренней торговли являлась вначале продолжением политики российских правительств в период мировой войны, ограничивая свободу торговли предметами, необходимыми для снабжения армии, в интересах борьбы. Точно так же ведомство продовольствия оставляло в силе хлебную монополию и твердые цены на хлеб. В начале августа 1919 г. все эти ограничения были отменены и восстановлена свободная торговля хлебом и всеми продовольственными припасами.
Для обеспечения Армии установлена была государственная хлебная повинность – по 5 пуд. с десятины. Операция обставлена была весьма неудачно: установленные цены ко дню ссыпок оказались низкими, а очередной денежный кризис понудил управление финансов ограничить выплату наличными деньгами только одной четверти поставленного населением хлеба, остальную часть – квитанциями. Эта мера встречена была деревней весьма враждебно и послужила предлогом для агитации против Добровольческой армии.
Восстановление свободы торговли в значительной мере тормозилось крайним расстройством транспорта. В июне на освобожденной территории было 4475 верст ж. д. путей, в сентябре их стало 15 678 в., почти четверть всей русской ж. д. сети – дорог, разрушенных большевицким хозяйством и гражданской войной. Для поднятия транспорта нужно было время, и в тот срок, который давала стратегическая обстановка, ведомство путей сообщения справиться с этим не могло. Оттого, например, к августу на донских копях скопилось 90 милл. пуд. угля при наличии общего угольного голода в стране; в Батайском узле образовался затор во много сот цистерн, парализовавший большую добычу грозненской нефти и т. д.
Экспортная политика ведомства торговли и промышленности покоилась на системе точного учета, регулирования и бронирования к частному экспорту целого ряда предметов сырья[530]. Эта политика имела целью удовлетворить прежде всего снабжение Армии и насущную потребность страны, предупредить выкачивание из нее необходимых предметов внутреннего потребления и избежать спекулятивного вывоза. Но в осуществлении этих идей мы, вероятно, переходили пределы необходимости, задерживая в стране те запасы, которые наш транспорт передвинуть не мог. К тому же ведомство стремилось, не ограничиваясь ролью регулирующего начала, брать на себя скупку, извлечение и экспорт забронированного сырья для создания государственного валютного фонда. Кроме обвинений в крупных злоупотреблениях, ничего более эта система не принесла. Только в конце ноября, после замены главы ведомства Лебедева инж. Фениным, экспорт разрешенных к вывозу предметов был передан частной торговле, с отчислением известной части вырученной валюты в казну.
Ввиду больших нареканий на управление торговли и промышленности и видя, что с делом мы не справляемся, я пригласил на совещание в августе в Ростов видных деятелей пром. и торг. – экономистов и кооператоров, проживавших на Юге. Я обратился к присутствующим с просьбой помочь правительству разрешить важный вопрос восстановления промышленной жизни страны. Но, к удивлению своему, я услышал, что собрание в основных чертах разделяет политику ведомства, а панацеей для поднятия промышленности и обеспечения страны считает льготы, казенные субсидии и широкий государственный кредит предприятиям[531]. Эти положения повторил съезд торгово-промышленников, собравшийся позднее в Ростове, выразив уверенность, что «управление финансов приложит все зависящие от него усилия, чтобы все свободные средства были направлены на финансирование промышленности и торговли».
Что касается кооперации, эта форма хозяйственной организации не была надлежаще использована ни для совета, ни для дела. Нужно, однако, заметить, что некоторое предубеждение, сложившееся в Особом совещании против кооперации, имело известное основание: кооперативы все более удалялись от прямого своего назначения – хозяйственного обслуживания населения; деятельность многих из них носила все более спекулятивный характер, и в то же время, захваченные социалистическими партиями, кооперативы, обладая крупными средствами, становились нередко сильными аппаратами их пропаганды. Что же касается украинских организаций, которые под именем «спiлок», «спожiвчих товарiств» и др. группировались вокруг центральных органов – «Днипросоюза» и «Украинбанка», они являлись почти повсеместно очагами самостийной и петлюровской агитации.
Это засилье политики над экономикой отмечено было трезвыми голосами самих кооператоров на съезде в Харькове (в октябре) акционеров Московского народного банка. Но, во всяком случае, кооперативы в основу своей деятельности клали частную инициативу и труд в большей степени, нежели государственные кредиты.
Как бы то ни было, ни внутренний, ни заграничный рынки не дали сколько-нибудь достаточных средств для фронта, для борьбы, для создания надлежащего настроения в занимаемых областях.
Все наше финансово-экономическое положение, таким образом, было безотрадно отчасти – по вине людей, а еще более – стихийных условий жизни. Значило ли это, что успех борьбы безнадежен? Отнюдь: по ту сторону фронта было неизмеримо хуже и тягостнее.
* * *
В условиях меньшего общественного внимания, хотя и столь же трудных духовно и материально, протекала деятельность тех ведомств, которые или мало, или вовсе не вовлекались в политическую и социальную борьбу.
Управление юстиции во главе с Челищевым бережно собирало и восстановляло судебные учреждения. Личный состав их, так же как и в военном ведомстве, подвергался проверке в отношении его участия в деятельности большевицких органов – не столько в невольном сотрудничестве, сколько в приятии большевицкой идеологии и практики. Обследование, веденное без нарушения принципа несменяемости судей, не возбудило такого озлобления, как это было в военной среде, и дало в общем весьма благоприятные результаты в отношении нравственной физиономии служителей русского суда.
Благодаря более развитому чувству государственности в правительствах Дона и Терека, явилась возможность осуществить на освобожденной территории единство высшей кассационной власти и надзора за правительственным аппаратом в лице «Донского» сената, преобразованного в «Правительствующий»; точно так же Новочеркасской судебной палате были подчинены Ставропольский, Владикавказский и вновь образованный Черноморский окружные суды. Только кубанское правительство и в этом вопросе соблюло самостийные начала, воспротивившись объединению, делая попытки создать все элементы суда в пределах области и, вследствие оппозиции этому чинов судебного ведомства, оставив край до самого своего падения бессудным.
Ведомство юстиции восстановляло закон, внося только необходимые поправки в нормы процессуального и материального права, вызванные исключительной обстановкой. Не избегло оно все же вторжения «политики» в вопросе большой важности: «об уголовной ответственности участников установления советской власти и лиц, содействовавших ее распространению и упрочению». В конце июля состоялось постановление Особого совещания о введении указанного закона. Закон предусматривал смертную казнь для лиц, «виновных в подготовлении захвата государственной власти советом народных комиссаров», участников и пособников; прочих – «виновных в содействии и благоприятствовании советской власти» – в мере вины закон карал в пределах от каторжных работ до штрафа в 300 руб.; лица, виновные в преступлении «вследствие несчастно сложившихся обстоятельств, опасения возможного принуждения или иной достойной уважения причины», освобождались от ответственности вовсе.
Закон по духу выражал суровое осуждение коммунизму и коммунистам как разрушителям русского государства. Для них он был беспощаден. Что касается массы населения, так или иначе попадавшей в круговорот вольного или невольного сотрудничества с большевиками, закон давал возможность широкой и безболезненной ликвидации вопроса, ибо почти всю некоммунистическую часть населения, почти весь миллионный кадр «спецов» можно было подвести под третью категорию. И хотя практика судебно-следственных комиссий, руководствовавшихся ранее измененной 108 статьей Уложения, и потом нормальных судебных учреждений была весьма гуманна – во всяком случае, гуманнее общественного настроения – самый факт выхода этого закона считается многими, в особенности теперь, большой политической ошибкой.
Один из тогдашних законодателей, вспоминая прошлое, пришел к убеждению, что таким путем «был упрочен стан красных: люди, которые играли в поддавки и сочувствовали саботажу, начали вести игру в крепкие, ибо в игре – они стали так думать – была их голова»… Несомненно, редакция закона неправильна и давала пищу для кривотолков; впечатление он должен был произвести неблагоприятное.
Мне кажется только, что это настроение невольных сотрудников советской власти несколько сгущено: сомнительно, чтобы люди, привыкшие к юрисдикции «народных судов» и застенка «чрезвычайки», страшились очень нормального русского суда. Особенно, если принять во внимание, что июльский закон был опубликован во всеобщее сведение только в конце октября, когда наше наступление кончилось, и он не мог уже получить широкого распространения.
Деятельность лиц судебного ведомства проходила в обстановке исключительно трудной, не давшей возможности оказать надлежащее влияние на изнанку жизни, на оздоровление тыла. Во всяком случае, в то время, когда мораль считалась предрассудком и преступление явлением заурядным; когда преступники стали почти неуловимы из-за разрушения органов розыскных и полицейских, из-за страха, сковывавшего уста свидетелей, из-за непроезжих дорог – в силу бандитизма и повстанчества; когда вся страна стала территорией гражданской войны, с ее извращениями закона и права; в обстановке нищеты и лишений – деятельность судебного ведомства тем не менее стояла на должной высоте.
Ведомство народного просвещения под управлением Малинина и под руководством проф. Новгородцева, не ломая основ и уклада и не прокладывая новых путей, работало упорно над восстановлением русской школы и улучшением положения учителя. В то бурное время оно почти не привлекало на себя общественного внимания. Только однажды выступление управления по украинскому вопросу, о чем будет изложено позже, вызвало большие дебаты и приобрело большое политическое значение.
* * *
В стороне от других ведомств стояло одно – по существу бескровно-мирное, но призванное играть огромную роль как средство борьбы: отдел пропаганды.
В сентябре 1918 г. ген. Алексеев учредил «Осведомительное отделение» при председателе Особого совещания, поставив во главе его Чахотина[532]. Задачи, поставленные отделению, заключались «в осведомлении командования о политическом положении, осведомлении населения о работах и задачах Добровольческой армии и пропаганде ее идей». Первоначально отделение состояло из двух «бюро» – «печати» и «информационного». Сведения добывались весьма примитивно – «путем опроса лиц, учреждений и приезжих из разных мест, привлекаемых в бюро особыми плакатами»… С первых же шагов учреждение, разраставшееся неимоверно в своем составе, приняло несерьезный характер, обратившись вскоре в убежище для безработной интеллигенции и вместе с тем в новый орган контрразведки – только мелкой, чисто обывательского масштаба. Во «внутренней информации» можно было, например, прочесть о том, что «лицо, не пожелавшее назвать себя, сообщило фамилии следующих лиц, ведущих большевицкую агитацию в станице Смоленской (следует перечень)».
В «информации внешней» встречались довольно любопытные сведения о ходе мирных переговоров (осень 1918 г.):
«Лансинг передал ответ Вильсона на ноту Германии.., что для ведения переговоров необходимо: 1) гарантия превосходства союзных войск на фронте, 2) прекращение Германией своих действий на суше и на море, которые названы «бесчеловечными», и 3) сокращение до бессилия той власти, которая нарушила общий мир и управляет Германией»…
Что же касается агитации, то устная была в то время до крайности элементарна, а графическая ограничивалась почти одним распространением листовок, которые не раз вызывали к себе вместо сочувственного отношения насмешливое.
К началу 1919 г. Чахотинское учреждение успело проявить свою несостоятельность в полной мере, и Особое совещание постановило учредить новый отдел пропаганды, отпустив на него весьма крупные средства, чтобы с первых же шагов поставить широко это важное дело. Главная задача, возлагавшаяся на отдел, состояла в распространении по всей территории России и за границей правдивых сведений как о большевизме, так и о борьбе, которая велась против него на Юге.
Пост управляющего отделом был предложен H. E. Парамонову – к.-д., донскому деятелю, который соединял в себе опыт политической и издательской работы. После больших дебатов внутри Совещания и переписки с донским атаманом центр деятельности пропаганды был перенесен в Ростов как пункт, допускающий мощное техническое оборудование отдела.
С первых же шагов деятельности нового главы пропаганды начались его трения с Екатеринодаром, главным образом из-за его желания «повернуть руль влево». «Мне левизна особенно необходима, – писал он, – и я очень огорчен, что у меня туго подвигается набор видных сотрудников, стоящих теоретически в рядах социалистических партий, но по своему настроению и по кредиту в широких демократических кругах могущих принести нам большую пользу. Окружение себя сотрудниками из кадетов и направо будет коренной ошибкой. Привлечение видных более левых элементов – необходимое условие успеха».
Можно было говорить о необходимости «полевения» политического курса, но самодовлеющее полевение пропаганды внесло бы еще большее расхождение между словом и делом и запутало бы окончательно и без того необыкновенно сложные политические взаимоотношения, существовавшие на Юге.
После ряда трений, осложненных раздельным существованием отдела пропаганды и центра управления (Ростов – Екатеринодар), которое препятствовало личному общению и взаимному пониманию, Парамонов оставил свой пост. Управление его продолжалось всего месяц, причем большую часть времени Парамонов вынужден был уделять заседавшему тогда Донскому кругу, в составе которого он играл видную роль в качестве лидера оппозиции. И новый управляющий отделом К. Н. Соколов принял по существу наследие Чахотина.
Первые же впечатления Соколова от знакомства с «Освагом» были удручающие. Настолько, что возникал даже вопрос – не лучше ли разрушить вовсе старое здание и построить новое?.. Соколову даны были большие средства и полномочия для реорганизации учреждения. Отдел пропаганды тем не менее не поднялся.
Я не могу не признать, что и техника, и внутренняя ценность работы много выросли по сравнению с первыми опытами Чахотина; что деятельность нашей пропаганды, в особенности осведомительная, своими тщательно обоснованными обзорами оказывала помощь правительству; что в рядах ведомства было немало лиц с установившейся высокой литературной репутацией и честным политическим стажем, что, наконец, не один десяток смелых сотрудников пропаганды пал на своем посту от руки большевиков… Но в конечном результате работа отдела пропаганды принесла больше вреда, чем помощи, прежде всего благодаря самому факту всеобщего отрицательного отношения к нему и недоверия ко всему, что носило печать «Освага». Я остановлюсь на важнейших только органических причинах неуспеха этого учреждения.
Прежде всего, проповедуя единство России, оно нашло жесточайших врагов в стане национального и областного сепаратизма и среди всех принципиальных противников правительства. Оно встречало противодействие и осуждение не только в аналогичных учреждениях новообразований, но и в наших крупных штабах и учреждениях, желавших эмансипироваться от отдела пропаганды и вести свою агитацию, свое осведомление.
Та официальная идеология, с которой шли за армией органы пропаганды, вступала иногда в большое противоречие с заявлениями войсковых начальников, вызывая разброд в определениях целей борьбы и недоверие в населении. Практика некоторых войсковых частей, проходивших с карами и местью, не вязалась с проповедью порядка и мира. Эти объективные причины, не зависевшие от отдела пропаганды, далеко, однако, не исчерпывали вопрос.
Личный состав отдела часто не удовлетворял минимальным условиям технической подготовки и полезности работы. Необходимость быстрого развития сети учреждений пропаганды, недостаток людей, часто полная невозможность для руководителей дела ознакомиться с политическим и моральным багажом привлекаемых работников приводили к тому, что на общем поле деятельности встречались элементы, совершенно разнородные: почитаемый писатель, честный журналист, серьезный ученый и наряду с ними – продавец пера и мысли, будирующий против власти социалист-полубольшевик, крайний правый, неблагополучный по связям с Распутиным, наконец, шарлатан – «йог» и «провидец», начинавший ткать новую паутину вокруг членов династии… Остов действующих лиц пропаганды обрастал неимоверным количеством вторых персонажей из не находивших другого применения своему труду представителей интеллигенции и бюрократии, бронированных от военной службы молодых людей, дам и девиц, придававших сумбурный характер всему учреждению. Усилия мои расчистить его встречали упорное сопротивление: штатные должности упразднялись, но вырастали нештатные – «секретных сотрудников».
Общая линия правительственной политики, если и выдерживалась внешне этим пестрым конгломератом работников пропаганды, то во всех интимных, трудно поддающихся оценке и контролю действиях и отношениях их не раз произвольно нарушалась и искажалась. Оттого действительность подносила такие, например, сюрпризы: в одном из важнейших узлов нач. агит. отдела рекомендует своим подчиненным «проповедовать директорию», так как он «против диктатуры главнокомандующего»… Из другого – по освобожденным только что крупным городам Малороссии командируется для агитации адвокат Зарудный[533], который, к удивлению слушателей, ведет пропаганду в пользу Керенского, возбуждавшего тогда общественное мнение Европы против белых армий и вождей, и почти в оправдание большевизма… С другой стороны, один из секретных отделов центрального ведомства пропаганды поддерживает тесную связь и субсидирует негласными суммами «Союз русских национальных общин»[534] – правую организацию, враждебную политике командования…
Это был не сплоченный общностью взглядов и идеологий орган, а «парламент мнений», недостаточно связанный внутренней дисциплиной и сознанием нравственной ответственности.
К «Освагу» в обществе привыкли относиться с легким пренебрежением еще со времен Чахотина. «Осваг» не любили и потому не хотели замечать и некоторых положительных сторон его деятельности; не прощали ему и промахов, всегда возможных в нервной обстановке гражданской войны – в особенности, когда эти промахи носили комический оттенок. И то, чего не могли сделать справедливое возмущение или наоборот – злоба и зависть, то довершила насмешка – это отточенное и ядовитое оружие общественного мнения.
Насмешка доконала «Осваг».
* * *
Я очертил вкратце правительственную деятельность, касаясь главным образом важнейших сторон ее, преимущественно тех, которые имели прямое и непосредственное влияние на течение и исход борьбы. В этой сжатой схеме поневоле опущены положительные стороны, существенные детали тяжелой большой и полезной работы правительства и подчиненных органов в обстановке, исключительно тяжелой морально и полной физических лишений. Власть тогда была не целью, не удовлетворением, а подвигом.
И этот подвиг очень многие несли – по крайнему своему разумению – честно и бескорыстно.
* * *
Пронесшаяся над русской землей буря, задевшая все основы человеческой жизни, не прошла бесследно и для православной церкви. Церковная жизнь настоятельно требовала устроения. И перед властью стали некоторые осложнения в политическом (автокефалия украинской церкви) и бытовом отношении, выходившие далеко за пределы самой церковной жизни и не разрешимые без нарушения канонов. По инициативе протопресвитера Шавельского, я обратился в начале марта к православным иерархам, прося их созвать совещание с целью разрешить вопрос о высшем церковном управлении. После долгих трений и колебаний, 20 мая в г. Ставрополе состоялся, наконец, Поместный собор из епископов, выборного духовенства и мирян, который учредил «Временное высшее церковное управление»[535], принявшее на себя высшую церковную власть на Юго-Востоке России «до установления правильных сношений со Святейшим патриархом».
Вместе с тем в Особом совещании учреждено было управление исповеданий, во главе которого стал князь Г. Трубецкой, и в сентябре опубликована была декларация о взаимоотношениях церкви и государства:
«В твердом убеждении, что возрождение России не может совершиться без благословения Божия, и что в деле этом Православной церкви принадлежит первенствующее положении, подобающее ей, в полном соответствии с исконными заветами истории, признаю необходимым установить нижеследующее:
В согласии с новыми началами, на которых создается государственная жизнь России, и в соответствии с постановлениями Всероссийского Поместного собора, Православная церковь свободна и независима в делах своего внутреннего распорядка и самоуправления.
Впредь до выработки особых по сему предмету законоположений, учрежденному ныне временному управлению исповеданий надлежит иметь наблюдение за соответствием постановлений власти Православной церкви в делах, соприкасающихся с областью государственных и гражданских правоотношений, с существующими общими государственными узаконениями. Через его посредство осуществляется поддержка, оказываемая государственной властью Церкви в ее материальных и иных нуждах.
В своих отношениях к инославным и иноверным исповеданиям временное управление исповеданий должно руководствоваться началами свободы совести и веротерпимости, предоставляя каждому признанному в государстве исповеданию, в полном соответствии с общими государственными началами, свободу самоуправления в делах внутреннего, чисто религиозного характера, не соприкасающихся с областью государственных и гражданских правоотношений. В борьбе с общим врагом, разрушающим начала государственности, все эти исповедания призываются содействовать среди своих последователей общей задаче оздоровления и воссоединения России».
Собор обратился с бодрящим словом к народу, вождям и Армии и с увещанием к красноармейцам.
Но и в этот вопрос не преминула вмешаться политика: крайне правые группы пытались придать этому начинанию специфический политический оттенок. После неудачи, постигшей Пуришкевича и Востокова, которых не допустили выступить на Соборе с весьма боевым «сыновним обращением», эти группы охладели к Собору и к Высшему церк. управлению, огульно заподозрив его в «кадетизме».
Что касается левых партий, они отнеслись также с большой подозрительностью к «поповской мобилизации» и к «втягиванию духовенства в политическую жизнь». Обвинения эти были неосновательны. Духовенство вовлекалось иногда в политику, но не властью, а своим участием в политических организациях. Церковное управление не раз предупреждало проповедников «от скользких путей политической пропаганды», не разумея под этим, конечно, выступлений против гонителей веры и церкви – большевиков.
Присутствуя при открытии Собора, в своей речи я высказал и свой взгляд на задачи его и духовенства:
«В эти страшные дни одновременно с напором большевизма, разрушающим государственность и культуру, идет планомерная борьба извне и изнутри против Христовой церкви. Храм осквернен. Рушатся устои веры. Расстроена жизнь церковная. Погасли светильники у пастырей, и во тьме бродит русская душа, опустошенная, оплеванная, охваченная смертельной тоской или тупым равнодушием.
Церковь в плену. Раньше у «приказных», теперь у большевиков. И тихий голос ее тонет в дикой свистопляске вокруг еле живого тела нашей Родины. Необходима борьба. И я от души приветствую поместный Собор Юга России, поднимающий духовный меч против врагов Родины и Церкви.
Работа большая и сложная. Устроение церковного управления и православного прихода. Борьба с безверием, унынием и беспримерным нравственным падением, какого, кажется, еще не было в истории русского народа… Борьба с растлителями русской души – смелым пламенным словом, мудрым деланием и живым примером… Укрепление любви к Родине и к ее святыням среди тех, кто в кровавых боях творит свой жертвенный подвиг».
К сожалению, невзирая на усилия многих достойных пастырей, церковная проповедь оказывала мало влияния на массы: сеятели были неискусны или нива чрезмерно густо заросла плевелами…
Глава XXV. Внешняя политика правительства. Парижское военное и политическое представительство. «Русский вопрос»
В конце октября в Екатеринодар прибыл бывший российский министр иностранных дел Сазонов и занял пост начальника управления иностранных дел в Особом совещании. Назначение его принято было общественным мнением сочувственно. Самостийные круги, хотя и будировали несколько, но признавали авторитет Сазонова; не протестовали и умеренно левые, а «Утро Юга» приветствовало даже назначение Сазонова – под тем, однако, условием, чтобы он опирался на «всероссийскую демократическую власть».
Вопрос замещения этой должности имел большое значение для Юга ввиду общего стремления к объединению российского представительства на предстоящей мирной конференции. Мы жили иллюзиями, что голос наш будет там услышан…
Отражением взглядов южной российской общественности на характер и задачи этого представительства является «Памятная записка», поданная правительствам держав Согласия через екатеринодарских их представителей[536]. Главнейшие положения записки заключались в следующем:
- «Советское правительство не только не имеет права представлять Россию.., но само существование этой банды убийц и разбойников… не должно быть терпимо.
- Россия просит союзников поспешно прийти ей на помощь… Мы надеемся, что в этой войне за гуманность и справедливость будут совместно действовать союзные и местные (русские) войска.
- Эфемерные государственные образования.., приобретшие мнимую независимость,., не могут принимать участия в процессе освобождения и объединения России, пока они не откажутся от своих притязаний на отдельное существование. Они не должны претендовать на отдельное национальное представительство. Необходимо осторожно относиться к притязаниям отложившихся областей, вроде Украины, Дона, Литвы, Прибалтийских губ., Кавказских республик и даже Финляндии, независимость которой не была признана Временным правительством… Будучи представлены отдельно, они усилили бы только элементы разложения и слабости.
- Настоящая Россия может быть представлена только единой делегацией, объединяющей все оставшиеся здоровыми, среди разрушения, элементы. Есть два центра объединения ее сил – на сев.-востоке и юго-востоке России».
Преимущество записка отдавала второму – в силу близости к проливам, экономических условий Юга, существования там Добровольческой армии и притока «опытных и солидных государственных людей.., которые начинают уже образовывать составные части будущего правительства, способного сложиться в будущем путем добровольного соединения с другими действующими центрами»…
- Не ожидая конца этого слияния, «наши бывшие послы… могли бы представлять Россию и ее интересы… Несколько других, лучше осведомленных о недавних событиях, присоединятся к ним в качестве представителей тех центров объединения, о которых упомянуто выше».
Таким образом, в вопросах внешнего представительства сходился довольно широкий фронт правой и либеральной общественности, не было в этом отношении и серьезного расхождения с умеренно левыми, наконец, и правительство Юга разделяло эти взгляды.
С целью разработки вопросов, связанных с предстоящей конференцией, в ноябре учрежден был при управлении иностранных дел «Совет по делам внешней политики» под председательством Сазонова. В Совете должны были принять участие А. А. Нератов, М. М. Винавер, П. И. Новгородцев, Г. Н. Трубецкой и Г. А. Казаков; предложено было включить в состав его по одному представителю от Дона и Кубани, но обе «державы» уклонились, причем бывший в то время атаман ген. Краснов, отнесясь вообще отрицательно к предложению, требовал «паритета» для Дона и Кубани: «Если бы я мог согласиться на то, чтобы на шесть представителей Добровольческой армии явился один представитель Донского войска, то донские казаки (?) с этим никогда не согласятся»[537].
Времени для споров не было, и я поручил представительство Юга в Париже единолично Сазонову. По сообщении этого решения новообразованиям, к нему присоединились Крым и Дон, причем атаман настаивал лишь на включении в состав парижской делегации, в качестве советников, назначенных им лиц, что не встретило препятствий.
С Кубанью вышло сложнее. На основании постановления Рады, правительство Быча накануне своего ухода в отставку избрало заграничную делегацию «для широкой информации и защиты интересов края». В состав ее вошли – сам Быч, Савицкий, Намитоков – все члены «черноморской группы». Эта делегация пожелала взять на себя и представительство на мирной конференции, независимо от правительства. В результате препирательств и компромисса была послана в Париж одна делегация – «правительственная», но в состав ее были включены Быч и его спутники и добавлены еще два члена: доктор Долгополое (от правительства) и Д. Филимонов (от атамана). И хотя в наказе, данном делегации, было указано, что она посылается «для содействия общему представителю государства Российского С. Д. Сазонову», но предварительные прения о наказе выяснили полную непримиримость Быча и его единомышленников с такою точкой зрения[538].
В середине декабря Сазонов уехал в Париж, снабженный наказом, выработанным в Особом совещании и утвержденным мною. Этот наказ касался исключительно внешнего положения русского государства и основной задачей признавал восстановление status quo ante bellum в отношении русских владений, за исключением земель, имеющих отойти к независимой Польше.
* * *
Внешне обстановка складывалась как будто благоприятно. В начале января 1919 г. адмирал Колчак назначил Сазонова министром иностранных дел Омского правительства, и, таким образом, в его лице объединено было представительство Юга и Востока. Но, приехав в Париж, Сазонов застал там уже существующее представительство, говорящее от имени России, не признанное в этом качестве союзниками, и в частности французским правительством, но персонально находившееся с ним в некоторых сношениях. Это было так называемое «Русское политическое совещание в Париже» во главе с кн. Львовым[539].
Приезд Сазонова был встречен весьма несочувственно: в парижских пробольшевицких газетах, под влиянием русских левых кругов, появились статьи по адресу «недобитого царского министра» и «нежеланного гостя»; Клемансо уклонился от приема Сазонова; члены Политического совещания стали настойчиво убеждать его, что имя его одиозно для французской демократии, что изолированное выступление его невозможно, так как с ним никто из правящих кругов разговаривать не станет… И Сазонов уступил без борьбы, войдя рядовым членом в состав Политического совещания, о чем я узнал много позднее.
В первых числах января состоялся обмен телеграммами Сазонова и Маклакова с Омском, в результате которого адм. Колчак писал мне: «Согласно этим телеграммам, я от себя и от имени правительства, образовавшегося на территории Сибири и Урала, уполномочил представительство России (на мирной конференции) в составе: кн. Львова, Сазонова, Маклакова и Чайковского. Полагаю, что Вы не разойдетесь со мной в этом важном вопросе»[540]. Я не противоречил.
В состав Политического совещания должно было войти также по одному представителю Дона и Кубани. Но когда после долгих блужданий появилась наконец в Париже делегация Быча, на соединенном заседании донской и кубанской делегаций было решено не входить в состав Совещания по следующим мотивам: «Вступление в состав Совещания связало бы делегации в их выступлениях и переговорах с союзниками, или с другими государственными образованиями; с другой стороны, не дало бы практически полезных результатов, ибо, по собранным сведениям, к Совещанию со стороны демократических сфер установилось отрицательное отношение, а в сферах правительственных к голосу Совещания совершенно не прислушиваются».
Донцы вскоре вернулись на Дон, из состава кубанской делегации вышел, подав протест против ее решения, Долгополов, а Быч со своими тремя товарищами[541] остался надолго в Париже, примкнув к наиболее непримиримым и враждебным России самостийным организациям. В первом же своем «меморандуме» державам Согласия делегация Быча заявила, что «наилучшей для себя помощью кубанцы считали бы прекращение гражданской войны, но это невозможно, ибо советская власть добровольно не откажется от притязаний на Кубанский край» и что «кубанцы ведут войну исключительно оборонительную». Делегация просила «всякой амуниции для своей армии», а «прежде всего, главнее всего, моральной поддержки в борьбе с большевизмом как слева, так и справа (черносотенством)».
Совещание имело совершенно неопределенные функции. Выделенные из состава его четыре члена (кн. Львов, Маклаков, Сазонов и Чайковский) только и имели, по существу, право представительства сибирского и екатеринодарского правительств. Обращения к союзным державам и Мирной конференции подписывали иногда Сазонов и Чайковский от имени трех объединенных правительств, иногда все четыре лица – от имени «Совещания». В непосредственном ведении его находились «Экономическое совещание» (Рафалович), бюро прессы (Саблин), канцелярия и посольство.
В подведомственные отношения и в финансовую зависимость от Политического совещания стали также учреждения ген. Щербачева, который взял на себя представительство кроме армий Юга еще и Восточной и Западной (Юденича). Кроме штаба его организация состояла из отдела заготовок и снабжений (ген. Гермониус), отдела, ведавшего личным составом русских военнопленных и бывш. во Франции русских бригад (адм. Погуляев), и военно-исторического и статистического комитета (ген. Палицын).
Содержание этих учреждений стоило Совещанию 125 тыс. франков ежемесячно, деятельность же по многим причинам была весьма ограничена. Для Юга, по крайней мере, мало ощутима. Главная задача, которую поставил себе ген. Щербачев – формирование армий в Чехии и Сербии из контингентов русских военнопленных и местных добровольцев, вследствие общих политических условий, психологического состояния наших военнопленных и отсутствия средств[542], не имела никаких результатов.
* * *
Политическое совещание представляло из себя далеко не однородное целое. Об общем характере его один из видных участников Совещания говорит:
«В той работе, которая совершается здесь, в Париже, русским центром, нужно различать две стороны: 1) отстаивание единства, целости и суверенитета России, которые должны быть дороги всем русским, независимо от их политического направления, и 2) тенденцию, при помощи сильных внешних покровителей союзников, спасти русскую «демократию» и русскую «революцию».
Так как союзники требуют от нас «демократизма», а некоторые русские элементы здесь и все инородцы только и делают, что доносят союзникам на «антидемократизм» русского национального движения, и в частности Парижского политического совещания, то мы все, каковы бы ни были наши политические убеждения, вынуждены считаться с этой атмосферой. Но для одних это – внешняя неотвратимая обстановка, в которую в силу исторического несчастья вдвинуто дело восстановления России, для других это – желанная поддержка их собственных «левых» аспирации, которые, как это они не могут не чувствовать, потерпели позорное фиаско».
Практически это столкновение взглядов давало такую картину работы (март 1919 года):
«Три четверти времени уходит на бесполезную грызню между собой, заподазривание друг друга в злых замыслах. Если это продлится еще некоторое время и выйдет наружу, то мы совершенно погубим себя. И мы это здесь понимаем, и в последнюю минуту самые, казалось бы, непримиримые останавливаются. Так, здесь назревал и чуть не разразился большой конфликт между Сазоновым и представителями общественного мнения, которые находили, что он слишком отстал и недостаточно считается с духом времени. Всем стало ясно, что если подобное разразится, если ссора между русскими в момент Мирного конгресса выйдет наружу, то всякое уважение к нам пропадет и, может быть, надолго».
Впрочем, решения, говорит участник, вырабатывались почти всегда «единодушные, т. е. … компромиссные».
* * *
Париж и Западная Европа жили главным образом теми готовыми умозаключениями, которые им подсказывала русская эмиграция и прежде всего ее политический центр – Париж. По словам кн. Львова[543], общественное мнение союзных держав «оценивало наши правительства в такой постепенности по демократизму»:
«Первым стоит Архангельское. Оно не возбуждает сомнений в реакционности, главным образом, благодаря Чайковскому и потому, что оно не сильно и не так существенно.
Затем Омское, которое после переворота Колчака вызвало бурю негодования, но когда выяснилась позиция Колчака, опирающегося на демократическо-радикальные слои, все-таки с ним мирятся. Здесь нам в этом деле удалось рассеять сомнения.
Что же касается Южного, то оно прямо считается реакционным. В доказательство приводится все, что угодно: приглашение всех старого режима министров (?), наличие множества генералов, представительство Сазонова, отсутствие в составе правительства соц.-дем., отношение к Донскому кругу и Краснову, коего как антитезу Добровольческой армии выставляют как истинно демократическое начало, и, наконец, самое офицерство, которое кутит и поет «Боже, царя храни».
Союзники терялись в тех противоречивых до крайности мнениях, которые исходили от русской эмиграции. Среди той взаимной ненависти, непонимания, наветов и обличений друг друга в самых тяжелых не только политических, но и уголовных преступлениях…
Париж стал сборищем политических деятелей всех рангов и направлений, в том числе людей особого типа – коммивояжеров от политики, обивавших все пороги со своими жалобами и проектами, со своим вздутым ослепленным самомнением, своим «я», доминировавшим над интересами борьбы и Родины[544]…
Революционная демократия в огромном большинстве вложила меч в ножны и ополчилась против реакции, которая «идет на штыках колчаковских и деникинских армий»[545]. К ним присоединились всецело представители многочисленных лимитрофов – непримиримые и озлобленные. Весь этот лагерь вел сильнейшую борьбу «против Колчака и Деникина», имея особенный успех среди социалистов Запада. Если бы все же эта реакция могла быть донесена до Кремля, насколько свободнее вздохнул бы тогда русский народ!
В кругах, близких к Политическому совещанию, признавалась всецело идея «борьбы до конца». Но отношение их к борющимся силам было не одинаково. В нем обозначалось течение, ослаблявшее не раз позицию Юга и отозвавшееся, несомненно, на настроениях французов, косвенно на событиях в Одессе и Крыму: «За Колчака, против Деникина». К нему примкнули, по-видимому, и оба наших представителя – Сазонов и ген. Щербачев. Казалось в высшей степени странным это привнесение со стороны элемента борьбы и соперничества в отношения двух людей, отличавшиеся глубокой искренностью, единомыслием и стремлением к единению…
Думаю, что немалую роль в этом вопросе сыграли два обстоятельства: с одной стороны, непризнание Екатеринодаром руководящей роли за Политическим совещанием и, с другой – большие стратегические успехи Восточных армий в начале 1919 г., в то время, как Армия Добровольческая, покончив с Северным Кавказом, только еще поворачивала с тяжелыми боями на север. Во всяком случае, летом, с выходом Воор. сил Юга России на московские пути, изменится и отношение Совещания, хотя общее направление политики Южного правительства не претерпит изменения. Вообще во внешних и внутренних взаимоотношениях главную роль играл успех.
Опираясь на представительство таких реальных сил, как Восток и Юг России, Совещание получило известный вес в общественном мнении, но само к силам этим относилось с некоторым высокомерием, как к правительствам «провинциального масштаба». Считая себя органом всероссийского значения, Совещание заняло самодовлеющее положение и в отношении иностранцев и в отношении представляемых им сил, стараясь руководить действиями последних. Не знаю, как отнеслось к этому Омское правительство, но Южное – отрицательно.
Между прочим, в самый разгар нашей борьбы с кубанскими самостийниками, в начале апреля, кн. Львов от имени Совещания прислал мне телеграмму с резким осуждением деятельности Южного правительства:
«Совещание считает необходимым, учитывая критическое положение, создавшееся для дела спасения России, сообщить, что в союзных странах, как и вообще в Европе, демократические течения чрезвычайно усилились, не считаться с ними ни одно правительство не может… Те сведения, которые поступают с Юга от официальных представителей местных правительств, от общественных деятелей самой различной политической окраски, от агентов союзников о взаимоотношениях между местными правительствами и Добровольческой армией, усиливают позицию тех, которые защищают здесь большевиков, и ослабляют тех, кто может и хочет нам оказать помощь. Совещание бессильно чего-либо здесь добиться, если на местах не будут учитывать указанной обстановки…
Всякий слух о раздорах военных властей с местными правительствами и выборными правительственными организациями, внесение политических соображений в военное дело, а тем более обнаружение реакционных симпатий, стремлений к политической реставрации, отобранию земель от крестьян, хотя бы со стороны отдельных лиц, близких к Добровольческой армии, убивает сочувствие и доверие к национальному движению… Недостаточно только избегать подобных ошибок, надо установить явно дружелюбные отношения с Краевым правительством, иметь в составе правительства популярные имена, восстановить и поддержать широкий политический фронт и сделать так, чтобы большевики были изолированы в своей борьбе со всей Россией».
О содержании этой телеграммы одновременно с нами была поставлена в известность Парижем и Кубанская законодательная рада, поместившая ее на страницах газет самостийного направления. Это обстоятельство заставило меня предать гласности и мой ответ:
«Париж. Министру Сазонову.
По поводу телеграммы № 669 Маклакова, передайте кн. Львову, что я интересуюсь политической обстановкой и отношениями к России, установившимися в Париже. Вместе с тем признаю совершенно бесполезным намерение руководить действиями Екатеринодарского правительства со стороны лиц, оторванных от России, не знающих и не понимающих вовсе той обстановке, в которой совершается в ней трудное дело государственного строительства.
Деникин».
Эта переписка ухудшила значительно отношения русского Парижа к Екатеринодару, но, во всяком случае, привела их в полную ясность.
Мало-помалу, стало выясняться, что правительство Юга, по существу, не имеет в Париже никакого представительства. Ни в смысле защиты наших интересов, ни в осведомлении Запада о деятельности и боевых успехах армий Юга, ни даже простого опровержения тех вздорных слухов и небылиц, которые распространялись нашими недругами.
С парижским политическим совещанием я не сносился. Официальные отношения между управлением иностр. дел Юга и Сазоновым, хотя и продолжались, но существенного значения не имели. Реальная политика, касавшаяся не только интересов Юга и борьбы его, но и некоторых вопросов общегосударственных, велась непосредственно в Екатерине даре. И так как до осени 1919 г. иностранные державы держали при командовании Юга исключительно военные миссии, то, естественно, многие вопросы проходили мимо нашей дипломатии, разрешаясь главным образом мною, совместно с председателем Особого совещания, и отчасти начальником военного управления. Общее направление нашей политики, с которым Особое совещание знакомилось еженедельно на заседаниях, в моем присутствии, не вызывало никогда розни среди его членов.
* * *
Наши ожидания не сбылись: русское представительство не было допущено на Мирную конференцию ни с решающим, ни с совещательным голосом. Политическое совещание и делегация («четверка») по собственной инициативе, иногда по приглашению столпов конференции, отзывались на животрепещущие вопросы, связанные с судьбами русской державы, декларациями, записками, иногда личными неофициальными беседами, но выступления их встречали внимания не многим больше, чем «манифесты» Керенского и «меморандумы» державных лимитрофов.
Было бы ошибочно и несправедливо, однако, отрицать значение этой «декларативной работы» русского парижского представительства: среди разноязычной толпы могильщиков России, для которой они изобрели эпитет «бывшей», среди громкого гомона «наследников», деливших заживо ее ризы, нужен был голос национального сознания, голос предостерегающий, восстанавливающий исторически перспективы, напоминающий о попранных правах русского государства.
Это было важно психологически и не могло не оказать сдерживающего влияния на крутые уклоны руководителей мирной конференции, на колеблющиеся общественные настроения Запада.
Об этих настроениях русский посол в Париже Маклаков писал на Юг:
«Пять лет войны и напряжения всех сил вызвали реакцию… Когда было заключено перемирие, все бросились отдыхать по-своему: люди состоятельные стали одеваться, раздеваться и танцевать, забыв о всяких ограничениях; рабочий люд стал требовать сокращения рабочего дня и повышения заработной платы… В некоторых странах в миниатюре повторяется то, что происходит в России, – рабочий труд не окупает уже рабочей платы и рабочие становятся пенсионерами государства…
Вместе с тем политические претензии рабочего класса и вообще широких демократических масс, как принято у нас выражаться, очень возрастают. Везде правительства, представляющие правящие классы, чувствуют себя на вулкане, везде против них идут претензии тех, кто хотел бы занять их положение, смотрят с завистью и предубеждением на всякое социальное неравенство и преимущество и, благодаря этому, к нашему большевизму относятся с нескрываемой симпатией. «Конечно, – говорят они, – там много дикости и глупости, но общая идея нам нравится».
Везде, где демократия начинает чувствовать свою силу, находятся и демагоги; и вот здешние демагоги, которые пока еще не победили, но приобретают сторонников с каждым днем, находят слишком благодарную почву и в медлительности мирных переговоров, и в безвыходном положении правящих классов перед финансовыми затруднениями, и в неумении их выйти из войны не поврежденными…
Не в этом настроении, не в этой атмосфере можно создать что-нибудь прочное и идти водворять порядок в России.
Заставить сейчас, после заключения перемирия их войска (союзников) сражаться за Россию – выше сил какого бы то ни было правительства. А главное, здесь сейчас начинается такая кампания – демагогическая, взывающая к желанию покоя и мира, изображающая всех антибольшевиков реакционерами и реставраторами, что союзные правительства боятся дать сражение своим большевикам на непопулярном сейчас лозунге интервенции»[546].
В конечном результате, все более ясное понимание реальной опасности русского большевизма правящими классами и, с другой стороны, – равнодушие или даже отчасти сочувствие в то время к нему на Западе масс привело к непонятной, извилистой и гибельной для нас политике держав Согласия в русском вопросе.
Первым ее последствием был отказ от всех торжественных обещаний и деклараций, провозглашенных под влиянием военной психологии победителей: по инициативе Вильсона, с одобрения Ллойд Джорджа и при отрицательном отношении Клемансо состоялось постановление Мирной конференции, переданное нам по радио 12 января:
«Союзные представители подчеркивают невозможность заключения мира в Европе в случае продолжения борьбы в России. Поэтому союзники приглашают к 15 февраля сего года все организованные политические группы, находящиеся у власти или стремящиеся к ней в Европейской России и в Сибири, не более трех представителей от каждой группы, на Принцевы острова в Мраморном море, для предварительных переговоров, где будут присутствовать и представители союзников. Финляндия и Польша как автономные единицы в переговорах не участвуют.
Союзники считают, однако, необходимым до переговоров – заключение перемирия между приглашенными группами и прекращение всяких наступательных действий. Союзники уверяют в своих дружественных чувствах к России и русской революции».
Это был первый, серьезный удар национальному русскому движению со стороны союзников.
За посылку своих представителей на Принцевы острова высказались только совет комиссаров, Эстония и… Одесса. Полагая, что термин «организованные группы, стремящиеся к власти», имеет прямое к ним отношение, одесские буржуазные и социалистические организации (Сов. гос. обороны, Союз возрождения, Отдел Национального центра[547], Земско-городское объединение и друг.) после обсуждения вопроса в ряде заседаний и после споров о числе мест избирали уже своих кандидатов…
Почти все остальные группы отнеслись к предложению резко отрицательно. В Екатеринодаре ему вначале просто не поверили. Так же было и в Омске, где адм. Колчак, по словам Гинса, заявил иностранным представителям, что предложение «неясно по содержанию и искажено», а поэтому он как правитель «не будет вовсе на него отвечать», а в качестве главнокомандующего «отдаст приказ войскам, что разговоры о перемирии с большевиками распространяются врагами России и что он готовится к наступлению». С осуждением к проекту отнеслась и большая часть английской и французской печати.
Наконец, первого февраля Сазонов и Чайковский от имени трех объединенных правительств обратились к Мирной конференции с меморандумом: «Высоко ценя побуждения, внушившие союзникам их предложение», они вынуждены заявить, что «не может быть речи об обмене взглядами по сему поводу с участием большевиков, в которых совесть русского народа видит только предателей… Между ними и национальными русскими группировками невозможны никакие соглашения».
Под влиянием почти единодушного в этом вопросе общественного мнения, проект «Принкипо» было быстро похоронен. Керзон в палате лордов проводил его надгробным словом: «Правительство не может объявить войну большевикам, так как это вызвало бы необходимость содержать большую оккупационную армию. Оставить же Россию мы также не можем – это была бы политика эгоистичная. Вот почему предложен на конференции принцип прекращения военных действий в России, но вовсе не признание большевицкого правительства. Разговаривать с разбойниками – не значит признать разбой»…
Идея интервенции отпадает. Последние неудачные и немощные попытки ее в Одессе и в Крыму вызовут в русском обществе резкую перемену во взглядах на спасительность интервенции вообще, ксенофобию и – в известных кругах – возврат германофильских симпатий. Державы Согласия ограничиваются материальной помощью, но и в этой области не достигнут единства: Америка отходит в сторону, Франция оказывает помощь преимущественно лимитрофам, Англия – и лимитрофам, и белым русским армиям. Если правительства в направлении помощи руководствуются исключительно субъективно понимаемыми интересами своих стран – спасением от распространения воинствующего большевизма, то западные демократии исходят из более идиллических соображений: длинным рядом лет инородцы и российские либеральные и социалистические круги заносили на Запад свою психологию, свои обвинения «царского» режима и возбуждали симпатии к «угнетенным» им народам России; теперь пресса, пропаганда и личные воздействия представителей национальных образований еще более подогревают симпатии к «угнетенным».
«Глубокая пропасть, – писал Маклаков, – образовалась между воззрениями той части русских, которая, не ослабевая, продолжает национальную защиту России, и настроениями Запада – не только западных врагов, но и друзей России. Если бы кто-нибудь здесь стал говорить, что Россия будет унитарна, что… местная автономия отдельных национальных территорий… будет дана сверху, единым Учредительным собранием, и что пределы этой автономии могут им изменяться, то на него посмотрели бы как на реакционера и чудака».
Между тем именно так смотрели на взаимоотношения к новообразованиям и Екатеринодарское, и Омское правительства. Парижское совещание пошло несколько дальше, и от его имени, за подписью «четырех», представлена была Мирной конференции декларация (май 1919 г.), в которой державам предлагалось признать, что
«все вопросы, касающиеся территории Российского государства в его границах 1914 г., за исключением этнографической Польши, а также вопросы о будущем устройстве национальностей, живущих в этих пределах, не могут быть разрешены без согласия русского народа. Никакое окончательное решение не могло бы, в связи с этим, состояться по этому предмету до тех пор, пока русский народ не будет в состоянии выявить свободно свою волю и принять участие в урегулировании этих вопросов».
Что касается теоретических взглядов «новой России», декларация поясняла, что «она»
«не разумеет своего восстановления иначе, как на основе свободного сосуществования составляющих ее народов, на принципах автономии и демократии и даже, в некоторых случаях, на условиях взаимного соглашения между Россией и этими народностями, основанного на их самостоятельности».
И эта формула оказалась неприемлемой. Новообразования требовали немедленной и полной самостоятельности. Частные сношения отдельных членов Совещания и инородческих делегаций были решительно безрезультатны; официальных не установилось вовсе, так как новообразования соглашались признавать Совещание только за представительство «Великороссии». Лишь однажды представители Литвы и Белоруссии (?) приняли помощь государствоведов Совещания при определении восточной границы Польши, оказанную им в целях ограждения Российской территории от польского захвата.
Узнав об обмене мнений между адм. Колчаком и Верховым советом в дни, когда предполагалось признание, шесть «государств» – Эстония, Грузия, Латвия, Северный Кавказ, Белоруссия и Украина – тотчас же поспешили уведомить, что «всякие постановления органов русской государственной власти не должны иметь никакого отношения к ним». И кубанская делегация не преминула обратиться также с просьбой признать Кубань «независимым государством», допустить представителей ее к участию в работах Мирной конференции и принять «Кубанскую республику» в число членов Лиги наций.
Мирная конференция не взяла на себя разрешения русского вопроса. Она признала лишь «неотчуждаемую независимость всех территорий, входивших в состав бывшей Российской империи» – в смысле отказа Германии от всяких притязаний на них.
Из Парижа нам писали часто: помощь союзников недостаточна потому, что борьба Юга и Востока непопулярна среди европейских демократий; что для приобретения их симпатий необходимо сказать два слова:
— Республика и Федерация.
Этих слов мы не сказали. Но, если бы другая власть допустила такое вмешательство извне в русские дела и вышла из рамок непредрешения коренных вопросов государственного устройства России до народного – в той или другой форме – волеизъявления, что изменилось бы в истории прошлого? Сомкнули бы с нами свои ряды искренно и бескорыстно армии новообразований, отравленных сладким ядом мечты о полной своей независимости? Пошли бы полки генерала Уоккера на Царицын и стрелки генерала Анзельма на Киев? Наконец, воспряли бы духом российские армии, идя в бой за «Федеративную республику»?
Конечно, нет. Не декларациям и формулам дано было повернуть колесо истории.
Balaton – Lelle (Венгрия)
1924 г.
[1] Не считая Польши и Финляндии.
[2] На Западном фронте для наблюдения большевики держали не более 15 тысяч шт., от Пскова до Минска.
[3] Доклад в Воронеже 5/18 ноября 1918 г.
[4] 27 ноября 1918 г. 320 миллионов рус. золотого запаса поступило в Banque de France. Впоследствии это золото разделено и удержано англичанами и французами «в обеспечение русского долга».
[5] Официальное сообщение 26. XI. 18.
[6] Радиограмма 24 октября № 1090.
[7] Радиограмма от 28 окт.
[8] Радиограмма от 1 ноября.
[9] Радиограмма от 12 ноября.
[10] Начавшиеся столкновения между герм. солдатами и русскими большевиками в оккупационной зоне.
[11] Псков–Вержболово.
[12] Тифлис–Калиш.
[13] «Правда», «Известия», «Сев. Коммуна», «Экономич. Жизнь» и т. д.
[14] До большевицкого переворота всех денежных знаков в обращении страны было до 25 миллиард. руб. В 1917 г. большевики выпустили 29 миллиардов.
[15] № 15 «Известий» 19 г.
[16] Позднее, во второй половине июня подтверждено 9-м советом партии.
[17] Образовался на съезде в Москве в марте 1919 г.
[18] Подвойский.
[19] Офиц. сборник «Высш. воен.-революц. совета».
[20] Офиц. сборник «Высш. военно-революц. совета».
[21] Idem.
[22] Idem.
[23] От 17 января.
[24] Ранее в состав фронта входила и VII армия.
[25] Из речи в годовщину октябрьской революции.
[26] По переписи 1910 г. — лиц, признававших родным языком шведский, было 96% всего населения.
[27] Часть Олонецкой губ. между Ладожским и Онежским озерами.
[28] Телеграмма в январе 19 г. № 137.
[29] Телеграмма от начала марта 19 г.
[30] Май 1919 года.
[31] Из письма В. А. Степанову.
[32] До заключения мира с большевиками.
[33] См. ниже.
[34] О прибытии ее в Гельсингфорс была широко оповещена европейская пресса.
[35] Ж. д. станция Мурманок. ж. д. на берегу Свири.
[36] Псковская губ. и Белоруссия.
[37] См. T. III, гл. III.
[38] Телегр. Линде от 15 окт.
[39] 5 ноября № 1.
[40] Как увидим ниже, понятие о предоставлении ему «неограниченной власти» составилось у ген. Келлера ошибочно.
[41] Совершенно номинально гр. Келлер в своих приказах именовал себя «главнокомандующим Украинской и Северной армий».
[42] Совет образовался в 17 году. 24 февраля 18 г. провозгласил Эстонскую республику.
[43] Умеренно социалистического состава.
[44] Представитель Екатеринодара и Омска в Париже.
[45] Нота Чичерина. Радиограмма 7 декабря 18 г.
[46] В конце февраля финляндские добровольцы покинули Эстонию.
[47] 6-го декабря 1918 года.
[48] Впоследствии четвертый командир Северного корпуса.
[49] Третий по счету командующий.
[50] Родзянко. «Воспоминания о Северо-Западной армии».
[51] От Финляндск. района — 25 в., от Нарвского — 136 в., от Псковского — 256 в.
[52] Всех пленных, вместе с рассеянными по средней Европе, было до 3-х миллионов.
[53] Из меморандума Эстонского правительства в 1919 г.
[54] Северный корпус не был еще в то время подчинен ген. Юденичу.
[55] Серьезной организации там не существовало.
[56] Телегр. 21 янв. 19 г. № 65.
[57] Письмо 30 янв. 19 г. № 76.
[58] Письмо Брит. воен. миссии 22 февр. 1919 г. и ответ штаба 28 февр. № 02947.
[59] Ген. Родзянко «уговорил» полк. Дзерожинского сдать ему командование, после чего Дзерожинский принял командование бригадой и был произведен Родзянкой в ген.-майоры.
[60] Телеграмма от 14-го июня.
[61] Из речи 6-го октября 19 г. в петроградском совдепе.
[62] По другим источникам, 19 декабря. Договор, впоследствии и наличие которого оспаривалось латышами, был подписан со стороны Латвии министрами Ульманисом, Паэгле и Залитом, со стороны Германии политическим комиссаром 8-й армии Виннигом.
[63] Английские военные представители.
[64] Английские военные представители.
[65] Правительство, возглавлявшееся Дашинским, говорило якобы от имени «народных и социалистических партий Галиции и Польши». В 18 г. распря завершилась передачей обеими сторонами диктаторской власти (14 нбр., н. с.) ген. Пилсудскому.
[66] 9 января 1919 г. в Киеве был торжественно оглашен акт о соединении Украины с Галицией.
[67] Восточная окраина.
[68] Уезды: Гродненский, Сокольский, Белостокский, Бельский, Волковысский, и Слонимский.
[69] Уезды: Брест-Литовский, Пружанский и Пинский.
[70] Уезды: Ковельский, Владимир-Волынский и Луцкий.
[71] Генерал Пилсудский.
[72] 3 марта 19 года.
[73] Постановление от 19 ноября 19 года.
[74] Генеральный штаб и командный состав в большом числе — французы.
[75] Америка снабжала хлебом.
[76] По крайней мере в 1919 году.
[77] Гинс передает фразу адм. Колчака, сказанную по этому поводу: «мы их признаем, а они все таки не помогут».
[78] Из речи в палате общин 29 июля 19 года.
[79] Речь шла о Бермонте.
[80] Речь на банкете британско-русского клуба 4 июля 1919 г.
[81] Это, как мы видели, не соответствует действительности.
[82] Вербальная нота от 2 ноября 1918 года.
[83] Из письма императору Вильгельму 5 июля 1918 года.
[84] Приказ войску № 1582 и письмо ген. Франше д’Эспре 6 ноября 1918 года.
[85] Из доклада ген. Эрдели от 23 окт. 1918 года.
[86] Речь 28 ноября на банкете в Кубанском собрании.
[87] Idem.
[88] Осенью 1918 г. приехал из Киевской французской миссии в качестве «дипломатического представителя при Добр. Армии» и в середине ноября был отозван в Яссы и заменен Эрлишем.
[89] От 3 ноября 1918 года.
[90] Штаб исходил из того, что центральные державы после Брест-Литовска держали на территории России 49 пех. и 8 кав. дивиз. и что в силу совершенно иной моральной и политической обстановки численность союзных войск может быть уменьшена втрое.
[91] Телеграмма 11 марта № 10317.
[92] «L’accord franco-anglais du 23 Décembre 1917, définissant les zones d’action française et anglaise». Официальное подтверждение французского представителя полк. Корбейля в сношении его на мое имя 27 мая 1919 г. № 1926.
[93] К востоку английская — к западу французская.
[94] Из доклада адм. Герасимова 6 декабря 1918 года.
[95] По условиям перемирия между Украиной и Советской Россией, туда не имели доступа войска обеих сторон.
[96] Телегр. от 24 ноября.
[97] Подписано французским консулом в Киеве Энно.
[98] Письмо от 18 ноября № 1278.
[99] 3 февраля № 197.
[100] «Временное положение об управлении областями, занимаемыми Добровольческой Армией». Полный текст его в Т. III, гл. XXXVII.
[101] Каплин, Скобцов, Сушков, Д. Филимонов, Калабухов и друг.
[102] Генералы: Лукомский, Романовский и Макаренко, г.г. Лебедев, Степанов, Гейман, Нератов, Шульгин.
[103] Протокол совещания 16 окт. 1918 года.
[104] От Добр. Арм.: Лукомский, Романовский, Нератов и Степанов.
От Куб. правит.: Быч, Намитоков, Савицкий и Скобцов.
От войск. атамана: Полк. Успенский.
Особо приглашен.: Харламов, Зеелер, Воронков.
[105] Полк. Н. Успенский — сторонник Д. А. и будущий атаман — воздержался от прений.
[106] Последние — представители городов. В состав Рады входили также 4 представителя Добровольческой Армии по моему назначению: ген. Лукомский и Харитонов, полк. Тунненберг и Науменко, нынешний кубанский атаман (1924 г.).
[107] 255-ю голосами против 5, при 88 воздержавшихся.
[108] Речь составлена была лично мною, но отражала всецело и взгляды «Особого Совещания».
[109] В Раде Быч формулировал это положение подробно: «каждым членом союза организуются свои армии, из которых выделяются по особому распоряжению войсковые части, всецело подчиненные верховному командованию».
[110] Из стенограммы заседания.
[111] Заседание 11 ноября 1918 года.
[112] Заседание 16 ноября.
[113] Секретный отчет о заседании 15 ноября 1918 года.
[114] Телеграфный разговор куб. посла на Дону П. Макаренки с Бычом 26 ноября и стенограмма заседания Рады 30 ноября 1918 года.
[115] № 074.
[116] Первый раз в Мечетинской 30 мая 1918 года. См. Т. III, гл. XVIII.
[117] «Вр. полож. об управл. Куб. краем».
[118] Протокол № 94 заседания совета куб. прав-ства 30 окт. 1918 года.
[119] Одно время по инициативе покойного Н. Успенского «для согласования деятельности Кубани и Добр. армии» выдвигалась моя кандидатура в атаманы. Я решительно отклонил эту комбинацию, не веря в ее целесообразность.
[120] Заседание 30 ноября.
[121] 7 марта «Кубанский край» был закрыт полк. Успенским одновременно с газетами противного лагеря — «Единая Русь» и «Кубанец», закрытых за поношение «избранников народа и Законодательной рады».
[122] Стеногр. заседан. Закон. рады 2 мая.
[123] Заседание Закон. рады 27 февраля 1919 года и др.
[124] Добровольческая Армия не была упомянута. На вопрос, где же она — председатель Рады Рябовол пояснил: «сказано «и т. д.» — всех не перечислишь».
[125] 5 апреля. № 14.
[126] 12 апреля. № 523.
[127] Радиограмма 9 декабря 1918 года.
[128] Из секретного отчета о заседании 15 ноября.
[129] Из послания гетману, прочитанного ему чрезвычайной куб. миссией на приеме 8 окт. 1918 года.
[130] В бытность последнего с первым посольством в Киеве. Заявление Рябовола в Раде 2 марта.
[131] Все выдержки приведены в переводе с украинского.
[132] Доклад от 10 января.
[133] Т. е. родственник Блохина.
[134] Заседание 3–4 мая 1919 года.
[135] 2 ноября 1918 года.
[136] «Кубанский край» 3 янв. 1919 года.
[137] 15 ноября 1918 года.
[138] Офиц. сообщение штаба от 22 ноября 1918 года.
[139] Отчет о заседании 20 ноября 1918 года.
[140] Приказ 1 февраля 1919 года. № 172.
[141] Письмо генералу Лукомскому 20 июня 1919 года. № 27.
[142] Генералы: Врангель, Улагай, Покровский, Шкуро, Топорков, Крыжановский, Бабиев и др. За выделение высказался один ген. Гейман.
[143] Из секретного отчета о заседании куб. правительства в начале сент. 1919 г.
[144] В орган этот должны были входить на равных началах представители Дона, Кубани, Терека, Крыма и Особого Совещания.
[145] В июне, например, для нужд армий Дона, Терека и Донецкого ра1она потребовалось более 1½ милл. привозного хлеба, который был разверстан между Кубанью (60%) и Ставропольск. губ. (40%).
[146] Подымавшиеся не раз в Раде прения и «Меморандум 4-х государственных образований» — Дона, Кубани, Украины и Белоруссии поданный державам Согласия и подписанный от Кубани — Бычом. Январь 1919 года.
[147] Декларация «конференции кубанских политических и общественных деятелей в городе Праге 11–20 октября 1921 года».
[148] По теории П. Макаренко «кубанцы есть самостоятельная ветвь славянского племени».
[149] Я имею основание считать, что личность главнокомандущего не вызывала в свое время особенного недоверия кубанских правителей.
[150] Стенограмма заседания Круга 1 февраля 1919 года.
[151] «Краткое сообщение о заседании 1–8 февраля 19 года». Офиц. изд.
[152] Отчет о вечернем закрытом заседении Круга 1 февраля.
[153] Письмо к ген. Франше д’Эспре 6 ноября 1918 года.
[154] Т. III, гл. XII.
[155] Гл. XXI.
[156] 16 окт. 18 г. № 200 и письмо от янв. 19 года.
[157] 11 янв. 19 года № 1328.
[158] Симферополь 30 ноября — 8 декабря 18 года. Резолюция.
[159] «Меморандум» Дона, Кубани, Украины и Белоруссии, подписанный Черячукиным, Бычом, Марголиным, Галипом, Бохановичем 5-го февраля 19 года в Одессе.
[160] «Украина и политика Антанты».
[161] Учрежден 2 сентября 18 года. Объединение органов снабжения произошло значительно позже — декретом 9 июля 19 года.
[162] Из доклада 24 февраля 19 года.
[163] Выдержки из доклада генералу Богаевскому от 4 ноября 19 года.
[164] Т. е. ген. Богаевский.
[165] Доклад К. Карасева от 16 августа 19 года.
[166] Из речи капитана Кошена 25 ноября.
[167] Любопытно, что 18 декабря ген. Краснов по аналогичному поводу писал кубанскому депутату Макаренко: «будущая Россия — федеративное или унитарное государство — праздный вопрос… Гадание о будущем явится лишь пустыми разговорами, для чего у меня нет ни свободных людей, ни времени».
[168] 13 октября № 149.
[169] Письмо 12 октября 18 года № 1145.
[170] Письмо ген. Богаевскому 25 октября 18 года, № 318.
[171] Письмо ген. Алексееву. См. Т. III, гл. XXXIV.
[172] Телегр. № 517.
[173] Участники со стороны Д. А.: генералы Драгомиров, Лукомский, Санников, Романовский, Тихменев, Сазонов и Нератов. Со стороны Дона: ген. Поляков, Греков и Свечин.
[174] Разлагающаяся организация.
[175] Из протокола заседания.
[176] Копия ленты разговора Смагина и Полякова.
[177] 21 октября атаман Краснов писал ген. Лукомскому: «у меня (в армии) две трети не имеют сносных сапог, одна треть совсем не имеет сапог, обута в лапти, даже офицеры. Не только полушубков, не только телогреек, но даже шинелей далеко не хватает. Патронов осталось только 13 миллионов. А война идет страшно жестокая».
[178] Со слов ген. Краснова — «Всевеликое войско Донское», «Архив Рус. Рев.», т. V.
[179] Я должен заметить, что эти мысли не прививались донскому офицерству и отношение его к Добровольческой Армии и ко мне оставалось доброжелательным.
[180] Циркуляр 14 декабря 18 года, № 1161.
[181] Из стеногр. заседания Круга 4 февраля.
[182] Оставляю без изменения, русский перевод письма, полученный из английской миссии.
[183] Участники: 1) со стороны Добр. Арм. — я, генералы Драгомиров, Щербачев (приехал из Румынии), Романовский и др.; 2) со стороны Дона — атаман Краснов, ген. Денисов, Поляков и др.
[184] «Архив Рус. Рев.», т. V. «Всевеликое войско Донское».
[185] Стратегическая задача — «обеспечение линии Юзовка–Мариуполь, а затем… распространение на Бердянск–Синельниково–Нырков с прочным закреплением занятого района».
[186] Из телеграммы моей генералу Франше д’Эспре.
[187] Телегр. 13 января 19 года, 0735.
[188] Телеграмма от 24 января 19 года.
[189] От 29 января, 0109.
[190] 30 января, № 157.
[191] Телеграмма 3 февраля, № 188.
[192] 28 января.
[193] «Всевеликое войско Донское», «Архив Рус. Рев.», т. V.
[194] От 26 января 19 года.
[195] От 26 января 19 года.
[196] Черкасский, Таганрогский и Ростовский.
[197] Из отчета о заседании.
[198] Ген. Денисов. «Записки».
[199] «Краткое сообщение о заседаниях 1–8 февраля 1919 года».
[200] Видный член оппозиции.
[201] Из них две в периоде формирования.
[202] В феврале переименован в «1 Кубанский».
[203] Кроме гарнизонов городов, запасных, учебных и формирующихся частей, составлявших в общем еще 13–14 тыс.
[204] На его место командиром 1 конного корпуса был назначен ген. Покровский.
[205] Заменен Черноморским военным губернатором ген. Кутеповым.
[206] № 7.
[207] № 64.
[208] 7 декабря, № 246.
[209] Потопление половины флота весною 1918 года.
[210] Бывший «Император Александр III».
[211] Переименован в «Генерал Корнилов».
[212] Ген. Санников; с января 1919 г. ген. Картаци.
[213] Ген. Лукомский.
[214] С марта по сентябрь 1919 г. мы получили от англичан 558 орудий, 12 танков, 1685522 снаряда и 160 милл. руж. патронов.
[215] В тот же период мы получили 250 тыс. комплектов.
[216] Октябрь, 1918 года.
[217] «Товарищество московской объединенной промышленности и торговли». Во главе стояли братья Рябушинские. Председатель совета — А. В. Кривошеин.
[218] В том числе причисление предприятия к работающим на оборону (§ 10).
[219] Письмо от 4 дек. 1919 г.
[220] № от 24 ноября 1919 года.
[221] Кроме пайка — общего для всех рангов.
[222] Шкала основного содержания была одинакова в воен. ведомстве и во всех правительственных учреждениях.
[223] К декабрю 1918 г. высшие чины получали содержание в месяц: главнокомандующий — 1000 руб. Кубанский атаман — 4000. Члены Особого Совещания — 800 руб. Чл. куб. прав-ства — 2000. Донцы получали больше кубанцев.
[224] «Цветные войска», как их называли острословы по пестроте красок форменных отличий.
[225] Корниловский, Марковский, Дроздовский. Алексеевский с соответствующими артиллерийскими дивизионами.
[226] Приказ 16 апр. 1919 г. № 693.
[227] 24 ноября 1918 г. № 64.
[228] Осень 1917 г. Миссия Молдавского и подполк. Грузинова.
[229] Быв. начальник Туркест. каз. дивизии.
[230] Одновременно кн. Тарковский, бывший членом Дагестанского правительства, принял диктаторскую власть.
[231] Начало см. Т. II, гл. XV. «Терско-Дагест. пр-ство» возникло в декабре 1917 г. в результате соглашения Терск. каз. пр-ства, Союза горцев Кавказа и Союза городов Терск. и Дагест. Областей.
[232] Собрание представ. советов и всех социалист. партий, от с. р. до большевиков включительно.
[233] В нем участвовали горская и казачья фракции.
[234] В одном селении бывало до 30 правивших «народных избранников», получавших содержание в 15–20 тыс.
[235] Убит 20 июля 1918 г. Его сменил Пашковский, вернувшийся по амнистии с каторжных работ, к которым был приговорен за грабеж.
[236] Сунженская. Аки-Юртовская, Тарская и Тарский хутор.
[237] Из записки ген. Мадритова.
[238] Т. е. живших в то время на Кавказе.
[239] Председатель пятигорского совета.
[240] Брат партизана.
[241] Предписание 1 (14) августа, подписанное председателем комитета И. Семеновым.
[242] Оригинально «происхождение» членов этого правительства: Председатель Семенов — представитель городского населения Владикавказа; Орлов — от самоуправления Пятигорска; Полесюк — от слобожан Грозного, т. е. от тех групп, которые были в борьбе нейтральны, или даже выступали за большевиков… В состав пр-ства входил и «военный министр» Овчаренко, имевший свой особый штаб.
[243] На съезде правительство было частично переизбрано. Председателем стал Бичерахов, а в должности председ. Казаче-крестьянского совета его заменил Букановский.
[244] Раньше никакой связи с ним у нас не было.
[245] Такое же отношение к Армии Бичерахов проявил на «народном съезде», но он и его единомышленники встретили бурный протест собрания. (Бюллетень заседания 14 сентября).
[246] От него получена была помощь в 2 милл. руб. и боевые припасы.
[247] См. т. III, гл. XXXII.
[248] 1-я (ген. Слащев) и 2-я (ген. Гейман) пласт. бригады, 1-я Кавказ. каз. див. (ген. Шкуро), Черкесская див. (ген. Султан-Келеч-Гирей), Терский отряд и Баталпашинские ополчения.
[249] 1-я див. (врем. ген. Колосовский) и 1-я Кубанск. (ген. Покровский, врем. ген. Науменко).
[250] 1-я кон. див. (ген. Шатилов), 2-я Куб. каз. див. (ген. Улагай), Сводная конная бригада (ген. Чайковский), 3-я пласт. бриг. (ген. Ходкевич).
[251] Сборные части 3 Куб. див., 3 пласт. бриг., 1 див. и друг.
[252] Район Предтече–Софиевский–Старый Бурукшун.
[253] Черкесы и Кабардинцы.
[254] Там же захвачен весь спасавшийся Кисловодский совдеп.
[255] В командование 1 кон. корпусом вступил ген. Покровский.
[256] Некоторое основание было. См. главу XV.
[257] Город обороняли Владикавказский полк, дружина самообороны, отряды коммунистов и ингуши — с сильной артиллерией и броневиками.
[258] Это исполнено не было. Многие большевики появились в Тифлисе, поступали в Грузинскую нац. гвардию или выпускались к нам на Черноморское побережье. О неисполнении грузинами условий сообщало моему штабу и английское командование (23 марта № 77).
[259] 8 июня 1919 г. Город Козлов.
[260] Будущий атаман.
[261] «Протест Осетии», подписанный правителем Хабаевым и 9 членами совета. Осень 1919 года.
[262] Из протокола заседания. Февраль 1919 г.
[263] Владикавказ — спорный пункт между тремя племенами.
[264] Общегосударственное значение нефтеносного района, находящегося в пределах Терека и Чечни.
[265] Общероссийская здравница, созданная на государственные средства.
[266] См. Т. III, гл. XXXVII.
[267] См. Т. III, гл. XXXVII.
[268] От 31 марта 1919 г. № 1276.
[269] Кавказская добровольческая армия перебрасывалась на север.
[270] Письмо предс. правительства от 13-го мая 1919 г., № 2757.
[271] В нашем проекте «основных положений» вопрос о недрах трактовался следующим образом:
IV. Недра земли в пределах Терского казачьего войска принадлежат их собственникам, на основании прежде изданных по сему предмету законов. Пользование доходами с нефтеносных земель, принадлежащих войску Терскому, сохраняется за ним на существующих основаниях.
V. Управление Грозненскими нефтяными, а также всеми другими горными промыслами на территории Войска Терского в техническом отношении, независимо от того, кто состоит владельцем их, принадлежит общегосударственной власти и осуществляется местным горным надзором, а через его посредство центральным горным ведомством.
VI. Регулирование добычи нефти и правильного распределения ее в соответствии с интересами всей страны принадлежит общегосударственной власти.
[272] Телеграфный доклад по поводу переброски 1 кон. дивизии.
[273] Не малую роль играл в этом деле и известный ген. Комиссаров, приписавшийся к одной из станиц и выбранный казаками членом Круга. В это время Комиссаров носил личину крайне правого и пользовался поддержкой этих кругов, враждебных одновременно и самостийности и командованию Добров. Армии.
[274] Северо-кавказский союз городов.
[275] Резолюция пленума Севкагора. Май 17 г.
[276] Надо понимать — органы Особаго Совещания… Авт.
[277] «Программа Терского правительства» 10 ноября 19 г.
[278] Балкарцы — в Кабарде, Керменисты — в Осетии.
[279] Цитированный выше «Протест Осетии».
[280] Человек с университетским образованием. Находился при кубанском правительстве во время 1-го Кубанского похода.
[281] Ротмистр конвоя Его Величества, владелец нефтяных промыслов в Грозном.
[282] При председателе Чермоеве состоял секретарем турецкий офицер Терик-Джерил-Сазар, получавший инструкции из Константинополя.
[283] То есть, после занятия Дагестана турками. Из офиц. «заявления», обращенного ко мне горской делегацией 10 февр. 19 г.
[284] Из послания Коцева Кабардинскому национальному совету от 10 дек. 18 г.
[285] Договор, заключенный 10 дек. 18 г. и подписанный Чермоевым, Коцевым и Сапроновым, Киреевым. Подобный же договор по военной части был заключен и подписан 14 янв. бывшим диктатором Дагестана и военным министром горской республики полк. кн. Тарковским и командующим Терским отрядом ген. Колесниковым.
[286] Официоз «Азербейджан», № 32.
[287] Письмо от 10 февр. н. с. 19 г.
[288] Делегация демонстративно отказалась беседовать с ген. Ляховым, которому поручены были все сношения с горскими народами, потому и не была мною принята.
[289] Теоретически в нее входили энтографические пределы Абхазии (Сухумский округ, занятый Грузией), земля черкесов (Куб. области), Осетия, Кабарда, Чечня, Ингушетия и Дагестан.
[290] Нота от 6-го марта 19 г., подписанная «министром председателем Ханом Хойским».
[291] В составе Парижской делегации (март) были Чермоев, Гайдаров, Хадзаров и Баммат («министр иностр. дел»).
[292] Из речи председателя совета Темирханова.
[293] 20 июня 19 г. № 133.
[294] Это мы прочли позднее в официозе «Вестник горской республики» от 12–16 апреля н. с. 19 г.
[295] Собрались уполномоченные всего Грозненского округа и пяти аулов Веденского.
[296] Этот пункт Коцев прибавил от себя в перечне ультимативных требований, предъявленных ген. Гейманом ингушскому народу. Ни Ляхов, ни Эрдели не принадлежали к казачьему сословию.
[297] 1. Подчиниться управлению Добрармии, сохраняя внутреннее самоуправление.
2. Выдать красноармейцев — главарей большевиков и абреков.
3. Выдать артиллерию и пулеметы.
4. Выдать все награбленное и увезенное в Чечню красноармейцами. Возвратить все похищенные железнодорожные материалы.
5. Доставить в ближайшие станции и в аул Алды продовольствие для войск за справедливую плату.
6. Возвратить разграбленное имущество Ново-Грозненских промыслов.
7. Возвратить жителям Грозного все свезенное в Чечню на хранение их собственное имущество.
[298] Одно время на должность областного комиссара был приглашен осетин Шаханов.
[299] Под командой полк. Хабаева — Дагестанский кон. полк, Чеченский и Кумыкский дивизионы.
[300] Две канонерки «Карс» и «Ардаган» и 5 вооруженных пароходов.
[301] Отчет из с.-д. газеты «Искра».
[302] № 474.
[303] Президиумы рабочей конференции, профессиональных союзов и социалистических партий. Из отчета с.-д. газеты «Искра».
[304] Ген. Пржевальский объединял командование над отрядами ген. Колесникова, полк. Плотникова и даже, до полного разрыва с Меджилисом, ему подчинялся горский отряд Хабаева.
[305] Принадлежал к группе, проводившей идею самостоятельности Дагестана.
[306] Летом 19 г. части Моллисона находились в Мешеде, Асхабаде и Красноводске.
[307] Прокламация от 8 декабря 18 г.
[308] Доклад ген. Эрдели о беседе с Томсоном 24 янв.
[309] Сношение от 7 декабря (Пуля) и телеграммы 31 декабря («Бритфорс») и 4 января (Пуля).
[310] Телеграмма военной миссии 1 февраля 19 г. № 74791, письмо ген. Бриггса 6 февраля и выборка из перечня сношений английской миссии. Эта линия проходила по южной границе Дагестана.
[311] Джульфа–Батум, Энзели–Баку–Батум.
[312] Телеграмма от 25 января № 85.
[313] 13 февраля 19 года.
[314] 22 февраля 19 года, № 293.
[315] Копия телеграммы, присланной ген. Драгомирову при сношении британской миссии от 11 марта № 154.
[316] Отставка Ляхова, вызванная причинами, о которых я писал выше, досадно совпала с этим письмом.
[317] Сношение ген. Бриггса 2 мая 19 года, 758.
[318] Сношение 11 июня 19 года, № 1210.
[319] При этом азерб. прав-во скрыло от печати и от нас фразу в письме Корри, заключавшую английское требование, чтобы «закавказские штаты способствовали провозу через их территорию боевого снабжения, как для Добровольческой Армии, так и для Закаспия и Урала».
[320] Нота от 9 июня, № 45, получена в Екатеринодаре 24 июня.
[321] Председателя Ос. Сов. 2 июля, № 922 и нач. воен. упр. 27 июня № 2523.
[322] Так, например, осенью 19 г. состоялось «единогласное постановление» меджилиса от имени Аджарии о присоединении Батумской области к Грузии…
[323] «Тифлисский центр» негласно возглавлялся ген. от инф. Шатиловым; полк. Лазарев состоял при английском командовании в Баку и сносился с азербейджанским правительством; полк. Лесли состоял при армянском правительстве. С марта 19 г. в Батуме находился при английском командовании ген. Романько-Романовский.
[324] Подписано нач. воен. управ, ген. Лукомским и нач. отдела ген. Вязьмитиновым, утверждено главнокомандующим.
[325] Причиной было исключение бакинск. представителей – несоциалистов. Отколовшаяся несоциалистическая часть съезда образовала «Закавказский русский национальный комитет», поддерживавший по-прежнему связь с главным командованием Добрармии.
[326] Эпизод с «генералом Харьковым» служил долго предметом острословия южных газет.
[327] «Bibi-Eibat Oil Company Ltd.».
[328] Нота от 1 августа, № 1293, на имя начальника штаба главнокомандующего.
[329] Донесения Эрдели 12 и 18 января, № 3 и 5. Позднее на протест мой против такого оскорбительного отношения к представителю главного командования ген. Мильн выразил «сожаление по поводу происшедшего недоразумения», объяснив, что он не был уверен в полномочиях Эрдели… Сношение британской миссии 25 марта, № 134.
[330] Такие «удивительные» факты приходится оговаривать, ввиду того поветрия самоопределения, которое охватило российские народы. Не многим, вероятно, известно о кратковременном существовании суверенной «Ингерманландии», в юго-западном уголке Петроградской губ., серьезно протежируемой соседним сувереном – Эстонией.
[331] 2 грузина, 1 грек, 1 мусульманин, 1 еврей, 1 поляк и 1 армянин, позднее еще 2 аджарца. По определению Маслова, только один грузин – сепаратист, прочие все – русофилы.
[332] Орган грузинских соц.-федералистов.
[333] См. ниже.
[334] Объявление за подписью капитана Крейна снято в районе Чаквы.
[335] Нота от 22 февраля, подписанная полк. Кизом.
[336] Нота от 1 августа 1919 года.
[337] Собрания проходили не везде так благополучно, как уверяли англичане.
[338] Нота 1 августа, № 1293, полковника Киза.
[339] Особое постановление 28 апреля 1919 года.
[340] Пресса находилась всецело в руках министра внутренних дел Рамишвили.
[341] Территория ее включала, кроме того, Артвинский округ (условно), Зачорохск. край и Ахалцихский уезд Тифлисской губернии.
[342] 13 января 1919 года. Из ответной речи Уоккера на приветствие Закавказск. русского национального совета.
[343] Из штаба ген. Мильна, ведавший в Тифлисе развед. и политическ. отделом.
[344] Доклад ген. Томилова от 11 февраля 1919 г. и свидетельство военного министра Армении ген. Карганова.
[345] Северо-западная часть Карсской области, спорная между турками, армянами и грузинами.
[346] В двух уездах – Карсском и Кагызманском – 35–37%.
[347] 32 селения, не более, чем 12 тыс. оставшихся на местах жителей.
[348] В правительстве – все с.-д., кроме одного; в Учредительном собрании – 109 с.-д. из общего числа членов 130.
[349] Главнейшие посты занимали: Ной Жордания – председатель правительства; Георгадзе – военный министр; Рамишвили – министр внутренних дел; Гегечкори – министр иностранных дел; Лордкипанидзе (акушер по специальности) – министр путей сообщения…
[350] Хлеба Кахетии и Карталинии не хватало на всю республику; садоводство и виноделие встречали конкуренцию районов, более близких к рынкам сбыта; угли имели лишь местное значение; лес по бездорожью не вывозился вовсе; фабрик и заводов не было; главный предмет экспорта, далеко не покрывавший ввоза – марганец (добыча до 50 мил. пудов в год).
[351] Из речи 4 декабря на объединенном заседании с.-д. организаций.
[352] Орган н.-д. «Питало Клдэ».
[353] Апрель 1919 года.
[354] «Колоссальность этой суммы, – говорил Рамишвили, – будет очевидна, если ее сравнить с расходами, произведенными всеми политическими партиями на выборах в Учредительное собрание, – 500 тысяч рублей».
[355] Лидер большевиков в совдепе.
[356] Открылось 27 февраля, 13 марта им был санкционирован единогласный акт бывшего «Национального совета» о самостоятельности Грузии.
[357] Доклад начальника ген. штаба Армении, полк. Зинкевича, от 17 августа 1919 года.
[358] Соц.-федер., нац.-дем. и соц.-рев.
[359] В составе Азербайджана.
[360] Нагорные части Горийского и Душетского уездов Тифлисской губернии.
[361] По данным 1916 г., 43,5% армян, 1,5% грузин.
[362] Ахалкалакский уезд Тифлисской губ., Казахский – Елизаветпольской и часть Александропольского – Эриванской губ.
[363] В Ахалкалакском уезде, по данным 1916 г., армян 76,4%, грузин 7,3%.
[364] Телеграммы от 26 и 29 ноября, мин. ин. дел и мин.-председ.
[365] Это заявление находилось в противоречии с нотой от 17 ноября грузинского дипломатического представителя Мдивани, который между прочим писал, что он уполномочен грузинским правительством на окончательное разрешение вопроса о границах, соглашение по каковому вопросу он представит на утверждение правительства. Официоз грузинского правительства «Борьба» (18 дек.) уверял, впрочем, что соглашение с Мдивани было достигнуто, и он возвращался с проектом в Тифлис, когда армянское правительство послало свой ультиматум.
[366] Радиограмма Гегечкори.
[367] Капитан Грин, посланный ген. Томсоном. Уоккер прибыл в Тифлис позднее.
[368] 6 декабря на ст. Самаин ожидали кап. Грин и армянские делегаты.
[369] Грузинское правительственное сообщение от 16 декабря. В одном из заседаний армянского парламента подсчитывали потом громадные деньги, нажитые с богатых армян на этом предприятии грузинской администрацией.
[370] Свидетельство военного министра Армении – ген. Карганова.
[371] См. т. III, гл. XXXIII.
[372] «Орган Сочинского комитета с.-д. рабочей партии».
[373] Приказы №№ 11 и 12.
[374] Письмо, подписанное полк. Кизом, № 129.
[375] Письмо от 14 января, № 45.
[376] В Сочинском округе 36,7% сельского населения – армяне.
[377] Заявление Уайта 8 февраля, письмо его 7 февраля и телеграмма начальника штаба Романовского 10 февраля, № 02 072.
[378] Нужно заметить, что и «грузинские граждане», и просто грузины, пребывавшие на территории ВСЮР, никогда не подвергались никаким ограничениям, и тем из них, которые состояли на государственной службе, предоставлено было продолжать ее.
[379] Письмо от 29 января 1919 г., полученное 3 февраля.
[380] От 6 февраля.
[381] По смыслу фраза была бы правильной – в отношении этнографической Грузии, но не Черноморской губернии.
[382] В ноте от 25 января ген. Уоккеру Гегечкори излагал этот эпизод следующим образом: «Нотой от 31 января– 1 февраля (нов. ст.) за № 124 – – 5, Ваше Превосходительство сообщили мне по поручению высшего британского командования, что Великобританское правительство предложило ген. Деникину соблюдать целость грузинского правительства (республики?) и воздержаться от вмешательства в его внутренние дела. Грузинское правительство считало, что эта нота является для нас достаточной гарантией». Таким образом, гарантии Грузии даны были Уоккером за два дня до встречи и разговора с Эрдели.
[383] Официальное признание границы по р. Бзыби было сделано впервые в ноте ген. Кори грузинскому правительству 29 мая 1919 г., т. е. два месяца спустя после того, как грузины перешли ее (см. ниже).
[384] Из письма ген. Мильна 29 января 1919 года.
[385] Первоначально предположено было послать А. В. Мдивани (соц.-фед.), ген. Имнадзе и полк. кн. Амилахвари (оба правые). Первый грузинский посланец на Кубань Чхенкели еще в ноябре добивался от грузинского правительства «мандатов и присылки делегации на основах взаимности» (радиограмма его от 4 ноября, № 22/340).
[386] Доклад зам. председателя Закавказского русского национ. совета Семенова от 16 января и доклад пор. Полунина от 26 марта, № 62.
[387] Письмо к ген. Драгомирову от 15 февраля 1919 года.
[388] Вачейшвили имел еще с декабря полномочия от правительства «на заключение экономического договора по принципу товарообмена, не связывая заключение договора с вопросом о Сочинском округе». (Телегр. воен. мин. Георгадзе.) Такая постановка вопроса встретила категорический отказ главного командования.
[389] Нота от 18 февраля 1919 года.
[390] Нота № 344 от 3 апреля.
[391] Отправлена первого апреля по телеграфу через англичан.
[392] Оказалась – Мехадырь.
[393] Самый факт перехода грузин в наступление ген. Гедеванов объяснял впоследствии следующим оригинальным образом: «Когда мы стояли на реке Бзыби, в Сочинском округе произошли волнения. Причины их мы не знали (!) и думали, что там имеет место большевистская пропаганда. Чтобы остановить распространение восстания, мы решили перейти в наступление».
[394] Воззвание датировано 7 апреля. По поводу его ген. Гедеванов заявил впоследствии, что национальная гвардия «подчинена непосредственно правительству», а ему лишь «в тактическом отношении… и многие вопросы она решает самостоятельно». Из того же протокола.
[395] К 20 апреля в Сочинском районе удалось стянуть всего до 2800 штыков при 13 орудиях. Ослаблять главные фронты не представлялось возможным, а слабый в то время Черноморский флот был занят у Акманайских позиций (Крым).
[396] Нота 8 апреля, № 66387.
[397] Не повторяю их, так как они были изложены в инструкции Баратову; прибавил пожелание нейтрализации Сухумского округа, не ставя, однако, вопрос этот ультимативно.
[398] Ген. Гедеванов мотивировал необходимость границы по Мехадыри тем, что тогда «мы (грузины) будем владеть узким коридором, удобным для прикрытия Грузии от находящихся с нами в войне или недружелюбно настроенных к нам армий» (!).
Гегечкори: «Мы хотим иметь такую границу, которая нас вполне обеспечит от проникновения большевизма».
Рамишвили: «Линия эта – естественная граница Абхазии». Протокол заседания 10 мая 1919 года.
[399] При некотором противодействии со стороны министра иностранных дел Керзона.
[400] В XVIII и XIX вв. на предгориях располагались мелкие ханства: Дербентское, Кубинское, Шемахинское, Бакинское, Талышинское, Шушинское, Нухинское, Ганжинское и Елисуйское в Закаталах.
[401] В Бакинской и Елисаветпольской губ., по данным 1917 г., числилось русских 96 тыс., армян 344 тыс., татар 1019 тысяч.
[402] Позднее назвал себя «Советом».
[403] Доклад мне комитета от 12 августа, № 354, так говорит о его происхождении: «В Баку был командирован инженер Виноградов, который, завязав связи с приходами и найдя поддержку в лице настоятелей двух наиболее значительных церквей… приступил к организации общества, что ему и удалось с успехом выполнить».
[404] Idem.
[405] Пять – в парламенте и двое в правительстве: министр фин. Протасьев и мин. продовольствия – председатель общества, поляк Лизгар.
[406] Прошение поверенных молокан на основании приговоров, выданных обществами 18–22 июня 1919 года.
[407] Провенансы Азербайджана видны из следующего неполного перечня: хлопок, масла, нефть, рыбные промысла, цинк, свинец, сера и т. д.
[408] Правительство бедной и зависимой от азербайджанского ввоза Грузии стремилось удержать в своих руках эмиссию, дававшую ей большие выгоды. По первое мая 1919 г. на долю Грузии пришлось 380 милл. руб., Армении – 240 милл. руб. и Азербайджана – 160 милл. рублей.
[409] Последние двое оказались крайними русофобами. Шахлинский успел даже послужить туркам и участвовал во взятии ими Баку.
[410] Разведка определяла силы, могущие быть выставленными против Добровольческой армии, за выделением войск на армянский и ленкоранский театры, в две с половиной тысячи.
[411] Председатель ликвидационной комиссии бывш. Кавказского фронта.
[412] Бакинская рабочая конференция Азербайджана, Дагестана и Закаспия. Май 1919 года.
[413] «Земля и Воля» – левый соц.-рев. орган, «Набат» – орган проф. союз, большее., «Заря» – тюркск. и русск. большев., «Искра» – соц.-дем.
[414] Ленкоранский и Джеватский уезды Бакинской губернии (русская Мугань).
[415] От середины мая до конца июля 1919 года. И при советском и при несоветском правлении Ленкорань признавала себя «неотъемлемой частью единой России».
[416] В инструкции, данной английским командованием своему уполномоченному, капитану Роану, были, между прочим, и такие параграфы: «§ 2. Вы объясните мусульманскому народу, что все законные действия Азербайджанского правительства пользуются поддержкой британских властей… § 4. Что касается русских, офицеров и других лиц, не являющихся постоянными жителями Мугани, то вам надлежит содействовать азербайджанским властям на предмет водворения их в Петровск или другое место»…
Заключение Роана: «Я просил бы вопрос этот разрешить миролюбиво. В противном случае пострадает много невинных… Я вынужден следить за выполнением законных требований азербайджанских властей»… Из протокола заседания.
[417] Участие в этом движении азербайджанского правительства было установлено перехваченной армянами перепиской официальных лиц.
[418] Телеграммы от 28 апреля, № 0124, 18 мая, № 07389 и 12 июня, № 08637.
[419] Письмо от 21 мая, № 98. Истинный текст моих телеграмм не мог вызвать никаких сомнений, так как он тотчас был дан официально в печать. Лазарев был заменен полковником Палицыным.
[420] Доклад полк. Лазарева 24 июня 1919 г., № 210. Как известно, это требование было отменено.
[421] Подписали со стороны грузин – Гегечкори, Рамишвили, ген. Гедеванов и Одишелидзе; со стороны Азербайджана – Джафаров, ген. Мехмендаров и Сулькевич.
[422] Ген. русской службы грузин Одишелидзе был назначен общим главнокомандующим.
[423] Территорию Армении до конца апреля 1919 г. составляла Эриванская губ., исключая Нахичеванский и Шаруро-Даралагезский уезды, образовавшие татарскую «Аракскую республику».
[424] В ноябре 1918 г. у Армении было всего 4–5 паровозов и 60 вагонов. Остальной состав был угнан грузинами.
[425] Доклад начальника ген. штаба Армении 17 августа 1919 года.
[426] Лидер армянской народной партии, член парижской делегации.
[427] Последние две партии были совсем малочисленны.
[428] Доклад ген. Томилова о беседе с Пападжановым.
[429] Зангезурский и Шушинский уезды Елисаветпольской губернии.
[430] Первым председателем был Качазнуни, командированный в середине января в Америку за хлебом и протекторатом.
[431] Из доклада нашего представителя в Эривани, полк. Зинкевича, от 4 октября 1919 г., № 36.
[432] Из доклада начальника ген. штаба Армении, полк. Зинкевича, от 17 августа 1919 года.
[433] В официальном уведомлении меня о назначении «Верховного комиссара» было указано, что «на Киликию власть его не распространяется».
[434] Этот «подлог» обратил на себя внимание Особого совещания, но, ввиду безвыходности положения Армении, решено было не чинить ей препятствий, чтобы не обесценивать чеков.
[435] Командовали ею последовательно ген. русской службы Силиков и Назарбеков; в составе армии было много русских офицеров.
[436] Станция жел.-дор. линии Эривань – Тифлис.
[437] Доклад 30 сентября 1919 г., № 7.
[438] Член Гос. думы, к.-д.
[439] Владение выходом Эриванской ветви жел. дор.
[440] Доклад 5 июня 1919 года.
[441] Поверенного в делах в Лондоне К. Набокова.
[442] Речь Ллойд Джорджа в парламенте 17 ноября 1919 г.
[443] Начальник штаба оккупировавшей Украину германской группы.
[444] Из состава бывшего в начале года «рабоче-крестьянского правительства Украины».
[445] Беседа с представителями печати, оглашенная в газетах 16 октября.
[446] Первый – товарищ державного секретаря; второй – бывш. русский посланник в Китае; третий – бывш. начальник штаба гетмана.
[447] (Письмо от 24 октября 1918 г.). Это письмо небезынтересно сопоставить со статьей Н. М. Могилянского в «Архиве Русск. Рев.» (Т. XI, 1923 г.), в которой он описывает «нашествие иноплеменников», политику хищной эксплуатации Украины и разложения России немцами, свое предвидение «близкого и конечного разгрома немцев», наконец, свое в то время «глубокое одиночество» среди политических деятелей Украины, сохранивших «иллюзорное сознание обеспеченного спокойствия за немецкими штыками».
[448] От 2 ноября н. ст. 1918 года.
[449] Граф Гейден, Ненарокомов, Дуссан и другие.
[450] Из письма Замысловского к генералу Лукомскому от 5 ноября.
[451] Письмо бар. В. Меллер-Закомельского от 31 октября 1918 г. и приложенный к нему «проект» телеграммы на имя российского посла в Париже Маклакова.
[452] Вл. Гурко, Безак, Крыжановский.
[453] В составе Государственного объединения были представлены: 1) бюро совещаний законодательных палат; 2) церковного собора; 3) группы сенаторов; 4) группы земских и городских деятелей дореволюционного состава; 5) группы торгово-промышленников; 6) финансово-банковская группа; и 7) совет земельных собственников.
[454] Н. И. Астров, М. М. Винавер, Н. Н. Львов, А. Н. Нератов, В. А. Степанов, С. Д. Сазонов и В. В. Шульгин.
[455] Первые два участника.
[456] Позиция «Национального центра».
[457] Письмо от 26 ноября, № 834.
[458] Из киевских организаций к Национальному центру примкнули: группа В. Шульгина (сам Шульгин находился с осени 1918 г. в Екатеринодаре), Внепартийный блок русских избирателей, Клуб русских националистов. Общество «Русь», оппозиционное крыло кадетов с Ефимовским и Левитским и друг.
[459] Резолюция «Центра» от 17(30) октября 1918 года.
[460] Вообще связь Киева с Екатеринодаром была затруднительна, чем объясняются частые недоразумения и несогласованность действий и в военных, и в общественных организациях.
[461] Ген. Ломновский был в начале войны ген.-кварт, в 8-й армии ген. Брусилова, потом доблестно командовал 15-й див. 8-го корпуса и 10-й армией.
[462] Письмо от 28 октября генералу Драгомирову.
[463] Как известно, только 7 ноября 1918 г. наступил полный перелом в нашу пользу, и только в начале февраля окончилась Северо-Кавказская операция.
[464] В. Б. Станкевич. «Воспоминания».
[465] См. ниже.
[466] «Союз взаимопомощи интеллигентных воинов».
[467] В «России» была перепечатана выдержка из этого приказа из «Голоса Киева» (31 октября) в такой редакции: «Сего числа я вступил в командование всеми военными силами… Все офицеры, находящиеся на территории бывшей (?) России, объявляются мобилизованными». В том месте, где многоточие, по докладу «Азбуки», цензура выпустила фразу: «на Украине и в Крыму».
[468] Телеграмма 4 ноября 1918 г., № 446.
[469] Министерство Гербеля из лиц российской ориентации или воспринявших таковую (Кистяковский).
[470] Или послал сказать – Маркозов точно не помнил.
[471] Из письма В. Маркозова ген. Драгомирову от 18 ноября н. ст.
[472] Из речи, сказанной министрам 23 октября, т. е. за неделю до «грамоты» о федерации с Россией.
[473] См. т. III, гл. V.
[474] Бывший член Государственного Совета, харьковский губерниальный староста.
[475] Телеграмма 4 ноября 1918 г., № 446.
[476] Впрочем, по сведениям киевского Нац. центра, гетман не бросал попыток примирения с УНС до самого своего падения.
[477] 7, 9, 14, 20 ноября.
[478] Сообщение это, в связи с § 2, имевшее по смыслу условное временное значение, в официальном гетманском органе «Видродження» от 7 ноября было передано как окончательное признание Согласием «Украинской державы», которая войдет в федеративную связь с Россией.
[479] Телеграмма 18 декабря совету солдатских депутатов г. Николаева и начальнику 15-й ландверной дивизии.
[480] Статья эта предусматривает известное подчинение местных органов исполнительной власти главнокомандующему на театре войны.
[481] Телеграмма его мне от 5 ноября, № 1.
[482] Из приказа гр. Келлера от 14 ноября.
[483] Доклад ген. Ломновского по прямому проводу 11 ноября.
[484] Безак, Скаржинский и другие.
[485] Шлиппе, Хрипунов и другие.
[486] Демидов, Ефимовский и другие.
[487] Одинец.
[489] Станкевич. «Воспоминания».
[490] Из доклада московского Национального центра от 3 декабря.
[491] В Киеве остался председатель Гербель и мин. юстиции Рейнбот, которых Директория три месяца держала в тюрьме, предъявив им обвинение в «покушении на ниспровержение существующего строя».
[492] «Монархический блок», «Союз наша Родина», гетман – накануне падения и др.
[493] Вдовствующая императрица жила в Крыму до первой эвакуации его. Вел. князья Борис и Андрей Владимировичи, вырученные полковн. Шкуро из Кисловодска, и мать их, вел. княгиня Мария Павловна, жили в Анапе. Вел. княгиня Ольга Александровна жила также на Кубани в одной из станиц.
[494] См. гл. XXXVI и XXXVII, том III.
[495] Важнейшие статьи «Положения»:
- При главнокомандующем, для содействия в делах законодательных и административных, состоят Особое совещание и нижеследующие ведомства (перечень их ниже).
- В области управления подчиненного начальники управлений, управляющие отделами законов и пропаганды пользуются правами министров, применительно к учреждениям министерств (Св. Зак., т. I, ч. 2, изд. 1892 г.).
- В области законодательства и Верховного управления Особое совещание является совещательным органом при главнокомандующем.
- На обсуждение Особого совещания поступают: 1) все законодательные предположения, за исключением касающихся тех предметов, кои предусматриваются статьями 96 и 97 Основных законов; 2) все правительственные мероприятия общего государственного значения; 3) все предположения о замещении высших гражданских должностей центрального и местного управления, за исключением должностей начальников управлений…
Дела, подлежащие рассмотрению Особого совещания, вносятся в оное главнокомандующим, председателем Особого совещания, начальниками управлений…
На внесение в Особое совещание законодательных предположений начальники управлений… испрашивают предварительно разрешение главнокомандующего.
- Постановления Особого совещания представляются председателем его на утверждение главнокомандующему.
В состав Особого совещания входили еще по должности: 1) нач. штаба главнокомандующего; 2) главный начальник снабжений; и 3) главный начальник военных сообщений. Кроме того – без портфеля – несколько государственных и общественных деятелей.
Для разгрузки от маловажных дел было образовано малое присутствие, состоявшее из помощников начальников ведомств.
[496] Выяснилось впоследствии. Об этом позже.
[497] По существу Особое совещание было органом законосовещательным.
[498] Любопытна историческая справка, данная проф. Новгородцевым: «В апреле 1612 г., по прибытии в Ярославль, князь Пожарский и всех чинов люди, с ним бывшие, отправили грамоты по городам, прося прислать ополченцев и средства для казны, а также «изо всяких чинов людей человека по два, по три» для «земского совета». В грамотах выражается просьба, чтобы города высказали мнение, как бы в такое трудное время не остаться безгосударным, как стоять против врагов русской земли, как ссылаться без царя с иностранными государями и как устраивать впредь государственный порядок.
Согласно исследованиям проф. Платонова, такой «земский совет», или «земский собор», действительно состоялся в Ярославле, и земские люди принимали участие в делах государственных, как по внешней, так и по внутренней политике».
[499] В составе представителей командования, Дона, Кубани и Терека. История попыток создания южно-русского союза – в следующем томе.
[500] Общество «Государств, объединения России» возникло в Екатеринодаре в марте 1919 г. Председателем совета его был вначале H. H. Львов, потом Кривошеин. Общество явилось как бы областным отделом образовавшегося в Киеве «Всероссийского». Все члены «Всероссийского совещания государств, объединения», во время своего пребывания в Екатеринодаре, входили в состав местного Совета.
«Всероссийский национальный центр» из Москвы перенес свою деятельность в Киев, а в начале 1919 г.– в Екатеринодар. Во главе стоял M. M. Федоров.
«Союз возрождения России» переходил последовательно из Москвы в Киев, Одессу и Екатеринодар. После Одессы первое время организация эта расстроилась, представляя лишь немногочисленное общество отдельных видных членов Союза – Мякотин, Титов, Руднев, Пешехонов и друг.
[501] Для характеристики политических групп: Национальный центр и Сов. госуд. объединения прислали мне списки лиц, желательных для назначения в Высший совет. В список Национального центра были включены кроме деятелей, примыкавших к нему, представители торгово-промышленных групп и Союза возрождения России. Вообще в списке преобладал общественно – третий элемент, политически – кадеты и умеренные социалисты.
В списке Государственного объединения были исключительно государственные и общественные деятели правого направления. В обоих списках фигурировали имена следующих лиц: H. H. Львова, П. Б. Струве и В. В. Шульгина.
[502] К июлю 1919 г. состав Особого совещания был следующий:
- Председатель – ген. А. М. Драгомиров – беспартийный, правый.
- Нач. военного управления – ген. Лукомский – беспарт., правый.
- Нач. морск. Управления – вице-адм. Герасимов – беспарт., правый.
- Нач. штаба, ген. Романовский – беспарт., либерал.
- Главный нач. снабж. ген. Санников беспарт., правый.
- Главн. нач. воен. сообщ. ген. Тихменев – правый, член Сов. государств. объед.
- Испр. должн. нач. управл. иностр. дел А. А. Нератов – правый, член Сов. государств. объединения.
- Нач. управл. вн. дел H. H. Чебышев – правый, член Национального центра, впоследствии перешел в Сов. государств, объединения.
- Нач. управл. юстиции В. Н. Челищев – либерал, чл. Национального центра.
- « « земледелия В. Н. Колокольцов – правый.
- « « финансов М. В. Бернацкий – беспарт., бывш. р.-д.
- « « торг, и пром. В. А. Лебедев – беспарт.
- « « прод. С. Н. Маслов – правый, октябрист.
- « « путей сообщ. Э. П. Шуберский – бесп., член Национального центра.
- « « народного просвещения, и. д., И. И. Малинин – либ., чл. Национального центра.
- « « исповеданий (назн. позже) кн. Г. Н. Трубецкой – правый, член Сов. государств, объединения.
- Государств, контролер В. А. Степанов – кадет, чл. Национального центра.
- Управл. отд. зак. и пропаганды К. Н. Соколов – кадет, чл. Национального центра.
- Управл. делами Особого совещания С. В. Безобразов – беспарт., правый.
- Член Особ. совещания без портфеля Н. И. Астров – кадет, чл. Национального центра.
- « « « « « М. М. Федоров, кад., председатель Национального центра.
- « « « « « И. П. Шипов – правый.
- « « « « « Д. И. Никифоров – правый.
- « « « « « Н. В. Савич – окт., чл. Сов. гос. объед.
К этому времени вышел из состава член Особого совещания В. В. Шульгин. Ген. Санникова сменил позже ген. Картаци; Чебышева – В. П. Носович, Колокольцова – А. Д. Билимович, Лебедева – А. И. Фенин, Шуберского – В. П. Юрченко.
В работах Особого совещания принимал участие П. И. Новгородцев, по причинам личного свойства не включенный официально в его состав, бывавший в нем редко и работавший, главным образом, в Национальном центре и кадетской группе.
[503] Чтобы пояснить политический облик двух генералов, последовательно занимавших пост председателя Особого совещания – Драгомирова и Лукомского, можно указать, что до известной степени первый был близок по взглядам к В. В. Шульгину, а второй к А. В. Кривошеину.
[504] По условиям своей должности, в Особом совещании участвовал редко.
[505] Кадеты предлагали мне вызвать П. Н. Милюкова, но армейские настроения не допускали участия его в правительстве.
[506] Об этом я писал во II томе «Очерков».
[507] Так как стены имели глаза и уши, то эти посещения становились достоянием молвы и в глазах известных кругов ставились в большую вину ген. Романовскому.
[508] В телеграмме Сазонову от 2 января 1919 г. я писал: «Мы боремся за самое бытие России, не преследуем никаких реакционных целей, не поддерживаем интересов какой-либо одной политической партии и не покровительствуем никакому отдельному сословию. Мы не предрешаем ни будущего государственного устройства, ни путей и способов, коими русский народ объявит свою волю».
[509] Бюро выделилось на Симферопольском съезде.
[510] Только его лично. В собрании присутствовали еще члены Сов. гос. об. В. Бобринский, А. Хрипунов, Л. Масленников.
[511] Из протокола заседания 3 января 1919 г.– Харьковское совещание партии Народной свободы в ноябре 1919 г. высказалось за «доведение страны до Всероссийского Представительного собрания», против «попыток немедленного объявления постоянной формы государственного устройства» и против немедленного по свержении большевиков созыва Учредительного собрания.
[512] От 23 марта 1919 г., № 45.
[513] «Все, в чьем пользовании земля сейчас находится, все, кто ее засеял и обработал, хотя бы не был ни собственником, ни арендатором, имеют право собрать урожай. Вместе с тем правительство принимает меры для обеспечения безземельных и малоземельных крестьян и на будущее время, воспользовавшись в первую очередь частновладельческой и казенной землей, уже перешедшей в фактическое обладание крестьян. В окончательном же виде вековой земельный вопрос будет решен Национальным собранием». Из декларации Российского правительства, изданной 8 апреля 1919 года.
[514] Проект Декларации.
- Наши враги утверждают, что мы – реакционная сила, ведущая борьбу для восстановления старого режима. Это неправда. Мы, главнокомандующий Вооруженными силами Юга России и члены Особого при нем совещания, имея в виду опровержение возводимого на нас обвинения в реакционности, торжественно объявляем, что мы преследуем нижеследующие цели.
- Уничтожение большевицкой тирании и восстановление порядка. 2. Восстановление могущественной единой и неделимой России. 3. Созыв Национального собрания на основах всеобщего и тайного голосования. 4. Установление широкого местного самоуправления в областях, которые того пожелают. 5. Немедленные земельные реформы в соответствии с нуждами каждой местности. 6. Гарантии полной гражданской свободы и свободы вероисповедания. 7. Рабочее законодательство, обеспечивающее трудящиеся классы от эксплуатации их капиталом или Государством. (Текст в переводе с английского.)
По-видимому, этот проект был известен заблаговременно французским и американским представителям. В английском тексте фраза «Народное собрание» имела начертание «National Assembly»; во французском – «Assemblée Nationale» – понятие, имевшее совершенно определенный смысл – Учредительного собрания (1789 и 1871).
[515] О последнем просил усиленно Бриггс. «Прошу Вас довести до сведения Вашего Правительства о том, какие цели преследует Командование Вооруженных сил Юга России в вооруженной борьбе с советской властью и в государственном строительстве.
- Уничтожение большевицкой анархии и водворение в стране правового порядка. 2. Восстановление могущественной единой, неделимой России. 3. Созыв Народного собрания на основах всеобщего избирательного права. 4. Проведение децентрализации власти путем установления областной автономии и широкого местного самоуправления. 5. Гарантия полной гражданской свободы и свободы вероисповедания. 6. Немедленный приступ к земельной реформе для устранения земельной нужды трудящегося населения. 7. Немедленное проведение рабочего законодательства, обеспечивающего трудящиеся классы от эксплуатации их государством и капиталом».
[516] «Непредрешения» – речь моя на открытии Кубанской рады.
[517] Любопытно, что в правительстве адм. Колчака этот вопрос также вызывал сомнение: он был разрешен вначале возложением сношений с новообразованиями (в том числе с прав. Юга, Севера и Юденичем) на мин. иностр. дел, а с осени 1919 г. – на мин. вн. дел.
[518] События на Кубани осенью 1919 г., связанные с казнью Калабухова, как увидим позже, протекали без участия Особого совещания.
[519] Председателем был избран В. В. Шульгин. В трудах комиссии принимали участие проф. И. А. Линниченко, М. А. Ляпунов, А. Б. Билимович, П. И. Новгородцев и другие.
[520] Харьковская, Киевская, Новороссийская и Сев. Кавказ.
[521] Для главнонач. и губ. – за исключением судебных мест и Контроля; для нач. уездов – за исключением кроме того учебных заведений.
[522] Август 1919 года.
[523] 1-я курия – платящие минимальную ставку земских сборов; 2-я – лица, владеющие двойным наделом 1861 г. или уплачивающие соответствующую сумму сборов. Вторая курия облегчала возможность проведения в земство помещиков.
[524] Тимошенко – известный кубанский демагог, соц.-рев., докатившийся до большевизма.
[525] См. ниже.
[526] Приказ донского атамана от 5 июня 1918 г. и Кубанского краевого правительства от 13 июня 1918 года. Согласно последнему, например, в случае, если запашка – владельца, а семена – посевщика, последний получал пол-урожая. Если то и другое владельца, то урожай целиком переходил к последнему, а незаконный посевщик получал оплату своего труда. В июле 1919 г. Донским правительством издано постановление, в силу которого захватчик уплачивал владельцу земли «арендную плату, существовавшую осенью 1918 г.».
[527] На содержание всех армий, кроме Донской, и флота и на 12 губерний и областей, находившихся к осени в составе нашей территории.
[528] Всего выпущено правительством Юга и Донской экспедицией до марта 1920 г. около 30 миллиардов рублей.
[529] Сентябрь 1919 года.
[530] Хлеб, шерсть, руда, железо, сода, поташ и друг.
[531] Голоса кооператоров я или не слышал, или не помню.
[532] Впоследствии стал сменовеховцем.
[533] Бывший министр юстиции Временного правительства, ныне советский служащий.
[534] На средства союза издавался в сентябре 1919 г. в Ростове еженедельный погромный листок «В Москву», закрытый вскоре Донским правительством.
[535] Из 7 членов, под председательством архиепископа Донского Митрофана.
[536] Записку подписали: Астров, Винавер, Милюков, Степанов и Шульгин.
[537] Письмо к ген. Драгомирову от 30 ноября, № 060.
[538] В наказе были, между прочим, такие пункты: «3. Если, однако, вопрос о государственном устройстве России будет поставлен на международной конференции, то делегация должна настаивать на установлении в государстве Российском федеративной республики свободных народов и земель, с признанием за Кубанским краем прав отдельного штата… 4. …Если бы дело воссо/pздания России и борьбы с большевизмом было признано задачей, не допускающей международного вмешательства, то, ввиду своеобразия культуры и социального уклада Кубанского края, настаивать на установлении действительных международных гарантий против нападения и распространения на Кубанский край советской власти».
[539] В составе его к началу 1919 г. были: Маклаков (посол во Франции), Гире (посол в Италии), Бахметьев (посол в Америке), Извольский (бывший мин. иностранных дел), Чайковский (председатель Архангельского правительства), Савинков, Коновалов, Иванов (соц.-рев.), Титов («Союз возрождения»).
[540] Письмо от 11 января 1919 г., полученное мною в марте или в начале апреля.
[541] Двое – Калабухов и Д. Филимонов – вернулись также осенью.
[542] Ген. Щербачев совместно с экономическим совещанием Рафаловича исчислили и представили французскому министерству финансов смету в 69,5 милл. франков в месяц на финансирование этих предприятий.
[543] Письмо его ко мне от 20 февраля 1919 года.
[544] См. книжки Маргулиеса, Марголина, Кирдецова и друг.
[545] Керенский, Минор, Зензинов, Аргунов и другие обратились даже с «манифестом» к демократическим правительствам Запада, приглашая их не оказывать поддержки адм. Колчаку и мне.
[546] Март – апрель 1919 года.
[547] Главный комитет Нац. центра в Екатеринодаре отнесся с полным осуждением к предложению «Принкипо», о чем послал свое постановление союзному командованию.





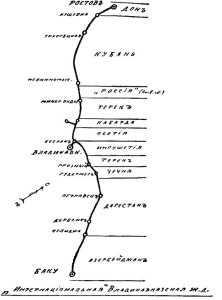


Комментировать