- Введение
- Вопросы и задания
- О генетических корнях классической русской литературы XIX века
- Вопросы и задания
- Николай Михайлович Карамзин (1766–1826)
- Карамзин и европейский сентиментализм
- Детство и юность Карамзина
- «Письма русского путешественника»
- Повесть «Бедная Лиза»
- Карамзин-журналист
- Карамзинская реформа русского литературного языка
- Спор «карамзинистов» с «шишковистами»
- Карамзин-историк
- Вопросы и задания
- Становление и развитие русского романтизма первой четверти XIX века
- Вопросы и задания
- Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)
- Романтический мир Жуковского
- Детство Жуковского
- Годы учения
- Элегии Жуковского-романтика
- «Теон и Эсхин» (1814)
- Любовь в жизни и поэзии Жуковского
- Жуковский гражданин и патриот
- Балладное творчество Жуковского
- Воспитатель наследника
- Поэмы Жуковского
- Вопросы и задания
- Иван Иванович Козлов (1779–1840)
- Детские и юношеские годы
- Стихотворные послания И. И. Козлова
- Лирика И. И. Козлова
- Гражданская лирика И. И. Козлова
- Поэмы И. И. Козлова
- Уход И. И. Козлова
- Вопросы и задания
- Константин Николаевич Батюшков (1787–1855)
- О своеобразии художественного мира Батюшкова
- Становление Батюшкова-поэта
- Первый период творчества
- Второй период творчества
- Вопросы и задания
- Иван Андреевич Крылов (1769–1844)
- Художественный мир Крылова
- Жизнь и творческий путь Крылова
- Мировоззренческие истоки реализма Крылова
- Поэтика крыловской басни
- Общенациональное содержание басен Крылова
- Вопросы и задания
- Пётр Павлович Ершов (1815–1869)
- Вопросы и задания
- Александр Сергеевич Грибоедов (1795–1829)
- Детство и юность Грибоедова
- Ссылка в Персию. Служба на Кавказе
- Успех «Горя от ума». Грибоедов и декабристы
- А. С. Пушкин о главном конфликте комедии и об уме Чацкого
- Фамусовский мир
- Драма Чацкого
- Драма Софьи
- Поэтика комедии «Горе от ума»
- Гибель Грибоедова
- Вопросы и задания
- Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837)
- Художественный мир Пушкина
- Детство
- Отрочество. Лицей
- Юность. Петербургский период
- Молодость. Южный период
- Элегия «Погасло дневное светило…»
- Поэма «Кавказский пленник»
- Поэма «Бахчисарайский фонтан»
- Лирика южного периода. Пушкин и декабристы
- Элегия «К морю»
- Пушкин в Михайловском. Творческая зрелость
- Поэтический цикл «Подражания Корану»
- Трагедия «Борис Годунов»
- Пушкин о назначении поэта и поэзии
- Освобождение. Поэт и царь
- Историческая основа поэмы «Полтава»
- Философские мотивы в лирике Пушкина
- Любовная лирика Пушкина
- Болдинская осень 1830 года. Роман «Евгений Онегин»
- Творческая история романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
- Историзм и энциклопедизм романа
- Онегинская строфа
- Реализм романа. Индивидуальное и типическое в характере Евгения Онегина
- Онегин и Ленский
- Онегин и Татьяна
- «Маленькие трагедии». «Повести Белкина»
- Историческая тема в творчестве Пушкина 1830-х годов
- Исторический роман «Капитанская дочка»
- Патриотические стихи «Клеветникам России»
- Лирика Пушкина 1830-х годов
- Дуэль и смерть Пушкина
- Вопросы и задания
- Поэты пушкинской поры
- Антон Антонович Дельвиг (1798–1831)
- Вопросы и задания
- Пётр Андреевич Вяземский (1792–1878)
- Вопросы и задания
- Николай Михайлович Языков (1803–1846)
- Вопросы и задания
- Евгений Абрамович Баратынский (1800–1844)
- Вопросы и задания
- Алексей Васильевич Кольцов (1809–1842)
- Судьба Кольцова
- «Русские песни» Кольцова
- Кольцов в истории русской литературы, критики, музыки
- Вопросы и задания
- Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841)
- О своеобразии художественного мироощущения Лермонтова
- Детские годы Лермонтова
- Годы учения в Московском благородном пансионе. Юношеская лирика
- Московский университет
- Петербургский период жизни и творчества Лермонтова 1830-х годов
- «Смерть Поэта» и первая ссылка Лермонтова на Кавказ
- Лирика Лермонтова 1838–1840 годов
- Дуэль и вторая ссылка на Кавказ
- Поэмы Лермонтова «Демон» и «Мцыри»
- Лирика Лермонтова 1840–1841 годов
- Творческая история романа «Герой нашего времени»
- Композиция романа и её содержательный смысл
- Повесть «Бэла»
- Повесть «Тамань»
- «Фаталист»
- Максим Максимыч
- Лирическое завещание Лермонтова
- Значение творчества Лермонтова в истории русской литературы
- Вопросы и задания
- Николай Васильевич Гоголь (1809–1852)
- Призвание Гоголя-писателя
- Детство и юность Гоголя
- Начало творческого пути. «Вечера на хуторе близ Диканьки»
- Сборник повестей «Миргород»
- Гоголь-историк
- Петербургские повести Гоголя
- Творческая история поэмы Гоголя «Мёртвые души»
- Тема дороги и её символический смысл
- Манилов и Чичиков
- Коробочка и Чичиков
- Ноздрёв и Чичиков
- Собакевич и Чичиков
- Плюшкин и Чичиков
- Путь Павла Ивановича Чичикова
- «Мёртвые души» в русской критике
- Повесть «Шинель»
- «Выбранные места из переписки с друзьями»
- Письмо Белинского к Гоголю
- Ответ Гоголя Белинскому
- Второй том «Мёртвых душ». Творческая драма Гоголя
- Вопросы и задания
- Иван Александрович Гончаров (1812–1891)
- О своеобразии художественного таланта И. А. Гончарова
- Роман «Обыкновенная история»
- Цикл очерков «Фрегат “Паллада”»
- Роман «Обломов»
- Н. А. Добролюбов о романе
- А. В. Дружинин о романе
- Полнота и сложность характера Обломова
- Андрей Штольц как антипод Обломова
- Обломов и Ольга Ильинская
- Историко-философский смысл романа
- Творческая история романа «Обрыв»
- Райский
- Бабушка
- Марфенька
- Вера
- «Просветитель» Веры – нигилист Марк Волохов
- Грехопадение Веры
- Выход из «обрыва»
- «Обрыв» в оценке русской критики
- Вопросы и задания
- Федор Иванович Тютчев (1803–1873)
- Малая родина Тютчева
- Тютчев и поколение «любомудров»
- Мир природы в поэзии Тютчева
- Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития
- Хаос и космос в лирике Тютчева
- Любовь в лирике Тютчева
- Тютчев о причинах духовного кризиса современного человека
- Поэтическое открытие русского космоса
- Вопросы и задания
- Алексей Константинович Толстой (1817–1875)
- О своеобразии художественного мироощущения А. К. Толстого
- Жизненный путь А. К. Толстого
- Лирика А. К. Толстого
- Баллады и былины А. К. Толстого
- Бесстрашный сказатель правды
- Вопросы и задания
- Александр Иванович Герцен (1812–1870)
- А. И. Герцен и «люди сороковых годов»
- Детство и юность А. И. Герцена
- А. И. Герцен и утопический социализм. Начало творческого пути
- Духовная драма Герцена
- Книга «Былое и думы»
- Общественная деятельность Герцена в эпоху 1860-х годов
- Вопросы и задания
- Алексей Феофилактович Писемский (1821–1881)
- Детские и юношеские годы
- Костромской период жизни и творчества
- Петербургский период жизни и творчества
- Московский период жизни и творчества
- Вопросы и задания
- Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889)
- Мастер сатиры
- Детство, отрочество, юность Салтыкова-Щедрина
- Вятский плен
- Проблематика и поэтика сатиры «История одного города»
- «Общественный роман» «Господа Головлёвы»
- «Сказки»
- Вопросы и задания
Николай Васильевич Гоголь (1809–1852)
Призвание Гоголя-писателя
«Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всех больше, – писал Гоголь друзьям, получив известие о гибели Пушкина. – Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки… мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Всё, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему».
Гоголь встретился и сошёлся с Пушкиным в 1831 году, а расстался с ним, уезжая за границу, в 1836-м. С уходом Пушкина исчезла опора. Небесный свод поэзии, который Пушкин, как атлант, держал на своих плечах, теперь обрушился на Гоголя. Он испытал впервые чувство творческого одиночества, о котором поведал нам в седьмой главе «Мёртвых душ».
Ясно, что в поэте, который никогда не изменял возвышенному строю своей лиры, Гоголь видит Пушкина, а в писателе, погрузившемся в изображение «страшной, потрясающей тины мелочей, опутавших нашу жизнь», писателе одиноком и непризнанном, Гоголь видит себя самого. За горечью утраты Пушкина, великого гения гармонии, чувствуется уже и скрытая полемика с ним, свидетельствующая о творческом самоопределении Гоголя по отношению к пушкинскому художественному наследию. Эта полемика ощущается и в специальных статьях. Определяя Пушкина как русского человека в его развитии, Гоголь замечает, что красота его поэзии – это «очищенная красота», не снисходящая до ничтожных мелочей, которые пронизывают повседневную жизнь человека.
В «Выбранных местах из переписки с друзьями», давая Пушкину высокую оценку, Гоголь замечает в то же время некоторую односторонность его эстетической позиции. Отвечая на вопрос, зачем был дан миру Пушкин, Гоголь говорит: «Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше…<…> Все сочинения его – полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел». Не вышел потому, что, «становясь мужем, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться с большими делами, не подумал он о том, как управиться с ничтожными и малыми».
Мы видим, что сквозь похвалу Пушкину слышится гоголевский упрёк ему. Может быть, этот упрёк не совсем справедливый, но зато ясно выражающий мироощущение Гоголя. Он рвётся на битву со всем накопившимся «сором и дрязгом» «растрёпанной действительности», который был оставлен Пушкиным без внимания. Литература призвана активно участвовать в жизнестроительстве более совершенного человека и более гармоничного миропорядка. Задача писателя, по Гоголю, заключается в том, чтобы открыть человеку глаза на его собственное несовершенство.
Расхождение Гоголя с Пушкиным было не случайным и определялось не личными особенностями его дарования. Ко второй половине 1830-х годов в русской литературе началась смена поколений, наступала новая фаза в самом развитии художественного творчества. Пафос Пушкина заключался в утверждении гармонических идеалов. Пафос Гоголя – в критике, в обличении жизни, которая вступает в противоречие с собственными возможностями, обнаруженными гением Пушкина – «русским человеком в его развитии». Пушкин для Гоголя остаётся идеалом, опираясь на который, он подвергает анализу современную жизнь, обнажая свойственные ей болезни и призывая к её исцелению. Образ Пушкина является для Гоголя «солнцем поэзии» и одновременно залогом того, что русская жизнь может совершенствоваться в пушкинском направлении. Пушкин – это гоголевский свет, гоголевская надежда.
«Высокое достоинство русской породы, – считает Гоголь, – состоит в том, что она способна глубже, чем другие, принять в себя слово евангельское, возводящее к совершенству человека. Семена Небесного Сеятеля с равной щедростью были разбросаны повсюду. Но одни попали на проезжую дорогу при пути и были расхищены налетевшими птицами; другие попали на камень, взошли, но усохли; третьи – в терние, взошли, но скоро были заглушены дурными травами; четвёртые только, попавшие на добрую почву, принесли плод. Эта добрая почва – русская восприимчивая природа. Хорошо взлелеянные в сердце семена Христовы дали всё лучшее, что ни есть в русском характере».
Пушкин, по Гоголю, – гений русской, православно-христианской восприимчивости. «Он заботился только о том, чтобы сказать одним одарённым поэтическим чутьём: “Смотрите, как прекрасно творение Бога!” – и, не прибавляя ничего больше, перелететь к другому предмету затем, чтобы сказать также: “Смотрите, как прекрасно Божие творение!” <…> И как верен отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком – грек, на Кавказе – вольный горец в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу – он русский с головы до ног». Эти черты русской природы связаны, по Гоголю, с православной душой народа, наделённой даром бескорыстного отклика на красоту, правду и добро. В этом заключается секрет «силы возбудительного влияния» Пушкина на любой талант. Гоголь почувствовал эту возбудительную силу в самом начале творческого пути. В его душе зажёгся «свет», указанный в пушкинском «Страннике»:
«Иди ж, – он продолжал, – держись сего ты света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!..»
Гоголь пошёл в литературе собственным путём, но направление движения определял по пушкинскому компасу.
На протяжении всей жизни своей Гоголь чувствовал себя одиноким. Ему казалось, что современники плохо его понимают. И хотя при жизни его высоко ценил Белинский и другие русские критики, этими оценками писатель был не удовлетворён: они скользили по поверхности его дарования и не касались глубины. В Гоголе все видели писателя-сатирика, обличителя пороков современного общественного строя. Но скрытые духовные корни, которые питали его дарование, современники склонны были не замечать.
В одном письме к Жуковскому Гоголь говорит, что в процессе творчества он прислушивается к высшему зову, требующему от него безусловного повиновения и ждущему его вдохновения. Вслед за Пушкиным Гоголь видит в писательском призвании Божественный дар. В изображении человеческих грехов, в обличении человеческой пошлости Гоголь более всего опасается авторской субъективности и гордыни. И в этом смысле его произведения тяготеют к пророческому обличению. Писатель, как человек, подвержен тем же грехам, что и люди, им изображаемые. Но в минуты творческого вдохновения он теряет свое «я», свою человеческую «самость». Его устами говорит уже не человеческая, а Божественная мудрость – пророческий глас.
Мировоззрение Гоголя в основе своей было глубоко религиозным. Гоголь никогда не разделял идейных установок Белинского и русской демократической мысли, согласно которым человек по своей природе добр, а зло заключается в общественных отношениях. Человек никогда не представлялся Гоголю «мерою всех вещей», ибо он, как христианин, был убеждён, что природа человека помрачена первородным повреждением. Источник общественного зла заключён не в социальных отношениях, и устранить это зло с помощью реформ или революций нельзя. Несовершенное общество – не причина, а следствие человеческой порочности. Внешняя организация жизни – отражение внутреннего мира человека. Дух творит себе формы: «Дух животворит, плоть не пользует ни мало; слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6: 53-63). И если в человеке помрачён Божественный первообраз, никакие изменения внешних форм жизни не в состоянии уничтожить зло.
Всё творчество Гоголя заключает призыв к падшему человеку: «Встань и иди!» «В нравственной области Гоголь был гениально одарён, – утверждал исследователь его творчества К. Мочульский, – ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть её с пути Пушкина на путь Достоевского. Все черты, характеризующие “великую русскую литературу”, ставшую мировой, были намечены Гоголем: её религиозно-нравственный строй, её гражданственность и общественность, её боевой и практический характер, её пророческий пафос и мессианство».
Гоголь бичевал социальное зло в той мере, в какой видел коренной источник несовершенств. Гоголь дал этому источнику название пошлость современного человека. «Пошлым» является человек, утративший духовное измерение жизни, образ Божий. Когда помрачается этот образ в душе, человек превращается в плоское существо, замкнутое в себе самом, в своём эгоизме. Он становится пленником своих несовершенств и погружается в болото бездуховного ничто. Люди вязнут в тине мелочей, опутывающих жизнь. Смысл их существования сводится к потреблению материальных благ, которые тянут человеческую душу вниз – к расчётливости, хитрости, лжи.
Гоголь пришёл к мысли, что всякое изменение жизни к лучшему надо начинать с преображения человеческой личности. В отличие от либералов-реформаторов и революционеров-социалистов Гоголь не верил в возможность обновления жизни путём изменений существующего социального строя. «Мысль об “общем деле” у Гоголя была мыслью о решительном повороте жизни в сторону Христовой правды – не на путях внешней революции, а на путях крутого, но подлинного религиозного перелома в каждой отдельной человеческой душе», – писал о Гоголе русский мыслитель Василий Зеньковский[43].
Литературу Гоголь представлял как действенное орудие, с помощью которого можно пробудить в человеке религиозную искру и подвигнуть его на этот крутой перелом. И только неудача с написанием второго тома «Мертвых душ», в котором он хотел пробудить духовные заботы в пошлом человеке, заставила его обратиться к прямой религиозной проповеди в «Выбранных местах из переписки с друзьями».
Белинский придерживался в те годы революционно-демократических и социалистических убеждений. Он обрушился на эту книгу в «Письме к Гоголю», упрекая писателя в отступничестве от «прогрессивных» взглядов, в религиозном мракобесии. Это письмо показало, что религиозную глубину гоголевского реализма Белинский не чувствовал никогда. Пафос реалистического творчества Гоголя он сводил к «обличению существующего общественного строя».
От Белинского пошла традиция делить творчество Гоголя на две части. «Ревизор» и «Мёртвые души» рассматривались как прямая политическая сатира на самодержавие и крепостничество, призывавшая к их «свержению», а «Выбранные места из переписки с друзьями» толковались как произведение, явившееся в результате крутого перелома в мировоззрении писателя, изменившего своим «прогрессивным» убеждениям. Не обращали внимания на неоднократные и настойчивые уверения Гоголя, что «главные положения» его религиозного миросозерцания оставались неизменными на протяжении всего творческого пути. Идея воскрешения «мёртвых душ» была главной и в художественном, и в публицистическом его творчестве. Гоголь утверждал: «Общество тогда только поправится, когда всякий человек займется собою и будет жить как христианин, служа Богу теми орудиями, какие ему даны, и стараясь иметь доброе влияние на небольшой круг людей, его окружающих. Всё придёт тогда в порядок, сами собой установятся тогда правильные отношения между людьми, определятся пределы, законные всему. И человечество двинется вперёд». Это было коренное убеждение писателя от ранних повестей и рассказов до поэмы «Мёртвые души» и книги «Выбранные места из переписки с друзьями».
Детство и юность Гоголя
Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта (1 апреля) 1809 года в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии в семье небогатого украинского помещика Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского и его супруги Марии Ивановны. Детские годы его прошли в имении родителей Васильевка Миргородского уезда, неподалёку от села Диканьки. Это были места, вошедшие в летописи. Здесь Кочубей враждовал с Мазепой, и в диканьской церкви хранилась его окровавленная рубаха, в которой по навету Мазепы он был казнён. В часе езды от Васильевки по Опошнянскому тракту было Полтавское поле – место знаменитой битвы. От своей бабушки Татьяны Семёновны, научившей мальчика рисовать и даже вышивать гарусом, Гоголь слушал зимними вечерами украинские народные песни. Внучка славного Лизогуба, сподвижника Петра Великого, бабушка рассказывала внуку исторические легенды и предания о героических страницах истории, о запорожской казачьей вольнице. Давно уж перевелись в Миргороде те удалые казаки, о которых слагались песни и легенды. Потомки их стали столбовыми дворянами или вольными хлебопашцами. От былой воинской славы остались развешанные по стенам в виде украшения ружья, пистолеты да казачьи шашки. Племя героев сменила толпа «существователей», круг интересов которых ограничивался приобретательством.
Семья Гоголей выделялась на этом фоне устойчивыми культурными запросами. Василий Афанасьевич был талантливым рассказчиком и любителем театра. Он близко сошёлся с дальним родственником, бывшим министром юстиции Д. П. Трощинским, который жил на покое в селе Кибинцы, неподалёку от Васильевки. Богатый вельможа устроил в своей усадьбе домашний театр, где Василий Афанасьевич стал режиссёром и актёром. Он составлял для этого театра собственные комедии на украинском языке, сюжеты которых заимствовал из народных сказок. В подготовке спектаклей принимал участие В. В. Капнист, маститый драматург, автор прославленной «Ябеды». На подмостках сцены в Кибинцах разыгрывались его пьесы, а также «Недоросль» Фонвизина, «Трумф, или Подщипа» Крылова. Василий Афанасьевич был дружен с Капнистом, гостил иногда всем семейством у него в Обуховке. В июле 1813 года маленький Гоголь видел здесь Г. Р. Державина, навещавшего друга своей молодости. Писательский дар и актёрский талант Гоголь унаследовал от своего отца.
Мать, Мария Ивановна, была женщиной религиозной, нервной и впечатлительной. Потеряв двоих детей, умерших в младенчестве, она со страхом ждала третьего. Супруги молились в диканьской церкви перед чудотворной иконой святого Николая. Дав новорожденному имя почитаемого в народе святителя, родители окружили мальчика особой лаской и вниманием.
С детства запомнились Гоголю рассказы матери о последних временах, о гибели мира и Страшном Суде, об адских муках грешников. Рассказы сопровождались материнскими наставлениями о необходимости блюсти душевную чистоту ради будущего спасения. Большое впечатление на мальчика произвели рассказы о лестнице, которую спускают с неба ангелы, подавая руку душе умершего. На лестнице этой – семь мерок; последняя, седьмая, поднимает бессмертную душу человека на седьмое небо, в райские обители, которые доступны немногим. Туда попадают души праведников – людей, которые провели земную жизнь «во всяком благочестии и чистоте». Образ лестницы пройдёт потом через все размышления Гоголя об участи и призвании человека к духовному совершенствованию.
От матери унаследовал Гоголь тонкую душевную организацию, склонность к созерцательности и богобоязненную религиозность. Дочь Капниста вспоминала: «Гоголя я знала мальчиком всегда серьёзным и до того задумчивым, что это чрезвычайно беспокоило его мать». На воображение мальчика повлияли также языческие верования народа в домовых, ведьм, водяных и русалок. Разноголосый и пёстрый, подчас комически весёлый, а порой приводящий в страх и трепет таинственный мир народной демонологии с детских лет впитала впечатлительная гоголевская душа.
В 1821 году, после двухлетнего обучения в Полтавском уездном училище, родители определили мальчика в только что открытую в Нежине Черниговской губернии гимназию высших наук князя Безбородко. Её часто называли лицеем: подобно Царскосельскому лицею, поскольку гимназический курс в ней сочетался с университетскими предметами, а занятия вели профессора. Семь лет проучился Гоголь в Нежине, приезжая к родителям лишь на каникулы.
Сперва учение шло туго: сказывалась недостаточная домашняя подготовка. Дети состоятельных родителей, однокашники Гоголя, поступили в гимназию со знанием латыни, французского и немецкого языков. Гоголь завидовал им, чувствовал себя ущемлённым, чурался однокашников, а в письмах домой умолял дражайших папеньку и маменьку забрать его из гимназии. Сынки богатых родителей не щадили его самолюбия, высмеивали его слабости. На собственном опыте пережил Гоголь драму «маленького» человека, узнал горькую цену слов бедного чиновника Башмачкина, героя его «Шинели», обращённых к насмешникам: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» Болезненный, хилый, мнительный, мальчик был унижаем не только сверстниками, но и нечуткими педагогами. Редкостное терпение, умение молча сносить обиды дало Гоголю первую кличку, полученную от гимназистов, – «Мёртвая мысль».
Но вскоре Гоголь обнаружил незаурядный талант в рисовании, а потом и завидные литературные способности, далеко опередив своих обидчиков. Появились единомышленники, с которыми он стал издавать рукописный журнал, помещая в нём свои рассказы, стихотворения. Среди них – историческая повесть «Братья Твердиславичи», сатирический очерк «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан», в котором он высмеивал нравы местных обывателей. Но первые литературные опыты Гоголя до нас не дошли.
В 1824 году гимназическое начальство разрешило учащимся открыть свой собственный театр. Гоголь с увлечением отдался этому начинанию: сам рисовал декорации к спектаклям, выступал в роли режиссёра-постановщика и ведущего комического актёра. Особенно удавались ему роли стариков и старух, и однажды он покорил публику мастерским исполнением роли Простаковой в комедии Фонвизина «Недоросль».
Этот «молчун» и «мёртвая мысль» вдруг вышел из подполья и обнаружил неиссякаемые источники юмора. Всё заметили его острый глаз и примечательную способность по одной яркой детали схватывать самую суть человеческого характера. Его коньком стала, например, комическая имитация лицейских учителей, настолько точная и меткая, что учащиеся хохотали до колик в животе. А однажды, чтобы избежать телесного наказания, Гоголь так правдоподобно разыграл сумасшествие, что перепуганное гимназическое начальство направило его в лечебницу.
Но за внешней гоголевской веселостью всегда чувствовалась трагическая нотка, звучал какой-то скрытый вызов. Тогда-то и родилась наиболее меткая кличка, которую дали этому маленькому и болезненному проказнику гимназисты, – «таинственный Карла». Впоследствии Гоголь говорил: «Причина той весёлости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе всё смешное, что только мог выдумать». Так уже в гимназические годы сформировался юмористический дар Гоголя – подмеченное Белинским «комическое одушевление, всегда побеждаемое чувством грусти и глубокого уныния».
Период обучения Гоголя в гимназии совпал с поворотом русской общественной мысли от культуры французского классицизма к романтической философии и поэзии Германии. В Нежине этот поворот ознаменовали любимые гимназистами профессор немецкой словесности Ф. И. Зингер и профессор права Н. Г. Белоусов, знакомивший учащихся с Гердером и Шеллингом. Если классики тосковали по Древней Элладе, то романтики обратились к христианскому Средневековью. Утверждался новый взгляд на историю как процесс, в ходе которого каждый народ в соответствии со своим «национальным духом» и призванием вносит собственный вклад в общее развитие человечества.
Пробудилась мысль о необходимости национального самопознания. В Москве возникло общество «любомудров», в которое входили В. Ф. Одоевский, И. В. Киреевский, А. И. Кошелев, Д. В. Веневитинов, М. А. Максимович. Появилась идея создания собственного журнала, программу которого Веневитинов наметил в статье «Несколько мыслей в план журнала»: «Самопознание – вот идея, одна только могущая одушевить вселенную; вот цель и венец человека… С сей точки зрения мы должны взирать на каждый народ, как на лицо отдельное, которое к самопознанию направляет все свои нравственные усилия, ознаменованные печатию особенного характера».
Веневитинов подвергает критике современную русскую мысль и литературу. «У всех народов самостоятельных, – говорит он, – просвещение развивалось из начала отечественного… Россия же всё получила извне». Она «приняла наружную форму образованности и воздвигла мнимое здание литературы без всякого основания». Задачей современности является возвращение к себе, к своим собственным историческим корням, к русской древности, к народной песне как хранительнице национальной памяти. Один из «любомудров», М. А. Максимович, приступил тогда к собиранию украинских народных песен, а другой, П. В. Киреевский, – великорусских. Пробуждался интерес к Украине как колыбели восточнославянской и русской истории.
В 1824 году «любомудры» организовали свой печатный орган – альманах «Мнемозина». Второй номер его открывался программной повестью В. Ф. Одоевского «Елладий». В ней звучал призыв к духовному возрождению человека: «Чья жизнь была – беспрерывное совершенствование, тому на земле знакомо небесное, тот бодро оставляет прах земной, он привык отрясать его! – но горе оземленелому телом и духом!»
Гоголь читает этот альманах. За год до окончания гимназии он пишет своему другу Г. И. Высоцкому в Петербург: «Ты знаешь всех наших существователей, всех, населивших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться…». В согласии с религиозной философией любомудров-романтиков Гоголь верит в своё высокое предназначение.
Благословен тот дивный миг,
Когда в поре самопознанья,
В поре могучих сил своих
Тот, небом избранный, постиг
Цель высшую существованья… —
так пишет Гоголь о своём призвании в романтической поэме «Ганц Кюхельгартен», сочинённой в последний год его обучения в гимназии.
В 1826 году Гоголь начинает труд собирательский. Он заводит «Книгу всякой всячины, или Подручную энциклопедию» – объёмистую тетрадь в пятьсот страниц. Он записывает в ней украинские народные песни, пословицы и поговорки, народные предания, описания деревенских обрядов, отрывки из произведений украинских писателей, выписки из сочинений старинных западноевропейских путешественников по России. Сюда включает он обширный «лексикон малороссийский» – материалы к словарю украинского языка.
В 1825 году семья Гоголей переживает тяжкую утрату: скоропостижно умирает отец, Василий Афанасьевич. Гоголь переносит этот удар «с твердостью христианина». Он остаётся старшим в семье. С этого момента начинается его стремительное взросление: юноша всерьёз задумывается о своём призвании, о выборе жизненного пути. «Ежели об чём я теперь думаю, так это всё о будущей жизни моей, – пишет он матери. – Во сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и служба государству». «Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном. На юстиции», – делится он планами с дядюшкой.
Насколько искренни эти признания «таинственного Карлы»? Ведь романтическую поэму «Ганц Кюхельгартен» и «Подручную энциклопедию» он тщательно уложит в дорожный саквояж! Звание литератора в глазах русского дворянства 1830-х годов не воспринималось серьёзно. Да и в жизни того времени понятие «профессиональный писатель», если вспомнить Пушкина, с трудом завоевывало своё место в общественной «табели о рангах».
Начало творческого пути. «Вечера на хуторе близ Диканьки»
В июне 1828 года Гоголь окончил курс в Нежинской гимназии, а в конце года, заручившись рекомендательными письмами от влиятельных родственников, отправился в Петербург. Он ехал в столицу с самыми радужными надеждами, полагая, что сразу же откроется перед ним поприще широкой и плодотворной деятельности. Но молодого романтика ждало на первых порах глубокое разочарование. Рекомендательные письма провинциалов не помогли. Несмотря на самые отчаянные хлопоты, ему долго не удавалось определиться даже на скромную чиновничью должность. Да и там вместо великих дел, «полезных для человечества», пришлось заниматься механическим переписыванием канцелярских бумаг.
Катастрофой обернулось и начало его литературной деятельности. В 1829 году Гоголь издал под псевдонимом «Алов» привезённую из Нежина романтическую поэму «Ганц Кюхельгартен». Держа своё авторство в глубокой тайне, он разнёс издание по книжным лавкам, роздал знакомым, передал в редакции влиятельных газет и журналов для отзыва. Но в магазинах поэму не покупали, друзья и знакомые хранили по её поводу гробовое молчание. Только Н. Полевой в «Московском телеграфе» откликнулся на это сочинение обидной насмешкой, да в «Северной пчеле» Гоголь прочёл убийственные слова: «Свет ничего бы не потерял, если бы сия первая попытка юного таланта залежалась под спудом».
Со своим слугой он забрал у книгопродавцев все экземпляры нераспроданной поэмы, снял специальный номер в гостинице и там сжёг их все до одного. До конца жизни Гоголь никому не открылся, что псевдоним «В. Алов» и поэма «Ганц Кюхельгартен» принадлежали ему.
В этих драматических обстоятельствах Гоголя поддерживает вера в своё высокое призвание и глубокое религиозное убеждение, позволявшее ему видеть в постигших его неудачах волю Провидения, важную и нужную для христианина жизненную школу. «Жалованья получаю сущую безделицу, – пишет он матери. – Весь мой доход состоит в том, что иногда напишу или переведу какую-нибудь статейку для господ журналистов… <…> В столице нельзя пропасть с голоду имеющему хотя бы скудный от Бога талант. Одного только нужно опасаться здесь для бедняка – заболеть. Тогда-то уже ему почти нет спасения: источники его доходов прекращаются, издержки на лекарства и лекарей для него совершенно невозможны, и ему остаётся одно средство – умереть».
Одновременно с этими жалобами письма Гоголя к матери начинают пестрить настойчивыми просьбами сообщать как можно подробнее обычаи и нравы малороссиян. Ценя тонкий и наблюдательный ум Марии Ивановны, Гоголь ждёт описаний полного наряда сельского дьячка, крестьянской девушки («до последней ленты»!), парубка, мужика. Его интересует украинская древность, одежды времён гетманских. Он просит дать подробное описание украинской свадьбы, ему нужны сведения о колядках, об Иване Купале, о русалках, домовых и прочей нечисти. «Много носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий» – и всё это для Гоголя теперь «чрезвычайно занимательно». В свободное от служебных занятий время, в «уединённой комнатке», Гоголь начинает свой труд над творческой обработкой присланных ему материалов.
Воображение уносит его на родину, в поэтический мир украинской природы, в таинственную глубину народной души, в праздничный шум ярмарочной толпы, в героические времена борьбы «козацкого народа» за свою независимость, за святую веру православную. Он вчитывается в тексты народных песен, вспоминает их мелодии – и поёт гоголевская душа: «Моя радость, жизнь моя! песни! как я вас люблю! Что все чёрствые летописи, в которых я теперь роюсь, перед этими звонкими, живыми летописями!»
Чужой и равнодушный Петербург, где столько мытарств ему пришлось пережить, давно пробудил ностальгическую тоску по родной Украине. В долгие петербургские сумерки, иногда далеко за полночь, у догорающей сальной свечки, поёживаясь от холода, уносится Гоголь в воображении туда, в тёплый край детства: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в неё. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся ещё необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь!»
Высоко над землёй несут Гоголя крылья его мечты – могучие крылья. С высоты видит он всю Украину, тысячевёрстно раскинутую перед ним: «За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетьманы собирались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Чёрное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галичская».
Украину существователей, хуторскую, приземлённую, погрязшую в мелочах, изображали до Гоголя многие. Такая Украина стала модной ещё в 1820-х годах. Здесь и В. Т. Нарежный с его романом «Два Ивана, или Страсть к тяжбам», с повестью «Бурсак», и А. Погорельский с повестью «Монастырка». К поэтической, героической стороне украинской истории прикоснулся, пожалуй, лишь К. Ф. Рылеев в своих «Думах». Но от подлинного историзма его «Думы» были далеки. В год приезда Гоголя в Петербург опубликовал поэму «Полтава» Пушкин. Поэтическое восприятие украинской ночи Гоголь у своего учителя позаимствовал. Вспомним пушкинское:
Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звёзды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы…
Но у Пушкина украинская тема не была центральной: сюжет поэмы замкнут на главном образе – Великого Петра
Гоголь совершает в освещении этой темы переворот общероссийского масштаба и литературной значимости. Оторвавшись на крыльях мечты от приземлённо-бытового, узкого, «хуторского» восприятия, он увидел Украину в целостном образе, как мир, единый не только в пространстве, но и во времени, в исторической глубине. Живым ядром, центром его у Гоголя оказался народный мир, неразложимое единство, органическая духовная общность, сформировавшаяся под влиянием поэтической природы, православно-христианской веры, подсвеченной языческими поверьями, общность, закалённая в героических битвах за независимость.
Одна за другой выходят из-под пера Гоголя повести, раскрывающие с разных сторон целостный и живой образ Украины, связывающиеся в единую книгу под заглавием «Вечера на хуторе близ Диканьки». Первая часть «Вечеров…» появляется отдельным изданием в сентябре 1831 года («Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница», «Пропавшая грамота»), вторая – в марте 1832 года («Ночь перед Рождеством», «Страшная месть», «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка», «Заколдованное место»).
«Сейчас прочёл “Вечера близ Диканьки”, – пишет Пушкин. – Они изумили меня. Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошёл в типографию, где печатались “Вечера”, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор[44] объяснил их весёлость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно весёлою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов».
В «Вечерах…» Гоголь сумел проникнуться духом свободного и вольного народа, опираясь на фольклор, используя его по-своему, творчески. Писатель не просто заимствует из народного искусства те или иные сказочные, песенные, бытовые мотивы. Он переводит фольклор на язык современного искусства, передаёт самую суть народного сознания, творит собственный мир в духе фольклора.
Повествование у Гоголя идёт от множества рассказчиков: в лирических описаниях мы слышим голос автора, который перебивается далее голосом Рудого Панька или тех простодушных украинцев, которых иной раз пересказывает этот пасичник. Но всем рассказчикам «Вечеров…» присуще нечто общее, что объединяет их голоса в хор. В лирических пейзажах автора, например, отчётливо прослушивается поэтическая душа, родственная украинской народной песне. Из народного источника идёт знаменитый гиперболизм описаний природы в «Страшной мести»: «Чуден Днепр при тихой погоде…» Это Днепр народной легенды, поэтической «думы». Его песенный разлив настолько широк, что и впрямь «редкая птица долетит до середины Днепра».
Гоголь обретает в «Вечерах…» ту свободу, о которой мечтал, о которой писал товарищам, – свободу от «земности», придавившей современного человека, превратившей его в тусклого «существователя». В народной жизни его интересуют не серые будни, а яркие праздники. Мир «Вечеров…» именно такой, где, по словам Г. А. Гуковского, «всё – здоровое, яркое, где торжествует молодость, красота, нравственное начало. Это – мир, где бесшабашные, красивые, влюблённые и весёлые парубки так легко добиваются любви ещё более красивых девушек, пламенных и гордых одновременно; где препятствия устраняются легче, чем они возникают».
В этом мире даже черти не страшны, а, наоборот, забавны и не лишены своей «чертовской» нравственности. «…Как же могло это статься, чтобы чёрта выгнали из пекла?» – удивляется Черевик. – «Что ж делать, кум? выгнали, да и выгнали, как собаку мужик выгоняет из хаты. Может быть, на него нашла блажь сделать какое-нибудь доброе дело, ну и указали двери. Вот чёрту бедному так стало скучно, так скучно по пекле, что хоть до петли. Что делать? Давай с горя пьянствовать».
Удалой кузнец Вакула в повести «Ночь перед Рождеством» легко обуздывает чёрта крестным знамением и заставляет зло служить ему во благо. Оседлав нечистого, он взлетает с ним в поднебесную высь и несётся в Петербург добывать черевички с ноги царицы для своей возлюбленной. Как в сказке, он подкупает великую императрицу «дурацким» простодушием, получает золотые туфельки и возвращается обратно, не забыв «отблагодарить» послужившего ему нечистого по-народному: «Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный чёрт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель».
Фрейлины царского двора, слушая баллады Жуковского, «поэтического дядьки ведьм и чертей», падали в обмороки от ужасов, в них представленных. Гоголь изображает тот же мир, но иначе, по-народному, со свойственной русскому человеку трезвостью и здравым смыслом. По контрасту с балладными ужасами Жуковского гоголевская фантастика вызывала веселый смех и у наборщиков, и у Пушкина, и у всех русских читателей и читательниц доброго старого времени.
Вот у подгулявшего не в меру деда черти унесли шапку с важной грамотой от запорожцев к самой царице. Отправился он выручать грамоту в самое пекло: «“Батюшки мои!” – ахнул дед, разглядевши хорошенько: – что за чудища! рожи на роже, как говорится, не видно. <…> На деда, несмотря на весь страх, смех напал, когда увидел, как черти с собачьими мордами, на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм, будто парни около красных девушек…»
Таким же представляется чёрт в «Ночи перед Рождеством»: «Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая всё, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды». А когда это «животное начнет увиваться за бойкой ведьмой, ядреной бабой Солохой», то он окажется «проворнее всякого франта в чулках».
Пушкин назвал «Вечера…» весёлой книгой. Но его гармонический, светлый гений прошёл мимо того глубокого диссонанса, который пронизывает её. Уже в первой повести цикла финальная сцена веселья и единства людей в музыке и танце обрывается трагической нотой: «Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Ещё слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдалённого моря, и скоро всё стало пусто и глухо.
Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему».
О чём говорит этот грустный финал, на что он намекает? Гоголь смотрит на историю народа как на жизнь отдельного человека. Национальная душа в истории проходит через те же возрастные фазы – юности, молодости, зрелости, старости. В книге «Вечеров…» Гоголь поэтизирует юность своего народа – безоглядную, беззаботную, воспринимающую мир как вечный праздник, как буйное и разгульное пиршество земных радостей и страстей. Православная душа народа ещё не доросла тут до глубокой веры, до зрелой религиозности. Она ещё полна языческих суеверий и предрассудков, свойственных юности нации, но и обрекающих эту юность на трагические искушения.
Гоголь-христианин знает, конечно, чем помочь сердцу в пустыне одиночества. Но он знает также, что народ, к которому он принадлежит, обречён на неизбежные испытания, от которых никому не уберечь его, не защитить, не спасти. Радость юности – «прекрасная», но «непостоянная» гостья – «улетит от нас», улетит и от народа. Эта тема, как грозовая туча, надвигается на солнечное небо «Вечеров…», достигая кульминации в повести «Страшная месть».
Рядом с племенем поющим и пляшущим, бок о бок с ним, организуется в иное, недоброе единство другое племя, тёмное, бесовское, угрожающее пляшущим и поющим разрушением их веселья и распадом их единства. И по мере того как крепнет это племя, обостряется в повестях Гоголя чувство времени, утверждает себя историческая тема. Во второй части «Вечеров…» она звучит отчётливо и внятно, даже обретает зримые временные рамки: от запорожской юности XVI–XVII веков («Страшная месть») к крепостнической современности («Иван Федорович Шпонька и его тётушка»).
Чем искушает бесовская сила находящийся в состоянии романтической юности простодушный и доверчивый народ? Набор таких соблазнов неизменен во все времена: гордыня и тщеславие, богатство и роскошь, сластолюбие и похоть да ещё один сугубо национальный порок, попавший даже в летопись Нестора, – «веселие Руси есть пити».
Как только простой казак Макогоненко стал сельским головой, так и ушёл в гордыню, стал важен и чванлив. На мирской сходке, или громаде, «всегда берёт верх», «высылает, кого ему угодно, ровнять и гладить дорогу или копать ров». Напускает на себя голова угрюмость и суровость, говорит отрывисто и немного – начальствует.
Потенциальные возможности перехода казацкой вольницы в самодурство и произвол подчёркнуты Гоголем и в поведении парубков: «Гуляй, козацкая голова! – говорил дюжий повеса, ударив ногою в ногу и хлопнув руками. – Что за роскошь! Что за воля! Как начнёшь беситься – чудится, будто поминаешь давние годы. Любо, вольно на сердце; а душа как будто в раю. Гей, хлопцы! Гей, гуляй!..»
«Рай» такой казацкой вольницы далеко не христианский, а скорее языческий «рай». Храбрый Данило Бурульбаш в «Страшной мести», вспоминая о славе запорожского войска, о золотых временах борьбы с неверными за независимость отечества, проговаривается и о другом: «Сколько мы тогда набрали золота! Дорогие каменья шапками черпали козаки. Каких коней, Катерина, если б ты знала, каких коней мы тогда угнали!»
И когда приходит час новой битвы, когда на мгновение оживает казацкий «рай», Гоголь рисует удалой разгул довольно сложными диссонирующими красками. С одной стороны – «пошла потеха, и запировал пир». Гуляют мечи, летают пули, топочут кони. В описании боя ощутим колорит древнерусской воинской повести, возникают параллели со «Словом о полку Игореве»: та же метафора пира, переносимая на бранное поле, то же уподобление ратника крестьянину-пахарю и сравнение битвы с кровавой жатвой.
Сожалеет автор «Слова…» о поступке князя Игоря, поддавшегося игре страстей. Не свободен от древнего греха и «пир» козаческий: «уже очищается двор, уже начали разбегаться ляхи; уже обдирают козаки с убитых золотые жупаны и богатую сбрую». Не выдерживает Гоголь, как и автор «Слова…», «со слезами смешанного», вторгается в повествование с лирическим увещеванием о пагубе соблазна языческим «раем»: «Руби, козак! гуляй, козак! тешь молодецкое сердце; но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны! топчи под ноги золото и каменья!»
Страшной местью угрожает христианская нравственность за измену козака заповедям Спасителя: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут» (Мф.6:19). Потому и страшна месть, потому и суров Бог козацкий, что велик соблазн. Исток всех бедствий, обрушившихся на козацкий мир, народное предание связывает у Гоголя с изменой козака духовному братству и товариществу ради тщеславия да богатства. В этом смысл суровой легенды о двух братьях, Иване и Петре, в повести «Страшная месть».
Мир общей жизни под тёплым солнцем Украины изображается Гоголем как сравнительно недалёкая, но уже недостижимая реальность, ставшая мечтой. Об этом говорит вступающая в диссонанс с остальными произведениями «Вечеров…» повесть «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка». Шпонька – человек той же козацкой породы, но опошленной в современности: мелкие интересы, ограничивающиеся едой, сном и употреблением напитков, душевная дряблость и вялость. Редко-редко в глубине души «существователя» вспыхнет Божья искра.
Сборник повестей «Миргород»
Успех «Вечеров…» круто изменил положение Гоголя в Петербурге. Сердечное участие в его судьбе принимают Дельвиг, Плетнёв и Жуковский. Плетнёв, бывший в то время инспектором Патриотического института, доставляет ему место преподавателя истории и рекомендует на частные уроки в некоторые аристократические дома. В мае 1831 года Гоголь знакомится с Пушкиным на вечере у Плетнёва. Лето и осень Гоголь проводит в Павловске и часто встречается с Пушкиным и Жуковским в Царском Селе.
По свидетельству Гоголя, именно Пушкин впервые определил коренное своеобразие его таланта: «Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что ещё ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем».
Эта особенность гоголевского мировосприятия более ярко, чем в «Вечерах…», проявилась в его следующей книге «Миргород». Как и «Вечера…», цикл повестей «Миргород» состоял из двух частей. В первую вошли повести «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба», во вторую – «Вий» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Обе части вышли в свет одновременно в самом начале 1835 года.
Гоголь дал «Миргороду» подзаголовок «Повести, служащие продолжением “Вечеров на хуторе близ Диканьки”». Но эта книга не была простым продолжением «Вечеров…». И в содержании, и в характерных особенностях художественной манеры писателя она явилась новым этапом в его творческом развитии.
Летом 1832 года, после более чем трёхлетнего пребывания в Петербурге, Гоголь навестил родные места. Грустное чувство, овладевшее им, передаётся в самом начале повести «Старосветские помещики», открывающей цикл: «Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна ещё до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, – и ничего более. Грустно! мне заранее грустно!»
Такой лирический зачин позволяет предположить, что в бесхитростной истории угасания двух старичков много автобиографического. Это заметил первый биограф Гоголя П. А. Кулиш: «Это не кто другой, как он сам вбегал, прозябнув, в сени, хлопал в ладоши и слышал в скрипении двери: “батюшки, я зябну”. Это он вперял глаза в сад, из которого глядела сквозь растворенное окно майская тёмная ночь…» Кулиш считал, что, «изображая свою незабвенную Пульхерию Ивановну, Гоголь маскировал дорогую личность матери. <…> Сквозь милые черты его Бавкиды проглядывает пленительный образ великой в своей неизвестности женщины…»
И всё же, называя свою повесть «Старосветские помещики», Гоголь подчёркивал, что речь в ней идёт не только о частной судьбе двух милых старозаветных старичков, но о целом укладе жизни, обречённом на гибель и вызывающем у автора глубокие симпатии. Пребывание в Васильевке после многолетней разлуки открыло перед Гоголем тягостную картину разорения того уклада, который питал поэтический мир «Вечеров…». Причину разорения Гоголь увидел в «несчастной невоздержанности» хозяев-помещиков, поддавшихся соблазнам «цивилизованной» жизни.
Поэтизируя хозяйственный уклад патриархального имения, Гоголь показывает его самодостаточность. В нём всё одомашнено, всё близко к человеку, желания и помыслы которого беззаветно отданы любви к земле. Согретая лаской, земля платит за эту любовь сказочным преизбытком своих плодов, которых хватает на всех и про всё и которые не истощаются даже при самом безумном их расточительстве.
А в финале повести Гоголь показывает причину начавшегося разорения: «Скоро приехал, неизвестно откуда, какой-то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком, не помню, в каком полку, страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах; всё это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всём порядок. Накупил шесть прекрасных английских серпов, приколотил к каждой избе особенный номер и, наконец, так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку».
Ясно, что главная причина расстройства заключается в чуждости этого человека основам старосветской жизни: приехал неизвестно откуда и служил неизвестно где. Какие же духовные устои оберегали этот идиллический мир от разрушения, чем дорог он Гоголю и почему рассказ о нём окрашен в столь грустные, личные тона?
На первый взгляд может показаться, что жизнь Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны бездуховна, что всё в ней подчинено скучному ритуалу завтраков, обедов и ужинов, что над всем царит убогий материальный интерес, усыпивший навсегда высокие потребности души. Лейтмотивом всей повести действительно является тема еды: «Чего вы стонете, Афанасий Иванович?» – «Бог его знает, Пульхерия Ивановна…» – «А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович?»
Это дало повод Белинскому невысоко оценить суть «идиллической жизни», которую ведут гоголевские старозаветные чудаки: «Возьмите его “Старосветских помещиков”: что в них? Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится исстари, умирают. <…> О бедное человечество! Жалкая жизнь!»
Однако оценка Белинского вступает в коренное противоречие с точкой зрения самого Гоголя, который пишет о своих героях так: «По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают, наконец, капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на о, слог въ. Нет, они не были похожи на эти презренные и жалкие творения, так же как и все малороссийские старинные и коренные фамилии».
Старосветский быт удерживает в своих вроде бы окаменевших, превратившихся в ритуал формах какой-то очень дорогой для Гоголя духовный идеал. Обратим внимание, как говорит автор о гостеприимстве своих старичков: «Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Всё, что у них ни было лучшего, всё это выносилось». А в их услужливости по отношению к гостю не было «никакой приторности», радушие было следствием «чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ».
За бытовым ритуалом теплится верность этих людей «наибольшей заповеди» Спасителя: «Возлюби ближнего твоего как самого себя» (Мф.22:39). Не любовь к «кушаньям», а любовь к ближнему движет их поступками, определяет их образ жизни. Бытовой ритуал обильных завтраков, обедов и ужинов несёт в себе высокое духовное содержание. Ведь старички-то на самом деле к этим благам отнюдь не привязаны, и получают они их в щедром изобилии как Божий дар за праведную жизнь.
Осиротевший старик, оставшись один, «часто поднимал ложку с кашею и, вместо того чтобы подносить ко рту, подносил к носу». Трогательно повествует рассказчик о своём визите к нему: «“Вот это то кушанье, – сказал Афанасий Иванович, когда подали нам мнишки со сметаною, – это то кушанье, – продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать её. – Это то кушанье, которое по… по… покой… покойни…” – и вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась, соус залил его всего; он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку, и слёзы, как ручей, как немолчно текущий фонтан, лились, лились ливмя на застилавшую его салфетку».
И вот теперь, глядя на неутешное горе Афанасия Ивановича, автор задаёт себе и нам, читателям, такой вопрос: «Боже! – думал я, глядя на него, – пять лет всеистребляющего времени – старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушёных рыбок и груш, из добродушных рассказов, – и такая долгая, такая жаркая печаль! Что же сильнее над нами: страсть или привычка?» Заметим, что, в отличие от Белинского, в слово «привычка» Гоголь вкладывает высокий, духовный смысл. Неслучайно Пушкин сказал в «Евгении Онегине»:
Привычка свыше нам дана:
Замена счастию она.
«Привычка», данная человеку свыше, это способность к самозабвенной и бескорыстной любви. Над такой любовью не властно время, потому что она ни к чему чувственному, приносящему мгновенное, страстное удовольствие, не прикреплена. В отношениях между старичками сквозь бытовую, земную оправу их отношений струится «несказанный свет» христианской духовности. Так что за бесхитростной вроде бы историей жизни и смерти двух безвестных людей стоит очень важный и глубоко волнующий Гоголя вопрос о судьбе русской национальной культуры.
В прямую параллель к этой духовной любви-привязанности Гоголь приводит в повести эпизод из жизни юного человека, потерявшего свою возлюбленную, к которой он пылал чувственной, страстною любовью. Потеря обернулась «бешеной, палящей тоской, пожирающим отчаянием», попытками самоубийства. А год спустя автор встретил этого человека в многолюдном зале. Он сидел на стуле и играл в карты, а за ним, облокотившись на спинку стула, стояла молоденькая жена его.
В свое время Д. И. Чижевский назвал «Старосветских помещиков» «идеологической идиллией» и обратил внимание, что противопоставление в повести любви страстной чувству «тихому и незаметному», но «верному и в смерти», имеет в творчестве Гоголя своеобразное продолжение. В 1836 году он «набросал замечательное и знаменательное сравнение Петербурга и Москвы. Сквозь лёгкую иронию здесь просвечивает глубокая антитеза делового, официального, подвижного и правящего Петербурга старой, полузабытой, неподвижной, тяжеловесной и идиллической Москве… В ранних письмах Гоголь не раз противопоставляет украинскую провинцию Великороссии, из которой он знал только Петербург: оба элемента этой антитезы носят ту же окраску, что Москва и Петербург в упомянутой статье. Попав за границу, Гоголь на ином материале ещё раз пережил эту противоположность, по видимости, умершего или уснувшего, но культурно ценного Рима и динамически-неспокойного, но, по его мнению, поверхностного и духовно пустого Парижа». На этом противопоставлении строится повесть Гоголя «Рим» (1841).
Гоголь остро почувствовал, что надвигающийся на Россию буржуазный, торгово-промышленный дух враждебен изначальным основам православно-христианской цивилизации. На просторах этой цивилизации он принимает какой-то хищнический, разбойный характер и угрожает стране как духовным, так и экономическим разорением. В письме к родным от 4 марта 1851 года он дает характерный совет: «Другую, другую жизнь нужно повести, простую, простую. <…> Для жизни евангельской, какую любит Христос, немного издержек <…> по-настоящему, не следовало бы и покупать того, чего не производит собственная земля: и этого достаточно для того, чтобы не только наесться, но даже и объесться».
Идеал хозяйствования, который утверждал Гоголь в письмах к родным, а потом в «Выбранных местах из переписки с друзьями», основывался у него на христианском отношении к труду как средству духовного спасения. Труд в таком понимании связан не только с приобретением материальных благ, но и с исполнением Божией заповеди. В одной из своих заметок Гоголь дал православно-христианской трудовой этике такую характеристику: «Человек рождён, чтобы трудиться. “В поте лица снеси хлеб свой”, – сказал Бог по изгнании человека за непослушание из рая, и с тех пор это стало заповедью человеку, и кто уклоняется от труда, тот грешит и перед Богом. Всякую работу делай так, как бы её заказал тебе Бог, а не человек. Если б и не наградил тебя человек здесь – не ропщи; за то больше наградит тебя Бог.
Важнее всех работ – работа земледельца. Кто обрабатывает землю, тот больше других угоден Богу. Сей и для себя, сей и для других, сей, хоть бы ты и не надеялся, что пожнёшь сам: пожнут твои дети; скажет спасибо тот, кто воспользуется твоим трудом, – вспомянет твоё имя и помолится о душе твоей. Во всяком случае, тебе выгода: всякая молитва у Бога много значит. Только трудись с той мыслью, что трудишься для Бога, а не для человека, и не смотри ни на какие неудачи: хоть бы всё то, что ты наработал, и пропало, побито было градом, – не унывай и снова принимайся за работу. Богу не нужно, чтобы ты выработал много денег на этом свете; деньги останутся здесь. Ему нужно, чтобы ты не был в праздности и работал. Потому, работая здесь, вырабатываешь себе Царствие Небесное, особенно если работаешь с мыслью, что работаешь Богу. Работа – святое дело. Когда делаешь работу, говори в себе: “Господи, помоги!” и за всяким разом говори: “Господи, помилуй!”. Заступом ли копнёшь или ударишь топором, говори: “Господи, удостой меня быть в раю с праведниками”. Когда делаешь работу, старайся быть так благочинен в мыслях, как бы ты был в церкви, чтоб от тебя никто не услышал бранного слова, чтобы и грубого не услышал от тебя товарищ, чтобы во взаимной любви всех совершалось дело: тогда работа – святое дело. Такая работа спасёт твою душу. Твоею работою здесь – заработаешь ты себе Царствие Небесное там. Аминь».
В следующей повести – «Тарас Бульба» – Гоголь обращается к героическим временам истории, когда русский человек, преодолевая растительное существование, поднимался на высоту духовного подвига: «Бульба был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжёлый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников; когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объялся древле-мирный славянский дух и завелось козачество – широкая, разгульная замашка русской природы… <…> Это было, точно, необыкновенное явление русской силы: его вышибло из народной груди огниво бед».
Общенациональные испытания выбивают человека из бытовой повседневности и возвращают ему утраченную в серых буднях духовную высоту. О стремлении к такому пробуждению есть лёгкие намёки в «Старосветских помещиках»: «А что, Пульхерия Ивановна, – говорил он, – если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись?» Или: «Я сам думаю пойти на войну; почему же я не могу идти на войну?» Эти вопросы Афанасия Ивановича к своей супруге говорят о смутном ощущении опасности чрезмерного покоя и довольства для духовной природы человека. Эта опасность в первой повести книги совершенно очевидна.
Иное в «Тарасе Бульбе». «“На что нам эта хата? К чему нам всё это? На что эти горшки?” – Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки». Так ведёт себя Тарас в согласии с общим духом героического времени, когда поднимали любого казака на защиту родной земли и православной веры слова есаула на рыночной площади: «“Эй вы, пивники, броварники! полно вам пиво варить, да валяться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы, баболюбы! полно вам за плугом ходить, да пачкать в земле свои жёлтые чёботы, да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую! Пора доставать козацкой славы!” И слова эти были как искры, падавшие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки, ремесленник и торгаш посылал к чёрту и ремесло и лавку, бил горшки в доме. И всё, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность».
В огниве бед народ обретает укрепляющую каждого и объединяющую всех в соборное единство духовную скрепу бытия. Не случайна эта вероисповедная проверка каждого новичка, вступающего в Запорожскую Сечь: «“Здравствуй! Что, во Христа веруешь?” – “Верую!” – отвечал приходивший. – “И в Троицу Святую веруешь?” – “Верую!” – “И в церковь ходишь?” – “Хожу!” – “А ну, перекрестись!” Пришедший крестился. – “Ну, хорошо, – отвечал кошевой, – ступай же в который сам знаешь курень”. Этим оканчивалась вся церемония».
Здесь каждый чувствует радость от найденного смысла жизни, радость от принятого на себя подвига по заповеди христианской: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13). В знаменитой речи о «товариществе» Тарас Бульба говорит об особом родстве козаков «по душе, а не по крови»:
«Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Всё взяли бусурманы, всё пропало. Только остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чём стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь своё дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей».
И Тарас по отношению к изменнику Андрию и мученику за веру Остапу возвышается над узами кровного родства, предпочитая им узы «небесного братства». «Сами обращения Тараса к запорожцам – “паны братья” – отчётливо напоминают соответствующие обращения “мужи братия” в Книге деяний апостольских, – отмечает исследователь Гоголя И. А. Виноградов. – Потому-то духовное родство превосходит у запорожских рыцарей не только любовь к женщине, но побеждает и самую смерть, давая утешение в предсмертные минуты».
«Узы этого братства, – писал Гоголь о казаке в статье “О малороссийских песнях”, – для него выше всего, сильнее любви. Сверкает Чёрное море; вся чудесная, неизмеримая степь от Тамана до Дуная – дикий океан цветов колышется одним налётом ветра; в беспредельной глубине неба тонут лебеди и журавли; умирающий казак лежит среди этой свежести девственной природы и собирает все силы, чтоб не умереть, не взглянув ещё раз на своих товарищей.
То ще добре козацька голова знала,
Що без вийска козацького не вмирала.
Увидевши их, он насыщается и умирает».
«Таким же утешением – от лицезрения близкого человека, а ещё более от сознания исполненного долга – “насыщается” и Остап в свои предсмертные минуты, – замечает И. А. Виноградов. – Отцовское “Слышу!” становится здесь слышанием самого Небесного Отца. “Ему первому приходилось выпить эту тяжёлую чашу”, – говорит автор о муках, предстоящих Остапу. Упоминание о “тяжёлой чаше” прямо обращает к словам Спасителя: “Чашу Мою будете пить и крещением, которым Я крещусь, будете креститься”. Следующее далее описание казни Остапа прямо перекликается с Гефсиманским молением Сына к Своему Небесному Отцу перед Его крестными страданиями. Так же, как взывающий с колен Спаситель “услышан был за Свое благоговение”, и “явился Ему Ангел с небес и укреплял Его”, так Остап, подобно многим другим христианским мученикам и исповедникам, получает утешение, слышит “таинственный”, “ужасный” для других “зов” в свои предсмертные минуты».
«Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мёртвой толпы отдалёнными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои, – ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его, не дрогнуло лицо его, Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи, и одобрительно только говорил: “Добре, сынку, добре!”
Но когда подвели его к последним смертным мукам – казалось, как будто стала подаваться его сила. И повёл он очами вокруг себя: Боже, всё неведомые, всё чужие лица! Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти! Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушения слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и биющей себя в белые груди; хотел бы он теперь увидеть твёрдого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И упал он силою и воскликнул в душевной немощи:
– Батько! где ты? Слышишь ли ты?
– Слышу! – раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул».
В статье «Скульптура, живопись и музыка» Гоголь писал: «Никогда не жаждали мы так порывов, воздвигающих дух, как в нынешнее время, когда наступает на нас и давит вся дробь прихотей и наслаждений, над выдумками которых ломает голову наш XIX век. Всё составляет заговор против нас; вся эта соблазнительная цепь утончённых изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства».
Искушаются этим же соблазном и запорожские казаки. «Тогда влияние Польши начинало уже сказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь козаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия».
В своей речи о товариществе Тарас с горечью говорит: «Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают чёрт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продаёт, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который жёлтым чёботом своим бьёт их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснётся оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело».
В VII главе повести есть контрастная картина высыпавшего на вал осаждённого города Дубны польского войска и стоявшего внизу войска запорожцев. «…Польские витязи, один другого красивей, стояли на валу. Медные шапки сияли, как солнца, оперённые белыми, как лебедь, перьями…» Иначе выглядит запорожское войско: нет ни на ком золота, нет претензии на роскошь. «Не любили казаки богато выряжаться на битвах; простые были на них кольчуги и свиты…»
Но вот прельстился же уманский куренной Бородатый, нагнулся, чтобы снять с убитого врага дорогие доспехи, и пал от руки неприятеля – «не к добру повела корысть козака». И Андрий, изменивший казацкому братству, такой стал «важный рыцарь»: «И наплечники в золоте, и нарукавники в золоте, и зерцало в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, и всё золото». Да и в самой Сечи охотников «до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов» было, по словам Гоголя, немало. И хоть не ценили такое добро запорожцы, зато ценили водку да горилку, ради которых охотно спускали добытое богатство с рук.
Первый, кто попался Тарасу с сыновьями при въезде в Запорожскую Сечь, был казак, спавший на самой середине дороги, раскинув руки и ноги. А поскольку Сечь «и слышать не хотела о посте и воздержании», её пиршества превращались в «бешеное разгулье весёлости». Так вот и погиб от руки неприятеля перепившийся Переяславский курень. «Ни поста, ни другого христианского воздержанья не было: как же может статься, чтобы на безделье не напился человек? Греха тут нет», – оправдываются казаки перед Тарасом. Да и сам этот воин за веру православную гибнет ради «спасения»… люльки с табаком.
Тарас отдает сыновей по двенадцатому году в Киевскую академию: все сановники тогдашнего времени делали так. Но к духовному просвещению казаки относились формально: получалось оно с тем, «чтобы после совершенно позабыть его». Отголоски язычества в поведении запорожского войска проявляются не только в пьяных разгулах, но и в ходе самой битвы. Андрий переживает в бою «бешеную негу и упоение»: «что-то пиршественное зрелось ему в те минуты, когда разгорится у человека голова, в глазах всё мелькает и мешается, летят головы, с громом падают на землю кони, а он несётся как пьяный в свисте пуль, в сабельном блеске, и наносит всем удары, и не слышит нанесённых». С этим связана и месть, нехристианская казачья жестокость: «Не уважили козаки чернобровых панянок, белогрудых, светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями».
Гоголь объясняет эту жестокость тем, что «поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа, – поднялась отмстить за посмеянье прав своих, за позорное унижение своих нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинства чужеземных панов, за угнетенье, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле – за всё, что копило и сугубило с давних времён суровую ненависть козаков». Но поражение Тараса в войне, поднятой за веру, связано в первую очередь с отступлением от веры как его самого, так и всех запорожцев.
О забвении козацким народом христианских заповедей в брани со злом специальная речь у Гоголя в следующей повести – «Вий». В основе её – тема, традиционная в житийной литературе: борьба христианина с сатанинскими силами. Но повесть «Вий» – это антижитие. Поражение Хомы Брута объясняется просто: он плохой христианин.
Вся ватага киевских семинаристов удивляет встречных коренным нарушением христианских заповедей будущими хранителями православной веры: «от них слышалась трубка и горелка иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник долго ещё, остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух». Чертыхание не сходит с языка Хомы Брута. Он же, «непристойно сказать, ходил к булочнице против самого Страстного четверга». Явившись в церковь читать отходную перед гробом ведьмы-панночки, Хома думает с сожалением: «Эх, жаль, что во храме Божием не можно люльки выкурить!» Да и сам этот храм – свидетельство давнего небрежения козаков своей святыней: деревянный, почерневший, убранный зелёным мхом, с ветхим иконостасом и совершенно потемневшими образами.
Но зато стены панских амбаров разукрашены на славу. «На одной из них нарисован был сидящий на бочке козак, державший над головою кружку с надписью: “Всё выпью”. На другой фляжка, сулеи и по сторонам, для красоты, лошадь, стоявшая вверх ногами, трубка, бубны и надпись: “Вино – козацкая потеха”».
Все бесовские «прелести» и безумные страхи, наполняющие жизнь героев «Вия», Гоголь считает Божеским попущением за грешную жизнь, наказанием за отступничество от веры. В статье 1846 года «Страхи и ужасы России» Гоголь пишет о беде, подстерегающей народ, уклонившийся от христианских заповедей: «Вспомните Египетские тьмы, которые с такой силой передал царь Соломон, когда Господь, желая наказать одних, наслал на них неведомые, непонятные страхи и тьмы. Слепая ночь обняла их вдруг среди бела дня; со всех сторон уставились на них ужасающие образы; дряхлые страшилища с печальными лицами стали неотразимо в глазах их; без железных цепей сковала их всех боязнь и лишила всего: все чувства, все побуждения, все силы в них погибнули, кроме одного страха».
Гибнет Хома Брут «оттого, что побоялся». Обуявший его страх – возмездие за неправедную жизнь. Повесть завершается описанием страшного «запустения на месте святе»: «Вошедший священник остановился при виде такого посрамленья Божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником; и никто не найдёт теперь к ней дороги».
Завершает «Миргород» «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Действие в ней переносится из далёкого прошлого в современность, к измельчавшим потомкам козаков. Речь идёт не о героической битве, а о никчёмной тяжбе двух миргородских обывателей, «столпов» провинциального городка. Тяжба возникла случайно по ничтожному поводу: Иван Никифорович в пустейшей ссоре обозвал Ивана Ивановича «гусаком».
Повествование ведётся от лица миргородского обывателя, который смотрит на героев снизу вверх как на образцовых граждан города. Он с восхищением описывает образ жизни этих «достойнейших людей»: «Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки!» «Прекрасный человек Иван Иванович! Какой у него дом в Миргороде!»
В повествование включается комический приём «овеществления» человека, который будет широко использоваться далее. Каждой похвале, которую расточает рассказчик своим героям, соответствует комически взрывающее эту похвалу содержание: «Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни». «Прекрасный человек Иван Иванович! Его знает и комиссар полтавский!» Богомольный человек Иван Иванович! Каждый воскресный день в своей бекеше посещает он церковь, а по окончании службы «обходит нищих “с природной добротой”: “Откуда ты, бедная?” – “Я, паночку, из хутора пришла: третий день, как не пила, не ела, выгнали меня собственные дети”. – “Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда?” – “А так, паночку, милостыни просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб”». А когда старуха протягивает руку за подаянием, Иван Иванович говорит: «Ну, ступай же с Богом. Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!»
Обличительный пафос в повести приближается порой к гротеску. Таково, например, известное сравнение героев: «Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх». Или: «Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строением».
Ничтожество героев обнажает начавшаяся между ними тяжба. Чистый вздор является поводом для «борьбы», в которой каждый старается как можно злее навредить другому. Злонамерение полностью овладевает их душами, превращаясь в цель и смысл жизни.
И по мере того как повесть движется к концу, становится всё более грустной её тональность. Миргородский храм. День праздничный, а церковь пуста. «Свечи при пасмурном, лучше сказать – больном дне, как-то были странно неприятны; тёмные притворы были печальны; продолговатые окна с круглыми стёклами обливались дождливыми слезами».
«Запустение на месте святе» довершает Иван Иванович: «Уведомить ли вас о приятной новости?» – «О какой новости?» – спросил я. – «Завтра непременно решится моё дело».
Плачет природа, пустеет Божий дом, и комическое одушевление сменяется «чувством грусти и глубокого уныния». «Я вздохнул ещё глубже и поскорее поспешил проститься, потому что я ехал по весьма важному делу, и сел в кибитку. Тощие лошади, известные в Миргороде под именем курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Дождь лил ливмя на жида, сидевшего на козлах и накрывшегося рогожкою. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, чёрное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. – Скучно на этом свете, господа!»
Таким образом, книга повестей «Миргород», написанная как продолжение «Вечеров…», обостряет тот конфликт между героическим прошлым и пошлой современностью, который прозвучал в повести «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка». Мир «старосветских помещиков», в котором, как догорающая свеча, истончается и истекает дымком духовный огонь, сменяется высоким героическим взлётом украинского Средневековья в «Тарасе Бульбе». Но и в этой героической эпопее, раскрывающей плодотворное зерно национального духа, появляются драматические конфликты, симптомы будущего распада. Духовные истоки этого распада раскрываются в повести «Вий», а современные их последствия – в повести о ссоре.
Гоголь-историк
Художественное мышление Гоголя в «Миргороде» глубоко исторично. И это не случайно. Работа над ним совпала с серьезным увлечением писателя исторической наукой. Это увлечение, как мы помним, началось ещё в Нежинской гимназии, потом оно окрепло в процессе преподавания истории в Патриотическом институте, где Гоголь прослужил более четырёх лет.
При поддержке Плетнёва и Жуковского Гоголь получает должность адъюнкт-профессора[45] по кафедре всеобщей истории Петербургского университета. В 1834–1835 годах писатель читает лекции по средневековой истории. Среди его слушателей-студентов оказывается И. С. Тургенев. Одновременно у Гоголя возникают замыслы многотомного труда по истории европейского Средневековья, пишутся отдельные статьи, собираются материалы.
Вскоре Гоголь убеждается, что его художественный талант не вполне согласуется с рационалистическим миром науки. Писатель воспринимает историю не в рациональных формулах, а в живых картинах. Первые лекции, прочитанные им в университете, покоряют слушателей колоритностью передачи исторического материала. Но потом Гоголь к академической науке охладевает. Его призвание – быть художником, что он блестяще продемонстрировал в повести «Тарас Бульба», которую ещё и доработал теперь, усилив в ней эпический элемент.
«Тарас Бульба» – первая в истории русской литературы национальная эпопея, предвосхищающая вместе с «Капитанской дочкой» Пушкина будущие эпические картины «Войны и мира» Л. Н. Толстого, «Тихого Дона» М. А. Шолохова. Вероятно, Гоголь не достиг бы в литературе столь впечатляющего результата, если бы его художественное мышление не опиралось на фундамент глубокого знания и понимания истории, а также на изучение богатейшего фактического материала европейского и украинского Средневековья.
В основе гоголевской философии истории лежала вера в Божественное руководительство, в глубокую связь национальной истории с религией народа, вероисповедными его святынями. Гоголь мечтал о великом историческом призвании славян Восточной Европы, о грядущем расцвете России. Гоголь-историк мыслил диалектически: современное состояние русской жизни – отрицание героического Средневековья – по закону «отрицания отрицания» и «снятия» возникшего противоречия приведёт в будущем к возрождению более прочного и одухотворенного национального единства на православно-христианской основе. При этом Гоголь не разделял украинский и русский народ: он видел у них общий исторический корень, обрекающий их на единую историческую судьбу.
Петербургские повести Гоголя
В первой половине 1835 года Гоголь публикует сборник «Арабески», в состав которого, наряду с историческими и публицистическими статьями, вошли три повести: «Невский проспект», «Портрет» и «Записки сумасшедшего». Петербургскими повестями, дополненными затем рассказом «Нос» и повестью «Шинель», Гоголь завершал целостную картину русской жизни, существенным звеном которой оказалась также написанная в эти годы комедия «Ревизор». По мере переноса места действия повестей от овеянной народными преданиями южной окраины Российской империи к её современному административному и культурному центру – Петербургу всё более укрепляется общерусский масштаб их проблематики. Сквозная тема петербургских повестей – обманчивость внешнего блеска столичной жизни, её мнимого великолепия, за которым скрывается низменная и пошлая проза. «О, не верьте этому Невскому проспекту! … Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка». Эти слова из повести «Невский проспект» можно поставить эпиграфом ко всему петербургскому циклу.
Вместо людей по Невскому проспекту движутся «бакенбарды, шляпки, талии, дамские рукава, щегольские сюртуки, греческие носы, пара хорошеньких глазок, ножка в очаровательном башмачке, галстук, возбуждающий удивление, усы, повергающие в изумление», и т. п. Торжествует гоголевское «овеществление» человека. Бездуховный мир омертвел и рассыпался на детали, на вещи. Человека замещают предметы его туалета.
Когда высокий дух покидает мир, в нём нарушается иерархия ценностей – и всё рассыпается и обваливается в бесформенную кучу. Человек уже не может отличить добро от зла, высокое от низкого. Он теряет целостность восприятия, лишается ориентации. Петербургскому мечтателю-романтику, художнику Пискарёву кажется, что «какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. Сверкающие дамские плечи и чёрные фраки, люстры, лампы, воздушные летящие газы, эфирные ленты и толстый контрабас, выглядывающий из-за перил великолепных хоров, – всё было для него блистательно». Но это блеск хаоса, отражающий абсурдность мира, потерявшего смысл, утратившего организующую его духовную вертикаль.
«Тротуар нёсся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз».
Изображается ситуация, напоминающая «Египетские тьмы». Только в современном мире эти «Египетские тьмы» оборачиваются ощущением абсурдности, призрачности, лживости окружающего человека бездуховного существования. В фантасмагории петербургской жизни путается и смещается всё. Мечты человека, лишённые прочной духовной основы, превращаются в болезненный призрак. Извращаются представления о прекрасном. Художник Пискарёв находит ангельскую красоту там, где она и не ночевала, – в наглости и пошлости продажной женщины. Его влечёт к себе «красота, проникнутая тлетворным влиянием разврата». Пискарёв убивает себя, став жертвой лживого идеала красоты, порождённого абсурдной жизнью.
«Романтику» Пискарёву противопоставлен «реалист» Пирогов, который является пленником окружающей его пошлости. Сама антитеза двух героев – Пирогова и Пискарёва – оказывается мнимой. «Он лжёт во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущённою массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде».
Подмена подлинных ценностей мнимыми приводит к разрушению образа Божия в человеке. Коллежский асессор Ковалёв в повести «Нос» мнит себя майором. «Функция», место в чиновничьей иерархии заменяет и вытесняет в человеке его духовную ипостась. Воображая себя майором, Ковалев постоянно «задирает нос» перед окружающими и становится жертвой «чиномании». «Нос» отделяется от Ковалева в виде значительного лица и покидает своего «хозяина». Поиски своего «носа», погоня за ним и, наконец, чудесное его возвращение являются основой фантастического сюжета повести. Фантастика Гоголя при всём её неправдоподобии имеет глубокий смысл. В лживом мире значимость человека определяется не его внутренними достоинствами, а предметами модного туалета или его положением в «табели о рангах», в чиновничьей иерархии.
В «Записках сумасшедшего» Гоголь обращается к исследованию внутреннего мира бедного петербургского чиновника, который сидит в директорском кабинете и чинит перья своему начальнику. Он восхищён его превосходительством: «Да, не нашему брату чета! Государственный человек». И одновременно он презирает людей, стоящих по чину и званию ниже его. Фамилия этого чиновника Поприщин, и он уверен, что его ожидает великое поприще: «Что ж, и я могу дослужиться… Погоди, приятель! – думает он о своем начальнике, – будем и мы полковником, а может быть, если Бог даст, то чем-нибудь и побольше. Заведём и мы себе репутацию ещё и получше твоей».
На почве уязвлённого самолюбия в маленьком человеке развивается болезненная гордыня. Он и презирает тех, кто стоит выше, и завидует им. Стремление быть, как они, усиливается мечтательной влюблённостью Поприщина в дочь директора департамента. А когда она отдаёт предпочтение камер-юнкеру, героя охватывает буря противоречивых чувств. «…Что ж из того, что он камер-юнкер. Ведь это больше ничего, кроме достоинства; не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан, а так же, как и у меня, как и у всякого; ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет. Я несколько раз уже хотел добраться, отчего происходят все эти разности. Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником? Может быть, я сам не знаю, кто я таков. Ведь сколько примеров по истории: какой-нибудь простой, не то уже чтобы дворянин, а просто какой-нибудь мещанин или даже крестьянин, – и вдруг открывается, что он какой-нибудь вельможа, а иногда даже и государь. Когда из мужика да иногда выходит эдакое, что же из дворянина может выйти? Вдруг, например, я вхожу в генеральском мундире: у меня и на правом плече эполета, и на левом плече эполета, через плечо голубая лента – что? как тогда запоет красавица моя? что скажет и сам папа, директор наш? О, это большой честолюбец! это масон, непременно масон, хотя он и прикидывается таким и эдаким, но я тотчас заметил, что он масон: он если даст кому руку, то высовывает только два пальца. Да разве я не могу быть сию же минуту пожалован генерал-губернатором, или интендантом, или там другим каким-нибудь? Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?»
Болезненное сознание героя, нацеленное на ниспровержение всего, что «не я», что выше меня, что на меня не похоже, приводит его к полному внутреннему расстройству и сумасшествию. Своим Поприщиным Гоголь открывает дорогу Достоевскому с его «Бедными людьми», повестью «Двойник», «Запискам из подполья» и другим произведениям, в которых бунт одинокой личности против несправедливого порядка вещей сопровождается внутренним признанием этой несправедливости, тайным сочувствием ей.
В повести «Портрет» Гоголя волнует судьба искусства в современном мире. Тема эта была очень актуальна для собственного творчества писателя периода создания петербургских повестей. Как уберечь искусство художнику и писателю, обращающемуся к тёмным сторонам жизни человека и общества? При каких условиях искусство, изображающее мирское зло, способно оказать очищающее влияние на души людей?
Молодой художник Чартков пытается сберечь свой талант от соблазна коммерческого успеха. Он терпит нужду и лишения, но не злоупотребляет ни бойкостью кисти, ни яркостью красок, прислушиваясь к совету своего учителя: «Терпи. Обдумывай всякую работу, брось щегольство».
Однажды художник покупает в картинной лавке незаконченное полотно старого мастера. Особенно поражают Чарткова в купленном портрете глаза изображенного на нём старика: «Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда». Причём излучали эти глаза что-то недоброе.
Художник, писавший этот портрет, попал в зависимость от демонической натуры старика и злоупотребил искусством в достоверной его передаче. Рассматривая портрет, Чартков задумался о тайнах искусства: «Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее и ровнее всё течёт и движется вокруг тебя? И почему та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а, между прочим, он так же был верен природе? Но нет, нет в ней чего-то озаряющего».
Выходит, что талант может злоупотребить искусством во зло, а может использовать искусство во благо, хотя и в том и в другом случае «правда жизни будет соблюдена»?
На этот вопрос, возникающий в первой части повести, Чарткову не суждено найти ответа. Таинственный источник, одухотворяющий в высоком искусстве даже низменную сторону жизни, для Чарткова закрыт. Он попадает в страшную зависимость от демонического соблазна, который излучают изображённые на портрете живые глаза. В тонком сне Чартков с ужасом видит, как оживший старик выпрыгивает из рамы портрета, достает мешок из-под складок широкого платья и начинает пересчитывать золотые червонцы. Их блеск пленит воображение Чарткова. «Боже мой, если бы хотя часть этих денег!» – думает он, проснувшись.
Демоническая сила, заключенная в портрете, немедленно отвечает на это искушение. Из мешка падают на пол «тяжелые свертки в виде длинных столбиков; каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено: «1000 червонных». Казалось бы, случайное богатство дает возможность Чарткову без всякой нужды употребить во благо данный ему от Бога талант. Сперва он так и хочет сделать. Но соблазн не проходит бесследно: искусительные глаза старика и золотые червонцы делают свое злое дело. Чарткова тянет к модной одежде, к роскоши – он начинает писать картины для денег, потакать вкусам светской толпы. В конце первой части повести он губит свой талант, сходит с ума и умирает, как великий грешник, в страшных мучениях.
Кто виноват в гибели Чарткова? Нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Виноват сам художник, не устоявший перед искусом продажи таланта за деньги. Но виновата и картина, а точнее, тот старый мастер, который ввел склонного к соблазну Чарткова в искушение.
Во второй части повести Гоголь ставит проблему ответственности художника за свой талант. Действие переносится в XVIII век, когда в Петербурге появился заезжий ростовщик. Искушающие людей демонические силы явились в новый мир не в виде безобидных чертей, с которыми легко справлялись козаки в «Вечерах…», а в образе ростовщика и банкира, соблазняющего мир блеском золота, избытком материальных благ. Деньги, бравшиеся в рост у этого человека, никому не приносили добра.
Талантливый художник, расписывающий храмы, обратил внимание на этого ростовщика. Ему показалось, что недобрые глаза такого человека могли бы послужить хорошей натурой для изображения дьявола на церковной фреске. Едва художник впал в эту искусительную мысль, как тотчас же он получил от ростовщика заказ на изготовление портрета. Дав необдуманное согласие, художник сам пришел в ужас от «вонзившихся в его душу» и уже изображённых на портрете глаз. Он бросил портрет, не дописав его, но демонический образ овладел его помыслами и проник в его сердце.
Художник почувствовал зависть к своему ученику, вступил с ним в состязание, создавая картину для вновь отстроенной богатой церкви. В картину свою он вкладывал всё умение, всё мастерство, но результат вышел печальным. На конкурсе она получила такую оценку: «В картине художника, точно, есть много таланта, но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах, как будто рукою художника водило нечистое чувство». Вслед за этой неудачей художника потрясли одно за другим три несчастья. Посчитав их наказанием Божиим, он удалился в монастырь. Суровой аскезой он долго очищал душу от дьявольских искушений, и талант вновь вернулся к нему.
В заключение повести Гоголь приводит напутствие, которое пострадавший мастер даёт своему сыну, пошедшему по стопам отца: «У тебя есть талант; талант есть драгоценнейший дар Бога – не погуби его. Исследуй, изучай всё, что ни видишь, покори всё кисти, но во всём умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о Божественном, небесном рае заключён для человека в искусстве, и по одному тому оно уже выше всего».
Гоголь считает, что в минуты поэтического вдохновения поэт, художник, проникаясь благодатной энергией, прозревает в видимых вещах невидимый Божий замысел о мире, образ Божий, запечатлённый в нём. Он искажён и помрачён грехами и нестроениями, царящими в повседневной жизни, он незаметен «слепым», «помутнённым» глазам грешного человека. Бог для того и наделяет избранников талантом, чтобы они приоткрывали «слепым» людям божественную тайну мира.
Художник признаётся, что, работая над портретом ростовщика, он изменил своему божественному призванию: «Я знаю, свет отвергает существование дьявола, и потому не буду говорить о нём. Но скажу только, что я с отвращением писал его, я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив всё, быть верным природе. Это не было созданье искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства, – не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассевает томительные впечатленья, зарождая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить гоненья и угнетенья. Да хранит тебя Всевышний от сих страстей! Нет их страшнее. Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гоненья. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится».
Таким образом, в повести «Портрет» Гоголь изображает не только трагедию художника в современном больном и бездушном мире, но и трагические последствия больного искусства, попавшего под обаяние злых, демонических соблазнов и оказывающего разрушительное влияние на судьбы людей.
Комедия «Ревизор» явилась связующим звеном между «Мёртвыми душами» и всем предшествующим творчеством писателя. В ней Гоголь хотел «собрать в одну кучу всё дурное на Руси и разом посмеяться над ним». Он верил в очищающую силу такого смеха и предпослал своей комедии эпиграф: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Народная пословица. Каждый зритель должен был прежде всего увидеть себя в зеркале гоголевского смеха и ощутить в себе «ревизора» – голос собственной совести.
Сюжет комедии дал Гоголю Пушкин. 7 октября 1835 года Гоголь писал ему в Михайловское: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию». Пушкин рассказал, как однажды в Нижнем Новгороде, по пути в Болдино, его приняли за ревизора. В течение месяца с небольшим Гоголь интенсивно работает над «Ревизором» и завершает комедию 4 декабря 1835 года.
Не сомневаясь в её очистительном влиянии на души, погрязшие в тине греховности, Гоголь просит Жуковского ходатайствовать перед государем о немедленной постановке комедии на петербургской и московской сценах. Николай I прочёл «Ревизора» в рукописи и одобрил.
Премьера комедии состоялась в Петербурге 19 апреля 1836 года на сцене Александринского театра. Одновременно вышло в свет и первое её издание. Сам государь присутствовал на представлении среди многих министров, которым он посоветовал посмотреть «Ревизора». Премьера имела успех. «Общее внимание зрителей, рукоплескания, задушевный и единогласный хохот, вызов автора… ни в чём не было недостатка», – вспоминал П. А. Вяземский. Николай I тоже «хлопал и много смеялся, а выходя из ложи, сказал: “Ну, пьеска! Всем досталось, а мне более всех!”»
Однако Гоголь был глубоко разочарован и потрясён: «“Ревизор” сыгран – и у меня на душе так смутно, так странно… Я ожидал, я знал наперёд, как пойдёт дело, и при всём том чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня. Моё же создание показалось мне противно, дико и как будто вовсе не моё».
Что же явилось причиной разочарования?
Во-первых, игра актеров, которые представили «Ревизора» в преувеличенно смешном виде. Герои комедии изображались людьми неисправимо порочными, достойными лишь глубокого осмеяния. Цель же Гоголя была иной: «Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру. Ничего не должно быть преувеличенного или тривиального даже в последних ролях. Чем меньше будет думать актёр о том, чтобы смешить и быть смешным, тем более обнаружится смешное взятой им роли».
Во-вторых, Гоголя разочаровала реакция зрителей. Вместо того чтобы примерить пороки героев на себя и задуматься над необходимостью внутреннего самоочищения, зрители воспринимали всё происходящее на сцене отстранённо. Они смеялись над чужими недостатками и пороками. Замысел Гоголя был рассчитан на иное восприятие комедии. Ему хотелось затронуть душу зрителя, дать ему почувствовать, что все пороки, представленные на сцене, свойственны в первую очередь ему самому. Гоголь хотел, по его собственному признанию, направить внимание зрителя не на «порицание другого, но на созерцание самого себя».
«Это было первое моё произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось: в комедии стали видеть желанье осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступление некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка», – сетовал Гоголь в письме к Жуковскому от 10 января 1848 года.
Гоголь надеялся не на политическое, а на духовно-нравственное воздействие комедии, полагая, что её представление на сцене будет способствовать воскрешению души падшего русского человека. Уездный город мыслился им как «душевный город», а населяющие его чиновники – как воплощение бесчинствующих в нём страстей. Ему хотелось, чтобы появление вестника о настоящем ревизоре в финале комедии воспринималось зрителями не в буквальном, а в символическом смысле.
При буквальном понимании появление ревизора в финале комедии означало, что действие в ней возвращается «на круги своя»: ведь никто не мешает чиновникам «разыграть» всю пьесу с начала. В таком случае содержание комедии превращалось в обличение всей бюрократической системы, коренного её несовершенства, требующего кардинальных реформ. Гоголь же был решительным противником всяких перемен подобного рода. Исправить мир с помощью государственных ревизий и внешних реформ нельзя. Поэтому финал «Ревизора» вместе с немой сценой намекал, по мысли автора, на волю Провидения, на неизбежность Высшего Суда и расплаты.
Главный пафос гоголевской комедии заключался не в разоблачении конкретных злоупотреблений, не в критике взяточников и казнокрадов, а в изображении пошлого общества, погрузившегося во всеобщий обман и самообман. Административные преступления чиновников, с гоголевской точки зрения, являются лишь частным проявлением духовной болезни, охватившей не только главных, но и второстепенных героев комедии.
Зачем, например, нужна Гоголю в «Ревизоре» унтер-офицерская вдова? Если бы она являлась в комедии как жертва произвола, мы бы ей сочувствовали. Но она смешна тем, что хлопочет не о восстановлении справедливости, не о попранном человеческом достоинстве, а о другом. Подобно своим обидчикам, она хочет извлечь корыстную выгоду из нанесённого ей оскорбления. Она нравственно сечёт и унижает себя.
Гением всеобщего обмана и самообмана является в комедии Хлестаков. Гоголь сказал о нём: «Словом, это лицо должно быть тип многого, разбросанного в разных русских характерах, но которое здесь соединилось случайно в одном лице, как весьма часто попадается и в натуре. Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым, но, натурально, в этом не хочет только признаться; он любит даже и посмеяться над этим фактом, но только, конечно, в коже другого, а не в собственной. И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым. Словом, редко кто им не будет хоть раз в жизни, – дело только в том, что вслед за тем очень ловко повернётся, и как будто бы и не он».
Гоголь строит свою комедию так, что в Хлестакове максимально концентрируются те черты, которые свойственны всем другим героям «Ревизора». Слуга Осип один знает правду о «мнимости» Хлестакова-ревизора. Но, сам того не понимая, смеясь над Хлестаковым, он смеется и над самим собой.
Вот, например, хлестаковский монолог Осипа: «Деньги бы только были, а жизнь тонкая и политичная: кеятры, собаки тебе танцуют, и всё что хочешь. Разговаривает всё на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит; пойдёшь на Щукин – купцы тебе кричат: “Почтенный!”; на перевозе в лодке с чиновником сядешь; компании захотел – ступай в лавочку… <…> Наскучило идти – берёшь извозчика и сидишь себе, как барин, а не хочешь заплатить ему – изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнёшь, что тебя никакой дьявол не сыщет».
А разве не выглядывает Иван Александрович Хлестаков из таких, например, монологов Городничего: «Ведь почему хочется быть генералом? – потому что, случится, поедешь куда-нибудь – фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперёд: “Лошадей!” И там на станциях никому не дадут, всё дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там – стой, городничий! Хе, хе, хе!.. (Заливается и помирает со смеху.) Вот что, канальство, заманчиво!»
«Хлестаковствует» Анна Андреевна в своих мечтах о петербургской жизни: «Я не иначе хочу, чтоб наш дом был первый в столице и чтоб у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти и нужно бы только этак зажмурить глаза. (Зажмуривает глаза и нюхает.) Ах, как хорошо!»
«“Я везде, везде!” – кричит Хлестаков. Хлестаков “везде” и в самой пьесе, – утверждает Н. Н. Скатов. – Героев её стягивает не только общее отношение к Хлестакову, но и сама хлестаковщина. Она – качество, которое объединяет почти всех лиц пьесы, казалось бы, друг другу далёких».
Хлестаков – идеал для всех героев комедии. В нём воплощается характерная для петербургского общества болезнь – «лёгкость в мыслях необыкновенная», ужасающая в своей широте размена человека на всё и на вся. По характеристике Гоголя, Хлестаков «не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли». А это характерная особенность современной цивилизации, утратившей веру и потерявшей скрепляющий личность духовный центр. В статье «Об архитектуре нынешнего времени» Гоголь писал: «Век наш так мелок, желания так разбросаны по всему, знания наши так энциклопедически, что мы никак не можем усредоточить на одном каком-нибудь предмете наших помыслов и оттого поневоле раздробляем все наши произведения на мелочи и на прелестные игрушки». «…Мысль человека раздробилась и устремилась на множество разных целей, как только единство и целость одного исчезло – вместе с тем исчезло и величие. Силы его раздробились и сделались малыми…»
Духовных истоков хлестаковщины не уловили и не поняли современники Гоголя. «Хлестаковство» героев его комедии является порождением отнюдь не социальных обстоятельств. Корень хлестаковщины скрывается в духовной болезни, поразившей верхний слой русского общества и, как эпидемия, проникающей в народную среду. «Слово писателя – такое избитое выражение, – писал в 1909 году о Гоголе профессор И. И. Иванов, – но чтобы понять гоголевский смысл его, надо миновать всех писателей, все литературы, подняться до Евангелия, вспомнить, что значит “отвергнуться себя”, “взять крест свой” – ради проповедуемой истины. Такова мысль Гоголя, и во свидетельство он может призвать всю свою жизнь».
Потрясённый неудачей «Ревизора», не понятый в лучших своих намерениях, Гоголь покидает в 1836 году Россию, путешествует по Западной Европе и находит себе приют на долгие годы в Риме. Он считает своё удаление из отечества своеобразным уходом в «затвор» с целью завершения главного труда всей жизни – поэмы «Мёртвые души». Свое пребывание в Италии он называет «художнически-монастырским».
Творческая история поэмы Гоголя «Мёртвые души»
Сюжет поэмы подсказал Гоголю Пушкин, который был свидетелем мошеннических сделок с «мёртвыми душами» во время кишинёвской ссылки. В начале XIX века на юг России, в Бессарабию, бежали с разных концов страны тысячи крестьян, спасавшихся от жестоких хозяев-помещиков. Их ловили и водворяли на место. Но хитроумные предприниматели нашли выход: они меняли имена и фамилии на умерших на юге крестьян и мещан. Например, обнаружилось, что город Бендеры населён «бессмертными» людьми: в течение многих лет там не было зарегистрировано ни одной смерти, потому что было принято умерших «из общества не исключать», а их имена отдавать прибывшим сюда крестьянам: местным владельцам приток живой силы был выгоден.
Сюжет поэмы состоял в том, как ловкий пройдоха нашёл в русских условиях головокружительно смелый способ обогащения. При крепостном праве крестьяне приписывались к помещикам в качестве рабочей силы и подданных им личностей. Помещики платили государству налоги за каждого крестьянина, или, как тогда говорили, за каждую крестьянскую душу. Государственные ревизии этих душ проводились редко – один раз в 12–15 лет, и помещики годами вносили деньги за давно умерших крестьян. На бумаге они всё ещё существовали, а на деле были «мёртвыми душами».
Герой поэмы Чичиков решается на такую аферу: за дешёвую сумму он скупает у помещиков «мёртвые души», объявляет их переселёнными на юг, в Херсонскую губернию, и закладывает мнимое имение государству по 100 рублей за душу. Затем он объявляет их скопом умершими от эпидемии и прикарманивает полученные деньги. За одну тысячу «мёртвых душ» он получает чистый доход в 100 тысяч рублей.
Работу над поэмой Гоголь начал осенью 1835 года, до того, как приступил к «Ревизору». В том же письме от 7 октября, в котором Гоголь просил у Пушкина сюжет для комедии, он сообщал: «Начал писать “Мёртвых душ”. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет смешон. <…> Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь». В этом письме Гоголь ещё называет «Мёртвые души» романом, специально подчеркивая, что в нём отсутствует стремление охватить изображением всю полноту русской жизни. Цель у Гоголя иная – показать лишь тёмные стороны её, собрав их, как и в «Ревизоре», «в одну кучу».
Перед отъездом за границу Гоголь познакомил Пушкина с началом своего произведения: «…Когда я начал читать Пушкину первые главы из “Мёртвых душ” в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моём чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться всё сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: “Боже, как грустна наша Россия!” Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что всё это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее отсутствие света. С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести “Мёртвые души”».
Гоголя неспроста насторожила такая реакция Пушкина: ведь критикой своей он хотел очистить души читателей. Неудача с «Ревизором» ещё более укрепила Гоголя в правоте своих сомнений. И за границей писатель приступает к доработке уже написанных глав. В письме к Жуковскому в ноябре 1836 года он сообщает: «…Я принялся за “Мёртвых душ”, которых было начал в Петербурге. Всё начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. <…> Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то… какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нём!» И далее: «Огромно велико моё творение, и не скоро конец его. Ещё восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать! Терпенье! Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом».
По мнению К. В. Мочульского, «постановка “Ревизора”, воспринятая как поражение, заставила его переоценить своё творчество. Перед Гоголем встал вопрос: почему его не поняли соотечественники? почему на него восстали “целые сословия”? И он на это ответил: моя вина. Всё, что он доселе писал, было ребячеством: он относился несерьёзно к своему писательскому призванию и неосторожно обращался со смехом. <…> За то Провидение и послало ему “неприятности и огорчения”, чтобы воспитать его. Теперь он знает, как опасна односторонность изображения, и ставит себе целью полноту. Вся Россия должна отразиться в поэме».
Теперь он решает придать повествованию о путешествии Чичикова масштаб общенациональный. Сюжет о плутнях пройдохи и авантюриста остаётся, но на первый план выходят характеры помещиков, воссоздаваемые неторопливо и с эпической полнотой, вбирающие в себя явления всероссийской значимости («маниловщина», «ноздревщина», «чичиковщина»). Само повествование о них приобретает летописный характер, претендующий на всестороннее воссоздание действительности, переносящий писательский интерес с авантюрной интриги на глубокий анализ противоречий русской жизни в их широкой исторической перспективе.
В ноябре 1836 года Гоголь пишет из Парижа М. П. Погодину: «Вещь, над которой сижу и тружусь теперь и которую долго ещё буду обдумывать, не похожа ни на повесть, ни на роман, длинная, длинная, в несколько томов, название ей “Мёртвые души” – вот всё, что ты должен покамест узнать об ней. Если Бог поможет выполнить мне мою поэму так, как должно, то это будет первое моё порядочное творение. Вся Русь отзовётся в нём».
Первоначальный замысел показать Русь «с одного боку» уступает место более объёмной и сложной задаче: наряду со всем дурным «выставить на всенародные очи» и всё хорошее, подающее надежду на будущее национальное возрождение. Это возрождение Гоголь связывает не с социальными переменами, а с духовным преображением русской жизни. Социальные пороки он объясняет духовным омертвением людей. Название «Мёртвые души» принимает у него символический смысл.
Гоголь убеждён, что общественно-историческая жизнь нации связана тысячами незримых нитей с душевным состоянием каждого человека, она складывается из мелочей. Именно в мелочах повседневной жизни, в их противоречивом многообразии образуются как положительные, так и отрицательные устремления общественного бытия, как идеальная, «прямая его дорога», так и «уклонения» от неё. Отсюда возникает на страницах «Мёртвых душ» редкое сочетание «дробности, детальности художественного анализа» с масштабностью и широтой художественных обобщений.
Жанровое обозначение «роман» перестаёт отвечать природе развивающегося замысла, и Гоголь называет теперь «Мёртвые души» поэмой. Этот замысел ориентируется уже на «Божественную комедию» Данте с её трёхчастным построением: «ад», «чистилище» и «рай». Соответственно у Гоголя первый том «Мёртвых душ» мыслится как «ад» современной, сбившейся с прямого пути русской действительности, во втором томе намечается выход из ада к её очищению и возрождению («чистилище»), а третий том должен показать торжество светлых, жизнеутверждающих начал («рай»).
Если раньше «плодотворное зерно» русской жизни Гоголь искал в историческом прошлом («Тарас Бульба»), то теперь он хочет найти его в современности. Гоголь верит, что душа русского христианина, пройдя через страшные искушения и соблазны, вернётся на путь православной истины. В глубине падения своего, на самом дне пропасти, ощутит христианин загорающийся в его душе праведный свет, голос совести.
Один из героев незаконченного второго тома, обращаясь к Чичикову, говорит: «Ей-ей, дело не в этом имуществе, из-за которого спорят и режут друг друга люди, точно как можно завести благоустройство в здешней жизни, не помысливши о другой жизни. Поверьте-с, Павел Иванович, что покамест, брося всё то, из-за чего грызут и едят друг друга на земле, не подумают о благоустройстве душевного имущества, не установится благоустройство и земного имущества. Наступят времена голода и бедности как во всем народе, так и порознь во всяком… Это-с ясно. Что ни говорите, ведь от души зависит тело. <…> Подумайте не о мёртвых душах, а о своей живой душе, да и с Богом на другую дорогу!»
В том же томе генерал-губернатор, почувствовав бесплодность борьбы с взяточничеством административными мерами, собирает всех чиновников губернского города и произносит перед ними такую речь: «Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; что уже, мимо законного управленья, образовалось другое правленье, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия; всё оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как ни ограничивай он в действиях дурных чиновников приставленьем в надзиратели других чиновников. Всё будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстанья народ вооружался против врагов, так должен восстать против неправды».
Речь военного губернатора к подчинённым напоминает речь Тараса Бульбы о «товариществе». Но если запорожский герой Гоголя призывал народ к сплочению и духовному единству перед лицом внешнего врага, то герой второго тома «Мёртвых душ» зовёт к всеобщей мобилизации и ополчению против врага внутреннего. Именно в духовной перспективе, открывшейся перед Гоголем, можно правильно понять направление и пафос первого тома «Мёртвых душ», работу над которым он завершил летом 1841 года.
Цензура, признав «сомнительными» тридцать шесть мест, потребовала также решительной переделки «Повести о капитане Копейкине» и изменения в заглавии поэмы – вместо «Мёртвые души» «Похождения Чичикова, или Мёртвые души». Гоголь согласился на переработку, и 21 мая 1842 года первый том поэмы вышел из печати.
Тема дороги и её символический смысл
Поэма открывается въездом в губернский город NN рессорной брички. Знакомство с главным героем предваряется разговором «двух русских мужиков» о возможностях этой брички: «“Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?” – “Доедет”, – отвечал другой. – “А в Казань-то, я думаю, не доедет?” – “В Казань не доедет”, – отвечал другой. Этим разговор и кончился».
Знатоки поэмы Гоголя долго ломали голову, почему писатель сделал «странное» уточнение – «русские» мужики. В самом деле, какие же иные, кроме русских, могли оказаться в губернском городе NN? Наконец, сравнительно недавно Ю. В. Манн справедливо заметил, что это уточнение значимо: Гоголь подчеркивает общенациональный масштаб всего, что происходит в поэме. Но это значит, что и бричка Чичикова суть нечто большее, чем экипаж частного лица. Она символизирует в конечном счёте тот путь, ту дорогу, по которой устремилась вся Русь.
До Казани эта бричка не доедет. Почему? Знающие толк в русской езде мужики обращают внимание на колесо. Они знают, что кривое колесо «колесит», то есть едет не прямо, а по кругу, и что на таком колесе быстро «отколесишь», то есть далеко не уедешь: до Москвы доберешься, а до Казани нет. Уже в самом начале поэмы даётся намёк, что «колесо» брички, на которую уселся самодовольный Чичиков, «кривовато», что русским пространством ему не овладеть. Есть тут посыл к известной в народе поговорке: «Сбил, сколотил – вот колесо; / Сел да поехал – ах хорошо! / Оглянулся назад – / Одни спицы лежат!»
В «Мёртвых душах» нет ничего случайного, каждая мелочь в них – «сигнал», «символ», дорога к общему. Чичиков, сидящий в бричке, до последней главы первой части поэмы не раскроется перед нами: нет его предыстории. Мы узнаём только, что этот человек «ни толст ни тонок», что он умеет «искусно польстить» каждому, что о себе он говорит «какими-то общими местами», афишируя свою скромность такими самохарактеристиками: «незначащий червь мира сего», «испытавший много на веку своём» и даже будто бы «претерпевший на службе за правду».
Бросается в глаза его проницательность и льстивая театральность. Мы видим, как он буквально покоряет всё губернское общество: губернатор называет его благонамеренным, прокурор – дельным, жандармский полковник – учёным, председатель палаты – знающим и почтенным, полицмейстер – любезным, а его жена – любезнейшим и обходительнейшим. «Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавши довольно поздно из города и уже совершенно раздевшись и лёгши на кровать возле худощавой жены своей, сказал ей: “Я, душенька, был у губернатора на вечере, и у полицмейстера обедал, и познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым: преприятный человек!” На что супруга отвечала: “Гм!” – и толкнула его ногою».
Это «гм!» тонкой супруги толстого Собакевича, конечно, настораживает. И Гоголь не держит долго тайну Чичикова от читателя. Его талант нравиться всем не бескорыстен: уже при посещении Манилова открыто провозглашается его мошенническая цель – скупка мёртвых душ. Но с третьей главы, после визита к Манилову, начинаются для брички Чичикова непредвиденные испытания.
Как расчётливый делец, он ещё на губернской вечеринке наметил для себя строгий план путешествия к людям, с которыми завёл предварительные знакомства: от Манилова – к Собакевичу. Прощаясь с Маниловым, он попросил описать своему кучеру Селифану предстоящий дорожный маршрут.
Селифан, как водится, уже под изрядным хмельком, за дорогой он не следит, но зато от души возмущается правым пристяжным конём Чубарым, благодаря лености которого бричка Чичикова постоянно косит и забирает влево, уклоняясь с прямого пути.
«Хитри, хитри! вот я тебя перехитрю! – говорит Селифан, приподнявшись и хлыснув кнутом ленивца. – Ты знай своё дело, панталонник ты немецкий! <…> Ну, ну! что потряхиваешь ушами? Ты, дурак, слушай, коли говорят! я тебя, невежа, не стану дурному учить. Ишь куда ползёт! – Здесь он опять хлыснул его кнутом, примолвив: – У, варвар! Бонапарт ты проклятый! <…> Ты думаешь, что скроешь своё поведение. Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе оказывали почтение». Только ли к Чубарому относится эта речь? «Если бы Чичиков прислушался, – пишет Гоголь, – то узнал бы много подробностей, относившихся лично к нему…»
Далее взбунтовалась русская природа: «всё небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями дождя. Наконец громовый удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра». А Селифан, «сообразив и припоминая несколько дорогу, догадался, что много было поворотов, которые все пропустил он мимо. Так как русский человек в решительные минуты найдётся, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то, поворотивши направо, на первую перекрёстную дорогу, прикрикнул он: “Эй вы, други почтенные!” – и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога».
За «глупостью» Селифана, как в русской народной сказке, скрывается мудрый смысл. Избранная Чичиковым дорога не отвечает сути русской природы с её особым, связанным с «жизнью по правде» предназначением, с её недоверием ко всякого рода кривым путям. «“Что, мошенник, по какой дороге ты едешь?” – сказал Чичиков. – “Да что ж, барин, делать, время-то такое; кнута не видишь, такая потьма!”»
Ясно, что дорога, избранная Чичиковым, в русских масштабах и пределах – это дорога в никуда. «“Держи, держи, опрокинешь!” – кричал он ему. – “Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул, – говорил Селифан. – Это нехорошо опрокинуть, я уж сам знаю; уж я никак не опрокину”. – Затем начал он слегка поворачивать бричку, поворачивал-поворачивал и наконец выворотил её совершенно набок. Чичиков и руками и ногами шлёпнулся в грязь». А Селифан «стал перед бричкою, подпёрся в бока обеими руками, в то время как барин барахтался в грязи, силясь оттуда вылезть, и сказал после некоторого размышления: “Вишь ты, и перекинулась!”»
Поразительно то, что Селифан на Чичикова не обращает внимания, но «поведение» брички его озадачивает. Вот где гоголевский реализм вырастает до символа! «Бричка» – Россия, Селифан – вожатый, а Чичиков? А Чичиков – уж не Чубарый ли? Когда в имении Коробочки он раздевается, то «отдаёт Фетинье всю снятую с себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю». А в конце первого тома, рассуждая, почему добродетельный человек не взят в герои поэмы, Гоголь прямо указывает на правомерность и сознательность этой ассоциации: «Потому что пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку, потому что праздно вращается на устах слово “добродетельный человек”; потому что обратили в лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нём, понукая и кнутом и всем чем ни попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нём и тени добродетели, а остались только рёбра да кожа вместо тела; потому что лицемерно призывают добродетельного человека; потому что не уважают добродетельного человека. Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжём подлеца!»
Путешествием Чичикова «правит» не только он сам и не только его Селифан, но ещё и случай, названный Пушкиным «мощным и внезапным орудием Провидения»: «Но в это время, казалось, как будто сама судьба решилась над ним сжалиться. Издали послышался собачий лай. Обрадованный Чичиков дал приказание погонять лошадей. Русский возница имеет доброе чутьё вместо глаз, от этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает». Русский путь немыслим без того, чтобы «возница» не пускал коней «на волю Божию».
Так русская дорога с самого начала сбивает Чичикова с намеченного им «неправого» пути. Ведь случайная встреча с Коробочкой окажется для него роковой, приведёт к разоблачению, как и непредусмотренная встреча с Ноздрёвым. По пути от Коробочки к Собакевичу русская природа вновь путает планы Чичикова: «земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая её, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком». Это замедляет движение брички, «случайно» сводит Чичикова с Ноздрёвым и тем самым наносит второй после Коробочки удар по его хитроумному предприятию. Третий и столь же «случайный» удар совершается в пятой главе, когда бричка Чичикова, мчащаяся во всю прыть от авантюриста Ноздрёва к Собакевичу, сталкивается с коляской, везущей домой юную институтку – дочь губернатора.
Тут опять приходят на помощь «глупые» мужики из соседней деревни. Они долго и бестолково канителятся, чтобы расцепить и развести спутавшиеся друг с другом экипажи. Плут Чубарый находит «новое знакомство» и «никак не хочет выходить из колеи, в которую попал», положив «свою морду на шею нового приятеля». Чичиков тоже сидит как околдованный, глаз не может отвести от губернаторской дочки. Между тем дядя Миняй и дядя Митяй делают всякие «глупости», скрывая за случайными и нелогичными действиями мудрость русской жизни. Их затянувшаяся бестолковая суета даёт время Чичикову очароваться «прекрасной незнакомкой». Эта очарованность сыграет потом роковую роль на бале у губернатора.
Таким образом, «глупая» русская жизнь буквально с первых шагов начинает спутывать «умные» планы и «верные» расчёты Чичикова. Она сбивает его с намеченного пути, вываливает в грязь, подталкивает на неожиданные и опрометчивые поступки. Во всём, с чем сталкивается Чичиков на пути своего предпринимательства, чувствуется недостаток «здравого смысла», мещанской умеренности и аккуратности, на которой ведь только и держится успех добропорядочного буржуа. Русская жизнь «вредит» ему своими «перехлёстами» и «пересолами», целым потоком непредвиденных «мелочей», сующих палки в колёса его брички.
В «глупой» неупорядоченности русской жизни зоркое око Гоголя подмечает какой-то свой, скрывающийся от самодовольного человеческого разума смысл. В гостинице, в общей зале, куда явился Чичиков, были развешаны во всю стену картины, писанные масляными красками, – картины, как и везде, но на одной из них изображена была «нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал».
Этот русский «пересол» берёт в плен и самого Чичикова. Вспомним его шкатулку. В отличие от беспорядочной «кучи», которую наш герой встретит в имении Плюшкина, в шкатулке Чичикова царит, казалось бы, идеальный порядок. Как пишет чуткий исследователь Гоголя И. Золотусский, шкатулка Чичикова – «тайник его души» и целая поэма одновременно: «Это поэма о приобретательстве, накопительстве, выжимании пота во имя полумиллиона. Там всё в порядке, всё разложено по полочкам – и чего там только нет! <…> Каждый предмет – к делу, всё спланировано, лишнее отметено, нужное не позабыто. Куча Плюшкина – это бессмысленное накопительство и уничтожение накопленного, шкатулка Чичикова – уже предвестие деловитости Штольца, да и сам Чичиков говорит, как бы обещая гончаровского героя: “Нужно дело делать”».
Замечательно! Но всё ли в этой шкатулке приведено в симметрию, всё ли в ней спланировано, всё ли лишнее отметено? С какой стати, например, в ней оказалась сорванная с тумбы театральная афишка? Для чего она нужна деловитому герою? Что за странные манипуляции он с ней проделывает? Вынул из кармана, стал читать, дочитал до конца, «потом переворотил на другую сторону: узнать, нет ли и там чего-нибудь, но, не нашедши ничего, протёр глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать всё, что ни попадалось».
Разве эта деталь, эта «мелочь» не разрушает гармонию и стройность только что «пропетой» поэмы о русском приобретателе, разве она не обнаруживает в нём ростки плюшкинской неразборчивости и самоуничтожения? Чичиков у Гоголя русский человек, а потому в его действиях и поступках сохраняется тот же самый «перехлёст», в который никак не укладывается его буржуазная, предпринимательская душа. То тут, то там начинается игра «случайностей», обнаруживается «прореха» в самом неподходящем месте, и всё задуманное Чичиковым рушится. За видимым пёстрым миром людей и вещей, за характерами героев, главных и второстепенных, за живыми помещиками и подвластными им мёртвыми и живыми крестьянскими душами встаёт со страниц поэмы Гоголя целостный образ помрачённой, заблудившейся на неверных путях-дорогах, но ещё живой России.
Манилов и Чичиков
Обратим внимание, что в «мёртвые души» помещиков Чичиков всматривается, как в кривое зеркало. Эти люди представляют доведённые до крайности частицы его собственной души. Именно потому с каждым из них он находит общий язык.
Вот Манилов с его праздной мечтательностью – человек, вошедший в зрелый возраст, но каким-то чудом сохранивший неуместную юношескую восторженность и инфантильность души, сплошные «именины сердца»: «На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару…»
Имением он не занимается, но зато вволю предаётся от безделья всевозможным «хозяйственным» фантазиям: «Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, эти прожекты так и оканчивались одними словами».
Дом Манилова напоминает шальную голову своего хозяина: он стоит «одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть».
Под стать характеру Манилова и его кабинет с бесполезной претензией на щегольство, прикрывающей пустоту и безобразие: «В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на четырнадцатой странице, которую он постоянно читал уже два года…<…> но больше всего было табаку. Он был в разных видах: в картузах и в табачнице, и, наконец, насыпан был просто кучею на столе. На обоих окнах тоже помещены были горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени».
В описании характеров помещиков Гоголь часто прибегает к уже известному нам приёму «овеществления». Душа героев столь бедна и столь примитивна, так опутана предметной стороной жизни, что не требуется прибегать к психологическому анализу для проникновения в их внутренний мир. Вещи вполне раскрывают их характеры.
Манилов и жена его «совершенно довольны друг другом». «Несмотря на то что минуло более восьми лет их супружеству, из них всё ещё каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек и говорил трогательно нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: “Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек”».
Однако «пересахаренная» идиллия семейной жизни Манилова отражает идеалы самого Чичикова. Мы узнаём, что не привязанность к деньгам владела им, не скряжничество и не скупость. Ему мерещилась впереди жизнь, исполненная довольства, собственное имение, дом, жена и дети. И вот свою мечту он увидел «воплощённой». Обращаясь к жене Манилова, Чичиков говорит: «“…И поверьте, не было бы для меня большего блаженства, как жить с вами если не в одном доме, то по крайней мере в самом ближайшем соседстве”. – “А знаете, Павел Иванович, – сказал Манилов, которому очень понравилась такая мысль, – как было бы в самом деле хорошо, если бы жить этак вместе, под одною кровлею, или под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чём-нибудь, углубиться!..” – “О! это была бы райская жизнь!” – сказал Чичиков, вздохнувши».
Великолепный актёр, Чичиков, конечно, подстраивается к той атмосфере, которая царит в доме Манилова. Но нельзя не заметить, что его игра порою похожа на правду: «маниловский уклон» не чужд его душе. Только «маниловское» размягчение враждебно пока избранной им дороге, где нельзя «рассыропиться», где требуется постоянная «узда», упорная концентрация энергии и воли в одном направлении. «Кровь Чичикова, напротив, играла сильно, и нужно было много разумной воли, чтоб набросить узду на всё то, что хотело бы выпрыгнуть и погулять на свободе». И «маниловская» покатость Чичикова говорит, что избранной им «дороге» противится душа.
Коробочка и Чичиков
Коробочка, к которой занёс Чичикова случай, – полная противоположность маниловской мечтательности, парению в голубой пустоте. Это одна из тех «небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещённые по ящикам комодов. В один мешочек отбирают всё целковики, в другой полтиннички, в третий четвертачки, хотя с виду и кажется, будто бы в комоде ничего нет, кроме белья…» Казалось бы, Коробочка с куриной ограниченностью кругозора является полной противоположностью Чичикову с его авантюризмом и размахом задуманного предприятия.
Но сходство с нею у Чичикова есть, да и немалое. Неслучайно здесь Гоголь обращается к описанию шкатулки Чичикова и показывает, что шкатулка эта напоминает «комод» Коробочки. Кажется, что в шкатулке Чичикова, как и в комоде Коробочки, ничего нет, кроме дорожных вещей. Под верхним ящиком находится нижний, основное пространство которого занято кипами бумаг, но тут-то и притаился ещё один, «маленький потаённый ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином, что наверно нельзя сказать, сколько было там денег». Гений скопидомства, Коробочка тут же высоко оценивает чичиковский вариант её «комода»: «Хорош у тебя ящик, отец мой, – сказала она, подсевши к нему. – Чай, в Москве купил его?»
«Дубинноголовая» Коробочка не так уж примитивна и проста, как это сперва может показаться. Исследователь «Мёртвых душ» В. В. Фёдоров называет её «союзником автора против подлеца-приобретателя Чичикова». Почему? Задумаемся: что именно не принимает в авантюре Чичикова Коробочка? Главный аргумент героя в диалоге с нею – полная непригодность покойников в хозяйстве – не имеет для Коробочки доказательной силы: «Уж это, точно, правда. Уж совсем ни на что не нужно; да ведь меня одно только и останавливает, что ведь они уже мёртвые». Коробочка сохраняет взгляд на мир как на нечто целостное, пусть и на самом примитивном уровне: «Да как же? Я, право, в толк-то не возьму. Нешто хочешь ты их откапывать из земли?»
На победоносном пути Чичикова к богатству, основанному на фикции, на использовании отчужденной от содержания формы («ревизская сказка»), встает примитивное сознание «дубинноголовой» Коробочки, в котором форма и содержание сохраняют свое единство. И Чичиков не может преодолеть пассивного сопротивления этого сознания: «Право, не знаю, – произнесла хозяйка с расстановкой. – Ведь я мёртвых никогда ещё не продавала». Не случайно на стене у Коробочки между картин, где были изображены птицы, висел портрет Кутузова!
Но самое интересное в том, что такое же сопротивление противоестественному отчуждению формы от содержания почувствует в своей душе и Чичиков, когда он начнет приводить в порядок купчие крепости на «мёртвых душ». Вдруг эти души оживут и воскреснут в его воображении со своими яркими характерами, со своей индивидуальной судьбой!
Изображая помещиков, Гоголь часто прибегает к обобщениям, завершающим их портреты. Манилова он сравнивает со слишком «умным министром», а о Коробочке говорит: «Впрочем, Чичиков напрасно сердился: иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка». Обобщения, ведущие к вершинам русского общества, придают характерам гоголевских помещиков всероссийское, общенациональное звучание. Перед нами не частные лица, не герои романа или повести, а персонажи поэмы, типы национального масштаба.
Ноздрёв и Чичиков
Ноздрёв, с которым Чичикова сводит очередная «случайность», – образец распоясавшейся, безобразно широкой русской натуры. О таких людях Достоевский скажет позднее: «Если Бога нет, то всё позволено». У Ноздрёва Бог – он сам, его ничем не ограниченные капризы и желания. Он пленник собственных распущенных страстей. Неуёмная энергия, вечное движение и беспокойство этого человека – результат отсутствия в нём скрепляющего личность духовного центра. «В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять всё, что ни есть, на всё, что хотите».
Для желаний Ноздрёва не существует никаких границ: «Теперь я поведу тебя посмотреть, – продолжал он, обращаясь к Чичикову, – границу, где оканчивается моя земля. <…> Вот граница! – сказал Ноздрёв. – Всё, что ни видишь по эту сторону, всё это моё, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и всё, что за лесом, всё моё».
Вся жизнь Ноздрёва – бесконечное и не знающее пределов насыщение самых низких чувственных инстинктов. В окружении своих собак Ноздрёв «как отец среди семейства». Кутежи и попойки, карты и шулерство в картежной игре – вот стихия Ноздрёва. Упоение ложью сближает его с Хлестаковым. Но, в отличие от него, ноздрёвская ложь не безобидна: в ней всегда присутствует «карамазовское» желание «нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины».
Ноздрёв мгновенно сочиняет одну ложь за другой, да так ловко, что будто бы и сам верит в сочинённое. Подтверждая сплетню, что Чичиков собирался увезти губернаторскую дочку, Ноздрёв прибавляет такие подробности, от которых никак нельзя было отказаться: даже названа была по имени деревня, где находилась та приходская церковь, в которой положено было венчаться, именно деревня Трухманчёвка, поп отец Сидор, взявший за венчание 75 рублей, «и то не согласился бы, если бы Ноздрёв не припугнул его».
Убегая от Ноздрёва, Чичиков и в ум взять не может, зачем он поехал в его усадьбу, почему «как ребёнок, как дурак» доверился ему. Но прельстился он Ноздрёвым не случайно: по природе своей Чичиков ведь тоже авантюрист, и для достижения своих корыстных целей он легко переступает через нравственные законы. Обмануть, приврать, да ещё и слезу пустить Чичиков горазд не хуже всякого Ноздрёва. «Ноздрёв еще долго не выведется из мира, – говорит Гоголь. – Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане; но легкомысленно-непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком».
Верный своему приёму овеществления человека, Гоголь сравнивает расстроенную и развращённую душу Ноздрёва, а вслед за ним и современного человека вообще, с испорченной шарманкой: «Шарманка играла не без приятности, но в середине её, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась песнею: “Мальбруг в поход поехал”, а “Мальбруг в поход поехал” неожиданно завершался каким-то давно знакомым вальсом. Уже Ноздрёв давно перестал вертеть, но в шарманке была одна дудка, очень бойкая, никак не хотевшая угомониться, и долго ещё потом свистела она одна». Замечательны, конечно, в расстроенных «шарманках» покалеченных, сбитых с толку душ гоголевских героев эти «Божьи дудки», которые свистят в них порой сами по себе и часто сбивают с толку так хорошо продуманные, так логично и безукоризненно спланированные аферы.
Собакевич и Чичиков
Талант изображения человека через бытовое его окружение достигает у Гоголя торжества в рассказе о встрече Чичикова с Собакевичем. Этот помещик не витает в облаках, он обеими ногами стоит на земле, ко всему относясь с чёрствой и трезвой практичностью. Основательностью и крепостью отличается всё в имении Собакевича: «Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные и толстые брёвна, определённые на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тоже срублены были на диво…» Всё было «упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке».
О характере Собакевича говорит и внутреннее убранство дома. В гостиной висят картины с изображением греческих полководцев; все эти герои были «с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу». Рядом с полководцами разместилась «греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щёголей, которые наполняют нынешние гостиные». Мебель в комнатах прочна, неуклюжа и сходна с хозяином: пузатое ореховое бюро на пренелепых ногах – совершенный медведь. «Стол, кресла, стулья – всё было самого тяжёлого и беспокойного свойства, – словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: “И я тоже Собакевич!” или “И я тоже очень похож на Собакевича!”»
Над отделкою таких людей, как Собакевич, природа долго не мудрила, не применяла тонких инструментов, а «просто рубила со всего плеча: хватила топором раз – вышел нос, хватила в другой – вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши: “живёт!”» Получился человек, похожий на средней величины медведя, во фраке медвежьего цвета, шагающий вкривь и вкось и наступающий постоянно на чужие ноги. В довершение сходства даже звали его Михаилом Семёновичем.
Неуёмное насыщение является смыслом существования Собакевича: «У меня когда свинина – всю свинью давай на стол, баранина – всего барана тащи, гусь – всего гуся! Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует». И «мера» его «души» на этот счёт безмерна. На завтраке у полицмейстера Собакевич наметил для себя гигантского осетра и «в четверть часа, с небольшим доехал его всего». Когда хозяин и гости вспомнили об этом «произведении природы», от него остался один хвост, «а Собакевич пришипился так, как будто и не он, и, подошедши к тарелке, которая была подальше прочих, тыкал вилкою в какую-то сушёную маленькую рыбку. Отделавши осетра, Собакевич сел в кресла и уж более не ел, не пил, а только жмурил и хлопал глазами». «Душа» его впала в блаженное оцепенение.
Противник «высоких материй», Собакевич обо всём, что не связано с его практическим интересом, судит с топорной прямолинейностью. Просвещение – вредная выдумка. Люди все – воры и разбойники: «Я их знаю всех: это всё мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья».
В своих пределах Собакевич умён. Без труда он угадывает хитрый замысел Чичикова и вступает с ним в торг. Тут-то и обнаруживается вдруг странный парадокс, неожиданный штрих в характере Собакевича. На него ведь был уже «тонкий» намёк при описании картин в гостиной: «Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знамёнами и пушками внизу и в самых узеньких рамках». Вспомним тощенькую супругу у толстого Собакевича!
В узком деле торговли и корыстного интереса прорывается какой-то намёк на его проницательность и даже на поэтический талант. Торгуясь с Чичиковым, он забывает, каким «товаром» владеет, и расписывает достоинства мёртвых, как живых. «Да чего вы скупитесь? – сказал Собакевич. – Право, недорого! Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души; а у меня что ядрёный орех, все на отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите: вот, например, каретник Михеев! ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то как бывает московская работа, что на один час, – прочность такая, сам и обобьёт, и лаком покроет! <…> А Пробка Степан… Максим Телятников… А Еремей Скороплёхин!» Описание «товара» у Собакевича – целая поэма о силе, таланте и сметливости русского народа. И неспроста она приводит Чичикова в изумление: в этом медведе, закоренелом мизантропе и чёрством кулаке вдруг откуда ни возьмись обнаруживается и «сила речи», и живость воображения, и «дар слова».
Выходит, что Собакевич – «родня» Чичикову не только по скупости и деловой хватке, но и по русскому «пересолу», на пределе которого обнаруживаются в искажённой и помрачённой душе возможности её выпрямления и возрождения. Ведь и Чичиков так же срывается, как Собакевич. Вспомним, например, «странное» распоряжение, которое «зарапортовавшийся» Чичиков отдает Селифану, забывая, какой «товар» он приобрёл: «собрать всех вновь переселившихся мужичков, чтобы сделать всем лично поголовную перекличку».
Точно так же «зарапортовался» в разговоре с председателем гражданской палаты и Собакевич, подтверждая правоту русской пословицы «На всякого мудреца довольно простоты». «“Да что ж вы не скажете Ивану Григорьевичу, – отозвался Собакевич, – что такое именно вы приобрели; а вы, Иван Григорьевич, что вы не спросите, какое приобретение они сделали? Ведь какой народ! просто золото. Ведь я им продал и каретника Михеева”. – “Нет, будто и Михеева продали? – сказал председатель. – Я знаю каретника Михеева: славный мастер; он мне дрожки переделал. Только позвольте, как же… Ведь вы мне сказывали, что он умер…” – “Кто, Михеев умер? – сказал Собакевич, ничуть не смешавшись. – Это его брат умер, а он преживёхонький и стал здоровее прежнего”».
Так неожиданно в Собакевиче проглядывают два бессмертных сочинителя – Хлестаков и Ноздрёв, а заодно с ними и искусный актёр Чичиков. «“Да будто один Михеев! – продолжает вошедший в раж Собакевич. – А Пробка Степан, плотник, Милушкин, кирпичник, Телятников Максим, сапожник, – ведь все пошли, всех продал!” А когда председатель спросил, зачем же они пошли, будучи людьми необходимыми для дому и мастеровыми, Собакевич отвечал, махнувши рукой: “А! так просто, нашла дурь: дай, говорю, продам, да и продал сдуру!” Засим он повесил голову так, как будто сам раскаивался в этом деле, и прибавил: “Вот и седой человек, а до сих пор не набрался ума”».
Плюшкин и Чичиков
В представленной Гоголем на всеобщий позор и посмеяние галерее помещиков есть одна примечательная особенность: в смене одного героя другим нарастает ощущение пошлости, в липкую тину которой погружается современный русский человек. Но по мере сгущения пошлости, доходящей даже в фамилии Собакевича до звероподобного состояния, на пределе её русского «безудержа» и «безмерности» в безнадежно, казалось бы, омертвевших душах героев начинает проглядывать «тощий и худенький» Багратион – славный герой Отечественной войны 1812 года. В глубине своего падения русская жизнь обнажает какие-то ещё неведомые внутренние резервы, которые, может быть, спасут её, дадут ей возможность выйти на прямую дорогу.
Гоголь говорит: «И во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребёнок. Какие искривлённые, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоги. Всех других путей шире и роскошнее он, озарённый солнцем и освещённый всю ночь огнями, но мимо его в глухой темноте текли люди. И сколько раз уже наведённые нисходившим с небес Смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели-таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: где выход? где дорога?»
Прямой путь, на который выйдет рано или поздно Русь-тройка, очевиден и ясен для Гоголя. Девятнадцать столетий тому назад он дан человечеству устами его Спасителя: «Я есмь путь, истина и жизнь». Гоголевская Россия, напустив слепой туман себе в очи, устремилась по ложному пути корысти и торгашества и движется по нему к самому краю пропасти. Но всем содержанием поэмы Гоголь показывает, что люди ещё не ослепли окончательно, что в «расхристанных» душах Маниловых, Коробочек, Ноздрёвых, Собакевичей не всё потеряно, что ресурсы для грядущего прозрения и выхода на «прямые пути» в них есть.
На эти ресурсы указывает и последняя встреча Чичикова с Плюшкиным, символизирующим предел, конечную степень падения на избранном Чичиковым пути. Не случайно встрече с Плюшкиным предшествуют рассуждения автора и стоящего за ним героя о юности с её чистотою и свежестью. Эти рассуждения подытожит автор после общения Чичикова с Плюшкиным так: «И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так измениться! И похоже это на правду? Всё похоже на правду, всё может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!»
Пытаясь показать страшное искривление русской жизни с праведных и прямых на лукавые пути, рассказ о Плюшкине Гоголь начинает с предыстории героя. Если Манилов, Коробочка, Ноздрёв, Собакевич изображались с завершёнными, сложившимися характерами, то Плюшкин даётся Гоголем в развитии. Было время, когда он казался «бережливым хозяином» и хорошим семьянином, а соседи ездили к нему «слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости».
Но с каждым годом «притворялись окна» в его доме и в его душе, «уходили из вида более и более главные части хозяйства». «Сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз», а Плюшкин год от году всё более и более попадал в рабство к бесполезным и уже никому не нужным «хозяйственным мелочам»: «…Он ходил ещё каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладины и всё, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, – всё тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты. “Вон уже рыболов пошёл на охоту!” – говорили мужики, когда видели его, идущего на добычу».
В характере Плюшкина Гоголь видит изнанку другого порока, гораздо чаще встречающегося на Руси, «где всё любит скорее развернуться, нежели съёжиться» и гораздо чаще встречается «помещик, кутящий во всю ширину русской удали и барства, прожигающий, как говорится, насквозь жизнь». Но вот оказывается, что беспределу ноздрёвского прожигания жизни на одном полюсе соответствует на Руси беспредел плюшкинской скупости на другом.
И Гоголь показывает, что в тёмной глубине испепелённой плошкинской души, на пределе её падения загорается трепетный огонёк надежды. «“Так не имеете ли кого-нибудь знакомого?” – “Да кого же знакомого? Все мои знакомые перемерли или раззнакомились. Ах, батюшка! Как не иметь, имею! – вскричал он. – Ведь знаком сам председатель, езжал даже в старые годы ко мне, как не знать! однокорытниками были, вместе по заборам лазили! как не знакомый? уж такой знакомый! так уж не к нему ли написать?’’ – “И, конечно, к нему”. – “Как же, уж такой знакомый! в школе были приятели”.
И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то тёплый луч, выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства, явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе, обступившей берег».
Общение с Плюшкиным, несмотря на невиданный успех по закупке «мёртвых душ», вызывает у Чичикова чувство ужаса и глубокого внутреннего содрогания. В лице Плюшкина открывается логический конец того пути, на который направлена вся энергия «предпринимателя и хозяина». И в этом смысле Плюшкин в поэме – тоже русский человек.
В. В. Кожинов замечает: «Ведь перед нами, по сути дела, поистине безудержный разгул скупости – разгул, который не знал пределов и в конце концов “прожёг насквозь” жизнь этого скупца, превратив его в почти нищего. Плюшкин нисколько не похож на непрерывно богатеющих скупцов, изображённых в литературе Запада и Востока, – хотя бы на созданный почти в одно время с гоголевскими героями образ бальзаковского Гранде, оставившего своей наследнице, дочери Евгении, миллионы. У Плюшкина же “сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз… мука в подвалах превратилась в камень… к сукнам, к холстам и домашним материям страшно было притронуться: они обращались в пыль”… Плюшкин в этом своем разгуле скупости промотал даже свою помещичью власть и волю: когда он, по обыкновению, крал что-либо у собственных крепостных, а “приметивший мужик уличал его тут же, он не спорил и отдавал похищенную вещь”…»[46]
По замыслу Гоголя, галерея помещиков освещает с разных сторон те «уклоны» и «крайности», которые свойственны характеру Чичикова, которые готовят читателя к наиболее точному и всестороннему пониманию нового явления в русской жизни того времени – нарождающегося буржуа. Всё в поэме направлено на развернутое изображение Чичикова и «чичиковщины» как конечного предела, к которому устремилась русская жизнь по «кривому» пути.
Путь Павла Ивановича Чичикова
Чичиков – живое воплощение движения русской жизни XIX столетия – даётся в поэме с широко развёрнутой биографией. По сравнению с определившимися и относительно застывшими характерами русских помещиков он являет собой неуёмную энергию и деятельность. Но в порыве своём он почти не движется вперёд, а всё время «кружит» и «колесит», всякий раз возвращаясь в исходное положение. Чичиковский «винт» постоянно срывается с «резьбы» русской жизни, отторгающей его. Так что судьба героя являет перед читателем цепь, состоящую из стремительных восхождений и столь же стремительных в своей неожиданности катастроф, оставляющих героя у разбитого корыта. Спицы периодически сыплются из кривого колеса чичиковской брички.
Чтобы понять, почему это происходит, проследим вместе с автором предысторию жизни главного героя «Мёртвых душ». Чичиков принадлежит к служилому дворянству. Отец его не оставил наследственных имений. «В наследстве оказались четыре заношенные безвозвратно фуфайки, два старых сертука, подбитых мерлушками, и незначительная сумма денег».
В отличие от сынков богатых дворян, Чичикову пришлось пробивать себе дорогу собственными усилиями, опиравшимися на нехитрый «молчалинский» совет, которым сопроводил Павлушу бедный родитель в плавание по морю житейскому: «Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту Бог не дал, всё пойдёшь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Всё сделаешь и всё прошибёшь на свете копейкой».
На первых порах отцовское наставление срабатывает безупречно. В школе Чичиков проявляет искусную оборотливость по копеечной части. Его фантазия бойко работает над изобретением всевозможных коммерческих операций. Успешно складываются отношения со школьным начальством. Лестью он добивается доверия своих наставников. Отношения с людьми Чичиков завязывает избирательно, предпочитая лишь те, которые приносят ему какую-либо личную пользу. Когда эта польза пропадает, Чичиков бросает человека как ненужную вещь или тряпку. Обладая актёрскими способностями, Чичиков ловко входит в доверие к нужным ему лицам и делает значительные успехи на поприще службы. «Всё оказалось в нём, что нужно для этого мира: и приятность в оборотах и поступках, и бойкость в деловых делах. С такими средствами добыл он в непродолжительное время то, что называют хлебное местечко, и воспользовался им отличным образом».
«Тут только долговременный пост наконец был смягчён, и оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений, от которых умел удержаться в лета пылкой молодости, когда ни один человек совершенно не властен над собою. <…> Уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния, и с этих пор стал держаться более коричневых и красноватых цветов с искрою; уже приобрёл он отличную пару и сам держал одну вожжу, заставляя пристяжную виться кольцом; уже завёл он обычай вытираться губкой, намоченной в воде, смешанной с одеколоном; уже покупал он весьма недёшево какое-то мыло для сообщения гладкости коже; уже…»
Но тут грянула катастрофа и разнесла в прах плоды его трудов. Почти всё, чего он добивался с такой изворотливостью и аскезой, в одночасье оказалось безвозвратно утраченным. Чичиков столкнулся со странною особенностью русской жизни, мстящей всякому, кто забывает христианский завет «служить Богу, а не маммоне». На место прежнего «тюфяка»-начальника был прислан новый – русская «коробочка»: «Генерал был такого рода человек, которого хотя и водили за нос (впрочем, без его ведома), но зато уже, если в голову ему западала какая-нибудь мысль, то она там была всё равно что железный гвоздь: ничем нельзя было её оттуда вытеребить». На этот «гвоздь» и наткнулся Чичиков.
Но ведь, кроме внешних «гвоздей» и ухабов, разбивающих на каждом шагу спицы в колесе чичиковской «брички», точно такой же «гвоздь» сидит и в душе самого Чичикова. «Да, Чичиков реалист, да, он не Хлестаков, не Поприщин, не Собачкин, не Ковалёв, – проникновенно замечает И. Золотусский. – Да, его надуть трудно. Сам он надувать мастак. <…> Почему же то и дело сгорает и прогорает гоголевский герой, почему его аферы, сначала так возносящие его вверх, всякий раз лопаются, не удаются? <…>
Смог ли бы отъявленный и прожжённый плут так довериться Ноздрёву, так ему сразу и ляпнуть насчет “мёртвых”? Разве не понял бы он, что Ноздрёв все разболтает?»
Или из-за чего прахом полетело ловко задуманное предприятие Чичикова на таможне и исчез, как облако, уже схваченный им миллион? – «Из-за пустяка, из-за бабы. Ну, скажите, какой же тонкий плут себе такое позволит, какой “хозяин” так неосторожно осечётся? Да он обласкает этого дурака статского советника, скажет ему: “Конечно, не ты, а я – попович, и возьми себе на здоровье эту бабёнку, только мои полмиллиона при мне оставь…”»
«А история с губернаторской дочкой? Разве не она подвела его окончательно? Разве не на ней он срезался и выпустил из рук, может быть, уже готовое порхнуть ему в руки счастье? Не пренебреги Чичиков вниманием городских дам, обделай он свой интерес к губернаторской дочке тонко, тайно, не публично – всё было бы прекрасно, и, глядишь, сосватали бы его те же дамы и под венец отвели, да ещё говорили бы: “Какой молодец!” А он рассиропился, он на балу свои чувства выказал – и тут же был наказан. Не ополчись на него губернский женский мир, сплетни Ноздрёва и россказни Коробочки ничего бы не сделали. Те же самые дамы снесли бы их в мусорный ящик. Но пламя разгорелось из-за них».
Вообще в характере Чичикова далеко не всё контролируется и измеряется приобретательским духом. Вот он перебеливает в номере гостиницы списки умерших крестьян, вчитывается зачем-то в заметки Собакевича, представляет в своем воображении каждого мужика поимённо, и «какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особенный характер, и через то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер. <…> Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести: казалось, как будто мужики ещё вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: “Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, поделывали на веку своём? как перебивались?”»
И в воображении этого «дельца», превратившегося в поэта, разгулялась-разлилась на всю Русь целая поэма об умном, дельном и вольном народе. Конечно, эту эпическую поэму о красоте и величии богатырского народного труда вместе с Чичиковым поёт и сам Гоголь. Но неспроста же автор считает возможным связать с именем Чичикова замечательные строки, в которых душа его, освободившаяся от мёртвых пут «земности», от «мелочей», околдовавших стяжателей и существователей, вырвалась на широкий волжский простор.
«Никто не оспорит, что перед нами фрагмент подлинно поэтического мира; но в чьей душе эта сцена развёртывается? – задаёт вопрос В. В. Кожинов и так отвечает на него: – В душе Чичикова! Да, Чичикова, который в этот момент, согласно “пояснению” Гоголя, “задумался, так, сам собою, как задумывается всякий русский, каких бы ни был лет, чина и состояния, когда замыслит об разгуле широкой жизни”.
“Разгул широкой жизни…” Тем, кто находится под гипнозом полтораста лет внушаемой догмы о Гоголе – “отрицателе” и “разоблачителе”, это, конечно, покажется спорным; и тем не менее всё – буквально всё, что явлено в гоголевской поэме, есть именно “разгул широкой жизни”… “Видно, так уж бывает на свете, – замечает Гоголь, – видно, и Чичиковы на несколько минут в жизни обращаются в поэтов…”»
Есть ведь некий «перехлёст», выход за нормы «добропорядочности» и прозаичности рядового буржуазного стяжательства и во всех «предприятиях» Чичикова. Не от русского ли задора в нём идёт его нетерпение, неуёмное желание рискнуть, но уж взять разом весь капитал? Не русская ли, не разбойничья ли это в Чичикове повадка?
И когда сбитый с толку его аферами городской обыватель сравнивает Чичикова с капитаном Копейкиным, доведённым равнодушием властей до атамана разбойничьей шайки, в этом сравнении, при всей фантастичности его, есть некий, пусть слабо мерцающий, позитивный смысл.
Крах авантюры Чичикова с «мёртвыми душами», назревающий в финале поэмы, – это событие большого масштаба и исторической значимости, это свидетельство отторжения русской жизнью того пути, буржуазный дух которого воплощает Чичиков. Духом «чичиковщины», как мы убедились, заражены в поэме все помещики, с которыми он общался и в которых без труда распознавал свои собственные черты. «Чичиковщиной» болен и губернский город, в котором находящиеся у власти управители совсем не озабочены государственными проблемами. Каждый блюдёт здесь свой собственный интерес и рассматривает свою должность как кормушку, как средство личного обогащения. «Нигилист» Собакевич недалёк от истины, что здесь мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет.
И тем не менее «фантастика» чичиковского предприятия вызывает среди губернских обывателей реакцию отторжения. Напряжение растёт, достигает кульминации и получает грозовую разрядку в смерти прокурора. Есть в этом намёк на возмездие за «кривые дороги», которыми колесила бричка Чичикова. Круги ада описаны и пройдены. Неслучайно в пути своём герой вернулся к тому, с чего всё началось, чтобы отсюда, как бы с начала своей юности, выйти на новую прямую дорогу, ибо в финале поэмы русская жизнь отвергает пройденный им жизненный цикл.
«Гоголевская поэма, – замечает В. В. Кожинов, – воссоздаёт как бы естественный – и, следовательно, неизбежный – крах нового Наполеона: “естественность” краха выражается уже в том, что никто вроде бы не вступает на путь прямого сопротивления Чичикову – скорее, даже напротив. И всё-таки его операция срывается, и он бежит из города, который, казалось бы, уже сумел очаровать, зачаровать…»
Финальные строки поэмы мыслятся Гоголем как выход из «ада». И выход этот сопровождает, конечно, не трагический, а глубоко оптимистический, исполненный веры и надежды мотив: «Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать вёрсты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьём с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит чёрт знает на чём; а привстал, да замахнулся, да затянул песню – кони вихрем, спицы в колёсах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход – и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.
Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстаёт и остаётся позади. Остановился поражённый Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несёшься ты? дай ответ. Не даёт ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух: летит мимо всё, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».
Пора оставить всякие домыслы относительно того, кто сидит в этой тройке, и сомнения – уж не Чичиков ли правит ею? В финале первого тома Гоголь предвосхищает свершившееся Божье чудо. Мчится тройка-мечта, обновленная Россия, «вся вдохновенная Богом», вышедшая на праведные, прямые пути. Русь-тройка – поэтически воплощённая вера в высокое всемирно-историческое предназначение России как православно-христианской страны. Гоголь, поэт и историк, не сомневается в этом предназначении, если Россия вернётся к самой себе, к своим корням, к своим древним святыням и истокам.
«Мёртвые души» в русской критике
«Мёртвые души» вышли в свет в 1842 году и волей-неволей оказались в центре совершавшегося эпохального раскола русской мысли XIX века на славянофильское и западническое направления. Славянофилы отрицательно оценивали петровские реформы и видели спасение России на путях православно-христианского её возрождения. Западники идеализировали петровские преобразования и ратовали за их углубление. А Белинский, увлекаясь французскими социалистами, даже настаивал на революционных изменениях существующего строя. Он отрёкся от идеалистических воззрений 1830-х годов, от религиозной веры и стал воинствующим материалистом. В искусстве слова он всё более и более ценил мотивы социально-обличительные, а к духовным проблемам относился уже скептически. И славянофилы, и западники хотели видеть в Гоголе своего союзника. А полемика между ними мешала объективному пониманию содержания и формы «Мёртвых душ».
После выхода в свет первого тома поэмы Белинский откликнулся на неё статьёй «Похождения Чичикова, или Мёртвые души» (Отечественные записки. – 1842. № 7). Он увидел в поэме Гоголя «великое произведение», «творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдёргивающее покров с действительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовью к плодовитому зерну русской жизни…»
Русский дух поэмы «ощущается и в юморе, и в иронии, и в выражении автора, и в размашистой силе чувств, и в лиризме отступлений, и в пафосе всей поэмы, и в характерах действующих лиц, от Чичикова до Селифана и “подлеца Чубарого” включительно…» Белинский считает, «что не в шутку Гоголь назвал свой роман “поэмою” и что не комическую поэму разумеет он под нею. Это нам сказал не автор, а его книга. Мы не видим в ней ничего шуточного и смешного; ни в одном слове автора не заметили мы намерения смешить читателя: всё серьёзно, спокойно, истинно и глубоко…» «Нельзя ошибочнее смотреть на “Мёртвые души” и грубее понимать их, как видя в них сатиру».
Одновременно с этой статьей в Москве вышла в свет брошюра славянофила К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя “Похождения Чичикова, или Мёртвые души”». Аксаков противопоставил поэму Гоголя современному роману, явившемуся в свет в результате распада эпоса. «Мы потеряли, мы забыли эпическое наслаждение; наш интерес сделался интересом интриги, завязки: чем кончится, как объяснится такая-то запутанность, что из этого выйдет? Загадка, шарада стала наконец нашим интересом, содержанием эпической сферы, повестей и романов, унизивших и унижающих, за исключением светлых мест, древний эпический характер».
И вдруг является поэма Гоголя, в которой мы с недоумением ищем и не находим «нити завязки романа», ищем и не находим «интриги помудрёнее». «…На это на всё молчит его поэма; она представляет вам целую сферу жизни, целый мир, где опять, как у Гомера, свободно шумят и блещут воды, всходит солнце, красуется вся природа и живёт человек, – мир, являющий нам глубокое целое, глубокое, внутри лежащее содержание общей жизни, связующей единым духом все свои явления».
Конечно, «Илиада» Гомера не может повториться, да Гоголь и не ставит такой цели перед собой. Он возрождает «эпическое созерцание», утраченное в современной повести и романе. «Некоторым может показаться странным, что лица у Гоголя сменяются без особенной причины; это им скучно; но основание упрёка лежит опять-таки в избалованности эстетического чувства, у кого оно есть. Именно эпическое созерцание допускает это спокойное появление одного лица за другим, без внешней связи, тогда как один мир объемлет их, связуя их глубоко и неразрывно единством внутренним».
Таковы основные мысли брошюры Аксакова, слишком отвлечённой от текста поэмы, но проницательно указавшей на принципиальные отличия «Мёртвых душ» от классического западноевропейского романа. К сожалению, этот взгляд остался неразвитым и не закрепился в сознании читателей и в подходе исследователей к анализу гоголевской поэмы. Восторжествовала точка зрения Белинского, которую он высказал не в первой, а в последующих статьях, полемически направленных против брошюры Аксакова.
В статье «Несколько слов о поэме Гоголя “Похождения Чичикова, или Мёртвые души”» (Отечественные записки. 1842. № 8), полемизируя с Аксаковым, Белинский утверждает: «В смысле поэмы “Мёртвые души” диаметрально противоположны “Илиаде”. В “Илиаде” жизнь возведена на апофеозу; в “Мёртвых душах” она разлагается и отрицается; пафос “Илиады” есть блаженное упоение, проистекающее от созерцания дивно божественного зрелища; пафос “Мёртвых душ” есть юмор, созерцающий жизнь сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слёзы».
Если в первой статье Белинский подчеркивал жизнеутверждающий пафос «Мёртвых душ», то теперь он делает акцент на обличении и отрицании. Ещё более усиливается это в следующей статье, где Белинский откликается уже на возражения Аксакова в девятом номере «Москвитянина» за 1842 год. Белинский и называет эту третью свою статью «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя “Мёртвые души”» (Отечественные записки. – 1842. – № 11). Обращая внимание на слова Гоголя в первом томе о «несметном богатстве русского духа», Белинский с иронией говорит: «Много, слишком много обещано, так много, что негде и взять того, чем выполнить обещание, потому что того и нет ещё на свете… <…> Не зная, как, впрочем, раскроется содержание “Мёртвых душ” в двух последних частях, мы ещё не понимаем ясно, почему Гоголь назвал “поэмою” своё произведение, и пока видим в этом названии тот же юмор, каким растворено и проникнуто насквозь это произведение. <…> И поэтому великая ошибка для художника писать поэму, которая может быть возможна в будущем».
Получается, что Белинский глубоко сомневается теперь в позитивном, жизнеутверждающем начале русской жизни, считает устремления творческой мысли Гоголя рискованными и видит преимущество «Мёртвых душ» над эпосом в глубине и силе обличения тёмных сторон русской действительности.
Вслед за этими двумя статьями Белинского, воспринятыми догматически, как последнее слово никогда не ошибавшегося великого критика-демократа и социалиста, несколько поколений русских читателей и литературоведов видели в «Мёртвых душах» Гоголя только беспощадную сатиру на «мерзости» крепостнической действительности.
Гоголя огорчала односторонность Белинского и его друзей в оценке поэмы. В письме к С. П. Шевырёву из Рима он сетовал: «Разве ты не видишь, что ещё и до сих пор все принимают мою книгу за сатиру и личность, тогда как в ней нет и тени сатиры и личности, что можно заметить вполне только после нескольких чтений, а книгу мою большею частию прочли только по одному разу все те, которые восстают против меня». И он спешил убедить современников в том, что его поняли неправильно, что задуманные им второй, а затем и третий том всё поставят на свои места и выпрямят возникшее в восприятии его поэмы искривление.
Повесть «Шинель»
На полпути от первого тома «Мёртвых душ» ко второму лежит последняя петербургская повесть Гоголя «Шинель», резко отличающаяся от «Невского проспекта», «Носа» и «Записок сумасшедшего» особенностями своего юмора и масштабом осмысления темы. В повести торжествует очищающая и облагораживающая стихия гоголевского юмора. Это тот самый смех, «который весь излетает из светлой природы человека». «Вечный титулярный советник» Акакий Акакиевич Башмачкин, главный герой этой повести, не похож на прежних гоголевских чиновников типа Поприщина или майора Ковалёва. Акакий Акакиевич совершенно лишён главного их порока – неуёмного честолюбия. Это идеальный «титулярный советник», вполне довольный своим положением. Трудится он самозабвенно и с удовольствием. Переписывание канцелярских бумаг приносит ему эстетическое наслаждение. Он занимается своим делом добросовестно не из желания угодить начальству, а из бескорыстной любви к своему труду. В переписывании ему открывается какой-то свой «разнообразный и приятный мир». «Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его».
С мягким юмором рассказывает Гоголь об этом большом ребёнке, который «умел быть довольным своим жребием» и «служил с любовью», который своей кротостью и христианским поведением облагораживал других людей. Когда молодые чиновники «подсмеивались и острили» над ним, он терпел. Если же шутка оказывалась слишком невыносимой, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И было в этих словах «что-то такое преклоняющее на жалость», что вздрогнул однажды один молодой человек. «И долго потом, среди самых весёлых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: “Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?” – и в этих проникающих словах звенели другие слова: “Я брат твой”».
Был у Акакия Акакиевича безусловный враг – петербургская зима, пронизывающий до костей обветшавшую шинелишку мороз. Этот несчастный «капот» – предмет насмешек сослуживцев – уже нельзя было подлатать и подштопать. А покупка новой шинели для бедняка была равнозначной приобретению имения для богатого человека. Да ещё надо учесть, что шинель для бедняка – не роскошь, не прихоть, а единственная защита от холода и смерти.
Начинается аскетический подвиг. Собирая средства на новую шинель, Башмачкин отказывается от ужинов, от свечки по вечерам, от стирки белья у прачки. Даже по улицам он ходит осторожно, на цыпочках, чтобы не истереть подмётки на сапогах. Но аскетическое самоограничение искупается радостью «духовной». Он носит в мыслях своих «вечную идею» шинели как «венца творения», как предела мечтаний. Он видит в ней защитницу, тёплую заступницу.
Проходя строгую аскезу, Башмачкин становится твёрже духом, крепче характером. Огонь показывается в его глазах. В голове мелькают дерзкие и отважные мысли: «Не положить ли куницу на воротник?» В эти трудные минуты житейских испытаний он находит себе достойного друга – портного Петровича, горького пьяницу, но зато мастера своего дела.
Петрович – «духовный брат» Акакия Акакиевича. К своему делу он относится с любовью, как художник и артист. Когда Башмачкин в новой шинели направляется в департамент, Петрович идёт вслед за ним и даже забегает вперёд, чтобы полюбоваться произведением своего искусства и порадоваться счастью своего друга.
В маленьком мире маленьких по чину и положению людей Гоголь открывает в миниатюре те же самые тревоги, утешения и радости, что и в высших сферах, у людей светского круга. День с новой шинелью оказывается для Башмачкина большим и торжественным праздником. Он вернулся со службы в счастливом расположении духа: снял шинель, повесил её на стене, долго, долго любовался достоинствами сукна и подкладки. Даже вытащил прежний «капот» и – рассмеялся: «такая была далёкая разница!»
Но в своей великой радости Акакий Акакиевич забылся и загордился. Счастье выбило его из колеи: был нарушен привычный обиход его жизни. «Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал на постели». Как стемнело, отправился он – первый раз в своей жизни – на торжественный приятельский ужин по поводу приобретения новой шинели. По дороге он совсем расслабился: даже обращал внимание на уличную рекламу! А на вечеринке и совсем раскутился: выпил шампанского – два бокала. Возвращался он домой навеселе: «побежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамой», а потом подивился откуда-то взявшейся прыти.
Он забыл, что за великое счастье смертному приходится платить равновеликим несчастьем. «Светлый гость в виде шинели» оживил на миг его бедную жизнь, осветил его каморку неземным сиянием – и оставил его навсегда…
«Нестерпимо обрушивается несчастье» на голову бедного человека, но ведь так же оно падает и «на царей, на повелителей мира». Сцена ограбления навевает жуткий холод на душу читателя. Погружаясь в безмолвие громадного города, Башмачкин испытывает смертное одиночество и тоску. Какая-то злая, равнодушная стихия ползёт, надвигается на него: пустынные улицы становятся глуше, фонари на них мелькают реже. «Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне её домами, которая глядела страшною пустынею. Вдали, Бог знает где, мелькал огонёк в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света».
Ровно на середине этой пустынной площади он «увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами…». «“А ведь шинель-то моя!” – сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. <…> Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади».
Подобно бедному Евгению из «Медного всадника» Пушкина, Акакий Акакиевич терпит бедствие от разгула стихии и хочет найти защиту у государства. Но в лице служителя этого государства Акакий Акакиевич сталкивается с полным равнодушием к своей судьбе. Его просьба о защите лишь разгневала «значительное лицо»: «“Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами? понимаете ли вы это? понимаете ли это? я вас спрашиваю”. – Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом».
Равнодушие значительного лица соединилось со злым холодом природной стихии: «Он шёл по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырёх сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слёг в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распеканье!»
Уходя из жизни, Башмачкин взбунтовался: он «сквернохульничал, произнося страшные слова», следовавшие «непосредственно за словом «ваше превосходительство». Но с его смертью сюжет повести не оборвался. Он перешёл в фантастический план. Началось возмездие.
История значительного лица, распекавшего Акакия Акакиевича, повторяет почти буквально всё то, что случилось с последним. Генерал пошёл на вечер к приятелю, развеселился, выпил два бокала шампанского и по пути домой решил заглянуть к знакомой даме. Завернувшись в роскошную шинель, генерал расслабился, с удовольствием припоминая весёлый вечер.
Вдруг внезапно, «Бог знает откуда и невесть от какой причины», налетел порывистый ветер. Из разбушевавшейся стихии, явился таинственный мститель, в котором не без ужаса генерал узнал Акакия Акакиевича: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да ещё и распёк, – отдавай же теперь свою!»
А потом один коломенский будочник видел собственными глазами, «как показалось из-за одного дома привидение <…> он не посмел остановить его, а так шёл за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: “Тебе чего хочется?” – и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: “Ничего”, – да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте».
«То, что “Шинель” завершается именно так, ясно показывает, сколь неадекватно выражают смысл повести её трактовки, замыкающиеся на “гуманной” теме, – замечает В. В. Кожинов. – Сам Акакий Акакиевич предстаёт в свете этой концовки только как часть (хотя, конечно, неоценимо важная) художественной темы повести. Финал же посвящён теме Стихии. Всё, казалось бы, заковано в гранит и департаменты, но Стихия всё же готова показаться из-за каждого дома, и дует ветер “со всех четырёх сторон”, словно пророча “Двенадцать” Блока. И бессильна перед Стихией внешне столь могущественная государственность».
Анализ «Шинели» обычно замыкают на истории жизни Башмачкина, не замечая, что психологически-бытовое содержание повести, достойное, конечно, самого пристального внимания, важное и значимое само по себе, пронизывается изнутри ещё и глубоким историко-философским подтекстом, выводящим быт за пределы «частных» происшествий, а судьбы героев – за границы «частных» индивидуальностей.
В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь поместил написанные в 1843 году, сразу же после завершения работы над «Шинелью», «Четыре письма к разным лицам по поводу “Мёртвых душ”». В них он поставил перед русскими людьми горький вопрос: «Вот уже почти полтораста лет протекло с тех пор, как государь Пётр I прочистил нам глаза чистилищем просвещения европейского, дал в руки нам все средства и орудья для дела, и до сих пор остаются так же пустынны, грустны и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо всё вокруг нас, точно, как будто мы до сих пор ещё не у себя дома, не под родной нашею крышею, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радушным, родным приёмом братьев, но какой-то холодной, занесённой вьюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с чёрствым ответом: “Нет лошадей!” Отчего это? Кто виноват? Мы или правительство?»
Созданный в этом этюде образ безлюдной стихии, неосвоенных хаотических пространств перекликается с ключевым эпизодом «Шинели»:
«Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днём не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались ещё глуше и уединённее: фонари стали мелькать реже – масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные домы, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне её домами, которая глядела страшною пустынею».
Та же тема с новыми вариациями повторилась в истории «значительного лица»: «Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг Бог знает откуда и невесть от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча, как парус, шинельный воротник или вдруг с неестественною силою набрасывая ему его на голову и доставляя, таким образом, вечные хлопоты из него выкарабкиваться».
Образ беспощадной к человеку стихии разрастается, принимает человекоподобные очертания. Сперва – земные разбойники-грабители, сорвавшие в центре Российской империи с бедного Акакия Акакиевича новую шинель, потом – фантастический призрак вставшего из гроба мстителя-Башмачкина, пострадавшего от равнодушия «значительного лица», наконец, – уже не персонифицированное Привидение, олицетворяющее стихию мятежа и угрожающее блюстителю порядка.
По мере движения повести к финалу образ разгулявшейся и разыгравшейся стихии становится всё более масштабным и универсальным. Начинается с издевательств над бедным Акакием Акакиевичем его сослуживцев, которые сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Потом сообщается, что «есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз». Именно перед лицом этой зимней стихии, как человеческой, так и природной, Акакий Акакиевич вдруг начинает чувствовать непоправимые «грехи»-огрехи в своей шинели.
Для него шинель – не только одежда, но и символ обожествляемой им и защищающей его государственности. И вдруг он чувствует, что «в двух-трёх местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка; сукно до того истёрлось, что сквозило, и подкладка расползлась». Эта шинель «имела какое-то странное устройство: воротник её уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачиванье других частей её», или, по словам Петровича, «только слава, что сукно, а подуй ветер, так разлетится».
Новая шинель даёт герою надежду на вечное покровительство, неспроста он одержим идеей «вечной шинели». Но вот, уходя с вечеринки, устроенной сослуживцами, Акакий Акакиевич «отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел лежавшею на полу». Этот мотив возникает ещё в самом начале повести, где некий капитан-исправник жалуется верхам, что гибнут государственные постановления, потому что «священное имя его произносится всуе». Священной становится не божественная природа власти, а человеческая её ипостась, земная её вещественность, внешняя её форма. Человек, наделённый чином, «очеловечил» эту власть до того, что от её божественного происхождения остались одни бездушные мундиры – шинели. В мире российской государственности непомерно разрастается значимость «человеческого фактора» за счёт погашения божественного призвания носителей власти, погружающих российскую государственность в стихию полного хаоса и раздора, превращающих власть в пленницу земных человеческих пороков.
Символичен образ генерала, изображённый на табакерке (!) Петровича, «генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки». Белая бумажка – вместо лица! Символ власти, потерявшей своё лицо, утратившей «образ Божий»! И когда портной Петрович произнёс неумолимый приговор о необходимости изготовления новой шинели, «у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и всё, что ни было в комнате, так и пошло перед ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки». Есть в этой детали роковое предчувствие.
Уходя из жизни, Башмачкин взбунтовался: он «сквернохульничал, произнося страшные слова», следовавшие «непосредственно за словом «ваше превосходительство». (Вспомним «уже тебе!» бедного Евгения в «Медном всаднике»). Со смертью Башмачкина сюжет повести не обрывается. Он переходит в фантастический план. Начинается возмездие, бушуют вышедшие на поверхность жизни стихии, с которыми, как у Пушкина, «царям не совладеть!»
Завершает «Шинель» образ будочника – блюстителя власти на самом низшем, но и самом беспокойном её уровне. Будочник, пассивно бредущий за разбушевавшейся стихией, символичен: он набирает это символическое звучание в контексте всей повести. Вспомним, что в момент ограбления Акакия Акакиевича, «вдали, Бог знает где, мелькал огонёк в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света».
«Шинель», завершённая Гоголем в 1842 году, перекликается с «Повестью о капитане Копейкине», включённой в первый том «Мёртвых душ». Финалы обеих повестей – бунт возмущенной Стихии против искажённых, подавляющих человека форм государственности. Намёки на возможность такого исхода ощутимы и в конце первого тома «Мёртвых душ», в той смуте, которая овладела умами губернских обывателей.
Видя в возмущении стихий Божье попущение, объяснимый акт возмездия, Гоголь считал эти стихии закономерными, но опасными, разделяя мысли Пушкина о «бессмысленности и беспощадности» русского бунта. Спасение от социальных и государственных болезней, охвативших русское общество, Гоголь искал на путях духовного воспитания. В этом заключался главный пункт расхождения писателя с зарождающимся русским либерализмом и революционной демократией.
В известную русскую поговорку «не место красит человека, а человек место» Гоголь вносил высокий христианский смысл, суть которого заключалась в том, что Бог определяет человеку место и, занимая его, человек должен служить не своим прихотям, а Богу, его на это место определившему.
Коренной порок российской государственности он видел не в системе мест, её организующих, а в людях, занявших эти места. И порок этот касался не только «маленьких людей», мелких чиновников, но и «значительных лиц», которые у Гоголя в повести не персонифицируются, не определяются не только по цензурным причинам, но и по всеобщности распространения этого порока. Стихия мести, вызванная ими, приводит к тому, что хаос сдирает шинели «со всех плеч, не разбирая чина и звания»
Эта мысль, художественно воплощённая в подтексте гоголевской повести, касается не только «маленького человека», мелкого чиновника, не только «значительного лица», но и всего Государства во главе с самим Государем. Показательна в этой связи с виду проходная художественная деталь – «вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента» – Медного всадника.
«Власть государя – явление бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом Божиим на земле. При всём желании блага он спутается в своих действиях, особливо при нынешнем порядке вещей в Европе; но, как только почувствует он, что должен показать в себе людям образ Бога, всё станет ему ясно, и его отношенья к подданным вдруг объяснятся. В образцы себе он уже не изберёт ни Наполеона, ни Фридриха, ни Петра, ни Екатерину, ни Людовиков, и ни одного из тех государей, которым придаёт мир названье великого. <…> Но возьмёт в образец своих действий Самого Бога …» – так писал Гоголь в исключённом цензурой фрагменте «Выбранных мест из переписки с друзьями».
«Выбранные места из переписки с друзьями»
Работа Гоголя над вторым томом «Мёртвых душ» шла медленно и трудно. Сказывалось многолетнее пребывание в Риме, отрыв от живых русских впечатлений. Его письма этой поры полны призывов сообщать как можно больше сведений о текущей русской жизни. Затрудняло работу чувство ответственности, давило бремя тех высоких обязательств, которые он взял на себя перед читателями. Ведь обещано было что-то необыкновенное, способное подвигнуть к возрождению современную Россию.
В одну из отчаянных минут 1845 года Гоголь сжигает написанный второй том. Он решает выйти к соотечественникам с книгой «Выбранные места из переписки с друзьями» (1846). В этой книге Гоголь возрождает прерванную в русской литературе традицию прямого обращения к читателю в жанре поучения, распространенную в древнерусской литературе («Слово о законе и благодати митрополита Илариона», «Поучение Владимира Мономаха», «Слово о погибели Русской земли» и др.). Гоголь возрождает пророческий пафос нашей древней литературы с её стремлением «глаголом жечь сердца людей». Этот пафос был для Гоголя естественным и органичным. Вспомним прямые обращения к читателю в первом томе «Мёртвых душ», которые неправомерно называли «лирическими отступлениями».
В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь касается всех сторон русской жизни: от управления государством до управления имением, от обязанностей гражданина до обязанности семьянина, от назначения Русской Православной Церкви до призвания русского писателя. Гоголь учит каждого человека делать дело так, как повелевает высший небесный закон.
Сомнительность его программы обнаружилась там, где автор книги выступил с защитой крепостного права. В статье «Русский помещик» Гоголь утверждает, что власть помещика над крестьянами освящена традицией и имеет религиозную санкцию. Считая возможным восстановление «прежних уз, связывавших помещика с крестьянами», Гоголь подробно излагает обязанности обеих сторон. Соблюдение этих обязанностей приведёт к общему благополучию.
Это была одна из утопических идей Гоголя, рекомендовавшего самому помещику взять в руги топор или косу и в общей работе быть «передовым». Здесь он предвосхищает Л. Н. Толстого. Гоголь видит залог благополучия страны в «древнем патриархальном быте, которого стихии исчезнули повсюду, кроме России», в «преимуществах нашего крестьянского быта», в «истинно русских отношениях помещика к крестьянам». «Мы трупы, – пишет Гоголь, – мы выгнали на улицу Христа». Обращаясь к царю, Гоголь призывает: «Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значение своё – быть образом Того на земле, который Сам есть любовь».
В стане Белинского и группировавшихся вокруг него писателей «натуральной школы» эта книга была воспринята как измена Гоголя своему направлению и своим сочинениям. В перешедшем в руки Некрасова и Белинского «Современнике» русский критик назвал эту книгу падением Гоголя. С недоверием отнеслись к ней и славянофилы. Учительный пафос «Переписки» показался им «себялюбивым» и «самодовольным». Глубоко верующий писатель, считали они, впал в преувеличение своих возможностей, в «гордыню» и «прелесть».
Гоголь достойно принял славянофильскую критику своей книги. Он признал, что в самом тоне её была некоторая претензия на всезнание и учительство. «Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым», «право, во мне есть что-то хлестаковское», «много во мне самонадеянности».
Письмо Белинского к Гоголю
Осенью 1847 года Гоголь получил от Белинского гневное письмо, глубоко уязвившее и талант, и благородные намерения писателя. «…Россия, – утверждал Белинский, – видит своё спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и неволе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение».
«И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на себя самоё как будто в зеркале, – является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их неумытыми рылами!..»
«Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов – что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездною… Что Вы подобное учение опираете на Православную Церковь – это я ещё понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего между Ним и какою-нибудь, а тем более Православною Церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в Церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, – чем и продолжает быть до сих пор. Но смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти Его и кость от костей Его, нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные. Неужели Вы этого не знаете? А ведь всё это теперь вовсе не новость для всякого гимназиста…
А потому, неужели Вы, автор “Ревизора” и “Мёртвых душ”, неужели Вы искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, Вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же и в самом деле Вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет: дурья порода, колуханы, жеребцы? – Попов. Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого Вы не знаете? Странно! По-вашему, русский народ – самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: годится – молиться, не годится – горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нём ещё много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации; но религиозность часто уживается и с ними: живой пример Франция, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещёнными и образованными и где многие, отложившись от христианства, всё еще упорно стоят за какого-то Бога. Русский народ не таков: мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме: и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в нём даже к духовенству; ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличавшихся тихою, холодною, аскетическою созерцательностию – ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме; его скорее можно похвалить за образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противуположных по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею числительно».
Ответ Гоголя Белинскому
Собравшись с духом, Гоголь стал писать ответ. О невежестве Белинского он сказал без обиняков: «Нельзя, получив лёгкое журнальное образование, судить о таких предметах. Нужно для этого изучить историю Церкви. Нужно сызнова прочитать с размышлением всю историю человечества в источниках, а не в нынешних лёгких брошюрках, написанных Бог весть кем. Эти поверхностные энциклопедические сведения разбрасывают ум, а не сосредоточивают его».
«Вы отделяете Церковь и ее пастырей от христианства, ту самую Церковь, тех самых пастырей, которые мученической своей смертью запечатлели истину всякого слова Христова, которые тысячами гибли под ножами и мечами убийц, молясь о них, и наконец утомили своих палачей, так что победители упали к ногам побеждённых, и весь мир исповедал Христа. И этих самых Пастырей, этих мучеников-епископов, вынесших на плечах святыню Церкви, вы хотите отделить от Христа, называя их несправедливыми истолкователями Христа. Кто же, по-вашему, ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели нынешние коммунисты и социалисты, объясняющие, что Христос повелел отнимать имущество и грабить тех, которые нажили себе состояние?»
В ответ на превознесение Вольтера Гоголь сказал: «Опомнитесь! Вольтера называете оказавшим услугу христианству и говорите, что это известно всякому ученику гимназии. Да я, когда был ещё в гимназии, я и тогда не восхищался Вольтером. У меня и тогда было настолько ума, чтобы видеть в Вольтере ловкого остроумца, но далеко не глубокого человека. Вольтером не могли восхищаться полные и зрелые умы, им восхищалась недоучившаяся молодёжь».
Больно задели Гоголя рассуждения Белинского о безбожии русского народа: «Что мне сказать вам на резкое замечанье, будто русский мужик не склонен к религии и что, говоря о Боге, он чешет у себя другой рукой пониже спины, замечание, которое вы с такою самоуверенностью произносите, как будто век обращались с русским мужиком? Что тут говорить, когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих Русскую землю. Они строятся не дарами богатых, но бедными лептами неимущих, тем самым народом, о котором вы говорите, что он с таким неуваженьем отзывается о Боге, и который делится последней копейкой с бедным и Богом, терпит горькую нужду, о которой знает каждый из нас, чтобы иметь возможность принести усердное подаяние Богу?»
«Теперь позвольте же сказать, что я имею более перед вами права заговорить о русском народе. По крайней мере, все мои сочинения, по единодушному убежденью, показывают знанье природы русской, выдают человека, который был с народом наблюдателен… <…> А что вы представите в доказательство вашего знания человеческой природы и русского народа, что вы произвели такого, в котором видно это знание?»
Причину заблуждений Белинского Гоголь видит всё в том же – в незнании России: «Нет, Виссарион Григорьевич, нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век в Петербурге, в занятьях лёгкими журнальными статейками и романами тех французских романистов, которые так пристрастны, что не хотят видеть, как из Евангелия исходит истина, и не замечают того, как уродливо и пошло изображена у них жизнь».
Гоголь показал Белинскому, что они расходятся в самом понимании «просвещения». Для Гоголя просветить человека – значит не только вооружить его знаниями, но и облагородить его сердце. «Вы говорите, что спасение России в европейской цивилизации. Но какое это беспредельное и безграничное слово. Хоть бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской цивилизации, которое бессмысленно повторяют все. Тут и фаланстерьен, и красный, и всякий, и все друг друга готовы съесть, и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что уже даже трепещет в Европе всякая мыслящая личность и спрашивает невольно, где наша цивилизация?»
«Как далеко вы сбились с прямого пути, в каком вывороченном виде стали перед вами вещи! В каком грубом, невежественном смысле приняли вы мою книгу! Как вы её истолковали! О, да внесут святые силы мир в вашу страждущую, измученную душу!»
Этого письма Гоголь, однако, не отправил. Он написал другое, короткое и сдержанное, заключив его словами: «Желаю вам от всего сердца спокойствия душевного, первейшего блага, без которого нельзя действовать и поступать разумно ни на каком поприще».
Второй том «Мёртвых душ». Творческая драма Гоголя
В феврале 1848 года Гоголь возвращается на родину через Иерусалим, где он молится у гроба Господня о ниспослании ему сил для завершения труда. В сентябре Гоголь приезжает в Москву. К. Мочульский в книге «Духовный путь Гоголя» замечает, что писатель напуган политическими событиями (революционные брожения в Европе) и переносит своё личное уныние на всё человечество. Кажется ему, что весь мир охвачен безумием, что всё гибнет и распадается. Но к зиме душевное состояние его резко изменяется к лучшему. «Зима 1848–1849 гг. была для Гоголя временем не только восстановления физических сил; параллельно с этим шло душевное успокоение; тон писем становится бодрее: можно предполагать, что в это время он понемногу изживал свой религиозный кризис. Вера его, после кратковременного шатания, укрепилась; упорной работой над самим собой он освобождался от остатков эгоцентрической замкнутости. Это период аскетического очищения жизни и душевного просветления.
В религиозном возрождении Гоголя главная роль принадлежит о. Матвею Константиновскому. <…> Прекрасный проповедник, простой “народный” батюшка, совсем не богослов, но человек, заслуживающий уважения, священник, лицо которого “озаряется” во время совершения литургии, таков был о. Матвей. <…> Познакомившись через графа Толстого с ржевским священником, Гоголь сразу почувствовал духовную высоту этого скромного батюшки-мужичка. Отец Матвей осудил “Переписку” за отсутствие в ней подлинного христианского смирения и за претензию автора на вселенское учительство. Он стал влиять на Гоголя, стараясь приблизить его к евангельскому идеалу и углубить его внутреннюю жизнь. В момент религиозного кризиса Гоголь обратился именно к о. Матвею, признавшись ему, что теряет веру; о. Матвей своими наставлениями и молитвами помог Гоголю пережить кризис»[47].
В России работа пошла успешно, появилось вдохновение. Второй том был фактически написан полностью. Но 2 сентября 1851 года Гоголь посылает матери из Москвы тревожное письмо: «Здоровье мое сызнова не так хорошо, и, кажется, я сам причиною. Желая хоть что-нибудь приготовить к печати, я усилил труды и через это не только не ускорил дела, но и отдалил ещё года, может быть, на два. Бедная моя голова!»
Открыв завершённую уже рукопись, Гоголь вдруг почувствовал мучительную неудовлетворенность ею, начал правку и в несколько месяцев превратил беловик в черновик. А физические и нервные силы писателя были уже на пределе. Неподъемный труд изматывал его вконец. 26 января 1852 года неожиданно скончалась жена А. С. Хомякова, в семействе которого Гоголь часто оттаивал душою. Эта смерть так тяжело на него подействовала, что окончательно подточила последние силы.
10 февраля 1852 года Гоголь просит А. П. Толстого, в доме которого он жил, взять у него рукопись завершённого второго тома и передать митрополиту Филарету, чтобы тот отобрал из неё нужные, с его точки зрения, главы, а остальное обрёк на уничтожение. Выполнить эту просьбу Гоголя Толстой не решился.
В ночь с 11 на 12 февраля Гоголь неустанно молился до трёх часов, а потом разбудил слугу, мальчика Семёна, приказал открыть трубу в печи и сжёг второй том «Мёртвых душ». Мальчик плакал: «Что вы сделали?» – «Тебе жаль меня? – спросил Гоголь, обнял, поцеловал его и заплакал сам. «Надобно уж умирать, – сказал он после Хомякову, – а я уже готов и умру». «Он смотрел как человек, для которого все задачи разрешены», – писал доктор А. Т. Тарасенков, позванный к постели слёгшего Гоголя 13 февраля.
В восемь часов утра 21 февраля (4 марта) 1852 года Гоголь ушёл из жизни. Вся Москва провожала его на кладбище Данилова монастыря. «Это истинный мученик высокой мысли, мученик нашего времени», – писал о смерти Гоголя Сергей Тимофеевич Аксаков своим сыновьям.
От второго тома уцелели лишь фрагменты, судя по которым можно сделать вывод, что Гоголь мечтал создать положительного героя, который «умел бы сказать всемогущее слово: “Вперёд!”». Большое место в остатках второго тома занимает тема труда. Дворянин Костанжогло говорит о крестьянстве как о самом здоровом сословии: в земледельческом труде «человек идет рядом с природой, с временами года, соучастник и собеседник всего, что совершается в творении… Понимаете ли, что это? Грядущий урожай сеют! Блаженство всей земли сеют!»
Менее убедительным получился другой положительный образ – откупщика Муразова, нажившего «безукоризненно честным» путем миллионное состояние, которое он употребляет для добрых дел. Одним из главных идеальных героев второго тома, по-видимому, должен был быть генерал-губернатор. Весьма примечательна его речь перед чиновниками, приведённая нами ранее, которой заканчиваются уцелевшие фрагменты.
Гоголь показывает рождение чувства глубокой неудовлетворенности у лучших представителей дворянства, появление своего рода «отщепенцев», людей, уже начавших «выламываться» из своей среды. Таков Тентетников. По свидетельству друзей Гоголя, в последней (сожженной) редакции он был сделан лицом «в высшей степени симпатичным».
Но судить о пафосе, о главной идее второго тома можно и косвенно по основным положениям книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Одновременно в творчестве Гоголя намечался взамен литературному иной путь творческого служения. Гоголь пробовал себя как духовный писатель, создавая книгу «Размышления о Божественной литургии». Он потратил на неё семь лет напряжённого труда, но и она, по его словам, не была доведена до совершенства.
Перед Гоголем вставала дилемма: или долг писательского служения, или удаление от мира и уход в монастырь. Причём то и другое в его сознании оказалось связано неразрывно и нераздельно. Жуковский, очень близкий Гоголю на последнем этапе его жизни человек, узнав о смерти друга, писал Плетнёву в марте 1852 года: «Настоящее его призвание было монашество: я уверен, что если бы он не начал свои “Мёртвые души”, которых окончание лежало на его совести и всё ему не давалось, то он давно бы был монахом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой душа его дышала бы легко и свободно».
Можно усомниться в том, что это удаление из мира далось бы Гоголю легко. Ведь и в монастырь он собирался во имя такого духовного очищения и просветления, которое придало бы особую силу и действенную мощь его писательскому слову. «Вторая половина жизни и творчества Гоголя, – утверждает современный исследователь В. А. Воропаев, – ознаменована направленностью его к искоренению недостатков в себе самом – и таким образом он выбирает удел более сложный и высокий, вступая на путь богословски оправданной аскетики»[48]. Почему? В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь сказал по этому поводу следующее: «…Найди только прежде ключ к своей собственной душе; когда же найдёшь, тогда этим же самым ключом отопрёшь души всех».
Духовная драма Гоголя только ещё раз подтвердила особое отношение русского писателя XIX века к художественному слову, во многом превосходящее сугубо эстетические задачи и проблемы. Ему было свойственно религиозное отношение к слову, и с литературным трудом он связывал надежды на духовно-нравственное очищение и обновление России. Неудача второго показала, скорее всего, неподъёмность для смертного человека тех задач, которые Гоголь в нём поставил. Ведь ему хотелось, чтобы его книга повернула на новый путь духовного возрождения всю Россию. Для этого ему нужно было «найти всемогущее Слово» – равное тому, какое «было у Бога и было Бог».
Вопросы и задания
1. Почему любовь Гоголя к Пушкину сопровождалась полемикой с ним?
2. В чём причина неприятия Белинским Гоголя и резкого спора с ним? Каковы последствия этого спора в понимании основного пафоса творчества Гоголя последующими поколениями русских читателей, критиков и литературоведов?
3. Дайте целостную характеристику «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Что является причиной весёлости и грусти автора в этой книге?
4. Докажите, что сборник «Миргород» является новым этапом в творческом развитии Гоголя.
5. Покажите, какие приемы «овеществления» человека и комического воодушевления, побеждаемого чувством грусти, использует Гоголь.
6. Как изображает Гоголь абсурдность бездуховного мира и враждебность его искусству в петербургских повестях «Невский проспект», «Нос», «Записки сумасшедшего», «Портрет»?
7. На основе анализа комедии «Ревизор» объясните, почему Гоголь остался недоволен её сценической трактовкой.
8. В чём своеобразие сюжета «Мёртвых душ», какую идейно-художественную роль играет в нём образ дороги?
9. Какие неожиданные штрихи при описании каждого из помещиков нарушают однозначные выводы, которые готов сделать читатель по поводу характеров этих героев?
10. Какие обстоятельства детства и юности сформировали жизненные цели и идеалы Чичикова, какие черты его характера вызывают всеобщую симпатию и почему его кипучая деятельность всякий раз заканчивается катастрофой?
11. Объясните смысл мажорного финала первого тома «Мёртвых душ».
12. Раскройте полемику Белинского с К. Аксаковым по поводу поэмы Гоголя «Мёртвые души».
13. Какова композиция повести «Шинель» и в чём её содержательный смысл?
14. Что вызвало резкую полемику Белинского с Гоголем по поводу книги «Выбранные места из переписки с друзьями»?
[43] Зеньковский В. Н. В. Гоголь Часть II. Гоголь как мыслитель. Глава VII. Электронный ресурс. Режим доступа: http://gogol-lit.ru/gogol/kritika/zenkovskij-gogol/2-glava-vii.htm. Время обращения 10.08.2019.
[44] Фактор – управляющий технической частью в старой типографии, распорядитель её работами.
[45] В старой системе высшего образования адъюнкт-профессор считался помощником профессора. В его задачи входило исполнение обязанностей профессора, если тот отсутствует или болеет.
[46] Кожинов В. В. Разгул широкой жизни. «Мёртвые души» Н. В. Гоголя // Кожинов В. В. Победы и беды России. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://readr.ru/vadim-koghinov-pobedi-i-bedi-rossii.html
[47] Мочульский К. Гоголь. Соловьёв. Достоевский. М.: «Республика», 1995. – С. 49–51.
[48] Воропаев В. А. Жизнь и труды Николая Гоголя // Духовный путь Н. В. Гоголя. В двух частях. Часть 1. Духовная проза. М., 2009. – С. 15.
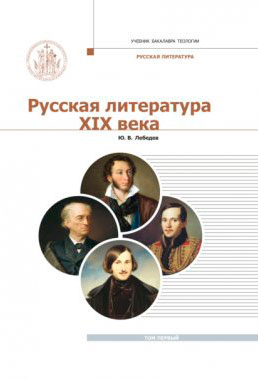
Комментировать