- Введение
- Вопросы и задания
- О генетических корнях классической русской литературы XIX века
- Вопросы и задания
- Николай Михайлович Карамзин (1766–1826)
- Карамзин и европейский сентиментализм
- Детство и юность Карамзина
- «Письма русского путешественника»
- Повесть «Бедная Лиза»
- Карамзин-журналист
- Карамзинская реформа русского литературного языка
- Спор «карамзинистов» с «шишковистами»
- Карамзин-историк
- Вопросы и задания
- Становление и развитие русского романтизма первой четверти XIX века
- Вопросы и задания
- Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)
- Романтический мир Жуковского
- Детство Жуковского
- Годы учения
- Элегии Жуковского-романтика
- «Теон и Эсхин» (1814)
- Любовь в жизни и поэзии Жуковского
- Жуковский гражданин и патриот
- Балладное творчество Жуковского
- Воспитатель наследника
- Поэмы Жуковского
- Вопросы и задания
- Иван Иванович Козлов (1779–1840)
- Детские и юношеские годы
- Стихотворные послания И. И. Козлова
- Лирика И. И. Козлова
- Гражданская лирика И. И. Козлова
- Поэмы И. И. Козлова
- Уход И. И. Козлова
- Вопросы и задания
- Константин Николаевич Батюшков (1787–1855)
- О своеобразии художественного мира Батюшкова
- Становление Батюшкова-поэта
- Первый период творчества
- Второй период творчества
- Вопросы и задания
- Иван Андреевич Крылов (1769–1844)
- Художественный мир Крылова
- Жизнь и творческий путь Крылова
- Мировоззренческие истоки реализма Крылова
- Поэтика крыловской басни
- Общенациональное содержание басен Крылова
- Вопросы и задания
- Пётр Павлович Ершов (1815–1869)
- Вопросы и задания
- Александр Сергеевич Грибоедов (1795–1829)
- Детство и юность Грибоедова
- Ссылка в Персию. Служба на Кавказе
- Успех «Горя от ума». Грибоедов и декабристы
- А. С. Пушкин о главном конфликте комедии и об уме Чацкого
- Фамусовский мир
- Драма Чацкого
- Драма Софьи
- Поэтика комедии «Горе от ума»
- Гибель Грибоедова
- Вопросы и задания
- Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837)
- Художественный мир Пушкина
- Детство
- Отрочество. Лицей
- Юность. Петербургский период
- Молодость. Южный период
- Элегия «Погасло дневное светило…»
- Поэма «Кавказский пленник»
- Поэма «Бахчисарайский фонтан»
- Лирика южного периода. Пушкин и декабристы
- Элегия «К морю»
- Пушкин в Михайловском. Творческая зрелость
- Поэтический цикл «Подражания Корану»
- Трагедия «Борис Годунов»
- Пушкин о назначении поэта и поэзии
- Освобождение. Поэт и царь
- Историческая основа поэмы «Полтава»
- Философские мотивы в лирике Пушкина
- Любовная лирика Пушкина
- Болдинская осень 1830 года. Роман «Евгений Онегин»
- Творческая история романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
- Историзм и энциклопедизм романа
- Онегинская строфа
- Реализм романа. Индивидуальное и типическое в характере Евгения Онегина
- Онегин и Ленский
- Онегин и Татьяна
- «Маленькие трагедии». «Повести Белкина»
- Историческая тема в творчестве Пушкина 1830-х годов
- Исторический роман «Капитанская дочка»
- Патриотические стихи «Клеветникам России»
- Лирика Пушкина 1830-х годов
- Дуэль и смерть Пушкина
- Вопросы и задания
- Поэты пушкинской поры
- Антон Антонович Дельвиг (1798–1831)
- Вопросы и задания
- Пётр Андреевич Вяземский (1792–1878)
- Вопросы и задания
- Николай Михайлович Языков (1803–1846)
- Вопросы и задания
- Евгений Абрамович Баратынский (1800–1844)
- Вопросы и задания
- Алексей Васильевич Кольцов (1809–1842)
- Судьба Кольцова
- «Русские песни» Кольцова
- Кольцов в истории русской литературы, критики, музыки
- Вопросы и задания
- Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841)
- О своеобразии художественного мироощущения Лермонтова
- Детские годы Лермонтова
- Годы учения в Московском благородном пансионе. Юношеская лирика
- Московский университет
- Петербургский период жизни и творчества Лермонтова 1830-х годов
- «Смерть Поэта» и первая ссылка Лермонтова на Кавказ
- Лирика Лермонтова 1838–1840 годов
- Дуэль и вторая ссылка на Кавказ
- Поэмы Лермонтова «Демон» и «Мцыри»
- Лирика Лермонтова 1840–1841 годов
- Творческая история романа «Герой нашего времени»
- Композиция романа и её содержательный смысл
- Повесть «Бэла»
- Повесть «Тамань»
- «Фаталист»
- Максим Максимыч
- Лирическое завещание Лермонтова
- Значение творчества Лермонтова в истории русской литературы
- Вопросы и задания
- Николай Васильевич Гоголь (1809–1852)
- Призвание Гоголя-писателя
- Детство и юность Гоголя
- Начало творческого пути. «Вечера на хуторе близ Диканьки»
- Сборник повестей «Миргород»
- Гоголь-историк
- Петербургские повести Гоголя
- Творческая история поэмы Гоголя «Мёртвые души»
- Тема дороги и её символический смысл
- Манилов и Чичиков
- Коробочка и Чичиков
- Ноздрёв и Чичиков
- Собакевич и Чичиков
- Плюшкин и Чичиков
- Путь Павла Ивановича Чичикова
- «Мёртвые души» в русской критике
- Повесть «Шинель»
- «Выбранные места из переписки с друзьями»
- Письмо Белинского к Гоголю
- Ответ Гоголя Белинскому
- Второй том «Мёртвых душ». Творческая драма Гоголя
- Вопросы и задания
- Иван Александрович Гончаров (1812–1891)
- О своеобразии художественного таланта И. А. Гончарова
- Роман «Обыкновенная история»
- Цикл очерков «Фрегат “Паллада”»
- Роман «Обломов»
- Н. А. Добролюбов о романе
- А. В. Дружинин о романе
- Полнота и сложность характера Обломова
- Андрей Штольц как антипод Обломова
- Обломов и Ольга Ильинская
- Историко-философский смысл романа
- Творческая история романа «Обрыв»
- Райский
- Бабушка
- Марфенька
- Вера
- «Просветитель» Веры – нигилист Марк Волохов
- Грехопадение Веры
- Выход из «обрыва»
- «Обрыв» в оценке русской критики
- Вопросы и задания
- Федор Иванович Тютчев (1803–1873)
- Малая родина Тютчева
- Тютчев и поколение «любомудров»
- Мир природы в поэзии Тютчева
- Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития
- Хаос и космос в лирике Тютчева
- Любовь в лирике Тютчева
- Тютчев о причинах духовного кризиса современного человека
- Поэтическое открытие русского космоса
- Вопросы и задания
- Алексей Константинович Толстой (1817–1875)
- О своеобразии художественного мироощущения А. К. Толстого
- Жизненный путь А. К. Толстого
- Лирика А. К. Толстого
- Баллады и былины А. К. Толстого
- Бесстрашный сказатель правды
- Вопросы и задания
- Александр Иванович Герцен (1812–1870)
- А. И. Герцен и «люди сороковых годов»
- Детство и юность А. И. Герцена
- А. И. Герцен и утопический социализм. Начало творческого пути
- Духовная драма Герцена
- Книга «Былое и думы»
- Общественная деятельность Герцена в эпоху 1860-х годов
- Вопросы и задания
- Алексей Феофилактович Писемский (1821–1881)
- Детские и юношеские годы
- Костромской период жизни и творчества
- Петербургский период жизни и творчества
- Московский период жизни и творчества
- Вопросы и задания
- Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889)
- Мастер сатиры
- Детство, отрочество, юность Салтыкова-Щедрина
- Вятский плен
- Проблематика и поэтика сатиры «История одного города»
- «Общественный роман» «Господа Головлёвы»
- «Сказки»
- Вопросы и задания
Иван Александрович Гончаров (1812–1891)
О своеобразии художественного таланта И. А. Гончарова
В 1873 году в связи с голодом в Самарском крае в кругу петербургских литераторов возникла идея издания сборника «Складчина» в пользу пострадавших от неурожая. Был избран редакционный комитет. В обязанности Гончарова-редактора входили чтение и отбор рукописей, а также переписка с авторами. Достоевский, называвший себя писателем, «одержимым тоскою по текущему», представил в «Складчину» очерк «Маленькие картинки». Гончаров дал о нём подробный отзыв, в котором высказал опасение по поводу образа «священника-ухаря», который «очерчен так резко и зло, что впадает как будто в шарж, кажется неправдоподобен». В ответ на возражение Достоевского, что «зарождается такой тип» священника, Гончаров заметил: «…если зарождается, то ещё это не тип. Вам лучше меня известно, что тип слагается из долгих и многих повторений или наслоений явлений и лиц – где подобия тех и других учащаются в течение времени и, наконец, устанавливаются, застывают и делаются знакомыми наблюдателю. Творчество (я разумею творчество объективного художника, как Вы, например) может явиться только тогда, по моему мнению, когда жизнь установится, с новою, нарождающеюся жизнию оно не ладит: для неё нужны другого рода таланты…»
«Тип, я разумею, с той поры и становится типом, когда он повторился много раз или много раз был замечен, пригляделся и стал всем знаком. В этом смысле можно про него сказать то же самое, что про звук. Звук тогда только становится звуком, когда звучит кому-нибудь, то есть когда есть ухо, которое его слышит, а дотоле он есть только сотрясение или колебание воздуха. <…> Под типами я разумею нечто очень коренное – долго и надолго устанавливающееся и образующее иногда ряд поколений. Например, Островский изобразил все типы купцов-самодуров и вообще самодурских старых людей, чиновников, иногда бар, барынь – и также типы молодых кутил. Но и эти молодые типы уже не молоды, они давно наплодились в русской жизни – и Островский взял их, а других, новейших, которые уже народились, не пишет потому именно, мне кажется, что они ещё не типы, а молодые месяцы – из которых неизвестно, что будет, во что они преобразятся и в каких чертах застынут на более или менее продолжительное время, чтобы художник мог относиться к ним, как к определенным и ясным, следовательно и доступным творчеству образам».
По Гончарову получалось, что современная русская жизнь, стремительно движущаяся по пути перемен, враждебна литературному творчеству, что в ней трудно уследить нечто устоявшееся, неизменное, получившее завершённость и чёткое оформление.
Не только во взглядах на призвание писателя, но и по складу своего характера Иван Александрович Гончаров далеко не похож на людей, которых рождали энергичные и деятельные 1840-60-е годы XIX века. В его биографии много необычного для этой эпохи, в общественной атмосфере того времени она – сплошной парадокс. Гончарова как будто не коснулась борьба партий, не затронули различные течения бурной общественной жизни. Он родился 6 (18) июня 1812 года в Симбирске, в купеческой семье. Окончив Московское коммерческое училище, а затем словесное отделение философского факультета Московского университета, он вскоре определился на чиновничью службу в Петербурге и служил честно и беспристрастно фактически всю свою жизнь. Человек медлительный и флегматичный, Гончаров и литературную известность обрёл не скоро. Первый его роман «Обыкновенная история» увидел свет, когда автору было уже 35 лет.
У Гончарова-художника был необычный для того времени дар – спокойствие и уравновешенность. Это отличает его от писателей середины и второй половины XIX века, одержимых духовными порывами, захваченных общественными страстями. Достоевский увлечён человеческими страданиями и поиском мировой гармонии, Толстой – жаждой истины и созданием нового вероучения, Тургенев опьянён прекрасными мгновениями быстротекущей жизни. Напряжённость, сосредоточенность, импульсивность – типичные свойства писательских дарований второй половины XIX века. А у Гончарова на первом плане – трезвость, уравновешенность, простота.
Лишь один раз Гончаров удивил современников. В 1852 году по Петербургу разнёсся слух, что этот человек де-Лень – ироническое прозвище, данное ему приятелями – собрался в кругосветное плавание. Никто не поверил, но вскоре слух подтвердился. Гончаров действительно стал участником кругосветного путешествия на парусном военном фрегате «Паллада» в качестве секретаря начальника экспедиции вице-адмирала Е. В. Путятина.
Но и во время путешествия он сохранял привычки домоседа. В Индийском океане, близ мыса Доброй Надежды, фрегат попал в шторм: «Шторм был классический, во всей форме. В течение вечера приходили раза два за мной сверху, звать посмотреть его. Рассказывали, как с одной стороны вырывающаяся из-за туч луна озаряет море и корабль, а с другой – нестерпимым блеском играет молния. Они думали, что я буду описывать эту картину. Но как на моё покойное и сухое место давно уж было три или четыре кандидата, то я и хотел досидеть тут до ночи; но не удалось…
Я посмотрел минут пять на молнию, на темноту и на волны, которые всё силились перелезть к нам через борт.
– Какова картина? – спросил меня капитан, ожидая восторгов и похвал.
– Безобразие, беспорядок! – отвечал я, уходя весь мокрый в каюту переменить обувь и бельё».
«Да и зачем оно, это дикое и грандиозное? Море, например? Бог с ним! Оно наводит только грусть на человека: глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью перед необозримой пеленой вод… Горы и пропасти созданы тоже не для увеселения человека. Они грозны и страшны… они слишком живо напоминают нам бренный состав наш и держат в страхе и тоске за жизнь…»
Гончарову дорога милая его сердцу равнина, благословлённая им на вечную жизнь русская Обломовка. «Небо там, кажется, напротив, ближе жмётся к земле, но не с тем, чтобы метать сильнее стрелы, а разве только чтобы обнять её покрепче, с любовью: оно распростёрлось так невысоко над головой, как родительская надёжная кровля, чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод».
В гончаровском недоверии к бурным переменам и стремительным порывам заявляла о себе определённая писательская позиция. Не без основательного подозрения относился Гончаров к начавшейся в 1850–60-е годы ломке всех старых устоев патриархальной России. В столкновении патриархального уклада с нарождающимся буржуазным Гончаров усматривал не только исторический прогресс, но и утрату духовных ценностей. Острое чувство нравственных потерь, подстерегающих человека на путях «машинной» цивилизации, заставляло его с любовью вглядываться в то, что Россия теряла.
В этом прошлом Гончаров многое не принимал: косность и застой, страх перемен, вялость и бездействие. Но патриархальная Россия привлекала его теплотой и сердечностью отношений между людьми, уважением к национальным традициям, гармонией ума и сердца, чувства и воли, духовным союзом человека с природой. Неужели всё это обречено на слом? И нельзя ли избрать человечеству более гармоничный путь прогресса, чтобы новое не отрицало старое с порога, а органически продолжало и развивало то ценное и доброе, что старое несло в себе?
Гончаров недоверчив к быстро текущей русской жизни середины и второй половины ХIХ века. С нарождающимися, переменчивыми формами жизни настоящее искусство, по его мнению, не ладит. Чтобы в бурном, стремительном потоке времени ХIХ столетия увидеть неподатливые на изменения, незыблемые и вечные «устои», надо было долго и внимательно вглядываться в эту переменчивую жизнь.
Не в этом ли секрет загадочной, на первый взгляд, медлительности Гончарова-художника? За всю свою жизнь он написал всего лишь три романа, в которых развивал и углублял один и тот же конфликт между двумя укладами русской жизни, патриархальным и буржуазным, между героями, выращенными двумя этими укладами. Причём работа над каждым из романов занимала у Гончарова не менее десяти лет. «Обыкновенную историю» он опубликовал в 1847, роман «Обломов» в 1859, а «Обрыв» в 1869 году.
Белинский в отклике на роман «Обыкновенная история» отметил, что в таланте Гончарова главную роль играет «изящность и тонкость кисти», «верность рисунка», преобладание художественного изображения над прямой авторской мыслью и приговором. Вслед за Белинским классическую характеристику особенностям таланта Гончарова дал Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?». Он подметил три характерных признака писательской манеры Гончарова.
Есть писатели, которые сами берут на себя труд объяснения с читателем и на протяжении всего рассказа поучают и направляют его. Гончаров, напротив, доверяет читателю и не даёт от себя никаких готовых выводов: он изображает жизнь такою, какой её видит как художник, и не пускается в отвлечённую философию и нравоучения.
Вторая особенность Гончарова заключается в умении создавать полный образ предмета. Писатель не увлекается какой-либо одной стороной его, забывая об остальных. Он «вертит предмет со всех сторон, выжидает совершения всех моментов явления».
Наконец, своеобразие Гончарова-писателя Добролюбов видит в спокойном, неторопливом повествовании, стремящемся к максимальной объективности, к полноте непосредственного изображения жизни.
Эти три особенности в совокупности позволяют Добролюбову назвать талант Гончарова объективным талантом.
Роман «Обыкновенная история»
Первый роман Гончарова «Обыкновенная история» увидел свет на страницах журнала «Современник» в мартовском и апрельском номерах за 1847 год. В центре романа – столкновение двух характеров, двух философий жизни, выпестованных на почве двух общественных укладов: патриархального, деревенского (Александр Адуев) и буржуазно-делового, столичного (его дядюшка Пётр). Александр Адуев – юноша, только что закончивший университет, исполненный возвышенных надежд на вечную любовь, на поэтические успехи (как большинство юношей, он пишет стихи), на славу выдающегося общественного деятеля. Эти надежды зовут его из патриархальной усадьбы Грачи в Петербург. Покидая деревню, он клянётся в вечной верности соседской девушке Софье, обещает дружбу до гробовой доски университетскому приятелю Поспелову, который прискакал в усадьбу Грачи за сто шестьдесят вёрст, чтобы проститься с Александром.
Романтической мечтательностью Александр сродни герою романа Пушкина «Евгений Онегин» Владимиру Ленскому. Но в отличие от романтизма Ленского, душевный настрой Александра не вывезен из Германии, а выращен здесь, в России. Этот романтизм питает многое. Во-первых, далёкая от жизни университетская наука. Во-вторых, юность с её широкими, зовущими вдаль горизонтами, с её душевным нетерпением и максимализмом. Наконец, эта мечтательность связана с русской провинцией, с патриархальным укладом, с деревенским простодушием, с православно-христианской совестливостью.
Описание провинциальной усадьбы Грачи окрашивается у Гончарова в райские тона: «С балкона в комнату пахнуло свежестью. От дома на далёкое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черёмухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой – тёмно-синее, как небо, которое отражалось в нём, и едва подёрнутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к тёмному лесу».
Однако Александр Адуев увлечён мечтою о другой «обетованной земле»: он грезит Петербургом и плохо слушает предостережения своей матушки: «“Погляди-ка, – говорила она, – какой красотой Бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до пятисот четвертей сберём; а вон и пшеничка есть, и гречиха; только гречиха нынче не то, что прошлый год: кажется, плоха будет. А лес-то, лес-то как разросся! Подумаешь, как велика премудрость Божия! И ты хочешь бежать от такой благодати, ещё не знаешь куда, в омут, может быть, прости Господи… Останься!” Он молчал. – “Да ты не слушаешь, – сказала она. – Куда это ты так пристально загляделся?” Он молча и задумчиво указал рукой вдаль. Анна Павловна взглянула и изменилась в лице. Там, между полей, змеёй вилась дорога и убегала за лес, дорога в обетованную землю в Петербург» (Курсив мой. – Ю. Л.).
В романтизме Александра есть юношеская гордыня, ведущая к соблазну. Петербург манит его вечным искушением – «и будете, как боги». Неспроста дорога туда «вьётся змеёй». Матушка Александра чувствует этот угрожающий сыну соблазн: «Погоди, погоди – выслушай, что я хочу сказать! Бог один знает, что там тебя встретит, чего ты наглядишься, и хорошего и худого. Надеюсь, Он, Отец мой Небесный, подкрепит тебя; а ты, мой друг, пуще всего не забывай Его, помни, что без веры нет спасения нигде и ни в чём».
Эту материнскую заповедь Александр пропускает мимо ушей. Так, в самом начале романа центральное событие – отъезд молодого романтика в Петербург – приобретает у Гончарова символический подтекст. За преходящим и злободневным проступает вечное – воскресает библейский мотив искушения и грехопадения человека.
В первые дни пребывания в столице Александр готов видеть друга в каждом встречном, юный провинциал привык встречать глаза людей, излучающие человеческое тепло и участие: «Он вышел на улицу – суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтоб не наткнуться друг на друга. Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча, с кем бы то ни было, почему-нибудь интересна. <…> А здесь так взглядом и сталкивают прочь с дороги, как будто все враги между собою. <…> Он посмотрел на домы – и ему стало ещё скучнее: на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою. “Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам, – думал он, – или горка, или зелень, или развалившийся забор”, – нет, опять начинается та же каменная ограда одинаких домов, с четырьмя рядами окон. <…> Заглянешь направо, налево – всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, всё одно да одно… нет простора и выхода взгляду: заперты со всех сторон, – кажется, и мысли и чувства людские также заперты».
Но в то же время Петербург искушает провинциала своим величием. Когда Александр добрался до Адмиралтейской площади, он остолбенел и «с час простоял перед Медным всадником, но не с горьким упрёком в душе, как бедный Евгений, а с восторженной думой. Взглянул на Неву, окружающие её здания – и глаза его засверкали. Он вдруг застыдился своего пристрастия к тряским мостам, палисадникам, разрушенным заборам. Ему стало весело и легко. И суматоха, и толпа – всё в глазах его получило другое значение. Замелькали опять надежды, подавленные на время грустным впечатлением; новая жизнь отверзала ему объятия и манила к чему-то неизвестному».
Гончаров мобилизует в своём первом романе не только библейский, но и литературный подтекст. Горький смысл поэмы Пушкина «Медный всадник», связанный с судьбою бедного Евгения, суждено пережить Александру на своём жизненном опыте. Пока он ещё не подозревает, какой суровый урок готовит ему столичная жизнь. Простодушие провинциала и романтическая гордыня идут у него рука об руку друг с другом.
Александр верит в семейные чувства. Он думает, что петербургские родственники примут его с распростертыми объятиями, как принято в деревенском усадебном быту. А он «расцелует хозяина и хозяйку, станет говорить им ты, как будто двадцать лет знакомы: все подопьют наливочки, может быть, запоют хором песню»… Но тут молодого романтика-провинциала ждет горькое разочарование. «Куда! на него едва глядят, морщатся, извиняются занятиями; если есть дело, так назначают такой час, когда не обедают и не ужинают… Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то странно».
Деловой петербургский дядюшка Пётр, на первый взгляд, выгодно отличается от племянника отсутствием неумеренной восторженности, умением трезво смотреть на вещи. В разговорах с Александром он учит руководствоваться в жизни рассудком, который, по его мнению, способен управлять страстями: «Восторги, экзальтация: тут человек всего менее похож на человека, и хвастаться нечем. Надо спросить, умеет ли он управлять чувствами; если умеет, то и человек…» – «По-вашему, и чувством надо управлять, как паром, – заметил Александр, – то выпустить немного, то вдруг остановить, открыть клапан или закрыть…» – «Да, этот клапан недаром природа дала человеку – это рассудок, а ты вот не всегда им пользуешься – жаль! а малый порядочный!»
Так читатель начинает замечать в трезвости дядюшки сухость и расчетливость, однобокий рационализм и эгоизм. Неспроста Александр сравнивает дядюшку с пушкинским Демоном. Петр Адуев «отрезвляет» молодого человека с каким-то недобрым удовольствием. Он безжалостен к юной душе, к её прекрасным порывам. Стихи Александра он употребляет на оклейку стен в кабинете, а вместо стихов предлагает перевод агрономических статей о навозе; вместо серьёзной государственной деятельности он определяет племянника чиновником, занятым перепискою деловых бумаг; подаренный любимой Софьей талисман с локоном её волос – «вещественный знак невещественных отношений» – он ловко швыряет в форточку.
«“Это ужасно, ужасно, дядюшка! стало быть, вы никогда не любили?” – взмолился Александр. – “Знаков терпеть не мог”. – “Это какая-то деревянная жизнь! – сказал в сильном волнении Александр, – прозябание, а не жизнь! прозябать без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви…” – “И без волос!” – прибавил дядя».
Принцип художественного контрапункта часто используется Гончаровым. Он основан на реалистическом переосмыслении свойственного романтизму двоемирия, контраста возвышенной поэзии и «презренной прозы». Вот Александр Адуев, испытывая прилив вдохновения, сочиняет стихи, а рядом его слуга Евсей чистит ваксой сапоги. «Тут он громко вздохнул, подышал на сапог и опять начал шмыгать щёткой. Он считал это занятие главною и чуть ли не единственною своею обязанностью и вообще способностью чистить сапоги измерял достоинство слуги и даже человека; сам он чистил с какою-то страстью. – “Перестань, Евсей! ты мне мешаешь дело делать своими пустяками!” – кричал Адуев. – “Пустяки, – ворчал про себя Евсей, – как не пустяки: у тебя так вот пустяки, а я дело делаю. Вишь ведь, как загрязнил сапоги, насилу отчистишь, – он поставил сапог на стол и гляделся с любовью в зеркальный лоск кожи. – Поди-ка, вычисти кто этак, – примолвил он, – пустяки!”»
Под влиянием дядюшки, под воздействием отрезвляющих впечатлений делового, чиновничьего Петербурга разрушаются романтические иллюзии Александра. Гибнут надежды на вечную любовь. Если в романе с Наденькой герой ещё романтический влюбленный, то в истории с Юлией он уже скучающий любовник, а с Лизой – пошлый соблазнитель.
Увядают идеалы вечной дружбы. Однажды он пришел к тётке в припадке какого-то злобного расположения духа на весь род людской. «Вы хотите знать, – начал он тихо, торжественно, – что меня теперь волнует, бесит? Слушайте же: вы знаете, я имел друга, которого не видал несколько лет, но для которого у меня всегда оставался уголок в сердце. <…> Дня три назад иду по Невскому проспекту и вдруг вижу его. Я остолбенел, по мне побежали искры, в глазах явились слезы. Я протянул ему руки и не мог от радости сказать ни слова: дух захватило. Он взял одну руку и пожал. “Здравствуй, Адуев!” – сказал он таким голосом, как будто мы вчера только с ним расстались. “Давно ли ты здесь?” Удивился, что мы до сих пор не встретились, слегка спросил, что я делаю, где служу, долгом счёл уведомить, что он имеет прекрасное место, доволен и службой, и начальниками, и товарищами, и… всеми людьми, и своей судьбой… потом сказал, что ему некогда, что он торопится на званый обед – слышите, matante? при свидании, после долгой разлуки, с другом, он не мог отложить обеда…»
Разбиваются вдребезги мечты о славе поэта и государственного деятеля: «Утром Петр Иваныч привёз племянника в департамент, и пока сам он говорил с своим приятелем – начальником отделения, Александр знакомился с этим новым для него миром. Он ещё мечтал всё о проектах и ломал себе голову над тем, какой государственный вопрос предложат ему решить, между тем всё стоял и смотрел. “Точно завод моего дяди! – решил он наконец. – Как там один мастер возьмёт кусок массы, бросит её в машину, повернёт раз, два, три, – смотришь, выйдет конус, овал или полукруг; потом передаёт другому, тот сушит на огне, третий золотит, четвертый расписывает, и выйдет чашка, или ваза, или блюдечко. И тут: придёт посторонний проситель, подаст, полусогнувшись, с жалкой улыбкой, бумагу – мастер возьмёт, едва дотронется до неё пером и передаст другому, тот бросит её в массу тысячи других бумаг, – но она не затеряется: заклеймённая нумером и числом, она пройдёт невредимо чрез двадцать рук, плодясь и производя себе подобных. <…> И каждый день, каждый час, и сегодня и завтра, и целый век, бюрократическая машина работает стройно, непрерывно, без отдыха, как будто нет людей, – одни колеса да пружины…”»
В изображении эволюции молодого романтика, на которого отрезвляюще действует деловая петербургская жизнь, Гончаров сталкивается с проблемой, вступающей в противоречие с требованиями его эстетики. Согласно художественным установкам Гончарова, настоящее искусство имеет дело лишь с устойчивыми типами. Как же показать изменения в характере главного героя, не нарушая этих эстетических установок? Гончаров делит жизненный путь Александра на стадии, в пределах которых Александр предстаёт в завершённой и устойчивой типологической форме. Сам процесс перехода Александра из одной стадии в другую у Гончарова не изображается. Три типологических картины любовных романов Александра сменяются в «Обыкновенной истории» так, как меняли диапозитивы в старом волшебном фонаре. Время между отдельными стадиями не изображается, оно лишь фиксируется Гончаровым в виде авторских ремарок: «Мелькнуло несколько месяцев»… «Прошло с год после описанных в последней главе первой части сцен и происшествий».
Этой же цели служат у Гончарова так называемые опорные точки повествования. Через весь роман проходит цикл повторяющихся сюжетных мотивов: порыв Александра обнять дядюшку, всякий раз наталкивающийся на преграду и только в конце романа удовлетворённый; «презренный металл», постоянно предлагаемый Александру и с возмущением отвергаемый им вплоть до финала, где герой обращается к дядюшке с просьбой об его одолжении; разговор о «жёлтых цветах, озере и тётке», крайне неприятный для дядюшки, так как он напоминает ему о юности и пережитом тогда романтизме.
Этот художественный приём, помогающий Гончарову показать жизнь в отдельных фазах её движения, напоминает повторы сюжетных мотивов в фольклоре – в русских народных сказках и особенно в былинах. Опорные точки повествования чётко закрепляют те перемены в характере Александра, которые не схватываются художественным изображением и предстают в виде смены статичных картин, фиксирующих разные стадии в развитии характеров и отношений между героями.
Разочарованный и разбитый, Александр бежит домой, в «страну обетованную», в усадьбу Грачи. Но обрести утраченную гармонию ему уже не дано, возврата к прошлому быть не может. Он ходит по дому словно туча, смотрит в землю – ничего не мило ему в родной стороне. Матушка находит ему невесту, но слышит в ответ: «Я не полюблю маменька, я уж отлюбил». В отчаянии Анна Павловна хочет вернуть сыну потерянную веру. Но и в сельском храме герой не испытывает молитвенного возрождения. «Он мысленно пробежал своё детство и юношество до поездки в Петербург; вспомнил, как, будучи ребенком, он повторял за матерью молитвы, как она твердила ему об ангеле-хранителе, который стоит на страже души человеческой и вечно враждует с нечистым; как она, указывая ему на звёзды, говорила, что это очи Божиих ангелов, которые смотрят на мир и считают добрые и злые дела людей; как небожители плачут, когда в итоге окажется больше злых, нежели добрых дел, и как радуются, когда добрые дела превышают злые. Показывая на синеву дальнего горизонта, она говорила, что это Сион… Александр вздохнул, очнувшись от этих воспоминаний. «Ах! если б я мог ещё верить в это! – думал он. – Младенческие верования утрачены, а что я узнал нового, верного?.. ничего: я нашёл сомнения, толки, теории… и от истины ещё дальше прежнего…»
Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», высоко оценивая художественные достоинства романа Гончарова, увидел его пафос в развенчании романтизма: «Места – свидетели его детства – расшевелили в Александре прежние мечты, и он начал хныкать о их невозвратной потере, говоря, что счастие в обманах и призраках. Это общее убеждение всех дряблых, бессильных, недоконченных натур».
Однако в разочарованиях героя не в меньшей, если не в большей степени повинен трезвый, бездушный практицизм столичной жизни, с которой сталкивается молодой и пылкий юноша. В характере Александра, наряду с книжными иллюзиями и провинциальной ограниченностью, есть и другая сторона: романтична любая юность. Его максимализм, его вера в безграничные возможности человека – ещё и признак молодости, неизменный во все эпохи и все времена.
Петра Адуева не упрекнешь в мечтательности, в отрыве от жизни. Однако и его характер подвергается не менее строгому суду устами его жены Елизаветы Александровны. Она говорит о «неизменной дружбе», «вечной любви», «искренних излияниях» – о тех ценностях, которых лишен Пётр и о которых любил рассуждать Александр. Но теперь эти слова звучат далеко не иронически. Вина и беда дядюшки в его пренебрежении к тому, что является в жизни главным, – к духовным порывам, к цельным и гармоническим отношениям между людьми. А беда Александра оказывается не в том, что он верил в истину высоких целей жизни, а в том, что эту веру растерял.
В эпилоге романа герои меняются местами. Пётр Адуев осознает ущербность своей жизни в тот момент, когда Александр, отбросив все романтические побуждения, становится на деловую и бескрылую дядюшкину стезю. Этот поворот Белинский считал художественным просчётом романа: «Его романтизм был в его натуре; такие романтики никогда не делаются положительными людьми. Автор имел бы скорее право заставить своего героя заглохнуть в деревенской дичи апатии и лени, нежели заставить его выгодно служить в Петербурге и жениться на большом приданом».
Мимо Белинского, мимо последовавших за ним критиков и литературоведов прошёл более глубокий, философский смысл романа. За отношениями юного племянника и зрелого дядюшки скрываются размышления автора о движении истории человечества, проходящей через те же самые возрастные стадии, что и отдельная человеческая жизнь. Усадебная провинция – это юность рода человеческого, сменяющаяся зрелостью современной промышленной цивилизации. Неспроста на сетования Александра по поводу петербургской жизни дядюшка отвечает: «Век такой». Гончаров связывает прагматизм дядюшки не с врождённым свойством его натуры, но с возрастом, в который, пройдя через кризис перехода от юности к зрелости, вступает в эпилоге романа и его племянник – Александр. В прошлом ведь Пётр Адуев был таким же восторженным юношей. И вот, пройдя через искушение зрелостью, постаревший дядюшка с ностальгией мечтает о прошлом, о своей далёкой юности, о первой влюблённости, «о жёлтых цветах, озере и тётке». И в таком финале его жизни скрывается авторский оптимизм относительно исторических судеб человечества. Прагматизм промышленной цивилизации на новом витке исторической спирали сменится возвратом к ценностям, которые согревали юность рода человеческого.
Итак, на одном полюсе романа – наивная вера в осуществимость высоких духовных помыслов, на другом – бескрылый расчёт, холодный рассудок. Где же истина? Вероятно, посередине: наивна оторванная от жизни мечтательность, но страшен и деловой, расчетливый прагматизм. Буржуазная проза лишается поэзии, в ней нет места высоким духовным порывам, нет места таким ценностям жизни, как любовь, дружба, преданность, вера в высшие нравственные побуждения. Пройдя через искушение буржуазной предприимчивостью, человечество должно повернуться к утраченным надеждам и верованиям, свойственным юности рода человеческого, как Пётр Адуев в старости испытал ностальгический поворот к утраченной юности.
Деловая проза жизни современного Петербурга, олицетворяемая Петром Адуевым, однобока и скудна. Но в истинной прозе жизни, как её понимает Гончаров, таятся зёрна высокой поэзии. У Александра Адуева есть в романе спутник, слуга Евсей. Что дано одному – не дано другому. Александр прекраснодушно духовен, Евсей прозаически прост. Но их связь в романе не ограничивается контрастом высокой поэзии и презренной прозы. Она выявляет еще и другое: комизм оторвавшейся от жизни высокой поэзии и скрытую поэтичность повседневной прозы.
Уже в начале романа, когда Александр перед отъездом в Петербург клянется в «вечной любви» Софье, его слуга Евсей прощается с возлюбленной, ключницей Аграфеной: «Евсей сидел молча и сильно вздыхал. Аграфена, насупясь, суетилась по хозяйству. У ней горе выражалось по-своему. Она в тот день с ожесточением разлила чай и вместо того, чтоб первую чашку крепкого чая подать, по обыкновению, барыне, выплеснула его вон: «никому, дескать, не доставайся», и твердо перенесла выговор. Кофе у ней перекипел, сливки подгорели, чашки валились из рук. Она не поставит подноса на стол, а брякнет; не отворит шкафа и двери, а хлопнет. Но она не плакала, а сердилась на всё и на всех. Впрочем, это вообще было главною чертою в её характере. Она никогда не была довольна; всё не по ней; всегда ворчала, жаловалась. Но в эту роковую для неё минуту характер её обнаруживался во всём своём пафосе».
Проходит много лет. Полысевший и разочарованный Александр, растерявший в Петербурге романтические надежды, вместе со слугою Евсеем возвращается в усадьбу Грачи. «Евсей, подпоясанный ремнём, весь в пыли, здоровался с дворней… Увидя Аграфену, он остановился, как окаменелый, и смотрел на неё молча, с глупым восторгом. Она поглядела на него сбоку, исподлобья, но тотчас же невольно изменила себе: засмеялась от радости, потом заплакала было, но вдруг отвернулась в сторону и нахмурилась. «Что молчишь? – сказала она, – экой болван: и не здоровается!»
Устойчивая, неизменная привязанность существует у слуги Евсея и ключницы Аграфены. «Вечная любовь» в грубоватом, народном варианте уже налицо. Здесь дается органический синтез поэзии и жизненной прозы, утраченный миром господ, в котором проза и поэзия разошлись и стали друг к другу во враждебные отношения. Именно народная тема романа несет в себе обещание возможного их синтеза в будущем.
Цикл очерков «Фрегат “Паллада”»
Итогом кругосветного плавания Гончарова явилась книга очерков «Фрегат “Паллада”», в которой столкновение буржуазного и патриархального укладов получило дальнейшее, углубляющееся осмысление. Путь писателя лежал через Англию к многочисленным её колониям в Тихом океане. От зрелой, промышленно развитой цивилизации – к наивно-восторженной патриархальной молодости человечества с её верой в чудеса, с её надеждами и сказочными грёзами.
Возраст зрелости современной буржуазной Англии – это возраст деловитости и умного практицизма, хозяйственного освоения вещества земли. Любовное отношение к природе сменилось беспощадным покорением её, торжеством фабрик, заводов, машин, дыма и пара. Всё чудесное и таинственное вытеснилось приятным и полезным. Весь день англичанина расчислен и расписан: ни одной свободной минутки, ни одного лишнего движения – польза, выгода и экономия во всём. Жизнь настолько запрограммирована, что действует, как машина. «Нет ни напрасного крика, ни лишнего движения, а уж о пении, о прыжке, о шалости и между детьми мало слышно. Кажется, всё рассчитано, взвешено и оценено, как будто и с голоса, и с мимики берут тоже пошлину, как с окон, с колёсных шин».
Когда Гончаров расстаётся с Англией – «этим всемирным рынком и с картиной суеты и движения, с колоритом дыма, угля, пара и копоти», в его воображении, по контрасту с механической жизнью англичанина, встаёт образ русского помещика. Он видит, как далеко в России, «в просторной комнате на трёх перинах» спит человек, с головою укрывшийся от назойливых мух. Его не раз будила посланная от барыни Парашка, слуга в сапогах с гвоздями трижды входил и выходил, потрясая половицы. Солнце обжигало ему сначала темя, а потом висок. Наконец, под окнами раздался не звон механического будильника, а громкий голос деревенского петуха – и барин проснулся. Начались поиски слуги Егорки: куда-то исчез сапог и панталоны запропастились. Оказалось, что Егорка на рыбалке, – послали за ним. Егорка вернулся с целой корзиной карасей, двумя сотнями раков и с дудочкой из камыша для барчонка. Нашёлся сапог в углу, а панталоны висели на дровах, где их оставил впопыхах Егорка, позванный товарищами на рыбную ловлю. Барин не спеша напился чаю, позавтракал и стал изучать календарь, чтобы выяснить, какого святого нынче праздник, нет ли именинников среди соседей, коих надо поздравить. Несуетная, неспешная, совершенно свободная, ничем, кроме личных желаний, не регламентированная жизнь! Так появляется параллель между чужим и своим, и Гончаров замечает: «Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют её!»
Гораздо больше говорят сердцу русского писателя нравы Востока. Он воспринимает Азию как на тысячу миль распростёртую Обломовку. Особенно поражают его воображение Ликейские острова: это идиллия, брошенная среди бесконечных вод Тихого океана. Здесь живут добродетельные люди, питающиеся одними овощами, живут патриархально, «толпой выходят навстречу путешественникам, берут за руки, ведут в домы и с земными поклонами ставят перед ними избытки своих полей и садов…».
И хотя такая идиллия человеку цивилизации не может не наскучить, почему-то в сердце после общения с нею появляется тоска. Пробуждается мечта о земле обетованной, зарождается укор современности: кажется, что люди могут жить иначе, свято и безгрешно. В ту ли сторону пошёл европейский и американский мир с его техническим прогрессом? Приведёт ли человечество к блаженству упорное насилие, которое оно творит над природой и душой человека? А что если прогресс возможен на иных, более гуманных основах, не в борьбе, а в родстве и союзе с природой?
Выгода и деловой материальный расчёт – вот что современный европейский прогресс начертал на своих знамёнах. Вторжение в Шанхай англичан Гончаров называет «нашествием рыжих варваров». Их бесстыдство «доходит до какого-то героизма, чуть дело коснётся до сбыта товара, какой бы он ни был, хоть яд!» За шестнадцать миль от Шанхая стоит целый английский флот так называемых опиумных судов. Цивилизация развивается односторонне: прогресс сводится к накоплению материальных благ, а духовный мир человека остаётся в небрежении, нравственные устои колеблются, распадаются родственные связи между людьми.
В Петербург Гончаров возвращался с Дальнего Востока сухопутным путём. И здесь его внимание привлекли живые ростки русской цивилизации, не похожей на западноевропейскую. Он встретился с отставным матросом Сорокиным, который основал прочное хозяйство, научил тунгусов выращивать хлеб, а потом пожертвовал землю в пользу церкви и переселился в другое место с той же благородной целью. На всём пространстве от берегов Охотского моря до Якутска «нет ни капли вина». Таков «зародыш не Европы в Азии, а русский, самобытный пример цивилизации, которому не худо бы поучиться» европейцам. Под руководством преосвященного Иннокентия перелагается на якутский язык Евангелие. Материальный прогресс идёт рука об руку с духовным просвещением патриархальных якутских и тунгусских племён. Дадут ли эти зародыши тучные всходы или им суждено погибнуть в суровом краю?
Непростые вопросы задаёт Гончаров. С развитием цивилизации они нисколько не смягчились. Напротив, в конце XX века они приобрели угрожающую остроту. Совершенно очевидно, что технический прогресс с его хищным отношением к природе и человеку подвёл европейскую цивилизацию к роковому рубежу: или нравственное самосовершенствование и смена технологий в общении с природой – или гибель всего живого на земле.
Роман «Обломов»
С 1847 года обдумывал Гончаров горизонты нового романа: эта дума ощутима и в очерках «Фрегат “Паллада”», где он сталкивает тип делового и практичного англичанина с русским помещиком, живущим в патриархальной Обломовке. Да и в «Обыкновенной истории» такое же столкновение двигало сюжет. Неслучайно Гончаров однажды признался, что в «Обыкновенной истории», «Обломове» и «Обрыве» видит он не три романа, а один. Работу над «Обломовым» писатель завершил в 1858 году и опубликовал в первых четырёх номерах журнала «Отечественные записки» за 1859 год. «Обломов» встретил единодушное признание, но мнения о смысле романа резко разделились.
Н. А. Добролюбов о романе
В статье «Что такое обломовщина?» Добролюбов увидел в «Обломове» кризис и распад старой крепостнической Руси. Илья Ильич Обломов – «коренной народный наш тип», символизирующий лень, бездействие и застой всей крепостнической системы отношений. Он – последний в ряду «лишних людей» – Онегиных, Печориных, Бельтовых и Рудиных. Подобно своим старшим предшественникам, Обломов заражён коренным противоречием между словом и делом, мечтательностью и практической никчёмностью. Но в Обломове типичный комплекс «лишнего человека» доведён до парадокса, до логического конца, за которым – распад и гибель человека. Гончаров, по мнению Добролюбова, глубже своих предшественников вскрывает корни обломовского бездействия.
В романе обнажается сложная взаимосвязь рабства и барства. «Ясно, что Обломов не тупая, апатическая натура, – пишет Добролюбов. – Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других, – развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством Обломова, так они взаимно проникают друг в друга и одно другим обусловливаются, что, кажется, нет ни малейшей возможности провести между ними какую-то границу… Он раб своего крепостного Захара, и трудно решить, который из них более подчиняется власти другого. По крайней мере – чего Захар не захочет, того Илья Ильич не может заставить его сделать, а чего захочет Захар, то сделает и против воли барина, и барин покорится…»
Но потому и слуга Захар в известном смысле «барин» над своим господином: полная зависимость от него Обломова даёт возможность и Захару спокойно спать на своей лежанке. Идеал существования Ильи Ильича – «праздность и покой» – является в такой же мере вожделенной мечтою и Захара. Оба они, господин и слуга, – дети Обломовки.
«Как одна изба попала на обрыв оврага, так и висит там с незапамятных времён, стоя одной половиной на воздухе и подпираясь тремя жердями. Три-четыре поколения тихо и счастливо прожили в ней». У господского дома тоже с незапамятных времён обвалилась галерея, и крыльцо давно собирались починить, но до сих пор не починили.
«Нет, Обломовка есть наша прямая родина, её владельцы – наши воспитатели, её триста Захаров всегда готовы к нашим услугам, – заключает Добролюбов. – В каждом из нас сидит значительная часть Обломова, и ещё рано писать нам надгробное слово».
«Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности, – я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.
Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он – Обломов.
Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности тихого шага и т. п., я не сомневаюсь, что он – Обломов.
Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали, – я думаю, что это всё пишут из Обломовки.
Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с не уменьшающимся жаром рассказывающих всё те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода, – я невольно чувствую, что я перенесён в старую Обломовку».
А. В. Дружинин о романе
Так сложилась и окрепла одна точка зрения на роман Гончарова «Обломов», на истоки характера главного героя. Но уже среди первых критических откликов появилась иная, противоположная оценка романа. Она принадлежит либеральному критику А. В. Дружинину, написавшему статью «“Обломов”, роман Гончарова». Дружинин тоже полагает, что характер Ильи Ильича отражает существенные стороны русской жизни, что «“Обломова” изучил и узнал целый народ, по преимуществу богатый обломовщиной, – и мало того, что узнал, но полюбил его всем сердцем, потому что невозможно узнать Обломова и не полюбить его глубоко». И «напрасно многие люди с чересчур практическими стремлениями усиливаются презирать Обломова и даже звать его улиткою: весь этот строгий суд над героем показывает одну поверхностную и быстро преходящую придирчивость. Обломов любезен всем и стоит беспредельной любви…»
В чём же видит Дружинин преимущества Обломова и обломовщины? «Обломовщина гадка, ежели она происходит от гнилости, безнадёжности, растления и злого упорства, но ежели корень её таится просто в незрелости общества и скептическом колебании чистых душою людей перед практической безурядицей, что бывает во всех молодых странах, то злиться на неё значит то же, что злиться на ребёнка, у которого слипаются глазки посреди вечерней крикливой беседы людей взрослых…»
Подход Дружинина к осмыслению Обломова и обломовщины не стал популярным в XIX веке. В эпоху «Великих реформ», в период освобождения России от крепостного права с энтузиазмом была принята добролюбовская трактовка романа. Однако по мере того как восприятие «Обломова» углублялось, статья Дружинина стала привлекать внимание.
Уже в советское время М. М. Пришвин записал в дневнике: «“Обломов”. В этом романе внутренне прославляется русская лень и внешне она же порицается изображением мёртво-деятельных людей (Ольга и Штольц). Никакая “положительная” деятельность в России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя. Это своего рода толстовское “неделание”. Иначе и быть не может в стране, где всякая деятельность, направленная на улучшение своего существования, сопровождается чувством неправоты, и только деятельность, в которой личное совершенно сливается с делом для других, может быть противопоставлена обломовскому покою».
Полнота и сложность характера Обломова
В свете этих диаметрально противоположных трактовок Обломова и обломовщины присмотримся внимательно к тексту романа, в котором явления жизни «вертятся со всех сторон». Первая часть романа посвящена обычному дню жизни Ильи Ильича. Жизнь эта ограничена пределами одной комнаты, в которой лежит и спит Обломов. Внешне здесь происходит очень мало событий. Но картина полна движения. Во-первых, беспрестанно изменяется душевное состояние героя, комическое сливается с трагическим, беспечность с внутренним мучением и борьбой, сон и апатия с пробуждением и игрою чувств. Во-вторых, Гончаров с пластической виртуозностью угадывает в предметах домашнего быта, окружающих Обломова, характер их хозяина. Тут он идёт по стопам Гоголя. Автор подробно описывает кабинет Обломова. На всех вещах – заброшенность, следы запустения: валяется прошлогодняя газета, на зеркалах слой пыли, если бы кто-нибудь решился обмакнуть перо в чернильницу – оттуда вылетела бы муха. Характер Ильи Ильича угадан даже через его туфли, длинные, мягкие и широкие. Когда хозяин не глядя опускал с постели ноги на пол, он непременно попадал в них сразу. Когда во второй части романа Андрей Штольц пытается пробудить героя к деятельной жизни, в душе Обломова царит смятение, и автор передаёт это через разлад с привычными вещами. «“Теперь или никогда!”, “Быть или не быть!”, Обломов приподнялся было с кресла, но не попал сразу ногой в туфлю и сел опять».
Символичен также образ халата в романе и целая история отношений к нему Ильи Ильича. Халат у Обломова особенный, восточный, «без малейшего намёка на Европу». Он как послушный раб повинуется самомалейшему движению тела его хозяина. Когда любовь к Ольге Ильинской пробуждает героя на время к деятельной жизни, его решимость связывается с халатом: «Это значит, – думает Обломов, – вдруг сбросить широкий халат не только с плеч, но и с души, с ума…» Но в момент заката любви вновь появляется образ халата. Новая хозяйка Обломова Агафья Матвеевна Пшеницына сообщает, что она достала халат из чулана и собирается помыть его и почистить.
Связь внутренних переживаний Обломова с принадлежащими ему вещами создаёт в романе комический эффект. Не что-либо значительное, а туфли и халат характеризуют его внутреннюю борьбу. Обнаруживается застарелая привычка героя к покойной обломовской жизни, его привязанность к бытовым вещам и зависимость от них. Но здесь Гончаров не оригинален. Он подхватывает и развивает известный нам по «Мёртвым душам» гоголевский приём овеществления человека. Вспомним, например, описания кабинетов Манилова и Собакевича.
Особенность гончаровского изображения героя заключается в том, что его характер этим не исчерпывается и не ограничивается. Наряду с бытовым окружением в действие романа включаются гораздо более широкие связи, оказывающие воздействие на Илью Ильича. Само понятие среды, формирующей человеческий характер, у Гончарова безмерно расширяется.
Уже в первой части романа Обломов не только комический герой: за юмористическими эпизодами проскальзывают иные, глубоко драматические нотки. Гончаров использует внутренние монологи героя, из которых мы узнаём, что Обломов – живой и сложный человек. Он погружается в юношеские воспоминания, в нём шевелятся упрёки за бездарно прожитую жизнь. Обломов стыдится собственного барства, как личность возвышается над ним. Перед героем встаёт мучительный вопрос: «Отчего я такой?»
Ответ на него содержится в знаменитом «Сне Обломова». Здесь раскрыты обстоятельства, оказавшие влияние на характер Ильи Ильича в детстве и юности. Живая, поэтическая картина Обломовки – часть души самого героя. В неё входит российское барство, хотя барством Обломовка далеко не исчерпывается. Это патриархальный уклад русской жизни не только с отрицательными, но и с глубоко поэтическими его сторонами.
На характер Ильи Ильича оказала влияние природа Обломовки с мягкими очертаниями отлогих холмов, с медленным, неторопливым течением равнинных рек, которые то разливаются в широкие пруды, то стремятся быстрой нитью, то чуть-чуть ползут по камушкам, будто задумавшись. Эта природа, чуждающаяся «дикого и грандиозного», сулит человеку покойную и долговременную жизнь и незаметную, сну подобную смерть.
Под стать природе и создания поэтической фантазии народа. Вот снится Обломову, как «он в бесконечный зимний вечер робко жмётся к няне, а она нашёптывает ему о какой-то неведомой стороне, где нет ни ночей, ни холода, где всё совершаются чудеса, где текут реки мёду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской только и знают, что гуляют все добрые молодцы, такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать».
Обломовка хранит святые слова тихой молитвы перед ликом Спасителя, безграничную любовь и ласку, которыми с детства окружён и взлелеян Илья Ильич. «Мать осыпала его страстными поцелуями», смотрела «жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки, не болит ли что-нибудь, покойно ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли во сне, не было ли у него жару».
Здесь и поэзия деревенского уединения, и картины щедрого русского хлебосольства с исполинским пирогом, и гомерическое веселье, и красота крестьянских праздников под звуки балалайки…
Отнюдь не только рабство да барство формируют характер Ильи Ильича. Есть в нём что-то от сказочного Иванушки, мудрого ленивца, с недоверием относящегося ко всему расчётливому, активному и наступательному. Пусть суетятся, строят планы, снуют и толкутся, начальствуют и лакействуют другие. А он живёт спокойно и несуетно подобно былинному герою Илье Муромцу, который сиднем сидел тридцать лет и три года.
Вот являются к Илье петербургские «калики перехожие», зовут его в странствие по морю житейскому. Чем соблазняет Обломова петербургская жизнь, куда зовут его приятели? Столичный франт Волков сулит ему светский успех, чиновник Судьбинский – бюрократическую карьеру, литератор Пенкин – мелкое литературное обличительство. В жизни этих деловых людей Обломов не видит поприща, отвечающего высшему назначению человека. Так не лучше ли «сиднем сидеть», но сохранить человечность и доброту сердца, чем быть суетным карьеристом, чёрствым и бессердечным?
Приятель Обломова Андрей Штольц поднял-таки лежебоку с дивана, и Обломов какое-то время предаётся той суетной жизни, в которую с головой уходит Штольц. «Однажды, возвратясь откуда-то поздно, он особенно восстал против этой суеты. – “Целые дни, – ворчал Обломов, надевая халат, – не снимаешь сапог: ноги так и зудят! Не нравится мне эта ваша петербургская жизнь!” – продолжал он, ложась на диван. “Какая же тебе нравится?” – спросил Штольц. – “Не такая, как здесь”. – “Что же здесь именно так не понравилось?” – “Всё, вечная беготня взапуски, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности, перебиванья друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг другу, это оглядыванье с ног до головы; послушаешь, о чём говорят, так голова закружится, одуреешь. Кажется, люди на взгляд такие умные, с таким достоинством на лице; только и слышишь: “Этому дали то, тот получил аренду”. – “Помилуйте, за что?” – кричит кто-нибудь. “Этот проигрался вчера в клубе; тот берёт триста тысяч!” Скука, скука, скука!.. Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь?”»
Ясно, что Обломов лежит на диване не только потому, что как барин может ничего не делать, но и потому, что как человек он не желает жить в ущерб своему нравственному достоинству. Его лень воспринимается в романе ещё и как отрицание светской суеты и буржуазного делячества.
Андрей Штольц как антипод Обломова
Обломову противопоставлен в романе Андрей Штольц. Первоначально он мыслился Гончаровым как положительный герой, достойный противовес Обломову. Автор мечтал, что со временем много «Штольцев явится под русскими именами». Он пытался соединить в Штольце немецкое трудолюбие, расчётливость и пунктуальность с русской мечтательностью и мягкостью, с философическими раздумьями о высоком предназначении человека. Отец у Штольца – деловитый бюргер, а мать – русская дворянка.
Но художественного синтеза немецкой практичности и русской душевной широты у Гончарова не получилось. Положительные качества Штольца, идущие от матери, в романе лишь декларированы: в плоть художественного образа они так и не вошли. В Штольце ум преобладает над сердцем. Это натура рациональная, подчиняющая логическому контролю даже самые интимные душевные движения и с недоверием относящаяся к поэзии свободных чувств и страстей. (Штольц – от нем. Stolz – гордый).
В отличие от Обломова, Штольц – энергичный, деятельный человек. Но каково же содержание его деятельности? Какие идеалы вдохновляют Штольца на упорный, постоянный труд? По мере развития романа читатель убеждается, что никаких широких идеалов у героя нет. Примечателен диалог Обломова со Штольцем: «Так когда же жить? – возразил Обломов. – Для чего же мучиться весь век?» – «Для самого труда, больше ни для чего. Труд – образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере, моей».
Цель – ничто, движение – всё. Таков смысл жизни Штольца. Точно так же смотрел на труд Пётр Адуев: «Но что было главною целью его трудов? Трудился ли он для общей человеческой цели, исполняя заданный ему судьбою урок, или только для мелочных причин, чтобы приобресть между людьми чиновное и денежное значение, для того ли, наконец, чтобы его не гнули в дугу нужда, обстоятельства? Бог его знает. О высоких целях он разговаривать не любил, называя это бредом, а говорил сухо и просто, что надо дело делать».
Не потому ли за русским буржуа проглядывает в Штольце образ Мефистофеля. Как Мефистофель Фаусту, Штольц в виде искушения «подсовывает» Обломову Ольгу Ильинскую. Ещё до знакомства её с Обломовым Штольц обговаривает условия такого «розыгрыша». Перед Ольгой ставится задача – поднять с кровати лежебоку Обломова и вытащить его в большой свет.
Обломов и Ольга Ильинская
Если чувства Обломова к Ольге искренни и простодушны, то в намерениях Ольги ощутим последовательный расчёт. Даже в минуты увлечения она не забывает о своей миссии: «ей нравилась эта роль путеводной звезды, луча света, который она разольёт над стоячим озером и отразится в нём». Выходит, Ольга любит в Обломове не самого Обломова, а своё собственное отражение. Для неё Обломов – «какая-то Галатея, с которой ей самой приходилось быть Пигмалионом».
Но что же предлагает Ольга Обломову взамен его лежания на диване? Какой свет, какой лучезарный идеал, какую путеводную звезду? Увы, программу пробуждения Обломова в умненькой головке Ольги вполне исчерпывает штольцевский горизонт: читать газеты, хлопотать по устройству имения, ехать в приказ. Всё то же, что советует Обломову и Штольц: «…Избрать себе маленький круг деятельности, устроить деревушку, возиться с мужиками, входить в их дела, строить, садить – всё это ты должен и сможешь сделать».
Как писал русский поэт начала XX века И. Ф. Анненский, «Ольга миссионерка умеренная, уравновешенная. В ней не желание пострадать, а чувство долга… Миссия у неё скромная – разбудить спящую душу. Влюбилась она не в Обломова, а в свою мечту. Робкий и нежный Обломов, который относился к ней так послушно и так стыдливо, любил её так просто, был лишь удобным объектом для её девической мечты и игры в любовь. Но Ольга – девушка с большим запасом здравого смысла, самостоятельности и воли, главное. Обломов первый, конечно, понимает химеричность их романа, но она первая его разрывает.
Один критик зло посмеялся и над Ольгой, и над концом романа: хороша, мол, любовь, которая лопнула, как мыльный пузырь, оттого, что ленивый жених не собрался в приказ. Мне конец этот представляется весьма естественным. Гармония романа кончилась давно, да она, может, и мелькнула всего на два мгновения в Castadiva, в сиреневой ветке; оба, и Ольга и Обломов, переживают сложную, внутреннюю жизнь, но уже совершенно независимо друг от друга; в совместных отношениях идёт скучная проза, когда Обломова посылают то за двойными звёздами, то за театральными билетами, и он, кряхтя, несёт иго романа. Нужен был какой-нибудь вздор, чтобы оборвать эти совсем утончившиеся нити».
Не потому ли, ярко вспыхнув, быстро угасает любовь Обломова и Ольги? Достоинство Ильи Ильича заключается в том, что он лишён самодовольства и сознаёт своё душевное падение: «Начал гаснуть я над писанием бумаг в канцелярии; гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни, гаснул с приятелями, слушая толки, сплетни, передразниванье… Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится, а лучшего я ничего не знал, не видал, никто не указал мне его… да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что двенадцать лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только жёг свою тюрьму, не вырвался на волю и угас».
Исследователь творчества Гончарова В. И. Мельник в статье «“Обломов” как православный роман» заметил следующее: «Гончаров, несомненно, намекал на заповеди блаженства, когда упоминал в романе устами других героев “чистое сердце” Ильи Ильича. Ибо среди евангельских блаженств упоминается и это: “Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят” (Мф.5:8). Может быть, стоит обратить внимание на то, что Обломов не только чист сердцем, но и кроток (Ольга в прощальном разговоре говорит: “Ты кроток… Илья”). И здесь вспоминается ещё одно евангельское блаженство: “Блажени кротцыи, яко тии наследят землю” (Мф.5:5). В самые патетические минуты своей жизни Илья Ильич плачет. И это не случайно у Гончарова, помнящего о Нагорной проповеди Христа: “Блажени плачущии, яко тии утешатся” (Мф.5:4). Слёзы Обломова, заметим, это не злые слёзы эгоизма или оскорбленного самолюбия. Гончаров, видимо, не случайно всегда подробно и тщательно выписывает, как именно плачет Илья Ильич. В прощальной сцене с Ольгой, например, это не только слёзы об утраченной навсегда любви, но и слёзы покаяния. На жестокое слово Ольги (“А нежность… где ее нет!”) Обломов “в ответ улыбнулся как-то жалко, болезненно-стыдливо, как нищий, которого упрекнули его наготой. Он сидел с этой улыбкой бессилия, ослабевший от волнения и обиды; потухший взгляд его ясно говорил: “Да, я скуден, жалок, нищ… бейте, бейте меня!”
Так же многозначительно показаны и слёзы Ильи Ильича при воспоминании о матери: “Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней: у него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две тёплые слезы” (“Сон Обломова”).
Сцена прощания Ольги с Обломовым – кульминационная точка христианской концепции романа. Здесь Обломов, сделавший было попытку побороть свой грех “обломовщины”, окончательно расстается со своей надеждой, впадая в своего рода отчаяние. Концентрированно выражен упрёк и претензии Ольги в одной фразе: “… Ты прячешь голову под крыло – и ничего не хочешь больше… да я не такая: мне мало этого… Можешь ли ты научить меня, сказать, что это такое, чего мне недостаёт, дать это всё… А нежность… где её нет!”. Комментируя это Ольгино высказывание, автор несколько раз говорит о нищете Обломова: “Он в ответ улыбнулся как-то жалко, болезненно-стыдливо, как нищий”. “Да, я жалок, скуден, нищ… бейте, бейте меня!..” В сущности ведь Ольга упрекнула Обломова в нищете духа. Ибо Ольга горда, мудра мудростью земной. Обломов принимает упрек, но вместе с ним и ещё нечто, ибо сказано: “Блажени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное” (Мф.5:3)».
«Отчего его пассивность не производит на нас ни впечатления горечи, ни впечатления стыда? – задавал вопрос тонко чувствовавший Обломова И. Ф. Анненский и отвечал на него так: – Посмотрите, что противопоставляется обломовской лени: карьера, светская суета, мелкое сутяжничество или культурно-коммерческая деятельность Штольца. Не чувствуется ли в обломовском халате и диване отрицание всех этих попыток разрешить вопрос о жизни? Отойдём на минутку, раз мы заговорили об обломовской лени и непрактичности, к практичным и энергичным людям в гончаровских же романах.
Вот Адуев-дядя и вот Штольц. Адуев-дядя – это ещё первое издание и с опечатками. Он трезв … речист, но не особенно умён, только оборотист и удачлив, а потому и крайне самоуверен. Колесницу его, адуевского, счастья везут две лошади: фортуна и карьера, а все эти искусства, знания, красота личной жизни, дружба и любовь ютятся где-то на козлах, на запятках – в самой колеснице одна его адуевская особа. Дядя Адуев раз проврался и был уличён молодой женой в хвастовстве.
Но ничего подобного не может случиться со Штольцем: Штольц – человек патентованный и снабжён всеми орудиями цивилизации, от Рандалевской бороны до сонаты Бетховена, знает все науки, видел все страны: он всеобъемлющ, одной рукой он упекает Пшеницынского братца, другой подаёт Обломову историю изобретений и открытий; ноги его в это время бегают на коньках… язык побеждает Ольгу, а ум занят невинными доходными предприятиями. Уж, конечно, не в этих людях поэтическая правда Гончарова видела идеал. Эти гуттаперчевые человечки, несмотря на все фабрики и сонаты, капиталы, общее уважение и патенты на мудрость, не могут дать счастье простому женскому сердцу. И Гончаров в неясном или безмолвном упрёке их жён произносит приговор над своими мещанскими героями».
В финале романа угасает не только Обломов. Окружённая мещанским комфортом Ольга начинает всё чаще испытывать острые приступы грусти и тоски. Её тревожат вечные вопросы о смысле жизни, о цели человеческого существования. И что же предлагает ей в ответ «бескрылый» Штольц? «Мы не титаны с тобой… мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту…». Перед нами, в сущности, самый худший вариант обломовщины, потому что у Штольца она тупая и самодовольная.
Историко-философский смысл романа
В конфликте Обломова со Штольцем за социальными и нравственными проблемами просвечивает ещё и другой, историко-философский смысл. Печально-смешной Обломов бросает в романе вызов современной цивилизации с её идеей исторического прогресса. «И сама история, – говорит он, – только в тоску повергает: учишь, читаешь, что вот-де настала година бедствий, несчастлив человек; вот собирается с силами, работает, гомозится, страшно терпит и трудится, всё готовит ясные дни. Вот настали они – тут бы хоть сама история отдохнула: нет, опять появились тучи, опять здание рухнуло, опять работать, гомозиться… Не остановятся ясные дни, бегут – и всё течёт жизнь, всё течёт, всё ломка да ломка».
Обломов готов выйти из суетного круга истории. Он мечтает о том, чтобы люди угомонились наконец и успокоились, бросили погоню за призрачным комфортом, перестали заниматься техническими играми, оставили большие города и вернулись к деревенскому миру, к простой, непритязательной жизни, слитой с ритмами окружающей природы. Здесь герой Гончарова в чём-то предвосхищает мысли позднего Л. Н. Толстого, отрицавшего технический прогресс, звавшего людей к опрощению и к отказу от излишеств цивилизации.
Творческая история романа «Обрыв»
Поиски путей органического развития России, снимающего крайности патриархальности и буржуазного прогресса, продолжил Гончаров и в последнем романе – «Обрыв», законченном в 1868 году и опубликованном на страницах журнала «Вестник Европы» в 1869-м. Этот роман увенчал задуманную писателем трилогию. Именно «Обрыв» связал два предшествующих ему романа: в нём нашли окончательное разрешение те вопросы, которые были поставлены в «Обыкновенной истории» и «Обломове». Если «Обыкновенная история» – фундамент храма, «Обломов» – стены и своды его, то «Обрыв» – замок свода и купол с крестом, устремлённым к небу.
На единство трёх романов указывает и то, что замысел их возник почти одновременно, в конце 1840-х годов. Писатель только что опубликовал «Обыкновенную историю», набросал «Сон Обломова» и посетил в 1849 году Симбирск. «Тут, – вспоминал он, – толпой хлынули ко мне старые, знакомые лица, я увидел ещё не отживший тогда патриархальный быт и вместе новые побеги, смесь молодого со старым. Сады, Волга, обрывы Поволжья, родной воздух, воспоминания детства …»
В «Обрыве» гораздо больше личного и автобиографического, чем в предшествующих романах: усадьба Малиновка – пригородное поместье матери с превосходными видами на Заволжье и страшным обрывом, куда не пускали в детстве маленького Ваню; религиозная атмосфера в доме Гончаровых; трогательная дружба Авдотьи Матвеевны с другом дома Н. Н. Трегубовым, напоминающая отношения бабушки с Титом Никонычем Ватутиным. В 1849 году Гончаров встретил в Симбирске двух юных племянниц своих, Софью и Екатерину Кирмаловых, которых очень любил и которые послужили прототипами Марфеньки и Веры в первоначальном плане романа, набросанном тогда же.
Но замысел «Обрыва» вынашивался долго. Сыграли свою роль внешние препятствия: кругосветное путешествие на фрегате «Паллада», потом – работа над «Обломовым», потом – цензорская служба. Но главная причина была в другом. Это произведение с самого начала было задумано как финальное, объединяющее все сюжетные мотивы предшествующих романов, разрешающее все намеченные в них конфликты. А русская жизнь второй половины ХIХ века, бурная и стремительная, очень трудно поддавалась итоговым обобщениям. Об этом говорит и эволюция замысла последнего романа, достаточно сложная и драматичная.
Сначала роман назывался «Художник». В Райском Гончаров хотел показать проснувшегося Обломова. Основной конфликт произведения строился по-прежнему на столкновении России старой, патриархальной, с новой, деятельной и практической, но решался он в первоначальном замысле торжеством России молодой. Соответственно, в характере бабушки резче проступали деспотические замашки старой помещицы-крепостницы. И напротив, Марк Волохов мыслился героем, ссылаемым за свои убеждения в Сибирь. А центральная героиня романа, гордая и независимая Вера, порывала с «бабушкиной правдой», уезжая вслед за Волоховым.
К реализации этого замысла Гончаров приступил в 1858 году, после завершения книги «Фрегат “Паллада”» и романа «Обломов». Но вскоре работа снова приостановилась, начался период мучительного переосмысления как замысла романа в целом, так и его финала. Это связано с обострением социальных противоречий в пореформенный период, с болезненными процессами в русском революционно-демократическим движении.
Разыгралась драма в близкой Гончарову семье Владимира Николаевича Майкова и его жены Екатерины Павловны. Писатель, так и не свивший своего «гнезда», был родственно привязан к этому семейству. Он преклонялся перед артистически одарённой Екатериной Павловной, с широким кругозором, литературным чутьём, увлечённой вместе с мужем созданием нового детского журнала «Подснежник», первый номер которого вышел в 1858 году.
И вдруг всё изменилось. В доме Майковых появился молодой учитель Любимов, типичный демократ-шестидесятник, «нигилист». Екатерина Павловна страстно увлеклась учением «нового апостола», безоглядно влюбилась в него, бросила семью, оставив на попечении мужа троих детей.
Гончаров тщетно пытался предотвратить семейную драму. Незадолго до ухода Екатерины Павловны он предостерегал её от неверного шага, указывал на разрушительность новомодных учений: «Жизнь трудна и требует жертв, – говорил Гончаров. – А их, по новому учению, приносить не нужно…». В этих словах писателя – зерно диалога Веры с Марком Волоховым в окончательном варианте романа. В его замысле теперь многое изменилось. В бабушке, Татьяне Марковне Бережковой, Гончаров увидел хранительницу непреходящих и вечных национальных святынь, а в поведении молодых героев романа – губительные «падения» и «обрывы». Изменилось и название романа: на смену нейтральному – «Художник» – пришло драматическое – «Обрыв».
Если в прошлых романах Гончарова в центре был один герой, а сюжет сосредоточивался на раскрытии его характера, то в «Обрыве» эта целеустремленность исчезает. Здесь множество сюжетных линий и соответствующих им героев. Усиливается в «Обрыве» и мифологический подтекст гончаровского реализма. Нарастает стремление возводить текучие минутные явления к коренным и вечным жизненным основам. Гончаров вообще был убежден, что жизнь при всей её подвижности удерживает неизменные устои. И в старом, и в новом времени эти устои не убывают, а остаются непоколебимыми. Благодаря им жизнь не погибает и не разрушается, а пребывает и развивается.
Живые характеры людей, а также конфликты между ними прямо возводятся в романе «Обрыв» к мифологическим основам, как русским, национальным, так и библейским. Бабушка – это и женщина 1840–60-х годов, но одновременно и старая Россия с её устойчивыми, веками выстраданными нравственными ценностями, едиными и для дворянского поместья, и для крестьянской избы. Вера – это и эмансипированная девушка 1840–60-х годов с независимым характером и гордым бунтом против авторитета бабушки. Но это и молодая Россия во все эпохи и все времена с её свободолюбием, с доведением всего до последней, крайней черты. А за любовной драмой Веры с Марком встают древние сказания о блудном сыне и падшей дочери. В характере же Волохова ярко выражено анархическое, буслаевское начало.
Райский
Композиция «Обрыва» – это роман в романе. Пишет роман Райский, но завершает его Гончаров. Райский – человек непостоянный, дилетант, часто меняющий свои пристрастия. Он то живописец, то скульптор, то музыкант, то писатель. «Натура артистическая», он «восприимчив, впечатлителен, с сильными задатками дарований, но всё-таки он сын Обломова». Все события, все герои романа даются в восприятии этого переменчивого человека. В результате жизнь изображается в самых разнообразных ракурсах: глазами живописца, музыканта, скульптора, писателя. Райский – посредник: он помогает Гончарову создать объёмное изображение, показать предметы со всех сторон.
Однако это лишь одна и не определяющая функция героя в романе. По мысли писателя, Райский заражён духовной болезнью, поразившей всё современное общество. Она увлекает Россию к катастрофе, последствия которой даны в тонком сне[49] бабушки: «Ей наяву снилось, как царство её рушилось и как на месте его легла мерзость запустения в близком будущем… Озираясь на деревню, она видела – не цветущий, благоустроенный порядок домов, а лишенный надзора и попечения ряд полусгнивших изб – притон пьяниц, нищих, бродяг и воров. Поля лежат пустые, поросшие полынью, лопухом и крапивой…Сад, цветник, огороды смешались в одну сплошную кучу, спутались и поросли былием. Туда не заходит человек, только коршун, утащив живую добычу, терзает её там на просторе. Новый дом покривился и врос в землю; людские развалились; на развалинах ползает и жалобно мяучит одичалая кошка, да беглый колодник прячется под осевшей кровлей».
Здесь предсказана картина распада, которая ждёт Россию на путях атеистического соблазна и нравственного самозаконодательства. Ведь корни дилетантизма Райского уходят не только в его «обломовщину». Они имеют ещё и другие, более глубокие мировоззренческие истоки – безверие, равнодушие к национальным святыням. Примечателен разговор Райского с Верой: «“Что так трезвонили сегодня у Спаса, – спросил он, – праздник что ли завтра?” – “Не знаю, а что?” – “Так, звон не давал мне спать, и мухи тоже”».
Перед нами одарённый человек с потерянной духовной вертикалью. Творческие силы Райского, лишённые духовного центра, разбегаются в разные стороны. Происходит душевная «разволока», причину которой раскрыл современник Гончарова святитель Феофан Затворник. В книге «Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться?» он сказал: «Когда дух не удовлетворяется и сие единое на потребу забыто, то тогда все другие потребности разбегаются в разные стороны и каждая требует своего, и как их куча, то голоса их, как шум на базаре, оглушают бедного человека, и он мечется то туда, то сюда, как угорелый, за удовлетворением их…»[50] Райский, вплоть до последней, пятой части романа, – пассивный слуга противоречивых страстей, теряющий на каждом шагу своё собственное «я». В его душе отсутствует «храм», без которого талант разбрасывается и растрачивается впустую.
По свойству своей натуры Райский как будто бы предназначен будить людей от духовного сна, звать вперёд. Взгляды Райского на исторический прогресс во многом совпадают с авторскими. Подобно Гончарову, он решительный противник безоглядных ломок, революционных потрясений. Он приветствует лишь те перемены, которые «видоизменяют», но не «ломают» жизнь, которые опираются на традиции, завещанные историей, на знания, добытые наукой, на прочные, выработанные опытом жизни убеждения. Автору «Обрыва» до известной степени близок и другой аспект этих взглядов: Райский верит в духовный прогресс сильнее, нежели материалисты – в утилитарный. Но в различном понимании духовного прогресса Гончаровым и его героем скрыт основной узел романа.
В «Предисловии к роману ‘‘Обрыв’’» Гончаров утверждал: «Мыслители говорят, что ни заповеди, ни Евангелие ничего нового не сказали и не говорят, тогда как наука прибавляет ежечасно новые истины. Но в нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого требует Евангелие, а это едва ли не труднее достижения знания».
Духовный прогресс, по Гончарову, состоит не в нравственном «самозаконодательстве», а в напряжённом и упорном приближении каждого к тем богооткровенным истинам, которые даны свыше, безусловны, абсолютны и не нуждаются в обновлении. Здесь взгляды Гончарова перекликаются с Достоевским и полностью совпадают с убеждениями Гоголя, который писал в статье «Христианин идёт вперёд»: «Для христианина нет оконченного курса: он вечно ученик, до самого гроба ученик… Перед христианином сияет вечно даль, и видятся вечные подвиги».
Райский же понимает «духовный прогресс» иначе. Он видит в нём не приближение к вечным духовным ценностям Евангелия, а собственные представления о красоте, которые у него очень непостоянны и переменчивы. Обращаясь к Вере, Райский говорит: «Красота – и цель, и двигатель искусства, а я художник…» Подобно Тургеневу, Боткину и другим «идеалистам сороковых годов», Райский возводит искусство в культ. Художники в его глазах являются вождями человечества.
На практике это приводит Райского к деспотическому отношению к жизни, которая постоянно расходится с эстетическими миражами, порождаемыми его «необузданной» фантазией. Райский попадает в плен к своим переменчивым эстетическим озарениям, которые влекут его в разные стороны, вводят в бесконечные соблазны далеко не безобидного свойства. На судьбе Райского Гончаров показывает, что эстетическая сфера душевной жизни человека, предоставленная самой себе, себя обожествляющая, неизбежно и неотвратимо увлекает личность за грани нравственного в область сомнительных чувственных наслаждений. Без духовного контроля она становится слепой, неуправляемой и превращает человека в игралище страстей.
Лишённая собирающего и объединяющего центра, «разнузданная» фантазия Райского никак не может собрать в роман многочисленные этюды, эскизы, наброски, отмеченные искрой таланта, но довлеющие себе, отрывочные и разбросанные, лишённые духовной связи, которая и организует единство художественного произведения.
Дело Райского – создание романа – завершает Гончаров. Не Райский, а творец романа озабочен тем, что исторический прогресс, достигая больших материальных успехов, не сопровождается прогрессом нравственным, а скорее наоборот. Научно-технические достижения, как древние языческие боги, требуют в качестве жертвы неуклонного понижения нравственного уровня общества. Исчезает вера в бессмертие души, в вечную жизнь, в лучший край за земным порогом. Цивилизация рождает новую породу людей с атрофированными духовными запросами, «без привязанностей, без детей, без колыбелей, без братьев и сестёр, без мужей и жён, а только с мужчинами и женщинами. Жизнь здесь – игра страстей, цель – нескончаемое наслаждение».
Именно это губит в самом начале романа чистую любовь Наташи к Райскому, любовь без «пожирающего душу пламени», самозабвенную, способную прощать избраннику всё. Однако «тихий рай» с Наташей уже не удовлетворяет искушённого соблазнами Райского: он ищет «ада» и «молний» там, где был только «свет лампады и цветы». «Как змей», он подползает к Наташе, убирается «в её цветы», «ткёт узор» своего «счастья». А результат этого «узора» – трагический.
Выступая первоначально в роли искусителя то по отношению к Марфиньке, то по отношению к Вере, Райский «обжигается» страстью сам. Жизнь готовит ему суровый урок: она ставит под сомнение его взгляд на страсть как на законное и красивое чувство, которому человек должен отдаваться, не размышляя. «Вот где гнездится змея!» – думает он теперь.
В романе активно звучат античные мотивы, а многие ситуации и характеры героев обретают мифологическую подсветку, восходят к архетипам древнего язычества. Писателю кажется, что современная цивилизация всё чаще и упорнее соскальзывает с христианских на языческие пути. Друг Райского по университету, учитель латинского языка Леонтий Козлов, например, верит, что со временем наступит неизбежное возвращение античности в общественных отношениях между людьми. Он и прогресс мыслит по-своему: «Как не веровать в прогресс! Мы потеряли дорогу, отстали от великих образцов, утратили многие секреты их бытия». Именно в реставрации дохристианской, языческой культуры видит Леонтий Козлов смысл движения истории.
Поэтому важную роль в романе играет пророческий сон бесхитростной христианки Марфеньки о воскресении языческих богов, античных статуй: «Страшно, бабушка. Вдруг будто статуи начали шевелиться… Только Геркулес не двигался. Вдруг и он поднял голову, потом начал тихо выпрямляться, плавно подниматься с своего места. Большой такой, до потолка! Он обвёл всех глазами, потом взглянул в мой угол… и вдруг задрожал, весь выпрямился, поднял руку, все в один раз взглянули туда же, на меня – на минуту остолбенели, потом все кучей бросились прямо ко мне…» Мотив оживших античных статуй имеет в романе глубокий символический смысл. Неслучайно сон, так испугавший Марфеньку, вызвал искреннее восхищение у Райского. Для него этот сон – «грациозный» и «поэтический».
Но в свете драматической правды этого сна проясняется глубина трагедии, переживаемой Леонтием Козловым в финале романа. Любуясь профилем своей жены Уленьки, напоминающем античные камеи, Леонтий не замечает застывшего в чертах её лица сдержанного, демонического смеха. Но когда Уленька-камея окончательно «раскрепощается» и оживает, чувственное начало в ней торжествует над иллюзией красоты, попирая всё одухотворённое и человеческое. Бегство Уленьки от мужа с любовником Шарлем – не только личная, интимная драма Леонтия. Одновременно это крах всех его верований и надежд, попрание смысла его педагогического труда, полная жизненная катастрофа. Именно так всё случившееся он и переживает. Поэтому история Леонтия не замкнута в себе, а включена в общий ход романа об искушении и грехопадении. Она косвенно перекликается с главным его конфликтом – с трагическим опытом Веры. Тот же путь проходит и Райский.
В первой части романа мы застаём Райского в Петербурге. Столичная жизнь соблазняла героев «Обыкновенной истории» и «Обломова». Теперь никто не обольщается ею: деловому, бюрократическому Петербургу Гончаров решительно противопоставляет провинцию. Если раньше писатель искал новых людей в энергичных, деловых сферах столицы, то теперь он рисует их ироническими красками. Таков омертвевший чиновник Аянов, такова светская кукла, кузина Райского Софья Беловодова.
Расставаясь с Петербургом, Райский бежит в провинцию, в свою усадьбу Малиновку. Убеждённый в преимуществах столичной жизни, он ждёт в Малиновке идиллию с курами и петухами и как будто получает её. Первое впечатление Райского – Марфенька, кормящая голубей и кур.
Но внешние впечатления обманчивы. Не столичная, а провинциальная жизнь открывает перед Райским неисчерпаемую, неизведанную глубину. Он по очереди знакомится с обитателями российского «захолустья», и каждое знакомство превращается в приятную неожиданность.
Бабушка
Хранительницей устоев русской жизни в романе является бабушка, в самой фамилии которой – Бережкова – есть намёк на устойчивые жизненные берега. Под её присмотром усадьба Райского Малиновка превращается в обетованный уголок, напоминающий об утраченном рае: «Какой эдем распахнулся ему в этом уголке, откуда его увезли в детстве… Какие виды кругом – каждое окно в доме было рамой своей особенной картины! С одной стороны Волга с крутыми берегами и Заволжьем; с другой – широкие поля, обработанные и пустые, овраги, и всё это замыкалось далью синевших гор. С третьей стороны видны села, деревни и часть города. Воздух свежий, прохладный, от которого, как от летнего купанья, пробегает по телу дрожь бодрости.
Дом весь был окружен этими видами, этим воздухом, да полями, да садом. Сад обширный около обоих домов, содержавшийся в порядке, с тёмными аллеями, беседкой и скамьями… Подле сада, ближе к дому, лежали огороды. Там капуста, репа, морковь, петрушка, огурцы, потом громадные тыквы, а в парнике арбузы и дыни. Подсолнечники и мак, в этой массе зелени, делали яркие, бросавшиеся в глаза, пятна; около тычинок вились турецкие бобы.
На маленький домик с утра до вечера жарко лились лучи солнца, деревья отступили от него, чтоб дать ему простора и воздуха. Только цветник, как гирлянда, обвивал его со стороны сада, и махровые розы, далии и другие цветы так и просились в окна. Около дома вились ласточки, свившие гнезда на кровле; в саду и роще водились малиновки, иволги, чижи и щеглы, а по ночам щёлкали соловьи.
Двор был полон всякой домашней птицы, разношёрстных собак. Утром уходили в поле и возвращались к вечеру коровы и козёл с двумя подругами. Несколько лошадей стояли почти праздно в конюшнях. Над цветами около дома реяли пчёлы, шмели, стрекозы, трепетали на солнце крыльями бабочки, по уголкам жались, греясь на солнышке, кошки, котята».
Всё в этом описании напоминает «рай сладости», лучшее место на земле, которое Бог дал нашим прародителям. В райском мире, ещё не замутнённом грехопадением, они жили в постоянном общении с Богом, возделывая дарованную им землю, где не было ни губительных страстей, ни страха, ни смерти, ни воздыхания и печали. Природа райского сада ласкала их теплом, светом и довольствием. Растения, птицы и животные не знали раздора и вражды и были в полном подчинении у человека, доверчиво признавая в нём своего хозяина.
После грехопадения мечта об утраченном рае сохранилась в генетической памяти человечества. Отголоски её слышатся в русских народных легендах о благодатной земле с молочными реками и кисельными берегами. В этой стране зимы не бывает, и люди живут в справедливости, не обременяя себя непосильным трудом.
Вот и в Малиновке птицы как бы приручены человеком: и ласточки, доверчиво вьющие гнёзда на кровле, и полный двор всякой домашней птицы, котят и кошек, разношёрстных собак. Мир Малиновки хранит следы жизни до грехопадения: всё в этом царстве обращено к человеку и одомашнено. Сами утром уходят в поле, а вечером возвращаются домой коровы и козы. И девочки, Вера и Марфенька, под нестеснительной опекой бабушки живут в Малиновке, как «птички небесные». А Бабушка, подобно доброму пастырю, содержит, возделывает этот райский уголок.
У бабушки – своя жизненная философия. Она считает, что во всех бедах и несчастьях, случающихся с человеком, повинны в первую очередь не внешние обстоятельства, не «среда», как думают молодые либералы в кругу Райского, а сам пострадавший: «Если кто несчастен, погибает, свихнулся, впал в нищету, в крайность, как-нибудь обижен, опорочен и поправиться не может, значит, – сам виноват».
Источник неудач – греховные дела и поступки человека, греховные его помыслы. Если будешь работать над собой, совершенствоваться духовно, раскаиваться искренно в своих грехах, – Бог простит. «А кто всё спотыкается, падает и лежит в грязи, значит, не прощён, а не прощён потому, что не одолеет себя».
Марфенька
Чудесным цветком райского сада бабушки является её младшая внучка Марфенька. Она летает, как сильф, по грядкам и цветнику, блестя красками здоровья, весёлостью серо-голубых глаз. Вся она кажется Райскому какой-то радугой из этих цветов, лучей, тепла и красок весны.
Её желания и помыслы не выходят из очерченных бабушкой границ, и когда Райский спрашивает Марфеньку, не хочется ли ей испытать другой жизни, она отвечает: «Нет, чего не знаешь, так и не хочется. Вон Верочка, той всё скучно… всё ей будто чужое здесь… она не здешняя. – А я – ах, как мне здесь хорошо: в поле с цветами, с птицами, как дышится легко!.. Нет, нет, я здешняя, я вся вот из этого песочку, из этой травки! Не хочу никуда».
Вера
Но в поэтическую тему возвращённого рая, связанную с бабушкой и Марфенькой, вторгается в роман другой библейский мотив – искушения и грехопадения. Даже в идиллическом описании райской обители появляются диссонансы: старый дом в глубине сада, как бельмо в глазу, – серый, полинявший, с забитыми окнами и поросшим крапивой крыльцом; обрыв, которым заканчивается бабушкин сад, с жутковатым преданием о страшном преступлении, разыгравшемся некогда на дне оврага.
Отец Райского приказал выкопать ров, чтобы чётко обозначить границу сада, за её пределы никто из старых жителей усадьбы не дерзал выходить, а тем более спускаться на дно оврага. Но с тех пор много воды утекло. Пришли новые времена, новые люди. «Плетень, отделявший сад Райских от леса, давно упал и исчез. Деревья из сада смешались с ельником и кустами шиповника и жимолости, переплелись между собою и образовали глухое, дикое место, в котором пряталась заброшенная полуразвалившаяся беседка».
В контексте романа этот «пейзаж» приобретает не только бытовой, но ещё и глубоко символический смысл. Для родителей Райского границы сада были священны, но современный человек, назвав предрассудками Богом данные заповеди, легко через них переступил. Символична в этой связи и та часовня перед обрывом неподалёку от сада, в которой тщетно ищет защиты от соблазнов юная Вера. Здание её обветшало, образ Спасителя «почернел от времени, краски местами облупились», так что «едва можно было рассмотреть черты Христа». Эта часовня – метафора, зеркало запущенных душ современных людей.
«Привередница, дикарка!» – так определяет строптивую Веру бабушка. С детских лет она тянется к независимости и свободе, терпеть не может никаких стеснений, стараясь избавиться от опеки. В Малиновке Веру притягивает прежде всего то, что пугает и отталкивает всех её обитателей: старый дом, окутанный какой-то страшной тайной, пустой и заброшенный; обрыв и беседка на дне его; заросшие и заброшенные уголки сада.
Ещё девочкой Вера тянется к своеволию, ей хочется вкусить запретный плод: она любит тихонько срывать вороняшку – «чёрную, приторно-сладкую ягоду, растущую в канавах и строго запрещённую бабушкой». Вера охотно откликается на всё необычное, эксцентрическое, выходящее за пределы признанных в обществе традиций, преданий и авторитетов. Именно в ней наиболее ярко представлены сильные и слабые стороны молодой России, освобождающейся от бремени авторитарной морали и попадающей в плен своевольных, эгоистических страстей.
«Просветитель» Веры – нигилист Марк Волохов
Любовный роман Веры и Марка Волохова напоминает богословско-философский поединок. Вера убеждена, что всякая любовная связь мужчины и женщины, не освящённая таинством брака, греховна и безнравственна. Брак обязывает супругов хранить верность друг другу, идти на взаимные уступки и жертвы, поступаться личными желаниями во имя общего семейного блага и святости брачных уз.
Марк Волохов, напротив, убеждён, что все эти нравственные ограничения – призрачная выдумка приверженцев старины, ветошь, которую нужно выбросить. «Правду» любви он видит лишь в том, чтобы отдаваться влечениям желаний и страстей, отдаваться безоглядно, не смущаясь и не размышляя. «Аргументация Марка, – пишет Ю. М. Лощиц, – носит, так сказать, “естественнонаучный” характер… Птички небесные греха не знают. Звери и животные над этим понятием голову напрасно не ломают. Пестики и тычинки живут безо всяких покровов. Весь животный мир плодится и размножается без угрызений совести, только люди зачем-то придумали стыд и грех»[51].
А потому Марк предлагает Вере «срочную» любовь без всяких предварительных условий и обязательств: «…не насиловать привязанности, а свободно отдаваться впечатлению и наслаждаться взаимным счастьем», пока оно есть, а кончится страсть – разойтись в разные стороны, «не унося с собой никаких «долгов», «правил» и «обязанностей».
В потрясённой и смятённой России, переживающей кризис духовных основ бытия, в человеке высвобождаются животные инстинкты. Охваченная жестокой страстью, Вера говорит Райскому: «Все вы звери». Понижение человека до животного уровня нигилисты обосновывают теоретически. Марк Волохов «развенчал человека в один животный организм, отнявши у него другую, не животную сторону. В чувствах видел только ряд кратковременных встреч и грубых наслаждений, обнажая их даже от всяких иллюзий, составляющих роскошь человека, в которой отказано животному». И когда Вера спрашивает Марка: «Вы, конечно, несерьёзно указали вокруг, на природу, на животных…», – Марк грубо перебивает её: «А вы – не животное? Дух, ангел – бессмертное создание?»
Символичен в романе сон Викентьева о превращении людей в скотоподобные существа: «…“Я будто иду по горе, к собору, а навстречу мне будто Нил Андреич, на четвереньках, голый… А верхом на нём будто Полина Карловна, тоже… Сзади будто Марк Иванович погоняет Тычкова поленом, а впереди Опёнкин со свечой, и музыка…” Все захохотали». Однако в контексте романа сон этот приобретает далекий от комедийной окраски смысл.
Известная русская пословица «Бог шельму метит» связана с вековым наблюдением: человек всегда уподобляется тому, во что он верит. Марк не только в теории низводит человека до животного. Он и внешне похож на него. Этот «безбожник», который никогда в церковь не ходит и смеётся над религией, приобрёл хищные, волчьи повадки. Руки у него длинные, кисти их цепкие, примечателен смелый и вызывающий взгляд его серых глаз. «Сжавшись в комок», он сидит неподвижно, но за этим таится зоркость и чуткость, подобная той, «какая заметна иногда в лежащей, по-видимому, покойно и беззаботно собаке».
Он и ведёт себя так, что заслуживает данную ему Верой характеристику: «Прямой вы волк!» В спорах с Верой Марк трясёт головой, «как косматый зверь», и, не добившись своего, покидает её «непокорным зверем, уходящим от добычи». А когда наступила минута его торжества, он поднял Веру «на грудь» и «как зверь, помчался в беседку, унося добычу…»
В изображении этого обольстителя и искусителя молодых душ современная Гончарову критика обратила внимание на его обытовлённый, поверхностный нигилизм и стала говорить о том, что писатель опошлил тип современного радикала. Однако следует обратить внимание на то, что «странности» в поведении героя несут в романе не только буквальный, бытовой, но и символический смысл. Начнём с имени героя. Оно ведь у него апостольское, потому что Марк претендует на роль проповедника нового вероучения среди гимназистов, а Евангелие от Марка было адресовано римской молодёжи.
Совращая молодых людей с «прямой дороги», Волохов не любит входить в дом дверью, а, как всякий богоотступник и слуга лукавого, «влазит в окно». За странными, на первый взгляд, бытовыми привычками героя таится глубокий христианский подтекст: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в дом овчий, но прелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам» (Ин.10:1–2).
На протяжении всего романа образ Марка сопровождают притчевые ситуации из Ветхого и Нового Завета. Представитель «умственного прогресса», «мудрый, как змей», Марк искушает Веру запретным плодом, яблоком из «райского» сада бабушки, а проповедуя Вере своё учение, он буквально повторяет слова библейского змея-искусителя: «И будем как боги!».
В разговоре с Райским Марк называет себя и себе подобных «легионом, пущенным в стадо», намекая на евангельскую притчу об изгнании нечистых духов из бесноватого: «Иисус спросил беса: “Как тебе имя?” Он сказал: “Легион”, потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны (с обрыва!) в озеро, и потонуло» (Лк. 8: 30–33). С этой притчей связано и название романа Гончарова – «Обрыв», равно как и романа «Бесы» у Достоевского.
Присутствие в Марке этих сатанинских начал чувствуется постоянно. Возвращаясь с охоты, он стреляет в голубей, «чтобы ружьё разрядить», вызывая гнев Нила Андреевича, который кричит, что это грех и кощунство. Так оно и есть, ибо в христианской традиции голубь являлся зримым образом Святого Духа. В виде голубя Он явился над водами Иордана во время крещения Иисуса Христа. Голубь же прилетел к Ною в ковчег радостным вестником того, что вода сошла с лица земли.
Парадоксальной и странной может показаться форма вызова Веры на свидание ружейными выстрелами, которую практикует Марк. Но ведь и нашествие злых духов, как замечает святитель Игнатий (Брянчанинов), сопровождается шумом, стукотнёю, звуками и криком, подобно тому беспорядку, который производят неблаговоспитанные юноши и разбойники.
Нил Андреевич Тычков неспроста называет Марка Вараввой-разбойником, которого Пилат поставил вместе с Христом перед иудеями, предложив освободить одного из них. Варавва участвовал в мятежах, за что и попал под стражу. Иудеи освободили Варавву и предали смертной казни Христа. Связь Волохова с Вараввой нужна Гончарову, чтобы ещё раз подчеркнуть вечный смысл дилеммы, которая встаёт перед Россией: Христос или Варавва? Христианская символика придаёт героям романа обобщённый смысл, приподнимает всё происходящее над сиюминутным течением исторического времени.
Грехопадение Веры
В «Предисловии к роману ‘‘Обрыв’’» Гончаров подчеркнул, что Волохов лжёт не умышленно, что он грубо обманывается на этот счёт, воображая себя важным агитатором, думая, что за ним идут целые толпы. Именно субъективная честность Марка и покорила на первых порах Веру. Сначала она пожалела его, как одинокого изгнанника, которого никто в городе не понимал, потом она решила его перевоспитать, направить на истинный путь, но впала в соблазн и не выдержала искушения.
Что же произошло? В чём причина «падения» Веры? Диагноз случившегося поставлен бабушкой, и, как всегда у этой мудрой женщины, он безупречен и точен: «Ты горда, Вера!.. Не Бог вложил в тебя эту гордость!» Вера хотела вернуть Марка на евангельские пути, посвящая его не в правду христианских истин, а в правду своей любви, в идеалы «человеческого», а не «животного» счастья. Лишь потом она намеревалась повести своего избранника дальше, к высотам истинной веры. Но не слишком ли самонадеянным и гордым оказалось это решение: начать с любви к себе, а кончить любовью к Христу? В отношениях с Марком самоуверенное «я» Веры оказалось на первом месте, а всё остальное – на втором.
Вот почему и остаются тщетными попытки Веры призвать себе на помощь благодатное возбуждение. Оно не приходит, силы Небесные оставляют её один на один с закосневшей в гордыне душой. Да и молится она как-то по-своему, не соборной молитвой в храме, а в заброшенной часовне, являющейся своеобразной «метафорой», зеркалом запущенных, находящихся в небрежении душ современных людей. Образ Спасителя тут тоже «почернел от времени, краски местами облупились», так что «едва можно было рассмотреть черты Христа». «Ни креста не слагали её пальцы, ни молитвы не шептали губы…» Вера «глядела напряжённо на образ: глаза Его смотрели задумчиво, бесстрастно. Ни одного луча не светилось в них, ни призыва, ни надежды, ни опоры. Она с ужасом выпрямилась, медленно вставая с колен… Раздался… выстрел. Она стремительно бросилась по лугу к обрыву».
Яркий свет на существо религиозной драмы Веры бросает её сон: «Я была где-то на берегу, у моря, передо мной какой-то мост, в море. Я побежала по мосту – добежала до половины: смотрю, другой половины нет, её унесла буря…» Этот «поэтический», по определению Райского, сон Веры содержит ассоциацию с известным евангельским эпизодом о маловерии Петра. Однажды ученики Иисуса отправились на другой берег моря. Лодка была уже на середине, когда поднялся ветер, и началось страшное волнение. В этот момент они увидели Христа, идущего по морю к лодке. Они перепугались, думая, что это призрак, и в страхе закричали. Иисус сказал: «Это Я, не бойтесь». «Господи! Если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде», – попросил Пётр. Иисус сказал: «Иди». «И, выйдя из лодки, Пётр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: “Господи, спаси меня”. Иисус тотчас простёр руку, поддержал его и говорит ему: “Маловерный! Зачем ты усомнился?”» (Мф.14:22–23).
О том, что Вера действительно сбивается с пути и оказывается в мучительном состоянии маловерия, свидетельствует её монолог по поводу проповеди «нового апостола» Марка Волохова: «Правда и свет, – сказал он, – думала она, идучи, – где же вы? Там ли, где он говорит, куда влечёт меня сердце?.. Или правда здесь?.. – говорила она, выходя в поле и подходя к часовне. Молча, глубоко глядела она в смотрящий на неё задумчивый взор образа. – Ужели он не поймет этого никогда и не воротится – ни сюда… к этой вечной правде… ни ко мне, к правде моей любви? – шептали её губы. – Никогда! Какое ужасное слово!».
«Правда любви» тут начинает уже расходиться с «вечной правдой», вступать с нею в противоречие. Лишаясь благодатного покрова, «правда любви» теряет духовный якорь и поддается гибельному самообольщению. Без путеводного ориентира она невольно катится вниз, к безрассудной, стихийной, неуправляемой страсти, увлекающей Веру в «обрыв», в «бездну падения».
Грехопадение Веры не только в том, что она отдалась Марку Волохову. Гораздо важнее другое, духовное падение героини, поддавшейся невольному искушению. Главная коллизия романа совершается не на бытовом поле, а на христианских высотах. «Грех» Веры совершён против высших заветов Евангельской правды.
Трагедия Веры потрясает жизнь обитателей Малиновки до самого основания. К напряжённой внутренней работе над собой приходит Райский. И вот «биением сердца и трепетом чистых слёз он начинает ощущать, среди грязи и шума страстей, подземную работу в своём человеческом существе какого-то таинственного духа, зовущего его, сначала тихо, потом громче и громче, к трудной и нескончаемой работе над собой, над своей собственной статуей, над идеалом человека».
Пройдя через искушение страстными помыслами, Райский начинает освобождаться от губительного эстетизма. Неуёмное творчество эстетических миражей начинает уступать место труду нравственному в соответствии с голосом «чистого гения», голосом совести, данным каждому человеку Творцом и закреплённым в великой истине Евангелия: «Царство Божие внутри вас».
Страсть к Вере вытесняется наконец у Райского чувством покаяния и сострадания, в котором так нуждается теперь её грешная душа. Райский вовремя приходит к ней на помощь, бережно следит за её внутренним состоянием, выполняет самые трудные её поручения, сообщает бабушке о случившемся, на всё откликается и за всех болеет душой. Потрясение, пережитое Райским, освобождает его от эгоистического самодовольства, даёт ему полное душевное бескорыстие, по достоинству оценённое бабушкой и воскресающей к новой жизни Верой.
Тяжёлую ношу покаяния и искупления случившегося в Малиновке греха берёт на свои плечи бабушка. Со словами «Мой грех!» она начинает крестный путь из глубины обрыва, с самого дна его, на высокую гору, к храму. Здесь реализм Гончарова уже не скрывает своего прямого родства с художественной символикой. Поднимаясь вверх, преодолевая крутизну с нечеловеческой силой, оставляя клочки платья и шали на цепких кустах, совершает бабушка своё покаянное восхождение. «Бог посетил, не сама хожу, – говорит она. – Его сила носит – надо выносить до конца».
«“Это не бабушка!” – с замиранием сердца, глядя на неё, думал Райский. Она казалась ему одной из тех женских личностей, которые внезапно из круга семьи выходили героинями в великие минуты, когда падали вокруг тяжкие удары судьбы и когда нужны были людям не грубые силы мышц, не гордость крепких умов, а силы души – нести великую скорбь, страдать, терпеть и не падать!»
За бабушкой в сознании Райского встают героини всемирной и русской истории: великая Марфа-посадница, «сохранившая в тюрьме своей величие и могущество скорби по погибшей славе Новгорода», русские царицы, менявшие по воле мужей свой сан на сан инокинь, боярыни и княгини, шедшие в заточение вслед за своими мужьями, неся в себе и их, и свою беду. Райскому кажется, что такую же великую силу – «стоять под ударом грома, когда всё падает вокруг» – имеет и русская женщина из народа. Райский понимает и духовный источник, из которого она черпает силы: «Только верующая душа несёт горе так», как несла его бабушка.
На помощь погибающей Вере бабушка приходит не с жалостью, а с высоким чувством христианского сострадания, способного принять чужое горе на себя. Бабушка говорит Вере о том, что она такая же грешница и, может быть, в грехе Веры виновата в большей мере, чем Вера сама: «Прости меня, Вера, прежде ты. Тогда и я могу простить тебя… Я думала, что грех мой забыт, прощён. Я молчала и казалась праведной людям: неправда! Я была – как “окрашенный гроб” среди вас, а внутри таился неомытый грех! Вот он где вышел наружу – в твоём грехе! Бог покарал меня в нём… Прости же меня от сердца».
Бабушка вспоминает утаённый грех, случившийся с нею ещё в юности, когда она, нарушив запрет родителей, вступила в тайную связь с любимым человеком Титом Никонычем Ватутиным. А не прошедший через горнило покаяния, не отпущенный на исповеди грех страшной тяжестью ложится не только на плечи согрешившего, но и на весь род его, на всё потомство: «Боже мой! – говорила как будто в помешательстве Татьяна Марковна, вставая, складывая руки и протягивая их к образу Спасителя, – если б я знала, что этот гром ударит когда-нибудь в другую… в моё дитя, – я бы тогда же на площади, перед собором, в толпе народа, исповедала свой грех!»
Теперь, когда Бабушка взяла горе Веры на себя, стёрла своей виной её вину, Вере стало легче. «Она внутренне вставала на ноги, будто пробуждалась от сна, чувствуя, что в неё льётся волнами опять жизнь, что тихо, как друг, стучится мир в душу, что душу эту, как тёмный, запущенный храм, осветили огнями, наполнили опять молитвами и надеждами. Могила обращалась в цветник».
Выход из «обрыва»
После катастрофы вновь благодатная тишина повисает над Малиновкой. Но это уже новая тишина, ибо в ней отсутствует весёлая беззаботность и беспечность, на души обитателей Малиновки, как и на природу её, легли осенняя зрелость и грусть. Все в усадьбе стали как-то задумчивее и молчаливее: улыбки, смех, радость слетели, как листья с деревьев. После пережитых гроз Россия вступает в зрелый возраст. К былой «малиновской» беспечности и безотчётности, к наивной и бездумной патриархальной простоте возврата уже не будет. Утраченный рай неповторим. Но Гончаров убеждён, что молодая Россия, пройдя через грехопадение и покаяние, вернётся к более осмысленной и сосредоточенной жизни, обогащённой тяжким опытом испытаний и бед.
Вера, вдохновлённая христианской мудростью бабушки, хочет начать новую жизнь, непохожую на ту, которая стащила её на дно обрыва. Это жизнь, исполненная сурового долга, нескончаемых жертв и труда. Выйдя из грозового испытания, Вера отдаётся любому, даже самому мелкому делу. Она приходит к убеждению, что «под презрением к мелкому обыденному делу, и под мнимым ожиданием или изобретением какого-то нового, ещё небывалого труда и дела кроется у большей части просто лень или неспособность, или, наконец, большое и смешное самолюбие – ставить самих себя выше своего ума и сил».
Так за индивидуальной судьбою Веры встаёт в сознании Гончарова судьба будущей России. Она до сих пор страдала не от недостатка энтузиазма, не от нехватки людей, проектирующих сдвигание гор с места и повороты рек вспять, а от неумения без блеску и треску делать кропотливую и будничную работу. После грехопадения России придётся волей-неволей приобщаться к этому неяркому, но необходимому труду благоустройства родной земли, к возрождению того идеала христианского трудничества, который бережно хранила до поры до времени святая Русь.
Ушла в прошлое и больше никогда не вернётся в прежнем виде райская идиллия жизни старой патриархальной Малиновки. Но роман «Обрыв» Гончаров всё-таки кончает не пророчески страшным сном бабушки, а попыткой уловить хотя бы в беглом очерке образ будущей, возрождённой России, прошедшей через разрушительные опыты революционных гроз и атеистических искушений. Этот образ связан в романе с Тушиным, в котором видится Гончарову идеал будущего русского деятеля и человека.
Тушин, как практик-предприниматель, лишён той ограниченности, которой отличались деловые люди Пётр Адуев и Андрей Штольц в предыдущих романах Гончарова. У них ум господствовал над сердцем и деловой буржуазный расчёт подавлял нравственные порывы души. Тушин заявляет Марку Волохову, что колебать мораль бабушки он не намерен, потому что разделяет эту мораль. Тушин – предприниматель, удерживающий в своей практике свойственные православному христианину черты практического добротолюбия. Он считает себя не собственником, а распорядителем тех богатств, которые имеет. Именно в таких предпринимателях с православно-христианской душой видел Гончаров спасение России от бесконечных «обрывов», от разрушительных революционных катастроф.
Тушины – строители и созидатели, опирающиеся в своей работе на тысячелетний опыт русского хозяйствования. У Тушина в усадьбе Дымок «паровой пильный завод» и деревенька, где все домики, как на подбор, ни одного под соломенной крышей, нет «беспорядка, следов бедного крестьянского хозяйства, изб на курьих ножках, куч навоза, грязных луж, сгнивших колодцев и мостиков, нищих, больных, пьяных, никакой распущенности». Лес тут «содержится, как парк, где на каждом шагу видны следы движения, работ, ухода, науки». Артель его мужиков напоминает крепкую дружину, а Тушин среди них кажется первым работником.
«Тушины – наша партия действия», наше прочное “будущее”, которое выступит в данный момент, особенно когда всё это, – оглядываясь кругом на поля, на дальние деревни, решал Райский, – когда всё это будет свободно, когда все миражи, лень и баловство исчезнут, уступив место настоящему “делу”, множеству “дела” у всех, – когда с миражами исчезнут и добровольные “мученики”, тогда явятся, на смену им, “работники Тушины” на всей лестнице общества».
«Обрыв» в оценке русской критики
Художественное достоинство «Обрыва» оказалось за пределами внимания русской критики, пытавшейся понять и оценить этот роман. Глухота, проявившаяся в критических его интерпретациях, настолько удручала писателя, что он попытался дать ей объяснение в специальной статье «Лучше поздно, чем никогда». Гончаров с недоумением замечал, что художественное единство «Обрыва» осталось вне поля зрения не только критики, но и современных читателей. «Напрасно я ждал, что кто-нибудь и кроме меня прочтёт между строками и, полюбив образы, свяжет их в одно целое и увидит, что именно говорит это целое? Но этого не было».
Этого и не могло быть, потому что русская общественная мысль к концу 1860-х годов в основе своей двигалась в направлении, диаметрально противоположном тому, по которому устремилась художественная мысль Гончарова. Дух «Обрыва», просвеченный насквозь христианской символикой, был просто неуловим для утратившей религиозный фундамент русской общественной мысли. Она видела в романе ярко выписанные характеры, но не ощущала той связи, которая организует его художественный мир.
На синтезирующую природу реализма Гончарова одним из первых указал Д. С. Мережковский в известной статье «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»: «Способность философского обобщения характеров чрезвычайно сильна в Гончарове; иногда она прорывает, как острие, живую художественную ткань романа и является в совершенной наготе: например, Штольц – уже не символ, а мёртвая аллегория. Противоположность таких типов, как практическая Марфенька и поэтическая Вера, как эстетик Райский и нигилист Волохов, как мечтательный Обломов и деятельный Штольц, – разве это не чистейший и притом непроизвольный, глубоко реальный символизм… Вспомним ту гениальную сцену, когда Вера останавливается на минуту перед образом Спасителя в деревянной часовне и тропинкой, ведущей к обрыву, к беседке, где её ждёт Марк Волохов. Вера, как идеальное воплощение души современного человека, колеблется и недоумевает, где же правда – здесь, в кротких, строгих очах Спасителя, в древней часовне, или там, за обрывом, в злобной, страшной и обаятельной проповеди нового человека?»
Не секрет, что из четырех великих романистов России Гончаров наименее популярен. В Европе, которая знакома с Тургеневым, Достоевским и Толстым, Гончаров известен менее других. Деловитый и решительный XX век не хотел прислушиваться к мудрым советам честного русского консерватора. А между тем Гончаров-писатель велик тем, чего людям XX века явно недоставало. Лишь на исходе этого столетия человечество как будто бы осознало, наконец, что слишком обожествляло научно-технический прогресс и новейшие результаты научных знаний и слишком бесцеремонно обращалось с наследством, начиная с культурных традиций и кончая богатствами природы. Природа и культура всё громче и предупреждающе напоминают нам, что всякое агрессивное вторжение в их хрупкое вещество чревато необратимыми последствиями. И вот мы чаще и чаще оглядываемся назад, на те ценности, которые определяли нашу жизнестойкость в прошлые эпохи, на то, что мы с радикальной непочтительностью предали забвению. И Гончаров-художник, настойчиво предупреждавший, что развитие не должно порывать органические связи с вековыми традициями, вековыми ценностями и святынями национальной культуры, стоит не позади, а впереди нас.
Вопросы и задания
1. Подготовьте сообщение об особенностях Гончарова-художника.
2. Проанализируйте диалоги племянника с дядюшкой в романе «Обыкновенная история». Покажите, что вас привлекает и что отталкивает во взглядах на жизнь обоих героев.
3. Перечитайте главы о трёх любовных увлечениях Александра и объясните, какие перемены в герое они обнажают.
4. Дайте анализ посещения Волковым, Пенкиным и Судьбинским ленивца-Обломова. Покажите, чем привлекателен в этой сцене Обломов?
5. Сопоставьте добролюбовскую и дружининскую трактовки романа и сформулируйте ваше к ним отношение.
6. Кто прав, Добролюбов или Анненский в оценке любви Ольги к Обломову?
7. Найдите в тексте романа эпизоды, говорящие об ограниченности Штольца.
8. Объясните, почему обломовская лень не производит впечатления пошлости.
9. Дайте характеристику сильных и слабых сторон Райского, покажите, какие перемены совершаются с ним в ходе романа «Обрыв».
10. Найдите в тексте романа «Обрыв» устойчивые христианские мотивы и покажите их связь с воззрениями Гончарова на подлинные и мнимые цели исторического прогресса.
11. Подготовьте рассказ на тему: «Чем близки мне раздумья и тревоги Гончарова-писателя?»
[49] Тонкий сон – это не обычный сон, а пограничное состояние между сном и бодрствованием. В таком сне часто проявляется высшая сила и даёт человеку пророческие предсказания
[50] Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться. Л., 1991. – С. 221–222.
[51] Лощиц Юрий. Гончаров. ЖЗЛ. М., 1977. – С. 278.
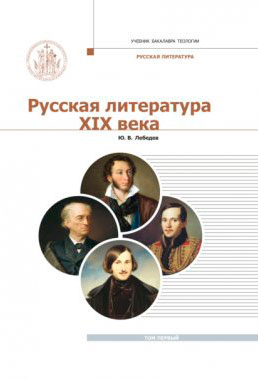
Комментировать