- Введение
- Вопросы и задания
- О генетических корнях классической русской литературы XIX века
- Вопросы и задания
- Николай Михайлович Карамзин (1766–1826)
- Карамзин и европейский сентиментализм
- Детство и юность Карамзина
- «Письма русского путешественника»
- Повесть «Бедная Лиза»
- Карамзин-журналист
- Карамзинская реформа русского литературного языка
- Спор «карамзинистов» с «шишковистами»
- Карамзин-историк
- Вопросы и задания
- Становление и развитие русского романтизма первой четверти XIX века
- Вопросы и задания
- Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)
- Романтический мир Жуковского
- Детство Жуковского
- Годы учения
- Элегии Жуковского-романтика
- «Теон и Эсхин» (1814)
- Любовь в жизни и поэзии Жуковского
- Жуковский гражданин и патриот
- Балладное творчество Жуковского
- Воспитатель наследника
- Поэмы Жуковского
- Вопросы и задания
- Иван Иванович Козлов (1779–1840)
- Детские и юношеские годы
- Стихотворные послания И. И. Козлова
- Лирика И. И. Козлова
- Гражданская лирика И. И. Козлова
- Поэмы И. И. Козлова
- Уход И. И. Козлова
- Вопросы и задания
- Константин Николаевич Батюшков (1787–1855)
- О своеобразии художественного мира Батюшкова
- Становление Батюшкова-поэта
- Первый период творчества
- Второй период творчества
- Вопросы и задания
- Иван Андреевич Крылов (1769–1844)
- Художественный мир Крылова
- Жизнь и творческий путь Крылова
- Мировоззренческие истоки реализма Крылова
- Поэтика крыловской басни
- Общенациональное содержание басен Крылова
- Вопросы и задания
- Пётр Павлович Ершов (1815–1869)
- Вопросы и задания
- Александр Сергеевич Грибоедов (1795–1829)
- Детство и юность Грибоедова
- Ссылка в Персию. Служба на Кавказе
- Успех «Горя от ума». Грибоедов и декабристы
- А. С. Пушкин о главном конфликте комедии и об уме Чацкого
- Фамусовский мир
- Драма Чацкого
- Драма Софьи
- Поэтика комедии «Горе от ума»
- Гибель Грибоедова
- Вопросы и задания
- Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837)
- Художественный мир Пушкина
- Детство
- Отрочество. Лицей
- Юность. Петербургский период
- Молодость. Южный период
- Элегия «Погасло дневное светило…»
- Поэма «Кавказский пленник»
- Поэма «Бахчисарайский фонтан»
- Лирика южного периода. Пушкин и декабристы
- Элегия «К морю»
- Пушкин в Михайловском. Творческая зрелость
- Поэтический цикл «Подражания Корану»
- Трагедия «Борис Годунов»
- Пушкин о назначении поэта и поэзии
- Освобождение. Поэт и царь
- Историческая основа поэмы «Полтава»
- Философские мотивы в лирике Пушкина
- Любовная лирика Пушкина
- Болдинская осень 1830 года. Роман «Евгений Онегин»
- Творческая история романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
- Историзм и энциклопедизм романа
- Онегинская строфа
- Реализм романа. Индивидуальное и типическое в характере Евгения Онегина
- Онегин и Ленский
- Онегин и Татьяна
- «Маленькие трагедии». «Повести Белкина»
- Историческая тема в творчестве Пушкина 1830-х годов
- Исторический роман «Капитанская дочка»
- Патриотические стихи «Клеветникам России»
- Лирика Пушкина 1830-х годов
- Дуэль и смерть Пушкина
- Вопросы и задания
- Поэты пушкинской поры
- Антон Антонович Дельвиг (1798–1831)
- Вопросы и задания
- Пётр Андреевич Вяземский (1792–1878)
- Вопросы и задания
- Николай Михайлович Языков (1803–1846)
- Вопросы и задания
- Евгений Абрамович Баратынский (1800–1844)
- Вопросы и задания
- Алексей Васильевич Кольцов (1809–1842)
- Судьба Кольцова
- «Русские песни» Кольцова
- Кольцов в истории русской литературы, критики, музыки
- Вопросы и задания
- Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841)
- О своеобразии художественного мироощущения Лермонтова
- Детские годы Лермонтова
- Годы учения в Московском благородном пансионе. Юношеская лирика
- Московский университет
- Петербургский период жизни и творчества Лермонтова 1830-х годов
- «Смерть Поэта» и первая ссылка Лермонтова на Кавказ
- Лирика Лермонтова 1838–1840 годов
- Дуэль и вторая ссылка на Кавказ
- Поэмы Лермонтова «Демон» и «Мцыри»
- Лирика Лермонтова 1840–1841 годов
- Творческая история романа «Герой нашего времени»
- Композиция романа и её содержательный смысл
- Повесть «Бэла»
- Повесть «Тамань»
- «Фаталист»
- Максим Максимыч
- Лирическое завещание Лермонтова
- Значение творчества Лермонтова в истории русской литературы
- Вопросы и задания
- Николай Васильевич Гоголь (1809–1852)
- Призвание Гоголя-писателя
- Детство и юность Гоголя
- Начало творческого пути. «Вечера на хуторе близ Диканьки»
- Сборник повестей «Миргород»
- Гоголь-историк
- Петербургские повести Гоголя
- Творческая история поэмы Гоголя «Мёртвые души»
- Тема дороги и её символический смысл
- Манилов и Чичиков
- Коробочка и Чичиков
- Ноздрёв и Чичиков
- Собакевич и Чичиков
- Плюшкин и Чичиков
- Путь Павла Ивановича Чичикова
- «Мёртвые души» в русской критике
- Повесть «Шинель»
- «Выбранные места из переписки с друзьями»
- Письмо Белинского к Гоголю
- Ответ Гоголя Белинскому
- Второй том «Мёртвых душ». Творческая драма Гоголя
- Вопросы и задания
- Иван Александрович Гончаров (1812–1891)
- О своеобразии художественного таланта И. А. Гончарова
- Роман «Обыкновенная история»
- Цикл очерков «Фрегат “Паллада”»
- Роман «Обломов»
- Н. А. Добролюбов о романе
- А. В. Дружинин о романе
- Полнота и сложность характера Обломова
- Андрей Штольц как антипод Обломова
- Обломов и Ольга Ильинская
- Историко-философский смысл романа
- Творческая история романа «Обрыв»
- Райский
- Бабушка
- Марфенька
- Вера
- «Просветитель» Веры – нигилист Марк Волохов
- Грехопадение Веры
- Выход из «обрыва»
- «Обрыв» в оценке русской критики
- Вопросы и задания
- Федор Иванович Тютчев (1803–1873)
- Малая родина Тютчева
- Тютчев и поколение «любомудров»
- Мир природы в поэзии Тютчева
- Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития
- Хаос и космос в лирике Тютчева
- Любовь в лирике Тютчева
- Тютчев о причинах духовного кризиса современного человека
- Поэтическое открытие русского космоса
- Вопросы и задания
- Алексей Константинович Толстой (1817–1875)
- О своеобразии художественного мироощущения А. К. Толстого
- Жизненный путь А. К. Толстого
- Лирика А. К. Толстого
- Баллады и былины А. К. Толстого
- Бесстрашный сказатель правды
- Вопросы и задания
- Александр Иванович Герцен (1812–1870)
- А. И. Герцен и «люди сороковых годов»
- Детство и юность А. И. Герцена
- А. И. Герцен и утопический социализм. Начало творческого пути
- Духовная драма Герцена
- Книга «Былое и думы»
- Общественная деятельность Герцена в эпоху 1860-х годов
- Вопросы и задания
- Алексей Феофилактович Писемский (1821–1881)
- Детские и юношеские годы
- Костромской период жизни и творчества
- Петербургский период жизни и творчества
- Московский период жизни и творчества
- Вопросы и задания
- Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889)
- Мастер сатиры
- Детство, отрочество, юность Салтыкова-Щедрина
- Вятский плен
- Проблематика и поэтика сатиры «История одного города»
- «Общественный роман» «Господа Головлёвы»
- «Сказки»
- Вопросы и задания
Федор Иванович Тютчев (1803–1873)
Малая родина Тютчева
Ф. И. Тютчев родился 23 ноября (5 декабря) 1803 года в селе Овстуг на Брянщине, входившей тогда в состав Орловской губернии. Детские, отроческие и первые юношеские годы поэта прошли в той же среднерусской колыбели, из которой вышло целое созвездие поэтов и писателей (Кольцов и Фет, Тургенев и Лесков), определивших неповторимый облик нашей классической литературы, ставших творцами национального образа мира и певцами русского характера.
Случайно ли это? По-видимому, нет. Плодородное подстепье вобрало в себя характерные особенности России как в природно-географическом, так и в духовно-поэтическом отношении. Край, породивший такую плеяду писателей, являлся срединной частью русской земли, расположенной примерно за тысячу верст и от южного, Черного, и от северного, Белого, морей. И в природной стихии своей он соединял характерные приметы северной и южной полосы России.
Да и народ, расселившийся в этом краю, объединял в своём характере, обычае и языке всю Россию. Долгое время лесостепь оставалась порубежьем набиравшей силу Московской Руси. Здесь проходила её южная граница с воинственными степными кочевниками. И на укрепление этой границы Великие князья Московские собирали в течение нескольких столетий наиболее надёжных, храбрых и сильных людей. Они приносили на Орловскую землю всё многообразие устного народного творчества, всё богатство живого великорусского языка и все оттенки национального характера.
Именно отсюда, из серединной Руси, вынес Тютчев тонкую и восприимчивую любовь к природе, острое чувство русской истории. Один из пращуров его, Захарий Тютчев, был выдающимся героем Куликовской битвы. Сам Дмитрий Донской направил умного дипломата в ставку к Мамаю. О заслугах Захария юный Тютчев с гордостью читал в «Сказании о Мамаевом побоище» и в «Истории государства Российского» Карамзина. Чувство личной причастности к отечественной истории питалось у Тютчева родовой памятью и по материнской линии. Екатерина Львовна, принадлежала к известному в русских летописях роду графов Толстых. Прапрадед Тютчева по матери был родным братом ближайшего сподвижника Петра Великого, искусного дипломата Петра Андреевича Толстого, прапрадеда Л. Н. Толстого. Так что Тютчев и Лев Толстой находились хоть и в отдаленном, но кровном родстве.
Отец Тютчева, Иван Николаевич, был человеком глубоко образованным, окончившим основанный Екатериной II Греческий корпус. Питомцы его, по замыслу императрицы, были призваны возродить былое величие греко-православного мира. Победоносные войны с Турцией поселили в душе Екатерины мечту о возрождении Византийской империи, восстановлении Константинополя и воссоздании во главе с Россией православной государственности. «Константинопольскую мечту» Тютчев унаследовал от своего отца в отроческие годы, она сказывается как в его историко-политических статьях, так и в стихотворении «Пророчество»:
Не гул молвы прошёл в народе,
Весть родилась не в нашем роде —
То древний глас, то свыше глас:
«Четвертый век уж на исходе, —
Свершится он – и грянет час!»
И своды древние Софии,
В возобновленной Византии,
Вновь осенят Христов алтарь.
Пади пред ним, о царь России, —
И встань как всеславянский царь!
Мечта о всеславянском православном царстве определила, вероятно, и выбор Тютчевым дипломатического поприща.
Тютчев и поколение «любомудров»
В 1821 году Тютчев досрочно окончил словесное отделение Московского университета со степенью кандидата и более двадцати лет провёл в Германии и Италии на дипломатической службе. Но славу он себе стяжал на поэтическом поприще. В его лице наша литература обрела поэта-мыслителя, одного из родоначальников русской философской лирики
Поэт принадлежал к поколению, которое вышло на литературную сцену после трагического поражения декабристов. Энергии политического действия оно противопоставило энергию мысли и вошло в историю под именем «любомудров». Если декабристы были одержимы практической волей, то любомудры видели своё призвание в развитии мысли. Они убедились: прежде чем действовать в русской истории, нужно эту историю понять.
В стихотворении «14 декабря 1825 года» Тютчев назвал декабристов «жертвами мысли безрассудной», ибо их освободительный порыв не опирался на глубокое знание России:
Вас развратило Самовластье,
И меч его вас поразил.
Главный объект критики Тютчева в этих стихах – «самовластье». Вспомним, что Самодержавие и Самовластье – явления диаметрально противоположные. Самодержавие – форма монархического правления, основанная на «симфонии» между властью светской и властью духовной. Воля самодержца будет «святой», если она согласна с высшим Божественным Законом. Отрицание этой «симфонии» со стороны государства или со стороны общественного движения ведёт к нарушению органического развития национальной жизни.
Отдельный человек или группа лиц не должны противопоставлять свою волю исторически сложившемуся направлению народной жизни. Тютчев вдохновляется мыслью о религиозном значении нации, её традиционного своеобразия и её особенных исторических задач. Нельзя механически переносить западноевропейское политическое и социальное устройство на русскую почву, не считаясь с высокой ценностью коллективного народного сознания, «духа народа» как мистического целого. Обращаясь к декабристам, он говорит:
Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена —
И ваша память для потомства,
Как труп в земле, схоронена.
Тютчев отождествляет здесь политику Александра I с действиями декабристов, которые являются «детьми» государственного Самовластья. Он полагает, что без серьезного национального самопознания любое политическое деяние, от кого бы оно ни исходило – от государственной власти или от оппозиционного общественного движения, – обернётся на практике насилием и деспотизмом. Поэтому поколение Тютчева ушло из политики в напряженную внутреннюю работу. Оно вырастило зерно, из которого родилась самобытная русская мысль: от Тютчева, А. Хомякова, И. Киреевского до В. Соловьева, Н. Бердяева, С. Булгакова, И. Ильина и П. Флоренского.
Длительное пребывание Тютчева в Германии не только не препятствовало, но способствовало ускоренному созреванию русской мысли. Поэт оказался в Мюнхене, который называли «германскими Афинами», городом Шеллинга, немецкого философа, с которым Тютчев был лично знаком. При Тютчеве здесь открылся университет, где Шеллинг начал свои знаменитые лекции.
Вселенная воспринималась Шеллингом как живое и одухотворённое существо, которое развивается и растёт по органическим законам роста и развития. Эти законы не формируются в процессе развития, а предшествуют ему. Как в зерне содержится будущее растение, так и в мировой душе заключён предвечно идеальный проект будущего устройства мира. Целое существует раньше своих частей: в основе любого развития, любого раздвоения лежит первоначальное единство, тождество. Развитие является развёртыванием во времени того, что содержится в зерне мироздания. Мировая душа или Бог творит историю как художник – в соответствии с первоначальным замыслом задуманного произведения.
Исторический процесс является «последовательно развивающимся откровением Бога». Человек действует в истории свободно. Однако эта свобода контролируется незримой рукой Творца. Всякое нарушение Божественной воли рано или поздно приводит к тому, что Провидение обуздывает людское самовластие и устремляет исторический процесс в нужном Богу, соответствующем Его плану направлении.
Ступени природы от минеральных веществ до явлений органических – органы Мировой Души, Бога. «Природа – это жизнь, – утверждал Шеллинг. – Мёртвой природы нет. И в неорганической материи бьётся пульс жизни, теплится Мировая Душа. Природа должна быть понята как зримый Дух, а Дух – как незримая природа». Мировая душа «постепенно формирует для себя грубую материю. От порослей мха, в котором едва заметен след организации, до благородных образов, которые как бы сбросили оковы материи», – всюду господствует порыв к идеалу, к гармонии.
Мир природы в поэзии Тютчева
Вслед за Шеллингом Тютчев прозревает в природе живую, божественную сущность мира. То, что для предшественников Тютчева выступало как поэтическая условность, как художественное олицетворение, – для Тютчева стало символом веры в таинственную жизнь, струящуюся в глубинах природного вещества:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
Полдень в стихах Тютчева «лениво дышит», небесная лазурь «смеётся», осенний вечер озарён «кроткою улыбкой увяданья». Поэтому в его поэзии исчезают барьеры между человеческим и природным мирами: природа живёт страданиями и радостями человека, а человек – страданиями и радостями природы. Если Пушкин в элегии «Погасло дневное светило…» лишь соотносит волны океана с душевными волнениями лирического героя, сохраняя грань, существующую между природой и человеком, то у Тютчева эти грани разрушены:
Дума за думой, волна за волной —
Два проявленья стихии одной:
В сердце ли тесном, в безбрежном ли море,
Здесь – в заключении, там – на просторе…
(«Волна и дума»)
С горечью и сожалением говорит Тютчев о людях, для которых живая жизнь природы чужда и непонятна:
Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнца, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.
Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития
Поэзия Тютчева не укладывается в определённую и законченную эпоху развития русской литературы. Самобытным и зрелым поэтом он стал уже в 30-е годы. Пушкин опубликовал в своём «Современнике» цикл его поэтических произведений под заголовком «Стихотворения, присланные из Германии». Но в 30-е годы его творчество осталось почти незамеченным. Открытие поэзии Тютчева состоялось позднее, в начале 1850-х годов, в статье Некрасова «Русские второстепенные поэты». Хотя по времени поэт принадлежал к первой половине XIX века, но по духу своему он предвосхищал творческие искания Толстого и Достоевского. Мироощущение Тютчева сформировалось под мощным воздействием двух полюсов мировой истории. Хорошо зная русскую жизнь, он глубже многих людей своего поколения был приобщён к жизни Западной Европы, взорванной революцией 1789 года. От былого патриархального благообразия в этой Европе не осталось и следа. Старые общественные связи рухнули, новый миропорядок рождался мучительно, в грозных борениях и революциях.
Западная Европа в 1830–40-х годах переживала переходную ситуацию, в чём-то аналогичную той, в которой оказалась Россия второй половиныXIX века, когда в ней, по словам одного из толстовских героев, тоже «всё перевернется» и только ещё «начнёт укладываться». Вот почему Тютчев раньше многих почувствовал, что современная христианская цивилизация стоит накануне грандиозных исторических потрясений.
В 1830 году, в связи с революционными событиями во Франции Тютчев написал стихотворение «Цицерон». Он сравнивал современный европейский мир с эпохой Рима времён упадка. Прославленный римский оратор и философ Цицерон скорбя о закате римской славы, сказал: «Скорблю, что, выйдя в жизненный путь несколько позже, чем следовало бы, я, прежде чем закончил дорогу, впал в эту ночь республики». В стихах Тютчева Цицерон произносит эти слова с Капитолийской высоты – одного из семи холмов, на которых расположен Рим. На Капитолийской высоте было главное римское святилище – храм Юпитера Капитолийского. Таким образом, речь в стихах идёт не только о кризисе и закате Римской цивилизации: Тютчеву кажется, что современный европейский мир тоже приближается к закату его звезды:
Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
«Я поздно встал – и на дороге
Застигнут ночью Рима был!»
Так!.. но, прощаясь с римской славой,
С Капитолийской высоты
Во всём величье видел ты
Закат звезды её кровавой!..
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир!
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был —
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!
Хаос и космос в лирике Тютчева
Мир природы и человека в восприятии Тютчева не завершён, он находится в состоянии мучительного творческого развития. Это развитие в философской лирике Тютчева протекает в борьбе двух универсальных состояний бытия – космического с хаотическим. Хаос воплощает стихию бунта и разрушения, космос – стихию примирения и гармонии. В хаосе преобладают демонические, в космосе – божественные энергии. Борьба между ними ещё не закончена, поэтому порядок и организация в мире – «златотканный покров», под которым дремлют до поры силы разрушения. Тютчев остро чувствует узость и тесноту тех индивидуалистических форм, в которые начинает укладываться жизнь буржуазной Европы. Новый миропорядок не только не усмиряет, но даже возбуждает хаотические стихии в общении между людьми, угрожая им новыми потрясениями. В стихотворении «День и ночь» этот взрыв совершается в столкновении дневных, космических с ночными, хаотическими стихиями бытия:
На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.
День – сей блистательный покров —
День, земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!
Но дневная жизнь современного человечества не в состоянии утолить его тоску по иным, более свободным формам общения. Эти неудовлетворенные потребности ищут выхода. И как только «благодатный покров» дня поглощается ночным мраком, выходит на поверхность и обнажается неохваченная космосом тёмная бездна с её «страхами и мглами», с её непросветлённой, таинственно-разрушительной глубиной:
Но меркнет день – настала ночь;
Пришла – и с мира рокового
Ткань благодатную покрова,
Сорвав, отбрасывает прочь…
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами —
Вот отчего нам ночь страшна!
Современная цивилизация непрочна и хрупка, она не в силах высветить душевные глубины человека, подсознательные их недра остаются тёмными, неупорядоченными, хаотическими. Угрожающая власть их над душою человека особенно глубоко переживается в моменты ночной бури, когда разыгрываются и в самой природе дикие, стихийные силы:
О чём ты воешь, ветр ночной?
О чём так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке —
И роешь и взрываешь в нём
Порой неистовые звуки!..
О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвётся он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О, бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!..
В стихотворении «Как океан объемлет шар земной…» таинственная бездна хаоса, которая остаётся для человеческой души непознанной и неразгаданной, обволакивает земную жизнь облаком снов. Ночью в эти сны погружается душа. И тогда она теряет логические ориентиры, попадает в полную власть к иррациональным стихиям бытия:
Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята с нами;
Настанет ночь – и звучными волнами
Стихия бьёт о берег свой.
То глас её: он нудит нас и просит…
Уж в пристани волшебный ожил чёлн;
Прилив растёт и быстро нас уносит
В неизмеримость тёмных волн.
Небесный свод, горящий славой звездной
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывём, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.
Трагическое звучание в лирике Тютчева получает тема одиночества современного человека, наиболее глубоко раскрытая в стихотворении с латинским названием «Silentium!» («Молчание!»). Поэт сетует в нём на роковое бессилие слова, неспособного точно выразить живую мысль и чувство. «Приблизительность», грубость человеческих слов по сравнению с бездонной глубиною душевного мира обрекает человека на вечное одиночество:
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймёт ли он, чем ты живёшь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими – и молчи.
Отсюда – ответственное отношение Тютчева к поэтическому слову, которое ведь по природе своей рассчитано на ответный отклик, на понимание. Тютчев оценивает это понимание очень высоко, видя в нём Божий дар. Наряду с талантом поэта, он высоко ставит талант читателя:
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся, —
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать…
Любовь в лирике Тютчева
Уединённая, замкнутая в себе личность чаще всего оказывается под угрозой гибели в прекрасные, но и трагические для неё мгновения любви. Замкнутые в самих себе душевные силы получают в минуты любовного увлечения катастрофический исход. Любовь надламывает эгоизм человека, выводит его из духоты одиночества, даёт ему глоток чистого воздуха. Но она не в состоянии утолить все неудовлетворённые потребности души: их слишком много, и когда они вырываются наружу – любовь не выдерживает их напора, не справляется с бунтом неуправляемых страстей.
Поэтому любовь у Тютчева лишена, как правило, благообразия и гармонии, просветлённой пушкинской чистоты. В любви клокочут хаотические, разрушительные стихии, которыми не в силах управлять человек:
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
Впервые в русской лирике, в чём-то соперничая с Некрасовым, в чём-то предвосхищая его, Тютчев показал не только прекрасные мгновения взлета любовных чувств, но и ужасные моменты их падения, распада.
Известно, что Тютчев был любимым поэтом Л. Н. Толстого. И это неудивительно, ибо в своей любовной лирике он высветил трагическую природу любви, которая всегда волновала Толстого и получила глубокое освещение в романе «Анна Каренина». Заметим также, что уже у Тютчева, задолго до толстовского романа, внутренний драматизм любовного чувства обостряется под влиянием социальных обстоятельств, враждебных святыне любви:
Чему молилась ты с любовью,
Что, как святыню, берегла,
Судьба людскому суесловью
На поруганье предала.
Эти стихи, как и многие другие, представляющие не собранный автором «денисьевский цикл», адресованы Елене Александровне Денисьевой, беззаконная, но беззаветная любовь к которой явилась одной из самых ярких, но и самых драматических страниц в жизни поэта.
Любовь у Тютчева трагична ещё и потому, что она обещает человеку больше, чем может вместить его смертная природа. Находясь под высоким напряжением любовного чувства, человек не выдерживает и сгорает в нём:
Весь день она лежала в забытьи,
И всю её уж тени покрывали,
Лил тёплый летний дождь – его струи
По листьям весело звучали.
И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала – увлечена,
Погружена в сознательную думу…
И вот, как бы беседуя с собой,
Сознательно она проговорила
(Я был при ней, убитый, но живой):
«О, как всё это я любила!»
Любила ты, и так, как ты, любить —
Нет, никому ещё не удавалось!
О Господи!.. и это пережить…
И сердце на клочки не разорвалось…
Ранняя смерть Е. А. Денисьевой 4 августа 1864 года тяжело переживалась поэтом. В смятении он оставил Россию, но и заграничное путешествие не могло вывести его из состояния глубокой душевной депрессии. И. С. Тургенев вспоминал, как Тютчев посетил его в эти дни в Баден-Бадене. Он вернулся из Ниццы, где только что написал своё знаменитое стихотворение «О, этот Юг, о, эта Ницца»:
О, этот Юг, о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет – и не может…
Нет ни полёта, ни размаху —
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья…
Они зашли, чтобы поговорить, в кафе на бульваре и, спросив себе из приличия мороженого, сели под трельяжем из плюща. Тургенев молчал всё время, а Тютчев болезненным голосом говорил, говорил, и грудь его сорочки под конец рассказа оказалась промокшей от слёз.
В поэзии эти переживания наиболее глубоко отразились в двух стихотворениях: «Есть и в моём страдальческом застое…» и «Накануне годовщины 4 августа 1864 года».
Есть и в моём страдальческом застое
Часы и дни ужаснее других…
Их тяжкий гнёт, их бремя роковое
Не выскажет, не выдержит мой стих.
Вдруг всё замрёт. Слезам и умиленью
Нет доступа, всё пусто и темно,
Минувшее не веет лёгкой тенью,
А под землёй, как труп, лежит оно.
Ax, и над ним в действительности ясной,
Но без любви, без солнечных лучей,
Такой же мир бездушный и бесстрастный,
Не знающий, не помнящий о ней.
И я один, с моей тупой тоскою,
Хочу сознать себя и не могу —
Разбитый чёлн, заброшенный волною
На безымянном диком берегу.
О Господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей рассей:
Ты взял её, но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней, —
По ней, по ней, свой подвиг совершившей
Весь до конца в отчаянной борьбе,
Так пламенно, так горячо любившей
Наперекор и людям и судьбе, —
По ней, по ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить,
По ней, по ней, так до конца умевшей
Страдать, молиться, верить и любить.
И потом 3 августа 1865 года, на пути в Овстуг Тютчев написал стихи «Накануне годовщины 4 августа 1864 года», посвящённые године со дня смерти своей любимой женщины:
Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня…
Тяжело мне, замирают ноги…
Друг мой милый, видишь ли меня?
Всё темней, темнее над землёю —
Улетел последний отблеск дня…
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня…
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
Тютчев о причинах духовного кризиса современного человека
Предвосхищая Достоевского, Тютчев ставит точный диагноз болезни, поразившей европейское общество. В стихотворении «Наш век» он видит причину распада личности в утрате религиозной веры:
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушён,
Невыносимое он днесь выносит…
И сознаёт свою погибель он,
И жаждет веры – но о ней не просит…
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! – Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»
Возникшая в эпоху кризиса европейского гуманизма эпидемия неверия распространяется не только по Западной Европе, но угрожает и любимой Тютчевым России. Поэт считает, что в эпоху реформ и революций этой болезни России не избежать. Но он же и предсказывает, что обуздает русский хаос «сердечное знание Христа», которое вслед за Тютчевым будет считать спасительным для русского человека и Достоевский:
Над этой тёмною толпой
Непробуждённого народа
Взойдёшь ли ты когда, Свобода,
Блеснёт ли луч твой золотой?..
Блеснёт твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы…
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,
Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, —
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа…
Поэтическое открытие русского космоса
В 1844 году в жизни и творчестве Тютчева совершается поворот, связанный с окончательным возвращением поэта в Россию. К этому времени завершается становление его историко-философских убеждений в трёх замечательных статьях, написанных на французском языке и адресованных западноевропейскому читателю: «Россия и Германия» (1844), «Россия и революция» (1848), «Папство и римский вопрос» (1849). Политические идеи Тютчева – это реакция на европейские революции. В России он видит великую империю, исповедницу христианской веры в православном её существе. Он надеется, что русская христианская кротость и смирение излечат Россию и Западную Европу от духовного кризиса, от анархического индивидуализма.
Революция, по Тютчеву, – это политический авантюризм: ей чужда органика жизни, она стремится перекроить мир по воле сумасбродных фантазий своих «детей», своих «служителей». Эти служители, как мясники, отделяют живые члены от туловища под предлогом сообщить им более свободы в движениях. Тютчев видит в современной Европе (включая и Восточную) только две силы: Революцию и Россию. Они противостоят друг другу, они враждебны и, может быть, завтра вступят в непримиримую борьбу. Почему она неизбежна?
Революция Запада по духу своему – враг христианства. В её основе лежит обожествившее себя человеческое Я. Возгордившийся, возомнивший себя Богом человек хочет зависеть только от самого себя и не признаёт другого закона, кроме собственного волеизъявления. Человеческое Я в революции заменило собою Бога. Революция – это возведённое в политическое и общественное право «самовластие человеческого Я».
Тютчев одним из первых в русской литературе, предвосхищая Толстого и Достоевского, даёт оценку деяний французского императора с религиозно-нравственных, православных позиций. «Риторика по поводу Наполеона, – скажет он в заметках к книге “Россия и Запад”, – заслонила историческую действительность, смысл которой не поняла и поэзия. Это Центавр[52], который одной половиной своего тела – Революция».
Л. Н. Толстой в «Войне и мире» судит наполеоновскую гордыню «мыслью народной», которая в основах своих смыкается с мыслью христианской: «Для нас, с данной нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды».
В стихотворении Тютчева «Неман» (1853) горделивые претензии французского императора так же терпят крах при столкновении с Россией и её народом, вдохновляемым не земным, а Божьим пламенем православной веры. Наполеон изображается здесь в момент перехода его войск через Неман и вторжения в русские пределы:
Победно шли его полки,
Знамёна весело шумели,
На солнце искрились штыки,
Мосты под пушками гремели —
И с высоты, как некий бог,
Казалось, он парил над ними
И двигал всем и всё стерёг
Очами чудными своими…
Лишь одного он не видал…
Не видел он, воитель дивный,
Что там, на стороне противной,
Стоял Другой – стоял и ждал…
И мимо проходила рать —
Всё грозно-боевые лица,
И неизбежная Десница
Клала на них свою печать…
А так победно шли полки —
Знамёна гордо развевались,
Струились молнией штыки,
И барабаны заливались…
Несметно было их число —
И в этом бесконечном строе
Едва ль десятое число
Клеймо минуло роковое…
«Чудные очи» человека, вообразившего себя Богом, слепы. Провидение, по Тютчеву, стоит на страже России как страны православной, сохранившей в чистоте основы христианской веры. Поэтому гражданские стихи Тютчева пишутся как бы от лица Силы, более властной и могущественной, чем сам поэт. Отсюда их одический, витийственный характер: в них обращается к миру вдохновляющий поэта пророческий дух.
В плане всемирно-историческом Восточная Церковь непосредственно восходит к изначальному христианству, а не к Римской Церкви. Отсюда прямо вытекает вера Тютчева в особое всемирно-историческое призвание России как Богоизбранной страны. В статье «Папство и римский вопрос» Тютчев говорит, что Рим создал Запад по своему образу и подобию. «Скоро исполнится восемь веков, как Рим порвал последнее звено, связывавшее его с православным преданием Вселенской Церкви. Создавая себе в тот день свою отдельную судьбу, он на многие века решил судьбу Запада».
В чём грех папства? Спаситель сказал: «Царство Моё не от мира сего». Рим же решил устроить Царство Христово как царство земное: божественное он подменил человеческим, конфисковал христианское предание, исказив его в пользу светского интереса, в пользу «римского Я». Западная Церковь утратила Христов облик: она превратилась в учреждение, стала государством в государстве, привязалась к праху земных интересов. Папство навязало Римской Церкви войну с государством, соперничество с ним, ожесточённую схватку между первосвященником и императорами. Этот святотатственный поединок продолжался все средние века и подорвал духовный авторитет Римской Церкви, нанося одновременно смертельный удар земной власти, разрушая Западную империю. Реформация XVI века была взрывом протеста против власти искажённой папством Церкви. Именно папство породило протестантство, завершившее обмирщение духовных основ христианской веры, православного предания. Во имя человеческого, личного Я протестантство упразднило Церковь и, просуществовав три века, теперь «умирает от истощения в тех странах, где оно до сих пор господствовало»:
Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой —
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.
Не видите ль? Собравшися в дорогу,
В последний раз вам вера предстоит:
Ещё она не перешла порогу,
Но дом её уж пуст и гол стоит, —
Ещё она не перешла порогу,
Ещё за ней не затворилась дверь…
Но час настал, пробил… Молитесь Богу,
В последний раз вы молитесь теперь.
Следует сказать, что вера Тютчева в мессианское призвание России тоже подвергалась драматическим искушениям. Надежда на русскую политику Николая I, появившаяся в первые годы его царствования, вскоре показала свою несостоятельность. Крымская война со всей очевидностью подтвердила её. Поражение России заставило Тютчева подвергнуть деятельность умершего государя беспощадной критике: «Для того, чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека»:
Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, —
Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.
11 октября 1855 года Тютчев писал М. П. Погодину: «Более тысячи лет готовилась нынешняя борьба двух великих Западных племён противу нашего. Но до сих пор всё это только были авангардные дела, теперь наступил час последнего, решительного, генерального сражения… Все авангардные дела были нами проиграны, – от исхода предстоящей борьбы зависит решение вопроса: которая из двух самостоятельностей должна погибнуть: наша или Западная; но одна из них должна погибнуть непременно – быть или не быть, мы или они… Теперь, если мы взглянем на себя, то есть на Россию, что мы видим?.. Сознание своего единственного исторического назначения ею совершенно утрачено, по крайней мере, в так называемой образованной, правительственной России. Живёт ли оно в народе, одному Богу известно»:
Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!
Созрела жатва, жнец готов,
Настало время неземное…
Ложь воплотилася в булат;
Каким-то Божьим попущеньем
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем…
Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
Во имя света и свободы!
Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье, —
Ты – лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье!
О, в этом испытанье строгом,
В последней, в роковой борьбе,
Не измени же ты себе
И оправдайся перед Богом…
В заметке «О цензуре в России», написанной вскоре после Крымской войны и адресованной министру иностранных дел, князю А. М. Горчакову, Тютчев сказал что «судьба России уподобляется кораблю, севшему на мель, который никакими усилиями экипажа не может быть сдвинут с места, и лишь только одна приливающая волна народной жизни в состоянии поднять его и пустить в ход». Эту приливную волну Тютчев постоянно ощущал с 1844 года, с момента своего возвращения в Россию:
Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звёзды рдеют,
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют…
Усыпительно-безмолвны,
Как блестят в тиши ночной
Золотистые их волны,
Убелённые луной..
Н. Я. Берковский писал: «Стихотворение это на первый взгляд кажется непритязательным описанием… Между тем оно полно мысли, и мысль здесь скромно скрывается, соответственно описанной и рассказанной здесь жизни – неяркой, неброской, утаённой и в высокой степени значительной. Стихотворение держится на глаголах: рдеют – зреют – блестят. Даётся как будто бы неподвижная картина полевой июльской ночи, а в ней, однако, мерным пульсом бьются глагольные слова, и они главные. Передано тихое действование жизни… От крестьянского трудового хлеба в полях Тютчев восходит к небу, к луне и звёздам, свет их он связывает в одно с зреющими нивами… Жизнь хлебов, насущная жизнь мира, совершается в глубоком молчании. Для описания взят ночной час, когда жизнь эта полностью предоставлена самой себе и когда только она и может быть услышана. Ночной час выражает и то, насколько велика жизнь – она никогда не останавливается, она идёт днём, она идёт ночью, бессменно…» Вера в естественный, органический ход национальной жизни, ведомой Божественным Промыслом, питала оптимизм Тютчева в минуты испытаний, которые переживала его Родина.
Существенные перемены происходят теперь в поэтическом творчестве Тютчева: хаос страстей постепенно умиротворяется. В зрелых произведениях поэта намечается выход к православной вере, призванной спасти современную эгоистическую личность от душевного опустошения и саморазрушения. Удивительно, что логика развития творчества Тютчева предвосхищает путь духовных исканий героев Достоевского: от сомнений, неверия, душевных метаний – к христианскому возрождению падшего человека. Одновременно в лирике позднего Тютчева совершается поэтическое открытие народной России:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
Стихотворение открывает тайну христоцентричности всей русской истории и всей русской литературы. У России свой неповторимый путь, потому что её народ за внешним долготерпением скрывает высокую духовность, тайно, прикровенно носит образ Христа в сердце своём. Иноплеменный взор на Россию именно в силу своей гордыни никогда «не поймёт и не заметит», что скрывается за «смиренной наготой» русской природы и русского православного человека.
Перемены, случившиеся в лирике поэта, особенно очевидны при сопоставлении двух перекликающихся друг с другом стихотворений – «Осеннего вечера» (1830) и «Есть в осени первоначальной…» (1857). В «Осеннем вечере» природа не конкретизирована: «светлость осенних вечеров» не представлена в живой и зримой картине. В позднем стихотворении она приобретает яркую живописную изобразительность:
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Даже время года в этом стихотворении детализируется: не осенний вечер вообще, но «лучезарный» вечер «осени первоначальной».
Если в «Осеннем вечере» образ пространства не заземлён и универсально всеобъемлющ – «туманная и тихая лазурь над сиротеющей землею», – то в поздних стихах поэтическое зрение Тютчева становится предельно острым. Картина осени имеет тут чисто русскую окраску благодаря мастерски подобранным деталям:
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё – простор везде, —
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Наконец, сопоставляя эти стихи, нельзя не заметить эволюции в самом душевном состоянии поэта. В «Осеннем вечере» его чувства трагически напряжённы, в них ощутим некий преизбыток неупорядоченных, хаотических сил, готовых прорваться и разрешиться катастрофой:
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою…
В поздних стихах чувства поэта обретают умиротворённость и национально-русскую окрашенность. За картиной осени по-прежнему стоит образ склоняющейся к закату человеческой жизни. Но теперь поэт находит в осеннем увядании особую прелесть и гармонию: отшумели тревожные страсти, чувства стали сдержанными, просветлёнными, очищенными от эгоистических желаний, полными щедрой самоотдачи:
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь —
И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле…
Те же перемены можно заметить и в любовной лирике поэта. Пушкинским «чудным мгновением» повеяло от его послания «К. Б.» («Я встретил вас…»), положенного на музыку Леонидом Дмитриевичем Малашкиным:
Я встретил вас – и всё былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло…
Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенётся в нас, —
Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты…
Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне, —
И вот – слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне…
Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, —
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..
Были положены на музыку С. Рахманиновым и последние, предсмертные стихи Тютчева:
Всё отнял у меня казнящий Бог:
Здоровье, силу воли, воздух, сон,
Одну тебя при мне оставил Он,
Чтоб я Ему ещё молиться мог.
Вопросы и задания
1. Подготовьте рассказ о «малой родине» Тютчева.
2. Дайте характеристику поколению «любомудров», определите отличие их общественной позиции от декабристов, раскройте их роль в становлении самобытной русской мысли и философской лирики.
3. На примере самостоятельно отобранных стихотворений покажите своеобразие изображения природы в лирике Тютчева, особенности её метафорического языка.
4. Подберите самостоятельно стихи Тютчева, в которых идет борьба космических и хаотических стихий бытия.
5. Сравните любовную лирику Тютчева с пушкинскими стихами и покажите ее своеобразие.
6. Подготовьте рассказ о переменах в поздней лирике Тютчева, используя раздел учебника «Поэтическое открытие русского космоса» и собственные наблюдения над стихами Тютчева этого периода.
[52] Центавр, или кентавр в древнегреческой мифологии – существо с головой и торсом человека на теле лошади.
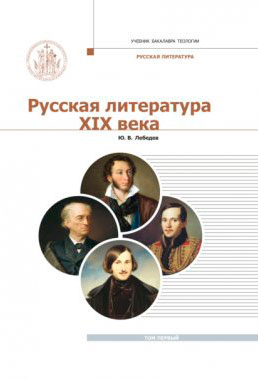
Комментировать