Поездка в Румелию
Константинополь. 1 мая 1865 г.1 Суббота.
Что такое: Румелия? Рум – или значит: страна Римлян или точнее Ромеев, т.е. Греков по турецкому словоупотреблению, короче бы сказать: Греция, если бы около 40 лет уже под этим названием не была известна Европе одна только южная оконечность Румелии. Несмотря на происшедший в 30-х годах сего столетия политический переворот в «Римской земле», постоянно учащиеся и ничему не научающиеся владетели её фатально продолжают называть её старым именем, давая тем даровой повод всякому, кто заинтересован в деле, смотреть на Румелию со всякой другой, только не турецкой, точки зрения; заинтересованы же тут, конечно, прежде всего, Римляне, именем коих зовётся страна. Где же эти славные и презнаменитые собственники не принадлежащего им владения? В ... истории! такой ответ, кроме остроты, заключает в себе и положительный смысл – резкого политического оттенка, выгодный многим на Востоке, в том числе и в Турции. Не знаем только, насколько он приходится соответствующим возлагаемым на него различным надеждам... Дух времени старается, насколько может, игнорировать этого троянского коня. Он выезжает на политическую арену на других любимых своих коньках – факте и силе. Где не возьмёт одним, берёт другим! К истории же прибегает уже тогда, когда заметит, что коньки-то не вывозят его туда, куда нужно. Ибо – на беду или на счастье – и история есть тоже факт и тоже сила, и порознь, и вместе, смотря по тому, кто чего в ней поищет! А искать в ней того или другого есть кому на Востоке. То, что для посторонних зрителей сего, таинственного своими судьбами (и именем), Востока может казаться одною умственною забавою, невинною игрою в давно отжившие понятия, предания, имена и лица, для местных деятелей представляется делом первостепенной важности, чуть не вопросом жизни. Где не чаешь, встретишься с «патриотизмом такого склада, цвета и закала, о каком и понятия не имел дотоле. Туристу, разъезжающему по восточной окраине Средиземного моря с целью, как говорится, «людей посмотреть и себя показать», можно советовать избегать бесед со «встречным и поперечным» об отживших, по общему убеждению, предметах древней истории и даже мифологии. Мы не можем забыть, как одна, самая невинная, шутка на счёт доблемужества (ἀνδραγάθημα) пресловутого Иракла (Геркулеса) при дворе царя Авгия вызвала однажды совсем нежданную вспышку в одном «патриоте», заметившем горячо: наши Ираклы, по крайней мере, очищали что могли, а ваши только гадили в истории. Недаром такая запальчивость. Это говорит претендент на какое-нибудь историческое или географическое наследство «Восточное». Есть немалочисленные наследники и громкого имени Римского. И, по странной случайности, именословные права их на наследство находятся в обратной пропорции с действительными. Имя Римлян – Romani – фактически досуществовало до нашего времени только в Румынах. Но; конечно, никому в голову не придёт считать Румелию практическим достоянием Влахов, пусть даже – Даков (а по нашим исследованиям – Печенегов), хотя под названием Куцо-влахов и Цинцар их можно встретить, говорят, враздробь по всей Румелии. Другими, прямыми – по метрическому, так сказать, свидетельству, наследниками «Римской 3емли» могли-бы быть народы приснопамятной Римской Империи, переходившей в течение веков с места на место из Италии во Францию, из Франции в Германию (заглянувшей даже в Испанию), и досуществовавшей с грехом пополам до текущего столетия. Но и эта «калика перехожая» в 1804 г. скончалась и торжественно погребена Европою, по приказу тогдашнего её диктатора. Настоящих, документальных «римлян», таким образом, не стало. Но, упомянутые выше, ничему не научившиеся арендаторы Востока, кроме слова Рум-или, к счастью имеют ещё другое, за которое крепко и ухватились – было в достопамятный 1853 год, и продолжают держаться доселе. Это ходячее и официальное в Турции слово есть: Рум–милети, т.е. род или народ: Рум, представляющий собою если не преимущественную, то, во всяком случае – существенную часть Турецкой державы. В нём заключается неоспоримый документ народа Рум = Ρωμαίων = Romanorum на право владения Румелией – по юрисдикции буквы и фатальной Турецкой практики. Только опять беда. В настоящее время оказывается существующим не в истории уже, а в географии, изучаемой всею Турцией, королевство Рум, которому имя его служит отличною посылкою к понятному без намёка, политическому силлогизму. Не берёмся судить, насколько он приятен и вожделенен властителю Румелии «Великому Турку», как его называли в средние века. Может быть он, в своём величии, совсем и не рассуждает о такой мелочи. Нигде на свете так не чтится и не веруется любимое божество лености и неспособности – fatum, как в Турции. Там есть Рум, а здесь есть Рум–или, думает фатопоклонник. Ну, что ж? Значит, так и быть должно. Остаётся быть покойным... до радостного утра! А если бы он хотя мало сдвинулся со своей точки зрения, то в fatum прочитал бы, может быть, только factum его собственного произведения, который можно толковать до того различно, что при небольшой изворотливости схоластики, Румелии не останется и помину при этом, а из мрака, нагнанного её именем, возникнут Миссия, да ещё и не одна, Иллирик и Норик, Фракия и Дакия, Мигдония и Македония, Пеония, Пелагония, Бизалтика, Халкидика и несчётное множество других имён и прозваний, и вероятно даже простых прозвищ, хороших уже тем, что их много... Но – учить своего компатриота (по Туркестану) мы не будем. Тот, кто его послал и, так сказать, навалил на Восток, знал и знает, что делать, и не без Его конечно намерения, по крайней мере – соизволения, существует до наших дней так называемая Румелия, столько веков привлекающая к себе взоры востока и запада, севера и юга. Кто там не бывал из великих деятелей исторических? Ксеркс, Александр, Пирр, Антиох, Мифрадат, Цезарь, Константин, Аттила, Святослав, Барбарусса, Баязид... и столько других славных воителей и завоевателей ходом ходили по перепутной Румелии. Пытаюсь рисовать её себе воображением по периодам, если уже не по векам, держа перед глазами исторические карты Целлярия, Крузе, Шпрунера и ещё кое-кого. Что за хаос имён и пограничных делений! И не перечтёшь всех государств и всех народов, и народцев, в разные времена пестревших на балканском, как теперь его зовёт география, полуострове – от всесветной Македонской до микроскопической Черногорской державы. Сколько различных языков в разные времена слышалось на пространстве нынешней Румелии, и доселе ещё слышится! Каких религий там не перебывало! Каких орудий убивать ближнего ни за что ни про что не перепробовано! Каких кровопролитнейших сражений не видела и не вынесла на себе историческая почва!
Все эти восклицательные знаки имели для меня последствием своим один вопросительный: не побывать ли в такой, полной археологического интереса, стране? Ответ на это условливался двумя обстоятельствами: позволением и, так сказать, произволением. Первое естественно должно было предшествовать последнему, и, по особенным соображениям, не представляло в себе ничего, над чем бы можно было задуматься. По второму предстояло пройти через целое горнило помыслов.
Отличное дело – прокатиться по Румелии от моря до моря, но для этого требуются: крепкое здоровье, туго набитый кошелёк, значительная доля храбрости, терпенья и уменья и наконец – достаточная учёная подготовка, чтобы к ожидаемому не почерпаемому dulce примешивалось хотя маленькое utile. Рискнуть на поездку, запасшись одним Изамбером2, можно было, конечно, но за то следовало проститься с мыслью вынести из неё с собою какие-нибудь «заметки», «записки», «очерки» даже простые «путевые впечатления», достойные печатного слова. Широкий Рот3, пожравший столько моих денег за разные, большей частью до сих пор неразрезанные, иностранные книги, отрекомендовал, но отказался доставить, мне подробный дорожник некоего Ami Boué всей Европейской Турции. Зато попались недавно в руки «Les Turcs» греческого туриста – стратегика В. Николаиди4, проехавшего всю Румелию вдоль древний Via Egnatia, и сумевшего обратить (целыми сёлами) Болгар в Греков на том законном основании, что Турки вообще всех православных зовут Греками (Рум). Если присовокупить к этим пособиям Целлярия с Пестингеровою картой, да выдержки из Oriens christianus и двух-трёх Византийцев, то вот и весь мой книжный запас, которым пришлось бы воспользоваться при возможной попытке поставить на ноги историю того или другого прославленного места. Две карты Европейской Турции – немецкая Киперта5 и болгарская, очевидно переделанная из кипертовой, дополняли мою дорожную библиотеку.
цр҃ь-град. 4 мая 1865 г. Вторник.
Всё вышеописанное надумано было мною вчера и третьего дня под влиянием рассказов о Румелии одного «родолюбца» книгоноши, румелийского уроженца, в тишине уединения у любимого окна, из которого открывается вид прямо на Св. Софию, на Дворцовый мыс, на порт Византийский и на гигантский Царь-город, глубоко и широко расстилающийся внизу на юг и на восток и представляющий восхитительную панораму зданий, зелени, воды, целого леса мачт, поминутно снующих лодок и целых пароходов, венчаемую высокими горами на далёком горизонте. Эти голубые линии, отделяющие дол земной от выси небесной, принадлежат уже другой части света, и другой половине Турецкой империи, которую в соответствие имени: Рум-или, следовало бы назвать Тюрк-или, так как там преобладающую стихию народонаселения составляют Турки. А между тем зовётся она официально: Анадоли, т.е. Анатоли = восток. Словом этим открывается бесконечная историческая перспектива, от которой не отвёл бы глаз. Восток есть колыбель человечества. Довольно сказать это, чтобы сделать мысленный поклон в ту сторону, «откуда свет истек». Человеку, любящему припоминать дни древние и помышлять о летах вечных, нет пригоднее места для этого, тоже в своём роде умного, делания, как Византия, от которой и без того на русскую душу веет чем-то своим, близким, но таким давним, что теряются все различительные черты дорогого образа, и остаётся в душе одно общее представление чего-то неодолимо влекущего, как память о матери у человека, осиротевшего в детстве. Малейшую долю как бы лежащего на мне археологического долга перед Востоком, я уже выполнил, посетив за три года перед этим6 ближайшую к месту теперешнего наблюдения, окраину Анатолии, и изблизи повидав те, чарующие взор, очертания снежных гор, которыми заканчивается юго-восточный горизонт. Тем сильнее чувствовалась тяжесть другой половины (скромнее – доли) долга – посетить западную часть гостеприимной империи, вот уже пятый год дающей мне затишный и, я справедливо бы мог сказать, неоценённый приют.
Пера. 7 мая 1865 г. Пятница.
Из приведённых выше соображений наиболее внушительным я считал параграф о храбрости, потребной несравненно в большем, нежели сколько у меня есть, количестве для того, кто задумал бы странствовать по внутренним, закрытым для воздействия Европы, местностям Турции, а, следовательно, и Румелии. Вся гористая полоса её за Адрианополь к северу и за Солунь к западу мне представляется одним сплошным гнездом хищников, которых вся (и единственная) профессия состоит в том, чтобы поджидать, ловить и обирать, а то и убивать, дорогих гостей, несущих им законную, и Богом внушённую – по их понятиям, дань от своих избытков. Нужно нанимать себе конвой, придать лицу своему значение бо́льшее, чем есть и чем иметь хочется, запасаться рекомендательными письмами, этикетировать с разными властями, держать при себе переводчика, и пр., что всё совершенно не по духу мне, да и не по платью, если уже говорить всю правду. Как же быть? Оказалось – так, как бывает с тем ловцом, на которого зверь бежит, т.е. ухватиться обеими руками за тот случай, который совсем неожиданно посылает Бог. В консульском составе нашего посольства при Высокой Порте произошла перемена. Занимавший до сих пор консульский пост в Битоле, г. X* получил перевод в Константинополь, а один из чиновников генерального консульства здешнего, г. Я* определён на его место. Оба чиновника собираются вместе отправиться в Битоль: один сдавать, другой принимать консульство. Можно ли было придумать что-либо лучше сего для выполнения моих задушевных желаний? На робкие осведомления мои о пути в самое, так сказать, сердце Румелии, и главным образом об его безопасности, мне коротко и ясно, и вполне удовлетворительно было сказано, что такое официальное лицо, как консул, может в сопровождении одного каваса искрестить всю Европейскую Турцию благополучнейшим образом. Итак, оставалось напроситься в товарищи к неустрашимым путешественникам и готовиться в путь. Разумеется, отказа не было. Даже и на счёт того, как бы не оправдалось на нас слово Премудрого: кое причастие горнцу с котлом? Сей приразится, и той сокрушится, – на таком дальнем и длинном пути, последовало успокоительное заверение, что вся компания – более или менее – будет состоять из горнцев, да уже и подержанных, так что рискнуть кому-нибудь, в видах удальства, сокрушить свои кости едва ли придёт охота.
5 Мая в Среду ударили по рукам, двое с их и двое с нашей стороны. Ко мне пристал одной, как говорится, масти со мною человек, страстный неохотник сидеть на одном месте, давно порывавшийся повидать, как живут на своей праотеческой земле любезные ему, единоплеменные сиромахи Бу́гаре, которых ищут умственно и гражданственно подавить, не менее любезные, единоверные феомахи Грецы или точнее Греци. Для меня такой заинтересованный наблюдатель страны, в которую мы собирались ехать, был дорогою находкою. А если ещё прибавить к тому, что он владеет пятью языками – в том числе и болгарским, – то можно назвать себя просто счастливым, имея такого, и столько приспособленного к делу, спутника. На упомянутом рукобиении условились было завтра же отправиться в путь, воспользовавшись отходом в Солунь дешёвого французского парохода. Но одна «треба», имеющая совершиться в посольской церкви непременно 9-го Мая, задержала нас вот чуть не на целую неделю. За это время мы планируем предстоящую поездку на всевозможные лады. Карта балканского полуострова, можно сказать, не выходит из рук. Сложившиеся обстоятельства указывают нам, прежде всего неотложный путь морем до Солуни, и оттуда сухопутьем до Битоля. А далее – что? Здесь-то и открывается поприще праздношатательству фантазии. Решено было, во что бы то ни стало, заглянуть в так называемую Старую Болгарию и побывать в Охриде, откуда выбраться на Адриатическое море или через Эль-Бассан (Albanopolis) в Дураццо (Диррахий), или через Берат (Велеград) в Авлону, где и ожидать срочного Ллойдова парохода, который возвратит вас в Константинополь. Так поступить казалось нам и проще и вернее и – главное – экономнее. Но сердце не лежало к этому направлению – и не знакомому и не занимательному, и весьма небезопасному: по причине разбойнического духа местных жителей, столько известных Албанцев или Арбанитов. Более манит меня к себе путь северный, полный исторического интереса, на город Призрен, когда-то столичный кралевства Сербского, на славный монастырь Дечанский, хранящий в себе мощи Св. Стефана, седьмого из кралей Неманевой династии, славного своими несчастиями, – на бывший патриарший город Пек или Ипек, – на знаменитую Студеническую Лавру, – на Крагуевац с его скупштиной, и наконец – на Дунай, который вынес бы нас в Чёрное море и затем в наш несравненный Воспор. После неоднократных в подобном роде, так сказать, репетиций предположенной поездки, мы остановились, наконец, на добром правиле доморощенной русской философии: «утро вечера мудренее». Под первым разумелось одно из тех, в которое мы, насмотревшись в сытость на Первую Юстиниану и на омывающее её Лихнидское озеро, по указанию обстоятельств, не сообразимых в Константинополе, изберём либо север, либо запад.
Бей-Оглу. 9 мая. Κυριαχή.
Как вчерашнее: Пера, так сегодняшнее: Бей-Оглу суть разноязычные названия одного и того же предмета, т.е. местности, которая простирается далее (πέραν) предместья: Галата, смотря на последнее из Константинополя, и на которой в какие-нибудь, не очень памятные и совсем нестоящие памяти, времена обитал, вероятно, некий «сын (о́глу, а по знакомому нам татарскому произношению – углан) Бея». Если представится другое, более верное, объяснение турецкого названия родного, в некотором смысле, угла, мы не имеем ничего против этого. Чем ни замарано негодное к употреблению платье, всё равно... Менее равнодушным можно оставаться к названию времени, чем места, в заголовке. Во всём христианском мире одни мы – русские – называем Господний день (= Κυριακή ἡμέρα, Dominica dies, etc.) Воскресеньем. Как и когда осмелились мы сделать это, сто́ит исследования. Правда, и другие славяне не отстали от нас, характеристично придумав для первого дня седмицы имя недели, которое мы бесхарактерно распространили на всю седмицу. В маленьких вещах этих, право, есть своя философия. С незапамятных времён, как видно, мы начали смотреть на себя, как на полновластных распорядителей в своей «избе». Как далеко зашли мы с этим деревенским принципом вглубь церковной жизни, полагаю, всякий видит. Недалеко ходить за примером. Мы установили у себя праздник перенесения св. мощей Святителя Николая. Сносились ли при этом со всею полнотою православной Церкви? Неизвестно, но весьма сомнительно. Недавно мы внесли в лик Святых Божиих Святителя Тихона. А уведомили ли об этом всю церковь (τὴν καϑʼ ὅλου ἐκκλησίαν), т.е. кафолическую церковь, именем которой хвалимся? И чего,.. чего мы не вводили у себя, ни мало не помышляя о том, что мы составляем цельную часть всего общества верующих! Что же дивиться тому, что из всего православного мира у нас одних оказался, живёт и здравствует позорный раскол? Но... что толочь воду? Единственная польза от такого занятия – моцион – не вознаграждает понесённого труда. Возвратимся лучше к празднику Св. Николая – храмовому в той церкви, где мы сегодня служили. Живущему на Востоке и в частности в Константинополе многое из церковной практики нашей должно представляться в бо́льшей живости, ясности и как бы близости. Кто читал Синаксарь (Пролог), тот не мог не заметить, что почти в каждом сказании о Святом в конце прибавлено, что память его совершается там-то, в такой-то церкви, что всё относится прямо к Константинополю. Немало было в нём в старое время и посвящённых славному Чудотворцу храмов. Упоминаются – наприм. церкви имени его Дворцовая и Влахернская. Можно бы думать, что всемирная слава его началась именно с Константинополя, т.е. явлением его здесь (ещё при жизни) во сне императору Константину. Бывал ли сам лично великий Святитель в новой столице империи, не можем сказать. Год блаженной кончины его неизвестен. Константинополь официально стал именоваться с 330 года. После Никейского Собора, может быть, христианнейший государь и показал всесветному собранию епископов свою намеченную христианскую столицу Империи, которой епископ имел уже преимущественное значение на Соборе, в 325 году. Тогда и празднуемый ныне Святитель мог видеть и благословить предопределённое для толикой славы место. Какой-то несвидетельствованный рассказ о нём не усомнился, однако же, и прямо поставить его в Константинополе в достойной его чудодейственной славы обстановке. В силу его, Св. Николай, прибывши в столицу ходатайствовать за свой епархиальный город, явился будто бы в императорский дворец в виде убогого странника, и, после неласкового приёма от слуг, снявши сам с плеч своих дорожный плащ, повесил его, за неимением другого чего, на солнечный луч, проходивший из окна по передней... Кончая же свои дела здесь, отправил полученный от Царя в пользу города Мир указ прямо в свою епархию по морю, в тростниковой дудке... Всех сказаний о вселенском поистине Святителе, вероятно, наберётся не на одну книгу. В далёкой дали и в отдалённой перспективе детства припоминается мне рассказ «тётушки» о том, как ономе́дни (или: коёва́дни) в деревне Притыке к одной бабе, поленившейся пойти на «богомолье» по случаю безведрия, пришёл в избу один незнакомый старичок, и сказал: «а ты пошто не в церкве?» Баба грубо отвечала: «а тибе што за дело?» Но чуть она произнесла это, как нижняя челюсть её отвалилась. Несчастная поняла, что имеет дело с Николой батюшкой, стала молиться и каяться, и изцелела. Сколько таких сказаний ходит по свету, не занесённых на бумагу! Хотелось бы, по крайней мере, то, что занесено, собрать в одно место, и пересмотреть. П. П. И праздник отпраздновал, и треба исполнена. Прибавлю: и Ami Bouе́ достался в руки, хотя и не тот, т.е. не то именно сочинение учёного туриста, какое имелось в виду7.
12 мая 1865 г. Среда
Проводили сегодня всерадостный праздник Пасхи, и завтра собираемся в дорогу. «Дешёвый» пароход давно ушёл, куда ему путь лежал. Нам рекомендуют плыть на греческом, отправляющемся завтра вечером в наш путь. Наплававшись вдоволь на австрийских и французских пароходах, не говоря уже о своих русских, я с удовольствием согласился сесть на греческий пароход или пароплов, переводя точнее греческое слово: ἀτμόπλειον. С высоты своего наблюдательного пункта я уже не раз рассматривал его в зрительную трубу, отыскав его (по флагу) между десятком других пароходов, загромождающих бессменно древнюю пристань Византии, и прочитав даже имя его. Оно было: Семь-о́стров (Ἑπτάνησος), данное в честь так называемых Ионических островов, недавно присоединённых к Греции. Это из самых больших пароходов греческого Пароходного Общества и к тому же из самых новых, имеет довольно изящную структуру, и, как уверяют, весьма ходок. Вечер текущего дня посвящён был службе Божией и сборам. Один бывалец советует не минуть в Македонии древнего городка Сервии (в первый раз мною слы́шимого), где есть много остатков христианской древности и надписей. Повар, со своей стороны, рекомендует заехать на его родину, зовомую: Палё-пагонья, в переводе: Старая Погония, знаменитую только одним его рождением, как тут же дополнил один острослов. С трудом отыскав на карте оба места, лежащие под одним и тем же градусом широты, но одно при подошве Олимпа, а другое в подгорьях Пинда, на расстоянии 200 вёрст друг от друга и в стороне от всякой, возможной для нас, дороги, я наотрез отказался от удовольствия видеть их. Пагонийца огорчило подобное обстоятельство. На вопрос, что же у него там есть особенно замечательного, обиженный живо отвечал: как, что? Всё!.. Такое ultra-патриотическое утверждение развеселило собеседников, вообще несколько мрачно настроенных. Поездка предполагалась сроком на месяц, а в разговорах промеж себя не затруднялись отодвинуть предел её и на два месяца. Нужно было, потому, немало кое-чего привести в порядок на месте, и даже написать – на всякий случай – род завещания, хотя, опричь нескольких сотен книг, да с полдесятка оптических инструментов, и нечего было расписывать.
Эптанис. 13 мая 1865 г. Четверток.
Заботы разные не давали заснуть до самого почти утра. Они же, когда заснул, тревожили покой мой представлением моря, бури, крушения и избавления от неминуемой смерти весьма простым, хотя и оригинальным, способом – решением проснуться. День был настоящий Майский, – тихий, тёплый, грозивший к полудню, пожалуй, стать знойным. Напутствовав себя молитвою в посольской церкви по случаю праздника Вознесения, мы со спутником делали прощальные визиты. Из Греческого Агентства принесены были пароходные билеты, взятые до Фессалоники. Что-то вроде раскаяния или жаления о принятом решении странствовать вызвали в душе эти невинные бумажки. В своём месте и в собственной квартире они заставляли чувствовать себя чужим. Лень, привычка и робость прямо протестовали против них, внося в сердце ни с чем несообразное уныние. Живой и благодушный спутник, заметив моё раздумье, начал перечислять точно по книге: «Средиземное море... Олимп... боги... Александр Македонский... Болгаре... Юстиниан и Велисарий... древние монастыри... надписи... мемвраны...» Он знал мою антикварную слабость, и ловко заманивал меня в подкрашенную ловушку. Расчёт, конечно, был верен. «Мемврана», т.е. книга, писанная на коже или пергаменте, имеет для меня неотразимую прелесть. С того времени, как я познакомился с мемвранами, верхом благополучия мне кажется открытие в какой-нибудь безвестной кладовой какого-нибудь разрушенного монастыря или замка целой кучи мемвран, писанных унциалом I–III христианского века, если это письмо греческое, и X–ХII века, если оно – славянское. А в Старой Болгарии таких монастырей, говорят, непочатый угол.
Было уже 2 часа пополудни. В 4 пароход отходит. Нечего, значит, медлить. Истёртый чемодан, не так давно побывавший под 60° северной широты и 81° восточной долготы, уже отправился на спине хамала8 погулять ещё по белу-свету под другими, менее пугающими, градусами. Вскоре и мы последовали примеру своего багажа. 100 раз пересчитанные, 105 ступенек крылечных уже стали между мною и моим жилищем. «Поздравляю с приездом», говорит мне провожатый, ища развеселить меня. – Куда же? – В Румелию, конечно, – во Фракийский город: Перу, не известный ни Страбону, ни Птолемею. – Острить человеку было сподручно, потому что о́н укладывал незадолго перед тем в саквояж обоих писателей – географов. При выходе из «Москов-Серая» встречается нам почтенный сосед, «по бороде – Патриарх» (года за два перед этим объявивший мне торжественно, что «25 лет – срок духовенству») – Куда это вас?.. – спрашивает он, глотая конец фразы. – Что: вас? Бог несёт? или: несёт нелёгкая? в свою очередь спрашиваем мы. – Эх вы, неисправимые! – отвечает русский Мефистофель – всё у вас Бог да Бог! Не бось у Бога – то и кроме вас немало дела. – Такая отличная сентенция была последним напутием нам на твёрдой земле. Со «скалы» Русского Агентства мы сели в лодку и направились к «Эптанису». Послеобеденный ветер взволновал зыбкую стихию, и мы не без труда взобрались на трап парохода. – Ну, вот мы и в Греции! Как скоро! – восклицает всё тот же индюкоплевст, как окрестил его товарищ и соперник его по красноречию. – Греция не диво. А вот я вам докажу, что мы въезжаем уже в сердце Франции! – Географ, произнёсший слова эти, вытащил из кармана бутылку шампанского. «Гарсон» Иониец подал бокалы, и мы чокнулись за благополучное возвращение к месту благополучного отправления,... с гостинцами, конечно, под которыми разумелись, как оказалось, доброе здоровье и, приписанное нам в виде прощального комплимента, невозмутимое благодушие. Спасибо на добром слове! После дружеских излияний переполнявшего душу чувства наступило грустное прощание. С нырявшей в зеленовато-серых волнах лодки ещё махали вдали платками, как подвернувшийся пароходик Босфорский заслонил от нас всё, что было впереди.
Море опасный товарищ. Побратавшись с ним, неминуемо, думаю, держать при себе страх смерти. Правда, что реформатор мира, пар, уменьшил значительно этот страх, и даже, как говорил мне один мореход, научил совсем не думать о смерти, для которой столько причин и поводов на безопасной суше. Но, если не прямо страхом, то каким-то безотчётным унынием охватывает неотразимо душу зрелище беспредельного, однообразно волнующегося моря. Какая-то оставленность, сиротство, чуть не обида со стороны прочего мира, чувствуются в сердце у человека, вверившегося бессердечной, неумолимой и своенравной стихии. Страх-то, или тоска западают в душу, только первые минуты пребывания моего на пароплове эллинском не веселы. Развлекаюсь движением подплывающих и отплывающих лодок, сдающих пассажиров на палубу Эптаниса. Высокий «Серай Московский», отчасти прятающийся за прибрежным лесом мачт, тоже не сходит с поля зрения. Пять окон его третьего этажа, обращённые на юг и завешенные теперь, на время отсутствия хозяина, шторами, шлют душе не прошеную память тоже целого ряда окон заветного дома, отчего и оставляемой на пригорке, за поилицей Солодянкой, родной семьи, пригорюнившейся и пристально смотрящей на увозимого в школу «беднаго парня». Бедным-то, пожалуй, и за правду можно было назвать его в то, невесёлое для него, время. Наука (Латинская и Греческая долбня) не давались «парню». В классе9 он сидел «низко», к злоименному «порогу» ходил часто, «без обеда» оставался чуть не по седми раз на неделе, в «нотате» почти постоянно значился под иероглифами NB и ǒК, в редкость – ЄR и АМ, и почти никогда – S и Г, – до того, что наиболее туживший о нём, имя рек помышлял уже взять «тупицу» из школы, и будущего археолога обратить в борноволока... Давно всё это было, и очень далеко от Византии, которую и тогда ленивый ум, впрочем, уже ловил под всяким подходящим образом, а наука, вооружённая «лозой» и «безобедом», постоянно искала закрыть от воображения, подставляя ему, вместо светлого видения, мрачный урок, урок, и больше ничего! Какое-то чудовище, стучащее и пыхтящее, как бы уразумев ход моих мыслей, ищет вот и в настоящие минуты заслонить от меня, уже телесно и самолично стоящую передо мною, Византию. Это был – Ллойдов Плутон, тоже собиравшийся выйти в море, и поворачивавшийся не совсем вежливо перед нашими Седмью-островами. Как будто даже что-то презрительное заметил я при этом в нём по отношению к своему соседу. Итало-немецкое пароходное общество, сколько мне известно, действительно несколько свысока относится к эллинскому, чуя в нём себе соперника не дюжинного разбора. Когда заводилось последнее общество, помнится мне, была речь в Греции о том, что Лдойду дадут, выражаясь по-гречески «башмаки в руки», т.е. предложат убираться с Богом из вод Греческих. Это исконно-вечное соперничество Адриатики с Архипелагом, Зевса с Юпитером, алфавитария с абецедарием, одним словом: латинства с гречеством нигде так не дало себя знать, как тут, в Византии, – этом невпопад придуманном, Новом Риме. Византия почти ровесница заморской Роме, которую, конечно, не церемонилась в своё время обзывать «варварскою». И вдруг ей приходится, в виде не знать какой чести, присвоить себе её, уже довольно изношенное и дискредитованное имя, да ещё и с прибавкой новизны, т.е. как бы начинания быть тем, чем стала та. Как бы то ни было, Великий Константин свёл давних соперников. Восток и Запад, так сказать, повенчались 11 Мая 330 года. Рим и Византия, вышли из-под венца Константинополя. Конечно, ничего лучше этого не придумал бы христианин Император для расшатавшейся державы Цезарей, но мне думается, что в критической «нотате» дел его неумолимый аудитор всё же не поставит ему ни S, ни Г под сказанным числом месяца и года, а скорее пометить степень государственной исправности его скромным ЄR. Погрешил тут собственно не император лично, а наследованный им порядок вещей. Памятный совет лорда Редклифа грекам, устроившим ласкательно знаменитому дипломату в недавние времена прощальный обед, постараться размножиться, годится не для одних нынешних Греков. Его всякий имел право дать в старое время Римской Империи. Высока была она, конечно, по всем измерениям геометрическим, но вместе с тем и редка или жидка, – сквозила вся. Её едва хватало на Запад. Для Востока требовалась, таким образом, другая вспомогательная стихия. Не нужно было отыскивать её. Она была у всех на виду. Всё восточное побережье Великого Моря высматривало гречески, и представляло из себя даровую, так сказать, силу, за которую и ухватилась ослабевшая Империя Латинская. Тут-то и вышел оный erravit! Сила-то была только перспективная, или и просто фиктивная. Греческая стихия была ещё реже и тоньше Латинской. Обе вместе они казались не густым и сплошным покровом, а скорее каким-то прозрачным флёром, наброшенным на существовавшую ещё, по физическому закону «инерции», но уже треснувшую по всем направлениям Империю, сквозь который (флёр) можно было видеть всю её сколоченность и сшивность на живую нитку. Когда действительная сила устремилась на неё с севера и юга, искусственно сплочённое целое рассеялось перед нею, как лёгкое облачко в небе, и, давно уже в разводе проживавшие под именем Константинополя, Рим и Византия преобразились, в посмеяние всякой истории и филологии, в Истамбуле, т.е. «В – городе» (εἰς τὴν πόλιν)!.. Вышел полный: nescit. Но... довольно издеваться над историческим явлением, последствия которого вовсе не смешны, и отзываются даже в настоящие минуты горем и бедою и глубоким религиозным и социальным разладом между миллионами преемников старого порядка вещей.
В 4 часа раздался на «Эпта́нисе» первый свисток. Другим знаменовался уже отход его. Круто поворотил он направо к памятному Халкидону и Принцевым островам, а затем направился прямо в Пропонтиду, по-русски: в Предчерноморье, по Турецкой карте (есть таковая. Пусть не сомневается читатель!) в Мермер-дениси́, т.е. в Мраморное море, и потом вдоль юго-восточной стены Константинополя, подставляя взору попеременно Великую Церковь, дворец Вуколеон, храм Сергия и Вакха, порт Феодосиев, Студийский монастырь и в самой оконечности – древний Кикловий с Золотыми Воротами... Всё это она – Византия робко заявляет о себе рядом памятников своего славного прошедшего. Конечно, большею частью их нужно отыскивать, и, исключая действительно «великой» Церкви, всё прочее разрисовывать воображением, чтобы приблизить к идее величия. Но для меня всё, носящее на себе печать угасшей столицы христианства, имеет в себе нечто, чарующее взор и мысль, – заменяющее и размеры протяжения и красоты изящества. Прощай ненаглядный образ! Из Босфора веет холодный ветер, очевидно – наш северяк, Понтиец. Солнце садится и посылает багровые лучи свои по всему Никомидийскому заливу, слабо отражаясь на куче упомянутых, тоже Седми островов, сливавшихся перспективно с высоким конусом Авксентиевой горы, до которой я до сих пор не удосужился добраться. Мало-помалу всё позади нас слилось в одну сплошную массу серо-фиолетового цвета. – А ведь есть над чем задуматься, не правда ли? – спросил меня по-гречески один пассажир, кивая головой к северу, и отвечая, так сказать, на мои мысли. Да! уж если завидев наш Киев, весь превращаешься в думу, то, конечно, не пожалеешь головы для поклонов Царю-граду. Много раз, странствуя там и сям по Востоку, я нудился ставить себя в положение грека, чтобы живее и, так сказать, первобытнее были те впечатления, кои неслись на сердце от той или другой исторической местности, совсем иначе, конечно, говорящей в родной слух греческий, чем в слух туриста, даже исследователя-историка, даже отъявленного византиста, но чужеплеменника. В виду ли такого чарующего зрелища, как панорама Константинополя, не пожелать на минуту стать греком? Какое жгучее, болезненное, раздражающее и вместе подавляющее, чувство должно возбуждать это видение в душе патриота, ещё носящего греческое имя, ещё говорящего языком двенадцати Константинов, ещё принадлежащего к той самой Великой Церкви (учреждения, а не здания), которая смогла досуществовать до его времени во всём, если не величии, то отличии своих древних почтенных форм веровых и деловых! И всё мне думается, что мысль современного византийца, носясь по широкому пространству 15 веков его истории, ни на чём столько не останавливается, как на грустном и достоплачевном периоде падения Восточной Империи, – на царствованиях Комниных и Палеологов. Наше доброе выражение: «с чужа жаль» знакомо мне не по слуху только. Царь Олекса и царь Калуян когда-то были на Руси такими же ходячими именами, как в недавнее время Наполеоны. Того, кто волей-неволей сидит целодневно у окна и смотрит на немой, но вопиющий облик Св. Софии, и теперь, пожалуй, занимает не столько Наполеон, сколько Палеолог. Первый, несмотря на то, что ещё продолжает благополучно жить и преуспевать во всём, чего ни пожелает, представляет из себя нечто решённое и сведённое к итогу. А последний при всём том, что перестал слышаться уже 400 лет, всё ещё, кажется мне, носит в себе не разрешимую загадку. Я верю, что неведомые пра-предки мои, при вести о полоне Царя-града неверным Салтаном, плакали, и думали в туге и кручине, что наступили уже последние дни. Добрые слезы! Трогающее отчаяние! Я желаю остаться верным вызывавшему их праотеческому благосердию. Конечно, безбожного Махумета я не проклинаю в бесплодной ярости, ибо знаю, что из множества славных в истории завоевателей он далеко не был ни самых жестоким, ни самым безумным, ибо знаю, что он, вопреки фальшивым иеремиадам, не въехал на лошади в Церковь Св. Софии по трупам христиан в сажень вышиною, и что кровь христианская не лилась рекою из храма Божия по площади, а напротив знаю, что в горестный день 29 Мая преславный храм часам к двум пополудни был совершенно пуст и разграблен – это правда, но не залит кровью, и что султан – завоеватель и иноверец, подъезжая к нему, слез с лошади, и пеший вошел в святилище. Величие его поразило азиата. Увидав, что один из турков ломает в одном месте мрамор, он спокойно спрашивает: «зачем ты портишь пол?» Тот отвечает: «из-за веры». Ответ должен был понравиться варвару изуверу. Вместо того, султан ударил мечом единоверца и сказал: «довольно вам сокровищ и плена. Здания городские принадлежат мне». Полумертвого грабителя за ноги вытащили из церкви. Может быть, это была единственная, пролитая в тот день в храме Св. Софии, кровь. За тем султан взобрался на престол и помолился оттуда Богу, по своему уставу. Назову и я его, вместе с огорчённым историком, за это «сыном беззакония» и «предтечею антихриста» но не стану возводить на него напраслины. Довольно и действительности. Она была вполне ужасна. Город стонал и вопиял стами тысяч беззащитных жертв неумолимой судьбы. С места, где я переживал воображением всеплачевный день Византии, я, конечно, не мог бы слышать раздирающих Душу голосов. Но, кажется, возле самого уха шипел противным диссонансом, почему-то очень знакомый, один голос, не то бранивший, не то поощрявший сражавшихся за Византию. Он принадлежал «кардиналу Исидору Сарматскому». Утром вертлявый человек тёрся около Палеолога на городской стене, а вечером уже благополучно себе плыл по Мраморному морю от нового Рима к старому. Москва-таки имела своего представителя при падении Царя-града. Не веселее стало от этого. Напротив, к физической тошноте, возбуждаемой начавшеюся качкой, присоединилась ещё другая, душевная. Да! плыл он тут где-то, Русский кардинал, улепётывая от беды, тоже в одну из Майских ночей. «Безбожный» Махумет разрушил все его унистические планы. Было о чём пожалеть и покрушиться человеку... Подалее от такого, даже мысленного, соседства! Я спустился вниз и улёгся на диване прямо над винтом, мерно и однообразно стучавшим в бездне. В 9 часов нам подали «цяй», а в 10 я уже покоился в своей каюте беззаботным сном... Исидора.
Калли́поль. 14 Мая 1865.
На рассвете что-то потревожило мой глубокий и отличный сон. Представлялось, что пелась какая-то однотонная нескончаемая песня, и вдруг перестала слышаться. Оказалось, что песню эту для сонного слуха и воображения распевала паровая машина; она кончила её, когда пароход остановился в урочной станции. За ночь он успел пройти весь Мармара и вошёл в Дарданеллы, выражаясь же «эллиникурно»10, – всю Пропонтиду, и вступил в Эллиспонт, ключом к которому служит рисующийся ещё неотчётливо за ранним временем на берегу, Доброград Херсониса Фракийского, мой старый, но не коротко знакомый. Много раз приходилось мне останавливаться в виду его, но ни разу, ни времени, ни охоты не было побывать в нём. И теперь, конечно, та же выйдет история. А сто́ило бы взглянуть на него из него самого. Есть некоторые селения человеческие, на долю которых хотя – нехотя выпадало быть историческими. Таковыми их делало их придорожное положение. Одним из таковых был Калли́поль, город весьма древний, но, не в пример другим, не отмеченный никаким преданием или свидетельством о своём колониальном происхождении, без чего, как у нас без метрического свидетельства, нет на Востоке хода и почёта историческому имени. Но, что он был первоначально поселением каких-нибудь Аргивян, Мегарян, Платейцев, Эрифрейцев и т.п., в этом уверяет его Эллинское имя, чуждое Фракийской земле и речи, чтобы вопреки сему ни говорили учёные «патриоты Византии». Историки краснобаи, в роде Пахимера, не пропускают случая, конечно, окрестить его городом Каллия (Καλλίου-πόλις), но кто был сей подставной Каллий, разумеется, напрасно было бы спрашивать у них. На равных правах он мог быть и городом красоты (Καλλίπόλις) и городом зова (Κάλει-πόλις), так как Троянцы или Дарданцы Азийского берега пролива могли держать тут свою переправу на Европейский берег, и, когда нужно бывало, звали оттуда кого следовало. Полагают, что в незапамятные времена тут была столица Фракийского царства, на что будто бы указывают могильные курганы вблизи города, именуемые (кем и с какого времени?) «царскими». Старого времени цари были непоседы, и может быть даже при жизни одного и того же царя не раз менялась его резиденция, а, следовательно, и столица государства. Таких выморочных столиц отыщется не одна сотня на пространстве нынешней Турции. Любопытно было бы составить полный список их. В ожидании от «патриотов» подобного труда, мы осветим ту эпоху Каллиполя, когда он просиял на всю историю паче десятка столиц миниатюрного размера – эпоху Комниных и Палеологов, имеющую специальный для нас интерес. Итак, спустя много веков после последнего из царей Фракийских, по выражению одной справочной книги, вообще «весьма тёмных», когда над Каллиполем царствовал не светлый, хотя и добрый Иоанн (Καλο-Ἰωάννης = Калуян)11, а именно в 1356 г. Турки переправились с Азиатского берега на Европейский у Каллиполя, которым первым и овладели в Европе. Теперь кто ни начинает говорить о Каллиполе, это первое чем он, так сказать, тычет в глаза опозоренному месту. «Добротному городу» следовало отбиться от непрошеных гостей, а он этого не сделал. Вот потому-то и заслужил укор и даже как бы гнев Европы. Защищать злополучного Фракийца мы не будем. Панэллинизм считает своим долгом (чуть не привилегией) ведать всё, что относится к Фракии. Пусть он и пишет апологию Каллиополю. Справедливость заставляет нас только заметить, что христоненавистное знамя аравийского реформатора развевалось уже за 646 лет до Каллиопольской переправы, в Испании, за 635 лет, во Франции, за 529 лет, в Италии, за 118 лет, в России, и наконец в самой Фракии задолго до того были хорошо известны самые Турки под их собственным именем. В виде наёмных войск императорских, мусульмане за десятки и сотни лет перед тем рыскали по Румелии, и избивали христиан по призыву христиан... В 1308 г. они уже владели на европейской стороне Эллиспонта городом Эксамилем, как ключом всего пролива. В 1309–15 годах, всю Фракию грабили и опустошали турецкие вожди Мелик и Халил с 2 000 пешего и 1 300 конного войска (Григора). И не далее, как за 7 лет до фатальной переправы пришло их во Фракию 20 000 на помощь императору против краля Сербского!
История пресловутой переправы не будет полна, если мы не будем знать предшествовавших ей многолетних волнений и нестроений края. Отсчитаем для примера хотя 50 лет до неё. Что мы видим тут? Всё тоже несчастное безлюдье, а затем и бездушие побережья, которые сделали возможною и самую переправу Орхановых орд. В те злополучные времена (да и гораздо ранее их, чуть ли не с самого начала «всемирной» империи) войско имперское состояло из наёмников. В указанную эпоху служили империи на жаловании 16 000 Алан и 10 000 Каталонцев или Каталан – по Византийцам, и много других чужеземцев. Последние разыграли тут не бывалую, хотя и весьма естественную роль. По недосмотру ли правительства, или по необходимости, наёмники одного языка и племени составляли тогда один цельный корпус, как бы своего рода status in statu. После разных побед на дальнем востоке, Каталонское войско возвратилось, по замирении дел, на южный берег Пропонтиды, где ему указана была осёдлость. От скуки ли, от привычки ли двигаться и завоёвывать, или от какого-нибудь неудовольствия на правительство, они переправились на северный берег и поселились в окрестностях Каллиполя, укрепившись (против кого?) в одном некоем пункте. Это происходило в 1306 году. В следующем году изменнически погиб в Адрианополе их вождь Рожер. История вышла тёмная и тут, как почти всё, случившееся в это тёмное время, Византийские историки приписывают это злодеяние Аланам, соперникам Испанцев по военному ремеслу, а Латинские – самим Грекам, которым надоели своими грабежами эти союзники и победители Турок. Старое правило Византии бросаться в объятия врага начало применяться уже в фатальных размерах в это время. В виду неотразимой беды с востока и сомнительной помощи с запада, казалось уже лучше сойтись с открытыми врагами, чем ухаживать за лицемерными друзьями. Впрочем, прежде чем план этот был приведён в исполнение, Турки и Испанцы соединились, чтобы заодно добивать империю. Под предлогом мести за смерть своего военачальника, Каталонцы сделали из крепости своей набег на Каллиполь, взяли его, и избили «всё множество» его населения12, не щадя самых младенцев. Выручать город пришёл наследник престола и со-император Михаил с 30 000 наёмников. Такой армии давно уже не видала империя. Мятежники укрепили Каллиполь, и засели в нём. Образовалось что-то вроде малого государства на Фракийском полуострове. Царские войска ничего не могли поделать и разошлись. Некто Мунтанер стал настоящим царем в Каллиполе, и даже ходил войною на город Родосто, и в какой-то пристани Стагнарах истребил флот императорский.
Во время этого похода Каллипольских Каталанцев случился траги-комичный эпизод у Каллиполя. Какой-то Солунский вельможа, именем Георгий, отправлялся со свитою из 80 человек в Константинополь с подарками для царя. Минуя Каллиполь, он осведомился, что «Франки», владеющие городом, ушли на войну, вспомнил, как славно, воспользовавшись подобным случаем, ещё может быть на его памяти, Алексий Стратигопуло отобрал у Франков, так сказать, мимоходом Константинополь, и тем заслужил себе достоинство Кесаря, покусился и сам отвоевать Каллиполь у иноверцев и чужеземцев. Походив около стен и напрасно постучав в ворота, он забрал несколько мулов и телег в окрестностях города, но тут же налетел на него возвращавшийся восвояси Мунтанер, отнял у него всё, что тот имел своего и чужого, и перебил всех его храбрых воителей. Успел убежать только сам завоеватель, добравшийся до царя чуть не в одной исподнице.
Приключение это не осталось, однако же, без последствий. Император (Андроник Старший) был задет за живое делами Каллипольского царька, и, не надеясь более на собственные силы, задумал выбить клин клином, по пословице. Он послал на выручку Каллиполя Генуэзцев, новых союзников Империи, славных победами на суше и на море. Флот из 25 галер с Генуэзскими и Греческими матросами подплыл к Каллиполю. Сколько могу, рисую его воображением, вместе с его адмиралом Спинолой. Повторяется в миниатюре старая история. Европейцы истребляют друг друга за тридевять земель от своей родины. Спинола ещё прежде приезжал в Каллиполь (может быть от своего собственного имени), думая переговорами убедить Мунтанера отдать ему город, в котором оставалось тогда человек 50 гарнизона, так как прочие все ушли воевать с Аланами, но железный человек отвечал коротко и ясно: «приди, возьми». Спинола точно не замедлил прийти и ещё при весьма казистой обстановке, но взять-то города всё-таки не мог. Случай вышел прекурьёзный, и не рассказать о нём нельзя. Генуэзцы высадились на берег. Мунтанер хотел было помешать высадке, но был ранен и заперся в городе. «Клин» был выбит, так сказать, сразу же. Назавтра высадившееся войско пошло на город в полной уверенности, что 50 человек гарнизона с раненым комендантом поспешат открыть ему с хлебом-солью ворота. Вместо того, оно увидело на стенах сплошную массу воителей числом в 2 или 3 тысячи. Это было всё женское население города, оставленное мужчинами на произвол судьбы. Мунтанер разделил его на десятки, приставив к каждому десятку по одному мужчине. Генуэзцы, увидав, с кем будут иметь дело, пришли в весёлое расположение духа, и, подходя к стенам, позволяли себе разные выходки на счёт новых амазонок. Но чуть они покусились взобраться на стены, как встречены были градом камней и всякого оборонительного материала. Два раза они были отбиты повсеместно экспромптированным гарнизоном. Спинола (вместе с царским сыном) потешался зрелищем с адмиральского корабля. Но, после двукратной неудачи осаждавших, пришёл в бешенство, и с моря – может быть с самого этого места – кричал на берег команде: «Негодные канальи! Трое паршивцев защищаются там внутри против вас стольких! Болваны вы! Трусы вы!» Вмиг он сам был на берегу, и с 400 всадниками, не бывшими ещё в деле, устремился на приступ. Но несчётное множество трупов одноземцев, лежавших под стенами города, привело его вместо ярости в ужас. Не до брани и не до насмешек уже было ему. И третий приступ каталанки отразили с равным мужеством. Был тогда Июль месяц. От нестерпимого жара солдаты пришли в изнеможение. Тогда-то Мунтанер сделал отчаянную вылазку с 106 оставшимися в городе мужчинами, из коих только 6 имели лошадей, и напал на 400 человек кавалерии. Почти вся она пала на месте, не исключая и самого адмирала. Кое-кому удалось добежать до берега и спастись на судах. Мунтанер имел даже несколько пленников и с ними учинил торжественный въезд победителя в Каллиполь! Дело походило бы на сказку, если бы о нём не свидетельствовали согласно и восточные и западные историки. Храбрые воители, отразив Генуэзцев, вскоре сами оставили место, которое так упорно и славно защищали. Сила уступила слабости – искусительной мысли забрать Солунь, и (вероятно) восстановить там уничтоженную франкскую империю Монферратов. Солуня они не взяли, и должны были пройти в Фессалию и ещё далее, бия и отбиваясь от своих и чужих. Каллиполь, оставленный иноземцами, сам собою возвратился Палеологам.
Если была возможность горсти пришельцев истребить поголовно население целого города, и если 50 иноземцев могли держать в руках своих тот же город и целый край, так как бы туземцев там вовсе не было, то что же дивиться, если дикие орды Турок беспрепятственно могли переправиться из Азии в Европу под Каллиполем? Прежде «Каталан» владели местом ещё Венецианцы. В течение ста лет край был систематически разоряем и парализуем в чувстве народности и всякой законности. В краткий период 40 с небольшим лет от Каталанского до Турецкого порабощения, Каллиполь, однако же, не сходит со страниц истории, обязанный тем случайному обстоятельству, водворению в нём замечательного государственного человека, из придворного чиновника, возвысившегося до императорского венца. Это был Иоанн Кантакузин, долгое время заправлявший делами империи в звании «Великого Доместика», а потом и со-императора. Желая по возможности восстановить единство империи, по крайней мере, в европейской её половине, так как азиатская безвозвратно уже была потеряна, зашивая, так сказать, прорехи, оставленные на ней Франкскими, Болгарскими, Сербскими и всякими другими набегами, он всё внимание своё обратил на Фракию и Македонию, и средоточием своей деятельности избрал многострадальный Каллиполь. Здесь постоянно жило его семейство. Отсюда он разъезжал и морем, и сушей всюду, где только требовалось его присутствие. Здесь же он условился с правителями Фракии и Македонии (Сирьяном и Синадином) на счёт государственного переворота, низвергшего с престола Андроника «Старого» (деда) и возведшего на оный Андроника «Юного» (внука), задушевного друга великого Доместика (в 1328 г.). По смерти последнего, в малолетство преемника его, Кантакузин полновластно управлял империей, и в это-то время он сблизился со смертельными врагами империи, отдав даже собственную дочь в замужество за султана. В возникшее междоусобие между ним и «законным» императором, он уже прямо призывал на помощь турецкие орды, окончательно приучив их, таким образом, к мысли о завладении Фракиею, а, следовательно, и Константинополем. Человек с государственным умом, патриотизмом и гуманными стремлениями не мог действовать наобум или по увлечению. Даже простого политического начала – бить врага врагом (клин – клином) едва ли можно искать у экс-доместика. Крайность заставляла его, по-видимому, отбиваться от наступающего врага (к сожалению – иногда и личного) всем, что есть под руками, а, следовательно, и Турками. Всё равно, своего греческого войска не было. Разные Алане, Комане, Варяги и tutti quanti, к коим привыкла прибегать империя, ничем не представлялись лучше Турков. Полагаем, что если бы и не случилось печальной и совершенно безвременной борьбы двух Андроников и двух Иоаннов, кажется, исход дела всё был бы тот же самый. Без помощи мусульманской не обошлись бы престолодержцы Византии, коим, так сказать, перевести дух не давали неугомонные «крали» Трибаллов и Мисов (Сербские и Болгарские). Ведь оставалось только позвать их прямо возложить на себя венец Кесарей, что и сделал бесцеремонный краль Душан, объявив себя «Самодержцем Греческим», а «убогий царь» Кало-Петр не устыдился даже у забеглого чужеземца (Фредерика I) искать в Адрианополе, «дабы Греческую диадему на него возложил...»13. Так и видны единокровные Славяне со своими исконными стремлениями к высоким титлам, высоким шапкам, высоким хоромам и прочим высоким мелочам, мало стесняющиеся условиями и требованиями исторической правды, и перенявшие от Греков только то, что тех довело до погибели. Как бы то ни было, Франки ли, Славяне ли, сами ли Греки виноваты, только фатальная переправа Турков в Европу совершилась в 1356–57 году14, уже после отречения Кантакузина от престола15. Произошло это, по-видимому, исподволь, втихомолку, незаметно. Составивший подробное описание своего царствования Кантакузин, вскользь и как бы ненароком упоминает о нём, сознается впрочем, прямо, что у него не было никаких средств вступить в борьбу с Орханом, что он неоднократно протестовал сему последнему (своему зятю) против захвата греческих городов сыном Сулейманом, что отец говорил одно, а сын делал другое, первый обещался возвратить забранные земли (за 40 000 золотых), а сын уверял, что он вовсе не забирал дружеской земли, а только занял и восстановил оставленные прибережными жителями после случившегося землетрясения пустоши... Ясно было, что кошка играет с мышкой, по пословице. «Варвары явно нарушили свои условия», говорит он в своё и наше утешение. Главная забота насельников была занять Каллиполь и укрепить его, исправивши стены и башни. Начальство (δῆμος) города, при занятии, успело, однако же, бежать на суда. Видно как бы из этого, что Турки сделали свою переправу не прямо перед Каллиполем, и подошли к нему уже сухим путём. Иначе перевозные суда турецкие не позволили бы спастись горожанам морем. По одному турецкому историку16, переправа происходила на плотах от Ференчука к Зебеник-Хисару, где завоеватели и высадились. Это значило бы, что ей послужила и без того историческая местность древних городов: Систа и Авида(Абидоса), не в меру прославленная именами Леандра и Геры и воспетая Байроном. Другой турецкий историк (приводимый Раичем) напротив утверждает, что победоносные соотечественники его подплыли в кожаных лодках к самому Каллиполю, который взяли следующим, достойным азиатской фантазии, образом. Часть их, забравшись в один из загородных садов, жарила там на вертелах четырёх пойманных каллипольцев. На ужасное зрелище это высыпало из города всё мужское население. Турки воспользовались этим и овладели опустевшим городом. Жители, разумеется, разбежались от страха. Турки выставили на стенах городских всех обывательских младенцев, грозя зарезать их, если отцы их не возвратятся каждый к своему дому, и прочие басни.
Но – довольно о Каллиполе, каким он был и оглашал себя за 500 лет перед сим. В наше время уже, конечно, не случится с ним того, чтобы не осталось в нём никого, кроме женщин или младенцев. Жарить людей с целью сделать из этого приятное зрелище для их сограждан, в наше время едва ли найдёт, достойным своего пера, вымыслом самый плохой писатель. Кожаные лодки тоже вряд ли увидит кто теперь на Эллиспонте. Главнокомандующих, распоряжающихся с моря сухопутною осадою, может быть, кто ещё и встретит на земле. А ругающихся командиров в очень недавнее ещё время мы сами могли слышать; и именно тут же в пристани Каллиполя, когда наша «Мегера» чуть не села на мель, только в выражениях, далеко превосходящих Спинолины своею славянскою типичностью... Отходим от города. В пристани его видятся в утреннем сумраке два – три судна. Как будто для большего числа их не достало бы и места в ней. А между тем, стояло их тут, как мы видели, однажды 25, а несколько позже, под командою «Великого Дуки» (адмирала) Апокавха даже – 80. Сколько же их перебывало тут во время войн Лисандра, Александра, Мифрадата, Септимия Севера, Константина? Самое большее, и не совсем вероятное число судов упоминается под 1190 годом, когда Византийский самодержец для переправы из Европы в Азию немецких крестовников 3-го похода прислал в Каллиполь 1500 разного рода и вида, размеров и названий судов. Условлено было гораздо меньшее число их, но желание Алексия поскорее освободиться от дорогих гостей прибавило пыла его усердию. В течение 7 дней беспрерывно переправлялось христолюбивое воинство. Последним переплыл роковой рубеж сам Фредерик «рыжая борода». Переправка началась в Великий пяток, и продолжалась, следовательно, до Светлого Четверга. Так отпраздновали освободители св. мест страдания и Воскресения Христова великие дни всемирного чествования их! И ещё хочет Европа, чтобы кто-нибудь на Востоке сочувствовал её, бесспорно славному, но самолюбивому и лицемерному, минувших дней предприятию! Она поднимала нас на смех за нашу «ради св. мест» Крымскую войну. Право, ей есть над чем и без нас посмеяться, заглянув в своё прошлое.
Трирема наша бежит бесспорно шибче всех эллино-романо-византийских и персо-сарацинских. Вместо трёх ярусов изнурённых и озабоченных её весельников – κωπηλατῶν17, видятся на ней, играя словом, только ряды весёлых ἐπιβατῶν, т.е. пассажиров. Мы – верхний ярус – соответствуем древним скамеечникам или стульникам – ϑρανίταις. Ибо действительно сидим кто на скамьях, кто на стульях. Ниже нас ходят и сидят попарно – ζευγῖται, пассажиры 3-го класса, несомненно более нас трудящиеся, кто руками, кто зубами, а больше всего языком... Нижний ярус каютников – ϑαλαμητῶν, т.е. матросы, кочегары и пр. очевидно несут самую тяжкую работу. Ими собственно движется вся триэтажка (τριήρης) наша. Читатель благоволит простить нам наши весёлые аллюзии. Прощаясь с Каллиполем, я заглянул в один французский Voуаgе по Турции 1726 г., и встретил там мнение (а долго ли стать ему «преданием»?), что Каллиполь выстроен Императором Калигулой, или, по крайней мере, ему обязан разными своими памятниками, всего же важнее – своим именем... Точно Каллиполь есть Калигулополь! И точно «Калигула» было официальное имя, а не народное прозвище Императора Кая.
Плывём скоро, держась всё Европейского берега, пустынного и безлюдного. Высматриваю на противоположной стороне город Лампсак. Встающее солнце мешает видеть его. Француз в своей книжке ведёт длинную историю города и его окрестностей. Упоминаются тут и Бебрикс и Фокейцы и Лакедемоняне, и Бахус, и Харон, Мандрен, Эпидам, Аргонавты, Крестоносцы... Всего более не понравилось мне во всей этой веренице собственных имён имя главного божества Лампсакцев – Приапа, которому (как лицу, или культу?) книга придаёт два периода, один: невинности, когда он божествовал только над виноградниками, а другой... Но лучше упомянуть о третьем периоде, когда сын Вакха и Афродиты проживал уже в отставке, но память старых вакханалий ещё раз откликнулась в Лампсаке. К нежданному моему удовольствию, у одного византийца отыскалось целое повествование о происходившем в местах этих царственном веселье или «весилье» в малорусском значении слова. Случилось это в промежуток времени между излюбленными мною Комниными и Палеологами, именно же в 1234 г. Царствовали тогда в сопредельном мире цари Иваны, – в Константинополе Жан Бриенний, за пределами его Иоанн Ватаци, а за пределами владений сего последнего, Иван Асень. Дело началось с того, что доблестный Ватаци, не видя пока возможности выгнать чужеземца из Константинополя, захотел, по крайней мере, положить начало делу освобождения родной земли от «Латинского ига» отнятием у Венециан Каллиполя, доставшегося им в бедственный для империи 1204-й год. На этот конец из Лампсака (принадлежавшего тогда Никейскому правительству) он переправился с войском через пролив, и осадил город. Дело пошло успешно, и крепость была взята у «Франков». Кратко об этом упоминает историк (Акрополит), и мы ничего к тому прибавить не можем. Но дело это было как будто только предлогом к другому, более значительному замыслу Императора. Он задумал сблизиться с Болгарами, увлечь их в свои виды, и вместе с ними выгнать «Ригу» из Константинополя. Путём к сему сближению послужило – столько обычное в те времена – брачное родство двух царственных домов. У Ватаци был тогда сын, у Асеня – дочь. Составился план повенчать их, несмотря на то, что царевичу было только 11, а кралевне 9 лет. Об этом уже прежде сносились между собою государи. И так, чуть дошла весть до Асеня, что царь Калуян (II-й) взял Каллиполь, как он, забрав своё семейство, прибыл туда. Монархи встретились дружески, забывши вековую вражду управляемых ими народов. Потом император с Кралицей (Марией, дочерью Венгерского государя) и невестой переплыли на Азиатский берег в Лампсак, где уже ожидала их императрица Ирина с женихом (Феодором). Нельзя понять, отчего сам краль не отправился вместе с ними на свадьбу18. Историк прямо замечает, что он остался в Каллиполе или в пределах его. Вероятно, он на досуге высматривал тем временем, как и что прибрать к своим рукам, при удобном случае, у Риги то или у царя – всё равно, на столь значительном стратегическом пункте, каков Эллиспонт. По-видимому, он не очень сочувствовал заключаемому брачному союзу19. На случай предположенного бракосочетания, находился с Императором в Лампсаке и Вселенский патриарх Герман, который и повенчал детей, вопреки церковным правилам. Полагать надобно, что и при Асене находился его собственный архиерей. После празднеств, каких затишный город не видал, может быть, от дней «невинного» Приапа, царственные семьи готовы были расстаться. Но дело оказалось ещё не конченным. Отсутствующий Асень после брака заговорил о разводе... своей иерархии с Константинопольским престолом. По его желанию и императорскому настоянию, тут же составлен был Синодальный Акт, предоставлявший Терновскому архиерею независимость Церковную и Патриарший титул. Лампсак, таким образом, тезоименно просиял этими двумя событиями на всю тогдашнюю историю. Константинопольский державец перепуган был этим родственным союзом единоверных государей. Папа увидел, что стольких лет дело унии в Болгарии было простою комедией, заключившейся автономией церкви Болгарской. Продолжись только согласие и единодушие Ватаци и Асеня и их преемников, православие восторжествовало бы на Востоке и над папством, и над исламом, и над антиевангельскими идеями «народности» в Христовой церкви. Но...
Давно не видать ни Каллиполя, ни Лампсака. Держимся ближе к южному берегу пролива, радующему взор обильною зеленью и частью селитвою людскою. Северный берег по-прежнему сух и некрасив. Вот на нём и памятный Земеник, к которому пристали будто бы первые мусульманские соглядатаи Румелии. Сказка говорит, что они захватили там первого, попавшегося им, жителя и отвезли его назад в Азию. Здесь Сулейман накормил, напоил его, одел в дорогое платье, и спросил, не знает ли он кого, кто бы провёл верно и безопасно к Каллиполю мусульманскую дружину. Европеец, как и следовало ожидать, предложил ласковому и щедрому турку свои услуги. С такого рода предательством не раз встретимся на страницах деяний эпохи Комниных – Палеологов. Печальный факт. Чем объяснить его? Иной «патриот», пожалуй, найдёт ему в слове Земеник, очевидно не греческом... а то сумеет напомнить нам, как в другом Херсонесе тоже некий Анастас предал врагу родной город и заслужил похвалу в истории...
Стоим в Чана́-кале, иначе: Богаз-Гиссаре, иначе: Султане-калесие, в Дарданеллах. Пришли ещё довольно рано. Город только что просыпался, и, видно, мало думал о нашем появлении перед ним. Если бы это был «вапур» немецкий или французский, верно нас сейчас же атаковала бы целая флотилия лодок, а теперь едва нас удостоил официальным посещением карантинный чиновник, да ещё лениво двигались к нам с плодами две-три «калимерки», как наши матросы на водах Греции с доморощенным остроумием зовут туземные лодки. Бодрствуя от самого Каллиполя, я задремал теперь на затишье, и отправился к «зевгитам» спать. Через час или около того нам предложен был чай. Долго простоим тут? спрашиваем мы своего хохлатого камеротто. А вон уже показалась Патрис (πατρις = отечество). Она сдаст нам свой груз, и тотчас же мы отправимся. Пароход поспешно подходил к нам с противоположной стороны, и казался солиднее нашего «Эптаниса». Сколько вы настроили новых вапоров, говорю я в виде комплимента своему соседу и товарищу по званию. – Ну, уж этот-то вовсе не новый, отвечает он. Нового в нём только надпись. Прежде он звался Огеном... Я, в самом деле, сейчас же узнал своего старого знакомого. А не грешно вам перекрещивать своих детей родных? спросил я, – чем хуже «Офон» «Патриды»? – Офон теперь... Заговорил собеседник на распев, и сделал рукою жест, означавший, что чей-то и след простыл. – Знаю, отвечал я, да ведь и «Патрис» тоже, пожалуй, когда-нибудь... Товарищ вопросительно посмотрел на меня при этом... Вон и вчерашняя Византия, продолжал я, тоже когда-то была патрис, а теперь. – Патриот видимо не знал, какого румба держаться ему в разговоре со мною, и благоразумно нашёл предлог оставить меня, отправившись вниз по делам службы. Не дожидаясь, пока «Отчизна» подойдёт к «Семи островам» и станет на якорь, мы съехали на берег, где нас должен был ожидать главный из спутников наших, упредивший нас выездом из Константинополя. Справились о нём у своего консула, ещё почивавшего. Нас направили к местному доктору, у которого и обрели искомого. Квартира доктора за городом в саду, на взморье. По такому описанию можно рисовать себе её раем. Между тем на нас веяло от неё пустыней и подавляющим однообразием. – А, вообще говоря, согласились ли бы вы прожить тут целый век? спросил я космополита спутника, когда мы возвращались по набережной к пристани. – Век? В Чана-кале? – возразил он. Да я уже и теперь дивлюсь, что не умер от тоски... Вот вам и аттестат месту, которое у всякого морехода на языке и в памяти!
Экс-Оттон сдал всё, что нужно было (тоже через несколько лет может быть Экс) Эптанису нашему, и в 11 часов мы отправились далее. Так как подул довольно сильный северный ветер, то в помощь парам поставлены были ещё паруса на судне нашем, и мы понеслись с быстротою птички. Пролив стал расширяться. Над южным поморьем начали мелькать вдали пирамидальные очертания высокой горы. Карта сказала, что это препрославленная Ида (Ἴδη). «Видала виды» старушка, скажем мы, играя её именем. Сколько раз увлекал меня помысл повидать места, «где в древности цвела Троянская столица», но до сих пор не удалось сделать этого. Думаю, что и не удастся совсем. Соперницу её Аргивскую столицу (Микены) я видел не один раз. Там, действительно, «в наши времена посеяна пшеница». Но там высятся ещё городские стены с пресловутыми воротами, украшенными изображением львов. А в Троянском Илие, говорят, не осталось ничего от времён царя Приама. Да даже и самое место, приурочиваемое к знаменитому городу, не указывается с желанною несомненностью. На карте читаются: Ilium vetus и Ilium recens, из коих может быть ни один не занимает места Пергама (кремля) Троянского. У самой превоспетой столицы, судя по описанию поэта, река Скамандр вытекает двумя источниками, – одним – горячей, другим – холодной воды. Теперь такого геологического курьёза не находят ни у того, ни у другого предположительно – Илия. Не поискать ли нам – славянам, вместо французов и немцев, занесённого историческим илом места? Говорил же мне один славянофил, что без участия нашего Европа половины своих старых и новых собственных имён не поймёт. Не сомневаюсь, что для него в Приаме оказался бы Прям, в Парисе – Борис и т.д. Царей Труса (Тρῶς) и Ила и подправлять не нужно. Сам Дардан простейшим образом слагался бы из: дар дан. Верхушка Иды: Гаргара значила бы гору гор. А реки: Смой (Σιμοϊς), Слей (Σιλεϊς-), Граник?.. А города Перхота (Пερχώτη), Ар-изба (Ἀρίσβη), Чебрена (Кεβρήνη), Питья, Зелья?.. Но довольно дразнить патриотов, которые не знают, куда деться и от действительно славянских названий в самом сердце Греции, в Пелопоннесе.
Выходим в открытое море. Таким оно рисуется на карте. В самом же деле представляется инаким. Острова Имерос и Тенедос справа и слева служат как бы продолжением берегов Эллиспонта. Спереди же загораживает горизонт третий остров Лимнос. Между ним и Тенедо выходит большая прогалина воды, ни чем не пересекаемая. Холодный северяк согнал меня с палубы вниз, а значительное покачивание судна с боку на бок уложило и в койку. На помощь подоспел глубокий сон, вознаградивший меня за утреннее бодрствование и парализовавший начинавшееся ощущение тошноты. Разбужен был в 2½ часа приглашением обедать. – Где находимся? спросил я. – Да, всё ещё в виду первой группы островов, отвечали мне. А «первая группа» эта когда-то была местом подвигов нашего, в своё время шумевшего и гремевшего в Архипелаге, флота, о которых редко кто вспоминает теперь. У меня же и до сих пор как бы жужжит в ушах, с таким жаром и увлечением произносимое несчётное число раз: Митри Николаись! Слова эти выходили из-под седых усов симпатично – вкрадчивого лица, имевшего в доме нашем (в 50-х годах) кличку: капитан Фотья. Это был лекарь – практик, лечивший меня от долговременной болезни (ἐρνσήπελα – по-гречески). Вовсе он не был «капитаном» и ни почему не шло к нему прозвание: «фотья́» (огонь), но то и другое так пристало к нему, что собственное имя его Георгий Мелидо́ни, было как бы совсем неизвестно в кругу нашем. Это был один из «агонистов» (подвижников) греческого восстания 1821 г., родом Критянин, старик одинокий, бесприютный и крепко бедный. С успехом помогши мне встать на ноги, он стал как бы своим у нас в доме, и посещал нас благовременне и безвременне. Любимою темою бесконечных бесед его была служба его (вольнонаёмником) на флоте нашем под командою Адмирала Димитрия Николаевича Сенявина, имя которого почти не сходило с языка у старого воителя. Тенедос и Лимнос также слышались сплошь да рядом. Человек был в восторге от всего русского, и при рассказе о том, как мы разгромили около Лимно флот «Тиранна», чуть не плакал от удовольствия. В то блаженное время ещё не возникал жгучий племенной вопрос греко-славянский, а за 40–50 лет перед тем наши единоверцы восточные сочли бы его безумием или предательством. И так, сижу я вот опять на палубе, смотрю на уходящие вдаль острова и слушаю воображаемую речь воображаемого «капитана Фотья́» о славных деяниях наших моряков героев, на сих самых местах когда-то владевших и сушей, и морем. Было это, должно быть, в 1807 г. В конце зимы эскадра наша из 10 кораблей пришла к устью Эллиспонта и блокировала его 9 Марта. Мы овладели островом Те́недо, и держали его в своей власти до 25 Августа, обратив его как бы в свою резиденцию. Весь Архипелаг, от Малой Азии до теперешней Греции, был русским тогда по праву завоевания. Тильзитский мир положил конец нашему тут владычеству. Готовясь к отплытию из «Белаго моря», мы имели (ненужный) дух взорвать порохом на воздух крепость острова Тенедо. Это единственное, кажется, что́ осталось в Архипелаге памятником нашего в нём господства. Особенно похвалиться, значит, нам тут нечем. Страху нагнали, правда, на Турок, и подняли несколько дух Греков, но зато в первых поселили убеждение в нашей слабости перед «франками», а в последних – разочарование в самых дорогих их надеждах, не говоря уже о том, что, по уходе нашем, оставили последних на жертву первым за их сочувствие к нам. Последнее обстоятельство повторялось уже не один раз. Но, так как у политики, по общему признанию, нет сердца, то и некого винить в том.
Минуем Имеро, и равняемся с Лимно. С парохода нельзя составить надлежащего понятия об относительной величине островов. По карте, первенство остаётся за Лимно. История прибавляет, что в 1455 г. иноплеменные Дуки островов платили завоевателю (Магомету II), за право владычества над ними, Имврский 1200, а Лимнский 2325 золотых монет. Такова была разница тогда в оценке островов... Не любя статистики, я оставляю вопрос о нынешнем значении их экономическом, и всяком другом, совершенно в стороне. Довольно для меня одного их наружного вида да исторической славы. Не могу скрыть: нечто чарующее для меня имеют все острова вещего Архипелага. Я их любил, когда рассматривал ещё с ученической скамейки, любуясь их своенравными очертаниями и странными наименованиями. Когда же увидел на самом деле, за 15 лет перед этим, их одиноко стоящими среди моря с очертаниями гор и полян, окружёнными светлым воздухом, окрашенными в розово-фиолетовый цвет с тёмно-голубыми тенями, то поистине не мог оторваться от восхитительного зрелища. Всё думалось, что там должны жить блаженные люди, не ведающие ни нужды, ни забот, ни болезней, ни самой смерти. И как не быть им, представлялось, умными, деятельными, добрыми, прекрасными! Кругом – во все стороны море с его беспредельностью, вечным движением и неисчерпаемыми богатствами, а внутри – около себя – чудное разнообразие гор, долин, потоков, заливов и пр., чего и во сне не увидишь на наших полях неисходимых и необозримых! Впечатления эти не потеряли своего характера и своей живости и доселе, хотя уже не раз приходилось пожить на этих воображаемых уголках земного счастья и от всего сердца пожелать перебраться на твёрдую землю с её незаменимыми удобствами, немыслимыми на островах и ещё менее на острове. Всего более тревожит – по крайней мере, тревожило в весьма недавние ещё времена – островитян, открытое для злодейских набегов, беззащитное положение их. Я помню, какой переполох произвёл в блаженных (по истине) временных насельниках одного Ксерониса (Σερονῆσι – сухой остров) раздавшийся в глухую и тёмную ночь с моря выстрел. А чем глубже простираемся мыслию вдаль минувшего, тем больше встречаем охотников нарушить нежданно нечаянно благополучие островитян. История византийская полна рассказов о набегах Сарацинских на всякий открытый берег греческий, где только чуялась пожива голодраным степнякам. К немалому удивлению, она занесла на свои страницы и случай морского разбоя, произведённого Склавинами... Славяне и пираты! Возможно ли это? Однако же дело такого рода вышло при Императоре Константине IV Копрониме. Вероятно, это были отважные Далматинцы. Они напали на эти самые острова «первой группы», и произвели не только грабёж, но и плен людей. Чтобы выкупить забранных ими мирных островитян, император уплатил пиратам 2500... шёлковых одежд! Так говорят летописцы. Характеристично. Невольно припоминаешь при этом «паволочные» паруса, вытребованные, недолго спустя после того, у другого Константина русскими «гостями» в Константинополе. Откуда, в самом деле, взять было шёлка Славянам на своих снегах и болотах? А у Греков его было вдоволь. Очевидно, что должна была произойти мена одних произведений на другие, – людей на кафтаны, тем более что первые то были чужие.
По мере того, как Лимно всё более и более развёртывается перед нами, мы удаляемся от него, принимая направление к северу. Нельзя потому разглядеть хорошо его, так называемый, Райский порт (Porto Paradiso). Любопытно бы узнать, с какого времени и за что именно он получил такое ублажающее имя. Географические очертания острова дают разуметь, что в незапамятные времена он был огнедышащим. Потом подземная лаборатория подвинулась к западу под остров Фиру (Санторин). Успокоенные Лимнийцы от радости не придумали ничего другого сделать, как переименовать место действия разрушительных сил Аида («ада» по-теперешнему) вместо блаженного покоя вечного, в Рай. Так могло быть. На выручку нашей мысли спешит и местное баснословное сказание древних времён. По уверению мифологии, не только могло быть, но и положительно было на Лимне нечто подходящее к аду – в его языческом смысле. Расскажем случай как можно короче. В то время, когда нигде ничего ещё не было, в тех областях, где теперь сияет солнце и носятся лёгкие облачка, в одну непроглядную ночь одна мать родила сына. Посмотрев на него с естественным в её положении любопытством, она до того огорчилась его безобразием, что швырнула его немилосердно от себя вниз. Ребёнок упал как раз на подоспевшую к нему землю (без чего ему пришлось бы утонуть в море), которая и была – остров Лимн. От огорчения, вероятно, на свою жестокую мать, сын не захотел ни эмпирея своих бессмертных родителей, ни даже дальнего обиталища земнородных, а остался в глубине земли, куда его вторгла рука матери. Он устроил там гигантских размеров кузницу и занялся, в укор богам, человеческим ремеслом. От стука, огня и дыма его мастерской и пошли по свету землетрясения и огненные извержения, по его имени зовомые Ифестовыми или Вулканическими. Сверженный бог был Вулкан. Лимнийцы, терпевшие больше всех от этих упражнений непрошенного соседа, воздвигли ему умилостивительные чтилища, свыклись со своим положением, и даже гордились небывалою честью компатриотства с божеством. Вообще говоря, всё на острове обстояло благополучно. Но через множество лет – по эмпирейскому счислению – после свержения Ифеста в тартар, жестокость матери – богини отозвалась на Лимне в матерях смертных. Сказочный период греческой истории сберёг пословичное выражение: «Лимнийские жёны». Лимниотки раз задумали и привели в исполнение неслыханную жестокость, перебили всех мужей, сколько их было на острове, исключая царя, которого спасла дочь его Ипсипила (в переводе: «высокая порта»). Поводом к такому отчаянному делу послужило то, что мужья имели, поголовно все, отвращение от своих жён, и чтобы сбыть их, решились затеять войну с заморскими Эранийцами. Мужья, в оправдание своё, приводили, что жены их, говоря без прикрас... воняли. Сказка не отрицает и сего печального обстоятельства, но сваливает вину, по сказочной логике, на неподсудную личность Афродиту (Венеру), которой угодно было послать на Лимниоток противный запах, будто бы из ревности. Логическая прореха кое-как заштопывается подобным объяснением, но очевидно на живую нитку. У пресловутой супруги Ифеста всегда было много дела и кроме домашних дрязг острова Лимна. И из-за чего бы она озлобилась на смертных Лимниоток? Если она и могла предположить, что хромой и безобразный сожитель её поддался обаянию своих усердных чтительниц, могло ли это огорчить её? Не предположить ли, что пламенные девотки страшного кузнеца – бога, в избытке благочестия, пустили какое-нибудь словечко не в похвалу неверной жены, хотя и богини?... Как бы то ни было, но чуть героини разделались со своими несчастными мужьями, как пристали к острову их, неизбежные при всякой древней истории, Аргонавты с неугомонным Ираклом... Тут сказка двоится в своих показаниях, но в обоих случаях не обходится без... зловония. Я рад был, когда по сказке дошёл до того пункта, где проказник Иракл поднял наконец паруса на своём Арго, и отплыл «с товарищи» к острову Самофраки, где посвятил их в таинства «Великих» (богов). Кстати мы и сами направляемся по тому же пути.
Как на образчик педантических попыток древнего мира внести историю в сказку, мы можем указать на рассказ Греческих историков о заселении острова Лимна. Дело, как и всегда в подобных случаях, начинается, разумеется, в Греции, и притом в любезных мне Афинах. Автохфоны (коренные жители) тамошние, как известно, были Пеласги20. Когда Греки завладели их местом и выгнали их вон из родины, они, воспользовавшись случаем, когда новые Афиняне были зачем-то в отлучке, похитили их жён, и с ними отплыли на остров Лимн. Здесь они прижили с пленницами детей. Матери постарались воспитать помесь в чисто аттическом духе. Выросши, эти Пеласго-греки положили отмстить бесчестие своих матерей, и восстали на Лимнийцев Пеласгов (т.е. своих отцов!), те усмирили восстание самою крайнею мерою, т.е. избили детей своих вместе с матерями, всех до одного. За сим последовали на острове безначалие, нищета, моровая язва и всякие другие беды. Лимнийцы послали спросить Дельфийскую Пифию, каким путём они могут поправить дела свои. Ответ последовал: «удовлетворением Афинян». Спросили Афинян: чем они могут быть довольны? Те отвечали: «будем довольны, если вы уйдёте из Лимна»... Такое требование показалось островитянам непомерным но, памятуя заповедь оракула, они не посмели отказать прямо, и сказали: хорошо, уйдём, но под условием, если Афиняне в течение одного дня достигнут острова при северном ветре... На это, ни к селу, ни к городу приплетённое, условие Афиняне имели полное право сказать Лимниотам: убирайтесь вы к своему Ифесту. Но вышло иначе. Они серьёзно отнеслись к требованию, которое мало назвать нелепым. Полководец Афинский Мильтиад (отличный от известного исторического лица) изыскал способ, как оставить в дураках Лимнийцев. Он основал Афинскую колонию в приморской Фракии, и из неё, как бы из Афин, действительно в течение одного дня северным ветром переплыл в Лимн. Нечего было делать. Пеласги удалились с острова. Такое натянутое и детски измышленное объяснение заселения острова Греками, к удивлению, удовлетворяло не только поэтов Еврипида и Овидия, но и географов Плиния и Стравона, и самого историка Иродота. Кроме Пеласгов и Эллинов, близорукая учёность древних патриотов не знала никого. А нынешним ultra-патриотам можно поучиться на острове Лимне тому необходимому и весьма полезному, уроку, что даже в самые отдалённые времена их истории на них смотрели не только в Румелии и Малой Азии, но и в самой Аттике, в самых Афинах, как на чужих!
На прощанье с исчезающим островом, мы дополним историческую характеристику его ещё двумя тремя штрихами. Кроме «Лимнийских жён», с языка древних не сходили ещё: Лимнийская земля, Лимнийская беда, Лимнийская рука... первая славилась во врачебном мире, как лекарство (более амулеточного свойства) от укушения змей и вообще от ран. Вторая означала самое крайнее зло. Третья намекала на дело бесчестное и нечестивое. Известен был ещё «огонь Лимнийский»21, относящийся к периоду вулканических извержений на острове, затем славились кроме природного, так сказать Лимнийского божества Ифеста, Лимнийская Афродита и Лимнийская Афина (Минерва), т.е. конечно изображения или изваяния богинь, или очень древние или высокого технического выполнения и т. под.
О христианской эпохе острова нам негде выправиться. По близости к материку, он вместе с Имвром, вероятно, в древние времена принадлежал какой-нибудь береговой епархии или Фракийской, или Малоазийской, хотя в известных нам «нотициях» Епархий нигде о них не упоминается. В Oriens Christianus отысканы, однако же, имена трёх архиереев Имврских: Иоакима, Афанасия и Григория из XVII-ХVIII столетия, и 12 архиереев Лимнийских: Стратигия (325 г.), Сильвана (691), неизвестного (790), Арсения (861), Павла (1054), неизвестного (1067), Пентакла (?) (1084–1111), Михаила (1156), Василия (1193–1199), Неофита (1564), Игнатия (1642) и Иоанникия (1721). В настоящее время каждый остров составляет отдельную епархию, подлежащую ведомству Вселенского Патриарха, занимая в ряду других митрополий места 54-е и 55-е. Оба сановника церковные носят пустоименный титул «Экзарха Эгейского моря». Из разных хрисовулов монастырей Афонских видно, что при Комниных – Палеологах было в обычае наделять тамошние обители землями на близлежащих островах, в том числе и Лимне. Писатели древнего времени не пропускают случая заметить, что во время солнцестояния – летнего, конечно – тень Афонского пика падает при солнечном закате на Лимнийский город Мирину, и закрывает его. Предоставляем географии поверить сказание и сообщить к сведению астрономов, на сколько точка захождения солнечного подвинулась в ту или другую сторону со времени замеченного факта. Но для этого, прежде всего, нужно отыскать местоположение Мирины. По поводу такого курьёза природы, мы долго высматривали «Святоименную» гору на западном горизонте, но в лучах склонявшегося к морю светила не могли различить ничего. Одни колышущиеся волны рисовались на грани, отделяющей морскую поверхность от неба.
Равняемся с островом Самофраки. Чудную, величественную и как бы грозную фигуру имеет этот угрюмый и наиболее удалённый семьянин «Киклад». Страшная громада скал выдвинулась из глубин морских и сгруппировалась в один гигантский шатёр, поражающий своим строгим и стремнистым характером. Кажется, там негде поставить и стопы человеку. Отовсюду смотрятся в лицо наблюдателю неприступные утёсы, один другого выше, суше и диче. Itinе́raire передаёт (на основании: dit-on), что вершина пика Самофракского достигает 2000 метров22, и, следовательно, была бы выше даже Афонского. Поверить это утверждение можно с острова Лимна, откуда на равных почти расстояниях должны видеться обе горные массы. Физическая история острова, вместе с прочими островами Архипелага, должна сводиться к двум гадаемым событиям до исторической эпохи, или погружению под уровень моря большого материка, или возникновению из недр морских вулканической массы. Политическая же история, как и вся греческая старина, темна и разноречива. Заселили остров будто бы выходцы с острова: Сама, откуда и имя его: Самофраки, т.е. «Сам Фракийский», в отличие от Ионийского. Царь Троянский Дардан не то родился тут, не то укрылся после пожара своей столицы, захватив из неё с собою Палладиум, т.е. статую Паллады или Минервы. Оттого будто бы и остров звался некогда Дарданией, а по Аристотелю ещё и Леопесией. Более измышленное предание привязывает к истории острова некоего Сая (Сама – по Диодору Сицилийскому), сына Эрма (Меркурия) и Рины, коего именем назывался в старину и пик Самофракийский Сая.
Остров славен был в древности паче других. Знаменитость его составляли пресловутые Самофракийскиетаинства, не менее Элевсинских занимавшие древний мир, и тоже относившиеся к Персефоне (Прозерпине) и к «Матери богов». Но остров – вероятно в более отдалённые времена – имел и свой отдельный культ Великих богов или Кабиров23, под которыми что́ именно разумелось или должно быть разумеемо, не вполне дознано. Число их определяется семью. Включается в ряд их и сам Зевс, А за ним следуют имена Посидона, Вакха, Цереры с Прозерпиной... Должно быть, следовали тогда нашей пословице: чего хочешь, того просишь. В существе же дела и сами заведовавшие культом, вероятно, не знали, кто такие эти: великие. Происхождение их, несомненно, восточное, – или финикийское или египетское. В Мемфисе тоже был храм Кабаров, Но там чествовался более Вулкан (Фτα?) или кто-то похожий на него, коего статую предал позору «безбожный» Камбиз. Проносилось стороною, что Кабиры были дети Сидика24, общепризнаваемого родителя Диоскуров, т.е. братьев близнецов Кастора и Полидевка (Поллукса). Очень могло быть, что семь «великих» (богов) были на своей родине в Сирии просто 7 планет, в начале ещё неизвестных грекам и не переводимых на греческие понятия, и планет, конечно, не в астрономическом, а в астрологическом их значении. Падкие на всё чужое, неведомое и таинственное греки чем менее понимали, в чём дело, тем больше благоговели перед ним. Всё таже да таже компания богов, так сказать, насквозь уже для всех видимых, надоедала подвижному уму эллинскому. Иное дело – новые, никому неведомые, и ни на что не похожие, Кабиры. Чем менее характеризовалась их личность, тем более разглашалось их достоинство. Назывались они и μεγάλοι (великие), и χρηστοί (хорошие), и δυνατοί (сильные), смотря, верно, потому, кому с какой стороны они в данный момент были нужны. Усердным чтителям усердно раздавались от святыни перстни железные с золотым ободком или и сплошь позолоченные на врачевание всяких недугов, и другие дары. По осмысленному представлению древних (Варрон, Климент Александрийский) под «великими богами» разуметь нужно небо и землю. Но в таком случае выходило уже не 7, а только 2 Кабира25. Да и такие «великие» понятия о божестве у Самофракийцев (особенно, если, по Иродоту, это первоначально были все-таки Пеласги) не могли зародиться, ни привиться, занесённые с созерцательного Востока. Да и что же в представлениях неба и земли есть такого, что́ вызывало бы таинства26?
Дополним сказания о примечательном месте древности известием, что остров имел когда-то, в уважение своей славы святого места, право «убежища», которым раз и воспользовался было Македонский (последний) царь Персей, побеждённый Римлянами. Победители, несмотря на свой положительный характер, уважили неприкосновенность священного обычая, при всём том, что остров составлял тогда часть Македонии, и, следовательно, собственность как бы Персея, а, следовательно, и их как победителей. Другого рода убежищем был тот же остров (уже развенчанный и разоблачённый от всякой таинственности) в другие времена. При византийцах он был ссылочным местом. Тоже ради спасения – только в ином смысле – прислан был на него в 948 г. экс-император Константин, один из четырёх со-царствователей Константина Багрянородного, носивший на себе тогда уже (невольный) иноческий образ. Не понравилось ему место знаменитых таинств, и он всячески искал случая покинуть его. Но приставленные шурином зоркие корибанты не оставляли ему никакой надежды сделать это. В отчаянии он убил одного из стражей, другим сам был убит. Ни грустная, ни весёлая история. Было не карабкаться на престол, и без того уже занятый двумя венценосцами, а, взобравшись на него, не сгонять старого отца, который действительно оказал государству важные услуги, а – главное – не следовало, сидя на престоле, считать себя «великим богом».
Уношу последнее впечатление «священного» острова. Оно славно и торжественно. Склоняющееся к земле солнце шлёт на него неизобразимую игру теней. Господствуют цвета розово-фиолетовый и голубой, что, вместе с синевою моря и неба, представляет взору нечто, по истине чарующее. Так бы и летел туда, приютился где-нибудь под скалою или под деревом, и с последних высот Сам насмотрелся бы на всю необозримость пресловутого Козьяго27 (Эгейского) Моря. Какая пригодная точка для наблюдения земли и неба, этих истинных «великих» (безличностей) нашего времени, к которым, и после иудейства и христианства, всё ещё возвращаются (только не с мольбами, а чуть уже не с угрозами) корибанты современной науки, предпочитающие ясному и свидетельствованному Евангелию своих темных и безвестных кабиров.
6-й час. Вечер совсем затих. Погода великолепная. Держимся почти прямо на север. Впереди открывается материк с высокими горами, в которых карта указала гигантский хребет древней Родопы, а по-теперешнему: Деспото = Владыки. Позади, несколько к западу, хорошо очертывается конический шатёр Афона, зоркий товарищ различает на нём даже снежные полосы. А так как на Самооранском пике таковых не было видно, то естественное заключение, что сей ниже оного. Впрочем, Афон примыкает к материку, и почти весь покрыт лесом, не диво потому, что долее борется с зимою, а о Сае голоскалистом и окружённом со всех сторон водою, нельзя сказать того же. Прямо к западу от нас также очертывается под лучами солнца ломаная линия гор, сравнительно невысоких, принадлежащих одному из островов Эгейских – самому северному, Фасу. С закатом солнца мы повернули к востоку, вскоре вошли в обширную бухту с низкими и невзрачными берегами. Эптанис пошёл осторожнее; и как бы стал пробираться ощупью. На берегу показалась неясная кучка строений. Мы взялись за бинокли, но недолго пользовались их услугою. Смотреть было не на что. Наконец мы стали. Был брошен якорь, и сейчас же заревел, выпущенный на волю, пар. Где мы находимся? На вопрос этот отвечали нам: в Порто-Лаго, о котором я не имел дотоле никакого понятия, и даже не слыхал вовсе. Itinе́raire совершенно молчит о нём. Ищу места его на старой карте Thraciae antiquae, и не нахожу ничего подобного на бухту по берегу между Samothrace и Thasne. Всё Фракийское поморье не украшено на ней кудрями, знаменующими воображаемые заливы моря и соответствующие им мысы. Указан и род приморских городов, но ни один из них не имеет ни малейшего созвучия с Lago. А слово это, очевидно, древнее, и хорошо комментировалось бы греческим: Λαγὸς – заяц. Это должна быть пристань, где неизвестный географ или мореплаватель увидел, прежде всего, на берегу зайца, именем которого и назвал открытый им порт. Но как решиться поверить тому, что придумано самим? Не у всякого хватит на то духа. Не говоря уже о Птолемее или Стравоне, хотя бы какой Византиец упомянул о Лимене Лаговом, как упоминают все сплошь о Птолемее Лаговом (сыне). Но нет и сего. А между тем такое обширное пристанищное место не могло не иметь значения и имени в старые времена. После многих напрасных попыток свести концы с концами, я счёл возможным, что которое-нибудь из упоминаемых древними, двух озёр или болот прибрежных Бистониды и Исмариды, красующихся на Целляриевой карте и не означенных более Кипертом, слились с морем, и образовали из себя бухту Лаго. Что же касается имени её, то оно могло быть дано месту Венецианами или Генуезцами, распоряжавшимися в своё время картографией Средиземного моря бесконтрольно, и слышавшими, что тут существовало некогда озеро – lacus, а по теперешнему произношению: lago. А так как при одном из упомянутых озёр, именно Исмариде, стоял и город Исмарон, упоминаемый ещё Омиром, и так как Исмарон тот, вероятно, есть Марония византийцев и нашего времени, отстоящее от Порто-Лаго на целый день пути (вёрст 50), то остаётся искать и видеть в теперешней озёрной бухте древнюю Бистониду, при которой, по Плинию28, был прежде городок Тирида, славный конюшнями царя Диомида, а в его (Плиниево) время уже другой город: Дикеи или, по другим, Дикеополь. Когда я с некоторым самодовольством сообщил к сведению спутников, что тут существовал когда-то «город праведных», то получил в ответ: ну, так, значит, пора спать.
Заснуть, конечно, не мешает, особенно после целодневного труда археологических поисков, большею частью неблагодарных. Но это нелегко сделать тому, кто с высот Самофраки упал так сказать вдруг в Бистонское болото. Город праведных возник на месте ужасающей неправды. Не всем известна историческая слава конюшен царя Диомида. Царь этот слывёт за Фракийского, но царствовал он только над Бистонами – особым народцем Фракии. Он был страстный охотник до лошадей и кормил своих критских рысаков человеческим мясом29... Факт неслыханный остался бы неизвестным потомству, если бы на беду людореза не пристал к берегам Бистонии всесветный корабль Арго (по следам которого, как видно, идёт наш Эптанис)... Аргонавты познакомились с Диомидом, и, конечно, узнали, отчего у него такие славные кони. Не заезжай они на Самофраки и не посвятись в тамошние таинства, они, может быть, погуляли бы с галантомом царём и отправились бы далее с чистою и спокойною совестью. Но под влиянием гуманных идей кроткого культа «матери богов», или в одушевлении величием «Великих», они возмутились слышанным и может быть виденным ими в Тириде. А тут ещё случилось фатальное для Диомида обстоятельство: заметив между гостями одну личность, цветущую юностью и красотою, он не устоял против искушения и решился угостить им своих лошадей, что и исполнил. Оказалось, что потравленный коням аргонавт был любимец Иракла, Авдир (Абдер). Ясно, что́ должно было последовать за сим. Полубог один сразился со всеми четыреногими людоедами, укротил их своей дубиной пресловутой и схватился с самим Диомидом, которого, разумеется, одолел, и живого отдал на съедение его собственным лошадям, а – что и того важнее – стёр с лица земли самое царство Бистонское, выстроив в 15 милях от места своих подвигов город Авдиры (Abdera) в память своего злополучного друга, которого кости похоронил там... Перебирая воображением всё вышесказанное, можно ли было подумать о сне? А тут ещё, рядом с Эптанисом, рисуется покачивающийся с боку на бок корабль Арго, в 50 локтей длиною, с 30-ю парами вёсел, весь сосновый, исключая кормы, сделанной из Додонских дубов, и потому самому имевшей дар провещания... и пр. Шесть лет прошло с тех пор, как я любовался им (тоже в воображении) на рейде Пагасийском30, отправлявшимся в Колхиду. Теперь он возвращается уже оттуда, везя с собою пресловутую овчину с золотою шерстью, да ещё и царевну Колхидскую, неуступавшую в мужестве самому Ираклу. Видно уже время тогда было такое жестокое, когда жили на свете Геркулесы, Диомиды, Медеи... греки ли, фракийцы ли, колхидцы ли – всё равно. У грузинки достало ума и сердца истребить две царские фамилии, и зарубить своими руками своих собственных троих сыновей!.. Ведь не всё же вымысел. Есть что-нибудь и действительно бывшее во всех этих ужасающих рассказах седой древности. Но... заснуть всё-таки следует.
Неаполь. 15 Мая 1865. Суббота.
Отвезшеся от Троады, приидохом в Самофрак, во утрие же в Неаполь. Деян. XVI. 11.
В 10 часов я последовал примеру своих спутников, а в полночь опять уже бодрствовал. Пароход снимался с якоря, и беготня по палубе разбудила меня. Нашумели парами своими на всю Бистонию, двинулись, повернулись и стали! Говорят, сели на мель. Беготня усилилась. Меня искушал помысл идти наверх и высматривать местность именитой Абдеры, славной целым рядом философов-скептиков, но рассчитав, что в тёмную ночь не много чего увидишь, а, притом же, расстояние в 15 римских миль от Дикеи до Абдеры потребует от нашего Арго двухчасового пути, и в это время невозможно, чтобы я не задремал, я решился оставаться в своей каюте, довольствуясь мысленным приветом и весельчаку Димокриту, и медному лбу Протагору, и не знаю ещё какому Авдириту eiusdem farinae. «Обо всём можно утверждать и да и нет».. Вслушиваюсь я в это отличное рассуждение как будто что-то хочу возразить, нужные слова не подбираются, я сержусь или стыжусь, и вдруг между мной и философом встаёт лошадиный образ царя Диомида в диадиме с топором... я уже спал! Проснулся в 6 часов. По-вчерашнему разбудило меня прекращение винтового стука. Мы стали на якорь перед Кагалою. Зная из вчерашнего разговора, что здесь ожидает Эптаниса нашего большой груз табаку, и что новое, совсем не археологическое31, имя места не обещает мне никакой поживы, я отдался сладкому покою. Разбужен был неожиданным открытием, которое удалось сделать на берегу моему спутнику. Он усмотрел там с парохода много развалин, и поспешил порадовать меня такою вестью. Город оказался выстроенным при самом море на плоском берегу. Непосредственно за ним к северу начинает возвышаться сухая каменистая гора, и по ней тянутся длинными зигзагами старые стены с башнями по местам, принадлежавшие, очевидно, стоявшей на высотах крепости. А может быть там был и целый город с другим, более античным именем. Прибегаем за объяснениями к «Французу»32, и к немалому удовольствию узнаём, что тут процветал когда-то город Неаполь (новый город), служивший морскою пристанью Апостольскому городу Филиппам, отстоящему от берега морского часа на 3 пути прямо к северу. Подивившись тому, как «Неаполь» мог переименоваться в «Кавалу», мы решились немедленно отправиться на берег. Мысль, что за 1800 лет перед сим также, подобно нам, плыли тут к берегу с корабля Апостолы Павел, Сила и Лука, вносила в душу умиление. Это было ведь первое благовестие Европе о Христе. Здесь она, вся христианствующая теперь, отворила первую дверь Евангелию. Здесь бы ей и воздвигнуть всеплеменный памятник Апостолу языков за его слово и дело, и загладить тем тот жестокий и постыдный приём, какой она оказала всемирному учителю и его сотруднику. Известно, что Апостолов били палками в Филиппах и засадили в темницу без суда и допроса. На помощь узникам явился сам Бог – со своею чудодействующею силою. Но не страх перед судом Божиим, а ответственность перед судом человеческим заставила первых представителей Европы возвратиться на путь умеренности и справедливости относительно проповедников нового учения. Пусть бы почаще и современная нам Европа прочитывала 16-ю главу книги «деяний Апостольских». Она спасёт её и от самоуправства в деле веры, и от рабства перед обычаем, и от недуга чудобоязни, и от духа пытливого, и от... Ренана болтливого.
Город состоит собственно из набережной улицы, длиною в полверсты и шириною в четверть версты. Его венчает цитадель плохой постройки, видимо, ненужная торговому месту. Мы прошлись по берегу, довольно шумному и оживлённому. Речь всюду турецкая и греческая. Здания незавидные. С моря они высматривают красивее. Местная особенность: с одной стороны улицы на другую перекинуты по жердям виноградные лозы, бросающие в летние жары прохладную тень. В несколько минут исходивши город, мы вышли за него через ворота, не знаем для чего существующие, и сейчас же стали подниматься по косогору к старому водопроводу, а от него ещё выше к старым стенам, манившим нас к себе ещё на море. Против чаяния, они не представили мне ничего, стоившего понесённого нами труда. Сперва встретилась опустелая мельница, за тем случай неважного значения, помеченный в записной тетрадке словом: олмаз. По самой стене, обвалившейся на обе стороны, мы поднялись к «первой» башне, полюбовались с неё видом на город, и, чувствуя в себе избыток утренней бодрости, подготовленный вчерашним целодневным лежанием и сидением, решились обойти весь кремль старого Фракийского Новгорода. У «второй» башни награждены были за то нежданным зрелищем развалин церкви, до того малой, что нельзя было решить, для кого и для чего она существовала в древности. На месте бывшего престола поставлен черепок, и в нём видишь несколько крупинок недожжённого ладана. Трогательное усердие христианское! Не менее трогает и терпимость мусульманская. Освящённое место совершенно чисто. Разохотившись, мы надеялись что-нибудь найти и у «третьей» и у «четвертой» башни, но кроме камней, поросших быльём и разбросанных немилосердно геркулесовскою рукою времени, ничего не увидели. Больше смотреть было нечего. Оставалась ещё одна башня, одиноко и выше всех других стоящая. Невзрачный вид её не обещал тоже археологической поживы, но манила к ней детская надежда видеть от неё ту сторону. Ну, что, думалось, если с высоты её откроется взору памятная местность города Филипп? Можно было верить, что не откроется, а всё-таки мы направились к ней, сообразивши, что всё же лучше коротать время на незыблемой тверди земной, чем на колышущейся поверхности вод. Не устрашил нас даже крутой подъём к этой главной стражнице порта «Придаточной Македонии». Однако же, по дороге к ней должны были сделать привал, ибо солнце уже начинало греть нас со всем жаром близящегося июня. За то, сидя на траве и смотря на далёкое море, можно было вдоволь насладиться прохлаждающим веянием древности. Чего только не пройдёт по устремлённому вглубь её воображению! Всё по той же синеве того же моря приходят и уходят флоты Египтян, Финикиян, Афинян, Персов, Македонян, Римлян, Византийцев, Сарацин, Венециян, Турок, Русских и недавних «союзников» Англо- французов, точно неясно очертывающиеся облачка по далёкому небу! На ком хочешь остановись и рисуй возможные, конечно, но в сущности небывалые, подробности морских перипетий, пока не устанешь и не скажешь сам себе: и сие суета!
Побывали и у последней башни. Никакой той стороны не нашли за нею. Гора и за нею поднималась уступами все выше и выше. Какая гора? У старых географов тут помещается гора Символ, составляющая один из отрогов горного кряжа Родопы, столь именитой в древности, теперь же почему-то зовомой Деспото-даг, т.е. «горою Владыки». Дион прямо говорит, что гора этого имени (Символ) стоит между Новым-городом и Филиппами. Мы находимся теперь на полосе земли между Фракией и Македонией, или точнее – всё ещё во Фракии, только уже отчисленной во времена Македонского всевладычества к монархии Филиппа, который выстроил тут и пограничный город своего имени для сдержки и отражения Фраков. Географы зовут эту полосу земли Придаточной Македонией, и помещают на ней несколько отдельных народцев, вроде Медов (Мαιδῶν) Идонов, Вессов, Дигиров, Фрагандов, Одомантов, Даноилитов33… Еще: Пαῖτοι, Кίκονες, Σαπαῖοι, Δερσαῖοι, Σάτραι, Пίερες, Δόβπρες, Пαίοπλες, (Ирод.) Пαναῖοι, Δρῶοι, Ἔορδοι, Ἀλμῶπες… Чем больше их насчитывается по именам, тем менее верится в их действительное когда-то существование. Но не с ветра же взяты имена их. Может быть, это были не более как наши Кабанцы, Макаровцы, Мингалевцы и тому подобные «народы», составлявшие когда-то одну, знакомую мне (но не историческую) Б. волость, коея начальство если и не кормило лошадей своих людьми, всё же, под веселую руку, доставляло последним приятное зрелище торжественного въезда на лошади в их избы, не боясь никаких Аргонавтов, разъезжавших тогда нередко из города за золотым руном... При спуске с горы мы не держались никакой дороги, а шли напрямик к морскому берегу, и оттого попадали на такие крутизны, каких и не воображали, стоя наверху. Кроме этой невзгоды, нас ещё немало напугало обилие змей по пути. Я встретил двух живых и одну мёртвую, а четвертую тут же при нас убили подошедшие пастухи. От такого зрелища пропали и поэзия, и история. Поскорее добраться до Кавалы, было самым увлекательным помыслом на ту минуту. В городе уже было полдневное затишье. Прячась на улице от палящих лучей солнца, я в одном месте сделал «ложный шаг» по скользкой мостовой и упал, но к счастью отделался одним лёгким ушибом. Случай этот я счёл знаком, что остаюсь в чём-нибудь повинен месту, отчего и сделал ему земной поклон. Виновность же, очевидно, состоит в том, что я забыл упомянуть о самом главном для Кавалы34 обстоятельстве, том, что здесь родился и воспитался преобразователь Египта, Мегемет-Али.
12 часов. Отдыхаем от путевого труда на пароходе, отчётливо пересматривая стены и башни венчавшего когда-то гору Неаполя. Нагрузка единственного почти местного продукта, табака приходит к концу. Не было охоты узнать, куда его везут, по чём продают, что стоит перевоз, во что обходится там и сям пошлина, и пр., что́ всё доставляет предмет для разговора пассажиру с торговым оттенком, как я убедился в другое время, на целые часы. Новые «эпиваты» (пассажиры) не подъезжают, что и на руку старым. В ожидании, пока наступит момент отправки, рисую в записной книжке вид города, довольно приглядный от обилия зелени. Здания видятся длинные и высокие с правильными архитектурными линиями. Два высоких и стройных минарета и несколько почти столько же высоких кипарисов, выникающие из-за крыш домов, придают немалую красоту целому. Можно бы обещать хорошую будущность городку. Вместо именитых когда-то Филипп, он служит теперь портом другому тоже, не малозначительному, Фрако-Македонскому городу Серрам со смешанным греко-славянским населением (в 30 000 душ) и именитым в краю монастырем Св. Иоанна Предтечи, в котором оканчивал дни своей многотревожной жизни учёный Григорий Схоларий, первый патриарх Константинопольский, по падении Империи, занимавший Вселенский престол всего 5 лет под именем Геннадия. В Серрах и кафедра православного Митрополита, перешедшая туда, может быть, из древнего и славного Амфиполя – Апостольской памяти. Но Кавала не принадлежит к его епархии. Она входит в состав Драмской епархии. Город Драма всего часах в 5–6-ти от Кавалы, лежит в прекрасной долине его имени, которую Турки зовут «золотою», и обязан своим происхождением Византийской эпохе. Он перенял значение и, так сказать, службу города Филипп, так что Митрополит Драмский титулуется, кроме Зихнийского и Несрекопского, еще Филиппийским35. Третья соседняя епархия в «Придаточной» бывшей Македонии в настоящее время есть Меленинская. Прежде она была епископией Серрской Митрополии. Когда и за что почтена высшим достоинством, неизвестно. Уже из самого приведённого перечня Филиппийских епископий видно, что две из них носят славянские имена. Меленик (по карте Киперта – Melnikj, т.е. Мельник) очевидно славянское слово. Рядом с ним встречаются имена городов и селений: Чернова, Правигита, Пресечени и многие другие. Какого времени всё это Фракийское славянство? Патриоты утверждают, что у древних писателей не встречается во Фракии ничего, звучащего по-славянски, и ссылаются при этом, между прочим, на самую книгу Деяний Апостольских. Правда, там Апостол Павел проходит города: Неаполь, Филиппы, Амфиполь, Аполлонию – все с эллинскими именами, но доказывается ли этим то, что хочется панэллинистам? Разве у нас нет русских городов Петербурга, Екатеринбурга, Оренбурга и даже Рязанского Ракенбурга? Все эти русские бурги и Фрако-Иллирийские поли суть проявления или колониального педантства, или мономании, не имеющие отношения к этнографическим вопросам. Засвидетельствовано историей, что эллиноман Филипп II (отец Александра В.) назвал своим именем город Фракийский, носивший до него туземное имя: Датос или Кринидис, и то – по огреченному, конечно, произношению. А известны весьма древние города этой местности, занесённые в историю и с настоящими их «варварскими» именами, каковы: Топирис (Плиний, Птолемей), а в христианские времена: Топирос (епископальный город в области Родопы), Довирос или Доберос (Птол. Фук.) приморский город, – тоже потом епископальный, Дравискос, Дорискос, Пистирос, Ста́гира... Какое славянское ухо не почует в именах этих нечто своё, хотя и переиначенное36? Если ещё рано и смело нам видеть в них наши кринку или криницу, наш топор, наш пестерь, нашу траву, наше добро, и пр., то, по крайней мере, нет в них, надеемся, ничего, чтобы счёл родным себе, единственно возможный конкурент наш на этом поприще, Готф, Кельт, Дак и не знаю кто ещё. Самая река Нест (Νέστος), главная в сих местах (Ирод. Плин. Фукид. Страв. Смил. Мел.), до сих пор зовомая: Места, в совокупности с чисто славянскою Струмою (Стримоном Στρύμων) текущею по соседству, не дают ли повода заключать, что Славяне обитали в местах этих ранее не только Иустиниана, но и Феодосия II, при котором будто бы впервые огласилось настоящее имя их в Империи?
В час пополудни «котва» корабля нашего была поднята, «ветрила»... Но ветрил больше нет. Вместо них есть «вратило», которое там в глубине водной и начало поворачиваться, глухо постукивая своим трезубцем, невиданным со времён отставленного от службы Посидона. Воображаю, какими курениями и возлияниями почтили бы эгейские Неаполитанцы новое и такое страшное, божество подводное, если бы встали из гробов своих на свист «Эптаниса». Прощаемся с местом, которому в близком будущем грозят немалые треволнения. Оно лежит на рубеже Фракии и Македонии, и послужит, вместе со столькими другими, международным яблоком раздора. В первую вцепились всеми руками потомки Эллина, (ничуть не повинного в бытии их), по праву завоевания, а вторую они же требуют себе по наследству. Эллин был сын Девкалиона, которому (видно) по правам восстановителя рода человеческого37, принадлежало на земле всё, в том числе и Фракия. Кроме Эллина, у Девкалиона ещё был другой сын Амфиктион, наследовавший отцу. Но так как история его начинает уже выходить на свет критики, и, следовательно, не приносит всей ожидаемой пользы патриотам, то у Девкалиона явился третий сын Македон, от которого Эллины и имеют теперь право владеть Македонией... Вступая с сей минуты в пределы Македонии, я нужусь узнать что-нибудь о ней, и потому недаром заговорил о Девкалионе и Македоне. Надобно же, в самом деле, поискать объяснения термину, наделавшему столько исторического шума, и теперь ещё готовому залить Румелию от края до края междоусобием. Конечно, увлечься нельзя блестящим предположением одного цареградского «родолюбца», сочинённым очевидно для нас русских, что в Македонии проще всего слышать Мак и Дон, ни злонамеренным сопоставлением понятий мачехи и дочери, аллюзирующим на отношения Греческой церкви в Македонии к народу. Слава Богу, есть возможность произвести Македонию от названия одного из племён, населявших её в глубокой древности, именно Мигдонов (Мυγδῶνες), сходство, бьющее в глаза (или уши). Отчего мы сейчас же даём преимущество этой этимологии перед Девкалионовской. Всё это я переводил в мысли, сидя одиноко за картофельным обедом с Страбоном и Изамбером. Спутник мой в это время рисовал на палубе что-то. Возвратившись наверх, я нашёл его в схватке с одним патриотом, заверявшим нашего скифа, что ни один грек не изменял и не изменит вере отцов своих, тогда как Болгары напр. сегодня делаются униатами, завтра протестантами... Скиф, вместо ответа, только значительно и посмевательно кивнул головою на берег по направлению к оставленной Ковале. – А что там такое? спросил состязатель. – А там Драма... – Что же такое: Драма? Как, что? А «Святой Аподрамас»?. Спутник оторвал при этом глаза от рисунка и вперил их в патриота. – Вот нашли кем укорить! Бездельником, маскарадником, мошенником. – Так. Но значить, есть такие греки. Чего же вам ещё нужно? заключил каракулист – художник, не удостаивая уже взором своим противника. Полнейшая победа была на нашей стороне. И подошло же так кстати вещее имя Драмы! Чтобы ощутить всю соль случая, надобно знать, что предместник нынешнего Митрополита Драмского, позванный за какие-то злоупотребления в Константинополь на суд Великой Церкви и долженствовавший понести наказание, перешёл в Латинство, и не только остался в своём сане в глазах Римской Курии, но и стал получать пенсию от Папского делегата в Константинополе, посмеиваясь своим «гонителям» – той же квашни тесту, по его мнению. К прискорбному сему факту, на диво всем Скифам, греческое духовенство и вся православная интеллигенция Византии отнеслись совершенно равнодушно, довольствуясь данною отщепенцу каламбурною кличкою: Апо́драмас (ὁ ἀπὸ Δράμας вместо ὁ Δράμας или полнее ὁ ἁγιος Δράμας), в чём, по мнению их, заключается весьма тонкий и колкий намёк на отбег (ἀπό – δρόμος) митрополита от православия... Не дети ли это, закрывающие себе глаза в виду приближающейся беды? Но нет, как будто не дети. Столько шума газетного и всякого другого, наделали за четыре года перед этим те же самые каламбуристы, когда несколько болгар Константинопольских, в виде угрозы или принудительной меры Великой Церкви, приняли унию, кидаясь, как говорится, из огня в полымя.
Плывём между островом Фасом и Македонским материком, держась ближе к первому. От нечего делать рисую го́ры его, невысокие и неказистые вообще. Известный на Востоке своим строительным материалом38 (nemorosa – по словам одного поэта), остров мало представляет взору лесистой поверхности, по крайней мере, на высотах своих. В древнейшие времена он именовался иначе, и даже, по-видимому, не раз менял своё имя, означавшее то его благорастворённый воздух, то ведренную погоду, то плодоносие, то минеральное богатство, – всё, конечно, греческие. Одно только, самое древнее, название его: Едонис или Одонис не выражает прямо ничего, и вероятно дано ему Идонами, обитавшими насупротив его на материке. Поэты звали его «золотым», по обилию золотоносных россыпей на нём. Фасом – словом, очевидно, чужеземным – назвали его Финикияне, и тоже будто бы за золото, а по иным – от имени вождя их золотопромышленной компании39, открывшего на острове золотые прииски. Кроме леса и золота, остров славился когда-то ещё вином, имевшим свой, высоко ценившийся, вкус40, а также мрамором с золотыми жилками. Золота, как утверждает Иродот, добывалось тут когда-то около ста талантов, более полутора миллионов рублей. Целая гора золотоносная, обращённая к острову Самофраки, была срыта. Местность эту, по таким указаниям, легко отыскать, и вероятно, какой-нибудь предприимчивый золотопромышленник нашего времени не остался бы в накладе, если бы порылся на месте старых приисков, так как древние (по мнению «новых» – по крайней мере) не умели хорошо отделять дорогой металл от земной персти.
Острову этому принадлежат два три славных в древности имени. Живописец Полигнот, урожденец Фасский, живший около 420 года до Р.X., первый стал изображать лица людей с открытым ртом и вообще с выражением жизни. Он расписал храм в Дельфах и один портик в Афинах, известный под именем «пёстрого» или разноцветного (Пοιχίλη), вероятно, названный так именно от пестроты красок, весьма любимой Полигнотом. Другая, преславная в своё время, знаменитость острова был Феаген Тимосфенов сын, атлет (борец) 1400 раз увенчанный на разных всенародных играх Греции, и прозванный «сыном Иракла». Его статуя стояла в самой Олимпии рядом со статуями царей Македонских. Прелюбопытен судебный процесс, бывший тут на острове, по поводу статуи сего самого атлета. Какой-то соперник его, не терпевший его славы, в отместку ему приходил, и каждую ночь бил его статую, вылитую из меди. Статуя, наконец, не выдержала ударов, и упала, но, падая, убила самого оскорбителя. Сын убитого завёл процесс с убийцей. Отличные Фасиоты, держась Драконовых законов, присудили утопить виновного в море. Но, вслед за этим прототипом нашего Шемякина Суда, остров постигло большое несчастье, а именно – голод. Обратились, по обычаю тех времён, за объяснением к Дельфийскому прорицалищу. Бог (sic) сказал: «Пусть возвратят изгнанников». Сказано – сделано. Но голод не прекращался. Шлётся другое посольство в Дельфы. Пифия оставляет загадочный язык, и прямо стихословит: «Феагена, не вспомнивши, оставили Великого вашего»... Думается мне, что вижу, как возвратившиеся с богомолья островитяне собрались тут на берегу, и ломают себе руки, не зная, каким способом вынести из глубины морской такую массу металла. И – о, чудо! Рыбаки просто вытаскивают статую неводом! С тех пор Феаген прославился на весь свет уже не одною физическою силою или ловкостью, а и святостью. Его обожили и стали чтить, как целителя недугов человеческих (голодный желудок разве не болезнь?). Обо всём этом подробно говорит неложный писатель Павсаний (Кн. VI. Гл. II.). И не странно ли? этот самый ἅτε Θεός (яко-Бог), когда ему было ещё только 9 лет, идя раз по городскому базару из школы, приложился к статуе Иракла, и затем, взвалив её себе на плечо, унёс домой. За такое нечестивое дело присудили ребёнка к смерти. Но один умный старик не позволил сего, а сказал Феагену, чтобы он сейчас же отнёс назад и поставил на своё место похищенное божество, что тот и не замедлил сделать. Факт, таким образом, игнорирован судом, тем не менее он огласился далеко за пределами острова. Мальчик прославился необыкновенною силою по всей Греции. Составилась на родине его басня (по-видимому, ничуть не обидная для его матери), что он сын не жреца Тимосфена, а самого божества, которому тот служил. Но несмотря на это родство его с Олимпом, божественный закон строгого воздаяния возымел и над ним всю свою силу. Статуя отмстила статуе, божественное дало себя знать человеческому. Позор за позор! В боголюбивое то время божество было так близко к человеку, что он мог встречаться с ним чуть не на каждом шагу. Удивительно ли, что богочеловечество Христово так легко прививалось к уму блуждавших во мраке многобожия боголюбцев? Многократно приходится историку-богослову возвращаться, в своих исследованиях древности, к той мысли, что идолослужение эгипто-финикийско-эллинское было провиденциальным явлением в человечестве, что оно имело своею задачею развивать и поддерживать в человеке живую веру в Бога, узнавшую потом действительно с первого, так сказать, раза в Апостольской проповеди свой заветный, давно чтимый и любимый, но неуловимый идеал. Культ Фасского Иракла занесён был сюда из Сирии, и был истинным предтечею Евангелия, имевшего сместить собою все подставные божества Греции. – Как кстати! Фас скрывается из глаз, и на его место выникает из светлого моря величественный облик Афона, при имени которого бежит от мысли далеко всё смешное, жалкое и студное язычество Эллинское. Ласкающее душу (но конечно требующее подтверждения из древнейших времён) предание святогорцев41, столько распространённое у нас по России, несёт на встречу нам не Самофракийскую «матерь богов», и не Фасского «царя городов» (Мелик-Карт, Финикийский Геркулес), а присноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, – «царя миров», яко агнца непорочна и пречиста. Сей-то непорочности и недоставало блестящей и влекущей и, как видно из примера Феагена, блажащей вере язычества. Но замечательно, что и то, и другое, и всякое иное – по-видимому, течение религиозное всё шло с юга, по слову пророческому: от юга прииде Бог.
Случается, что отходя или отъезжая куда-нибудь, подавляешься каким-то чувством нерешимости. Обыкновенно это считается знаком, что что-то остаётся позабытым в доме. Так случилось и теперь со мною. Готов совсем отдаться влекущему, и как бы дружески уже помавающему, зрелищу Святой Горы, а между тем чувствую, что что-то забыл на острове Фасе, и нужусь вернуться к нему. Проходящие мимо меня патриоты, один фракас, а другой аласеропеа, навели память мою на то, что́ она потеряла. Дело идёт о Европе. Давным-давно я вычитал где-то, что на острове Фасе умерла и погребена... мать Европы! Это была жена Финикийского царя Агинора, по имени Телефасса, имевшая кроме Европы ещё трёх сыновей Финика, Килика и Фаса. С последним она отправилась отыскивать похищенную так неожиданно и таинственно дочь свою, доплыла до самого северного из островов архипелага, и, вероятно, отчаявшись найти, осталась тут, утешаясь открытыми сыном золотыми приисками. Тут она и почила в мире. А Европа? Она, так сказать, без вести пропала. По всей вероятности её завезли, во избежание преследований мореходов Финикиян, на твёрдую землю, где и след её простыл42. Не устойчивые понятия древних историков о Европе, как части света, не ведут к какому-нибудь определённому заключению о месте, где жила похищенная царевна. Официальная география Византийская указывает уже ясно, по крайней мере, с одной стороны, очерченный предел области Европы, а именно северный берег Пропонтиды и Эллиспонта. В известном Расписании Епархий Империи, приписываемом св. Епифанию Кипрскому, кафедрой «Епархии Европы» указана Ираклия, что́ на Мраморном море, а кафедрой «Епархии Асии» – Ефес. В другой Нотиции, вероятно позднейшей, уже две Епархии читаются с именем «Европы»: Ираклийская и Траянопольская. Какая-нибудь была же историческая причина, почему, обобщённый ещё до Р.X., географический термин: Европа, с V века по Р.X. стал придаваться в частности северному берегу Пропонтиды. Если в сказке о Тирской царевне есть хотя сколько-нибудь правды, то вероятно горемычной пленнице суждено было влачить дни свои там, куда материнское чувство влекло, но не донесло Гелефассу, т.е. во Фракии, где-нибудь на соименной ей реке Евре, по-теперешнему: Марица.
Рисую, насколько умею, вид Св. Горы, всё более и более надвигающейся на умаляющийся Эптанис. Ненаглядное зрелище! Особенно таким оно кажется тому, кто более или менее уже знаком со Св. Горою, и может отыскать на ней глазом тот или другой памятный предмет. Издалека представляется она громаднейшей пирамидой почти правильной геометрической формы и в частности таковою зрится её величавая, стройная, «славная», как привыкли мы выражаться, вершина или то́, что собственно зовётся Афоном. Почти до половины высоты её мы нашли её ещё испещрённою снежными полосами. Они-то собственно и помогают взору сделать надлежащее заключение о величине всей массы, образующей Афонский пик. Торчащий из них мохом или пухом лес дает возможность судить, какие страшные громады входят в состав его, и на какой высоте они находятся. Понятно, отчего с вершины горы пробегающие по морю пароходы кажутся малыми щепками. Напрягаю зрение и вооружаюсь трубкой, чтобы увидеть при море или на косогоре какой-нибудь монастырь. Напрасный труд! «Великие и Царские» обители слишком малы, чтобы дать себя заметить на таком расстоянии. Что-то в мглистой дали белеющее принял, было, я за Иверский монастырь, или просто «Ивер», как зовут его наши Афонцы, но ручаться не могу, он ли то был, или Милопотам, – род мызы, принадлежащей Лавре св. Афанасия. Самую Лавру удалось кое-как различить на такой же как она, окружающей её красновато-серого цвета горной покатости. Заметнее всего оказался Молдавский Скит, ярко белевший новыми постройками на зелёной площадке косогорья. Огибаем грозный для мореплавателей Саро Santo, т.е. мыс Афонский, который, впрочем, не выходит в море одною косою, а имеет вид рыбьего хвоста, выдающегося вперёд на двух оконечностях. Страбон пишет потому о двух мысах Афонских, южном Нимфее, и северном Акрафо. Наиболее опасным из них считается, конечно, северный, который собственно и носит имя Афона (Ἄκρος Ἄϑως). У него, несомненно, разбился Мардониев флот из 300 кораблей с 20 000 азиатских воителей, в первый Персидский (Дариев) поход на Грецию в 492 г. до Р.X. Имел право, потому, предпринявший второй поход Ксеркс не доверять «невинному»43 Афону в его благосклонности к азиатам, и позаботиться обойтись без его услуг. Но только совершенный недостаток географических сведений внушил ему, ещё у себя в доме сидевшему, чудовищную мысль открыть безопасный путь своему флоту прорытием по материку целого канала. Как будто он не мог пройти в досадную Грецию, оставив далеко в стороне не только Афонский мыс, но и весь северный Архипелаг. Сумел же он найти прямую дорогу сухопутному войску от Афонского перешейка прямо к Ферме (позднее – Фессалонике), которою и сам прошёл. Но что значило в те времена приказать и выполнить самые невообразимые вещи? Царь не прежде двинулся со своего места в поход, как получил депеши, что всё сделано и всё готово! Флот его, потому, миновал благополучно грозное и печальное по воспоминаниям место. Мы тоже прошли его благополучно. Вот и южный мыс, посвящённый когда-то «нимфам», а теперь св. Георгию. Хорошо различаем на стремнинах горы иноческие поселения то в одиночку, то скученными хуторами. Вот это, верно, пресловутая на Афоне, Каруля. А это, несомненно, Скит св. Анны. Рассматриваем в трубу подробности келий. Ни одного движущегося существа не оказывается. Или ушли все в Кириакон (Церковь соборную, где совершается скитниками общая служба по воскресеньям – Кυριακὴ ἡμέρα... А по будням каждый молится в своей домашней церкви) на вечернюю молитву, или никого из них не занимает появление у берегов парохода. «Непрестанное божественное желание, бывает у пустынников, мира суетного сущих кроме»... Так отозвался о подобных себе отшельниках Иоанн злототочный, Дамаскин. Надобно думать, что это действительно так бывает. Поднесли раз, помню, рассказывал кто-то, к глазам умирающего писателя только что отпечатанное, новое его сочинение, в надежде утешить его в последний раз. Но взор его остановился – не на книге, а на руке, державшей книгу, и застыл на ней... Что, как не ежеминутно умирающий есть и отшельник Афонский? Какое ему дело до того, кто и где идёт или проходит в то или другое время? А вопрос: с чем или зачем он проходит, конечно, уже – от напасти. Можно не сомневаться, что в видах строжайшего самоисправления он считает искусительным помыслом взглянуть на то, что́ ни в каком случае к нему не относится. – Блуждаю взором по всему скату горы от моря до самого пика, увенчанного церковью. К удивлению, 6 000 футовая высота не поражает собою глаза. Должно быть, расстояние между нею и местом наблюдения еще очень велико, хотя и не кажется таковым. Где-то та стремнистая высь с малой площадкой, на которой за 6 лет перед этим я был меньше чем на шаг от смерти? Не вижу её. Даже того леса густого, который отделяет выспреннейший из Скитов Афонских, Керасийский, от пика, и прилежит глубоко пустынной церкви «Богородицы», не могу отыскать. Страшная каменная громада видится в ракурсе. По мере отдаления от неё парохода, стали означаться на ней и междугорные долины и целые площади, но в тоже время они стали уменьшаться в размерах и как бы застилаться мглою. Быстро пересекаем мы залив: Монте-Санто. Юго-западная сторона Афонского полуострова открылась по всей своей длине. Различаю хорошо монастырь св. Павла, ближайший к мысу св. Георгия, и довольно отчётливо вижу, дивный своим положением, монастырь Симо-Петр. Затем из морских испарений выникает вдали ещё одна, ярко блестящая точка. Это наш Русик, т.е. Русский монастырь св. Великомученика Пантелеимона, с недавнего времени получивший громкую, всероссийскую известность – путём многочисленных сочинений о нём и широкой практики его по лицу земли Русской. Не мало издано статей и отдельных брошюр о нем и pro, и contra, и своими и чужими, и для препровождения времени, и для проведения начал новой аскетики «по духу плоти». А он, как настоящий отшельник в роде упомянутого, и внимания не обращает на всю, вызванную им литературу Афонскую, делая своё дело, и выполняя свою задачу. Бог да поможет ему до конца довести её, и сделать Русик русским. Только надобно, чтобы он хорошо помнил две полезные вещи: 1) что свобода не приобретается рабством, 2) что настоящий дух, так сказать духовный, не есть дух промышленный... Пожалуй, пусть ещё припоминает иногда старое слово премудрости: есть время всякой вещи под небесем и что самое дорогое и любезное слово, слишком часто повторяемое в слух уха, может надоесть слушающему.
Македония распустила по «Белому морю» три ровной длины, но неровной ширины и совсем различной толщины, косы. За Афонскою следует по Ксерксову и нашему маршруту, Сифонская, теперь зовомая: Лунго или Лонго (от: Longo?) А за сею – Палленская или Кассандрская, до сих пор удержавшая своё последнее название. Мы подплыли к Лунго. Полуостров этот ничем не похож на Афонский44. Входит он в море плоским берегом, крепко иззубренным и покрытым тщедушным кустарником. Не откуда взяться тут стремительному ветру. Оттого и флот Ксерксов, прошедши по проволоку (теперь: провлаку) его имени, смело уже шёл к Сифонскому мысу Амбелу45 (виноградному), забирая по пути в городах Ассе, Пилоре, Синге и Сарте годных для военного дела людей. Такой же нежеланной, конечно, чести удостоены были и 5 городов юго-западного поморья Сифонского. За поздним временем нам нельзя уже было ничего рассмотреть на берегу этом. Самый залив между Лонго и Кассандрой уже почти не различался. Я дождался, впрочем, на палубе, пока мы подошли к последнему, самому южному, из полуостровов и обогнули мыс Палюри, а по древнему: Канастр. В третий раз мне доводится плыть возле Паллены, о которой немало речей у древних писателей, и всё – ночью. Никакого, самого приблизительного, очертания его не улеглось, потому, в сокровищнице памяти. А ведь есть повод думать, что древнейшая сказка о сражении гигантов с богами привязана к этой невзрачной местности. По Иродоту полуостров Паллина назывался прежде Флегра. А известно, что на «полях флегрских» (жгучих или воспламеняющихся) произошла борьба смертных с бессмертными за владение небом. Страбон поприщем этой охватки (не поддающейся никакому историческому соображению) считает именно Кассандрский полуостров46. Довольно нам сего.
Мы вышли в широкое море Фермийское. Первое, что нас тут встретило, был – довольно сильный ветер. Нас стало крепко покачивать. Нечто неловкое зашевелилось в груди и подступало к горлу. Мы поспешили сойти вниз. За вечерним чаем беседа естественно вертелась около Афона, и остановилась на Кассандре. Ощущение морской болезни производит и без качки одно имя нынешнего митрополита этого города или полуострова. При всяком, мало-мало значительном обстоятельстве в делах Великой Церкви, непременно фигурирует личность «Святого Кассандрии»47, с пеною у рта отстаивающего «божественные» каноны, выгодные в том или другом отношении эллиническим тенденциям, ожесточённого врага всего славянского, и за то самое чуть не боготворимого патриотами, которые при последней перемене на патриаршем престоле выставляли его кандидатом на кафедру Златоуста, как человека, единственно способного дать отпор болгарскому движению. Зато «Сиромахи» крепко не жалуют гиганта – владыку, восстающего, по их мнению, прямо на бога, и находят даже в чертах лица его некое сходство с гиеной... Значит: «не мытьём, так катаньем»!
Солунь. 16 Мая 1865 г. Воскресение.
Приветствую в третий раз, столько памятный, исторический город. Неугомонный воитель древности только потому не заслуживший имя «великого», что предшествовал «величайшему», Филипп II, наполнив славою своего имени современный мир, нашумев и в Афинах, и в Византии, отпраздновал раз, где-то тут по близости, свою победу над Фессалами. Во время торжества по сему случаю, ему донесли, что у него родилась дочь. Самым подходящим именем для новорождённой и оказалась «победа Фессалов», т.е. Фессалоника. Царевна вышла потом замуж за Кассандра, овладевшего частью монархии Александровой (после смерти Великого), именно в самой Македонии. Кассандр, возобновляя древний город Ферму, назвал именем жены, Фессалоникой. Столько известно о начале пресловутого города, второго по своему значению в Восточной Империи! Древнейшее имя его, однако же, было: Ферма, по-нашему – теплица или ещё проще – баня. Таковою она была известна Иродоту и Фукидиду. Под этим же именем она принимала у себя редкого гостя, вождя трёхмиллионной (!) армии, Ксеркса. Оно, очевидно, греческое, но занесено ли было сюда, как и во многие другие места Востока, колонистами из Греции, неизвестно. Счастливое местоположение Фермы – Фессалоники сделало её от времён древнейших торговым городом, затмившим потом славу всех городов Македонии. В Римский период она считалась уже столицею всей области Македонской. Если бы не явился Константинополь, она, несомненно, была бы главным городом Европы на Востоке. Довольно этой чести для неё. Теперь и имя, и значение её поубавились. Зовётся она уже Салоник или Селаник – по выговору турецкому, двумя слогами короче. А ленивые славяне и ещё укоротили славное имя, сделав из него Солунь, неизвестно чем более руководясь при сём, луною или солью... За издёвку эту прошу прощения у единокровных. Они могут утешиться тем, что мы русские решительно не уступим им в искусстве переделывать чужое на своё. Наши «Некрасовцы» сделали тут из турецкого: Сары-кьой село: Серяково. Одна соотечественница, мечтающая устроить русский женский Афон в Турции, по близости мужеского, уверяла, что отыскано уже и пригодное для того место в селении: Ревни́-ко (Равени-кьой). Наконец, наши поклонницы, мимоездом в Св. Землю, посещающие Цареградские святыни, все хорошо знают, что «Валуклия» находится за Едрёными воротами (Эдрене-капи – Адрианопольские ворота)... Как бы то ни было, в качестве славян, мы постоянно будем писать имя Фессалоники по славянскому его произношению, и притом уже готовому, предоставляя более игривой сообразительности отыскать в Салонике, назло грекам, даже русскую «Солонку», как сумели родолюбцы, в отместку патриотам, историческому Филиппополю подставить до исторический (якобы) Пло́вдив!
«Эптанис» нарочно замедлял свой ход ночью, чтобы прибыть в Солунскую пристань как раз к восходу солнца. Ранее сего, всё равно, ему не дали бы «практики». Чуть он остановился, я вышел на палубу. Город был подёрнут лёгким туманом, из которого выникали только верхушки минаретов, да наиболее обращённые к солнцу дома. Зато на западе вдалеке великолепное зрелище представлял из себя Олимп, более чем на треть высоты своей ещё убелённый сплошным снегом. – Уже ли мы не побываем на нём? спросил я спутника. – Всенепременно, отвечал он, если только будем. – Такой пифический ответ охладил начинавшийся в душе моей исторический пыл в честь преименитой горы. Конечно, если будем, то побываем, повторял я про себя, дивясь уменью русского человека, тысячекратно свидетельствованному историей, утверждать нечто, отрицая всё. «Практика» получена. Пассажиры суетятся, отправляясь на берег кто на побывку, а кто и без возврата на Эптанис. Мы – первые из последних. Договорена лодка. Сносятся за борт наши вещи. Расплачиваемся с «камерьери», который несмотря на то, что слышал нас столько раз разговаривающими на его родном языке, счёл долгом проститься с нами по-французски, пожелав нам: «бон-вояж»! А когда-то было время, что считалось модным, конечно, в местах этих и поздороваться, и проститься языком Аристотеля! Sic transit... etc. Паликар лодочник быстро доставил нас на берег. Чуть мы поставили ногу на твёрдую землю, как явился какой-то униформ, увенчанный фесом, и потребовал наши паспорта. Мы поспешили объявить, что мы во 1-х, старожилы турецкой земли, во 2-х, не какие-нибудь «так – себе», а люди царские и что даже между нами есть один Консул. Но ни что не помогло. Строгий чиновник непременно добивался получить от нас наши бумаги, причём, обращаясь к тому, кого мы назвали Консулом, употреблял выражение: «джаным эфенди» (душа моя, господин), на каковую сердечность нельзя было отвечать упорством. Мы отдали свои паспорта для предъявления куда следует, и довольствовались тем, что не попали ещё в другое мытарство, таможенное. Подлежащих оплате вещей мы с собою хотя и не имели, но всё же могли быть в опасности потерять своё терпение, что дороже и денег, и времени. При известной эластичности турецких (и иных разных) таможенных постановлений и – прибавим – совестей, человеку не смелому или неумелому, а всего чаще – неимелому, можно натолкнуться на большие неприятности48. Нас спасло от таможенных крючков благовременное появление консульского каваса, высланного местным консульством нашим навстречу нам. Под его покровом и руководством мы вскоре добрались до консульской квартиры, где и остановились на всё время пребывания нашего в Солуне.
Так как день сегодня воскресный, и час водворения нашего в гостеприимном доме всего 8-й, то я, в надежде застать где-нибудь ещё Литургию, отправился в сопровождении консульского каваса в Солунскую «Митрополию», по нашему – Кафедральный Собор. Невзрачный, и почти печальный, первопрестольный храм Солунский стоит в захолустье, закрытый постройками со всех сторон. О церкви среди площади не надобно и мечтать на тесном, глухом, косом, кривом и разорённом Востоке нынешнем. Но более чем вероятно, что он таков же был и в древности. Дворцы императоров Византийских, как надобно думать, были целыми дачами, сплошь застроенными без плана, без симметрии, без единства руководящей мысли, и не выделялись ничем из общей массы городских зданий кроме разве своих, более значительных, размеров. В большинстве случаев, кажется, тоже следует сказать и о церквах. Сама Св. София Константинопольская – первейший храм христианства – по всей вероятности была загорожена со всех сторон постройками и даже пристройками к ней самой. Нужда, прихоть и пресловутое δεν πειράζει (произноси: дембира́зи соответствующее нашему: ничего!), столько известное теперь в жизни и в мысли греческой, решали должно быть и в старину наибольшую часть дел человеческих. По Константинополю можно судить и о всех других местах угасшей Империи. Мы застали в соборе службу на самом конце её. На вопрос об архиерее, Афоно-Зографские Метохиты, случившиеся в церкви, известили, что он служит сегодня в Панагии Декста, ради поминок чьих-то. Мы отправились на поиски его. Но ещё не доходя до сказанной церкви, узнали из расспросов, что Владыка служит совсем в другой церкви. По дороге в эту, мы осмотрели вновь строящийся храм Св. Николая. Будет светлое и красивое здание, но с деревянными сводами, что́ одно уже показывает скороспешность и непрочность постройки. Наконец мы попали на архиерейское служение. Божественная Литургия и тут близилась к концу. Всё, что попадало под взор и слух, было совершенно похоже на всё, встречаемое вообще в Греческих церквах, до мелочей. По окончании службы, «Всесвятейший» раздавал народу антидор. Убеленный сединами старец не производил видом своим «благостного» впечатления, хотя выражение пастырской власти и достаточно выработано в его взоре. Солунская кафедра одна из немногих, удержавшаяся на высоте древнего положения митрополий или лучше «архиепископий» в первоначальном смысле слова, какими были и именовались кафедры Кессарийская, Ефесская, Мирская.., коих предстоятели были действительными «Начальниками Епископов» известной области. Ей подведомы до сих пор 8 Епископий, в числе коих две – Дойранская и Полянская – исключительно славянские, хотя и в других епархиях большинство населения, судя по сведениям, имеющимся в Константинополе, тоже составляют болгары. Сколько греков и болгар в самой Фессалонике, узнать нелегко в настоящее время, и узнавать – особенно нам русским – совсем неблаговременно. Дело, впрочем, не замедлит выясниться. К этому приводит со дня на день возрастающий разлад международный, охвативший уже всю Македонию, и только в самой столице области игнорируемый местною церковною властью. В самом городе Славянского богослужения нет ещё. Говорят, что если бы хотя в одной церкви открыть его, произошло бы в городе общее восстание греков. Вот и жалуйтесь после сего на притеснение христиан турками! Нет, Восточный вопрос держится не на поверхности материи, как фабричная набивка цветов, а состоит из узоров, насквозь проникающих ткань. Ни войне не залить их потоками крови, ни дипломатии не изгладить их всем запасом химических реактивов глубокомыслия и широковещания. Приходских церквей в городе 1249, включая в то число и Митрополию и монастырь Чауши. Кроме их есть ещё 5–6 церквей в разных (преимущественно – святогорских) подворьях. Самые значительные из них по многолюдству прихожан суть: Св. Афанасия и Св. Николая. К первой принадлежит около 400, ко второй около 300 домов. Приход митрополии состоит всего из 20 домов. Всех православных жителей в городе полагают круглым числом 10 000, – вдвое меньше против евреев и втрое – против турок. Преобладающая речь турецкая и греческая. Евреи в большинстве знают и ту, и другую.
В квартире нашей, ради стольких гостей, веяло праздником. Явились конечно и поздравители с «благополучным приездом» коими прежде всего угощает обыкновенно провинция заезжих из столицы. Высокий и дюжий, и сановитый святогорец – соотечественник, не раз являвшийся, помню, и в Константинополь «по делам своим», уже дожидался меня, чтобы ещё раз пропеть мне туже песню о жестокой обиде, причинённой ему одним из Афонских монастырей, на земле которого он нанял себе пожизненно келлию. История вкратце следующая. Старец когда-то был уставщиком в одной Лавре русской. Затем внезапно очутился, и не мало времени прожил, в Италии, забрался даже в Испанию, где попал в руки бандитов и был изувечен, оттуда переехал в Грецию, и решил наконец провесть остаток дней своих на Афоне. Скопивши в Европе с десяток тысяч франков, он, по существующему на Св. Горе обычаю, купил себе у одного монастыря в пожизненное владение келлию, т.е. целю монашескую мызу. До сего пункта всё шло хорошо. Но несокрушимый дух его, о котором свидетельствуют уже одни приключения его по Европе, не оставил его в мире доживать век свой. Добрый инок захотел быть настоящим «Старцем», и набрал себе человек 6–7 послушников (из отребий мира, разносящихся из России во все пути заграничные), завёл у себя «монастырское правило», достал от какого-то безместного архиерея греческого (за три рубля) священство пресловутому экс-диакону Афинскому Герценисту, которого и поставил в своей обители наместником, сам же нарёк себя Игуменом, и заложил здание при келлии громадных размеров. Монастырь, долго дивившийся предприимчивости Московита, наконец спохватился, и, имея уже перед глазами примеры Ильинского и Андреевского Скитов – Монастырей, выросших из простых келлий, наложил своё vеtо на замыслы келлиота, у которого уже оказались в церкви и «Мироточные» иконы, а в разных концах России расхаживающие сборщики... Вот это-то и есть «обида», причинённая ему – русскому подданному – от турков! Консульство (Солунское) и Посольство обязаны конечно, в этом случае, защищать своего от притеснений чужих, в интересах православия и просто – чести имени русского, но от недостатка патриотизма, что ли, или другого чего, оставляют его на жертву разбойникам! «о, Господи»! воскликнул рассказчик, в десятый уже раз поведавший мне своё горе. Совершенно тоже воззвание сбегало с языка моего неоднократно в течение его рассказа, но конечно совсем в ином смысле. Нельзя не радоваться водворению русских на Св. Горе, но – водворение водворению рознь, да и русские русским тоже – рознь.
После обеда мы со спутником и одним чиновником консульства, старожилом Солунским, отправились на археологическое обозрение города. Начали оное со Св. Софии, обращённой давным-давно в мечеть. Прекрасный купол её, украшенный мозаическими по золоту изображениями Вознесения Господня, надолго приковал к себе внимание наше. Закрашенные изуверством надоконные фигуры Апостолов всё более и более выступают наружу, и терпеливо ждут окончательного освобождения из-под варварского гнёта. Удостоятся ли тогда лучшей чести? Да не покажется кому-либо странным, мы сомневаемся в том. Слишком высоко стоят, а приземистый дух века нашего, и в частности меркантильный дух Солунский, не поднимет взора своего выше настоящих – золотых – изображений Наполеона, Виктории и других покланяемых лиц. Так думается. Я видел одну церковь – в свободной Греции – приукрашенную золотыми мозаиками, совершенно пренебреженную. Похвалил я их раз одному патриоту, и наяву и во сне бредящему Св. Софиею (Цареградскою). Что же услышал? – Бедняки! Любили потрудиться – холодно заметил он о своих боголюбивых предках, т.е. потрудиться даром, без выгоды, без процента! Вот вам и философия проживаемого момента, от которой не жди себе ничего никакая отжившая идея, хотя бы она называлась Св. Софией, т.е. Премудростию. Не будем, впрочем, лгать на воспитавший нас век. Он не прочь признавать, и даже при случае проповедать, Мудрость Творческую, но воздвигать ей храмы, украшать и поддерживать их не сочтёт своим призванием, ещё менее – осмысленною целью своих стремлений. Что я не притягиваю, так сказать, за волосы подобных соображений, за то ручается свежее ещё впечатление, вынесенное мною сегодня из здешней Митрополии, где нет ни мозаических, ни масляных, ни клееных, ни золотых, ни позолоченных, одним словом, никаких стенных изображений. Ибо на что они? Разве без них не идёт служба Божия, а с нею и кое-какой парус50, куда следует?
От Св. Софии мы перешли к бывшей церкви Св. Георгия, называемой у писателей-туристов, Ротондой. Это, древнейшее из зданий Солунских, одно может делать город славным на весь христианский мир. Несомненно, оно видело всю историю христианской Фессалоники. Если верно предположение itinérair’a, что Ротонда выстроена при Императоре Траяне в честь «богов Великих», о которых мы уже имели случай говорить, значит, всё её – трёх периодов – служение как святилища язычеству, христианству и магометанству было чужеземного происхождения, и именно занесено из Сирии, этого родника – чуть ли не всеобщего – человеческих верований. Жаль, что нет никаких свидетельств, когда это, замечательное по своей архитектуре, святилище языческое обращено в христианскую церковь. Редчайшие, если не единственные, по своей древности, мозаические изображения в куполе Ротонды не проливают желанного света на предложенный нами вопрос. Имена изображённых там святых, исторически известные, принадлежат III веку христианскому. Это суть наибольшею частью Мученики из воинов. Неизвестных святых имена суть: пресвитера Романа, пресвитера Анании и епископа Филиппа. В христианских святцах, насколько нам известно, их нет. Можно бы гадать, что это местные святые Фессалоники или по крайне мере вообще Македонии, если бы только других святых имена, вполне известные и не имеющие никакого отношения к месту, не заставляли думать, что мозаичист, или тот, для кого он работал, вовсе не имели при том подобной тенденциозной мысли, а руководствовались чем-нибудь случайным и совершенно посторонним. Замечательно, что в числе изображенных мучеников нет св. Димитрия, ни св. Георгия, коего именем украшалось когда-то здание. Не были ли они изображены на, той части купольного свода, которая повреждена (именно – восточной), сказать не можем. Воображаю, как хорош был этот чудный храм, когда весь внутри по стенам одет был золотою мозаикой или, по примеру многих других церквей, до известной высоты мраморными плитами! Впрочем, на этот раз он не показался мне таким громадным и столько высоким, как в 1859 г. И естественно. Тогда я для масштаба имел в памяти малые церкви малой Греции. Теперь же, при подобных сличениях, у меня неотразимо стоит в мысли Св. София Константинопольская, по истине – «Великая церковь», достойная великой, если уже не державы, то хотя идеи. Позволил бы себе думать, что древнейшее святилище Солуня живёт именно надеждою сего величия, но только величия действительного, а не того, которое составили себе позднейшие греки по жалким образцам своей подневольной и угнетённой фантазии. Для примера, положим, что Ротонда возвращена в один предуставленный час христианскому богослужению. Что сделали бы из неё теперешние великоидеисты? Прежде всего, загородили бы восточную прекрасную нишу её тяжёлыми безвкусно вычурным с драконами и птицами иконостасом из коричневого дерева с выступающими верхними частями и как бы падающим саженным, поверх всего, крестом, а потом понавешивали бы сотни, если не тысячи, стеклянных лампад и целых люстр, болтающихся на цепях и цепочках, прутиках и верёвочках, утверждённых или в самых мозаиках купола, или в брусьях, торчащих из стен или пересекающих диаметрально и сегментально, и всячески иначе, пустое пространство храма по всем направлениям. Ибо нынешние уставы церковного вкуса, выродившиеся из малых идей, непременно требуют подобных украшений для храма Божия. Отгородить же алтарь от остальной части церкви балюстрадой с тонкими колоннами и архитравом, как это делалось в древние времена, и осветить внутренность её вместо несчётных висячих лампадок стоящими в приличных местах подсвечниками или пристенными канделябрами, если бы кто возымел теперь на Востоке мысль, тот рискнул бы попасть в категорию вольнодумцев, а, пожалуй, и прямо – нечестивцев. Вот сего-то развития «великой идеи» до истинного величия вероятно и ждут все Ротонды омусульманенного Востока. До тех же пор, пока православные храмы тут будут смахивать на торговую лавочку, верно, что прежние хозяева Ротонды, Кабиры (тоже: Великие!) предпочтут оставаться в союзе с Магометом, который, несмотря на свой аравийский вкус, любил величие, и особенно величие в простоте. Не отрадно, а надобно говорить об этом вслух дорогого всем нам Востока, и доселе воображающего (напр. в Константинополе, а ещё более – в Афинах), что он и призван и может и должен вести за собою всё христианство, идя впереди всех со своим византийским знаменем.
Третье Святилище, обращённое в мечеть, зовомое теперь: Эски-Джума (старая Пятница или Параскева) нам не удалось видеть. Оно было заперто, и некому было отворить его. Itinéraire уверяет, что оно стоит на месте языческого храма Венеры. Ему ведать про то́. От прежнего знакомства моего с ним осталось в памяти, что там нет никакого явного следа существовавшей в нём церкви. Два ряда прекрасных колонн его из зелёного мрамора столько же могут принадлежать христианской церкви, сколько и языческому храму. Весьма ощутительная сырость в нём могла бы наводить на мысль что и тут, как в Ротонде, могла быть когда-то Общественная баня (ферма).
Мы подошли к великой и преславной церкви – мечети Св. Великомученика Димитрия. Прекрасный и величественный алтарь её, прежде всего открывающийся с улицы, пленяет взор своими высокими окнами, разделёнными каждое посередине колонною. Он принадлежит лучшей эпохе византийского искусства, и сто́ил бы того, чтобы стоять, не загораживаясь ничем, на открытой площади – обстоятельство, почти неведомое Востоку, где, как мы уже не раз замечали, всё скучено, исковеркано, и всё мешает одно другому. Внутренность бывшего святилища христианского на каждом шагу представляет смесь красоты с безобразием, красота – в архитектуре и в дорогом материале, безобразие – в запущенности всего, что́ видит глаз и в неумении поддержать его. О самой гробнице Великомученика уже не говорим. Кстати, её можно рассматривать только при огне. Да, к тому же она и не составляет одного целого с храмом. Как уже это вышло, не знаем. Может быть в тесном приделе, вмещающем её, можно ещё отыскивать следы первобытной малой молельни, воздвигнутой вскоре по кончине Мученика потаенными чтителями его, и не тронутый боголюбивым проконсулом Иллирика Леонтием. Каких издержек требовала такая громадная постройка? Древние были, кажется, не только набожнее, но и богаче нас. Такое множество колонн, привезённых конечно издалека, должно было стоить огромных сумм, даже и предположивши, весьма возможное, участие в деле принудительных работ. Жаль, что план здания как бы необходимо требует плоского и лёгкого потолка, если архитектор не хочет совсем открыть неприглядный остов стропил кровли. Ряды драгоценных мраморных колонн и поверх их простой дощатый потолок, как хотите, ревут, находясь друг возле друга. А пособить делу нельзя. Колонны не выдержат свода, утверждённого на них. Римская «базилика» Св. Петра, правда, представляет взору громадной широты свод над главным продольником (неф), но за то вместо колонн там выведены столбы таких объёмов, что, не измеривши их своими руками, не можешь верить тому, что о них рассказывается. Видал я также и своды поверх тонких колонн, но по расспросам они оказывались деревянными. Независимо от сего, не годился бы, думаю, грузный свод, висящий на тонких подпорках, каковыми должны представляться под ним колонны. Если колонна есть субститут или ко́пия пальмы, как говорят и думают исследователи архитектуры, то на ней прилично возвышаться только одному своду небесному. Как ни мало похож на последний, наш обыкновенный полуцилиндрический, зовомый на Востоке римским, всё же он ближе к идее, чем накатной потолок. Один Синаит рассказывал мне, что в Соборной церкви монастыря Св. Екатерины, тоже с двумя рядами колонн, на потолке поделаны солнце и луна со звездами. Не надеюсь, чтобы выполнение было удачное, но мысль самая настолько блестяща, что не мешало бы какому-нибудь архитектору осуществить её. В турецких банях не редкость встретить небольших размеров купол, пробитый множеством малых круглых отверстий в виде звёзд, сообщающих внутрь умывальне тихий полусвет, производящий необыкновенное впечатление, особенно когда умеючи вставлены в отверстия разноцветные стекла. Хоть бы уже в этого рода постройках сделать попытку скопировать свод небесный.
От пространственного перейдём к временному. Не менее находишь чем занять мысль свою в базилике Св. Димитрия, и размышляя о том, что не подлежит наблюдению глаза, и что́, однако же, сто́ит быть замеченным, – об её прошедшем. Во всё продолжение Византийской истории, Солунь не переставал играть роль второй столицы Империи, не смотря на историческую важность Антиохии и Александрии, и полон событий первостепенного значения. Жаль, что какой-нибудь учёный и досужий солунец не возьмётся изложить историю своего города по памятникам византийским (и иным) из года в год, классифицируя события, для удобства, хотя по царствованиям. Полагать же надобно, что первенствующий храм города никогда не стоял безучастным зрителем совершавшегося кругом его в том или другом смысле народного движения. Сколько императоров византийских перебывали в нём от Феодосия Великого до последнего из Константинов! Приводим первым имя Феодосия потому, что ранее его едва ли существовал храм. Время построения его в точности неизвестно. Достоверный сказатель этого факта, патриарх Фотий, говорит, что строивший Солунский храм над гробом Великомученика, Леонтий был тот самый, который потом был правителем Иллирика. Правитель же Иллирика с этим именем упоминается в летописях под 412–413 годами, т.е. спустя 16 лет, по смерти Феодосия. Оттого и нельзя сказать положительно, что храм мог видеть в себе сего императора, или, по крайней мере, быть свидетелем достоплачевного избиения 7 000 Солунцев, произведённого по его приказу. Нельзя даже утверждать и того, что мы видим теперь тот самый храм, который выстроен Леонтием. Безыменный некий повествователь чудес Великомученика вскользь упомянул о пожаре, истребившем храм святого, после чего жители города воздвигли новый храм, ещё более великолепный51. Когда это произошло, не сказано. И неоткуда узнать что-нибудь подробнее и точнее о случае, а можно бы усомниться в нём. Случиться это могло не ранее конца VII столетия или и позже, потому что вполне авторитетный и совершенно известный, другой сказатель чудес святого, епископ Солунский Иоанн современник императоров Маврикия и Фоки, имел и как бы наталкивающий повод упомянуть об этом, но не сделал того, а ограничился сообщением известия о пожаре, бывшем внутри храма, по-видимому, над самым гробом Великомученика, когда растопился серебряный Киворий (Кιβώριον), (род павильона или балдахина), накрывавший собою многочтимую гробницу52. Не переиначил ли в рассказе своём тёмный Anonymus это самое обстоятельство, приняв часть за целое, Киворий за церковь? Сроком возможному обстоятельству мы назначили VII столетие. Потому что, предположивши, что оно действительно было, новый храм, воздвигнутый на место погоревшего, носил бы в архитектуре своей печать этого, или даже позднейшего времени. А между тем, архитектурный план его ставит его за время Юстиниана Великого, выстроившего храм Св. Софии, и ею, так сказать указавшего всем последующим векам неминуемый образец церковных построек, от которого действительно уже не отступали архитекторы, насколько мы видим и знаем дела рук их. По крайней мере, так было на Востоке. План так называемой «базилики» после Св. Софии уже вышел, как говорится, тут из моды. Между тем он весь виден в храме Св. Димитрия и притом в самых расширенных размерах. Желательно и возможно думать, что этот лес мраморных колонн выращен – ещё самим Леонтием в царствование Феодосия В., который, может быть, за этот самый подвиг боголюбия, прославивший его, и поставил его правителем Иллирика. Если же и действительно, кроме «Кивория», горел самый храм, что легко предположить, то можно думать, что горела только сопредельная тому часть всего здания, восстановленная с бо́льшим, против прежнего, великолепием, которую зоркий и наблюдательный глаз, может быть, успел бы отличить ещё и теперь. Но для этого нужно решить: где стоял «Киворий»? Упомянутый нами писатель Иоанн рассказывает виденный им чудесный сон, относящийся к судьбам родного города, и стоящий в связи с местом покоя Мученика «Градодержца». Ему снилось, что он вошёл в церковь и направился по обычаю к гробу Святого на поклонение, и именно на средину храма, к левой стороне, а по другому выражению: по длине храма, в средине. Что гробница должна была находиться «налево» от входа, где и теперь показывается, это понятно. Но выражение: средина храма остаётся совершенно необъяснимо. Ни в каком случае нынешнее место покоя Мученика не могло быть среди храма. Хотя рассказчик имеет в виду сновидение, но очевидно, что в основе сновидения должна лежать действительность. С такою подробностью переданное при этом описание Кивория не оставляет места сомнению в том, что тут описывалась действительность. Из другого рассказа того же Иоанна тоже о бывшем в храме пожаре (вероятно том самом, когда сгорел Киворий), видно, что Киворий стоял внутри самого храма, от кровельных стропил которого на железной цепи прямо над ним спускалось поликандило, тоже серебряное. От раскалившейся цепи стала затлеваться и крыша. Нашли как-то способ взобраться наверх под стропила и залить водою загоревшееся место. Конечно, и стропила с тех пор многократно уже переменялись, и напрасно было бы искать на них какого-нибудь следа утверждавшейся в них цепи поликандила. Тем не менее, сто́я «посередине храма», я высматривал «к левой стороне» на полу каких-нибудь следов бывшего тут Кивория, но, конечно, ничего не отыскал. Да и странно, как он мог находиться тут, когда гробница Святого стоит совсем в другом месте. Писатель (Иоанн) прямо утверждает, что «Киворий накрывал место, где, как все верили, погребено было тело Мученика», следовательно, его гробницу. Разве предположить, что теперешняя гробница его неверно указывается? Но, возможно ли фактически такое искажение предания, столь для всех дорогого? Со времени взятия турками53 Солуня, надобно верить, церковная жизнь христианского населения его не прекращалась никогда, и текла, как текла прежде того, своим порядком до наших дней. Магометане, сами почитая великого угодника Божия, никогда не возбраняли чтить его и другим. Как же между сими последними могло пройти незаметным такое изменение предания о месте покоя того, кого град (Солунь) считал своим «утверждением» согласно песне церковной (Кондак 25 Октября)? С другой стороны, впрочем, не трудно предположить, что турки, овладевши храмом, и не желая открыть в него доступ «гяурам», отвели для них место поклонения Святому совне храма, перенесши из него туда, для отвода глаз, напр. могильную плиту или другое какое украшение, находившееся в Киворие54. За неимением более положительных сведений о предмете, довольствуемся этими соображениями.
Не менее (скажем прямо: гораздо более) затруднено решение вопроса о течении мира из гроба Великомученика, известного в православной церкви как бы под собственным именем мироточца (Мυροβλύτου). Теперь, стоя перед гробницею Святого, не дашь себе отчёта, как это могло происходить. Но очень могло быть, что за 600, и более, лет перед сим в том тёмном и крайне невзрачном чертоге, где почивает теперь Св. Мученик, всё имело другой вид. Но странно, что в повествовании Иоанна, епископа Солунского о чудесах Святого, из которого заимствовано и сказание о пожаре, нет и намёка на мироточение. Ни у двух анонимных продолжателей Иоанна, ни у Фотия, ни у Анастасия библиотекаря нет и помина о нём. По-видимому, известия о мире появились уже в Х-м, много в IХ-м веке. Правда, у писателя Иоанна Ставракия (ХIII в.) встречается рассказ о том, что ещё император Юстиниан Великий искал достать себе частицу св. мощей Великомученика, и что это оказалось невозможным сделать по причине мира, наполнявшего гробницу Святого, и что, взамен того, император удовольствовался принесённым ему миром. Но переданный Ставракием случай слишком поздней даты. В виду молчания о мире всех древнейших писателей, ему трудно дать полную веру. Достоверный сказатель чудес Святого, Иоанн, верно бы упомянул о нём, рассказывая, как император Маврикий добивался того же самого, но безуспешно, потому что посягавших на то людей грозил попалить огонь, вышедший из гробницы. Император остался доволен одною горстью земли, которая при обретении мощей Великомученика была взята из ямы. Конечно, умолчание не есть ещё прямо отрицание, но есть вся законная возможность думать, что христолюбивейшему царю, в утешение, поднесли бы миро вместо земли, как и Юстиниану, если бы подобное обстоятельство имело место при гробе Святого. Да и по всему кажется, что Ставракий имел в виду случай с Юстинианом, когда говорил о Маврикие. Сколько известно, первый заговорил о мѵре Иоанн Каменят (славянин?), в своём рассказе о набеге на Солунь Сарацин в 904 г., причём называет св. Димитрия «мироточцем». Он сам принадлежит X веку. Иоанн Скилица – писатель XI века – свидетельствует прямо, что св. миро истекает из гробницы Великомученика55. А Никита Хониат († 1205), описывая занятие Солуня Сицилийцами, не обинуясь рассказывает, что «франки черпали Св. миро кадями и котлами, и мазали им даже свою обувь. «Даже в XV веке ещё продолжалось это чудо. Иоанн чтец, Солунский житель, рассказывая, как очевидец, о взятии города турками в 1429 г., говорит, что» неверные в течение многих дней черпали обеими руками Св. миро. «Для удобства дела, предварительно сняты были ими при этом мраморные плиты (откуда? с пола?). Когда и как прекратилось чудесное явление, не известно. Мы не нашли нигде сведений об этом. Положительно неизвестно даже и то, когда преславная церковь св. Димитрия обращена в мусульманскую молельню. По. Иоанну чтецу, турки, овладевши городом, забрали себе только две церкви: Богоматери и Предтечи, а через два три года отняли и другие храмы, оставивши христианам только четыре (какие именно, не поименовано), в том числе и храм св. Димитрия. Хотя завоеватель (Амурат) и был в нём, и даже принёс жертву, т.е. сам своими руками заколол барана, но, по просьбе христиан, оставил церковь в руках их. Все же сокровища и всё церковное украшение были заграблены. Тогда же, конечно, пропали и Киворий, и кафедра, и поликандило, бывшие, как известно, из серебра.
Ещё слово – и последнее – о великой церкви Солунской. В кратковременное владычество «франков» в Солуне (1204–1222), церковь Великомученика отдана была Иерусалимским каноникам Гроба Господня, как доходная статья, на содержание. Каноники Солунской митрополии (св. Софии), как видно, не добрым глазом смотрели на эту черезполосность владений, и через своего архиепископа (Латинского, конечно) просили папу Иннокентия III позволить и им иметь свою долю доходов от гроба Великомученика. Архиепископ требовал при этом, чтобы святогробцы, сохраняя своё повиновение (oboedientiam) Иерусалимскому патриарху (тоже Латинскому, конечно), в то же время зависели и от него. Из трёх, приведённых в Oriens Christianus Латинских архиепископов Солуня, Нивела, Петра и Гварина, на время последнего должно падать упомянутое обстоятельство. Он был последний и в ряду представителей вторгшегося в православный Солунь схизматического папства. «Деспот» (титулом и поведением) Феодор Комнин, отобрав у Монферратских князей эфемерное королевство Фессалоникское, положил конец и церковной «провинции Солунской», вошедшей с тех пор, со столькими другими вместе, в список «мертвых душ» Курии, значащийся под рубрикой: in partibus. При каких православных митрополитах города процветали в Солуне эти intrus, и где в то время жили настоящие владыки Солунские, и в каких отношениях были к пришлецам, желалось бы, но не откуда, узнать. А что они были, это верно. Солуняне не изменяли отеческой вере никогда, крепко держа в памяти, что они – образ всем верующим56.
На прощание со святилищем, так мало говорящим о своём прошедшем своими памятниками, мы списали уцелевшие на мраморных плитах пола его, две надписи. Одна, у самых (бывших) входных дверей его, состоит из одного обозначения года, по Константинопольскому счёту от сотворения мира, и именно 6783-го, соответствующего 1475-му от Р.X.57 К кому или к чему относилась она, неизвестно. Очевидно, что это обломок большой плиты, имевший на себе какую-нибудь историческую заметку. Другая указывает год кончины некоего раба Божия Луки Спандони, именно 6983-й или 1481-й от Р.X.58 На основании их можно бы строить предположение, что 30 лет спустя по завоевании города турками, церковь св. Димитрия ещё продолжала быть домом христианской молитвы. Проходя через бывший «придел» во имя св. мученика Нестора, мы наткнулись на полу на кучи птичьего помета... Это даёт понятие о том, в каком порядке содержится мечеть новыми «канониками» насылаемыми сюда из «нового Рима» и собирающими, как слышно, весьма хороший доход во имя Великомученика с верующих. Разница между этими и теми блюстителями св. Места может быть только в их богословских мнениях... Те, как мы уже видели, находили существовавший тогда в мире порядок (пользоваться церковными доходами) несогласным с божественною правдою, а эти, ежедневно встречаясь с нечистотами в дому Божием, конечно, думают: «ну, значит, так Богу угодно»! И для тех, и для других Бог есть, если не прямо – чрево, по Апостолу, то – нечто, весьма близкое к нему, т.е. карман.
Уставшие от впечатлений, мы возвращались извилистыми улицами на свою квартиру. По дороге, на одной водотечи нам бросилась в глаза древняя греческая, надпись на мраморной плите, обсечённой с обеих сторон, в три строки, без начала и конца. Оставшееся гласит... унд и Кассандра... да Левкиева, самим себе и... ду Левкиеву. как завещ...59 т.е. Секунд и Касссандра (дети) Секунда Левкиева (приготовили это) для самих себя и для Секунда Левкиева, как завещано было им. Им оставил деньги отец с тем, чтобы они сделали для него и для самих себя гроб, или точнее: костоём (ossuaire). Исполнив волю отца, они вот и передают памяти веков грядущих своё дело. Века грядущие с другими уже понятиями и о памяти, и о вечности выбрасывают ненужные ни той, ни другой кости, и обращают гроб в общественный водоём. Некто Мануил... дуки кур... хлопочет и о своей памяти в потомстве, вырезывая в той же водотечи своё тёмное имя, вероятно, как совершитель или возобновитель общеполезного, хотя и неправедного, дела. Судя по характеру букв, этот Мануил должен принадлежать XIII-ХIV векам. Увидев, что меня заинтересовали старые язы (письмена, черты), сопровождавший нас кавас консульский повёл нас ещё в другое место к другому подобному же «плотоядцу» (саркофагу) языческого времени с надписью, уцелевшею вполне, но за то и, несомненно, позднейшею прежней. Угловатый характер буквы о (о микрон) сначала ввёл, было, меня в хронологическое заблуждение. Надпись выносилась им в века христианские, да ещё и не ранние. Но оказалось, что рядом с угловатою и вытянутою фигурою этой буквы стояло и обыкновенное, круглое или овальное начертание её. Значит, дело сводится, вместо критерия эпохального, на простую licentiam graphicam. Надпись гласит: М(арк) Элий Парамон Элие Фавсте жене и самому себе при жизни. Года 314-го60. Летосчисление употреблено тут, несомненно, Македонское (оно же: греческое, оно же: эра Селевкидов), и соответствовать должно, потому, второму году по Рождестве Христовом. Если же наше общепринятое летосчисление, как полагают учёные хронологисты, заключает в себе ошибку на целые 4 года, отставши, так сказать, от истинного дня Рождества Христова, то выйдет, что в то время, как высекалась надпись, шёл уже шестой год от всемирного события в Вифлееме. Не место здесь вдаваться в запутанные хронологические вычисления, но будучи в Македонии, откуда пролился впервые ясный свет на хронологию истории Востока, можно позволить себе пожелать, чтобы, после всех известных летосчислений древности, сличённых между собою по памятникам, решён был окончательно вопрос о начальном годе христианской эры. Древние историки христианские так мало думали о нём, что постоянно – по крайней мере, на Востоке – вели счисление лет от сотворения мира, что продолжалось педантски до самого XV века. Македонская письменность долго игнорировала и то, и другое, держась своего старого летосчисления, начинающегося годом смерти Александра Великого. Тоже чересчурное «Гречество» замечается в ней и теперь. Но... об этом верно ещё не один раз придётся говорить.
Подходим к мечети с архитектурными очертаниями византийского стиля. Когда-то она была церковью св. Апостолов. Пока отыскивали сторожа её, я списал однострочную надпись, крупно начертанную на каменной притолоке западных дверей её. Она состоит всего из двух слов: патриарх и ктитор. Надпись, по-видимому, цела и потому странно, как могла обойтись она без собственного имени. В церкви нет никаких стенных украшений. Всё замазано извёсткой с жёлтыми пятнами и серыми потёками. Сыро, темно, душно, безвкусно. На что потребовалась исламу и эта ещё убогая святыня христианская? Дождёмся ли мы примерного наказания этой презрительной нетерпимости голодраных аравитян, и всяких иных степняков к цивилизации Европы? Или уже не ждать его совсем, а слушать напротив похвалы исламу за то, что он завоёванные храмы христианские не предавал позору, а обращал в свои молитвенные дома?.. Утешиться разве в этом фатальном явлении исторического единоборства религий на Востоке, видимо неблагоприятного нам, тем, что не в лучшем виде сохраняются и те из святынь, которых не коснулось магометанство. Таковою показалась нам церковь св. Феодоры, Бог весть, как избывшая чести попасть в триумф победоносного Ислама. Когда-то при церкви был монастырь, в котором и подвизалась святая, давшая ему своё имя. Так, по крайней мере, уверяют заведывающие церковью. Известны две святые сего имени, обе именуемые Солунскими, и обе причисляемые к лику преподобных. Первая, празднуемая 5 апреля, прославилась чудом, повторившимся потом в наших киевских пещерах. Когда, вдолге по её кончине, умерла игуменья монастыря, в котором она жила, и когда хотели положить тело её в могилу Феодоры, она подвинулась и дала место игуменье. Когда жила она, неизвестно, и где именно жила, определённо не указывается. Могла быть из Солуня (ἀπὸ Θεσσαλονίκης), а жить и скончаться совсем в другом месте. Вторая Феодора, родом с острова Эгины, подвизалась в X веке, и жила вместе со своей дочерью Феопистою в одном из Солунских монастырей. При жизни известна стала терпеливым исполнением в течение 15 лет наложенной на неё игуменьею епитимии, не говорить с дочерью, живя с нею в одной келье, а по смерти – подобным Великомученику Димитрию, мироточением. Этой самой Феодоры святые мощи, конечно, хранятся и показываются теперь в церкви сего имени. Тут ли стоял монастырь, в котором она подвизалась, ни утверждать, ни отрицать сего нет прямого основания. На вопрос мой, нет ли в городе церкви св. Матроны, или не сохраняется ли хотя память её, привязанная к какому-нибудь месту, мне отвечали молчанием. Святая тоже называется Солунскою. Судя по древнему рассказу о чуде св. Димитрия спасшего город от нападения (которого из многих?) Склавинов, церковь св. Матроны находилась за городом в поле. Там примечены были жителями на рассвете дня с городских стен «варвары». Побиты же были у церкви св. мучениц Хионии, Ирины и Агапии, которая находилась по близости городских стен. И сии св. мученицы принадлежат также Солуню. По Римскому мартирологу (3 апреля) место страдания св. сестёр известно в Фессалонике. В Минеях же наших говорится только, что по смерти св. Хрисогона, учителя св. мученицы Анастасии ядорешительницы, он явился во сне Зоилу и сказал, что святая пострадает вместе с тремя сёстрами, находившимися при оном (ἐκείνης) озере. Св. девы замучены начальником Сисинием, две сожжены на костре, а третья прострелена. О св. Анастасии, по-видимому, тоже солунянке, особо (22 дек.) говорится, что она мучима была разными преторами, брошена в море и наконец, тоже сожжена на костре. Латинские предания местом кончины её указывают остров Пальмарию на запад от Италии, а мучителя называют префектом Иллирика, Флором. Как сходятся тут запад с Иллириком, объяснить трудно. Св. Хрисогона те же предания заносят для мученической кончины в город Аквилею. Из этой разноголосицы имён, лиц и обстоятельств можно вывести одно заключение, что все святые пострадали хотя в разных местах и не в одно и то же время, но историю своею связаны, друг с другом, а местом привязаны к Фессалонике. Кроме упомянутой выше мученицы Ирины, пострадавшей вместе с двумя сёстрами, Римский Мартиролог содержит в себе (под 5 мая) имя ещё другой мученицы Солунской, тоже Ирины, сожжённой вместе с Иринеем и Перегрином. Так как и в наших святцах под тем же числом стоит Святая и «славная» мученица Ирина, которой страдание тоже относится к Иллирику, то, конечно, это должно быть одно и то же лицо. Но греческие сказания о сей святой так хронологически запутаны, что если повествуемое в них всё верно, то в нём надобно видеть приключения многих лиц и разных времён.
Раз вовлекшись в «агиологические» исследования с оттенком местным, предложим, в поучение Солуню, список Святых, принадлежащих ему, и составляющих его христианскую славу, насколько можно было нам, при наших ограниченных средствах для подобного труда, заготовить его ещё дома.
Упомянуты уже нами святые мученики: Димитрий и Нестор, две Феодоры и Феописта, Матрона, Анастасия, Хрисогон, Хиония, Ирина и Агапия – сёстры, славная Ирина (с Иринеем и Перегрином). Кроме них принадлежат Солуню ещё:
Св. мученики: Агафопод-диакон и Феодул-чтец. Утоплены в море проконсулом Фастином, при Максимиане. Пострадали, вероятно, одновременно с св. Димитрием. Мартиролог Римский к ним привязывает и ещё 14 мучеников, коих имена суть: Агапит, Валерий, Кириак, Юлиан, Мастез (Mastesus), Прокул, Публий, Урбан, Зонк, Дионисий, Саг (Sagus) и трое безымянных. Память первых двух по Мартирологу (и Греческой Минее) 4-го, а по нашим святцам 5-го апреля. Память 14-ти Мартиролог указывает под 2-м апреля.
Св. мученики: Абунданций (иначе Абундий), Александр, Антигон, Галан (или Калан), Макарий, Севериан, Тициан, Фортунат (или Фортунион), Януарий. Пострадали при Диоклитиане. Место подвигов их почему-то перемешивается между Фессалоникой и Римом.
Св. мученики: Александр, Василий, Евфрасий, Фруним – 14 марта.
Св. мученики Домнин (или Доминик), Ахаик, Палатин, Филопол (иначе Филофил), 30 марта. О Домнине и у нас говорится несколько слов под 1-м октября.
Св. мученики: Панфер (или Пантен), Парфений, Сатурнин, Дионисий, Александр и св. мученица Иниана (по иным: Ingeniana), 1-го апреля.
Св. мученик Серапион – 27 апреля. Св. мученик Флоренций – 13 октября. Уроженец Солунский. За проповедь Христову вешается, стружется и сжигается на костре. Св. мученик Александр – 7 ноября. Опроверг ногою требище, и обезглавлен. Св. Фанисин исповедник – 30 августа; жил при гробе св. Димитрия неотлучно 8 лет. Св. мученица Анисия – 30 декабря, урожденная Солунская. Зарублена солдатом, нудившим её поклониться идолам.
Самое большое число мучеников Солунских приводится в Латинских святцах под 1-м июня. Насчитывается их более 400. По именам в Acta Sanctorum перечисляются 137. Почти все имена римские. Иноязычными нам показались следующие, – мужские: Иоанн, Тимофей Баян, Барин, Верик, Митун, Сайль, Сепак, Флед, Араб. Женские: Мария, Нина, Карра, Урурия, Бублаза, Гозия (или Гогозия)... Когда, где и в одно ли время, от кого и как пострадали святые мученики эти, ничего неизвестно. Во главе всех их стоит мученица Люция (иначе: Лука, Луцея, Луцела…61) с царём Авцием, (Авцеем, Авцегой, Акцием, Акацием, Евцерием...) Ничего общего не имеет Солунская (?) Люция с известной Сиракузской (по нашему – Лукией, 6 июля) столько чествуемой на западе. О царе же мученике с подобным именем никакая история не упоминает. Зовётся он царём «варваров», и ничего более. Болландисты делают догадку, что это был, может быть, владетель какой-нибудь сопредельной Римской империи страны, взятый в плен победоносными легионами, и приведённый в Солунь, а оттуда пересланный для триумфа в Рим, где и пострадал со всеми своими вместе. Но имена спострадавших ему, как мы уже заметили, почти все римские, что не может относиться к варварскому народу. В имени царя с натяжкою можно слышать Овчея или Овчаря, но дело от этого не уясняется. В некоторых Мартирологах память этого мученика царя встречается и отдельно под 25-м июня62. В православных святцах ни о царе сем, ни о Люции63, ни о всех 400 мучениках Римско-Солунско-варварских, нет ни слова. Солунь и вообще Иллирик, как видно, действительно связаны были исторически более со Старым, чем с «Новым» Римом.
Остаётся дополнить Солунские святцы именем преподобного Давида Солунского, принадлежавшего VI веку по Р.X., обитавшего по близости Фессалоники на дереве, в куще. В наших сказаниях пишется: «под деревом», а вместо Фессалоники читается Фессалия. И то и другое неверно.
В числе Святых Солунских есть также несколько имён местных Святителей. Таковы: первый Епископ Фессалоникийский, Апостол Аристарх – 4-го Января и 15 Апреля. Урбан (епископ Македонский) – 29 Ноября по греческой Минее. Василий, родом из Афин – 1 Февраля. Иосиф песнописец – 4 Апреля. Григорий Палама – Нед. 2 Вел. Поста. Симеон известный писатель археолог. Фома... Афанасий Пателларий (что у нас в Лубнах).
Всех же архиереев Фессалоникских от времён Апостольских до начала ХVIII века Lequien отыскал, вместе с безыменными, 74. Было же их, конечно, вдвое и втрое больше. В числе их есть и писатели. Таков знаменитый своею классическою учёностью Евстафий (ХII века), писавший (вероятно, когда был ещё учителем риторики) объяснение на Омира. Никита бумагохранитель Великой церкви, известный своими «разговорами» с Имп. Мануилом Комниным и «ответами» епископам по канонической казуистике. Нил и Николай дядя и племянник из фамилии Кавасилов. Первый известен огромным и жёстким полемическим сочинением против Латинской церкви. Второй был ярый обличитель мнений еретиков своего времени, Варлаама и Акиндина. Исидор Гласа – из той же эпохи, очевидно славянского происхождения, но греческий полемист – писатель. Заговоривши о писателях, принадлежащих Солуню, нельзя пропустить и упомянутых уже нами двух историков Иоаннов, епископа, описавшего чудеса св. Великомученика Димитрия, и Анагноста (чтеца), передавшего памяти потомства любопытный момент занятия Солуня турками. Наконец, ярче всех других имён, знаменанных печатью учёности, сияют славные имена двух братьев просветителей славянского мира, Кирилла и Мефодия. Ими и закончим мы на нынешней день своё слово о христианском Солуне. Ещё так недавно мы отпраздновали тысячелетие их великого дела – изобретения славянской азбуки. В Солуне никто, конечно, и не подумал откликнуться на наш акт такой шумной манифестации. Да, сколько можно судить по газетным описаниям русского празднования, и особенно по рассказам очевидцев, кажется и у нас в России оно отозвалось несколько натянутым, как бы деланным, характером. Кто знает? Не было ли у славян и прежде Кириллицы какой-нибудь другой (по имени русской напр.) азбуки? Сказание об ученике Кирилла Клименте, находившем в Корсуне хазарском книги, не по-гречески писанные, и непроглядный мрак, окружающий происхождение глаголицы, наводят мысль на разные соображения... А верно ли мы праздновали тысячелетний юбилей славянской грамотности? Прочитанная мною в 1859 году64 в одной славянской рукописной книге на Афоне заметка год изобретения славянских букв прямо называет 6414-м от сотворения мира, и, следовательно, 906-м от Р.X., откладывая, таким образом, юбилей ещё на целое полстолетие... К тому времени проснулись бы, может быть, славянские народности южного отдела, и сочувственнее нашего отпраздновали бы где-нибудь в Македонии (и, конечно, всего приличнее – в Солуне) своё за тысячу лет вступление в ряд народов, имеющих свою письменность. Но для этого надобно, чтобы заметка та подтвердилась чем-нибудь более авторитетным. Почему знать? Потомкам нашим может быть предстоит удовольствие, ходя по улицам солунским, любоваться вывесками со славянскими надписями, которых теперь нет ни слуху, ни духу, как говорится, в отчизне Кирилла и Мефодия, и может быть где-нибудь на центральной площади города наткнуться на памятник нашей 1000 летней письменности, не такой приземистый, как наш... Гостомыслов.
Подкрепивши силы свои хлебом – солью и отдыхом, общество наше устроило загородную прогулку в так наз. Беинпена, – место, ничем незамечательное. Мне эта экскурсия давала случай отнестись к городу, как цельному, вне поставленному историческому образу, полному своеличных очертаний, красок, явлений, движений и всяких перемен без конца и краю. Тысячи лет пережившее место может задать воображению работы на десятки лет. Солунь мог бы иметь свою многотомную, и весьма поучительную историю. Более нас досужее, и всем необходимым снабжённое потомство, может быть, и дождётся её. Я ограничусь тем, что сделаю сколок с той эпохи Фессалоники, когда она величалась столицею соимённой себе державы и даже... Империи! В таком необычном положении город был двукратно, или лучше – за один и тот же раз, но в два приёма, которые мы означим словами: Латинский и Греческий. Но предпошлём изложению дела несколько поясняющих его замечаний. Цельным и нераздельным членом государственного тела Фессалоника, а с нею и вся Македония, была, можно сказать, только до Македонской династии престолодержцев Византийских, т.е. до усиления Славянских и иных народностей, занимающих северную границу империи! Последний из самодержцев этой династии, носивший имя первого, т.е. Василий II Болгаробоец, при всех успехах своего оружия, столько же, можно сказать, владел краем, сколько и неугомонный соперник его Краль Болгарский. Для стеснённой со всех сторон и разрежённой внутри империи со дня на день все труднее и труднее было удерживать за собою отдалённый край этот. Своих греческих войск у Императоров не было, и неоткуда было взять их. Греков, как и всегда, не доставало, что́ никогда не было так чувствительно, как в это фатальное время. Наёмники конечно не сочувствовали ни в чём правительству, и при первом случае возмущались, и кроме того одни с другими никогда не жили в ладу. Правители областей волей-неволей действовали с возможною независимостью на постах своих, и самодержцы часто рады были иметь хотя одну, чисто номинальную, власть в местах этих. Полнейший хаос царствовал в ХI и XII веках в отношениях Солуня к Царюграду, и ни в какую готовую историческую рамку мне кажется, не уложить того, что́ тут творилось в те смутные времена. К довершению неустройства, «освободители св. Земли» подали всем, кому это приходилось по сердцу, пример устрояться в вассальные, в существе совершенно самостоятельные, владения, которым никакого дела не было до того, существует ли на свете их сюзерен, кто он, и что он о них думает. Сюзеренная власть, со своей стороны, «из нужды делая любочестие», по любимой поговорке греческой, довольствовалась остававшеюся тенью самодержавия, и тоже мало думала о действительном подчинении областей. Из этой блаженной летаргии она выходила только тогда, когда являлся какой-нибудь претендент на изношенный и крепко полинявший пурпур царства, выбрав местом своих преступных действий тот или другой угол империи...
При таком порядке дел, не диво, потому, прочесть у Византийских историков, что в 1179 император Мануил I Комнин сам отчислил город Солунь, вместе, конечно, и со всею Македониею, имевшею тогда (как и всегда, я думаю) весьма эластичные пределы, от своей державы в приданое зятю своему иноземцу, сыну Маркиза Монферратского, Реньеру, 17 летнему юноше, первому красавцу своего времени, в которого влюбилась 30 летняя дочь самодержца, Мария. Думал ли Мануил при этом о чём-нибудь, кроме приличной, как говорится, партии для засидевшейся в девицах царевны? Если и думал, то именно в смысле загребания жара чужими руками, т.е. управления Македонией через зятя, которому отец или другой кто в Европе, конечно, пришлёт достаточно войска, чтобы держаться в крае... Но «хитрого грека» перехитрила «яже вещей истина». Его патриотическая мысль о Македонском престоле, достойном высокого положения его дочери, нашла себе действительное приложение, спустя несколько времени, но в смысле, нечаянном двором Византийским. Мануил, вскоре за бракосочетанием и коронованием (как можно гадать из неясного свидетельства историков) молодых, умер. Наследовать ему остался 13 летний сын Алексий II Комнин. Реньер – переименованный Иоанном – жалея о юноше, подпавшем чужому влиянию, составил заговор против правителей, вместе с другими членами царственного дома, очень уже размножившегося к тому времени. Последствиями сего заговора воспользовался впрочем, самый худший из Комниных (долго живший перед тем у нас в России) Андроник I, прозванный «тираном» Этот «новый Нерон» отравил и Марию и её мужа (около 1183 г.), не допустив их даже увидать Солунь, которым управлял от имени самого Андроника некто Давид, тоже из фамилии Комниных. Но был и ещё один Комнин с вещим именем Алексия, тоже находившийся не малое время в России и научившийся (не у нас, конечно) умозаключать: если Андроник согнал с престола Алексия, то, значит, Алексий должен согнать Андроника... Что проще этого? Но не так легко было привести в исполнение наскоро составленный силлогизм. Если у Андроника было мало войска, то у нового «Олексы» – ровно никакого. Патриотизм внушил ему мысль обратиться за помощью к сильному тогда королю Сицилийскому, польстив сего надеждою взять Константинополь и овладеть империей. Задняя мысль при этом у проходимца была всё та же смышлёная политика Комниных – загребать жар чужими руками, не думая о том, кому и на что послужит загребаемое. Гильом II не замедлил откликнуться на призыв, высадил войска свои в Албании, овладел Диррахием, победоносно прошёл ещё раз с римскими легионами по исторической via Egnatia, и подступил к Фессалонике. Алексий – предатель, разумеется, был при нём и руководил его, чтобы как можно более напакостить Андронику. Об отечестве в то время никто не думал, Город был в осаде со дня Преображения по день Успения, в Августе 1185 г. Достойный представитель Андроника, bon-vivant Давид посмеивался над «Франками», сидя за крепкими стенами городскими, пока те не овладели местом, как говорится, с меча, и не произвели в городе ужасающее истребление65. Завоевать империю, однако же, не удалось на этот раз. «Скверный» Андроник был хороший солдат. Он послал сильное войско на выручку края. 7 Ноября произошло большое сражение между императорскими войсками и Сицилийцами. Победа осталась на стороне первых. Аланы, составлявшие почти всю армию византийскую, произвели в злополучном городе над франками такие неистовства, которые заставили забыть бывшие перед тем за три месяца от франков. Весь этот рассказ историка (Никиты Хониата) предполагает, как будто, что город составлял тогда целокупную часть империи. В то же время, на основании западных известий, мы нудимся признать, что и городом и всей областью владел в этот промежуток времени, по праву наследства, маркиз Монферратский Бонифаций, брат и преемник Реньера, – владел, конечно, номинально, и может быть даже неведомо для Византийского двора66 и для самого владеемого края. Запад, значит, не шутил титлами, достававшимися, так сказать, с ветра его ратаям на Востоке. Как бы то ни было, Солунь если не на самом деле, то на бумаге, с 1179 года был столицею особого государства, и имел своих Государей Реньера и Бонифация из дома Маркизов de Monte Ferrato. Но это была только прелюдия.
ЦАРСТВО СОЛУНСКОЕ. Период первый. Известно, что четвёртый крестовый поход, бывший с небольшим через 100 лет после первого, направлен был уже не для освобождения св. мест от неверных, а по более широкой программе – для освобождения Востока от «Фотиевой схизмы» т.е. для истребления православия, и благополучно кончился взятием Константинополя и восстановлением «настоящей империи» Константина Великого, столько почитавшего «Наместника Божия на земле» и подарившего ему самый Рим со всею Италиею. Душою этого похода были венецианский дож и маркиз Монферратский. Последний есть тот самый Бонифаций, о котором мы упомянули выше. Когда водворилась в Константинополе Латинская империя, покончившая с выдохшимися Комниными и задохнувшимися Ангелами, новый преемник Цезарей, Балдуин, верный феодальной системе современной ему Европы, отблагодарил своих лучших помощников в захвате престола Константинова землями своей новой державы, которыми, кстати, не мог управлять сам. Дожу с его республикой достались острова, а маркиз предъявил только свои документы на наследственное право владения Солунем и всей Македонией. Он был первым кандидатом на императорскую корону, и для утешения его требовалось потому также какое-нибудь венчание его на царство, что и было сделано в самом Константинополе. Он получил при этом титул «Короля Фессалоникскаго»67. Всё это происходило в самый год завоевания франками Царя-града, – 1204-й от Р.X. Новый Государь уже совсем готов был отправиться в свои владения, чтобы начать царствовать, как следует, как вдруг вышла история, послужившая как бы программою всего дальнейшего хода Латинства на Востоке, – здания основанного на песке, по слову Господнему. Император поревновал королю, и прежде сам захотел показать себя Солуню, введши торжественно во владение им своего товарища. Вышел делёж шкуры неубитого ещё медведя. Немало горьких слов перепало между венценосцами. Король находил не нужною такую честь своим владениям. Император настаивал, и настоял. Кончилось тем, что доблестные рыцари разъехались в разные стороны. Балдуин с войском своим отправился действительно в Солунь, а Бонифаций, тоже со своим войском, в... Адрианополь! Византия ждала, что завоеватели подерутся, перебьют друг друга и избавят от себя Восток. Но до этого не дошло. Третий ли союзник дож помешал, или печальные уроки предшествовавших походов слишком живо ещё были памятны, только вассал уступил сюзерену. Солуняне, пресыщенные Комниными, без неприязни отнеслись к франку – монарху и встретили Балдуина за городом с хлебом-солью, прося его об одном – не вводить солдат в город, что, конечно, и было исполнено. Недавние Сицилийцы и Аланы не могли ещё выйти у них из памяти. С таким же радушием, или по крайней мере – равнодушием, они приняли потом и поставленного им короля. Ибо, что другое оставалось делать? Притом же Бонифаций, насмотревшись на порядки Византийского двора, несомненно, насколько мог, показывал себя в своём государстве в такой обстановке, в какой понапривык и желал видеть своего Государя. Притом же смышлёный человек, конечно, не пропускал случая выдвигать, где нужно, жену свою бывшую императрицу и её сына (Мануила) от прежнего мужа, которого он, при бывшей размолвке с Баддуином, провозгласил раз даже законным, наследником Императорского венца.
Не имеем мы сведений о том, как образовался и существовал тут королевский двор. Воображение открывает широкое поле деятельности. Впрочем, по-видимому, Бонифаций считал себя более воителем, нежели правителем. Очень скоро история находит его далеко от Фессалоники завоёвывающим Фессалию и нынешнюю Грецию до самого Пелопонниса, на котором он долго держал в осаде города Коринф и Аргос. Из твёрдой Греции он образовал особое, подчинённое себе княжество Афинское. За него тут распоряжалась если не царством, то царедворцами жена его, славившаяся мужеством и красотою, которую хотя западные историки и представляют возвратившеюся из схизмы (православия) в лоно церкви (папства), но вся вероятность заставляет предполагать верною обычаям Восточной церкви, в которых воспиталась, прибывши в Константинополь 10-ти лет68. В это время новорождённое царство Солунское чуть не получило неожиданный конец себе. По северным пределам империи скитался тогда бывший император Алексий III Ангел, каким-то необъяснимым и необычным в Византийской истории случаем оставшийся в живых. После разных приключений он добрался до Солуня вместе с женою своею Ефросиниею69 и дочерью Евдокиею. Скитальцы благосклонно приняты были королевою, хотя та имела полное право на всякую жестокость с Алексеем, низложившим и ослепившим её первого мужа, а своего родного брата. Три экс – императрицы, очевидно, не могли ужиться вместе. Скоро была открыта интрига гостей против хозяев. Алексей собирал себе в городе партию для изгнания чужеземцев и для... но, очевидно для чего. Великодушная невестка ограничилась тем, что прогнала от себя своих бывших родственников. Испытав неудачу, те отправились с большими надеждами на успех далее к югу, и попались в руки возвращавшегося оттуда в свои владения Бонифация. Он, вероятно, ещё долго бы оставался в классической земле, закрепляя её за своею бумажною короною, но ему донесли, что на севере явились охотники до его собственной коронной земли. Ему предстояла не менее трудная и продолжительная война оборонительная, наследованная им вместе с краем от византийцев. Северные «варвары» сложились в это время в два, довольно сильные, государства: Болгарское и Сербское, не считая других меньших народцев, то защищавших, то разрушавших империю, вроде Аланов, Аваров, Команов, Печенегов, Росов... Для расправы со всей этой «саранчой» у Империи давно уже не было собственных сил. Королевство, конечно, обходилось пока своими силами. Но завоевательный поход Бонифация на Грецию должен был уже значительно уменьшит их. Вообще говоря, «франки» в своих крестовых походах, и особенно в четвёртом, допустили ту же фатальную ошибку, которой следовала Византия, и ещё прежде неё вся колонизационная система старых Греков, а именно, увлёкшись духом предприимчивости, вторглись в ничтожном сравнительно количестве в сплошные инородные населения. Оба монарха иноземца – Балдуин и Бонифаций скоро увидели себя в необходимости защищаться от такого врага, какого и не воображали встретить, забираясь на Восток. Над Болгарами властвовал тогда некто Иоанн, или уменьшительно Ива́ница (как бы: Иванушка, по-нашему), из чего западные писатели сделали Ioannicius – личность роковая для франкского владычества на Востоке, сделавшая то, что первый блин этого печенья вышел комом, по нашей пословице. С помощью 14 000 Команов, он разбил наголову Балдуина под Адрианополем, куда тот явился с войском для подавления мятежа. Несчастный погиб в неслыханных муках70 от жестокого победителя, не успев износить и одной пары красных сапог с золотыми орлами, т.е. процарствовав всего 9 месяцев. Эта первая схватка славян с именитыми «франками» возбудила дух отваги в первых. Будь в них хотя малое сочувствие с греками, всей франкской затее тут же был бы положен конец. Между тем та и другая сторона действовали без малейшей мысли о соглашении, каждая на свой счёт, на свой риск и на свой, так сказать, каприз. Таковы именно были действия Иваницы. Этот filius carissmus Папы71, поставил как бы задачею своей жизни истреблять легионы папства на Востоке. Покончив с Императором, он задумал добраться и до короля. Бонифаций объезжал тогда западные области своего государства, восстановляя города, разрушенные в предшествовавшие набеги Болгар на Македонию, когда ему донесли, что в столице его произошло восстание, что граждане положили выгнать иноземное правительство, и что королева, спасая себя, укрылась в крепости. Насколько в этом случае можно искать интриги Болгарского краля, неизвестно. Когда Бонифаций прибыл в Солунь, он нашёл восстание уже подавленным. Но зато, по следам его двигался к Солуню с большим войском сам краль. Произошла, не знаем которая из несчётных, осада Солуня. Король, запершись в городе, отчаянно отбивался от краля. Последний, от природы крайне нетерпеливый, не вынес нежданного отпора, и стремительно возвратился в свои горы, ни во что ставя позор отступления. В Солуне настал минутный золотой век. Убедившись, что спасение всего франкского дела на Востоке состоит в нерушимом союзе вождей его, Бонифаций задумал скрепить свои вассальные (на бумаге) отношения к престолодержцу Византии родственными узами. Императорствовал тогда на место Балдуина брат его Генрих. Бонифаций составил план, женить его на своей дочери, Агнесе, которую и вызвал для сего из своего родового Ломбардского владения в Солунь в 1206 году. В конце того же года она отправлена была в Константинополь, где и повенчана 4 Февраля 1207 года в храме Св. Софии с Императором. Праздникам конца не было, по сему случаю, в обеих столицах. Не дремал при этом и Иван Асеневич. Он недаром столько лет прожил заложником при (бывшем) дворе Византийском. В ответ на тесный союз заморских «риг», он заключил союз с Феодором Ласкарем, считавшимся законным преемником императоров Константинопольских, условившись не давать покоя иноземному державцу Константинополя ни на один день. И точно Франкскому владычеству на Востоке опять угрожал конец, но и опять фатальный недостаток единомыслия в деятелях противной стороны оставил его жить и даже процветать. Ласкарь поладил с Генрихом72. Заручившись миром с этим ближайшим конкурентом венца Императорского, Генрих устроил свидание с тестем, на котором и решено было общими силами уничтожить Ивана. Но Бог судил иначе. Славный воитель двух крестовых походов и владетель двух Государств Бонифаций погиб бесславно, и даже как бы безвестно, гоняясь на высотах Родопы за Болгарскими наездниками. Смерть его приурочивается к тому же, радостному для него, 1207 году. Голова его, в виде трофея, доставлена была Кралю, который по дикому обычаю «варваров» приказал сделать из черепа заздравную чашу73.
У Бонифация было два сына: от первой жены Гильом и от Маргариты Марии Димитрий, родившийся очевидно в Солуне. Первому покойный оставил в наследство своё владение Monte-Ferrato в Италии, второму – Солунское королевство. Так как последний был ещё младенец, то вельможа Бландра замыслил возложить, корону на старшего брата, и сделать престол Солунский совершенно независимым от Константинополя. Генрих пронюхал это и нарочно приехал в Солунь, чтобы внушить народу, что настоящий монарх у него есть Император. При этом, он своеручно короновал Димитрия 6 Января 1209 г., поручив управление делами матери, а к ней приставив своего чиновника. Но, кажется, прежде чем всё это произошло, под стенами Солуня случилось ещё раз, столько привычное городу обстоятельство, неприятельская осада. По смерти Бонифация, Иван не замедлил со всею массою войск своих двинуться к Солуню, очевидно имея намерение воспользоваться благоприятным случаем и положить конец непрошеному королевству. Действительно всё шло, как нельзя лучше, для планов краля, но в одну ночь нашли его мертвым в его палатке74. Летописцы и это обстоятельство относят к тому же 1207 году. Но, кажется, слишком тесная хронологическая рамка (1204–1207) назначается для событий, с коими связаны имена Бонифация и Иваницы. Как бы то ни было, со смертью краля и осада Солуня была снята, и на целые 10 лет водворилось спокойствие в крае. Димитрий подрастал. Мать правила государством. Тем временем умер в 1216 г. и второй Император Латинский Генрих, не оставив, как и Балдуин, после себя прямого наследника. Преемником ему выбран зять обоих бывших Императоров, Пётр, живший на западе, которому не удалось даже увидеть своей столицы. Для него нашёлся тоже в своём роде Иваница, только грек, а не славянин. Пётр коронован был торжественно в Риме вседержавным Папою75 на Византийское царство, столь близкое сердцу Святого Отца, с заповедью покончить с ненавистною схизмою Восточною. Свидетелем торжества был и старший сын покойного Короля Фессалоникского, Гильом, Маркиз Монферратский. Новый Император, в порыве удовольствия, не справившись ни с историей, ни с географией, произвёл Маркиза в Короли Солунские, поручив ему иметь опеку над Димитрием вместе и с его матерью. Папа, не менее радостный, дал последней право «не подлежать епископскому запрещению, без ведома Св. Престола». Повода к такой странной милости мы угадать не можем. Вероятно, под видом привилегии скрывалась утончённая притеснительная мера. Полагать бы можно, что строгому католичеству Королевы не верили в Риме. Вероятно, и сын её Димитрий воспитывался умною и заботливою материю тоже в схизме. Оттого и поспешили в Риме произвести в Короли Солуню настоящего верного сына церкви, поручив ему опеку (очевидно, в каком смысле) над вдовою и сыном Бонифация. Но, вся эта римская затея села на мель у одного, не означенного в мореходных картах курии, мыса.
На сем пункте истории мы вынуждаемся остановиться. Нас давно уже ждёт одна пресловутая личность того времени, – Деспот76 Эпирский. Когда-то тоже славное имя Эпира к XIII веку по Р.X. почти уже было забыто. Даже в школах того времени, даже в самом Эпире, едва ли произносились славные имена царей Эпирских Александра, Пирра и др. И вдруг один человек тёмного происхождения и не очень светлых качеств заставил просиять Эпир не на одну сотню лет, и спутать собою окончательно и без того запутанный ход доживавшей свои дни Империи. История – в двух трёх словах – следующая. Когда новый Император Константинопольский Балдуин отправился в первый раз по своей Империи, и именно в Солунь, о чём мы уже упоминали, ему сопутствовал в числе переметчиков и некто Михаил Ангел-Комнин (по мужской линии – Ангел, по женской Комнин), не имевший, строго судя; права носить ни ту, ни другую фамилию, потому что был незаконного происхождения. Оставив императора под Солунем, он пошёл добывать себе счастья далее на запад, и при общей ломке изветшавшего здания империи, успел как-то сколотить из кусков её новую державу без резко очертанных границ и даже без какой-нибудь одной общей клички, то Эпирскую, то Этоло-Акарнанийскую, то ещё иначе как-нибудь. Подобно тому, как Бонифаций из Солуня распространял свои владения мало-помалу на далёкий юг, Михаил, утвердившись главным образом в древнем Эпире, с теми же расширительными помыслами направлялся к северу, и, сравнительно говоря, был сильнейшим из 5 или 6 государей, порождённых переворотом 1204 года. Не имея прямых наследников кроме сына (тоже Михаила и тоже – незаконного, как и он сам), он вызвал к себе в «свободный» Эпир одного из трёх братьев своих (законных), именем Феодора, который и наследовал ему в его владениях после его смерти, приключившейся в 1216, г. Новый «Деспот» затмил славу прежнего. Первым его деянием было захватить в свои руки новопоставленного императора Константинопольского Петра, которому дорога к престолу лежала через его владения. На бедняка напали в горах Эпира будто бы разбойники, которых Деспот, при всех своих усилиях, не мог ни словить, ни отыскать, несмотря на просительное и отечески-увещательное письмо Папы. Два года просидел, размышляя о превратностях мира, пленник в какой-то крепости, и наконец, исчез бесследно. Для нашей Солунской истории собственно дорог не он лично, а поставленный им король Солунский. Участь Петра отбила охоту у Гильома (или Вильгельма) ехать добывать себе за морем царства, когда свой Монферрат был под боком. Доказательством того, как всё обездушело в бывшей грозной Империи, может служить обстоятельство, что и в Константинополе, и в Солуне занимали теперь престол слабые женщины (там Голанда, сестра Балдуина и Генриха и вдова Петра, здесь Маргарита), окружённые конечно густым населением греческим, и ни у кого недоставало духа выгнать иностранок и восстановить природное правительство. Однако же был человек, который не усомнился в возможности сделать это. То был Деспот Феодор. Посмеявшись над «франками» в лице Петра, отважный человек сообразил, что железо надобно ковать, пока оно горячо, и не замедляя двинул свои дружины в беззащитную Македонию. Грозное имя предшествовало человеку и углаждало, так сказать, дорогу. Города передавались ему, как своему природному государю с радостью и надеждою, что он положит конец вековым нестроениям в крае, измученном беспрестанными завоевательными движениями то с юга, то с севера, с некоторого времени уже и с запада. Феодор шёл как триумфатор, и скоро был уже под Солунем. Не дожидаясь, пока должен будет живым отдаться в руки завоевателя, Димитрий бежал из своего царства в Италию к родным отца своего за помощью. Этого только и ждал Феодор. Он не замедлил овладеть столицей своей будущей Империи. К сожалению, подробности этого события неизвестны. Даже года, когда это произошло, нам не удалось отыскать у историков. Вероятно, это было в 1221 году. В следующем году Солунский владетель уже замыслил провозгласить себя Императором, не Солунским, конечно, как привыкли думать, а Римским, – на тех же положениях, на каких и Никейские владетели присвояли себе самодержавие. Но Никейским сподручно было сделать это. Какие были имперские чины, не хотевшие оставаться в Константинополе при иноземном риге (rex) в 1004 году, все ушли за Ласкарем в Никею, и удержали там старый государственный порядок. А, что всего важнее, последовало и высшее церковное управление бывшей Империи, т.е. Патриарх со своим Синодом. Феодор не был в подобном положении, и когда обратился к местному митрополиту, требуя от него венчания себя на царство по уставу, то архиерей Солунский наотрез отказался от того, ссылаясь конечно на букву устава, где указывается венчанию быть руками патриарха77. Впрочем, мы говорим это гадательно. Как бы то ни было, встретилось маленькое препятствие к Феодорову самодержавству. Но так как, говоря по-гречески, «всякое препятствие к добру», то и упорство одного архиерея дало другому высказать свои автокефальные права с тем, чтобы в отдалённой будущности дать возможность людям, имеющим в том нужду, сослаться на них, как на исторический прецедент. Этот другой архиерей был Охридский Архиепископ, на которого были перенесены преимущества первой Юстинианы, дававшие ему неподсудность равную с патриархами78. Человек не затруднился возложить на голову «Деспота» Императорскую корону, мало думая о том, что скажет о его действии τὸ πανελλήνιον (всё эллинство), не сходящее с языка у нынешних патриотов. Охридский архиерей знал, что иное дело церковные каноны, и иное τὸ γένος καὶ τὸ ἔϑνος (род и народ), и действуя в области первых, не советовался с последними. Обстоятельств венчания на царство Феодора I мы, к сожалению, опять не могли узнать ни откуда.
Период второй. Так рушилось царство Солунское – Regnum Thessalonucense – созданное, не скажем на песке, а как бы прямо на воздухе! Едва ли кто пожалел о нём, исключая, может быть, Св. Отца в Риме, которого сердце, как известно, болит обо всём мире. Впрочем, и о новом императоре у Папы должны были сохраниться хорошие воспоминания из периода, предшествовавшего печальному случаю с Петром. И даже после случая отличный человек умел заявить себя перед Верховным Первосвященником верным и послушным сыном... Но если сын оставался «верным», то отец не сохранил более никакой веры в него, и наконец, проклял его торжественно. Поводом к такому акту духовного наказания послужили происки при папском дворе экс-короля Димитрия, или больше, от его имени, его брата Маркиза Монферратского, который, впрочем, как будто не прочь был и сам покоролевствовать на заманчивом Востоке. Братья предприняли было нечто вроде крестового похода против Феодора, стараясь поднять, главным образом, мелких владетелей Элладских, находившихся в вассальных отношениях к Солунской короне. Папа, разумеется, сыпал обеими руками индульгенции новым крестоносцам. Но пока те собрались с мыслями, маркиз король заболел и умер. Лет 5 после него ещё прозябал где-то в Италии брат его Димитрий, и тоже безвременно умер в 1230 году, не оставив по себе потомства. Жаль, что история не занесла на свои страницы дальнейшей судьбы его матери, замечательной женщины, этой действительной королевы или государыни Солунской, наполнившей своим именем весь 18-летний79 период Латинского владычества в крае.
Новый самодержец не шутил своим званием преемника кесарей. Он завёл в Солуне настоящий Императорский двор, стал раздавать, как было в Византии, титла Деспота, Севастократора и другие самые высшие достоинства Империи, облёкся в багряницу и в красную обувь... Только всё это делал несколько «по-болгарски» или же лучше «по-варварски», замечает обиженный этою профанацией византийских придворных обычаев писатель. Не понравился новый Август ни чужим, ни своим. За морем считали его, конечно, сыном геенны. В Константинополе при одном имени его скрежетали зубами. Никейский самодержец считал его бельмом на глазу. Наконец, не менее других злился на него Болгарский краль Асень II (по Раичу, 35-й Болгарский царь), у которого он, не церемонясь, отбирал заграбленные тем, укреплённые места и земли. Задавшись мыслью о своём достоинстве императорском, Феодор не замедлил отправиться со своими вольными дружинами на Восток во Фракию добывать отеческое достояние. Несомненно, что главным помыслом его был Константинополь. Победоносно шёл он вперёд, и без пролития крови овладел Адрианополем, отняв его у своего же, да притом ещё и законного80 государя! Оттуда он простирал набеги до самого Царя-града, но, видно, добыть столицу было не под силу ему. По всей вероятности, надутый и вероломный человек не пользовался сочувствием ни в войске (которое всё-таки отдало в его руки Адрианополь!), ни в местном населении, которое так любило своего Ивана Милостивого (Ватаци, Императора Никейского). Конечно, не дремал при этом и сей последний, употребляя все усилия осадить выскочку. Впрочем, кажется, и не по зубам была нашему счастливому завоевателю какая бы то ни было крепостная стена, а у Константинополя их было довольно. Но есть и другой способ объяснить его неуспехи под столицей. Не дремал и другой природный соперник Солунского властителя, Краль, имевший с ним свои международные счёты. Надобно думать, что чуть Феодор оставил Солунь, как Асеню пришла охота заглянуть в него, и что вследствие сего начались в северо-западных частях Феодоровой монархии явления неспокойного свойства, что и принудило монарха возвратиться восвояси. А может быть, всё движение Краля имело одну простую цель познакомиться с пресловутым соседом. По крайней мере, к такому заключению приводит то, что немедленно затем последовало. Вместо ожидаемых неприятностей, состоялась дружба между двумя государями, закреплённая ещё и родственным союзом. Болгарин выдал дочь свою (побочную) Марию за брата Феодорова Мануила. Где, когда и как это происходило, не знаем. По-видимому – не в Солуне, и вероятно не в первые годы Феодорова здесь царствования. По поводу сего союза, мы не можем удержаться, чтоб не повторить греческой поговорки: оказались «похожими, оттого и породнились», ἑτεριάσαμεν, διὰτοῦτο καὶ συμπεϑεριάσαμεν. И Асень и Феодор сто́или друг друга, – и как правители, и как люди вообще, и хорошо понимали друг друга. Но так как это были два схожих самодура, то очевидно не могли жить в мире один с другим. Судя по историкам, ничто иное, как один беспокойный дух, заставило Феодора в 1230 г. нарушить добрые отношения к свату. В Апреле 1230 года он отправился с войском из итальянцев и греков в Адрианополь, и оттуда вдруг повернул по реке Марице (древнему Эвру) во владения Краля... Асень наскоро вооружился, договорив себе на помощь дружину Команов из 1 000 человек, и двинулся навстречу вероломному родственнику, которого мирную грамоту пришил к своему знамени, в обличение его вероломства. Сражение произошло при местечке Клокотинице. Самонадеянный Эпирот был разбит наголову. Победитель удивил мир своим великодушием, не убив ни одного пленника и самого Феодора принял ласково и с подобающею честью, только удержал его при себе в плену. Слава Асенева великодушия быстро облетела пределы Феодоровой державы. Города, отнятые у Болгар Феодором, стали сами отходить опять к Асеню, а царство Солунское быстро начало распадаться. Впрочем, столица оставалась на прежних положениях.... Брат Феодора Мануил заступил его место, и, хотя прямо не набивался ни к кому с именем самодержца, но, подписываясь киноварью, явно давал разуметь, что преемствует во всём брату. Асень, в уважение родства с ним, оставлял его в покое. И в Константинополе, и в Никее конечно радовались такому обороту дел на соседнем западе. Впрочем, и Мануил, хотя и уступал много брату в предприимчивом духе, не сидел даром и прибирал к рукам соседнюю Фессалию, которая, полагать надобно, считалась тогда владением какого-нибудь франка крестовника. Но родовое наследие Феодора, Эпир, отошло уже от его царства с его падением. По инициативе ли его самого, или вопреки его желанию Эпиром завладел племянник его Михаил, сын (незаконный) первого деспота Эпирского Михаила, основателя династии Комниных-Ангелов, человек с предприимчивым и тоже беспокойным духом, имевший виды и на Фессалию и даже на Грецию. На западе возник новый, не менее враждебно настроенный ко всему, что носит имя империи, властитель Трибаллов, т.е. Сербов, открывший свои поземельные счёты с обоими соседями – Солунским и Эпирским. Так образом эфемерная «Империя» Феодорова вдруг вошла в пределы до того тесные, что только прецедент Константинополя мог представлять ещё не совсем смешным положение дел в Солуне. Двор Солунский средоточился теперь около другой81 царицы Марии. По странности судьбы, обе Солунские государыни были иноземки. Та венгерка, а эта болгарка. Но роковая чаша уже готова была излиться на непрошеное государство без имени, без патента и даже без места. Пленный Феодор не сумел сидеть спокойно гостем у Асеня, затеял интригу против хозяина, и по приказу сего был ослеплён. Этим печальным обстоятельством как бы упрощалось запутанное положение Солунского престолонаследия. Мануил делался настоящим государем. Но тут вышла неожиданность, которой не поверил бы, если бы не знал, что имеешь дело со временами тёмными. При слепом Феодоре проживало и его семейство. Дочь его Ирина сколько красотою, столько же и ростом пленила сердце болгарского монарха. Краль женился на ней к общему удовольствию её самой и отца её. Новая привязанность – мужа положила конец старой – отца. Асень вдруг принял решение отправить слепого тестя на прежнее царство, согнав с престола своего зятя и собственную дочь! Сказано – сделано. Слепой Император возвратился в Солунь, схватил Мануила, посадил на судно и отправил в ссылку в Атталию82, а жену его возвратил к её отцу Асеню. Всё таким образом, как будто возвратилось к прежнему порядку. Недоставало только глаз для правления государством. Обойдён был и этот пункт. Феодор провозгласил Императором сына своего Иоанна. Но уже был самодержец этого имени. Сему последнему не было по сердцу такое провозглашение. Феодору он, так сказать, прощал его императорский титул – по необходимости, и отчасти по обаянию его имени. А кто такой был безвестный юноша Иоанн? Отличный во всех отношениях человек (Ватаци) решился покончить миром с самозванною Империей Македонскою. Он пригласил к себе в гости (по старому знакомству) Феодора, как человека великой опытности, для дружеских совещаний об общих делах Империи. Феодор охотно отправился в Азию (вероятно, в Нимфей, где большею частью проживали Никейские самодержцы). Иоанн, продержав его при себе довольно времени, собрал войско, и отправился вместе с ним на неприятеля... какого? Есть полная вероятность думать, что Феодор всех менее знал об этом. Войско прошло всю Фракию, подчиняя города скипетру Иоанна... Которого? Об этом конечно всего менее рассуждали. Наконец, оно дошло и до Солуня, где и остановилось в «саду овчаря». Город ещё раз попал в осаду. Иоанн Солунский приготовился было отбиваться от нападающих, но тут явился слепой Император отец и уговорил сына удержаться от бесполезного кровопролития. Заключён был под стенами города мир на условиях, чтобы Солунский государь отложил титул Императорский, и звался только Деспотом в вассальных отношениях к действительному Императору (Ватаци). Любопытен рассказ очевидца Г. Акрополита об этой осаде города своими против своих. «Царь (Иоанн Дука Ватаци), собрав всю армию, водружает палатку по близости Фессалоники стадиях в 88-ми. Стенобитные орудия и машины несподручно было ему поставить против такого города, чтобы затем и овладеть им, сражаясь. И так, он делал только набеги своими войсками, и грабил все окрестные места, главным образом, руками Скифов, которые всё обращали в добычу83. При нём были и суда (трииры), которыми начальствовал Кондофре Мануил. Свиту Государя составляли отборные мужи: Торникий Димитрий84, заведовавший общими делами и хлопотавший по разным сношениям, Андроник Палеолог85, который облечён был в силу Великого Доместика, и смотрел за всеми войсковыми делами, и другие многие, поставленные вождями, как-то: протовестиарий Рауль Алексий86 стольник Никифор Траханиот, Кондо-Стефан87, имевший достоинство протосеваста, Петралиф88 названный Великий Хартуларий, и других немало из знаменитостей. И так, царь Иоанн, расположившись перед городом, делал, что мог, против него. Но и бывшие внутри города не ленились действовать. Выходя из городских ворот, и они делали набеги на царя». – Осада протянулась бы Бог весть докуда, но сын царя (Феодор II Ласкарь) прислал к отцу гонца с южной стороны Эллиспонта с известием, что народ Тохары89 напали на Мусульман, сразились с ними и победили их. Весть эта встревожила царя, но он скрыл её от всех, и поспешил вступить в сношения с Солунским державцем, послав к нему для переговоров слепого отца. Таким образом, после 40 дней осады заключён был между воюющими сторонами клятвенный мир. Иоанн (Солунский) отказался от «красной обуви» и от «пирамиды, украшенной жемчугом с красным камнем наверху», т.е. от Императорской короны, а остался при одном достоинстве «Деспота».
По окончании переговоров, счастливый своим успехом Ватаци спешно отправился восвояси, а отец с сыном остались мирно жить в Солуне, оба сложив с себя императорство. И у нас были Иван и Феодор, – грозный и тишайший. Но тут именам выпала противоположная роль. Феодор Ангел, если не был прямо тиран, то был самодур. А сына его Иоанна Ангела историк представляет таким, каких и тёплая верою Византийская жизнь имела не много. Иоанн был «благоговейнейший христианин, кроткий и целомудренный человек. Он не пропускал ни одного дня, чтоб не быть у обедни, ходил и на всенощные бдения, и даже вычитывал дома обыкновенно дневные часы, подолгу беседовал с назореями (монахами), и всё желал и сам повесть отшельническую жизнь»... Невдолге после изложенных событий, не пригодный для мира юноша скончался. На укороченный и приниженный престол его взошёл младший брат его Димитрий, которого историк изображает во всём противоположным брату, и чуть не прямым повесой. На вещем имени его суждено было окончиться и второму царству Солунскому. Новый государь, весёлый, живой и разгульный90 юноша, не внушал никому ни доверия, ни уважения. Город искал только случая избавиться от него. Случай, конечно, не замедлил представиться. Император Ватаци, убедившись в слабости Болгарской державы, управляемой 12 летним отроком, вознамерился выгнать болгар из Фракии, и действительно забрал успешно много городов. Так как война занесла его в сторону к Солуню, то вельможи Солунские и вошли с ним в переговоры о передаче ему города и всего бывшего царства, насколько его ещё осталось от прежних размеров. Димитрия самым глупым образом водили при этом занос91, пока не подошёл к городу со всем войском император. Ему, конечно, сейчас же отворили ворота. Димитрий укрылся в крепости. Ходатаицей за него явилась к Ватаци сестра его Ирина, бывшая кралена Болгарская. Димитрий остался цел и невредим, но отдан под стражу. Император с торжеством вступил в город, и провёл тут несколько дней в Декабре 1246 года. Возвращаясь в Малую Азию, он оставил правителем Солуня и всей Македонии Великого Доместика Андроника Палеолога, под начальство которого поставил и сына его Михаила, уже начавшего занимать видное место в кругу царедворцев. Так кончилось блеснувшее мыльным пузырём царство Фессалоникское, начавшееся в 1204 г. и просуществовавшее 42 года, под управлением (Рейнера), Бонифация, Димитрия, Феодора, Мануила, Иоанна и Димитрия. Феодор пережил его. Вероятно, ещё в первый приезд Ватаци в Солунь, он выговорил себе независимое владение по близости к сыну, в которое входили города: Водена, Старидолы, Остров и др. Так как при окончательной передаче Солуня Империи в 1246 г. не упоминается более имя Феодора, то это могло значить, что экс-император жил тогда уже в своих владениях. О судьбе сына его экс-деспота, на котором порушилось царство Солунское, мы не могли вычитать ни откуда ничего.
Период третий. Озаглавливая так отдел этот, мы вовсе не имеем в виду делать натяжку и считать существующим то, чего не было. Царство Солунское с 1246 г. стало существовать только уже на страницах истории, но память его продолжала ещё долго носиться над развенчанною столицею Македонии. Город продолжал иметь всё тоже преобладающее значение в Империи; какое имел и прежде. Поставленный правителем области, Великий Доместик был человек, умевший держать высоко свой умаленный пост, и вероятно в глазах народа значил больше, чем Димитрий. Долго ли он управлял страною, неизвестно. Он и скончался в Солуне. Преемником ему был назначен некто Филис – из того же дома Палеологов, и следующий за ним Синодино́с тоже называется «принадлежащим к роду царя» (тогда – Андроника Палеолога). Полный хороших впечатлений, вынесенных из Солуня, и, конечно, и исторических воспоминаний, сын Великого Доместика, сделавшись Императором, чуть не сделался виновником возникновения вновь Солунского царства. Из двух сыновей своих Андроника и Константина Михаил предпочтительно жаловал последнего, как порфирородного. Не считая возможным обойти престолонаследием старшего сына, отец задумал было сделать младшего владетелем Солуня неизвестно с каким именно титулом. Но к счастью Империи, не успел или не посмел сделать это. Однако же, впоследствии, сын любимого Константина Иоанн, титулованный «Всепреавгустным» (πανυπερσέβαστος), вспомнил про достававшийся отцу престол, и с помощью Краля Сербского (Стефана Дечанского) своего зятя, стал добиваться его – в 1325 г. Император Андроник II, упреждая новое разделение и без того слабой державы, поспешил возвести претендента в достоинство Кесаря92 и сделать его правителем Солуня. «Кесарь» на пути к своему посту, из которого, вероятно, не замедлил бы создать себе двор и престол, заболел и умер. Эту неудачную попытку возвратить Солуню утраченный блеск «державный» можно считать финалом истории Солунского царства.
Не смотря на свой, уже чисто провинциальный характер, именитый город до самого почти отчисления его к Венецианам, а от них к Туркам, нередко блестел обстановкою царской жизни. Императоры волей-неволей навещали его часто, и иногда жили в нём подолгу. Так Андроник Старший в 1299 г. жил тут с Великого Поста до самой осени. Поводом к этой продолжительной гостьбе служил ещё новый родственный союз Византийского двора с северными варварами. Тогда усилилось и начало славиться Сербское Кралевство93, у которого сейчас же появились пограничные вопросы с империей. Чтобы ответить на них с честью, надобно было империи иметь целую линию крепостей, большое и крепкое войско, и хотя небольшую, но крепкую привязанность к ней населения. Ничем подобным Палеологи похвалиться не могли. Зато чем богаты, тем и рады были – по нашей пословице. Богатство же Андроника на сей раз заключалось в 8-летней дочери Симониде94, пожертвованием которой отец думал отстранить, или и прямо порешить упомянутые вопросы. Вероятно, заботливый царь – отец осведомлялся, нет ли у Трибаллов молодого Кралевича, который мог бы составить приличную партию царевне. Но такого не оказалось. Женихом мог быть только сам 45-летний Краль95 вдовец (Стефан VI Милутин). Нечего было делать. Посланы брачные предложения варвару. Тот не отказался от предложенной чести. Условлено было съехаться в Солуне. Действительно, по зимней распутице нетерпеливый император явился сюда вместе и с невестой, захватив с собою и брата Константина (о котором см. выше), которого из страха совместничества держал при себе узником. Положено было взять в Солунь, для совершения предположенного венчания, и патриарха Вселенского. Но тот, узнав о разительном несходстве лет жениха и невесты, или другим чем водясь, хотя выехал вслед за царём, но, добравшись до Силиврии, остановился там и не поехал далее. Император, напрасно прождав его целый пост, послал ему к пасхе богатый подарок из 1000 золотых монет и убеждал его прибыть в Солунь. Но тот царское даяние принял охотно, а от поездки в Солунь отказался, и под предлогом боли глаз возвратился лечиться в Константинополь96. Этот, немало о себе говорящий случай не остановил Андроника от принятого им решения. Благо, был уже в этом же самом городе не так давно пример, указывавший, как обойтись в подобных случаях без Патриарха. «Архиепископ Первой Юстинианы» и теперь был под рукою. Чуть Император, так сказать, заикнулся о свадьбе, как тот был уже готов повенчать юную чету, в которой недостаток возраста одной стороны восполнялся избытком другой97. Краль жених не заставил ждать себя, и с возможным блеском явился в Солуне. Архиепископ Макарий совершил бракосочетание. Всё кончилось к общему удовольствию. Одна Симонида могла чувствовать себя не вполне весёлою на бесконечных празднествах, последовавших за венчанием, но она была слишком молода, чтобы понимать что-нибудь, а достоинство Кралены, несомненно, занимало ребёнка. Муж дал слово ждать совершеннолетия жены98. Новобрачные отправились в свои владения, а Императорский двор возвратился в Константинополь.
Не знаем определённо, когда вышел семейный разлад между Андроником и женой его Ириной, матерью Симониды и трёх сыновей Иоанна, Феодора и Димитрия. Честолюбивая итальянка требовала от мужа невозможных достоинств для сыновей своих в ущерб старшему его сыну (её пасынку), носившему уже титул Императора. Не получивши чего хотела, она покинула мужа, самовольно оставила Константинополь (1307 г.), и водворилась в Солуне, вероятно, вместе и с детьми своими. Она была родственница (внука = ἔγγονος) Бонифация, бывшего Короля Фессалоникского. Оттого как бы и кстати ей было жить здесь. При царице был и свой, пышный и многолюдный двор. Слабый муж, боясь злого языка её99, не отказывал ей ни в чём. Сколько лет она провела здесь, в точности неизвестно100, но к мужу уже не возвратилась. По заведённому обычаю, она однажды отправилась провести несколько месяцев в соседнем городке Драме, славившемся своим климатом, но там заболела горячкою и умерла. На похороны её приезжала и дочь Кралена. О других детях её известно то, что старший Иоанн тут же в Солуне скончался, не оставив по себе потомства после четырёхлетнего супружества, второй сын Феодор отослан ею на родину в Лангобардию владеть оставшимся ей после отца княжеством Монферратским. Третьего – Димитрия – имела, было, мысль сделать наследником своего бездетного зятя Сербского Краля, при дворе которого и жил уже Димитрий, но не успела в том. Историки поносят её расточительность в пользу детей её и преимущественно – дочери с её зятем, уверяя, что переданными ею сему последнему сокровищами можно бы нагрузить 100 триир. Оставшуюся после неё в наличности денежную казну решено было употребить на поправку Св. Софии Константинопольской.
Привыкший к дворцовому шуму и блеску город скоро утешен был присутствием нового Двора. Сын Императора Михаил, сам уже носивший титул Самодержца, редко когда находился при отце, а более проживал во Фракии при войске. Нелюбовь к нему мачехи, вероятно, была причиной, что он избегал Солуня, но управление краем лежало на нём. Кончина ли Ирины или неспокойствие в Фессалии были причиной, что и он со своей женой Марией (армянкой) и всем двором переехал на житье в Солунь. Находясь здесь, он получил горестную весть, что в Константинополе убит был по фатальной ошибке меньший сын его Мануил служителями деда, из-за истории весьма соблазнительного свойства. Известие до такой степени поразило бедного отца, что он заболел и умер тут 12 октября 1320 г. Так как всё его долговременное царствование (1295–1320) было при жизни отца его Андроника (старшего), то имя его и не вносится обыкновенно в список Византийских Императоров. Историки не отзываются о нём ни с особенною похвалою, ни с порицанием. Жена его, почему-то известная более под именем Ксении, продолжала и после него жить в Солуне, по примеру Ирины, до 1321 года.
После смерти Михаила возникло долговременное нестроение на престоле Византийском. Кроме покойного Императора – сына, соцарствовал Андронику ещё и Император – внук, именем тоже Андроник. Но титул «Самодержца» обращался как видно в предмет игры в эти времена. Существеннее его было звание или положение наследника престола. Деду не нравился внучек, и он задумал приготовить себе другого преемника. Но внучек заставил его короновать себя, а, короновавшись, стал считать себя настоящим Государем. Явились во дворце, конечно, партизаны того и другого венценосца. Междоусобие стало расти и расходиться по государству, к удовольствию несчётных врагов Империи. В числе приверженцев юного монарха первым лицом, конечно, была мать его Ксения101, проживавшая в Солуне. Дед немедленно приказал правителю области (не знаем, тогда ли только назначенному, или уже прежде занимавшему свой пост), своему сыну Константину, отправиться с войском в Солунь, захватить там вдовствующую императрицу и отправить в Константинополь, а затем привести в надлежащее повиновение мятежного внука. Кому, как не дяде и уместнее, и успешнее было сделать это? Правитель с успехом выполнил первую половину поручения. Ксению вытащили из церкви, где она молилась перед образом Богоматери, поклявшись не выйти оттуда живою, посадили на судно и отправили к свёкру. Но на второй половине поручения правитель споткнулся. С набранною им сволочью он выступил против «мятежника», но при первой встрече с хорошо организованной армией молодого императора, бежал и укрылся в Солуне. Кстати, наступили зимние непогоды, а византийский галантом102 любил комфорт. Весною старый император прислал ему приказ все власти Солунские (в числе 25 человек) выслать к нему морем в кандалах, как партизанов мятежника. Нелегко было выполнить Деспоту и это третье поручение. Про царский указ пронюхали Солуняне, и ударили в набат. Город весь всполошился и кинулся к дворцу правителя – Царевича. Тот, разумеется... был таков! Разграбивши дворец, народ устремился в крепость, куда укрылся Константин. Видя беду неминучую, Палеолог достал где-то лошадь, сел на неё, как и в чём был, и помчался, куда глаза глядят. Борзый конь занёс всадника в одну придорожную обитель Хортаи́та103. Он в неё. Народ за ним. Приняв во внимание, что в монастыре кому быть, как не монаху, солунцы, недолго думая, тут же и постригли своего правителя в монахи! Бедный человек долго и жестоко бедствовал в плену у племянника. Получил свободу уже при действительном воцарении сего последнего, по предстательству и с прямым содействием к бегству Великого Доместика (будущего императора) Иоанна Кантакузина. Личностью этою мы более надлежащего занимаемся потому, что надеемся отыскать в ней прочитанное нами в мозаической монограмме на алтарной стене Солунской Св. Софии, имя Константина Деспота и Ирины Деспины. Имена эти, конечно, самые общие104 и частые в Византийской истории, и отлично приходятся к знаменитой Ирине, восстановительнице иконопочитания и её сыну Константину V (780–802), но приставной титул: δεοπότης выносит как бы монограмму в позднейшие века. Жаль, что у историков не встречается имя первой жены солунского правителя, дочери Музалона. Может быть, она звалась Ириною. Монограммы те не говорят, конечно, о времени постройки Софийской Церкви, но они могут указывать на украшение алтарной стены мозаикою или на возобновление сей последней, сделанные усердием Деспота Константина. Другое подходящее имя мы едва ли отыщем, хотя и сознаемся, что кратковременное пребывание нашего Константина в Солуне и образ жизни его вообще мало говорят в пользу нашего предположения. Разве остановиться на упомянутом выше Константине «порфирородном» и жене его Ирине, из дома Раулей?
К периоду после Константина надобно относить тот случай с Иоанном «Всепреавгустным», о котором мы говорили выше. Весьма может быть, что Иоанн был преемником Константина в управлении Солунем105. После Иоанна встречаем у историков (Григора́ 1,394) правителем Солуня третьего сына Андроникова, Димитрия, тоже, конечно, партизана старого царя. Но, чем более этот, четвёртый уже из царствующего дома, правитель бывшего царства радел о восстановлении единства империи, тем более солуняне расположены были к мятежным действиям – по первому, какой встретится, поводу. Достаточно им было напр., чтобы против Императора поднял знамя возмущения внук его, чтобы они взяли сторону последнего. Впрочем, легко предположить, что они и любили молодого царя, в котором несомненно были симпатичные черты характера, а ещё более – вероятно – внешнего обличия. Оттого, когда правитель Димитрий отправился раз из города с войском по делам службы в город Серры, жители Солуня (в том числе и местный архиерей) немедленно дали знать Андронику, чтобы он спешил к ним, ибо они стоя́т за него. Тот, разумеется, не заставил ждать себя. Прикрывшись одеждой частного человека, он благополучно вошёл в город не узнанный, или вернее вовсе незнаемый стражею. Чуть он очутился внутри города, как сбросил с себя простонародную одежду, и явился во всём блеске царского облачения. Этого было довольно, чтобы народ устремился к нему со всех концов города и сделал ему восторженный приём. Ошеломлённые и растерявшиеся, не многие легитимисты кинулись спасать себя в крепости, и заперлись там. Разумеется, последовала погоня за ними. Крепость попала в осаду. Полетели снизу стрелы, а сверху камни. Наконец зажгли ворота, и крепость сдалась. Димитрий, конечно, уже не думал возвращаться в Солунь, а направил стопы свои в Сербию к Кралю, у которого и прежде, ещё при жизни матери, проживал часто.
Надобно думать, что около этого времени возвратилась в Солунь на жительство императрица Ксения. Она получила позволение от свёкра поселиться в каком хочет монастыре. Могло быть это в 1327 г. По старой памяти она избрала Солунь. Отправляясь сюда из Константинополя, она по дороге имела свидание с сыном, открыто вступившим в войну со своим дедом, в Грацианополе. Всё заставляет предполагать, что больших ладов у неё с сыном не было. Здесь же в Солуне ей пришлось пережить и несколько очень тяжёлых минут. Сын её Император в 1330 г. был застигнут тяжёлым недугом и, лёжа на смертном одре, поручал и наследника престола – своего сына, ещё ребёнка, и всё царство своему другу Иоанну Кантакузину, и не вспомнил при этом ни одним словом о своей матери. Бедная женщина глубоко была обижена этим. Считая же смерть сына верною, и боясь за существование внука Иоанна и своё собственное, закляла солунян через правителя Сиргиана считать её своею государыней, и стоять за неё до смерти106. Но сын её чудесным образом возвратился к жизни, и царствовал потом (уже один) ещё 11 лет. На положение Ксении это, однако же, не имело влияния. Она продолжала мирно жить в Солуне, и мирно скончалась в 1333 году.
Эпилог. Этим можно бы было нам и закончить свою, уже не в меру, затянувшуюся Солуниаду. Насколько продолжалась ещё потом империя Палеологов, самодержцы волей-неволей не переставали посещать знаменитый город. Чуть утвердился на престоле любимец города Андроник III Младший, как он уже должен был ехать в Солунь усмирять мятеж. Взбунтовался сам правитель города Сиргиан, привлёкший под стены города, в качестве союзника, и Болгарского Краля (Михаила). Император попал в осаду. На этот раз жители города, не знаю почему, не были заодно с императором, и готовы были отворить ворота города мятежнику и чужеземцу.
Полна печального драматизма для Солуня была возникшая вслед за смертью Андроника († 1341 г.) 15 летняя междоусобица между опекуном (и тестем) юноши Императора (Иоанна) Кантакузиным и матерью его Анною, а потом и самим Иоанном V Палеологом. Городу несколько раз приходилось пострадать жестоко за своё сторонничество. Бессильные соперники ратовали один против другого наёмными войсками, и кроме того вводили в свою домашнюю распрю или славян с севера, или турок с юга, или франков с запада. Иноплеменники не раз в этот период и показывались под Солунем, осаждая по обычаю город. А какая безурядица происходила в такое время внутри города, и представить трудно.
Вот несколько выдержек, в точном переводе, из того, что сообщают историки о происходивших в этот, краткий сравнительно, период неистовствах в Солуне, виновниками коих были так называемые Зилоты107, так живо напоминающие партизан того же имени, неистовствовавших в Иерусалиме в Иудейскую войну.
1342-й год. «В Солуне же Протостратор (первопостельничий), находясь, как мы сказали, в нерешимости и явно недоумевая, к которому из царей пристать, слегка относился к делу, и на так называемых Зилотов (ревнителей), которые готовы были воевать с царём Кантакузиным из-за сына царя Палеолога, мало-помалу умножавшихся, смотрел сквозь пальцы, частью боясь, чтобы не показаться прямо сторонником царя Кантакузина, а частью видя, что в Солуне не только войско, которого было немало, но и сильные из граждан, державшиеся царя Кантакузина, смотрели на дело с небрежением, и, надеясь, что, когда захочет, может одолеть через них Зилотов. Поскольку же эти, по его нерадению, сделались немало значительными и возмутили народ против сильных, наверно зная, что Протостратор держит сторону царя Кантакузина, то народ, напавши на тех (сильных) всем множеством, выгнал их из города, человек с тысячу, причём произошла схватка, в которой были ранены и некоторые из дома Протостратора. Несколько человек были схвачены из сильных, те, которые не успели бежать вместе с другими при первом натиске. Забрав же в свои руки город, Зилоты устремились в дома бежавших, ломали их, грабили имущество и прочее производили, что свойственно людям, преследуемым нищетою и натолкнутым на обиды, в чаянии быстрого обогащения. До такого же дошли безумия и нахальства, что, похитивши крест из святилища, употребляли его вместо знамени и говорили, что под ним они пойдут воевать, тогда как скорее водились тем, что воюет против креста. Если у кого из них была насердка на кого-нибудь, по поводу своих же преступлений, тот хватал крест и шёл с ним к дому того, так как бы сам крест того требовал! И сейчас же оказывалась надобность разрушить дом до основания при помощи народа, следовавшего за ним с безумным увлечением, в видах добычи. Дня два или три Фессалоника была опустошаема точно неприятелями, и не было недостатка ни в чём, что обыкновенно бывает в завоёванных городах. И днём, и ночью победители расхаживали толпами, крича и вопя, уводя и унося, что попало, у побеждённых. А эти со стонами прятались в недоступных местах, довольные уже и тем, что не сейчас же умрут»... (Кантакузин II стр. 233–235. Изд. Бон.).
1343 год. "Амур отправил посольство к Солунцам, увещевая их по доброй воле покориться царю (Кантакузину) и передать ему город, обещая им, если послушаются, возвратить и пленников. Зилоты, убоявшись, как бы державшие сторону царя внутри города, воспользовавшись удобным случаем и склонивши (к себе) и народ, переполошенный варварами и рассчитывающий на возврат пленников, не напали на них и не переловили их, предпочли пуститься на жестокость и убийства, чтобы застращать ими других. И так, некоего Палеолога, одного из наилучших граждан, находившегося у себя дома (так как считался уже у них на подозрении), и неподавшего ни малейшего повода к тому, чтоб быть замученным до смерти, вытащили из дома и закололи на народной площади. Ему отрубили голову, и рассёкши труп на 4 части, развесили по одной части на четырёх воротах городских. Голову же, воткнув на копье, носили по городу, немилосердно влача (по улицам) внутренности убитого. Некоему же Гавале из среднего класса отрубили сперва уши, потом нос, затем и другие члены, после чего и самого умертвили. Немало и других с отрубленными ушами и носами принуждали к вечной ссылке и, отворив ворота, выгоняли за город». (Там же стр. 393–394).
1345/6. «Сейчас же (по умерщвлении правителем города Апокавком некоего Михаила – тоже из фамилии Палеологов – коновода Зилотов), Зилоты разбежались и попрятались в норах. Народ нимало не огорчился участию павшего, ибо не был и прежде того хорошо расположен к Зилотам, так как они ругались над предметами божескими и человеческими, ибо не только бесстрашно обижали и грабили страну, но ещё на улицах, наполнив водою некоторые цистерны, с возжёнными свечами перекрещивали в них, кого успевали схватить из народа, воображая тех приверженцами царя Кантакузина, и как бы уже одним общением с ним утратившими крещение. От присутствовавших же требовали денег «на праздник». Затем, напившись в кабаках, пересмеивали и другие христианские таинства. Суд же (Божий) терпел, и громы медлили. Народ, возненавидев такие их неистовства, и раз, воспользовавшись случаем, в самом храме «Нерукотворенной Богородицы» заколол немилосердно нескольких из них, а одного волочил по площади и бил то каменьями, то попадавшимися поленьями, пока тот и издох, волочимый» (там же стр. 570–571).
1346 г. «Таким образом, партия царя Кантакузина, преданная войском, окончательно побеждалась. Кокала́ же и Палеолог (Андрей) выгоняли из Акры народ, начинавший уже грабить обитателей места. Сами же, оставшись до ночи, разослали и солдат по домам, удержав при себе некоторых из друзей. Апокавка же (правителя города) с гражданами числом не менее 100 человек – заключили в тюрьму, что у крепости, и приставили к ним стражу. На завтра же, чем свет, пришло войско из Веррии. Около полудня разнеслась молва, что заключённые опять забрали Акру и соединяются с Веррийским войском. Говорили, что слух этот пустили Зилоты нарочно, чтобы убить узников. Народ, снова взявшись за оружие, пошёл на Акру, предводимый яростью и вином. Те же, которые жили в Акре, убоявшись народного натиска, заперли ворота. Взошедши же на стены, молили (народ), чтобы их не губили, и обещались сделать всё, что им прикажут. Народ приказал привести узников, и сбросить к ним со стены. Немедленно заключённые были приведены (все) обнаженные108. Первый был сброшен Апокавк. Случилось же так, что он стал на ноги, и долго оставался так, ибо никто не смел коснуться к нему. Потом один из Зилотов подошёл, и укорив других в мягкосердечии, отрезал ему голову ножом, затем и другие, стоявшие около, начали рубить всё тело. Потом сбросили и других со стен по именному требованию Зилотов, и не всё на одном месте, а в разных местах. Народ же, стоявший кругом, зверски и бесчеловечно рубил их, а иным и головы отсекали. Таким образом, всех жестоко умертвили, исключая весьма немногих, укрытых обывателями Акры. Присутствовали при резне этой и Кокала́ с Палеологом, показывая вид, что тяготятся происходящим, но не могут остановить исступления народного. Затем народ обратился оттуда к домам, и ещё умертвил некоторых граждан. Пришли и к дому Кокалы́, и, по наущению Зилотов, потребовали Фарма́ка, которого тот укрывал, и который был ему шурином, много значил у Апокавка, и озлоблял крепко Зилотов. Убоявшись тот, как бы народ не покончил и с ним, выдал родственника, который тут же и был убит народом. Говорили, что некоторые из народа отведали тогда и жира человеческого. Ибо, когда разрубали убитых, внутренности их вытекали, тогда один кто-то в крайней бесчувственности набравши жира, отнёс его домой. Жена же, не зная, откуда он взят, и полагая, что из какого-нибудь животного, вложила его в горшок приправы ради. Узнала же обо всём, когда уже наелась»... (Там же стр. 579–581).
Не довольно ли? Что тревожить кости покойников? Видно, чем был когда-то Солунь. Дело не шло ни из-за народности, ни из-за веры, ни из-за начал политических, а поражающие своею исступлённою жестокостью действия совершались чуть не ежегодно в несчастной стране, потерявшей голову! Всё это передано нам современником и первым действующим в тогдашней истории лицом, самим императором Иоанном VI Кантакузиным. Конечно, обо всём, совершавшемся из-за него в Солуне (и во всей стране) он узнавал уже впоследствии времени. Иначе, представить нельзя, как его, несомненно, добрая и мягкая душа могла переносить рассказанные нами ужасы, и не отречься не только от своих притязаний на престол, но и от намерения поддержать распадающееся государство силою своего политического ума, в котором оно действительно имело нужду.
Но был и мир между венценосным тестем и зятем на короткое время. Иоанны V и VII-й сошлись между собою на условиях, определявших круг деятельности того и другого, а вернее сказать – подчинявших одного другому. В предотвращение возможных в будущем столкновений решено было, чтобы старший (Кантакузин) жил в Константинополе, а младший (Палеолог) – в Солуне, куда сей последний и переселился в 1350 г. вместе с женою, матерью (Иоанною или Анною Савойскою)109 и детьми Андроником, Мануилом и Ириной. Солуню ещё выпала доля утешаться зрелищем Императорского двора на целые пять лет.
В конце истории Византийской Империи мы и ещё раз встречаемся с царским сыном правителем, и даже как бы государем Солуня. Это был печальной памяти Андроник, брат двух последних самодержцев Византийских Иоанна и Константина. В удел от отца (Мануила) он получил себе Македонию, и должен был иметь своей резиденцией Фессалонику (ϑὲς ἄλλῳ νίκην!). Но, не надеясь удержать в своих слабых руках такой бойкий и такой политически испорченный, но стратегически важный пункт, этот последний Палеолог продал в 1429 г. и город и всё своё владение Венецианам за 50 000 золотых монет (конечно, дукатов110). Через год у новых владетелей даром взяли всё турки. Вышло странное совпадение при этом имён. Первый Палеолог – правитель возвращённого Империи Солунского царства, был Андроник. И последним оказался тоже Андроник, прямой потомок первого в седьмом111 колене. Город взят Амуратом II в ночь под 1-е Марта 1430 г.
Фессалоника. 17 Мая 1865. Понедельник.
Заснуть удалось уже на свету. Голова трещала от напора стольких образов из давно минувшей жизни города, преимущественно же из эпохи пресловутых «Ветхословцев», как наши мудрующие праотцы переводили «Палеологов». Наше ветхое или ветошное (т.е. со столькими историческими дирами и нашивками) слово о них стоило их. Семь поколений их аллюзировались в воображении моем «седмью тощими кравами» египетскими, пожравшими столько тучных династий Византийских венценосцев! И точно, это не были хищные звери вроде римских Кесарей и разных Ханов, Каганов, Султанов... для которых жить значило не давать жить другому, а именно травоядные кравы, истреблявшие перед собою весь подножный корм до того, что не осталось чем жить самим... Мир их незавидной памяти! От них, главным образом, и мы переняли свою вековую жвачку, которою пробавлялись, лёжа на своих безграничных лугах привольных, столько времени, в укор славному и грозному когда-то имени: Русь (Рῶς).
Решившись завтра отправиться в дальнейший путь, мы имеем в своём распоряжении ещё целый день досуга. Пойти бы поверить хотя сколько-нибудь местность стольких археологических известий Солуня, обойти его стены, сосчитать ворота, высмотреть с подходящего пункта всю его упитанную кровью окрестность, отыскать его «Акру», определить местность целого десятка исторических пунктов, и пр. Но, не заметив ни в ком из компании особенного сочувствия к подобной утомительной и бесплодной экскурсии, я отослал её ad Calendas Graecas, как говорили средневековые учёные, но ,,тупые» франки, надеясь на возвратном пути остаться нарочно здесь дня на три для подобной работы. Однако же, освежившись чаем и подкрепившись завтраком, мы нашли не только возможным, но и необходимым (якобы для здоровья) пройтись куда-нибудь. Чтобы проходка не была совсем бесполезною, я направил компанию за город на гору к монастырю Чаушскому, где есть целый (памятный мне по 1859 году) шкаф древних греческих рукописей. По дороге заходили в церковь Св. Николая начальнического или княжеского (Ἀρχοντικὸν). Отчего она так зовётся? Не стояли ли в старину где-нибудь по близости её княжеские палаты? Где-нибудь жили же столько Цариц и Деспин со всем их, конечно не малочисленным двором. Топография многострадального Солуня при всей своей отчаявающей путанице указаний легче, чем во многих других исторических местах Востока, разъясняется существующими до сих пор недвижимыми памятниками, вроде бывших церквей Св. Димитрия, Св. Софии и пр. Если бы не существовало даже стен городских, так ясно обозначающих древнее протяжение города, уже самое море с одной и гора с другой стороны города служат ему неизменной рамой и упрощают задачу исследования. Вот мы и за городом. Поднимаемся на гору Хортиа́та, приобретшую не добрую славу предательства. Дело в том, что когда Амурат держал в осаде город, проживавшие в нём монахи обители Влатейской послали письмо Султану, в котором указали ему способ овладеть городом, дав знать, что если он пересечёт водопровод, снабжающий город водою из источников Хортиатских, то жители сдадутся, чтобы не умереть от жажды. Султан поступил, как ему было указано, и взял город. В благодарность за оказанную услугу, он взял под свою защиту и предателей, и их обитель, к которой приставил и своего чиновника (чауши), освободив её от всякой подати в казну. С тех пор монастырь Влатейский стал называться Чаушским. Несомненно, он же назывался прежде и Хортаитским от горы, на которой был выстроен, по близости источников, доставляющих воду в город. Место до сих пор зовётся «Монастырём», но монастырского в нём один только Игумен, которого не грешно назвать и арендатором. Братства при нем никакого нет. Да и следов того, что оно когда-нибудь было и процветало, тоже не видно. Монастырь без стен не мыслим, а никаких признаков, что они когда-то тут стояли и возвышались, не заметно. Все теперешние постройки совершенно новые. Церковь, правда, имеет древний византийский облик, но она очень мала для хорошего монастыря, каким только и мог быть пригородный Солунский. Осмотрев церковь, мне уже и без того хорошо известную, мы отправились к Игумену «взять кофе», при чём естественно заговорили и о старых книгах, прося почтенного отца дать нам позволение взглянуть на них. В виде аргументации ad hominem, я прибавил к этому, что два русских духовных путешественника в таких-то недавних годах, пользуясь благосклонностью монастырского начальства, видели мемвраны обители, и путём печати сделали их потом известными всему свету, отчего и нам теперь желается взглянуть на то, чем любовались другие. Старцу понравилось то, что об их месте знает весь свет, но он с достоинством присовокупил, что место их и без того славно своею единственною святынею, – святою Купою112. Я, конечно, согласился с этим, только заметил, что святыня-то скрыта от пытливых глаз, а книги, благодаря просвещённому взгляду на дело досточтимой обители, открыты для всякого... Мы нашли старые рукописи уложенными в том же самом шкафу, но с бо́льшим порядком. О. Игумен похвалился нам и каталогом их. Пересматривая книги и сличая с каталогом, мы имели случай поправить и значительно пополнить сей последний. Особенно замечательного чего-нибудь не оказалось для меня и на сей раз в довольно известной на Востоке чаушской рукописнице. Тут же среди занятий мы устроили себе и незатейливый полдник (точнее бы: паужин) из яурти (нечто переходное между сметаной и кислым молоком) и плодов. Кроме местных иноков, разделял с нами трапезу и отдых ещё бывший святогорец (с Афона из монастыря Кутлумуша), теперь же эфимерий (приходской священник) Солунской церкви «Св. Николая Сироты». По случаю этого сиротства святителева выслушан был нами рассказ, имеющий к нему отношение (сомнительное) из времён Императора Феодосия Великого (истребившего 7 000 Солунцев, и пр.). Естественно речь перешла на бывалые мятежи Солунские. Я, насколько мог припомнить, передал рассказы историков о многих битвах, боях и побоищах Солунских, и кстати спросил, не тут ли была, занесённая в историю, местность: Акра? ответом служили выразительно поднятые брови, и ничего более. Финалом нашей учёной экспедиции было сидение на балконе с трубою в лице городу и далёкому Олимпу белоснежному. Несравненно величественнее Македонский Олимп соплеменника своего Мисийского, моего как бы соседа по Царюграду и, как по всему следует заключить, узурпатора славного имени. Кстати об именах. Малоазийский теперь называется «горою Монаха» (Кешиш-даг), вероятно Преп. Иоанникия, спасавшегося там. Македоно-Фессалийский, судя по имеющейся у меня карте, зовется: Элимбо. Вершина же его у турок носит имя Челе́, в чём очевидно слышится славянское чело́. Как не припомнить при этом этимологирования одного завзятого славяномана, читавшего в имени Парнасса перифраз «парня нашего», т.е. Аполлона. С меньшим смехуподобством можно бы отыскивать что-нибудь славянское в имени Олимпа (Ὄλυμπος). Во-первых, звук: μπ совсем не эллинский. Он придуман грамматистами для выражения Латинского и варварского: b (б). Во-вторых, эллинское: υ в старину произносилось как наше: ю или французское: u. Затем в Олимпе мы открываем самым простым образом Олюба. Не находка ли это, достойная и места, где мы сидим, и предмета, на который смотрим.
Возвращаемся под гостеприимный кров нашего консульства. Стараемся идти местами, где ещё не были. Вечерний час прохлады вызывает жителей и тех, у кого нет дела, на улицу. Естественное многолюдство от того по пути нашему. Вдали видим весь тесный переулок загромождённым людьми, движущимися и шумящими. Что это? Уже не повторение ли одного из стародавних несочтомых мятежей? Кажется, вон я различаю в толпе народной перехваченного сторонниками Палеолога, посла императора Кантакузина ко двору Сербскому, доставленного в Солунь и переданного Великим Дукою (Адмиралом) Апокавком113 Солунской черни на посмеяние. То был некто Цамблакон, очевидно чужеземного происхождения, носивший, вероятно, по тайному обету, монашеское одеяние. Матросы напялили ему на голову персидский Тарбуш, дали в руки зажжённые свечи, и толкая его сзади в... забегали вперёд, кланялись и кричали: «на! Кантакузинский Патриарх»! Историк замечает, что на позор этот собрался почти весь Солунский народ. Это одна из самых невинных проделок неугомонного города. Теперь он, очевидно, кого-то хоронит, и конечно далёк от всякого неистовства и даже простого скоморошества. Поколесивши, более чем я ожидал, мы вышли к дому своему ранее, чем я думал. Хозяев мы не застали дома. Делали прощальные визиты «коллегам». Ибо решено было, что нас провожает до Битоля сам консул здешний. Отличное время выпало для отдыха. За поздним обедом шли рассказы о Персии, известной по личным наблюдениям одному из сотрапезников. Я вмешал в них и свой рассказ о персидском патриархе, когда-то с торжеством ходившем по улицам Солуня и благословлявшем народ зажжёнными свечами. Читатель легко догадается, что именно всего более заняло слушателей в» непотребной «истории. Вечер проведён был в одном «русском» доме, по усильной просьбе хозяев. Вместо удовольствия, грусть навеяло на сердце моё это посещение. Возможны разные случайные неудачи в жизни. Утешением в них служат обыкновенно столько известные: «пройдёт»? «До женитьбы заживёт»! «Авось» да «не-бось»! В крайнем случае повторишь стоически: «Что же делать? Сам виноват!» Но где найти утешение в неудаче рождения, – невольной, непоправимой, достойной жалости, но всё-таки, на суд неумолимого вкуса, неизвинимой.
Ночь глубокая. В доме тишина ненарушимая. Сна по-вчерашнему нет. После напрасной борьбы с безвременною бодростью, я не без досадного чувства встал и искал, чем бы скоротать остававшиеся до рассвета часы. Память, чуть не в укор кому-то, иронически напевала выражение св. писания: спящии в нощи спят. Было время, когда я по указанию нужды профессурной, должен был проходить вниманием это выражение Апостола, казавшееся мне лишённым особенного значения. С тех пор я знал, что слова эти находятся в Апостольском послании к Солунянам. Благая мысль пришла теперь прочесть в самой Фессалонике с лучшим вниманием всё, что писал Апостол языков в Фессалоникийцам. Нашедши в доме Новый Завет на Греческом языке, я присел к делу. И сам бы не поверил, сколько в послании том оказалось для меня как бы совершенно нового или, по крайней мере, забытого. Оставляю все известные капитальные в догматике христианской места о всеобщем воскресении, о втором пришествии Христовом, об Антихристе, о хранении «предания», об отлучении бесчинно ходящих и пр., которые все, сколько от самой местности, где я, от времени, в которое занят был чтением, столько же и от прочитывания их в подлиннике, получали особую какую-то ясность или скорее близость к понятию. Много вписалось отселе в память мою мелких изречений духоносного учителя, которые у питомца богословской науки должны иметь значение азбуки. Таковы: не всех есть вера. Не стужайте, добро творяще114. Мирствуйте в себе. Да ходите благообразно к внешним, и целый ряд других кратких и глубокомысленных внушений, в роде: Всегда радуйтеся. О всем благодарите, Пророчества не уничтожайте. Духа не угашайте. Особенно по сердцу мне последнее. Слышал я его раз, обращённое ко мне лично от человека ,,с большим духом». А не так давно услышал и обратное признание из признательных уст: «а помните, как вы мне сказали: ,,духа не угашайте!». Где всё помнить? Особенно помнить то, что говорится не от своего измышления? Зато, к сожалению, никогда никак не можешь забыть, когда назовут тебя «человек с душком» люди, у которых не отыщешь ни духа, ни душка, а один запах…
Ферма. 18 Мая 1865. Вторник
На прощанье назовём город его древнейшим именем, под которым он известен был Иродоту и Фукидиду. А чтобы приманчивые имена этих писателей не повлекли нас за собою в неисходимую глушь историческую, возвратимся к тому, на чём остановились вчера. Последние слова вчерашних заметок наших написаны, очевидно, под впечатлениями не Апостольского урока не стужить, а озлобленного телесного сознания, что не удалось, несмотря ни на что, подкрепить себя сном, что так нужно в предстоящем путешествии. «Телесным» я назвал сознание только временно, в ожидании, что подберётся лучше определяющее выражение. К счастью всемирный учитель человечества и тут готов помочь делу. Он преподал Солунянам урок не одной догматики и христианской нравственности, а и психологии. Первые они узнали от нового учителя, что человек состоит не просто из «души и тела», а из тела, души и духа. Таким образом, если не прямо тело могло иметь упомянутое выше неприятное сознание, то и не дух же, которому, как видно, свойственно непрестанно молиться, всегда радоваться и т.под., т.е. быть далее или, как привыкли говорить, выше всего житейского и обыденного. Остаётся душе или, по выражению немецкой философии, Психе115 приписать неуместную озлобленность ночную на то, что вышла неудача. Впрочем, есть время всякой вещи под небесем. Пришло оно, наконец, и для сна. Солнце застало нас всех спавшими, и долго дожидалось, пока мы, подобно ему, вышли на дело своё и на делание своё. В половине 9-го часа, однако же, все уже были на ногах. Начались сборы и приготовления. Привели для показа лошадей, которые понесут нас дальше пределов Македонии, до славного града Монастыря. Предложено для покупки ,,мягкое» седло туземное, оценённое в полторы турецкие лиры. Не без смущения отнёсся я к нему. Может быть, на целый месяц оно должно будет заменить мне моё спокойное и безопасное кабинетное кресло. Всегда мне казалось, что тот, кто первый вверил свою жизнь коню, был истинный герой. При таком взгляде на верховую езду, понятно моё смущение. Находить же удовольствие в ней и ещё более – пристраститься к ней по-киргизски или по-бедуински, никак не укладывается в мою мыслительную рамку. Судя же по всему, компания, к которой я должен примкнуть сегодня, состоит почти вся из лихих наездников. Мне просто страшно ехать с вами, сказал я спутнику, полный заботы о том, как и что́ будет. – А без нас ещё страшнее, – спокойно ответил он... Утешил!
На общество наше напала патриотическая охота учинить Консульский съезд в Битоле, чтобы «задать страху», кому следует. Задумали, потому, пригласить по телеграфу туда же и нашего консула в Янине. Отправились в телеграфню. Грозно-таинственная сила природы была немедленно к услугам нашим. Опережая мысль, она понеслась с нашим запросом за горы и долы, поля и леса в необъятность пространства к славной Додоне в её новое прорицалище. Как не подумаешь в самом деле, что стоустый бор Додонский, весь звучавший и звеневший когда-то по манию невидимого деятеля, был в своё время тоже электризуем каким-нибудь Промифеем, укравшим у будущего божества его запрятанный и ещё не выявленный огонёк... Прежде чем я мог бы написать это, из прорицалища пришёл ответ: «г. Консула нет. Он отправился в Охриду». Нечто вроде дрожи пробежало по членам моим от этого, не подходящего ни под какое соображение, переговора. Кто-то успел в три-четыре минуты побывать существенно, действительно, как бы-лично в далёком Эпире и прибежать оттуда обратно с донесением, даже не запыхавшись. Да покажись же, кто ты такой, уж если не глазам, то рассудку! Напрасное усилие заглядывать в непостижимое! Я присел на скамейку, и как бы потерял способность слова. Да! Иное дело знать что-нибудь, и даже рассуждать и писать о нём, и иное – видеть его. Понятно, отчего наука перестала заниматься и духом, и душою, и самым телом – слишком старыми и как бы уже выдохшимися предметами, и стоит восторженная с разинутым ртом, подобно Пифии, перед безыменною новинкою, окрещенною ею старою кличкою силы! Не дух она, это доказывается вещественным снарядом. Не тело; это ясно из её беготни сумасводной. И не душа, конечно; ибо вот теперь она мертва. Древние не усомнились бы отыскать в ней прямо божество, и были бы в бо́льшем праве, чем нынешние, изгоняющие ею Бога. К чести последних разве сказать, что они последовательны. Ибо – дух есть Бог, по писанию. А если нет духа, то нет и Бога. Но пусть бы и они, вместе с Солунянами, вняли слову Апостола: духа не угашайте.
Пелла. 18 Мая.
За множеством хлопот, предположенный рано утром завтрак едва состоялся в полдень. В 2 часа с небольшим мы простились с гостеприимным домом. Через два-три переулка мы очутились перед городскими воротами, именуемыми Вардарскими от соседства реки этого имени. Ещё мало, и мы за городом. Солунь не надоел, но и не привязал к себе. Оттого прощание с ним было «без многих слёз», говоря языком панегириков. Впрочем, не все мы вдруг покинули город. Двое из компании остались доканчивать визиты116. Нас осталось собственно трое, но к нам пристал один Болгарин, житель лежащего на пути нашем города, русский подданный. Пятый был почтарь Консульства, старый Търпко, тоже болгарин, взявшийся быть проводником нашим, на попечении и ответственности которого были наши подводы со всем багажом. Оба эти спутника были христиане, и притом православные. Шестой всадник был кавас Консульский, магометанин. Почти за самыми стенами городскими открылось впереди к западу и северу ровное поле с мягкою землёю, на ту пору года сплошь покрытою зеленью. Первые впечатления дорожные были оттого весьма приятные117. Склонявшееся к западу солнце не палило нас, хотя ослепительными лучами и мешало нам любоваться панорамою моря и, стоявшей за ним громады светлосиянного Олимпа, принимавшей, естественно, с каждым шагом нашим вперёд новые и новые очертания. Через час с небольшим пути, мы достигли первого ,,хана», т.е. по-нашему корчмы. Так как ехали мы вообще быстро, то и оказалась надобность сделать минутный отдых у хана. Крепость Солунская ещё была видна вдалеке, но море уже – прощай! Привыкнув смотреть на него ежедневно в течение многих лет, как-то странным находишь не видеть его, и испытываешь чувство лишения, даже как будто стеснения или и прямо неволи. – Вы не скучаете за морем, спросил я спутника, ходившего около лошади и расточавшего ей незаслуженные похвалы. Я-то? Да я только теперь выплываю в море, отвечал он, – в море... славянства, добавил завзятый славянофил. – Ну, смотрите, как бы не случилась с вами морская болезнь, заметил на это другой спутник. – Мне в первый ещё раз доводилось увидеть за пределами отечества оседлое славянство, и я совсем не знал, как отнесусь к этому невиданному явлению. А оно было уже, так сказать, под носом у нас. В хане хозяйствовал Болгарин. Садимся на лошадей, и опять с тою же быстротой, по мнению моему совсем напрасной, несёмся вперёд. Я всё поджидал впереди какой-нибудь рощи, если уже не дремучего леса, которому так уместно бы вырасти на такой обширной и тучной равнине, орошаемой, судя по карте, тремя или четырьмя реками. Но дорога всё шла пустынею, по крайней мере, по близости её не виделось мне нигде селитвы человеческой. Ещё хан, похожий на прежний. Там мы нашли упредившего нас г. Сидо, о котором говорено выше. Человек хотя не старый, но «обстоятельный», как его назвали бы у нас, предпочёл ехать тихонько, щадя свои трудные кости, и зная, что чем тише едешь, тем дальше будешь. Оттого он выехал с места за час до нас и приедет через час после нас, куда следует, но будет там спокойно расхаживать, когда мы будем лежать как убитые. Он не замедлил вознести нам хвалу за нашу быструю езду. Но спросил бы чего стоила нам похвала его. Я, по крайней мере, чувствовал себя крайне истомлённым. Македонец остался на месте дожидаться консулов, а мы понеслись далее. Вскоре дорога наша упёрлась в реку с быстрым течением и мутною водою. – Это и есть Вардар? – спросил я. Нет, отвечали мне, это приток или рукав его. Действительно, он не настолько широк, чтоб быть ему великою рекою, которую в Солуне мне отрекомендовали, как достойную соперничать с нашим Днепром. Приток этот не широк и не глубок, и к концу лета бывает, как говорят, до того маловоден, что переезжается в брод. Теперь же воды в нём было столько, что для переправы на тот берег служит паром. И нас и лошадей наших уставили на него без малейшего промедления и благополучно перевезли на он пол. Карта, однако же, не указывает на местах этих ни какого притока, ни рукава Вардара, а взамен того ставит тут совсем отдельную реку Gallicó. Название до того ясно118 выдаёт своё происхождение, что остаётся, кажется, только подыскать подходящий исторический факт пребывания когда-то тут Галлов, которые и дали реке своё имя. Но подыскать-то такой факт и не представляется делом лёгким. Что он не может относиться к эпохе нашествия Галлов на Восток во время крестовых походов, это ясно уже из того, что в те поры Галлы уже назывались франками или французами. Может ли быть отнесён к эпохе Римской, не знаем. Думаем, что в таком случае географы I-II столетий по Р.X. упомянули бы о нём. В глубокой древности река называлась Эхе́дор (по Иродоту: Эхи́дор), что́ значит: «имей (или имеет) дар». Имя настолько греческое, что мы не смеем даже приблизить к нему что-нибудь варваро-язычное. Несмотря, однако же, на приписываемый Галлико119 дар, он в то самое время, как в первый раз попал в историю, ославил себя именно бездарностью. Это было в Ксерксово знаменитое нашествие на Грецию. Несчётная армия азиатская имела днёвку в местах этих, подвигаясь от Фракии к Фессалии. Истомлённая долгим переходом по Фермейской равнине под палящими лучами солнца, она с жаждою Израильтян в пустыне Сина, стремилась к обещанной вожатыми реке, но Эхидор показал ей своё сухое дно... Где Персы достали себе воды, историк (Иродот VII, 127) не говорит. На память случая, мы зачерпнули с парома рукою воды и умыли припечённые солнцем лица. Пить её не хотелось ради отталкивающего её цвета. За речкою продолжалась всё та же необозримая равнина то глинистая, то песчаная, но дорога чуть заметно стала подниматься «по вершку на версту», как острят у нас на счёт крутых подъёмов во внутренних губерниях России. Ещё хан, и ещё минут на 10–15 отдых. Утомление переходит в изнеможение. Усердный и сердобольный ханьджи нашёл, что единственное средство нам восстановить свои силы (и его торговый баланс) есть – выпить. Нам поднесли по стакану крепкого красного вина. Напиток оказал двойную услугу, и ободрил нас и утолил жажду, но вместе с тем потребовал покоя для желудка, по меньшей мере – тихой езды. Несмотря на то, кто-то другой незримый, скрывавшийся в нём, погнал нас, наперекор благоразумию, ещё шибче прежнего по широкой степи. На всякое возражение один был ответ, казавшийся на тот раз весьма убедительным и основательным: скоро начнутся горы, там уже поневоле поедешь тихо. Так мы неслись, защищаясь зонтиком от впивавшегося в глаза солнца, более часа. К утешению моему, встретилась давно ожидаемая задержка. Дорога упёрлась в великую реку Ва́рдар, действительно стоящую своей славы. Через неё построен деревянный мост в недавнее время, длиною в 600, шириною в 6 метров, весьма жиденький и, конечно, недолговечный120. Один остряк – турист находит в нём сходство с тем мостом из натянутого волоска, по которому души мослемов будут переходить, по смерти их, в рай. Такое сближение предметов, относящихся к мирам, ни в чём друг с другом несходным, отразилось как будто на нашем обществе. Одному оно внушило мысль идти пешком по мосту, другого подбило пронестись по нему рысью, на память какого-то, рыскавшего тут, доблестного царя Болгарского. Было довольно времени, чтобы рассмотреть реку и сравнить её с «пенистым Днепром – рекой». Далеко им – южным, хотя бы и длинным, и широким, потокам до наших тихих, чистых и величественных рек! До Вардара от Солуня считается 4 часа пути, т.е. вёрст 20. С разными остановками и у нас их вышло равно столько же. По обе стороны моста есть домики для отдохновения. Одного которого-нибудь из них мы никак не могли миновать. В нашем «сак-виваже» от стакана вина и быстрой езды до того всё переболталось, что малейшее сотрясение на лошади упиралось колом в грудь. Разумею собственно себя. И так пришлось посидеть на златых берегах Аксия в ожидании, пока «живот заживёт». Именем «Аксия» река называлась ещё в то время, когда её стократно переезжал, без сомнения, Александр Македонский. Может быть, она имела и другое туземное название, но эллиномания царствующей династии выгнала варварское слово и почтила главную реку Македонии именем Достойной (ἄξιος121, конечно – ποταμὸς). Когда это имя исчезло из истории, не можем сказать. Вероятно, позже владычества Римского. Римляне, во 1-х, не насиловали вообще туземных имён, а перед греческими даже благоговели, а во 2-х, если бы захотели отнять у «Достойной» не соответствующее, может быть, по их понятиям имя, то уже, конечно, нашли бы в своём языке имя не хуже, чем: Вардар. Что теперешнее имя звучит по-турецки, об этом, кажется, и говорить излишне. А между тем оно встречается уже, без всякого изменения, у Анны Комниной (ХII в.), и с изменённым окончанием (Вαρδάριος – Вардарий) у Кодина, когда никаких турков ещё не было в местах этих. Кому же, потому, быть творцом его, как не Болгарам, заселившим край в Византийскую его эпоху? Если же Вардар мало звучит по-славянски, то ведь и Болгар или Булгар (как сам себя зовёт сельский болгарин) тоже смахивает, пожалуй, на туречину или татарщину. Да и целая половина слова разве не есть славянское: дар122? Но довольно филологии. Громче её раздаётся на берегах Вардара история. Можно бы утвердительно говорить, что ничьей столько крови не унесла в великое море широкая река, как славянской. Довольно сказать, что истоки сего славено-греческого Рубикона находятся на Коссовом поле. На Вардаре, грозный для Византии Болгарский властель Самуил покрыл себя бессмертным позором бегства от лица императора Василия II (в 1002 г.), оставив ему в добычу весь свой стан. Через 340 лет после того, другой славянский царь из самых видных в своей истории – Стефан Душан также неудачно столкнулся на Вардаре с силами угасавшей империи, если не на этом самом месте, то по близости его. Позавидовав императору (Кантакузину, с коим был в полном мире), забиравшему у соперника своего Палеолога Македоно-Фессалийские города, над которыми уже неоднократно властвовали Сербские крали, самозваный «самодержец» славянский подкараулил грека на Вардаре, и, снесшись с врагами его в Солуне, положил истребить его со всем его войском. Палеолога не боялся Душан, а друг – Кантакузин сидел у него бельмом на глазу. План засады был такой: Император шёл от Солуня (остававшегося на стороне Палеолога) в города Македонии, объявившие себя на стороне его, и должен был, потому, переправляться через Вардар. Так как для сего требовались лодки, а их не могло быть много, то императорское войско по необходимости должно было учинить переправу в несколько приёмов. Сербская дружина укрывалась на противоположном берегу. Первую партию солдат, в которой по расчёту должен был находиться и сам император, она, таким образом, без шума истребляла всю, задержав и доставившие её лодки. В тоже время Солунцы нападали в тыл оставшемуся за рекой войску, и дело всё порешалось разом – Душан овладевал завардарьем, а союзники избавлялись от императора – intrus. А о том, что в случае торжества Кантакузина, занятые чужеземцами части империи возвращались к нему, а с поражением его терялись совсем для империи, ни отличные «зилоты», нам уже столько известные, ни сам хитрый вождь их, и на тот раз администратор всей державы Палеолога, не подумали! Лишь бы малые подручные интересы близорукости были удовлетворены, а затем – «хоть трава не расти», по славянской пословице! И теперь не редкость услышать от эллинских патриотов внушительно повторяемое выражение песни церковной: «зависть не весть предпочитати полезное», а при первом же случае, у них же самих, пресловутая «идиоте́лия» (своецелие) и предпочтёт полезное Бог знает какому! Расчёт союзников Вардарских не оправдался. Какой-то габровец (очевидно славянин) из-за реки сообщил о засаде Кантакузину и указал место, где можно перейти реку вброд. Всё войско устремилось вдруг за реку. Осведомившись об этом, Трибаллы (Сербы) побежали к месту переправы и пустили тучи стрел в густую массу, но уже было поздно. Войско дружно выходило на берег. Оставалось засадникам последовать другой славянской поговорке: «подай Бог ноги»! Душан, конечно, не замедлил извиниться перед «другом» в случившемся недоразумении, и даже выслал к нему на расправу виновных яко бы полководцев... Довольно для «Достойной» реки этих двух недостойных случаев со знаменитейшими именами старославянской истории. Несмотря ни на силу, ни на хитрость, ни на что, не удалось Душанам овладеть настоящим образом ни Фракией, ни Македонией. Что бы это могло значить? Полагаем, что и младенец угадает, что́ именно. С незапамятных времён мы (по крайней мере, мы – русские) приказываем «всякому сверчку знать свой шесток». А исторический fatum, кажется, не менее ясно и гласно и всякому славянину указывает знать свой уголок. Урок ему в этом часто упоминаемые нами «патриоты», которые с доисторических времён везде суются по чужим углам, и которых отовсюду потом, рано или поздно, выталкивают обратно в их классический шесток.
Никаких знаков оставленной реки уже нет. Продолжается все та же равнина, все ещё подзадоривающая спутников «прибавить шагу», вопреки заключённому на Вардаре условию жертвовать прихотью нехотению, несмотря на то, где какое окажется большинство голосов. Кроме общей всетелесной усталости, я чувствовал ещё жгучую местную боль в левой ноге, объяснением которой некогда было заниматься. Все мысли сосредоточивались на одном – добраться как-нибудь заживо до хана, где условлено было остановиться. Солнце уже давно зашло. К северу неподалёку обозначились тёмные массы гор или холмов. Мелькнул там же и огонёк. Кто-нибудь развёл его и сидит около него, подумал я и позавидовал воображаемому счастливцу. А нашей дороге конца нет! Но чуть я произнёс мысленно эту жалобу, впереди нас забелела какая-то скромная постройка, похожая не то на мельницу, не то на разорённую часовню. А всё же не он, не хан столько желанный! Однако, подъехав ближе, мы увидели в стороне от постройки за холмом несколько к югу и жилой дом с огороженным двором при нём. То был действительно хан. Не оставалось более сомнения, что мы доехали до именитой Пеллы. Не́хотя отдал я поклон славному месту, потому что, сползши с коня, не мог держаться на ногах и упал на землю.
С полчаса мы лежали, как убитые, без движения на каком-то высоком крыльце, вроде наших сенных поветей, на которое взобрались по лестнице, достойной упомянутого выше магометанского волоска. Блаженства отдыха передать нельзя словами. Недоставало только какого-нибудь пленительного вида для глаз. Впрочем, зрение с удовольствием впивалось в купу соседних деревьев огромной высоты к югу от хана, далее коих расстилалось широкое поле, с которого уже расходилась вечерняя сырость. Пахло даже просто болотом, близость которого знаменовали и распевавшие в воздухе свою вечернюю зорю мириады комаров. Место пригодное для любой русской деревни по своей плоскости и невзрачности. А между тем когда-то тут была столица большого царства, препрославленная на весь свет и на все времена рождением великого человека. В день рождения славного царевича на кровле царских палат сидели с утра до вечера два орла. Теперь же, на диво и на утешение нам, из густых ветвей древесных вылетали и носились над нами вереницы галок, давно уже невиданных мною. Орлам тут нечего больше делать. Самое имя Пеллы давным-давно исчезло. Хан носит имя: Баня (Bania), заимствованное, вероятно, от упомянутой развалины. Впрочем, резиденция царя Филиппа была в версте, или около того, севернее места, где мы остановились, в теперешней деревушке: Аллах-клися (Божия церковь), а по-болгарски: Пала́тица, на высшем сравнительно местоположении123. Если б не было так поздно и, если б не полное обессиление телесное, решился бы взглянуть на знаменитое место. Теперь же остаётся, по обычаю, отложить это удовольствие до «возвратного пути», и ограничиться посещением соседней развалины. Почти совсем уже стемнело, когда я доплёлся до неё, и потому рассматривал её сколько глазами, столько же и руками. Это есть квадратный, шагов в 8, довольно высокий водоём со сводом, весьма обыкновенной каменной кладки. С севера к нему (предположительно от бывшего города) направляется низкий водопровод. Больше ничего нельзя было выследить. Сомнительно, чтобы это когда-то был храм, как полагает г. Буе. Шум листьев соседних платанов и крик далёкой совы с глухою кругом пустынею и вечерним сумраком навевали тоску на сердце. Возвращаясь к мирному приюту своему, я утешен был зрелищем шумящего и выбрасывающего искры самовара, чего верно не видал в своё время исходивший землю Александр. Если бы и он, подобно нам, пил в вперемежку то прохлаждающее вино, то согревающий чай, верно не умер бы так неожиданно рано.
Чуть мы принялись за чай, послышался к востоку за холмом конский топот. То были оставшиеся в Солуне два спутника. С прибытием их всё приняло у нас оживлённый вид. Речь, вместе с кипящей водой самовара, полилась через край. «Однако вы скоро должно быть ехали», замечено было нам отсталою компанией. – За то не скоро опять поедем – осмелился заметить я, или точнее – неспросившийся хозяина язык мой. – Ну, об этом «будем подумать», отвечали мне вновь прибывшие, по-видимому, не разумеющие ни что такое усталость, ни в чём состоит скорость… Невдолге, однако же, выяснилось, что по «маршруту» ночлег положен не в гостинице: zu Alexander der Grosse, а в городе: Енидже́. В ободрение нам тут же прибавлено было, что до города всего полтора часа пути, что дорога хорошая, и что если мы, не замедляя, отправимся в путь, то месяца хватит на столько, чтобы при свете его добраться до ночлега. Доводы были сильные и заглушили собой слабый протест недужного тела. Часов около 9-ти у нас всё было готово. Мы простились с воображаемой Пеллой и, по заранее выговоренному условию, потащились шагом прямо в лицо «жиденькому» месяцу. Было время подумать о том о сём. Исходя из круга понятий Пеллийцев Александрова времени, мы можем похвалиться, что успели уже за вечер из Амфакситиды переехать в Воттие́ю, или короче Во́ттию. По Иродоту124, в этой области Македонии процветали два города: Ихны (Ἴχναι) и Пелла. Спешим, впрочем, оговориться. Отец истории не знал Амфакситиды, и уверяет, что река Аксиос делит собою области Мигдонию и Воттиею... Во всяком случае, мы теперь в Воттиее. Город «Ихны» никаких следов (ἴχνη) по себе не оставил. О «Пелле» последние свидетельства имеем из 2-го века по Р.X. На именитом месте жило тогда ещё ,,несколько бедняков»125. Теперь в Аллах-Клисья есть около 60 мазанок. Христиане зовут место: «Св. Апостолы», вероятно по церкви этого имени. В глубокой же древности там (если там была Пелла) существовало общее судилище (χρηματιστήριον) Македонии или точнее место, где обделывались всякие дела – судебные, торговые, гражданские... Это обстоятельство, вероятно, и было причиной особенного благоволения к месту царя Филиппа, о котором известно, что он даже воспитался в Пелле. Может быть, там же было и эллинское училище, устроенное греческими торговцами, в котором царевич получил своё образование... Не хочется мне расстаться с Пеллой. Благосклонный читатель простит, если я – случаем – и ещё возвращусь к ней. Дорога наша, в самом деле, не худа. По северную сторону её тянутся невдалеке возвышенности, вызывавшие кое-кого из компании на разные рассказы мифологического свойства и достоинства, в роде того напр. что то там, то сям видятся на них по ночам таинственные огоньки, и что в зале (!) одного из курганов раз слышалась в какой-то праздник музыка и происходила пляска... А по другую сторону дороги напротив расстилается, сколько можно видеть глазом при лунном мерцании, однообразная равнина, замещаемая на карте Ениджесским болотом, весьма обширным, и едва ли не составлявшим когда-то западный рог Солунского залива, пересохший, быть может, ещё в доисторические времена. Может быть, оно есть остаток тех болот, подходивших к самой Пелле, о которых говорит Тит Ливий. Из них тоже при случае делалось одно озеро. Северные, более возвышенные части его могли высохнуть, и пр. Многое могло быть, но было ли? Чтобы отыскать действительное место Пеллы, надобно сперва найти реку Лудий. Заем уже остаётся проплыть по ней 120 стадий. Задача для учёного и досужего человека вовсе не трудная. В лице Александра Пелла хотела владеть целым миром. Стоило бы за то миру, наконец, овладеть ею. Vnus Pellaeo iuveni non sufficit orbis126... Стишок этот, выученный мною ещё в юношестве, когда двадцатилетний царь-герой, по наивности фантазии, с учебника прямо переходил в сердце и становился дружком любимым, теперь естественно припоминался мне во всей свежести цветущего возраста и разблажал душу. Можно ли сомневаться, что множество раз по этой самой дороге в подобную же тихую ночь он самый, «юный Пеллеец» или нёсся с шумной ватагой весёлых сверстников куда-нибудь туда, где небо сходится с землёй, или тихо ехал со своим молчаливым, не менее его знаменитым учителем, огреченным, как и он, Македонцем. Послушал бы их беседы и эллинской, и варварской. Нет сомнения, что и первая звучала значительно не так, как слышится в устах теперешнего грека, и уж конечно далеко не так, как воссозидает её немецкая упрямая идеология. А вторая (предполагаем, что могла быть)127, совсем неизвестная нам, раскрыла бы перед нами такие этнографические тайны древности, каких не знал, или не счёл нужным сообщить нам и сам Иродот. Из сороковых годов мне памятны усилия славянофилов наших всё Македонское воображать и объявлять славянским, не исключая и самого Александра. Предмет настолько занимателен, что всякий раз потом, как я наталкивался историею на какое-нибудь Македонское имя, я допрашивал его с помощью всех, доступных мне, приёмов филологии, не окажется ли в нём что-нибудь родное моему слуху. Так и в сегодняшней Пелле покушение было отыскать славянскую Белу, но я стыдился остановиться долго на том, чутьём разумея тут натяжку. Ближе подходила бы к ней латинская Bella, но... и сие суета! Собственные имена лиц и мест в Македонии и во всей Румелии суть теперь единственные памятники тамошних варваров самоземцев (автохтонов). Конечно, они могли бы пролить некоторый свет на глубокий этнографический мрак Балканского полуострова, но, к сожалению, мы их получили из вторых рук, и притом таких, которые отличались во все времена страстью класть на всё свою эллинскую печать.
Отдавшись на волю древлесовных размышлений, я забыл, что древнее есть вместе и заднее, и практически убедился в том, увидав себя далеко отставшим от своего общества. Наш Александр Македонский (Консул) со своею свитою едва различался вдали под скудным сиянием западавшей луны. В несколько, нелегко обошедшихся рысцовых приёмов я кое-как соединился со своими128. Компания коротала время беседою о делах служебных, и, между прочим, о том, как один автохтон Балканский успел у нас в России войти в фавор к некоему сильному мира сего, и перебил «хорошее» место у многих соотечественников наших, и что, по всему видно, «пойдёт далеко». Разговор – в македонском духе. Припомним, что «юный Пеллеец» завидовал не какому-нибудь брату по чернильному ремеслу, а кровному отцу. Полагая, что и других, как меня, всего более занимает физическая усталость, я обратился к ближайшему соседу по коню с вопросом, как он себя чувствует? – Что тут: как? Вот завтра нам придётся перенести настоящие страдания в Енидже, отвечал он сурово. Священник тамошний один из первых в Болгарии принял унию в отместку своему архиерею, и увлёк за собою приход. Очень может быть, что завтра униаты захотят сделать нам визит; и, как здесь водится, целою толпою. Вот и отдувайся тут! – Но зачем же преждевременно надуваться? Подумал я. Ну, придёт злой момент, тогда и можно будет или надуть, или отдуть кого-нибудь, по усмотрению. – Так что ж? И отлично! Ответил я. Мы их возвратим своим убеждением в лоно церкви. – В лоно? – Протащил спутник сквозь зубы. А где оно? И есть ещё тут какая-нибудь церковь? Разве те не говорят им, что у них, и нигде больше, – церковь? Церковь!.. Церковь – это, когда священник считает архиерея своим неумолимым врагом, а архиерей уверен, что он живёт in partibus infidelium?.. – Зная всю озлобленность товарища на пресловутую «сердобольную матерь», преследуемую в её собственном доме «неблагодарною дочерью», я повернул разговор на тех, которые тоже от сердобольства проповедуют, что церковь – это они и никто более... Предмет стоил того, чтобы распевать его на разные лады не менее, чем стих Ювенала. И там на первом плане orbis, и здесь из-за смиренного: urbi, выступает на ходулях: orbi! Там была прихоть или похоть одного человека, и здесь традиционная претензия одного города! Чего хотел «Пелльский юноша»? Вероятно, по его мнению, хороших вещей. А между тем только ломал существовавший до него порядок, и разрушал одно за другим человеческие общества и целые царства! Чего домогается переживший самого себя, «Римский старец»? Тоже, по его мнению, прекрасных вещей – подчинения всего христианского мира единому пастырю. Что же делает для сего? Разрушает всё, что встречает на пути сем христианского, и подрывает самые основы веры! Что приобрёл Македонский монарх, разорив тот или другой Малоазийский, Сирийский и всякий иной город? Ничего! Что выиграет и папство, совратив в латинство убогого священника Ениджейского с десятком рассерженных на своё начальство невегласей? Едва ли что-нибудь, кроме неизбежного в будущем собственного позора! А христианство, несомненно, потеряет от сего. Ибо все бессмысленные проделки слепого фанатизма, совершаемые во имя Христово, творятся пред лицом всего неверия... Тема для мысли представлялась нескончаемая, но её заслонила собою внезапно показавшаяся селитва человеческая. Темнота, сменившая мерцание луны, помешала разглядеть город издали. Вблизи же он, конечно, не поразил нас своим величием. Мы остановились на одной площадке. Начались стучанье в дверь, выкликание какого-то знакомого, кончившееся перебранкой, нетерпение седоков, ржание лошадей, лай собак, беганье от дома к дому... Всё это было следствием какого-то недоразумения, или не выполненного во время приказания, или – нарушенного условия, не знаю – чего именно. Поиски знакомого ночлега кончились решением отправиться в хан, что всем, не исключая первого меня, было по сердцу. Хан наименовали «Пашиным», как и почему – я не допрашивался, довольный тем, что могу принять другое положение и дать покой ногам, занятым во время дороги почти бесперерывно хлопаньем по бокам своего ленивого «вологлава» (βουκέφαλος). Весь верхний этаж хана отдан был в наше распоряжение. Но европейское слово: этаж также шло к нему, как к корове седло. Довольно сказать, что никто из нашего общества не поместился в жилых комнатах. Выпросив у хозяина рогож, мы разостлали их в сенях, имевших скорее вид сенника с выхваченным боком на городскую улицу, и расположились на них повалкой, уложив себе в головы, вместо подушки, седла, саквояжи, и что у кого было кроме того. Весна, деревня, луга, земля, кипящая млеком и мёдом... подумали мы с соседом, и спросили себе у сонного ханьджи молока. Пришлось пожалеть, что обратились с таким наивным вопросом к человеку. – Да у нас и дети не видят молока, отвечал он, ставя кальян перед высокими Кунсул-эфенди, шлющими нам ироническую улыбку... Так, конечно! Детям нужнее молоко, чем нам, перерослым. Но, у детей нет, во 1-х, ни среды, ни пятницы. А во 2-х, они и не ездят целый день по таким местам, где единственный способ утолить голод – не иметь желудка. Время, правда, было уже позднее, и на какое-нибудь подкрепление в хане рассчитывать было нельзя. Пришлось повторить пелльскую историю с самоваром, да тем и удовлетвориться на сей день, утешаясь припоминанием того, при каком обилии даров природы, прошедших через горнило поваренного искусства, он начался.
Яница. 19 Мая 1865 г. Среда.
Имя места показывает, что мы уже в Славянской земле. Официальное название городка, однако же, звучит по-турецки. Оно есть – Енидже. Так как имена оба очень сходны, то надобно заключить, что одно из них выродилось из другого. К сожалению, негде и не от кого узнать, когда появились и то и другое. По-видимому, скорее из Яницы могло выйти Енидже, чем наоборот. Ени́ значит: новый. Дже не имеет значения, и очевидно есть туркизм, заменяющий129 ца. Городок, в соответствие имени, представляется действительно новым, не заключая в себе никакой дряхлости. Книга Les Turques... полагает, что на месте его был когда-то город Тавриани130, но основания к такому мнению не приводит. По ней, в 1859 г. в Енидже было 750 домов, в коих жило 150 семейств греческих, а остальные все были магометане. Под греческими надобно разуметь православных, т.е. Болгар. Греков в Янице совсем нет. Автор грек умеет, где нужно, говорить языком турков. Простить ему эту маленькую уловку или нет, не знаю. Ениджане не простили подобного игнорирования своей народности единоплеменнику его своему владыке, и в ответ на его эллинические тенденции, как мы уже видели, перешли в унию. Средство крайнее, конечно, но иногда человеку не остаётся ничего делать, как отвечать безумному по безумию его. Впрочем, было нам над чем извести сердце своё в «доброе утро» Яницкое и поближе, чем церковные дела местные. Упомянутый турист – автор вынес из Енидже воспоминания peu agréables, по причине нападения на него ночью в хане (вероятно, том же самом) des insects de toute nature. Мне, в свою очередь, достаточно сказать, что я ни на одну минуту не мог забыться во всю ночь от мириад, в переводе же на местный язык, от тем тмущих, блох. К обстоятельству этому присовокупилось ещё на беду нашу, где-то по близости свадебное торжество с музыкой, барабаном, шумом и гамом, каких только можно ожидать от магометанского празднества. А лай собак? А рёв ослов? Петухи, комары – наконец, неумолимо напевающие под самым ухом!.. Вся компания наша встала, потому, весьма рано, и вся в одинаковом озлоблении. Пусть бы застала нас в таком «не духе» ожиданная депутация болгаро-католическая! Досталось бы ей от нашего умиротворительного настроения. К счастью, ей не было времени сделать это. Напившись на скорую руку чаю, мы поспешили оставить Яницу, унося с собою впечатления, мало сказать: peu agréables. На выезде нам указали место, где бывает известная в крае ярмарка в Октябре месяце. Запахло действительно славянством. Греческий мир, весь помешанный на наживе, не знает, или едва знает, что такое ярмарка. О кочевниках турках и говорить нечего. Сколько у первых в виду расчёт, столько у вторых – захват, а добросовестный обмен излишнего на недостающее остался на долю славян.
Гропино. 19 Мая 1865.
Нам предстоял семичасовый путь, т.е. около 30–35 вёрст, – не много для человека, едущего в коляске, даже в простой телеге, но за глаза довольно для всадника, целый десяток лет сидевшего на стуле, и вдруг попавшего на спину животного. Под воздействием трёх могущественных реактивов жизни, утра, лета и хорошей погоды, компания наша скоро забыла ночное злострадание. Ровная и весёлая местность помогала одушевлению. Отличные ездоки наши, при всяком удобном случае, в угоду четвёртому реактиву – молодости, пускались в мах по историческим полям, где множество несчётное раз носились взад и вперёд Македонские фаланги, Римские легионы, Скифские орды, Готфские труппы, Варяжские дружины, Славянские полчища, Турецкие низамы, Татары, Янычары и всякой профессии Палликары, в числе их и те, которые облегчают мирных проезжих от разных тяжестей, начиная с кошелька и оканчивая головой. О сих последних невольно думалось мне во вчерашнюю ночную поездку. Хотя я и не забываю, вероятно, упомянутую мною выше где-нибудь, похвальбу, что всякий консул (а тем паче – «Москов-Кунсул-Эфенди») может безопасно искрестить всю Турцию, но иное дело – не забывать, и иное – постоянно держать в уме... Когда в целый долгий переезд не увидишь ни города ни села, ни кола ни двора, никакого признака укоренившейся оседлой жизни, то поневоле станешь думать: значит тут несподручно жить добрым людям. Высоко поднявшееся солнце разлило в воздухе такой жар, что мы чувствовали себя измождёнными, прежде чем устали. По усильной просьбе самых слабых из нас, решено было сделать привал в каком-то известном хане. Льстила надежда подкрепить себя хотя мало сном, который вступал, наконец, неотвязно в свои права. Впрочем, местность начинала быть оживлённее, чем проследованная вчера. По сторонам дороги, особенно к северу, виделись там и сям вдали селения. Не у кого было осведомиться, как они зовутся и кем обитаются... Я почти постоянно был отставши от каравана, догоняя его через каждые 10 минут, а когда равнялся с другими, то не имел уже охоты пускаться в разговор. Малый осадок досады не оставлял меня во всю дорогу. Пусть вместо меня автор «Турков» уведомит, кого следует, что он с дороги уприметил 4 деревни: Lozani, Ispirlik, Kestillan и Sutlû. Последние две очевидно турецкие, первая конечно болгарская, а вторая... остаётся сказать: смешанного характера. Наконец показался и желанный хан, именуемый по указанию той же книги: Gropino. Когда я дотащился до него, спутники уже предавались блаженному покою, и я думал, что чуть сойду с лошади, тут же и засну. Вышло именно то, чего не думал. У тела, видно, не меньше капризов, чем у души. После нескольких напрасных попыток переменить положение и место, на которые слагалась вина неудачи, я вышел в чистое поле и направился к ручью, чтоб умыть лицо. Славная, хотя и грустная, вещь – одиночество! Где оно, там целый мир незримых образов, манящих душу в свой чарующий круг. А этот круг есть – прошедшее. Достаточно журчащей воды и хоть клочка зелени, с которого можно устремить взор в далёкое и глубокое небо с бегучим облачком, чтобы воссоздать на месте их живую панораму другого Майского дня – и светлого и чистого, и благоуханного, – под другою географическою широтою, из другого периода жизни. Найдёт оно бывало, лёгкое, плавающее по лазури небесной, над самую голову, и начнёт утончаться, меняться, умаляться пока и совсем исчезнет. Теперь сказал бы ему только: прощай! До свидания в области общего «после – бытия»131. А тогда недоставало духа расстаться с ним. Затем оно исчезло, и что с ним сталось? И отчего поглотившее его небо осталось голубым, как было, а оно сияло такою белизною? Сердцу до всего была нужда. Не уму ли? Нет, слава Богу, не ему. У ума была тогда другая, так сказать официальная, забота, настолько механическая и настолько отвлечённая, что и занимая его, ничуть, кажется, не тревожила. Оттого он и остался в стороне от приманок и увлечений, и, по милости Божией, до сих пор не разубедился ни в чём. Сердце же пусть пристаёт и отстаёт, пока совсем не устанет. Беды тут нет никакой... Все это мне нашёптывал мой невидимый собеседник Аристотель, с которым я не расстаюсь с минувшей ночи. Конечно, приятно было бы, среди привходящего, так сказать, занятия «облаками в небе», если бы ещё раз из густого ельника, коим порос высокий берег громадной реки, куда с такою тоскою и надеждою смотрело сердце иными глазами, отделилась, выступила и заботливо посмотрела туда-сюда, кого-то ища, дорогая тень милого друга, с которым условлена была загородная прогулка. Но... ведь есть уже два года, как эта самая тень разбила в прах всё минувшее очарование, явившись мне в образе огромной тучной массы чиновника с казёнными манерами и помыслами, заваленного служебными делами, обзавевшегося «ребятишками», верующего в «адмиральский час», и пр. и пр.!.. Sic transit!.. Адмиральский час недаром тут подвернулся. Меня выкликали из хана закусить или «подкрепиться» на предстоящий, трёхчасовой – по меньшей мере, труд. – Заснули? – Спрашивали меня с участием. – Да, вздремнул лет на 30. – Как? Что? На 30!.. Но некогда было объяснять. И сам Аристотель знал в своё время хорошо, что первая задача языка есть и разве уже десятая – говорить.
Садимся на лошадей, и едем вперёд. Чуть заметно поднимаемся. Волнистость почвы продолжается. Речка Кулуде́ с селением того же имени. Впереди выступает синяя громада гор, составляющая хребтовину Балканского полуострова. Прятающиеся друг за друга, верхушки её различными цветовыми оттенками дают знать, что там, на общем возвышенном уровне, поднятом тысячи на две футов над поверхностью морскою, громоздятся целые ряды хребтов и отдельных кучевидных масс, которым «числа и меры нет», и по которым нам предстоит нагуляться вдоволь. Через час пути, с одной возвышенности нам открылась вся передняя цепь гор132, разделяемая от нас широкою, вёрст на 10, долиною, приятно зеленевшею под густым реющим слоем воздуха. Сквозь него ясно обрисовывалась на фиолетовом фоне уходящих вдаль гор прямо к западу какая-то как бы выемка, напоминающая выпавший зуб. – Там в полугоре на уступе и выстроена Водена, древняя Едесса Македонская! – сказали нам. Пока виделась одна только тёмная горизонтальная полоска, не предвещавшая ничего особенного, кроме труда подъёма к ней. Около двух часов пришлось, от нечего делать, любоваться ею. Мало-помалу всё, что казалось тёмным, стало окрашиваться в зелёный цвет, верхушки гор начали понижаться и скрываться, а полоска обращалась сама в отвесную гору с горизонтально обсечённым верхом и странными белесоватыми вертикальными полосами. Их нам назвали водопадами; целая река течёт там наверху, и, разбившись на спуске в несколько потоков, внизу опять собирается в речку, несущую свою избитую и истёртую воду в большую реку Быстрицу, называемую в низовьях Карасмак и приурочиваемую к древнему Лудию. Местные имена: Водена и Быстрица говорят уже велегласно, что мы достигли настоящей земли Славянской. Вся область Воденская у местных жителей носит имя Мо́глена133, от слова Ма́гла или мгла, обозначающего физический характер местности, переполненной водяными испарениями. Этому обстоятельству обязана и вся пересекаемая нами долина своим зеленеющим цветущим видом. Она была бы раем Божиим, если бы от избытка воды, не успевающей стекать в далёкий залив Солунский, не представляла в низовьях своих, сплошного, как говорят, болота, близость которого и составляет главную причину «маглы». Мы значительно уже поднялись на подгорье Кара-дага. В зрительную трубу различаются хорошо 4 полосы водопада, движущиеся и сверкающие под лучами солнца. Бурливая речка, подхватившая их, не раз подбегает к самой дороге нашей. Наконец различаем ухом и шум падающей воды. Длинным зигзагом взбираемся на последнюю высоту, образующую неоглядную площадь, и въезжаем почти сейчас же в город, приветствуя его от всего сердца и как своего временного хозяина и как знаменоносца южного славянства и как привратника, в некотором роде, и сторожа исторической горной дороги – Viae Egnatiae. Минувши несколько тесных улиц, изрытых потоками обильной, как видно, воды, мы выехали на главную улицу, во всю ширину которой стремилась как бы целая река, напомнившая мне в миниатюре и – скажем – карикатуре, славную своим земноводным характером Венецию. И там, я помню, с умилением слушал я живую Славянскую речь, бродя (в 1852 г.) на площади Св. Марка в густой толпе итальянцев и немцев, и совсем не чая услышать родное слово. И здесь вот в какие-нибудь 5 минут проезда городом успел уже уловить слухом не одно слово из живой разговорной речи, взятое как бы прямо из Евангелия. Мы остановились у высокого и красивого дома. Хозяином его оказался наш спутник болгарин, провожавший нас от самого Солуня, и упредивший нас тут несколькими часами. Нас ожидали уже, таким образом. Семейство почтенного негоцианта встретило нас со всеми знаками преданности, радушно и даже радостно, засыпав нас приветствиями в роде: Добре дошли! Како сте? и пр., на которые нам, по крайней мере – мне, неумеющему говорить по-болгарски, приходилось отвечать только киванием головы и движениями рук, заменявшими язык.
Первым делом нашим, по водворении в доме, было заснуть, а со стороны хозяев угостить нас богатым столом. Обедали мы одни. Местный обычай требовал, чтобы домашние не мешали гостям. Кушанья пригождались, как говорится, и нашим и вашим. Нечего говорить, что недостатка не было ни в чём, всего менее в аппетите и в весёлом расположении духа. Несмотря ни на какие выходки над воденским вином, водянистость его с каждым новым приёмом подвергалась всё большему сомнению, и наконец, признано было, что оно уступает разве только соседнему Пиндскому «вяленому» вину. Трапеза завершилась по обычаю чашкою кофе. Взглянув на небо, мы нашли, что ещё осталось настолько вечера, чтобы успеть сходить к большому каскаду. Группа из пяти чиновных лиц русских, в Турции, среди славянского населения... можно представить, какую пищу давала глазам и языку горожан. К счастью, уличные потоки направили путь наш почти сейчас же за город. Зрелище огромной массы воды, стремглав летящей сперва отвесно по скале саженей на 12, а потом по волнистой покатности с уступа на уступ, коих насчитывают до 75, и величественно, и страшно, и в высшей степени занимательно. Слабонервные из нас боялись подойти к краю пропасти. Охватывал вертиж, не раз уже и бывший тут причиной гибели не осторожных пытливцев. Мы стояли на мысу, выдающемся сбоку от каскада, к югу. Я держался за дерево, и при всём том часто смыкал вежды, чтобы парализовать впечатление несущейся громады водной, рассыпающейся внизу неописанным хаосом пены, брызг и некоей непроглядной тонкой пыли или мглы. За то, с несказанным наслаждением останавливался взор на игривых кувырках воды внизу по бугорчатой подошве горы, то белосверкающей, как серебро, то пестреющей густою зеленью всех оттенков от жёлтого до багрового цвета. Всех каскадов считается 7. Их образует неровная поверхность стремнины. 4 из них больших, и 3 – малых. Мы любовались невиданным зрелищем у самого большого из них. Для меня, собственно говоря, оно – не первина. Я видел наш миниатюрный каскад Уманский и, кроме того, пресловутые Cascatelli – Тивольские, по близости Рима. Но даже последние должны уступить Воденским в величии и, так сказать, в грозе впечатления. Соединения всех каскадов в одну реку нельзя было сверху заметить за дальностью места и неровностью почвы. Наглядевшись досыта на поразительную картину без труда устроенного природою, этого perpetuum mobile, мы повернули назад, обошли полями город, и посидели при тихом сиянии луны над естественным бассейном тихой воды, той же самой, которую только что видели ревущею и клокочущею так недалеко отсюда! Тут под высокими платанами устроена беседка. Место вышло как бы луговое, со всею радующею обстановкой сельской природы, дышащее смыслом и вызывающее на помысл. Смотрю в тёмное зеркало не колышущейся воды, и думаю: на что она похожа? Ответ как тут и был: На славянскую историю! Не так ли, в самом деле? Никто и не знает, что дремлет напр. где-то на свете, как стоячая вода, приземное племя Антов, Вендов, Ретов, Гетов, Вандалов134, Триваллов и tutti quanti... И вдруг каскадом пронесётся перед глазами истории и исчезнет Бог знает где какой-нибудь Одоакр или Крум, Самуил, Душан... А за тем сказочная Яга-баба возьмёт да и заметёт помелом самомалейший след их! Но – довольно! Нет ничего бесплоднее, как врываться набегом фантазии в неисходимую область истории, где всего много и всего не достаёт. Уже ночью возвратились мы в Македонскую Венецию. Из воображаемых зеркальных окон того или другого «палаццо» улицы нашей чуть доносился красноватый свет ночника. По «каналу» кое-где чернели, вместо гондол, перебродившие улицу коровы... Но преимущество Водены перед «Царицею морей» в том, что там вода солёная и стоячая, а здесь сладкая и текучая, уносящая с собою всё, что попадёт в неё из соседних дверей и окон. А что попадает много, в том нельзя сомневаться. Другое преимущество – большой русский самовар, так приветливо напевавший нам, при входе, свою монотонную знакомую песенку.
Ночь. Ещё на вопрос: чего прикажете подать к чаю? я отвечал (конечно, мысленно): всего лучше, книги. Теперь, когда всему другому дан покой, естественно им прийти в движение. Прежде всего, разумеется – Isambert. Но этот Vade-mecum всякого, путешествующего по Востоку, далее Фессалоники не простёрся вглубь Македонии. Уже вчера он отказался сообщить мне хоть что-нибудь об именитой Пелле. На столько же нем он и сегодня, когда мы лицом к лицу стоим с другой столицей Македонской, процветавшей до возвеличения Пеллы около 500 лет. Старейший после Изамбера, Ami Boué Водену называет усыпальницей древних царей Македонии, но прибавляет, что он не мог узнать, есть ли ещё теперь следы гробниц царских. Nicolaidy идёт далее, и ведёт дело учёнее. По нему, Водена (он пишет Vodina) занимает место древней Едессы135 Македонской, столько известной римлянам. А Едесса одно и то же, по свидетельству историков, с ещё древнейшим городом: Эги, Аἶγαι, мн. число136. Относительно же гробниц царских «хитрый грек» осторожно замечает, что между развалинами (древнего города) открывают следы погребалищ царских. Кто открывает, и что именно открыл, об этом конечно не спрашивай. За то книжка не скупится сообщить читателю, что один древний оракул предсказывал конец Македонскому царству, чуть только какой-нибудь из царей страны будет похоронен вне Едессы. Что и случилось будто бы по смерти Александра Великого, погребённого в Египте. По правде же сказать, сего вовсе не случилось. После Александра, царство его только вошло опять в свои тесные пределы, и существовало ещё 175 лет. Как бы то ни было, мы имеем дело с Едессой, она же – Эги. Которое имя которого древнее и так сказать природнее, а, следовательно, и народнее? Дело идёт об одной из древнейших столиц нашей Европы, и потому не надобно удивляться, что мы обращаем его в вопрос для себя. По справке, оказывается следующее: первый царь Македонский Каран137 (за 800 л. до Р.Х.), сколачивая своё царство из всего, что попадалось под руку, наметил при этом и Едессу. Но, или не зная в ней дороги, или сбившись с пути за непогодьем, не мог отыскать её, хотя ходил около неё. Вышло так, что, когда он стоял в недоумении, и не знал, на что решиться, увидел неподалёку стадо коз, бежавших по известному направлению. Царь сообразил, что куда им бежать (без пастуха!), как не в загон, и где быть загону, как не в селитве людской? Затем ему оставалось уже идти следом за козами, прийти прямо к городу, и взять его если не «с меча», то хотя «с плеча», т.е. по капризу первого, сообщившего о случае, историка138. В благодарность нежданным гидам, Каран назвал их именем город, и, увлёкшись великолепною местностью, сделал его своею резиденцией. Обо всём этом повествует достоверный, хотя и не очень древний (II века по Р.X.) историк. Значит, имя: Эги не первоначальное, а навязанное городу, уже именовавшемуся Эдессой. Чтобы выйти из этой маглы или моглины известий, остаётся разве предположить, что царская кличка места была так сказать учёная, известная только педантам риторического и пиитического закала. Народ же знал его под другим именем. Влияние практического Рима, по падении монархии Карановой, возвратило, вероятно, месту его старое имя, получившее с тех пор официальность. Но и ещё раз ему не посчастливилось. На закате Византийского периода, город вдруг огласил себя под именем Во́дены, или Воде́н (мн. число)139. С какого времени стало известно это новое имя, может сказать нам, ещё ненаписанная история Македонии. Какое-то предание гласит, что при славянском императоре Юстиниане, обитатели Едессы, тоже славяне, жаловались царю, что город их, лежавший внизу на поляне за каскадами, терпел от сырости и от зловредных испарений заточной воды, и просили позволения переселиться наверх по сю сторону водопада. Император будто бы имел какие-то причины не соглашаться на это. Наконец, сдавшись на их неотступные просьбы, издал вожделенное: быть по сему. Получив такое позволение, все будто бы в восторге устремились наверх, на теперешнее место города, крича: на́ воде! на́ воде!. Если прокричать безостановочно слова эти раз пять-шесть, то сама собою выйдет: Водена. Если это не могло случиться при самодержце Византийском Управде (Юстиниане), не запечатлевшем своего 38 летнего царствования ни единым славянским словом, пусть отведётся для него позднейшее время какого-нибудь Василия Македонянина или Константина Багрянородного, разумевшего, как видно из сочинений его, немало слов варварских и не оскорблявшегося ими. Для нас это всё равно: и Юстиниан и Константин слишком глубоко ушли в историческую даль, чтобы делать между ними выбор. Патриотам конечно приятнее, чтобы это случилось ещё ни же, – при Комниных или Палеологах, а и того лучше, чтобы вовсе не случилось, а просто новое имя города произошло от новогреческого слова: βῷδι, βοΐδιον (по-древнему βοῦς) = бык. К какой метаморфозе подавало бы повод и прежнее его переименование в Эги. Если Едессе не стыдно (ἀιδώς) было носить имя «козы», то и прямо честно было украситься именем «быка». При таком толковании сло́ва, эллинское предание благополучно остаётся нерушимым, и теперешние жители города и всей Мглены представляются естественно обулгарившимися греками. О «воде» нет больше помину. Всё становится на своё место.. Склоняясь, по принципу, на сторону одной истории, не зависимо от эллинства и славянства, мы нудимся заметить, что, к сожалению, факт переселения Едессян с вод на́воды имеет не более оснований, чем и покорение Едессы козами при царе Каране. Как тот мог назвать город по имени коз греческим словом Эги только в голове грека-патриота-педанта, так император Юстиниан мог дать позволение селиться Едесситам на воде только в пламенном воображении болгарина-родолюбца-поэта.
Чем же сделала себя известною в истории Эга-Едесса-Водена? Древнейшие историки Иродот и Фукидид или не знали её вовсе, или не имели случая заговорить о ней. Всесветный Иракл не добрался до неё. Аргонавты ещё менее могли доплыть до неё. Троянскую войну она уже не застала в живых, ни самого воспевателя её. Не было, таким образом, ей случая прославиться в древнейший период Греческой истории. Остаётся голословно утверждать, что, как столица довольно обширного, по тогдашним понятиям, царства, она, конечно, сияла своими делами из окружавшего её мрака настолько, что какой-то оракул счёл уместным пророчествовать о ней. Печальный для неё факт – развенчания из столицы в простой город – мы можем объяснить только начавшимся (в период греческих междоусобных войн, в которые вмешались и Македонские монархи) усилением Эллинизма, которому она, надобно думать, не сочувствовала. С окончательным падением Македонского царства (за 140 лет до Р.X.), обратившегося в Римскую провинцию и она и Пелла уступили своё место Фессалонике и погрузились в неизвестность. Переход её из язычества в христианство остался, таким образом, незамеченным. Находясь, впрочем, на большой дороге римлян140, от Адриатики к Эгейскому морю и далее на Восток, она не могла быть в стороне от общего движения политической жизни великой республики и величайшей империи, и видела не мало, конечно, иноземных воителей, двигавшихся с запада на восток, и обратно, по пробитой стежке. Но некому было рассказать о том. Только в период Готфских набегов на край, всплыло, как бы мимоходом, из глубин мрака на свет божий имя Эдессы Македонской. Это было в конце V столетия по Р.X. Империя отбивалась тогда от двух разом Феодориков, одного Валамирова, а другого Триариева сына, – обоих, состоявших на службе у неё, и разорявших её со всею жестокостью пришлой стихии, которой нечего жалеть, ибо нечего терять. Едесса была тогда, как надобно думать, нечто вроде нынешней корпусной квартиры императорской армии. Упоминаются у историков притом имена генералов Сабиниана, Филоксена и Онульфа (очевидно готфа) и ещё одного высшего сановника Адаманция, как бы императорского наместника, заведовавшего всем Иллириком и временно тут жившего. Видно таким образом, что Едесса была тогда значительным, и вероятно укреплённым местом. Такою мы действительно и находим её в позднейший сравнительно период времени Болгарских и Сербских набегов на край с X по XV век. Город был обнесён стенами и особенно сильно укреплён ими Василием II Болгаробойцем, во время войн его с Самуилом. Имея в Солуне точку опоры своих военных действий, император то и дело выгонял из ближайших пределов своего царства вторгавшихся в него славян, пользовавшихся, конечно, тем обстоятельством, что почти под самым уже Солунем были славянские поселения. Где именно и какие они были, конечно, нет никакой возможности определить теперь141. Представлять совершенно славянскою тогдашнюю Водену нет достаточного основания; греческим ещё менее мог быть город уже по одному недостатку этой стихии для внутренних мест Македонии. Как бы то ни было, в начале текущего тысячелетия Едесса – Водена принадлежала державе Самуила, простиравшейся от Балкан до самого (по местам конечно) «Белого моря», или Архипелага, раз была отнята у него, и снова перешла к нему. По смерти грозного «бича империи» (в 1014 г.), император поспешил завладеть ею, вместе с другими городами, в 1015 г. Но не прошло несколько месяцев, как город взбунтовался. Император (все ещё Василий II) снова явился под стенами его; и вторично взял его, выселив бунтовщиков (вероятно, в своём роде и «зилотов») в тот же округ Волер, куда и в 1001 г. ссылал Воденцев. Конец 1017 года неутомимый царь – воитель провёл здесь, отдыхая от многолетних беспрерывных войн. Ещё мы встретимся с ним на пути своём, вероятно, не один раз.
Лет на 200 затем история теряет из вида древнюю столицу царей Македонских. По разрушении эфемерной империи Солунской, экс-император Феодор (Комнин-Ангел), получил, как мы уже упомянули, от императора Иоанна II Ватаци в удел себе на прокормление город Водену с ближайшими окрестностями. Чего бы лучше слепому старику доживать свой век тут на положении, все ещё как бы независимого, государя. Но беспокойный дух человека не дал ему сидеть спокойно и других оставить в покое. Он поднял племянника своего, Деспота Эпирского Михаила против великодушного императора. Иоанн не замедлил прибыть с войском в Солунь, и оттуда двинулся сперва на дядю, чтобы добраться потом и до племянника. Феодор чуть почуял невзгоду, бежал в Эпир. Император осадил Водену, и принудил сдаться. Нам кажется странным, зачем тут было произойти осаде. Ужели город мог быть привержен к своему слепому, старому и силою навязанному, властителю? Не знаем, не было ли это делом какой-нибудь фракции «родолюбцев» в городе, для которой и самая тень самостоятельности политической была дорога, в виду всепоглощающего византизма, которого естественным представителем был император. Иван Милостивый конечно не сделал ничего худого городу, и полюбовавшись на его редкие красоты природные, отправился далее в путь свой, куда и мы, Бог даст, поедем завтра, – возвратив Едессу вновь сколачиваемой его крепкою рукою империи Комниных. Палеологи застали положение дел в местах этих лучшим, чем можно было ожидать. Ни Болгар, ни франков, ни разных собственных мятежников им не нужно было, так сказать, ежедневно, выгонять из империи. Если не самым делом, то именем они владели сплошь Иллириком, или, говоря по-теперешнему, Балканским полуостровом, от моря до моря. Но за то им предстояла борьба отвне с сербами и турками, а извнутрь с наёмными войсками. На беду ещё приключилось совсем нежданное междоусобие между императорами дедом и внуком, а потом – тестем и зятем. Затишная Водена билась также судорожно в это предсмертное время, как и вся издыхавшая держава Константинов и Августов, не зная, где её друзья, и где враги, – что ей должно, и чего не следует, делать, – в чём её польза и в чём погибель, и т.д. В 1328 году напр. она знала и признавала, что законный государь у неё есть Андроник, сын Михаила, Палеолог, лет 50 уже носящий императорский венец. А между тем под стенами её является с войском император совсем юный, хотя тоже Палеолог и тоже Андроник Михайлович, но горожанам говорят, что это мятежник. Что было делать? Город не замедлил сдаться тому, кто стоял у дверей. Пример этот соблазнил другого юного венценосца. С теми же завоевательными мыслями, невдолге после того, подступил к городу краль Трибаллов. Но он не был из рода Ираклидов, и никакая Пифия не сказала ему, что «козы доставят ему царство». Оттого ему пришлось осаждать древние Еги 16 лет142! За место коз ввели его, наконец, в город деньги. Так, по крайней мере, утверждает современный историк – император Иоанн Кантакузин. Этот самый историк, чуть забрал в руки свои бразды правления, поспешил на выручку осаждённого города. Но, прибыв сюда в 1342 г., нашёл, что город уже сдался кралю (Душану). Прошло 8 лет сербского владычества в крае, тот же император снова явился у Водены с целью отнять её у краля. Жители заперлись в своих крепких стенах. Началась ещё раз осада. Эгеяне со стен городских смеялись в глаза выскочке, которого в 1328 г. знали простым придворным чиновником и считали вовсе неспособным к военному делу. Однако же ошиблись жестоко. Кантакузин взял город приступом, прибегнув к очень простой стратагеме, а именно сделав фальшивую атаку на город со стороны озера (?), куда естественно устремились защитники города, и в то же время напёрши на него всеми остальными силами с другой стороны143. Успех был полный. Оставив 200 человек гарнизона в Воденской крепости, бывший Великий Доместик простил жителям их насмешки над ним, и пошёл отвоёвывать у Трибаллов другие греческие города. Но чуть он кончил поход и возвратился в Константинополь триумфатором, краль как тут и был, – опять явился под стенами Водены. Город взят был предательством. Жители дали знать «варварам», что есть место, откуда они могут лезть прямо на стены, не встретивши сопротивления. Осаждающие приставили лестницы, взобрались наверх, и сейчас же стали сбрасывать камни, делая, таким образом, мост для всего войска и даже для конницы. Душа́-человек, в упоении дешёвою победою, отдал город на разграбление солдатам, которые ломали и жгли дома, забирая и унося с собою всё, что можно, жителей же пустили голых144 искать спасения в соседних городах, как-то Веррие и др. А дело было в начале января, и стояла жестокая зима. Краль удалился в свою резиденцию Скопию или Скоплю, оставив здесь в крепости свой гарнизон. Но это был уже последний самодур – завоеватель славянский. Вскоре и крали пали и императоры исчезли. Обоих соперников – единоверцев стёр с лица земли неверный далёкий пришлец, не малое время игравший роль союзника то той, то другой притеснённой стороны. Прямых известий о покорении города турками мы не имеем. Но несомненно, это последовало при Амурате II, в горестном 1430 году. Кто были его предпоследними владетелями, тоже не можем сказать по недостатку под рукою необходимых сведений. Верно, что не славяне, а или греки, или Венециане, которым он продан был вместе со всею Македониею... О, Александр! Где ты, чтоб видеть такой позор, нанесённый рукою грека месту покоя стольких твоих предков!
Новые завоеватели, конечно, постарались, прежде всего, лишить город значения крепости, и срыли его стены. Теперь большею частью надобно искать их, роясь в земле. В течение 400 летнего забытого существования его под игом турецким успело истребиться и тоже забыться всё, что могло напоминать и царей и кралей. Как просуществовали во всё это время 20–25 поколений Едесситов или Воденистов? Много ли было и осталось древних родов? Какая кровь текла в них? Сколько огречилось славянских и ославянилось греческих, потурчилось тех и других? Всё это – в полном смысле истёртой фразы – покрыто мраком неизвестности. За обедом мы, было, отнеслись с каким-то в подобном роде вопросом к своему Науму Евангелиновичу. В ответ, он только рукой махнул, что значило: ищи ветра в поле! Теперь в городе, по Булье – 12 000 жителей, по Николаиди – 10 000, из коих половина – греки, по Буе́ – 7–800 жителей, наибольшею частью – Болгаре, Греки и Цинцары (а турки?), по сегодняшнему сказанию одного «родолюбца» – ни одного настоящего грека, одни Българе да турци. А владыка? Спросили мы у последнего сего источника статистики. – Кой-то владыка? Отвечал он. То есть турок, а не грек.
Эдесса Македонская. 20 Мая 1865.
Если к 1865 присовокупить 796 лет от начала Греческой династии царей Македонских, и несколькими годами менее – от истории с козами, то Водена может насчитывать около 2650 лет своего непрерывного существования. Чего нужно ещё, чтобы месту считать себя именитым? А так как годом появления в истории царства Македонского вообще признают 1392-й до Р.X., и так как по смыслу слов Пифии, козы имели доставить царство Карану, а те ничего другого не сделали, как довели Ираклида до Едессы, то и следует заключить, что город и до нашествия греческого был уже царственным. Таким образом, мы, без большого исторического греха, можем насчитать три тысячи лет бытия его. Где ещё найти в пределах Европы такую древность? С нетерпением, потому, ожидал я часа назначенного ещё вчера вечером, для обозрения достопримечательностей города. Положено было встать пораньше, чтобы ещё холодком обойти две-три церкви, две-три школы, и – ничего больше! В переводе на практический язык наше: ,,пораньше» означало 9 часов. Прежде всего, мы направились в Митрополию, по-нашему: Кафедральный Собор. Нашли её и недавнею и некрасивою и неубранною. Всё в ней так сказать в казённом стиле, да ещё и в практическом греческом смысле, т.е. удовлетворяет нужде... что же ещё более? За недостатком другого чего, мы обратили внимание на иконы, имевшие довольно старинный вид. Под иконою всех Святых я прочёл следующую заметку по-гречески: поспешеством Блаженейшего Архиепископа Ахридского, прежде бывшего господина председателя Воден, господина Германа и издержками боголюбивейшего...145 и пр. Я поздравил себя, встретившись так скоро с увековеченным надписью славянским «Блаженством», о котором уже давно помышляют и вздыхают «родолюбцы», как насильно отнятом у них. Слова: великий, высокий, светлый, ясный, сияющий и пр. сами бросаются в глаза и так сказать напрашиваются на то, чтобы войти в титул выдающегося из ряда человека. Но греческое блаженство и турецкое благополучие каким глазом усмотреть и каким мерилом измерить? Апостол назвал блаженным Бога, и – справедливо. Господь Иисус Христос ублажил Петра, а потом всех, видевших Его на земле, а потом и всех, не видевших, и веровавших в него, но очевидно не в смысле отличительной чести или славы. Как вышли в церкви нашей «блаженнейшие» патриархи, доискаться трудно, но несомненно, что их блаженство – не от мира сего, выражает собою не мирское счастье какое бы то ни было, а скорее ту степень богоугождения, которая доставит человеку вечное блаженство. В этом смысле титульное «блаженство» равнозначительно «святости», которая по духу церкви может и даже непременно должна быть отличием духовного лица, а тем паче – сановника. В соответствие этим понятиям о святости всего, посвятившего себя Богу, искони вошло в обычай досточтимой древности оставлять за иереями Бога Вышнего титло святых, и поскольку архиереев приходилось уже тогда чтить именем Святейших, то что оставалось придать владыке владык, т.е. патриарху или как бы архиерарху? Придумали титул Всесвятейшего! Не много ли? Но, по крайней мере, тут дело идёт последовательно. А как вышли ,,блаженнейшие», когда нет просто «блаженных»?.. При всём том, неосмысленное слово стало знамением идеи, да ещё какой! Готовой возмутить покой всей церкви. Но... довольно о нём. Итак Его Ахридское (отчего не Болгарское?) Блаженство поусердствовал в свой прежний епархиальный город пожертвовать св. икону, и закрепил свой дар подписью. Хорошее дело. Но, отчего бы заметке не выйти по-славянски? С вопросом этим, только в более широких размерах, обращаются в настоящее время к Константинополю миллионы Славян, в числе их конечно и Воденская епархия. Ответ ищется то в соборных правилах, то в Императорских декретах, и тех и других – не имевших в виду настоящего положения вещей, в истории, в археологии, даже в этимологии, во всём, кроме логики и статистики, наконец, за неимением другого чего, в папском: non possumus. Другая подобная заметка, описанная мною в Соборе, тоже греческая, гласит: Моление раба Божия Ангелы, господина Велеположника 1-й Юстинианы и всей Булгарии, Года 7127 (1619), Индиктиона 2-го.146 Это значить, что Ангела́ пожертвовал в церковь, или точнее – сам заказал сделать для церкви вещь, носящую на себе заметку. Что за чин или должность: Мегалофет, об этом можно догадываться, сравнивши его со званием Великого Логофета, существующим до нашего времени при Вселенском Патриархе. Вероятно, автокефальная церковь Болгарская старалась копировать, насколько могла, Великую церковь, и завела у себя тоже Великого Логофета, но или не смела или не сумела назвать его этим самым именем. Оттого и вышел тут Мегалофет, если только это не есть описка делавшего заметку. Есть ещё большая икона Богоматери зовомая: «Милующая» (ἐλεοῦσα), приплывшая, как утверждает местное предание, из монастыря Панагии. Есть и совсем новая икона Св. Георгия Янинского, замученного уже в наши времена. Наконец Архимедово: «Эврика» повторилось и у нас. Спутник мой откопал где-то славянское письмо в стенной иконописи. В алтаре над жертвенником есть фресковые изображения Святых первомученика Стефана и Романа Сладкопевца. Оба изображены диаконами. На ораре первого написано отвесно несколько раз: ст҃ъ. Зато на Романовом ораре читается то же слово, но по-гречески: АГИОС. К сожалению, изображения эти не представляются достаточно древними, чтобы бежать с ними и кричать о славянстве древней Едессы. Вышед из храма, мы ещё полюбовались в притворе стенным изображением «лествицы, ведущей на небо» и «Лика Святых». По соседству мы посетили палаты Владычни. Впрочем, так как сам хозяин был в отлучке по епархии, то компания наша ограничила визит свой побывкою в саду его на месте, откуда видится во всём величии соседний водопад. Я же предпочёл этому приятному зрелищу копирование одной древней греческой надписи или точнее записи на мраморной плите (90 + 70 фр. метра), вставленной в стену над самым входом в архиерейский дом. Она содержала следующее: Благополучие! Года 328. Список эфивов, эфивствовавших при Лисимахе Савидианове (сыне), эфивархе. По определению Совета. Клавдий Серин До... ков. Квинт Александр и Юлий Маркийны. Ульпий, Домиций, Элпидифор, Эвтихион Македонихов. Аникит, Александр Папа... дровцев. Зопир Валериев. Эспер Семелит. Судис (?) Каллисипин и Филомен. Саторнил Идеин. Филит Фарионов. Феликс Никомидов. Парамон и Юлий и Акила Юлиевы. Гаий и Парамон Гаиевы. Юлиан Асклипин147. Дело идёт о кончивших гимназический курс. Столько ли их было, и так ли нами прочитаны и расставлены имена их – судить не берёмся. Это один из несчётных примеров, засвидетельствованных дошедшими до нас памятниками, что выпуск эфивов считался настолько важным обстоятельством, что по определению совета (парламента?) заносился на мрамор для памяти потомства. Год 328-й, конечно, должен быть считаем по эре Александровой, называемой ещё иначе – Селевкидов, Македонскою и – просто Греческою. Он будет соответствовать 16-му году по Р.X.
От митрополии мы направились к другой церкви Св. Иоанна Богослова, влекомые туда слухом о находящейся в ней надписи времён тоже языческих. Церковь очень небольшая и совсем невзрачная, построена в 7147 (1639) году, а возобновлена в 1863-м. Над входными дверями её вставлена со вне древняя мраморная плита с рельефным изображением креста и по сторонам его букв: α и ω, которую можно относить к V-X векам. В самой церкви в стене налево есть маленькая ниша с мраморною плитою в глубине её и надписью в четыре строки, гласящею: Менандр Парменонов. Аннива... Мефонадов. Мефонад Менандров. Ироям148, т.е. «возложили» или по-нашему посвятили. Года нет, но характер букв заставляет считать надпись древнейшею предыдущей, укороченная форма буквы π (Г) отодвигает её в 3-й и даже 4-й век до Р.X., если не послужит возражением против сего собственное имя Аннивы, т.е. Аннибала, знаменитое имя которого вошло в известность на Востоке только в начале 2-го столетия до Р.X. Больше нечего было видеть в церкви Богослова. Как бы в соответствие этим, единственным в Воденских храмах, письменным памятникам древности, говорящим о греческом прошедшем города, другой язык и не слышится в них до настоящего времени кроме греческого, несмотря на то, что почти все, собирающиеся на молитву, суть болгаре, в большинстве не понимающие по-гречески. Спрашивать: зачем и отчего это так делается, значит – толочь воду. От церквей мы перешли в школу, тут же неподалёку находящуюся. Ради не знаю какого случая, учения не было. Тот же дух исключительности веет и в школах Водены, какой господствует в церквах Едессы. Всё преподавание в них идёт по-гречески. Алфавитарий у всех на языке, об азбуке помину нет. Кто бы осмелился подумать, а особенно заговорить о ней, тот рискнул бы попасть на замечание сперва у владыки, а потом и у мудира, а затем и у паши областного и далее, где следует... Известный Болгарский патриот и школьный учитель Иордан за подобные беззаконные и мятежнические помыслы не так давно попал в тюрьму, и хорошо, что отделался одною ссылкою в Диарбекир, где и до сих пор бедственно проводит дни свои, тужа, как слышно, всего более о том, что сидит праздно без дела, тогда как мог бы десятки и сотни своих единородцев научить читать и писать. И это делают люди, которые осмеливаются весьма нередко называть русских светогасителями!
По скале между Митрополией и училищем мы спустились не без труда и страха в так называемые «сады», где предположительно был старый город Эдесса. Сколько наверху всё говорит о высоте, величии и силе, столько здесь всё дышит тишиной, лаской и красотой. Так как я уже зарекомендовал себя на дворе Владычнем любителем древностей, то меня сейчас же повели к одной развалине, т.е. куче мусора, заросшей лесом, с остатком стоящей небольшой колонны темно-синеватого цвета, упавшею капителью и другими несколькими обломками выделанного мрамора, которую назвали нам бывшею церковью Св. Мученика Фалалея – ,,его же и память совершаем», прибавил при этом рассказчик, улыбаясь. В самом деле, оказалось, что сегодня 20-го мая – в Святцах стоит: Св. Муч. Фалалея. Приятное совпадение. Но какой же повод был древним Эдесситам – христианам строить храм во имя Святого такой малой известности в христианском мире? спросил я. На это мне отвечали, что Св. Муч. Фалалей был уроженец здешний и здесь пострадал. Новая приятная неожиданность! Я мог ожидать ещё и четвёртого сюрприза, как бы финала к трём первым, – столь естественной в подобных обстоятельствах просьбы подвигнуть русское боголюбие к восстановлению древнего святилища в честь Мученика, его же память совершает, наравне с другими, и вся Россия. Но такой просьбы не было, потому ли, что мой путеводитель был славянин, а не грек, и скорее посочувствовал бы какому-нибудь своему Стояну или Вуку (волку), чем Фалалею, хотя бы и святому, или – потому, что просто не находил нужным оживлять отжившее.
Нежданная задача для меня. Приготовляясь к поездке по Европейской Турции, я запасался сведениями из разных святцев и житейников о святых, которых в каком-нибудь отношении можно считать принадлежащими местам, находящимся на пути нашем. Ни одного имени, коими обставлена Via Egnatia, избранная нами за направительную линию дороги нашей, нет в святцах наших, кроме Фессалоники, агиологией которой мы уже занимались выше. Эдесса попадалась нам на глаза, при перенесении Убруса с нерукотворенным Образом из Едессы в Царь-град, но очевидно совсем другая. Что же касается Св. Муч. Фалалея, то мы его знали всегда за мученика Киликийского из-под города Тарса. Там он жил, там и пострадал. Припоминается, что он брошен был, к тому же, в море, что вовсе не приложимо к местам этим149. Но чичероне мой уверял меня, что в житии Святого прямо приводится Едесса, как место страдания – упоминается даже притом древнейшее название её: Эгея. Мало того. Для бывшей столицы Македонской недостаточно одного своего святого. Провожатый наш, заметив моё недоверие к его утверждению о Св. Фалалее, поспешил сообщить мне, что к Македонской, а не Асийской Едессе относится и преславное чудо, совершённое святыми мучениками Гурием, Самона и Авивом150. Оба эти местные утверждения – чтобы не сказать предания – напали на мою критическую способность так сказать врасплох, нашли меня безоружным в виду таких положительных, неотразимых заверений. Надобно было согласиться с тем, что выдавалось за исторический факт, подтверждаемый к тому же памятником.
Направляясь всё далее к востоку по садовой равнине, мы вышли на площадь, занятую только что отстроенной церковью Св. Троицы, довольно красивой архитектуры с тремя верхами, возведённой на древних основаниях. Ещё в Водене мне сказали, что при расчистке места кругом развалин древнего храма открыто много древних могил христианского времени, и в них найдено немало древних вещей. Оттого я с понятным нетерпением стремился к заветному месту. Но то, что я нашёл там, далеко превзошло мои ожидания. 28 больших и малых, целых и в осколках, мраморных плит с древними, большею частью христианскими, надписями встретили меня при входе в открытый притвор храма; некоторые из них вделаны в стены здания, другие же стоят прислонёнными к стенам со вне его. Почти все надписи надгробного значения и довольно отдалённой христианской эпохи, что́ в глазах моих имело двойную цену. Я просил позволения у компании остаться на месте и заняться списыванием нежданно объявившегося археологического сокровища. Для компании, кстати, нужен был отдых где-нибудь в затишье и прохладе, так как полдневное солнышко делало невозможным немедленное возвращение в город с подъёмом на значительную высоту. Вот что мною было списано со скрижалей небогатой содержанием местной истории, укрывавшихся в земле, несомненно, более тысячи лет.
1. Памятник Мартирия Пресвитера и Димитрия чтеца151. Начертано на мраморной плите сероватого цвета, каковы почти все прочие плиты. Оба определительные имени надписи представляются в усечённом виде. «Памятником» мы переводим греческое слово: Мημόριον, принадлежащее испорченной эпохе языка начала так называемых средних веков. Оно есть переделка латинского слова: Memoria – память, и переносно памятная заметка, запись. В этом видно влияние официального языка эпохи, каким был, со времени обращения Македонии в Римскую Провинцию, в местах этих латинский, более чем где-нибудь на Востоке, проникавший тут в частную жизнь населения, по особенным географическим условиям края, прорезанного главною военною дорогою империи.
2. …на … Иконома Пресвитера152. Конечно, тоже в начале надписи стояло памятник. Собственное имя может быть: Иоанна, Германа и пр., или любимое Македонское: Парамона.
3. Памятник Александра, Дросерии, Зосимиана (?), Анастасии (?)153. Поверх надписи находится, вглубь вырезанное, изображение креста и двух по сторонам его птичек, обращённых головами друг к другу и к разделяющему их кресту. Очевидно, памятная плита лежала на входе в фамильный склеп. Ибо не все же вместе за один раз умерли и погребены 4 человека.
4. Памятник Диогена и сестры его Прокопии154. Поверх надписи тоже изображение креста и птичек. Кроме того, внизу под надписью повторительно стоит крестное знамение под искривлённою линию, оканчивающеюся двумя листочками плюща, столь общим и любимым древностью символом покоя вечного, перешедшим из понятий и обычаев язычества и в христианский мир.
5. Памятник Дросерии и Евдокии и Анфемия врача и сожительницы его Софии155. Поверх надписи изображение креста, утверждающегося на волнистой линии, оканчивающейся листочками плюща. В конце надписи тоже одинокий удлинённый крест.
6. Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. 643. Памятника два. Один Дулькиния, певца, и один Магра строителя и сожительницы его Домнины. Эммануил помилуй нас.156 Надпись в высшей степени замечательная, хорошо, и так сказать – наглядно характеризующая свою эпоху. Поверх её изображены три креста удлинённой формы с расширенными концами. Средний из них, кроме того, имеет с правой стороны приставку в виде кружка, с которым он образует так называемый у археологов Лаварон (Labarum) Константинов, в котором можно усматривать и крест, и монограмму имени Христова, – по греческому, впрочем, а не по латинскому письму. По сторонам сего креста начертаны апокалипсические буквы А и Ω. Выше этой, как бы вводной, строки, начертанной буквами большого размера, видится ещё ряд букв криптографического значения, составляющий самую важную для нас часть надписи. Всех букв числом 8. Расставлены они в 4 отдела ΙΧΘϒΣΧΜΓ. Из первых двух составляется слово ἰχϑὺς , что значит рыба. Это есть та самая, столько известная в первых веках христианства, криптограмма имени Христова, о которой упоминает в своих сочинениях Климент Александрийский. В Римских катакомбах не редкость увидеть и самое изображение рыбки, необъяснимое, по-видимому, ничем. Для язычников того времени, склонных к обоготворению всего на свете, почтение, воздаваемое христианами рыбе, могло показаться странным, а для верующих оно служило символом всей их веры и как бы девизом их потаённого общества, их знаменем в войне с неверием. Слово ἰχϑὺς составлялось из начальных букв имён Ἰησοὺς Χριστὸς Θεοῦ Ὑιὸς Σωτὴρ, и содержало в себе, таким образом, как бы в зародыше, всё христианское богословие, закрывая его от непосвящённых в тоже время самым простым представлением из круга обыденных вещей. Появление этого мистического слова на могильной надписи нашей уже одно, само по себе, говорит о её глубокой древности. Но, к довершению удовольствия нашего, рядом с ним стоит и летосчислительная пометка надписи. Считать следующие за словом ἰχϑὺς три буквы χμγ продолжением заключающегося в нем тайного смысла, мы не находим возможным, потому что, если ещё с натяжкой можно в μγ предполагать сокращённое: μέγας, то в χ положительно нельзя угадать никакого таящегося подходящего смысла, а главное – потому, что самым естественным образом усматривается в них хронологическая цифра, дающая 643-й год Александровой или Македонской эры, соответствующий 331-му христианского летосчисления.. Надпись ставит таким образом, нас лицом к лицу со временем Константина Великого, и сама составляет не малую редкость в памятниках христианства. Собственно она заканчивается словом: Домнины, состоя из 10 строк, в средине которых трижды встречается и изображение листка плющевого, – явный признак близости эпохи языческой. В конце надписи стоит опять крестное знамение, и с ним листок плюща и птичка, обращённая головой к тому и другому. Прибавление к надписи, состоящее из трёх строк, отделено от неё некоторым промежутком, по которому случайно произошёл и разлом плиты, состоящей теперь из двух кусков и как бы из двух номеров. Требуется некое внимание, чтобы досмотреться их однородства или бывшей целокупности. Под припискою также сделано игривою рукою резчика изображение какого-то животного (вероятно, собаки), устремившегося с открытым ртом к стоящему впереди его сосуду, – изображение, по нашему мнению мало согласное с содержанием надписи и с духом приписки, хотя с натяжкой и в нём можно найти глубокое значение.
7. Памятник Феодосии диакониссы и Аспилии и Агафоклии девственниц157. Надпись состоит из 5 строк. Высшую, шестую строчку занимают изображения двух крестов. Третий крест – меньшего размера – состоит в начале надписи, перед словом: μημόριον.
8. Памятник Агафоклии девственницы и диакониссы158. 5 строк. Выше их, в кругу – большое изображение креста и по сторонам его двух птичек, обращённых к нему головами.
9. Памятник Святых Петра и Павла159. Узкая и невзрачная плитка. На 6 строчек растянутая, краткая запись эта, сравнительно с другими весьма неважная и как бы даже небрежная, удивляет своим содержанием. Имена Петра и Павла, вместе встреченные и относящиеся к двум, вместе погребённым, лицам, уже одни останавливают на себе внимание, а с приставкою слова: святых могут казаться прямо загадкою. Конечно, это не святые Апостолы Пётр и Павел, а какие-нибудь братья или друзья, по крещении нарёкшие себе Апостольские имена. Но в каком смысле они названы «Святыми»? В общеупотребительном церковном смысле прославления и вечного блаженства в небесах? Но в таком случае ужели бы никто не поусердствовал положить на гроб угодников Божиих, если не лучшую, то уж никак не худшую других, плиту с приукрашенною, или хоть чем-нибудь отмеченною надписью? Допустить же, что ,,святые» значит просто: «освященные», каковы напр. священники, диаконы и т.п. опять нет основания. Мы видели уже, что пресвитер Мартирий (№ 1) не назван святым. Остаётся предположить, что чертивший надгробную надпись водился личным чувством благоговения к усопшим, и, величая их святыми, имел в виду не более сказать того, что мы соединяем с выражением: раб Христов, праведная душа, святая душа.
10. Памятник св. Евдоксия пресвитера и грешного Иоанна диакона160. Высказанное нами выше предположение о значении слова: святый подтверждается, как нельзя более, этою надписью. Писал её очевидно Иоанн Диакон, преисполненный уважения к почившему своему сослужителю, приготовляя в одной могиле с ним и себе место покоя вечного. Так как слово: грешный тут нельзя принимать в смысле грешника, осужденного на вечное мучение или погибшего, а только как выражение самоукорения в духе Евангелия, то и противопоставленное ему включение со святыми в Бозе почившего должно иметь смысл простого ублажения или похваления, согласно заповеди премудрого: память праведного с похвалами.
11. Памятник Софии и Калликрата воина161. Трёхстрочная надпись, поверх которой в виде особой строки видится обычное изображение креста с обращёнными к нему по обеим сторонам двумя птичками.
12. Памя(тник)… и… анат…162. Небольшой обломок плиты с левою, начальною половиною надписи, в теперешнем виде совершенно не вразумительной. Видно, что могила скрывала в себе, как и другие, нескольких усопших.
13. Памят(ник) (Геор)гия Гу… и со(жительницы) его К…и163. Уцелела правая половина надписи. И то не вся. Похоронены были, видимо, муж и жена.
14. Памятник Иордана, коноврача и сожительницы его Димитрии164. Четырёхстрочная, совершенно целая надпись.
15. Памятник Главка Парамониунова (и сожи)тельницы…165. Нижняя часть плиты отбита, и от надписи осталось три неполных строки. Парамониун неслыханное и трудно веримое имя. Но никакому другому чтению, по-видимому, нет места.
16. Памятник содержащий (останки) Иоанна Офониака и сожительницы его Димитрии…166. Из 6 строк надписи последняя почти вся отбита. Верх плиты закруглён, предисловием к надписи служит изображение креста, утверждающегося на изогнутой линии, кончающейся с обеих сторон листочками плюща.
17. Памятник Феодосии и Аспилии девственниц167. Красивая четырёхстрочная надпись с изображениями вверху и внизу. Верхнее представляет крест, утверждённый на подножке, к которой наклонились головками стоящие по сторонам птички. Нижнее состоит из креста в кружке, к которому также устремляются две птички, но так, что одна из них (что́ налево) смотрит на крест обернувшись.
18. а) Раба Прокопи(я). б) Господи помоги рабу твоему Георгию. Аминь. в) Господи помоги рабу твоему попу Иоанну. Аминь. г) Подобно и… Феодору. д) Помоги рабу твоему попу Антони(ю) и…168 Все эти скорописные заметки начертаны на небольшой мраморной плитке. Две из них (б и в) обведены кругом чертою в виде рамки. Ни по содержанию, ни по внешнему виду никакого отношения они не имеют к предыдущим, и говорят о полном упадке учёного образования в писавших.
19. Память Марцилла Не…169. Латинская надпись трёхстрочная. Сверху её изображён крест и по сторонам его по плющевому листку. Видимо и она принадлежит тому же времени, какому греческие 17. Начертание её разнится от греческих тем, что между строками проведены горизонтальные линии, да ещё двойные, подобно тому, как это делается в прописях. Появление латинской надгробной записи между столькими греческими, свидетельствующее о присутствии инородной стихии в древней Едесской церкви, не представляя в себе чего-нибудь особенно резкого, веселит, однако же, историчествующую мысль. Занесённый вдаль на Восток, римлянин не охватывается духом чужбины, помнит свою племенную особность, с достоинством отстаивает её, и даже по смерти хочет оставаться римлянином. Отчего же наши славяне, прозябая столько столетий в местах этих, не оставили после себя никакого следа своей племенной розни, и даже теперь не смеют сказать ни греку ни турку, что у них есть свой родной язык, в котором не будет недостатка в словах для более удачного напр. перевода латинского: memoria, чем греческое: μημόριον?.. Впрочем, подождём бранить давно отживших родичей Македонских. Может быть далее, по дороге в старую Болгарию, мы и наткнёмся на целый ряд, подобных Едесским, надгробных памяток какой-нибудь забытой древнеславянской местности.
Насытившись от крупиц этой неожиданной археологической трапезы духовной, предложенной нам стародавнею столицею Македонии, какую не доставили нам в своё время даже преславные Афины, богатые на всё, чего только поищет человек, любящий помыслить дни первые и помянуть лета вечныя, мы, без малого уже часа два трудившиеся и физически и умственно, дали себе отдых, и вспомнили о крупицах другой, менее «изысканной» по выражению одного не-археолога, трапезы, сказать проще: закусили, усевшись в притворе церкви, заваленном всякого рода и вида материалов. Вещие плиты с тремя десятками освещенных ими, и так сказать вызванных из глубокой древности, христиан и христианок, тут живших, ходивших, сидевших.., мирно смотрели на нас и как бы жаловались нам на то, что их потревожили с места, и вместо прохлады в недрах земли, выставили под жгучий луч солнца. Хорошо, но на то вы и вещие, чтобы вещать о себе отдалённому потомству. Если бы чертивший вас не имел сего в виду, он обошёлся бы без вас. Коротко и ясно! В самом деле, не странная ли это аномалия: прятать усопшего на веки в землю, и вместе с тем класть туда же памятную о нём заметку? Для кого?.. Инстинкт бессмертия выдаёт себя в нас на каждом шагу. Он же, конечно, подшепнул на ухо и «грешному» диакону Иоанну игривую мысль засвидетельствовать перед кем-то (ведь не перед мраком же могилы!) о лежащем с ним рядом «святом» священнике Евдоксие. Какая-то надежда оставалась у человека, что он ещё раз предстанет перед взоры людей, для которых таким образом он и счёл нужным сделать известным, кто он такой. Предчувствие не обмануло его. Через полторы тысячи лет заступ работника открыл вот целый мёртвый город с именами, восстановляющими древнехристианскую жизнь. Встречаемся мы тут с пресвитерами, диакониссами, девственницами, певцами, чтецами, икономом, икодомом (строителем), воином, ветеринарным врачом... Воскресает если не то или другое лицо, то целое общество – в утешение и поучение родам грядущим и в молитвенную память родов отшедших. Конечно, и сие суета! Но уж если есть что-нибудь в суетном мире, достойное нашего сочувствия, то это заявления духа, отрицающие суету. Эти листочки, зеленевшие под сению креста, эти птички, желательно и уповательно смотрящие на него, что́ как не глубочайшее признание души, что не всё кончается с кончиною человека? Ведь и на кресте умер тоже земнородный, доказавший всему человечеству, что смерть есть переход к жизни. Как же удержаться после сего, чтобы не заговорить о себе и из могилы? Всё равно, есть кому слушать меня, или совершенно не кому. Веровах, тем же возглаголах.
Кроме пересмотренных нами христианских надписей, тут же (или по близости где) собрано и частью употреблено в дело при возведении храма, как строительный материал, несколько древних камней с надписями языческой эпохи. Оставалось пересмотреть и списать и их, чтобы не унести на совести археологического греха против именитой местности. Вот они:
20. Эпиктету Нутрицию. Мульвия К(аиева) д(очь) Плацида, Патрона Тада (?), внука Льва, пропретора провинции Македонии170. Латинская семистрочная надпись, вполне сохранившаяся. Поверх её особо стоят две буквы D и М, означающие без сомнения: Diis Manibus – Богам подземным, обычное посвящение подобного рода записей у римлян. Nitricius есть ли собственное имя, или значит: воспитатель, решить не можем. Плацида – наиболее вероятное чтение, хотя на камне совершенно ясно видится I, а не L, и есть возможность разделять имя на два отдельных слова: pia и cida. О слове: Tadi ничего даже гадательно сказать не можем. Nepotis есть ли родительный падеж слова nepos, и относится ли к Таду, внуку (Львову?), или употреблено вместо neptis, и относится к самой Мульвие, тоже для нас представляется неясным. Наконец и в собственном имени: Лев (Leo) можно ещё предполагать слово Legio = Легион, а в pro. pr. угадывать: propriae т.е. Macedoniae. Вообще, по малому знакомству моему с Латинскими древними надписями, я затрудняюсь представить точный перевод этого памятника Римской Македонии, утешая себя тем, что, по-видимому, он не имеет большой исторической важности.
21. Ещё менее в состоянии я прибрать какой-нибудь смысл к Латинским буквам LDLL(N)I(E), читаемым на обломке колонны из тёмноцветного камня, разбитой турками, по достойному времён до-карановых предположению, что недаром же кто-то высекал тут «язы», и что, значит, внутри камня спрятаны добрые денежки... Став на точку зрения этих новых археологов, мы со спутником без труда прочли в таинственной надписи начальные буквы слов: Лиры (турецкие), Дукаты, Лиры (Англ.), Лиры (французские)... в чём и просим прощения у людей серьёзных.
22. Л. Юлий Эпафродит Юлию Никифору и Юлие Роме отпущенникам. На память. Года 316171. Отлично начертанная и отлично сохранившаяся шестистрочная греческая надпись. Не угадаешь причины такого редкого внимания бывшего господина к бывшим рабам. Не кроется ли причина, его в каких-нибудь неявных родственных отношениях первого к последним? И он Юлий, и те зовутся Юлием и Юлией. Как будто недаром такая щедрость на знаменитое имя: Притом же Юлий junior прозван ещё победоносцем, а Юлия (сестра его?) и прямо возвеличена прозванием Рима... Что-то довольно замысловато. Приведено в исполнение это желание предать памяти потомства великодушный поступок барина, в 4-й год христианской эры.
23. Клавдиан Парамон Куриацию Трофиму другу172. Пятистрочная надпись широкого аккуратного письма, без всяких прибавлений и украшений. Просто и кратко и по своей сердечности умилительно. Вместо собственного имени: Трофим можно предполагать и нарицательное: питомец.
24. Года 276-го. 22-х лет С. Педис Лика братанича… как сына. На память173. Большого размера семистрочная надпись со странным начертанием некоторых букв, затрудняющим чтение. Не менее трудна и расстановка слов, писанных слитно. Педис – совсем незнакомое имя, скорее бы латинское, чем греческое, а может быть и прямо старо-македонское. Имя Лик (Λύκος) мы оставляем без перевода, хотя имели бы право вместо него поставить соответствующее слово: Волк, столько любимое, как имя, и теперь местным населением (припомним имена: Вук, Вукашин, Вукалович..). Отчего, против обычая, имя Лика стоит в винительном, а не в дательном падеже, и какой надобно подразумевать притом глагол (без которого, не затемняя смысла, обходятся подобные надписи при дательной форме сказуемого), это решило бы стоящее за словом: ἀδελφιδι – братанича, речение, но прочесть для меня не представляется возможности. Можно возражать и против следующего затем чтения: как сын. Между строками 4 раза встречается и плющевой листок. Год надписи выходит 37-й до Р.Х.
25. Г. Педу и Острия, Кадион и Атия, Парамона и Сабина чаду при жизни самим себе сделали174. Четырёхстрочная надпись эта сделана на лицевой стороне саркофага, вделанного теперь в северо-западный угол церкви. Подобного значения и содержания надписей есть множество на Востоке. Люди заживо приготовляли себе «плотоядницы», и означая письмом на них принадлежность их себе, крепко заботились о том, чтобы никто, кроме их самих, не был положен в них, и заклинали начальства местные и всех граждан исполнить свято волю их. Выражение: Ζῶντες ἑαυτοῖς ἐποίησαν было типическим в подобных надписях. Если имели в виду и ещё кому-нибудь дать место в своей гробнице, то вписывали и его имя. Так и в настоящем случае родители, лишившись безвременно своего чада, устроили для него саркофаг, предназначая его в тоже время и для самих себя, только не сумели складно заявить о том. Но это – наименьшая из несообразностей рассматриваемой надписи. Если следовать предложенному нами чтению, то выйдет, что у шести родителей было одно чадо, и то осталось не поименованным! Другого же чтения мы пока не придумаем. А допускать не полноту или повреждение текста нет никакого основания. Есть при надписи и изображение молодого человека, несущегося на лошади, под которою видится собака, устремившаяся за кабаном. А сзади всадника извивается змея. Смысл изображения понятен. Последняя укороченная строчка украшена в начале и в конце изображением плющевого листка. Года при себе надпись не имеет, но отсутствие Ω, Ε и Σ заменены везде ω, ϵ и ϲ, выносит её уже как бы в христианские времена.
26. Совет и дим… если же гражданам… ибо таковые…175. Обломок, как видно, большой плиты белого мрамора, содержавшей народное определение. Сохранились остатки трёх строчек, вырванные из средины.
27. …богатых…176. Ещё меньший обломок, по-видимому, той же самой плиты.
28. …приверженных Секунданов…177. Не сумеем ничего прибавить в объяснение. Надписи сохранилось только весьма малая часть, а именно – 2 строки полные и третьей строки 5 букв.
Работа наша была кончена. С удовольствием, какого давно уже не приходилось испытывать, пересматривал и поверял я свои сокровища археологические. Все надписи христианские (исключая №18) по характеру письма представляются принадлежащими одной и той же эпохе, и так как по счастью на одной из них оказалась хронологическая дата, следующая общепринятой в Македонии эре, не оставляющая сомнения в том, что мы имеем дело с IV веком христианским, то сегодняшнюю находку нашу не обинуясь можно назвать «сокровищем». Сличая христианские надписи с языческими, действительно убеждаешься, что их разделяет не большой (сравнительно) промежуток времени. Начертание букв в первых почти не разнится от последних. Не достаёт в них только Ω, Σ и Ε, заменяемых ω, ϲ и е,178 которых употребление встречается впрочем, и в языческих, особенно же в № 25. Исключительная особенность христианских есть слитное начертание двоегласного ου в виде 8, хотя наравне с ним (и даже в одном и том же слове, напр. ΔΟϒΛΚΙΤΙϪ) встречается и раздельная форма письма179. Материал, употреблённый для тех и других памятных записей древними Эдесситами, хотя тот же самый, т.е. мрамор, но видно, что язычники более радели о внешней показности своих памятников, чем христиане, что и естественно. Их заботы о том не охлаждало и не останавливало припоминание «гробов повапленных», и «красить гробы пророческие», а за неимением пророков и всяческие, для них, как и для Иудеев, было делом похвальным.
Естественно мы пожелали собрать сведения, где какая надпись отыскана. Оказалось, что языческие найдены в разных местах по окрестности, а христианские все возле самой церкви, при которой в стародавнее время было и кладбище, по тогдашнему обычаю. Вся теперешняя площадь при церкви вскопана. На глубине одного метра, или около того, оказалась она вся усеяна склепами одиночными, кладенными из тесаного песчаника с полуцилиндрическим сводом, имевшим к одному краю четыреугольное отверстие, заставляемое камнем или плитою. Стенки и свод этих склепов доставляли собою отличный материал строителям церкви. Оттого, вынувши остатки искрошившихся костей усопших, они обыкновенно разбирали камни и затем засыпали яму. И теперь можно различать места бывших склепов. До сих пор открыто и уничтожено уже 50 древних могил. Я пожалел, что никто не подумал оставить на показ хотя один склеп неприкосновенным. Мне сказали на это, что все склепы совершенно похожи были один на другой, и что образчик их я могу видеть сейчас. Сказано – сделано. Тут же неподалёку зияло небольшое отверстие в землю, которым я и спустился по древним каменным ступенькам внутрь склепа. Размеры его оказались следующие: длина – 2,12 фр. метра, ширина – 1,40, вышина до ключа свода – 1,63. Около 40 сантиметров занимает система узеньких ступенек. Противоположная входной стенка покрыта штукатуркой, по которой сделан рисунок фресковый, представляющий три горизонтальные полосы, красную, белую и красную. Поверх последней нарисован чёрный, удлинённой формы, крест180, а по сторонам его – выникающая из земли высокая трава. Краски ещё довольно сохранились. Пол склепа был когда-то цементован. Внутри таких склепов находимы были, в разных положениях, и плиты с надгробными надписями. Большая часть склепов, однако же, не имели подобных записей; кроме их и истлевших костей найдено и несколько мелких металлических вещей (не объяснено – каких), хранящихся в доме митрополита. Прощаясь со склепом, я спросил заведывающего работами в церкви, какая участь ожидает этот последний, сохранившийся в целости, памятник досточтимой древности. Тоже разломают и его? – Теперь пока нет нужды в камнях, отвечали мне. Работы камнездательные в церкви покончены, а со временем... Ясно, что́ должно последовать «со временем» – Ведь тут когда-то был монастырь св. Николая, добавил рассказчик, – может быть, и опять будет. Тогда понадобится камень... Я указал, конечно, на окрестные каменные горы, но не всё можно достать, на что можно указать. Этот неговоримый ответ я как бы читал в отведённых в сторону глазах собеседника. Между тем, замечание о бывшем тут монастыре св. Николая хотелось бы мне чем-нибудь проверить. Проще думать, что тут находился в старобытные времена сам город Эдесса. Если же и существовал (недаром же вышло предание) монастырь, то разве позднейшего времени, когда жили Папа Иоанн и Папа Антоний с рабами Божиими Прокопием, Георгием и др. Пресвитеры Мартирий и Евдокий с причтом жили ранее, чем мог быть выстроен монастырь во имя св. Николая. Впрочем, пусть будет так, как было!
Часы напомнили нам, что пора идти домой, где, несомненно, нас уже давно поджидают. Ибо условлено было утром, сегодня же засветло отправиться в дальнейший путь. Светская компания давным-давно оставила нас и возвратилась в город. Узнав, что такие дорогие гости, как мы, вчера приехали, а сегодня и уезжаем, нам некоторым образом поставили на вид, что так нельзя делать, что следует остаться до воскресенья, – храмового праздника церкви, когда – к тому же – предположено и освящение её. Доводы конечно сильные, но провести три лишних дня на одном месте, это было чересчур для всех нас. Возвращаясь восвояси теми же садами, я высматривал ещё где-нибудь развалин и спрашивал, не слыхать ли чего о гробницах древних царей, упоминаемых вот в этой книге, указал я. Мне сказали, что книга-то, вероятно, слышала о тех самых могилах, которые мы видели у церкви, и по пословице «не зная, где звонят», окрестила их именем «царских». Могло быть и так. А всё же разбирала смертная охота порыться (конечно, не своими пустыми и неумелыми руками) в районе двух-трёх вёрст от «Св. Троицы», и напасть на целый ряд каких-нибудь новых Фивских ипогеев, хранящих в себе останки предков Александра Великого. Не нашлось ли бы в них какого-нибудь вещего памятника, из которого можно бы было вывести подходящее заключение о том, кто такие были первоначальные Македонцы, и каким языком они говорили. Вербовать их в Славян нет прямого основания, – особенно после того, как они столько раз нападали на своих мирных соседей Трибаллов, оказавшихся впоследствии Славянами, и частнее – Сербами. Немцами они тоже вряд ли могли быть, ибо на каких-то Гетов придунайских тоже ходил воевать Александр, а так как есть вероятность, что Геты суть позднейшие Готы или Готфы, то и вышло бы, что немцы ходили на немцев! Из самого же пресловутого имени Македо, или, по вероятнейшему выговору древних, Мачедо ничего не извлечёшь в пользу какого бы то ни было предположения. Себялюбивые составители древней истории и географии Эллины не пропустили случая записать, что родоначальником Македонцев был внучек древнего Девкалиона, по имени Македон (Μακεδών), и след. Грек, если только сам Девкалион, этот Ной греческих преданий (и в тоже время – сын Япета или Иафета Библии!) почему-нибудь может быть причислен к грекам.
Опять мы идём мимо «Эллинского училища» Водены. Мне предлагают посмотреть школу взаимного обучения, или на официальном языке Ἀλληλοδιδακτικόν (подразумевается: Σχολεῖον) и Παρϑεναγωγεῖον, т.е. девичье училище, в котором обучаются 200 (!) девочек. А сколько же учеников в Аллилодидактиконе? Полюбопытствовал я узнать, мне не запинаясь ответили: все! Понимай, как хочешь! В обеих этих школах (не говоря уже об Эллинской181, преподавание идёт на греческом языке. Ни о Болгарском, ни о Славянском и помину нет. Если прибавить к этому, что и во всех вообще училищах Воденского округа (если таковые есть) учение тоже идёт по-гречески, да и богослужение в 100 приходских церквах Воденской епархии совершается греческое, то нечего дивиться тенденциям девкалионовцев видеть и выдавать Македонию греческою. Достаточно какому-нибудь автору: Les Turques напечатать, да ещё по-французски, что все христиане Водены суть греки, а мне засвидетельствовать перед историею, что в Воденской епархии везде и богослужение, и обучение идёт греческое, чтобы потомки наши и в теперешней Едессе Македонской видели одних греков. Ведь для них через полторы или две тысячи лет мы тоже будем иметь значение Фукидидов и Птолемеев. Патриот тогдашнего времени, очевидно, не задумается назвать Болгарскую Водену, по любимому выражению Фукидида, Ἑλληνὶς πολις, как бы: грек-город182. И будет считаться догматом в исторической науке времён тех и преподаваться с кафедры Едесского Университета, при рукоплесканиях всей столицы восстановленного царства Александрова, что в XIX столетии по Р.X. эллинизм процветал в варвароименной области Воденской. А между тем, когда мы подошли к своей квартире, то стоявшая в дверях дивойка, приветствуя нас, сказала совершенно не понятным для эллина языком: «добар вечор»! И прибавила, что нас давно уже чакают «да ядемы». В самом деле, было уже к вечеру и приклонившись был день. За авраамовской трапезой мы похвалились перед компанией плодами трудов своих археологических, но большого впечатления на «людей дела» тем не произвели. Даже и манер мой завлечь их внимание к записной книжке моей сообщением хозяину известия, что я прочёл его фамильное имя в одной (№ 20)183 из древних надписей, остался без последствий. Беседа вертелась всё на каком-то процессе, крепко занимавшем хозяина, изредка принимая характер индустриальный по поводу занятия его же шелководством. Тут же перед глазами нашими на широких полках копошились в листьях тутовника шелковичные черви, кому придававшие, а у кого совсем отбивавшие своим занятием аппетит.
В 5 часов мы простились с гостеприимным кровом. Долго провожавшая нас глазами и поклонами у дверей дома, славянская семья возбуждала во мне глубокое участие. Припоминались мне давние и далёкие сцены из другого славянства, подобные этой. «Ребятки, выходите провожать гостей» раздавался, бывало, приснопамятный голос, и мы выходили к воротам, стояли и кланялись отъезжавшей кибитке. Как всё это и сердечно, и просто и вместе торжественно – важно! В глазах туманилось. Вместо Водены выдвигалось воображением на первый план, со всею своею детскою обстановкою, родное село, и заслоняло собою действительность. Так часто доводилось мне верить и других заверять, что свойство крови есть нечто напускное, искусственное. Ужели отказаться от сего под наитием охватившей душу грусти? Не столько крови, сколько родной речи воздействием, может быть, должно считать не подлежащий сомнению факт племенного сочувствия, предназначенного играть такую важную решающую роль в жизни человечества. Думал и раздумывал я об этом, когда уже ничто перед глазами не напоминало ни племенства, ни самого человечества. Сейчас же за городом потянулась безлюдная пустыня. «Раздумывать» приходилось от того, что подмеченные богомудрым Апостолом в душе нашей судительные помыслы: осуждающий и отвещавающий, только не знаю который именно из них, а может быть и совершенно отдельный от них, третий – от не приязни – помысл, уже начали во мне свою привычную ироническую логомахию. Чуть я умилился сердцем при мысли о «родной речи», как воображению моему предстал один, знакомый мне в Константинополе еврей, в совершенстве говорящий родным словом нашим, но не возбудивший во мне ни разу племенного сочувствия... Так, так! Но и то, сплошь пьяное село Покровское, которое я не так давно видел в день храмового праздника, затопившее слух мой родною речью, неизвестною ни одному лексикону, стоит целого кагала жидов, фальшивых, паршивых, но – трезвых! Этим недавним подогретым знакомством моим с единокровным и единоязычным мне племенем я, можно сказать, окончательно разуверился в каком бы то ни было ех principio сочувствии к кому бы то ни было на свете, без ведома ума или хотя одного зрения. До космополитства, конечно, ещё далеко отсюда, но – смею думать – близко до Евангелия.
После целосуточного отдыха едем бодро и весело. По «Табуле» впереди ожидает нас станция Целлис (Cellis), отстоящая от Едессы на 45 миль. Она же указывается и в «Дорожнике Антониновом», только здесь в одном месте взаимное расстояние их определяется в 33, а в другом – в 34 мили. Теперь не отыскивается, да, думаем, никем и не разыскивается местность эта. Чего-нибудь подобного этому имени не слышится между названиями промежуточных селений. Досужий антикварий мог бы доследиться её, держась остатков древней дороги Римской, по всей вероятности, ещё немалочисленных. Очень может быть, что эти целлы или кельи стояли там, где теперь городок Флорина или Филурина, очевидно римского происхождения, на который и теперь направляется естественный, условливаемый топографическими особенностями, путь во внутренность гор Старой Болгарии, а по древнейшей кличке Иллириды184. Мы, впрочем, избираем другой, прямейший путь, оставляя влеве viam Egnatiam вместе и с Флориною, но сделаем это уже за озером, не тем, которое начинает открываться нам вправо от дороги, и зовётся: Техово185, из которого многими, разбитыми на ручьи путями вытекает и Воденская речка, образующая водопад, а другим, в 10 раз большим его, и уступающим по обширности только Охридскому «морю». Воденский амфитрион наш, указывая в сторону озера, рассказывает что-то остановившейся компании, я могу только видеть, а не слышать рассказчика, потому что уже успел отстать от общества. Госпо́дин Наум тут распростился с нами. Сколько я мог понять, он имеет права собственности на озеро, кем-то оспариваемые. Впереди нас высится гора, ещё раз зовомая именем, начинающимся с любезного местам этим: кара (чёрный). Виды открываются дикие, но прекрасные. К сожалению, я мало становлюсь способным ценить, да даже просто – замечать их. Забота вся сосредоточивается на том, чтобы не отстать от других и сохранить живот свой. Деревня Владова – потому видно, что владеет «ключом позиции», как выражаются стратегики, на час пути от Водены. Солнце уже крепко склоняется к горизонту и мешает видеть предметы впереди. Выпадает значительный участок ровной и мягкой дороги. Общество пользуется случаем и галопирует, наконец, совсем скрывается из глаз. Опять я напеваю мысленно изречение премудрого: кое общение котлу с горнцем... и пр., но волей-неволей, вопреки не только мудрости, но и простому толку, несусь туда же во весь мах, ухватившись руками и за седло, и за гриву животного, чуть не за шею, и рискуя разбить голову о первое придорожное дерево, так как впивавшийся в глаза почти уже горизонтальный луч солнца не позволял различать впереди ничего. Когда я догнал компанию, то мне сказали, что я опоздал и прозевал «торжественный момент». Происходила передача консульского ведомства старою властью (?) новой. Мы были на рубеже Пашалыков Солунского и Битольского, и въезжали в последний, а следовательно, вместе с тем и в район нашего Битольского консульства. Церемония состояла в том, что старый консул, умчавшись вперёд, стал с боку дороги, и когда поравнялся с ним новый, сделал ему на караул саблей. Я застал только уже остаток того впечатления, которое произвела «штука» на публику. Все находились под влиянием гомерической весёлости. Опять поднимаемся на высоту, прощаемся с солнышком, и минуем не одно не весёлое место. Деревня Кускова. А эта отчего так названа? Спрашиваю я. Отвечают, не задумавшись: оттого, что какие-нибудь «чёрные» тут изрубили на куски каких-нибудь белых. Зигзаги бесконечные. Едем уже два часа. Обещается сей час спуск с угрюмой высоты и великолепный вид, которого, впрочем, не придётся увидеть по причине наступающей ночи. И действительно, когда открылась перед нами глубокая котловина, полная воды, мы более мыслью, чем глазом признали в ней давно ожидаемое озеро. Долго и опасливо спускались мы к нему, и уже в полных потёмках достигли расположенной на берегу его деревни, именуемой Острово186. Это же имя придаётся и озеру, и выходит, таким образом, странное противоречие имени с именуемым, – озеро стало островом! По барометрическим измерениям поверхность его находится на уровне 1245 футов над поверхностью моря, – выше, значит, не малого числа известных мне гор. На столько мы поднялись в течение минувших дней, не принимая в расчёт притом не однократно уже пересечённых нами настоящих горных высот! В честь места мы сделали кратчайший привал у Островского хана. Ханджи поднёс компании по «мастихе» в подкрепление физических и моральных сил, столько нужных в виду ночной сырости, темноты и некоторой тесноты духа. Прямо в глаза нам смотрелась чёрная громада гор, которую, видимо, предстояло преодолеть. Расстояние, которое мы проехали, оказалось только игрушкой в сравнении с тем, какое оставалось проехать до ночлега, наперёд, конечно, намеченного, т.е. нам сулили ещё часов 5 безотдышной езды. Половинный месяц стоял над головой и обещал именно настолько времени посветить нам. И так снова садимся на конь и едем вдоль северного берега «озера». Местность болотистая. Воздух сырой и тяжёлый. Тишина и думы. Я рад, что ночь мешает наездникам нашим показывать свою удаль, и позволяет мне припомнить, что когда-то у озера этого зимовал со своей армией царь Греко-Никейской империи Иоанн Ватаци. Пользуясь временным затишьем дел с Латинами Константиполя и Болгарами, он вознамерился покрепче взяться за восстановление изветшавшей державы Константина. Добившись конца Солунского царства, он задался мыслью покончить и с Деспотом Эпирским. Выгнав дядю его из Водены, как мы уже заметили вчера, или точнее дав ему случай бежать и избегнуть заслуженной кары, он двинулся нашею, конечно, дорогою вперёд и, дошедши до озера, расположился на широкой долине его лагерем. Отсюда он командировал донимать неспокойного Комнина–Ангела187 владевшего тогда кроме своего Эпира, кажется, и всей Фессалией, своих полководцев Алексия Стративопула, славного потом отнятием у франков Константинополя, и ещё более славного Михаила Палеолога, будущего Императора, сам же занялся присоединением под свой скипетр путём засылок и переговоров прилежащих месту областей, в чём и успел. Один за другим явились к сильному и доброму монарху правители важнейших соседних городов и били челом, по выражению наших летописей. В числе их были и Касторийский Гла́ва (очевидно болгарин) и Албанский Гулам (вероятно скипетар или по-теперешнему – арванит). В этих делах прошла зима. К весне Император возвратился в Водену и там праздновал пасху. Тогда же привели к нему связанным и пойманного беглеца Феодора... Можно забыться, читая всё это у самовидца писателя Георгия Акрополита, состоявшего при Ватаци в звании главного делопроизводителя, как бы нынешнего канцлера. Так живо и наглядно умел излагать замечательный государственный муж – историк! Между тем всё это происходило слишком за 600 до нас лет. Бесспорно, места подобные Водене, Острову и другим той же центральной полосы нынешней Румелии были свидетелями множества важных для своего времени событий из греко-македонской, греко-турецкой, греко-славянской, греко-латинской и греко-турецкой истории. Но молчит о них гречанка Клио – молчим и мы. Да всего и не перескажешь. Если мы не раз уже вызываем из исторического мрака светлое лицо царя Ивана Милостивого, то только по особенному сочувствию к нему. Не был он, видите, ни Комнин ни Ангел, ни даже Ласкарь, перенявший имя той и другой владетельной фамилии, и на престол Константинов попал как бы случайно, а между тем нашёлся поддержать его с редким достоинством, в виду четырёх совместников, не считая Иконийского Султана и Болгарского Краля, и под гнётом всевозможных затруднений. Не он один конечно разъезжал дорогою нашею, а с десяток и других самодержцев Византии носились взад и вперёд, с войсками и без оных, победителями и побеждёнными, больше же всех конечно воинственный шурин нашего красного солнышка Владимира, именитый Василий Болгаробоец, не помышлявший, как видно, о том, какое горькое чувство должны были возбуждать его трофеи в сердце его дальнего родственника. Впрочем, и то возможно, что наше «солнышко» может быть даже радовалось истреблению там далеко где-то появившегося некоего как бы тоже Владимира (трехименного по византийцам). Ведь отец его ходил за моря разорять и разрушать ни за что ни про что единоплеменное царство! Я даже не сомневаюсь, что в войсках греческих были и дружины русские. Пусть, в угоду воображению, одни воители стоят по одну сторону, а другие по другую Островского озера, перекликаются трубными звуками в тишине подобной же ночи, и ждут с нетерпением минуты истребить друг друга. Идти ли мыслию дальше? Мир им и вечный покой во мраке минувшего безвестного!
Давно уже поднимаемся по стропотной стезе на подступы громадной горы Нидже, вершина которой, скрывавшаяся вчера в облаках, достигает, по всей вероятности, 6000 футов. Мы пересекаем её на незначительной сравнительно высоте. За ней должна открыться великая равнина древней Пелагонии, зовомая теперь Битольскою, – ближайшая пока цель нашего путешествия. Дорога извивается горизонтально и вертикально, следуя волнообразным скатам горы. Разговоров не слышно. Старый Търпко покашливает под влиянием ночной прохлады или, пожалуй, проморози. Встретившийся человек с ружьём принимается за пастуха на том основании, что он один. Но он мог быть соглядатаем целой шайки пастухов, стерегущих и стригущих проезжего, у которых франкский костюм наш и довольно грозный вид, а главное численность наша, могли выбить из головы мысль о беззащитном стаде. Образовавшаяся от быстрой езды и болтавшейся в кармане зрительной трубке на ноге моей рана не давала мне покоя. Я вынужден был остановиться и туго перевязать больное место платком, зная наперёд, что завтра не будет возможности отодрать его от тела. Но, что делать? Завтрашнее будет ещё завтра, а нужно было немедленно изыскать какой-нибудь modus vivendi на целую ночь. С физическою соединялась для меня и «моральная» невзгода. Неоднократные замечания спутников, что я всё позади да позади, тоже вызывали некоторую боль в другом органе, которого нельзя, и нечем было перевязать. Слагая, по пословице, вину с больной головы на здоровую, я предложил поменяться кому-нибудь со мною конем. За охотником дело не стало. Мой ленивый доринцо (карько) пошёл под другим седоком буцефаловым шагом. Но и я не остался внакладе, по крайней мере – на первый раз. Муштровка прежнего седока была ещё в памяти у доставшегося мне животного, и оно прибавляло ходу при всяком моём, самом случайном, движении на седле, понимая его в своём известном смысле. Бравый (и очень несимпатичный) кавас консульский Хассан, чистокровный албанец, то пел, то громко зевал, а наконец начал что-то рассказывать впереди про «довгих человеков», коих могилы он видел на вершине горы, а тонкий Търпко, тоже когда-то бывший бравым, да чуть ли ещё не клефтом, сомнительно покрякивает при наиболее выдающихся эффектных выходках рассказчика. Большого доверия, как видно, нет между людьми, служащими одной и той же идее, которую было бы обидою для них назвать идеей жалованья. Думаю, справедливее руководящее начало их деятельности искать на стороне «славного», чем «полезного». Христианин (Търпко) считает имя русское лозунгом спасения для себя и для своей страны. Магометанин (Хассан) в Москове видит дорогой ему идеал великого широкого, многочисленного, страшного и, в конце концов... богатого, конечно. Изучая же приёмы рук и челюстей его, я готов даже подумать, что дикого молодца всего более пленяет воплощаемая им в нас русских идея захвата, как высшего свидетельства преобладающей силы ума или мышц... Если ошибаюсь, то верю, что он не обидится на меня за это.
Уже 10 часов. Чувствуется большое утомление. Обещается в скорости некий Дервен-хан, т.е. «корчма на перевале». Жду его, имея в виду не одно только отдохновение, а и некое утешение, выражаясь монастырским языком. Помаялись ещё с четверть часа, показался и хан. Предводители каравана, вижу, спешились у него. По простоте готов был уже послать им радостное: с приездом! Но не твёрдая позитура их на земле показалась мне что-то подозрительною. Вскоре стало известно, что идут совещания о том, тут ли остановиться ночлегом, или уж кстати доехать до Тюльбюли. Если «кстати» ехать, то очевидно некстати оставаться, подумал я, и ничего тут не поделаешь, ибо всё, вопреки сему придуманное, выйдет не кстати т.е. к неустояти. С другой стороны, благозвучное и благознаменательное Тюль-бюль-и... само собою брало верх над дерущим уши Дервен-ханом. В пользу Блюхера (генерал Vorwärts) приводился и тот аргумент, что мы ехали сегодня всего 5 часов, следовательно, не достигли ещё законной полдюжины. – Ну, а если в Тюльбюли мы его перестигнем? – спросил я. – Так нам же лучше, отвечали мне, – останется меньше до Битоля. – Что сказать было против такого оригинального довода? Ведь возможно, что мы сегодня проедем столько, что до Битоля и ничего не останется для завтра, но как доедем?.. Слова словами, а дело делом. Поговорили, и потянулись вперёд к прекрасному и многонадежному Тюльбюрю, которого имя к завтрашнему дню, вероятно, ещё как-нибудь видоизменится. Те же малые спуски и длинные подъёмы, тудысюдные вилянья, камни и каменья, светлые полосы лунного сиянья и тёмные пятна теней, отбрасываемых кустами и расчепами скалы, рисующие нам фигуры прилёгших к земле овец, а ещё чаще зловещие очертания прицеливающихся овчарей, о которых говорено выше... Послышится где-нибудь глухой и жалобный крик горной совы, и ещё какой-то не то голос, не то бормот, может быть посмертный разговор довгых человеков, и всё опять кругом безмолвно, как в могиле! У кого-то на часах оказалась полночь. Открытие сообщается к общему сведению. – Смотрите, не хватит нам месяца до Тютю-бери, слышится в арьергарде, с надавленным ударением на тютю. – Как не хватит? Пересекает остроту чей-то сонный голос, сегодня только ещё 20-е число. – Да, ну вас! Заключает властно хозяин «района». Так и видно, что едете из Острого! – Раздаются рукоплескания, проходит дремота, начинаются понукиванья, переходящие неожиданно в: Messieux! Sauve qui peut! И след простыл моей компании! Тянемся мы одни с сивым Търпком на сивой лошади. Прошло с добрую четверть часа, пока мы опять обменялись с товарищами приветом: «как поживаете»? Оказалось, что поживают как нельзя лучше, ибо стоя́т на спуске с горы, и уже можно различить именитый хан... Всё, что происходило по водворении в Тут-были, не подлежит описанию. Охарактеризовать его можно двумя словами: смертная истома.
Турабалы. 21 Мая 1865. Пяток.
Хотелось бы почтить место ночлега нашего каким-нибудь классическим именем, но где его взять? Классический мир свысока относился ко всему захолустному, и многого из того, что составляет теперь славу и похвальбу земли, совсем не знал. Ни одною просёлочною дорогою он не ходил и не ездил, ни в один хан придорожный не заглядывал. У него ли спрашивать, что тут было в его время? Только верно, что не было: тюль-бюли, потому что ещё вчера вечером ошибочное чтение было исправлено и восстановлено истинное: тура́-балы188. Мало того, сегодня – не свет, не заря – славянофилейший из общества нашего осведомился, что славянское имя места есть: Вошпора́ны. Шипящий звук в имени не мог понравиться, и чтобы не дать места напрашивающемуся на язык каламбуру, мы условились, пока не выедем с места, произносить: Воспораны, причём должен рисоваться в воображении нашем, кстати, и наш дорогой Воспор цареградский. Ночь провели все мы гораздо лучше, чем можно было ожидать. Первого, кто заговорил на тему: вставать, заставили ещё спать, прибавивши, что торопиться некуда. Первого доброго утра в «своём» районе мы, таким образом, и не видали. Когда компания проснулась, уже во всём блеске сияли за окном солнце, а на столе самовар, оба жгучие и распространяющие кругом себя пар, тоже каждый деятель в своём, «районе». Поздравили друг друга со славянским (!) праздником Святых Константина и Елены... Нам ли, заехавшим в такую славянщину забыть, что великий Император родился в Наиссе, теперешнем Нише, до которого отсюда, как говорится, рукой подать, и жители которого с незапамятных времён – славяне? Жаль, конечно, что нечем больше доказать единоплеменства его с нами. Не прибегнуть ли к новому историческому приёму? Диоклетиан был далматинец. Вытащенный им за собою на престол Максимиан – земляк его. Усыновлённый первым Галерий был из тех же мест. Усыновлённый вторым Констанций рождает сына всё там же поблизости... Видно, что всё это были свои люди, единоплеменники, новые в истории, одевшиеся в римские имена как в павлиньи перья, на земле же отцов своих – простые пастухи и огородники... Кем им быть, как не славянами?.. Конкурировать с последними в этом отношении могут только Влахи, т.е. Даки старого времени. Но кто собственно были сами эти конкуренты, ещё остаётся вопросом в истории. Пусть будет, как было! Повторим мы своё прежнее заключение, и перейдём из района самовара в район солнца. Всем нам понравилось уединённое положение хана. На задах его протекает речка. Есть и деревья тут же по близости с густою тенью. Немыслимо было не воспользоваться такою благодатью. Явился на утешение нам и гость, игумен соседнего Крушеватского монастыря, Бог весть как проведавший о приезде таких именитых путешественников. Он взял на себя заботу угостить нас обедом. В ожидании сего, мы разостлали коврик в наиболее привольном месте, и предались пресловутому dolce far niente. Занимаемая нами местность находилась на склоне горы, которой верха нельзя было видеть и которая, судя по карте Киперта, должна быть всё та же Нидже. Выдающиеся справа и слева скаты её заслоняли от нас две трети горизонта. Открытый вид мы имели только к юго-западу, куда спускалась, тоже скрывающаяся для глаз, долина, замыкаемая высоким и длинным горным хребтом, унизанным почти на всём протяжении своём с юга на север массами снега, ещё не успевшего стаять, и поднимающимся в небо шестью пирамидальными пиками. Третий из них – от юга к северу – представляется самым высоким и вместе с тем наиболее отдалённым от глаза. Весь этот хребет Буе́ зовёт, со слов местных жителей, Соагора (Soagora), каковое чтение у Киперта исправнее переходит в Suha gora, т.е. Суха гора, как нам действительно и назвал панораму горную Игумен189. Но очень может быть, что кроме собственно «Сухой» горы мы видели ещё несколько других вместе, сливающихся оптически. На карте таких поименовано три: Ана́ргири (Безсребренники), Че́чево и Опрана. А Австрийская карта прибавляет ещё четвертую: Sarkina. Где же надобно искать Битоля? Спросил я. – Бывалец мне указал на самый край хребта к северу, где тоже выглядывала над поверхностью земли плоская седловидная верхушка горы. – Гора та зовётся: Перестери (голубь), и есть самая высокая из окрестных гор. Кажется она приниженною оттого, что стоит дальше всех этих. При подошве её и лежит столица этого края Битолия, или, если вам угодно, Битоль, а если ещё иначе угодно, то и Монастырь. – Поблагодарив отличного географа за такие обстоятельные сведения, я, коротая время, занялся рисованием представлявшегося глазам вида, который весьма справедливо можно было назвать тоже «сухим» с прибавкою ещё «мёрзлого».
В самый полдень предложена была пустынная трапеза с вином и елеем по заповеди о празднике и со многими другими «утешениями» по заповеди, конечно, о дорожном положении нашем, пользующемся, как известно из соборных правил, значительными льготами. Подкрепившись, мы немедленно собрались в дальнейший путь. По Итинереру горный переезд от Водены до Битоля требует 15-ти часов времени. Мы ехали вчера в течение 7-ми часов. Следовательно, оставалось нам сделать ещё 8 часов. Но по уверению компании достаточно было для переезда туда 5-ти часов. Я очень хорошо понимал, в чём заключается секрет этой разницы и мало склонен был радоваться такому нежданному сокращению пути. Но ему и без меня суждено было растянуться чуть не на полчаса лишние. Случай, для читателя нисколько не интересный, но для меня не без поучительного смысла, несколько отуманил ясный фон нашего пребывания в Вошпоранах. Это был уже третий в дороге приём известной на Святой Руси и превоспетой блажи. Во времена Гостомыслов, и притом в какой-нибудь серодеревянной деревушке, откуда не увидишь никаких ни гор, ни городов с классическими и еллинизирующими именами, не услышишь ни консульских районов, ни дипломатических оборотов, ни округлённых французских фраз, могло бы ещё быть место проявлению русского «ураса», как называют в Сибири детский каприз. Но здесь, в исторической земле Филиппа и Александра, по которой столько ходило и ездило настоящих консулов Римских миродержавных, и столько потом императоров, кралей, герцогов, маркизов... людей всё положительных, сдержанных, дозволить себе раскапризиться и заставлять других ухаживать за собою, как за младенцем, по поводу ничтожнейшего; «не так», – это в пору хоть бы и Иродоту занести на страницы своих муз, как редкостный курьёз. Но, кое-как дело уладилось. Садимся на своих «червеных» лошадей и едем. Кавалькада имеет хотя и бодрый, но несколько сконфуженный вид. Это впрочем, не мешает ни послужившему камнем соблазна иноходцу выступать настоящим буцефалом, ни ветрам нестись по-прежнему, наравне с преследующими нас мухами, неугомонным роем. И те, и другие отстали от нас, когда началось по-прежнему галопирование компаньонов по развёртывавшейся перед нами всё более и более необглядной равнине древней Пелагонии, образующей центральную котловину или нагорную площадь всей европейской Турции. Солнце печёт и выдавливает из тела всю, внесённую в него реагентами утра, влагу. Открылась жажда, перед которой всё другое отступило на задний план. Показавшееся вдали селение приветствовано было оттого, как набивший литературную оскому «оазис в пустыне». Но добрые полчаса прошли, пока мы добрались до зеленеющей площадки и спешились, по осторонь от деревни, у одного колодца, над которым возвышался искривлённый столб с типическим журавлём. Первобытный этот способ пользоваться существеннейшим даром матери-земли, памятный мне чуть не со дня рождения, я вынужден окончательно признать произведением не славянской мысли. Образчики его встречаются и в Египте, и в Китае, и в западной Европе, следовательно, на пространстве всего старого света. Не смотря на то, я встретил его, как старого товарища своего, чуть не говорившего мне: завтра пойдём по ягоды! Не много со страхом, немного по секрету произносится восторгающее приглашение... Иду, иду, готов был я отвечать на искусительный призыв, но уж не то впереди меня лежит родное поле, да и приятель, как видно, пошутил, сказал, да и исчез! Журавль уже другим жаждущим кивает своею послушною головою, а мы действительно выезжаем в широкое поле, на котором придётся, вероятно, немало пособирать ягодок... археологических. Великолепно встала на западном горизонте тёмная масса горы «Голубки». Можно засмотреться, глядя на неё, действительно напоминающую своею вершиною птицу со спущенными вниз крыльями. Дымная полосочка у подножия её указывает место города, к которому мы направляемся. Повеяло чем-то родным и как бы несколько жалостным. Это уже вполне славянская земля. Тут я увижу наших прапра... дедов со всеми их племенными особенностями, нестесняемыми ни греческою цивилизациею, ни турецкою авилизациею, ни европеизмом, ни руссизмом, – чистых славян славянской Грамматики и Св. Писания, доселе более или менее казавшихся мне чем-то книжным и искусственным, чуть не отвлечением. Такие скученные славянские селитвы, как Бытул, Прилеп, Штип, Скоп и пр. могут представить наблюдателю самые чистые образчики Балканского славянства, и дать верное понятие о том, что у нас – русских – есть общеславянского, что своего местного, что финно-татарского, польско-немецкого и т.д. Жатва многа, но не та, которая характеризуется у нас именем страды. От неё веет не страданием, а удовольствием. Если, увидав после 20 летней примерно разлуки родные места, не знаешь предела расточаемым каждому знакомому предмету ласкам, не насмотришься и не нарадуешься на них, то что сказать о впечатлениях, которые должны вызывать в душе эти, тоже как бы родные нам, места, оставленные историею нашею за 500 и 1000 лет? Впрочем, и для страдания, вероятно, останется место при том.
Спустились мы совсем с горы, и простились на время с наскучившим камнем. Отселе впереди нас до самых противостоящих гор лежал один непрерывный зелёный луг. Если до сих мест ещё что-нибудь сдерживало наезднический пыл моих спутников, то теперь, когда они увидели себя на полной шири и глади, уже ничто не могло остановить их стремления. Заметив, что всё было готово en avant, я заявил протест во имя своей раны против такого «весьма ненужного» удальства почтенной компании. Но оказалось, что не простительно трусить по такой отличной дороге, – тем более что это был уже последний переезд наш... По кратком совещании, решено было предоставить мне с Суруджи и Търпком ехать, как нам заблагорассудится, и дать свободу остальным распорядиться своею особою по усмотрению каждого. Сказано – сделано. Прощаемся. – Доброй ночи! Слышится издали доносящийся, иронирующий голос. – Ладно! За то бока́ будут целы, говорил я себе в утешении. И надобно признаться, я был весьма рад, что остался один – сам себе хозяин. Конь мой, можно было ожидать, под стать седоку, со всем отдастся покою. Между тем вышло напротив. Оставшись один без привычных товарищей, он стал неспокоен и прибавил шагу сам от себя, как бы догоняя других. Чёрная земля и зеленевшие по обеим сторонам дороги посевы привлекали и ласкали взор, не говоря уже о множестве цветов, составлявших как бы разукрашенную рамку дороги. Невдалеке видится деревня. – Търпче! Како се мове тое-то се́ло-то? Спрашиваю я старого гонца, стараясь говорить сколько можно не по-русски, и думая, что тем самым ближе подхожу к Болгарскому наречию. Почтарь, весь занятый бережением наложенных под него в виде копны наших саквояжей и других путевых принадлежностей, или не слышит меня или не понимает, только не удостаивает ответом. Через минуту я обращаюсь к нему с тем же вопросом по-гречески. Седая голова поворотила ко мне своё ухо, обмотанное длинною прядью волос, и что-то булькнула про себя, похожее на: крестьян, т.е. (гадательно) хотела сказать, что село-то христианское, а не магометанское. А может быть то было и собственное имя в роде: Клештина, поставленное у Киперта на средине между Филуриной и Битолем. Отпала охота у меня расспрашивать. Да и что толку в именах и прозваниях, произносимых на 5 на 6 ладов? Это не то, что наши: Иваново, Иванково, Ивановское.., которые сразу поймёшь и сумеешь записать верно. А то, не могло ли быть, что вместо Клештина сказано было придорожным чабаном записывавшему туристу: Крещена, Лещина, Трещина и т.д.? Ещё посёлок при самой дороге с очепным колодцем, из которого мы напились воды, не слезая с коня, прямо из бадьи. Было уже 4 часа. Перед глазами бессменно торчала гора Перистери, по мере приближения нашего к ней всё возраставшая в своих громадных размерах. В дымной ленте у подошвы её различались уже зелень деревьев и белизна домов. Ещё один придорожный хан или конак (по-нашему: терем, что ли). Чуть мы с Търпком поравнялись с ним, раздалось: «стой! Кошелёк или жизнь»!.. Дорогу загородила воинственная фигура со стаканом доброго вина в руке, а из-за хана раздавались весёлые рукоплескания. – Однако, вы ползёте, нечего сказать! Мы уже целый час (!) ждём тут вас! Послышалось оттуда же. – Да ведь сказано, что торопиться некуда, заметил я. – Вот нашли! То́ сказано для утра, а теперь вечер?... – Резонно. Однако же компания не праздно провела время, дожидаясь меня. По возможности она принарядилась и поочистилась, чтобы с надлежащим «шиком» явиться перед взоры провинциалов. Примеру других последовал и я, хотя и не представлялось в том никакой надобности. Осведомившись на часах, что момент для торжественного въезда в Битоль был как раз подходящий, кавалькада наша двинулась вперёд, занявши всю ширину дороги. Отдохнувшие кони выступали бодро и крепко. Белые и зелёные вуали на шляпах грациозно играли с ветром, и курбаши похлопывали чуть не гармонически. Не прошло и четверти часа, как на встречу нам с той стороны примчался на лихом коне, как роза свежий и цветущий, юноша с двумя ассистентами. Это был секретарь нашего консульства в Битоле. Ассистенты – консульские кавасы. Последовали приветствия и ознакомления. Затем и ещё несколько всадников подлетело из города и пристало к нашему кортежу. Ещё далее, у малой и невзрачной церкви (Св. Христофора) поджидала нас уже целая кучка народа. Это были русские подданные, русские protegés, приверженцы, торговцы и простые зеваки. Приветствовав всех их, компания наша ещё раз вспомнила, что благо ноги у неё не свои, и пустилась по ровной и укатанной дороге такою рысью, от которой зарябило в глазах, и без того ослепляемых низкими и прямыми лучами солнца. Не умерили мы своего пыла и въехавши в город. Стук и гул от копыт 25–30 лошадей, нёсшихся по мостовой, беготня кидавшихся туда-сюда в виду опасности пешеходов, и крик ребятишек, бежавших по сторонам в перегонку, придали столько эффекта нашему въезду в город, что, я думаю, рассказов о нём станет добрым провинциалам на целую неделю. После десятка поворотов направо и налево, мы оперлись в ворота довольно большого двухэтажного дома с длинным рядом окон, балконами, трубами и высокою мачтою, поставленною на самом видном месте, на коей развевался русский трёхполосный флаг с Андреевским крестом в углу. Оставалось перекреститься, глядя на спасительное знамение и благодаря Бога за то, что все кости дошли до предельного пункта поездки нашей целы. Чего ж ещё? И слава Богу! Было около 6 часов вечера, когда мы водворились под русским кровом двух хозяев, бывшего и будущего.
Битоль. 22 Мая. Суббота.
В стране, где всё было множество раз наслоено, взрыто и перерыто, и всё перековеркано справа налево, спереду на зад, и сверху вниз, не диво, если встретишь город с именем, которого не сумеешь передать письмом. Но, и передавши, назвавши его напр. Би́толи, не знаешь, в каком роде и числе употреблять это слово и как склонять его. Есть основание писать и Битоль и Битоли и Битолия (Bitolia, Bitoglia, Betolia...), последнее с женским, по-видимому, окончанием, но по исправленному греческому чтению дающее видеть в себе средний род множ. числа: τὰ Μπιτώλια. Несмотря, однако же, на таковую определённость рода и числа, слово это, очевидно, не греческого происхождения и случайно приняло грамматические формы греческого языка. Нынешние хозяева местности с успехом объясняют название своей столицы из собственного языка. В старину незапамятную было тут, говорят, до 70 обителей. И так множ. число: обители, и есть собственное имя Битоля. Потеря начальной гласной о не должна служить возражением. Что дело тут идёт об обители, свидетельством сему служит теперешнее турецкое имя города: Толи-Манастир, или просто: Манастир, т.е. монастырь, говоря по-нашему. Но есть и ещё предположение, устраняющее филологию «обители». Битольская гора, как мы уже упоминали, зовётся Перистери, т.е. голубь. А голубь по-албански: битойя, слово до того созвучное имени города, что невольно наводит на мысль о филологическом родстве с ним. Славяне наши, перенявши имя от албанцев, сделали из него по-своему Битолию. Но, насколько славяне сами высказались в этом деле, видно, что они и не слыхали об албанском голубе. По Гильфердингу, Болгарское имя города: Бутель190, подтверждаемое древним актом, упоминающим о Бу (ѫ ?) тельском пути... Как бы недостаточно всей этой разноголосицы, на Болгарской карте Балканского полуострова город назван ещё: Бытула... 70 обителей – конечно, сказка. Но если их было и 7 только поблизости одна к другой, то всё же это обстоятельство могло иметь значение при наречении имени города, по всему видно – не очень древнего. Во всяком случае, мы возвращаемся к официальному теперь имени места (Монастир), как решительному свидетельству в пользу славянского, а не албанского толкования слова: Битоль. Что же касается самих славянских вариаций 6у и 6ы, ту и те, то нечего смущаться этим, имея в виду, что даже такие имена, всему свету известные, как напр. Болгаре произносится самими болгарами то так, то иначе – слышится и Българе и Бугари. (Только уж не Болгары, – равносильное по неправильности таковому же: цыганы, татары и проч.). Признав, таким образом, за городом славянское происхождение, мы уже знали, куда нам ориентироваться при наших – тех или других – исследованиях и наблюдениях окружающего нас мира. При нашем пробуждении нас приветствовало прекрасное майское утро, майское – по календарю, а июльское по зною. Нельзя передать словами того чувства довольства, которое переполняло душу. Уже одна мысль, что сегодня не нужно ехать и можно целый день сидеть на одном месте, не заботясь ни о чём и занимаясь чем угодно, заставляла восторгаться, а тут ещё новость предметов, разнеживающий комфорт, дружеское весёлое общество, главнее же всего – «причина всех причин» – доброе здоровье, сказывали себя, все вместе именно тем, что признано выражать собою слово: благодать. Один из балконов большой и светлой залы дома выходит в садик на юг лицом. Давно уже я сижу на нём, впившись взором в далёкие верхи заоблачной Перистери, весь охваченный наплывом дум. Опять и весело и грустно, – чего-то всё как будто жаль. Не дашь себе отчёта, чего именно, жаль прошедшего, конечно. За известным рубежом лет, мне кажется, ко всему у человека начинает примешиваться тайная скорбь о том, чего уж нет, и что было и радовало, если не нас, то других, когда-то. Но тут малая, так сказать – личная, туга души разводится уже в большой исторической жалобе, как капля уксуса в чаше воды. Тужишь не о том или другом, а вообще о прошедшем. Сидел же тут где-нибудь, подобно мне, за 800 лет перед этим, неугомонный воитель Краль Самуил в своём дворце, и так же смотрел на выспреннюю голубицу, закрывавшую от него широкий горизонт. «Моя она, говорит он себе, и что́ за нею, тоже моё. И оттуда и отсюда – все моё!» Да! Только вон то, что засюда и затуда, не твоё, удалый (но не добрый) молодец! Ты убил отца, убил братьев, чтобы владеть горами и долами, но не подумал, что сам ты чуть держишься на чём-то призрачном, и что достаточно слабого дуновения оттуда, чтобы ты полетел со всем твоим царством отсюда! А за 800 лет до Самуила, также может быть проездом в Дакию, сидел тут на своём походном кресле и рассуждал таким же образом, миродержавный Траян император. А до него за 800 лет напевал себе ту же песню какой-нибудь Аминта царь... и т.д. Вот этого-то фатального чередования великих замыслов малых мыслителей и жаль! Битоль хотя не из бойких исторических мест, но это естественнейший перекрёсток всех завоевательных движений во всех направлениях из греко-римской эпохи. И тому, кто ищет в живом отжившего, прежде всего, конечно, приходят на мысль шумевшие когда-то своими именами и делами, кра́ли, imperatores и βασιλεῖς.
Когда я спросил первого проснувшегося (часов около 9-ти) из наших, с чего мне начать своё обозрение города, мне внушительно отвечали: с отдыха. Хороший совет. Кстати сегодня суббота. А завтра – праздников праздник, Троица, послезавтра же Духов день – земля именинница, по святцам народной фантазии! Перспектива лени блестящая. Придётся за дни эти не только перечитать от доски до доски, но и выучить наизусть всё, что хранится в чемоданах наших написанного о Битоле. Написано же там, что это город большой, новый, хорошо выстроенный, торговый, разноплеменный, разноверный... Сравнительно и относительно говоря, всё это – правда. Во многом можно убедиться, просто сидя под окном и выглядывая на улицу. Остальному можно поверить на слово, напр. – тому, что лет за 30 перед сим на месте города было только сельцо (bourgade). Но, если так, то значит, нечего надеяться тут на какую-нибудь археологическую поживу. Статистика мало занимает меня и, если бы «La Turqui contemporaine» не завралась по обычаю самым грубым патриотским (не: патриотическим) образом, я бы и совсем не коснулся её. Но когда бравая книжка вздумала уверять, что в Битоле 45 000 жителей, из коих 25 000 магометам, 17 000 греков, 2½ тысячи жидов и пр., то и мне как будто кстати, для проверки этих круглых чисел, сопоставить с ними более подробные данные, добытые (правда, давно уже) доктором Миллером. По нему, в городе было тогда (лет за 25 перед нами) 17 000 магометан (из них 8 000 албанцев, около 6 000 славян и 2 400 турков – в большинстве солдат) и 12 500 христиан православных, в числе их 9 000 болгар и 3 500 греков. А когда я сегодня же порадовался – на греческом языке – перед одним посетителем, считая его за грека, что в такой албанщине (манёвр...), всё же, по свидетельству вот этой книги, насчитывается 3 500 православных греков, то он сказал, к немалому смущению моему, что и та сотня их, т.е. настоящих райя, а не подданных греческого королевства, суть огреченные болгаре!... Sic transit Gloria mundi, подумал я, и пожалел от сердца без вести пропавших 16 900, насчитанных патриотом, «греков». Думаю, что племенная вражда подсказывает и те, и другие крайние цифры. Когда-нибудь настанет же время, что тёмное дело будет приведено в ясность. В виде предисловия к этому делу заметим, что между греками и болгарами тут существует ещё промежуточное звено – Валахи или определённее – Куцо-влахи, не принадлежащие ни той, ни другой стороне, но пристающие (может быть временно) к той, где больше интеллигенции и силы, т.е. греческой. С ними-то, вероятно, наберётся не одна тысяча греков в Битоле. С падением жара дневного, мы с сонумерантом прошлись по западной части города, по Драгорскому «проспекту», как выразился мой спутник, знакомый с проспектами гораздо большей славы и известности... Драгор – Битольская речка, тут же по близости в горах имеющая свои истоки, и ещё ближе, по другую сторону города, впадающая в другую, более значительную, речку Кара-су, иначе Църна-ре́ка, которую мы уже переезжали вчера, не нашедши в ней ничего, похожего на излюбленную местным населением краску. Полагают, что в древности она именовалась Эригон. Впечатление, вынесенное из прогулки, было довольно дюжинное. Имели в виду зайти в церковь на вечерню, но не отыскали её.
Βυτέλιον. 23 Мая. Воскресение.
Назовём место пребывания нашего иноязычным именем в память преславного, неимоверного и навеки необъяснимого события – глаголания иными языки людей, никуда не выезжавших из своего родного места и не учившихся ничему чужому. Первенствовал, конечно, между столькими языками Востока, в пречудный момент духовещания, наиболее пригодный для Евангельского дела, язык греческий. Отдадим и мы ему первое место. Затем, в заголовке следует число: 23-е Мая, горестно-памятное мне по тяжкому и жестокому лишению. Такое же было и тогда, как сегодня, радостное утро, а между тем истинная-то радость роковым шагом шла навстречу ангелу смерти! И ушла, не успев даже сказать дружеское: прости! Недугующему сердцу казалось тогда, что уже всему конец. А между тем, вот уже 20 и более раз возвращается горестный день, всё менее и менее тревожа дух. Год от года сглаживается с него, как с фотограммы, и яркость краски, и отчётливость изображения. Отчего это? Оттого, что химический состав, отпечатлевший их на себе, целодневно стоит на солнце... Хоть бы такой напр. яркий луч, как встреча памятного дня в глубине Македонии, о которой и помыслить не являлось случая в то давнее время, разве не в состоянии сгладить какую бы то ни было борозду на ниве жизни? И благо, что есть ещё реактивы такие, разъедающие тугу сердечную! По мысли св. церкви, праздник Пятидесятницы есть не только день радости о Дусе Святе, но и день вселенской молитвы о усопших. Кстати, значит, совпадение памяти единичного упокоения с мольбою о всеобщем покое. В 6 часов мы отправились, в сопровождении консульского каваса, в соборную церковь на Божественную службу. Ещё застали бо́льшую часть утрени. Служение правилось хорошо знакомым мне порядком. Священнодействовал один из чередных священников. Архиерея нет в городе. Он заседает на этот год в Константинопольском Синоде. Вся обстановка службы почему-то казалась мне совсем не праздничною. Слишком всё просто, не прикрашено, не прилажено, не приглажено... Нечто странное и как бы нескладное виделось мне кроме того во всех почти действиях и даже в голове служащего. За утренней непосредственно следовала литургия, а за литургией вечерня, на которую облачились все местные священники, числом 10. И при таком количестве иереев не было ни одного диакона. Диакон вообще редкость на Востоке. Большею частью, этих низших сановников церковных можно видеть только при архиерейских кафедрах, обыкновенно весьма молодых, безбрачных, с бо́льшим против других образованием, кандидатов не на священство, а на архиерейство. Они составляют неотлучную свиту владык восточных, и здешние естественно потому находятся теперь при своём митрополите в столице. Предводительствовал на вечерни собором священников Протосинкелл Владычний, которого нам назвали славянским именем: о. Стойчо. Разумеется, всё богослужение совершалось на греческом языке. Огромная пятипрестольная церковь была переполнена народом. По окончании службы, мы всю её обошли. Несмотря на свою обширность, она темна, низка и очень невзрачна. Построена в недавнее время бывшим митрополитом Пелагонийским Григорием, а потом патриархом Вселенским (проживающим теперь в Константинополе на покое), и посвящена имени Св. Великомученика Димитрия. Редкость, не встречаемая на Востоке, в ней есть два престола (Преображения и Св. Григория Богослова), устроенные на хорах, в отделении, исключительно предоставленном женщинам, по обычаю Востока. С обязательным вниманием показывал нам всё сам о. Протосинкелл, т.е. тот же «папа Стойчо» – по народной мове, а на деловом языке – архимандрит Синесий. «Славное лицо у него» – заметил мой компаньон. А я ещё за обедней любовался им, особенно когда приходилось видеть его в профиль. Что-то томящее чувствовалось при этом в груди моей. Припоминалось не ясно что-то очень далёкое и очень близкое душе... Да, это его облик, сказал, наконец, я сам себе, – его, кого не знать какие сокровища отдал бы, чтобы ещё раз увидеть... Только выражение глаз портило чарующее впечатление. Нечто не прямое и бегучее замечалось в глубине их. Я пояснял его себе тем, что почтенный человек, как видно чистый славянин, по служебному положению своему поставлен в необходимость действовать между своими в пользу чужих, и долговременною угодливостью предержащей власти исказил прирождённую прямоту и тезоименную ему стойкость души. Из его же рассказов мы узнали, что, хотя в городе 11 приходов, но церковь одна – эта самая. На наше дивление подобному обстоятельству и желание узнать причину его, рассказчик только, тоже как бы вопросительно, посмотрел на нас и пожал плечами, что не посвящённый в тайны местной администрации мог переводить очень просто: что тут спрашивать? Разве вы не знаете, что над нами турок? Между тем смысл умолченного ответа был другой. Нам объяснили его уже дома. Митрополит противится всякой мысли о постройке новой церкви, боясь, чтобы строители не подняли при этом вопроса о славянском богослужении в новой церкви, по примеру Филиппополя, Адрианополя и др. мест. Да ведь мы слышали, что преосвященный-то здешний из Болгар, заметили мы комментатору. Как же – Попович – по фамилии, чего вам ещё больше сего? И не только так зовётся, а ещё при всяком удобном случае старается напоминать всем о том. А все-таки – грекоман от подошвы до кончика волос! – Так нам описали преосвященнейшего Венедикта Пелагонийского. Итак, 9 тысяч, пусть – половина этого, верующих и празднующих слушали сегодня божественную службу на неведомом им языке! Не посмеяние ли это воспоминаемому сегодня церковью, духодвижимому вещанию Апостолов на разных языках? Добро соль, сказал Господь, аще же соль обуят, чем осолится? Где же, не скажу – совесть, где ум у людей, заправляющих делом веры на Востоке? Ужели, в самом деле, надобно согласиться с отзывом памятного мне, весьма почтенного, Восточного архимандрита (из славян): не ищите в них (греках) ума. Они хитры, но не умны!.. Печальное положение филеллина, поставленного в необходимость осуждать то, что уважаешь! А тут имеешь дело ещё не с одним эллинством. Тут орудует с эллинской мономанией некто – Попович! Праздничное настроение духа немного испортилось от этих соображений, от этого невольного зазора чужих дел. Ради рассеяния, двукратно в течение дня делали прогулку по городу. Праздник мало заметен, ибо преобладающее население все-таки магометанское. Высмотрели восточную часть города и южную окраину, причём побывали и под дождём. Набежавшую тучу разорвала и рассеяла масса горы Перистери. В знак признательности я срисовал её с садового балкона. Снега на ней, говорят, ещё очень много, хотя снизу почти совсем не видно. Чуть ли доселе ещё не покрыто льдом целое озеро (правдоподобнее – лужа), лежащее там на самой вершине в междурамиях нашей голубицы.
Βιτώλια. 24 Мая. Понедельник.
Спешу оговориться. Ревностный владыка Витолийский (ἁ. Βιτωλίων) не совсем неправ в своих ультрамонтанских стремлениях. Сейчас мы возвратились из церкви Св. Недели... Довольно услышать подобное название храма Божия в Битоле, чтобы оправдать опасения гг. Пападаки, Пападопуло... и пр., в переводе Поповичей, за могущие выйти от размножения церквей в их резиденции последствия. Вчера мы уже упомянули, что в Битоле одна всего на́все православная церковь. Гуляя же вчера же по городу, узнали, что есть ещё другая новая церковь за городом на кладбище. Из расспросов оказалось следующее: случилось, что несколько прихожан городских, по усердию ли к месту, отмеченному каким-нибудь священным преданием, или просто из желания придать более святости месту общего покоя верующих, выпросили у владыки, и через него у правительства, позволение построить на народном кладбище небольшую церковь во имя Св. Кириакии. Позволение было дано без всяких оговорок. Церковь выстроена и освящена, и поставлена в каноническую зависимость от городской церкви. Но чуть всё это было сделано, как новый храм огласили в народе именем не Кириакии, а Недели (Κυριακὴ = воскресный день, по-славянски: неделя)! Мало того. Патриоты соглядатаи не замедлили донести владыке, что служивший в «Св. Неделе», священник имел при себе русский служебник и осмелился делать славянские возглашения... Не прошло нескольких дней после случая, местный паша уведомлен был о каком-то заговоре между жителями в городе и о покушении такого-то священника на жизнь митрополита... Злоумышленник немедленно был схвачен и засажен в тюрьму. Возглашать по-славянски в св. Кириакии было больше некому, и русская интрига пресечена была в самом корне. Вот так По́пович! К счастью, у паши того времени были и десница, и шуйца, из коих ни та, ни другая не ведала, что творила (т.е. брала) в известное время товарка её... Оттого вскоре, по расследовании дела, оказалось, что ни заговора никакого не было в городе, ни драгоценным дням владычним ничто не угрожало. Таким образом, через полтора месяца тюремного заключения, неосторожный о. Константин выпущен был на свободу, со строжайшим запрещением служить по русским книгам... Оттого мы и слушали сегодня в Св. Неделе совершенно греческое богослужение. Несмотря на праздничный день, молящихся в церкви было весьма мало. Да и кто, в самом деле, пойдёт слушать за город то́, что ему и в городе надоело?
Возвращаясь домой, мы напали на панаир191 или тържище. Ряды возов со всяким продуктом деревенским напомнили мне нашу Русь с её мелкими «ярмонками» сельских храмовых праздников, или скорее повседневными базарами больших городов. Преимущественно же припоминалось Малороссия. Речь слышалась, конечно, большею частью славянская, но невразумительная для меня. Ей вторило албанское слово. Греческий же язык слышался только по местным лавкам. Затем должны были слышаться ещё турки, валахи, жиды, цыгане – каждый со своим говором… Настоящий Вавилон! Долго бы мы бродили между своими «купно родными», наблюдая их речь облик, статуру, фигуру, наряд, обряд, суждение и мировоззрение, если бы сами не сделались в свою очередь предметом наблюдения. Мне пришла на мысль неудачная попытка с русским служебником. Чего доброго? Какой-нибудь патриот-искариот может быть уж давно, смотря на нас из тёмной лавчонки, строчит донос паше о новой русской интриге, в которую вмешает и Иована и Стояна, рассказывающих нам у своей колы (телеги) про свои торговые обороты со всем простосердечием, без малейшей задней или передней мысли... О простота, для которой текущее дело обращается в дело жизни, замыкающее собою весь его мыслительный горизонт! Торговать-то мы, пожалуй, и умеем, «добрые люди» единоплеменники, истинные ludi в глазах латинствующей расы, т.е. всей Европы. Играет она с нами, играем мы перед нею свою вечную потешающую роль, и – больше ничего! Чтобы из нас – добрых людей – сделать «хороший народ», потребовались на Дунае Татаре, на Волхове Скандинавы, ещё где-то Гунны, где-нибудь конечно ещё Немцы, пожалуй – Армяне192, и даже жиды193! Сами-то мы не догадались бы, по крайней мере, не сумели бы, сплотиться в одно целое и крепкое государственное тело! Ярмарками-то своими мы прославились на весь свет (хотя и не сумели до сих пор подыскать для них своего славянского имени!), но ужели только одна эта мизерная слава и предоставлена судьбою Славянам? Ужели честнее, ценнее, славнее торга ничего и нет для великого славянского племени? Мне кажется, что, помимо ведома нашего, язык наш выработал и отпечатлел в себе общеславянский взгляд на торг, как на нечто nec plus ultrs человеческого достоинства. Достаточно припомнить образование слов наших: торжество, торжественный, чтобы убедиться в том. Словоупотребление предательски, так сказать, обнаруживает солидарность всякого у нас торжества, всего торжественного в нашей жизни, службе и даже богослужении194 с... торгом! Не замечательно ли это? Не смею отрицать, что торг – хорошая вещь. Но́ сами же мы резонируем: хорошего понемногу! Из страсти к торгу выходит тароватость (торговатость?), а за тароватостию тут и есть вороватость, слава которой, я думаю, уже давно, и довольно крепко, пристала некоторым Славянам.
Продолжая путь, мы посетили почтеннейшего о. Протосинкелла, отдавая ему вчерашний визит его нам. Тоже впечатление, что и вчера, мы вынесли от свидания с ним и на этот раз. «Крепко закупорен», сказал мне спутник сквозь зубы. Человек не для торга, подумал я сам с собою, хотя и славянин, скорее он для панаира, т.е. для чего-то с неуловимым понятием, не определённого и неясного, не то церковно-священного, не то житейски-разгульного. Сдержанность его могла бы вывести из терпения собеседников, но люди – мы, ко всему присмотревшиеся. – Итак, ужели в отсутствие владыки управляет, как говорят, епархиею его родственник, человек светский, и к тому же коммерсант? Спросили мы о. Стойчо таким тоном, который вызывал его на всю откровенность накипевшего озлобления. – Нет, сказал он с невозмутимым криводушием, управляет делами епархиальными комиссия из трёх членов, а г. Димитрий более смотрит за экономией владычного дома. – А обращения Св. Кириакии в Св. Неделю он же досмотрелся? – спросил наш неумолимый инквизитор. Хозяин тонко улыбнулся на этот новый вопрос и повторил как бы про себя: Жестоко ти есть противу рожну прати... На какой стороне усматривал при сем почтенный греко-славянин неодолимые «рожны», осталось ему одному ведомо. Всю дорогу потом раздавалась в уши мои самая искренняя брань русского ревнителя русских порядков таковым же порядкам Битольской кафедры. «Слыханное ли дело: какой-нибудь шалопай врака́с195 и бака́лис управляет церковью! Я бы его... он бы у меня!.. Подобный поток укоров и угроз лился до самой квартиры нашей. Вышло же так, что чуть мы пришли домой и расположились около самовара, доложено было, что новому г. консулу желает представиться г. Димитраки, родственник преосвященнейшего митрополита... тот самый, который не сходил с языка у нас. И вместо ожидаемого «врака́са», явился молодой, по-европейски одетый, с приличными манерами человек, не много заискивающий – правда, но вместе с тем и видимо сознающий своё влаственное положение в свете. По его словам, он заведывает исключительно хозяйством отсутствующего митрополита, и по делам церковным, соприкасающимся с сим хозяйством, находится в полном распоряжении о. Протосинкелла, управляющего кафедрою совместно с Архидиаконом престола... Всё как есть в порядке и согласно с церковными правилами. Нет повода негодовать тут на что бы то ни было никакому консулу, всего менее – Русскому. Будь на месте Димитраки какой-нибудь Дмитрович, Димитриевский, Димитриенко, всё равно, он шёл бы тою же дорогою. Дело тут в попах-Стойчах и По́повичах, у первых нет духа, у вторых – души.
Памятно мне одно весьма практическое правило домашней администрации одного отца семейства, когда кто-нибудь из домочадцев бывал у него не в духе, он обыкновенно говаривал: поди, голубчик, поешь чего-нибудь. Напившись чаю и вообще «подкрепившись», мы нашли себя в лучшем расположении духа. Торжественный поезд Н. Ф. Якубовского – нашего нового Битольского Консула – к Генерал-губернатору (Вали) области с первым визитом, отвлекавший мысль в высшую сферу наблюдений, – Европейско-Азиатскую, христиано-магометанскую, окончательно парализировал воздействие на сердце эллино-славянских дрязг. А маленькое привходящее обстоятельство даже наклонило сердечные весы на ту сторону, где за минуту перед тем рисовались одни несимпатичные образы фанатиков племенства, торгашничества, педантства и антихристианского чванства. Мне сказали, что какой-то мальчик желает представиться нам. За пособием, конечно, мелькнуло у меня в голове. Эта старая песня поётся везде, куда только приходилось мне приезжать с русским именем на Востоке. Мальчик рекомендуется сыном одного из обывателей города, греков, хорошо известного консульству. Можно было дать ему на вид лет 12. Приятное умное лицо, незастенчивые, но скромные манеры, ситцевый халатик и красный фес на голове, вот всё, что с первого раза бросилось в глаза. Без малейшего смущения, с доверчивостью и как бы близостью давнишнего знакомого, он начал рассказывать, что имел случай видеть несколько икон русского письма, которые ему очень понравились, что желал бы и сам научиться писать иконы и именно, как пишут их русские, что может быть мы знаем, как это сделать, и возьмёмся помочь ему. В доказательство своей охоты к занятию живописью, он достал из-за пазухи несколько образчиков своего рисования, и именно копию каких-то гравюр русских вроде трофеев, когда-то изображавшихся у нас под портретами полководцев, которую он сам навёл красками по своему соображению, как оказалось, довольно верному. Всё это он говорил и делал так просто и сердечно и с таким оттенком свойства, чуть не родства, что просто пленил нас. Я повёл его на балкон и показал вчерашний свой «набросок» горы Перистери. Сличая рисунок с самым предметом, ребёнок трепетал от удовольствия, и на глазах его чуть не блестели слезы. Видно, что в душе есть глубокая артистическая бороздка. Я посадил его тут же с бумагой и карандашом, и сказал, чтобы он изображал всё, что видит перед собою от прямых линий дымовой трубы до бесформенных очертаний дерева, поощряя его при всякой удачной черте рисунка. Восторгам бедняка конца не было. Мне же доставило это несколько минут настоящего, не выдавленного из души, умиления. Славная нация! Повторял я мысленно давно и стократно уже произнесённый отзыв. Сиди ты на своём месте, будь ты справедлива и к другим также как к себе, и сознай ты своё прямое назначение в истории, тебе все помогут, и скорее всех мы, обзываемые тобою эллино-ненавистниками. К сожалению, я не мог ничего обещать юному искателю художественного образования. Куда, как, чем и с чем отправить его? Я ограничил своё заявление участия в нём советом отправиться ему в Афины в тамошнюю Политехническую школу, где и преподавание даровое и содержание дешёвое и климат поспособнее и язык тот же самый и люди – одного поля ягода, по нашей пословице. Долго мне потом ещё виделось одушевлённое и опечаленное неудачей лицо юного дилетанта, когда я, бродя по садику, укрывался в тени деревьев от 28 градусного зноя.
Томящее впечатление выбил из души совсем другого очертания образ. Пришёл навестить русских приезжих некто г. М... из «родолюбцев», молодой человек с большою головою, длинною историей и широкою речью о притеснениях турков, о зложелательстве греков, о бесхарактерности Болгар, об интригах консулов, о равнодушии Европы, о могуществе России, словом обо всём, исключая самого так сказать пикантного обстоятельства, – недавнего перехода его из православия в латинство вместе с негодной памяти Цанковым и другими коноводами Болгарского дела, выцарапывающими у себя глаза, чтоб не видеть неприятного предмета... Олатинился он ни более ни менее, как из-за жалованья, получаемого им теперь в Битольской школе Римской Пропаганды, изнывающей от болезнования о схизматическом Востоке. Но не из простофилей был мой компаньон, знакомый давно и коротко с «родолюбием» во всех его видах и фазах, и даже фразах. Он не замедлил вывести гостя на чистую воду. Только недолго держался тот на ней, сейчас же юркнул в омут, пустив нам в глаза ослепляющую апологию себе, исходящую из того, что теперь единственный способ сделать что-нибудь для «бедного народа», это прикинуться католиком, чтобы избыть инфернального преследования Караказа́на196 (т.е. Великой церкви). А вот если мы – русские – вместо напрасных попрёков, заведём в славянских землях свои народные школы, как это делает Пропаганда, независимые от местных епархиальных властей, то способные люди найдут достойное себя поприще, и печальное явление перехода Болгар в латинство не будет иметь места... Что сказать на это? О мудрый Папа Стойчо! Жестоко ти (славянство) противу рожну прати. А рожнов-то сколько! Магомет, Оттоманская Империя, Великая Идея, Эллинизм, Европа перед пугалом панславизма, пропаганда, дипломация, Русская лень и близорукость, а вдобавок ещё и скупость, Болгарская трусость, неспособность и испорченность, наконец, общая... Но, к чему всё высказывать? Рискуешь остаться потом с пустотой в душе. От затруднительного ответа «прикинувшемуся» родолюбцу (паче же родогубцу) избавил нас дорогой хозяин, объявив нам, что готово обедать и прибавив, что у нас ещё будет довольно времени для ведения этой «бесконечной материи» и здесь и повсюду в Турции. Ем, по пословице, пирог с грибами, а язык держу за зубами, но не язык – Zunge, а язык – Sprache. Прерванная, столько поучительная, беседа с антагонистом пресловутого «Караказана» снова заставила мысль мою бегать по колесу упомянутого выше торга. Как хотите, а ведь всё та же история, только под другими именами. Там в возах было продажное зерно для посева, а здесь вместо зерна продаётся язык для посева... не знаю чего́. О родолюбии же помышляет там, может быть, одна телега, верная до мелочей праотеческому образцу, а здесь разве необрезанные ногти пальцев родолюбца.
Ираклия. 25 Мая. Вторник
Приснилось родное село со всею его приснопамятною обстановкою. Явный знак, что предлежит мне на нынешний день археологическая работа. И пора, в самом деле, сказать что-нибудь о давно минувшей жизни приютившего нас места. Мы уже упомянули вскользь, что по Антонинову Дорожнику, вторая станция от Едессы к западу по большой дороге Римской читается Heraclea, т.е. Ираклия. За напрасными попытками отыскать на более выслеженной дороге Эгнациевой место, подходящее к Ираклии, согласились приурочивать его к нынешней столице области Пелагонийской, недаром же возникшей в местах этих. Древние крепко были привязаны к историческим местам, и без крайней необходимости не оставляли их. Легче они расставались с именем места, чем самым с местом. Имя Ираклии могло забыться в течение одного столетия, а селитва самая много-много только могла податься в какую-нибудь сторону, ибо имущественные отношения жителей к окрестным полям не позволяли им совсем оставить место. Так или иначе, Македонская Ираклия, в отличие стольких других городов этого имени, называлась Ираклией Линка (Λύγκου) или Линкистов. Последние, очевидно, должны быть жители Линка, но Линк-то самый что такое197? Был ли это древнейший город, предваривший собою Ираклию? Была ли местность, прославленная зверем этого имени198? Были ли это – река, гора, равнина, озеро, дремучий лес, по какому-нибудь случайному сходству, или чему другому, носившие это имя?.. Кто теперь может разъяснить? Да и греческое ли имя Линкос, точнее бы – Люнгос? Не переделано ли, вместе со столькими другими, греческою licentia grammatica из нашего Луга, из латинского lingua, из гето-готфского lange, и т.п.?.. От огреченного царства Македонского легко ожидать такой переделки. Коренные жители этих мест, по древнейшим показаниям географическим, звались Пелагонами, отчего и вся область эта – самая крайняя часть Македонии к западу – писалась Пелагонией. По Плинию, Пелагония входила, как часть в целое, в Пеонию199. Последняя же отделяла собою Македонию от земли Трибаллов… Кто такие были Пелагоны, не у кого спросить нам. Имя их, вместе с подобными же Пелага (море), Пеласгов200, Пелона и пр. подлежит ещё долгому обследованию истории и филологии. Римляне, завоёвывая классические земли, рубили, по пословице, сплеча их географию, и узнав, что передняя (от них) часть Македонии зовётся Пелагонией, недолго думая, назвали самый город Ираклию Пелагонией. По крайней мере, так надобно думать, на основании свидетельств самих римлян201. Византийцы, верные своему призванию забирать и укладывать в магазин своей сшитой и сколоченной государственной жизни всё, что попадётся под руку унаследованного от предков, занесли в свою роспись поземельного имущества и Пелагонию и Ираклию, не забыв даже самого Линка. Оттого на Соборных Актах V и VI века по Р.X. встречаются подписи епископов то Ираклии Пелагонийской, то Ираклии Линкистидской. А как именно называлась в их время их резиденция, остаётся неизвестным. Наконец неотразимый факт, заклятый враг архивных преданий, патриотических фантазий, невежества и педантства, заставил признать за городом имя Битоля, неизвестно когда именно приставшее к нему, и архиереи области стали титуловаться Битольскими – ὁ Βιτωλίων, с прибавлением всё-таки, любезной эллинскому слуху, Пелагонии – καὶ Πελαγονίας.
Кафедра Ираклийская есть одна из древнейших в христианском мире, хотя о начале её и нет положительных известий. Между подписями отцов Сардикийского Собора (347) уже читается: Евагрий из Македонии, Ираклии Линка. На Ефесском (разбойничьем) соборе (449) заседал Квинтилл Ираклийский с голосом епископа Фессалоникского202. Но какой именно Ираклии он был епископом, прямо не говорится. Кроме известной Ираклии Фракийской, которую по примеру Александрии Египетской, можно именовать «Великою», известной также под именем Перинфа (на Мраморном море), была ещё в самой Македонии Heraclea Sintica, в стране Бизальтов около р. Стримона, по-теперешнему – Струмы. Впрочем, подобный же случай из VI века, о котором сейчас скажем, говорит тут в пользу нашей Ираклии – Битольской. Затем, в набег Готфов на Македонию при Императоре, Зиноне (около 475–80 г.) упоминается (только безыменно) Епископ Ираклии Македонской, большими дарами умилостививший Валамария вождя Готфов, и тем спасший свою кафедру и область от разграбления. На пятом Вселенском Соборе (553 г.) заседал Бенигн, Ираклии Пелагонской с голосом Фессалоникского епископа. Видно, что в это время кафедра Пелагонии ещё не принадлежала вновь образовавшейся Архиепископии Юстинианской. Но вслед за тем, она вместе с другими семью соседними митрополиями отошла в ведение Архиепископа Первой Юстинианы, и в ряду их заняла второе место. Из этого периода её приводятся в Oriens Christianus три архиерея: один безъименный, современник Архиепископа Болгарского Феофилакта (XI в.), другой – Феодосий – XIV в., третий Иоанникий – XVII в. Об именах позднейших предстоятелей церкви Битоло-Пелагонской нам негде справиться. Предместник нынешнего митрополита звался Герасим. Нынешний эллиноман, по странной случайности, должен войти в историю под чужезванными именами: Benedictus Попович. Титул прежде Битольского архиерея (под Архиепископом?) был, по свидетельству патриарха Иерусалимского Хрисанфа историка, Пелагонийский и Прилепский. Теперь же пишется: Битолийский и Пелагонийский, и Экзарх Верхней Македонии. Разумеется, наравне со всеми другими митрополитами Константинопольского патриархата, при церковных имяглашениях (εὐφημία или и просто: φήμη), он величается пречестным и богопоставленным. Кафедра Битольская в ряду других занимает почётное 15-е место. Всегда ли так было, или лучше, когда так началось, не знаем. Для Битоля довольно и этих сведений. У кого живое воображение, тому открывается широкое и непобедимое поприще для воссоздания исторических картин местного давноминувшего. С 347 года по Р.X. до настоящего протекло 1518 лет. Вставляйте в эту рамку, сколько угодно, лиц, событий, перемен в природе и жизни, шума, движения, разрушения и пр., пережитых христианством здешним, и ищите следов его в безмолвном и как бы за́живо погребённом месте. Если теперешняя единственная церковь города насчитывает только два-три десятка лет своего существования, то где же стояли Ираклийские храмы Божии, в течение 15 столетий собиравшие в себе верующих на молитву? А верно они были и служили, как и всегда, лучевыми фокусами духовных стремлений несчётных поколений бесследно исчезнувшего человечества. Работа для мысли нескончаемая, хотя, по всей видимости, самая неблагодарная. Это не то, что наши прошлогодние города с окончанием на инск и анск, которых истории можно проследить и рассказать в течение одного часа времени. Не перестаю ублажать я обитателей исторических мест, всегда готовых предложить задачу любознательному духу. Пусть даже плодом её будет одно утомление и некая доля апатии, как напр. у меня сегодня. Всё же лучше, чем совершенно бесплодная мечта о чистом поле, шумном ветре и ясном небе.
Последнего (ясного неба) недоставало на нынешний день городу, что и было главным образом причиною моих археологических странствований по минувшему. Немало и смутило нас начавшееся непогодье. Ещё вчера вечером мы исходили взором, пальцем и отчасти линейкой по Киппертовой карте не один географический градус по всем направлениям от Toli Manastir, ища наиболее подходящего к археологическому вкусу нашему в ближайшей окрестности места для экскурсии двух-трёх дней. Рассказы о богатой старыми иконами и рукописями Каратовской обители Св. Отцов крепко занимали меня. Но до Каратовой было, судя по линейке, такое же расстояние, как и до Солуня. Правда, что в этой поездке представлялся случай высмотреть три-четыре албано-болгарских города, в числе их и древний Скопль – бывшую резиденцию Кралей Сърбских – довольно хорошо описанный византийцем Григорою, если не ошибаюсь. Но боязнь каких-нибудь пакостей от албанцев в местах, не часто посещаемых русскими, взяла верх над искусительным помыслом. Кроме Каратовского, нам рекомендованы были знатоком сих мест ещё два монастыря на гораздо ближайшем расстоянии от Битоля, Слепченский и Слимницкий, оба обилующие старыми славянскими рукописями. О первом было сказано, что там целый анбар или погреб завален книжным гнильём, до которого никому нет никакого дела. По наведённым справкам оказалось, что село Слепче с монастырём находится к северу от города часах в пяти-шести, а Слимница лежит к западу, немного в сторону от Охридской дороги. На карте, разумеется, не означены ни та, ни другая местность. Отложив посещение последней до поездки (уже решённой) в Старую Болгарию, мы собрались ехать в первую, и притом не теряя времени. Усердный Търпко сказал, что он с удовольствием поедет с нами куда угодно, и что, затем, мы можем обойтись без всякого конвоя. Тем лучше, заключили мы, и послали его доставать лошадей. Узнав о нашем намерении, хозяева, хотя одобрили принятое нами решение, но заметили, что сегодня уже поздно пускаться в дорогу, да и погода совсем ненастная. Лучше завтра раненько встать, и с бодрым духом отправиться в путь, по хорошей погоде, которую поднимающийся барометр обещал послать нам за ночь. Мы оказали должное послушание и остались. Вечером принимали некоторого рода участие в продаже вещей одного консула другому. С оттенком общей грусти происходило это занятие. Походная жизнь этих чиновников правительства как нельзя более способствует образованию в них международного характера, столько нужного в их службе. «Ведь и мы тоже не имамы пребывающего града», говорил мне, помню, один дипломат второй руки. Так, конечно, отвечал я мысленно. Хорошо, если притом же, вместе с Апостолом и грядущаго взыскуете.
Слепче. 26 Мая. Среда.
В напутственное знамение приснился мне мёртвый, и в гробу лежащий, младенец. Жаль мне стало нерасцветшей и увядшей жизни. На зов сердца, младенец ожил и поступил в моё ведение. Позабыв одно практическое наставление относительно снов203, я немедленно истолковал виденный мною в самом конкретном смысле, отожествляя младенца с каким-нибудь, укрывающимся в обещанном «книжном погребе», пергаментом неизвестного ещё учёному миру содержания, который отдаётся мне в полное распоряжение, и так далее... Забота о предстоящем пути не дала нам спать долго. Но раннее пробуждение не повело ни к чему. Прежде всего, нас встретило серое небо, сразу охладившее наш путешественный пыл. Потом, закутанная в облака зловещего цвета, голубка наша навела на сердце просто уныние. А когда из-за приветливого шумка самовара вдруг послышался на дворе шум дождя, то озлобленный компаньон сделал жест отчаяния рукой по направлению к северу, говоривший: addio, пергаменты! Несмотря, однако же, на такие предвестия, когда часам к 8 показался на улице Търпко с лошадьми, решение ехать взяло верх. Даже позван был к допросу старый почтарь, отчего он заставил нас так долго ждать себя. Виноватый ласкательно заговорил, что он всё дожидался, что вот, вот выглянет солнышко, «ибо не под дождём же, прибавил он, ехать вам таким»... каким-именно, он не досказал. Только мне невольно припомнилось при этом бывшее признание компаньона, что его в школе товарищи звали «просвиркой"… На счёт же солнышка, приходилось понимать его в переносном смысле, разумея под ним самого баюна, сиявшего удовольствием от предстоявшей поездки. Ибо настоящее солнце всё ещё не показывалось. Так мы и выехали, не дождавшись его; было 9 часов утра. Городом мы колесили по известным уже нам улицам и закоулкам, пока не выбрались к Св. Неделе. Тут к трём всадникам пристал молодой пешеход, выданный нам за суруджи, т.е. за хозяина наших лошадей. Посмотрели мы из-под зонтиков на серый город и на туманную гору, послав им невесёлое: до свидания!, и направились прямо к северу, но не большою Прилепскою дорогою, пересекающею диагонально Пелагонскую равнину, а другою, как бы параллельною той, западнее её, по не широкой долине, отделённой от большой равнины невысоким горным хребтом. Дождь накрапывал и обещал превратиться в наш, столько памятный, осенний «бусенец» Опытный провожатый, однако же, обещал нам к полудню непременное солнышко. Барометром ему служила всё та же Перистера́ его, с одной стороны начавшая просиневать, чтобы потом окончательно стать «сизою голубкой». У первого придорожного хана сделан был привал. Часы указывали половину 12-го. Взявший на себя полную ответственность за нас «перед Богом и консулом», Търпко, не дожидаясь приказа или спроса нашего, сделал осведомление у ханьджи о том, есть ли что закусить нам в его хозяйстве. Нашёлся творог, но, по предъявлении нам, он оказался кислым молоком, да притом – настолько действительно кислым, что нельзя было и думать полакомиться им. Едем далее. Панорама перед глазами довольно однообразная. Справа и слева широкие горные скаты с весьма скудною растительностью, впереди нескончаемая прямая долина. На подгорьях то там, то сям малые сёла все с болгарскими именами. – А что ж невидно церквей? спрашиваем мы провожатого, коротая время. Има церкве, а много малии, отвечает он. – То-то и есть, что малые, продолжаем мы, на большие-то вы скупитесь. Хотите даром спасти душу. – Даром?! возражает сквозь зубы старик, а откуда владыка наш нажил себе миллионы204? Всё от наших душ… После подобного ответа умножается молчание между нами и уменьшается охота осведомляться, о чём бы то ни было придорожном. Наскучило ждать неизвестно чего, и не знаешь, к чему привязать нить своих помышлений. Раздающийся то спереди, то сзади гром, хотя развлекает от времени до времени, но скорее вяжет, чем разрешает язык, внушая страх нежданного купанья на суше. – Търпче! спрашиваем мы, а где же солнышко-то, которое ты нам обещал в Битоле? – Да разве здесь Битоль? отвечает он, хоть бы малейшим образом выдавши, что он острит, и по-прежнему опять погружается в старческую апатию. Всё его внимание обращено на целость вещей наших, уложенных под ним и с боков его, из-под которых не видно и самой лошади, и вся эта сложная фигура коня и всадника представляет издали громадной величины страуса. Кроме багажа нашего старик ещё то и дело посматривает на сухопарого суруджи, с которым у него замечаются не редкие перемигивания, довольно таинственные. Если бы он не состоял на русской службе, и вообще не был известен за честнейшего человека, можно б было подумать, что у него с молодым товарищем есть какие-нибудь не добрые виды на наш счёт. Наконец проглянуло желанное солнышко, и вдруг всё кругом приняло другой светлый колорит, на душе повеселело, и не нужно стало искать, чем занять себя. Кстати показался впереди и хан. – Има млеко? – вопрошаем мы, поравнявшись с ним. Ответом служит кивок головы коренастого ханьджи снизу-вверх, что, в соединении со сжатыми губами, означает полное отрицание. Знак утверждения делается движением головы в обратном порядке, т.е. сверху вниз. Третье горизонтальное движение из стороны в сторону означает средину между отрицанием и утверждением, т.е. сомнение. Отурившись – как говорилось когда-то в школе, – едем далее. Другой хан. Тот же вопрос и совершенно такой же ответ. Ещё селение впереди на возвышенности, с ханом при дороге. Обжёгшись (именно) на молоке, по пословице, мы уже не трудим себя вопросом и минуем хан, скрепивши сердце и язык. Нет, это не Россия, где без коровы немыслимо хозяйство. Ещё деревня – магометанская, во всём похожая на христианскую, только с меньшим, игривым и шумливым, уличным населением, ибо строгий Хо́джа (учитель) не шутит своею профессией и держит взаперти питомцев науки, вопреки образовательной системе христианского даскала, первого высовывающего свою учёную голову из дверей, чтобы посмотреть на проезжающих. На то любознательность! Начинает чувствоваться утомление, да и ещё что-то... Высматриваем впереди где-нибудь «рукописного» монастыря, которому пора бы уже по расчёту времени и показаться. Бесконечная долина, после несчётных зигзагов, загораживается впереди поперечною горою, что принимается нами за хороший знак, ибо ожидается поворот дороги либо вправо, либо влево, а с ним и перемена видов, наконец, отчего же и не белеющий где-нибудь на косогоре среди густой зелени, самый монастырь. – Держу пари, что мы повернём на запад, слышится один голос. – И я-тоже, отвечает другой. – Пари, таким образом, не было суждено состояться. Из одной долины мы въехали в другую, идущую с запада на восток под прямым углом к первой. Она глубже той, шире, мягче и богаче растительностью. Точно мы направились к западу к темным горам, за которыми должна лежать памятная мне по некоторым делам, Дибра, местность, получившая своё имя конечно от дебрей, коими славится даже в таких горных полосах, какова Верхняя Македония. Дорога наша обратилась в тропинку, и ту грязную от утреннего дождя. Солнце начало заглядывать нам прямо в лицо, но эта ласка его мало была ценима нами. Мысль была занята другим. Куда оно девалось наше... – Слепиште! договорил мою мысленную фразу Търпко, указывая рукою на выступавшую из-за холма кучку мазанок. Вышел некоторого рода сюрприз, хотя и нельзя сказать, неожиданный. Во 1-х, глаза смотрели вдаль, а село оказалось, как говорится, под носом. Во 2-х, вместо настоящего села в общепонятном смысле, тут представилось взору нечто вроде наших полевых землянок, беспорядочно разбросанных на пригорке, видимо служащих только убежищем людям «от всякаго зла противна», а вовсе не местом покоя, уединения и мирных домашних удовольствий. В 3-х, доколе чаемое село укрывалось под именем Слепча, оно не возбуждало в нас интереса к себе с исторической точки зрения. Мысль толкалась около лепого и лепленого, и далее не шла. Совсем иным повеяло от имени: Слепиште, т.е. по-нашему слепище. Тут хочешь не хочешь, делаешь прыжок в историю. – Търпче! спрашиваю я, не слыхал ли ты, чтобы тут кто-нибудь когда-нибудь ослепил кого-нибудь? – Давно? спросил он в свою очередь. – Давненько. Лет за 500 слишком до нас. – Не слыхал, отвечал он просто и безучастно. – Тут, по близости Прилепа, Краль Стефан Милутин приказал выколоть глаза своему сыну Кралевичу. – Старика передёрнуло при этом. Тревожно, как мне показалось, посмотрел он на суруджи, покачал головой, и сказал: Да разве можно это? – Ну? Неможно! отвечал я. Когда же было, когда пишут об этом в старых книгах! В старые времена чего не бывало. Верно и ты что-нибудь ещё припомнишь такое, чего теперь уже не водится... Старик только прищурил глаза на это, и не отвечал ничего более. Селение уже всё перед глазами. – А где же монастырь-то? спрашивает компаньон. – Ещё с полчаса туда дальше, отвечает суруджи. Тяжело прозвучало в уши мои это: полчаса. Полчаса значит ещё версты три дороги, а это для истомлённого тела не малое расстояние. От сухоходной речки мы поднялись на пригорок и очутились лицом к лицу с церковью. Это такая же мазанка, как и все дома, строенная как попало из плитняка и булыжника, крытая аспидными плитками, с низкими стенами, узкими оконцами и т.д.; кругом церкви кладбище. Мы сошли с лошадей и стали высматривать, у кого бы спросить ключа от церкви. Търпко уже вёл в стороне переговоры, вследствие которых вскоре из-за ближайшего угла показалась фигура духовного лица, одетого, как и все поселяне, только с чёрною камилавкою на голове. Это был священник села, папа́ Стойчо или Стоянчо205. Молодой человек, чуть не юноша, худенький, маленький, смиренненький. Поздоровавшись с нами, он сейчас же отворил нам церковь и пригласил войти. Храм Божий поразил нас своим убожеством, несмотря на то, что для нас уже дело привычное видеть нищету церквей на Востоке. Чтобы сразу дать о нём понятие, довольно сказать, что размеры его – четыре шага в квадрате! Судите по сему о всём прочем. Церковь носит имя Св. Николая. В алтаре на престоле мы приложились к деревянному кресту топорной работы и к Евангелию в чёрном кожаном переплёте без малейшего украшения. Последнее оказалось рукописным, писанным на хлопчатке (бомбицине) в 8-ю долю листа, в один столбец неравным почерком, порыжевшими от давности чернилами. Книга крепко истёрта и залита воском. В конце её читается приписка: Приими моление Ги҃ рабу свою Вышу. Коа приложи сию книгу ст҃омꙋ Николе и ст҃ому Федору и ст҃ой Петкы. Будией в душевное спасение и в вечную памет. Аминь. В лето, ҂ꙁи҃ꙁ (1549). Месяца април. ѕ҃і дн҃ъ. Итак, если не самая церковь, то приход села Слепченского насчитывает уже, по меньшей мере, 316 лет. Прозябание в полнейшем смысле! Кто такая была блаженной памяти Выша, она не позаботилась объяснить нам. Но и за то спасибо, что сумела дать знать о себе потомству, да ещё и с указанием года. Теперешняя какая-нибудь Стана не догадалась бы сделать этого. По этому самому Евангелию вы доселе читаете при богослужении, спросили мы о́. Стояна? Да, отвечал он в блаженном неведении существенного оттенка мысли при вопросе. Мы обещались прислать ему для церкви большое печатное Евангелие в бархате и серебре.
Кроме Евангелия, мы досмотрелись в церкви и других рукописных богослужебных книг, а также редких старопечатных. Рукописи оказались следующие: Пентикостарион, в лист, на бумаге. Начальные листы весьма попорчены. На последнем есть заметка: Помени Ги҃ в гресех богатаго и хꙋдоꙋмнаго тха206 диака Дмитра списавшаго сию книгꙋ. Вечная память и попꙋкѵр Николе и родителем ѥго иже и потрудисе в книзе сей. А писасе сиа бжт҃венная книга три в летꙁц҃а (1393).207 в дни в неже попꙋщением Бж҃иим предани быхом грех ради наших в рꙋце враг беззаконных и мрьских и црꙋ неправьднꙋ и лꙋкавейшꙋ паче всеѥ землю. и тогда бысть запꙋстение и скорбь велиа ѡⷣ безбожныⷷ измаилить иже не бысть ни бꙋдет. История Слепченской церкви, таким образом, отодвигается еще на 107 лет глубже в печальное минувшее. – Трипеснец (тръпѣн҃цъ), – в лист на бумаге, в 2 столбца. Начало: «Трипеснец с Богом починаемь: w миѳарѣ». Конца нет, а потому нет и никакой заметки писавшего книгу. Всего 30 тетрадей. – Апостол, – в лист на бумаге, в один столбец, 27 тетрадей. По-видимому – не ранее XVII века. В начале книги есть неискусное изображение Св. Апостола Луки с разноцветною по золоту виньеткою. Никакой заметки в книге не отыскалось. Из печатных книг мы осмотрели два экземпляра 2-й части Октоиха южной печати, 7002 и 7047 года от сотворения мира, Анфологион московской печати 1763 г. и Псалтирь – 1769 г. Кончив это книжное занятие, я присматривался, нет ли ещё чего-нибудь в церкви замечательного своею древностью, но не оказалось ничего такого. Выходя из церкви, мы порекомендовали о. Стояну беречь Евангелие и Пентикостарь паче злата и топазия, объявив ему, что одной книге 300, а другой 400 лет. Цифры эти, однако же, как мне показалось, ничуть не удивили, по крайней мере, видимо не занимали Слепштенского батюшку. За то он с авраамовским радушием пригласил нас посетить его убогую «кучу».
Жилище священника, как и следовало ожидать, ближе других к церкви и сравнительно богаче. Идём к нему, окружаемые забегающими вперёд и засматривающимися на невиданных гостей, детьми. Я мог поздравить себя с давно желанным зрелищем южной беспримесной208 славянской жизни, и ещё каким зрелищем! – Уносящим нас в Великокняжеский период нашей собственной истории! Вот он идёт впереди нас торопливо, и как бы боязливо, поп Стоянчо со всеми свидетельствами того, что он плоть от плоти и кость от костей своего родного села, какими были и наши прапрадеды в давно забытое время, – попы Лукаши, Илюши, Митяи, Михалки... Разница только та, что у нас трескучие морозы выдумали батюшкам высокие шапки, заросшие камышом болота – высокие трости, дремучие леса – высокие хоромы, безмерные расстояния – высокие о себе мысли, а частые князья с их дворами и редкие владыки с их помпою – высокие титла... все – высокое, а оттого как будто и не очень прочное, неустойчивое, хотя, пожалуй, и казистое, (а на новый взгляд так даже и невысокое, а значительно приниженное... Но об этом речь, как говорится «в скобках»). Можно бы не обинуясь утверждать, что между нынешним пастырем Слепченским и упомянутым попом кѵр Николой 1393 года нет никакого различия, кроме племенного, так как теперешний – болгарин, а тот без сомнения был сербин. Мало от обоих конечно разнился и старых времён русин. Разве только был тароватее их, и объективнее относился к своему делу и званию. Нанимаясь, напр. служить обедню на базаре, он держал за пазухой просфору, и грозил нанимателю, что сейчас закусит, и тогда конец торгам. Я уверен, что если бы рассказать про случай о. Стояну, он не удивился бы ему, не рассмеялся бы и всего менее осудил бы его, а только подумал бы про себя: там у них это можно, а у нас тут кто подумает нанимать? Конечно, прихожане, встречая его, не снимают тут шапок и не подходят под благословение, но за то и не отплачивают за вынуждаемую обычаем почесть ни кукишем в рукавице, ни целым лексиконом позаочной брани, известной у нас даже малым детям. Нет тут вообще на Востоке ни нашего высокопочитания к духовенству, ни нашей низкой озлобленности против него. Чему приписать это, пусть решают специалисты. Входим в дом Попа Николы. Так зовётся жилище о. Стояна, который собственно есть только помощник, как бы викарий, настоящего приходского священника, своего родителя о. Николая. Последний, посадив на своё место сына, сам занялся делами соседнего монастыря, и живёт более там, а не в селе. Домашним о. Стояна уже дано было знать о предстоящем посещении нашем. Оттого, при входе в дом, нас встретила с большими приветами старая матушка. Но, Господи, что это за дом! Ничего, что хотя сколько-нибудь соответствовало бы нашим понятиям о «поповом» доме. Я решительно отказываюсь от описания его. Чтобы дать гостям чистого воздуха, нас усадили в прилаженный к обиталищу птичник или иное что из жидкой и сквозящей загороди с земляным полом. Последний был накрыт рогожей и устлан самодельными ковриками, на которых при стенках лежали узкие и длинные подушки. Нечего говорить, что мы рады были несказанно такому уютному помещению. Старая матушка не замедлила представить нам своих двух снох – тоже матушек. У о. Стоянчо есть ещё брат Поп Коста, который на тот раз был тоже в монастыре, помогая отцу в разных тамошних работах. В доме немало детей первого возраста. Хотели послать за старым хозяином, но мы объявили, что сейчас сами туда едем. Поспешили потому угостить нас сперва «водовареньем» по-восточному обычаю, а потом и хлебом-солью, т.е. яйцами и молоком, которое, в память единоплеменного севера, подавалось «с крошками». Знают ли южные славяне такое приготовление? пожелал я осведомиться. Ответом служила безмолвная улыбка, гласившая: уж на что же проще такого кушанья? Спутник, владея болгарским языком, разговаривал со старушкой о вещах обыденных, я же чувствовал себя не способным к беседе от набежавшего на душу умиления. Точно с таким же чувством, помню, лет за 30 перед этим рассматривал я купленный по, случаю в одном из русских губернских городов, Греческий Часослов, весь истрёпанный и засаленный, видимо бывший в постоянном, и ещё недавнем, употреблении. Ужели есть ещё люди, которые читают и молятся по этой книге своим их языком? спрашивал я самого себя. Ведь язык этот и люди, им говорившие, принадлежат давным-давно к области истории, и существуют только в классическом учебнике. Тоже самое, только гораздо живее, происходило в душе моей и теперь. Переговор матушек и о. Стояна между собою и с прислугой и с нашим Търпком отзывался для меня чем-то, воскресшим из мёртвых. В нём столько было книжного славянского, что думалось иногда, уж не ослышался ли я? Особенно пленительно было услышать в живой речи слово: Како. Грамматика так сказать похоронила его, назвавши им одну из букв азбуки. А вот оно живёт и движется, переходя из уст в уста целой семьи. – Ведь даже младенцы, заметил я, и те ревут по-славянски! – А я, ответил на это шутливо компаньон, слушаю и нахожу, что даже петух поёт совершенно по-нашему... Завзятый славянофил подтрунивал над моим разблажением.
День уже вечерел. Послышались опять далёкие раскаты грома. Мы простились с гостеприимным кровом и отправились ещё далее на запад. Дорога шла, поднимаясь по склону горы. Появилась и довольно густая растительность. Как и следовало ожидать, монастырь занимает возвышенное и прекрасное место. Тёмные стены его сразу высказали его значительную древность. Прежде, чем мы добрались до него, нас ещё раз омочило дождём. К 5 часам мы были перед воротами обители. После небольшого приключения с седлом, мне пришлось явиться в неё пешеходом, что́ было и приличнее. Радушно, хотя несколько как бы растерянно, встретил нас игуменствующий о. Николай, видимо отозванный нами от работы. Сын его о. Константин, во всём похожий на брата, старался доставить нам весь возможный комфорт. Единственные, только что возобновлённые, комнаты обители отведены были для нас. Отдохнувши и обсохши немного, мы просили позволения видеть церковь. Она стоит среди двора отдельно от других зданий, имеет красивый вид небольших византийских храмов с высоким куполом, но представляется совершенно новою. Возобновлена всего за три года перед этим уже в управление о. Николая. Справедливее сказать, не возобновлена, а вновь выстроена на месте старой церкви, так что о прежней церкви теперь и сказать ничего нельзя, так как объяснить её плана мне не мог почтенный возобновитель. Судя по отзывам, его, вообще о начале монастыря и его долговременном существовании ни в памяти народной, ни в каких-нибудь записях никаких сведений не имеется. Чествуется он во имя Св. Иоанна Предтечи. В алтаре церкви мы видели большой деревянный крест, на подножии которого вырезана заметка: сі̇ѧ чт(честный) и ст҃ (святый) кръстъ ѿ ст҃ іѡ҃ сл҃чи (слепче?) оставлено ѿ рꙋфаиль наичко дартоїи чѿкр… Не умея дать полного объяснения написанному, мы ограничимся замечанием, что надпись не должна быть очень древнею, судя по скорописному характеру букв. Другая замечательная вещь в церкви есть большая деревянная икона Св. Архангела Михаила, резная рельефом. На обороте её замечено тоже резью: Поп Никола Попович. 1703 г. Сличая этот храм с сельским, я воздал должную хвалу почтенному ктитору его, хотя не пропустил без замечания, что, если бы такая благолепная церковь была в селе, а не в пустыне, от неё больше было бы пользы для места. Монастырь и при старой церкви имел бы тоже значение... Справедливое это замечание моё оказалось, однако же, неуместным. Монастырская церковь выстроена на пожертвования, собиравшиеся прямо и исключительно на неё. При ином назначении пожертвований, самый сбор оказался бы невозможным... Итак, не только у нас, но и в остальном православном мире идея монастыря берёт верх над идеей приходской церкви. Не замечательно ли это.
Пожалев об убожестве сельской церкви, мы, однако же, поспешили воздать ей честь, заявивши перед её настоятелем о том утешении, которое вынесли из неё, отыскав там несколько ценных древних книг с историческими заметками. Естественно было прибавить вслед за этим о той уверенности, с которою мы думаем найти ещё несравненно больше подобных сокровищ в древней обители, чем в простой церкви. А чтобы старец как-нибудь не увернулся от нас, и прямо было присовокуплено, что известный в местах этих, Цареградский А. Н... нас положительно заверил о целой комнате, заваленной старыми рукописями, виденной им в монастыре Св. Предтечи. Нет сомнения, что в них много должно скрываться известий и о начале монастыря и о всём его прошедшем, о правах его, об угодьях... Длинный этот приступ или подступ оказался впрочем, излишним. О. Игумен объявил с полнейшим равнодушием, что есть в разных местах по кельям несколько старых церковных книг, которые он, пожалуй, пойдёт соберёт и принесёт нам на погляденье. Пока готовился самовар, внучек игумена одну за другою вносил к нам старые рукописи, которые действительно оказывались все церковными, и, хотя не весьма древними, но очень ветхими от небрежного употребления и небрежнейшего хранения. Были и славянские, и греческие. Мы угостили за это чаем представителей трёх поколений прошедшего, настоящего и будущего, и даже с удовольствием согласились, по приглашению О. Николая, отправить в церкви русскую вечерню. Старец хотел послушать наших гласов, не похожих, как ему говорили, на греческие и на их болгарские. О. Константин набросил на себя епитрахиль поверх своей рабочей одежды и благословил службу, а мы читали и пели. В церкви оказался Октоих русской печати. Ни Минеи, ни Триоди не было. Мы отыскали Четверговую службу первого, попавшегося под руку, гласа, и чтобы показать разнообразие напевов наших, пели каждую стихиру на особый глас. Мы бы так не сумели пропеть, заметил по окончании службы представитель текущего поколения, провожая нас из церкви. – Да вам и не позволят петь по-нашему, сказали мы. – Кто не позволит? Быстро подхватил будущий деятель, и показал вид, что ему недаром Бог дал руки... Отживший деятель улыбнулся в ответ на мужественное заявление внука. Были потёмки, когда мы возвратились в свой «архондарик».
Уединившись, с аппетитом голодного человека, накинулся я на книжный ворох. Всех книг виделось на широкой лавке (диване) десятка два с лишком. Их достало мне для усидчивого занятия далеко за полночь. Вот краткий перечень их.
1. Тетроеѵ҃ль – на пергаменте, 40, в один столбец уставного неровного письма, по 22 строки на странице. Всего – 38 тетрадей, помеченных вверху числовыми буквами. Книга полная, без малейшего ущерба. Глав в Евангелии от Матфея указано 38, а стихов 355. У Марка глав 48, стихов 233. У Луки глав 83, стихов 349. У Иоанна глав 18, стихов 235. Ни предисловия, ни послесловия при Евангелиях нет. Буква ѫ в книге не встречается, а ѥ в обилии. Ударений нет. Над и, ѥ, а, о, ѡ, оꙋ, ꙗ в начале речения и вслед за другой гласной стоит точка. Напр. о̇ч҃е, ꙗ҆и̇ица... Но есть пример, что видится и в средине речения и не после гласной, напр. Трѹ̇да. Над двоегласным ы она стоит везде и непременно. Где в нашей речи слышится ъ, там постоянно в книге видится кавычка ̆напр. и̇з̆бивше. Закйны̇кѡмь. Мѣрит̆се. о нем̆же... полугласная ъсовсем неизвестна тексту. Везде вместо неё стоит ь. Единственный знак препинания точка (.) внизу строки. Встретились слова: мьїѳарь, дс҃ы (дуси нечисти), скорфию҆, добра́ѧ҆го, гла҃лти, тьщꙋ (тещу) 209. В одном месте есть позднейшая историческая заметка. На ѵ҃ и У҃ и и҃ и ꙁ҃ лето сирυт (?Смерть?) господина Крала Владислава Албертовика крала ꙋраршага мца Дек… 210. Так как тут говорится о некоем крале (конечно Сербском), да ещё и с определённым летосчислением, то стоило бы разобрать заметку со всем подобающим вниманием, но в дороге этого сделать нельзя. Краль Владислав точно стоит в ряду Сербских державцев под 1230 годом. Это был брат и предместник Уроша I или Великого (!). Другой Владислав, племянник первого, добивался в свою очередь престола, и, пожалуй, мог тоже назваться или быть назван от приверженцев или льстецов, кралем, но оба они – сыновья кралей Стефанов III и V-го, а никак не Альберта какого-то, совсем неизвестного в сербской истории. Хронология заметки могла бы повесть к чему-нибудь, но она отмечена такими знаками, которые не поддаются разрешению. Времени написания Евангелия я не берусь определить.
2. Четверо Евангелие. На бомбицине, в 40, в один столбец, крупного уставного письма. Весьма толстая книга, с множеством вырванных или разорванных листов. Имеет также разделение на стихи и главы. Заметок никаких. Должна принадлежать XV веку.
3. Апостол, на бомбицине, в 40, в один столбец. В начале книги есть месяцеслов, или так называемый Канонарь для руководства при отыскивании дневных и праздничных Апостольских чтений. В конце недостаёт нескольких листов. Заметок не встретилось. Книга одного, по-видимому, времени с предыдущим номером, и служит как бы продолжением его.
4. Апостол. Бомб. 80. 1 столбец. В начале недостаёт листа. В конце есть приписка: х҃с зачало и конец. Слова свершителю Боу҃ аминь. Сьписасе рꙋкою грешного попа Ныколꙋ. Одного, по всем признакам, времени с предыдущими номерами.
5. Апостол. Бум. в лист. 1 столбец. Есть приписка простовато-забавная, по-видимому, современная: «лета ѕц҃ѕі (1408), Блоуди (наблюдай) блоуди їноче блоуди блоуди брате и паки рекꙋ блоуди что хощет бити на нѥⷵби знамениѥ и на земли тоуга езыком сечь киръ якоже несть била никогда. Ржтⷵдтво вьнеделю... Петрь в пяток (птє). Блоуди луна а҃, слнце а҃." 211.
6. Псалтирь, Бум. 80. 1 столбец. Недостаёт в начале трёх тетрадей. Не очень древняя и не представляет в себе ничего, достойного замечания.
7. Служебник. Бомб. 80. 1 столбец. Хорошего большого письма. После трёх литургий положены Апостоло-Евангелия на значительнейшие дни года. В конце книги есть приписка: Бъ҃ да простит Иеромонаха Евфимию грешнаго еже и списавших сию книжицу попꙋ Дмитроу. И васБъ҃ да простит. Бросилось в глаза несколько особенностей литургийных. Так напр. на Проскомидии вместо так называемых «девяти чинов» указано вынимать одну часть, и полагать на той же левой стороне, где и часть Богоматери. Просфор насчитывается пять. Странно, что и диакону указывается тоже вынимать частицы за живых и усопших. В самом последовании Литургии стоит, как и теперь, милость (а не елей) мира, но за тем следуют слова: жертва пения, Молитва о призывании Св. Духа не положена. В явлении Св. Даров диакону указывается говорить только: приступите, а священник сам прежде того скажет: со страхом божием и верою. В литургии Св. Василия В. нет известных слов: преложив я Духом твоим Святым. На Литургии Преждеосвященных Даров указывается священнику, при произношении слов: свет Христов просвещает всех, смотреть к востоку.
8. Служебник. Бум. 80, 1 столбец. Гораздо новее предыдущего номера. Помещены в книги: чин поставления Подиакона и Диакона, и чин, бываемый на поставление Попа. Везде указывается говорить: достоин, а не аксиос, и притом, при рукоположении Диакона, один только раз, по наложении ораря, тоже и при священническом рукоположении, но не сказано, когда именно. Говорится только: по аминь, архиерей преложить заднюю часть ораря его на предь. Потом облекут его вь фелонь, и целовав его, повелит стати емꙋ с прочиими попы. Есть два листка из чина Архиерейского служения; там попалось в глаза следующее: В первиих помени Ги Архиепископа, протопопа и Хартофѵлака и прочии попии. Епископа (?). Последи же диаконы в олтари стое:Матѳеѧ212, преосвященного архипⷵка Оустынианы и всее Бльгарие и всее поморскые и западные земли«. Тут же, но другою рукою написано:Кирилла, Епⷵка нашего213.
9. Часослов. Бум. 80. 1 столбец. В начале недостает целых 17 тетрадей. Последняя помечена цифрою лꙁ (37). В конце есть приписка: "Ведомо буды, яко скончасе синаксарь (?). Слава ти ст҃аа Троице». Какое отношение имеет к часослову синаксарь? И какой синаксарь? И что за нужда делать ведомым кому-то о его скончании? Про всё это ведает один писавший заметку. Письмо книги XVI века.
10. Часослов. Бум. 160. Без начала и конца. Совершенно разбитая книжка. Того же века.
11. Октоих. Бум. 80. 1 столбец. Книга содержит в себе одни Воскресные службы восьми гласов. Конец оторван. На дощечке замечено скорописью: Вь лето, зр҃ (1672) паде слана (?) мц҃а априля к҃ѕ, и поварiило ꙁїга (?). И вьсе лето тоурцы повоеваше на Московiю, и беше гладъ крепко по местамь на вьсточнеи стране«. А еще ниже прибавлено: Тогда прѣповезахъ сию книгꙋ грешни попь Никола при господине влдцѣ моего Феофана. У. града Скопiя. И простите ми отцы и братия моя»... Чем-то Московийским веет от этой безграмотной заметки особенно – от частого употребления е вместо ѣ. Обстоятельство, что книга когда-то находилась в Скопле, бросает некую тень на туземное происхождение монастырских рукописей.
12. Минея – Октябрь месяц. Бум. Лист. Без начального листа. О нашем празднике Покрова нет помину. 14 числа положена служба Св. Параскеве. Указано совершать бдение. Святая постоянно именуется петка, в зват. пад. петко. На литии первая стихира начинается так: Пришествiем сыт҃хь мощеи твоихь срьпска земля обогатисе». Канон 6-го гласа. Начало первого тропаря: «Параскевiя славная»... Акростиха не придерживался писатель. Книга должна принадлежать ХVI в.
13. Минея – Июнь месяц. Бум. лист, 2 столбца 1546 г. В конце есть приписка: "Писасе сiя книга вь лето ꙁн҃д егда доспехь мою (sic) наста лето зне. Чпште и мене помэнште грэшнаа и худа вь священноиноцехь iеромонаха Пахомiе писавшаго сiе грꙋбо».
14. Минея – Июль месяц. Бум. Лист, 1 столбец, 1549 г. В конце приписано: Слава Бо҃у вь троицiи давшемоу по зачалѥ и конць. Томꙋ слава вь безконьчнiе вэкы. Аминь. Лѣтаꙁн҃ꙁ. мц҃а генвара к҃ѕ« К книге приплетена служба Св. Иоанну Предтече (7 янв.). В конце её опять замечено: Честнѣиши и ст҃ѣши оц҃и любве ради х҃вѣ аще что ѡбрещете прочитающе погрѣшено исправляите и блвⷵите а не кльнете нь поминаите и нась грѣшныхь трꙋдившихсе вь стыихь вашихь млт҃вахь. Понеже не писа дх҃ ст҃ы ни а҃гль нь рꙋка бреннаа и грѣшнаа и вась Бь҃ да простить. Аминь. Монах iерей»... следует неразбираемая монограмма.
15. Богородичник. Бум. лист. Начинается Субботним каноном 1-го гласа и оканчивается каноном в Пяток вечера 8-го гласа, совершенно сходно с положенным в нашем Октоихе навечерними Богородичными канонами. К ним приписаны ещё каноны на 8 гласов, т.е. по одному на каждый из гласов, с канонами «мꙋченикамь, ст҃ителем и преподобнымь и оусопшымь» также на 8 гласов. В конце книги заметка: "Сiа книга гл҃емаа Мольбникь Бц҃и. Вь ѡбитель. ст҃го Iоанна Предтеча». ХVII века.
16. Номоканон. Бум. 80. Семь тетрадей разбитых. ХVII века.
17. Синаксариарий. Бомб. 80. 1 столбец. Не достаёт в начале целого Сентября месяца и первых 10 чисел Октября. Начинается так: "Вь тоиже дн҃ь (Окт.) память седмаго збора. Ст҃ыи седмыи всеѧ вселенныѧ збор бысть в Никеи«... Книга стоила бы подробного обследования 214. Может относиться к XIV веку.
18. Златоуст. Бум. лист, 1 столбец. Без первых трёх тетрадей. Начинается следующими словами (вероятно из жития Святителя): »чищенiе навикноути. Ибо вь всемь стымь вьсемь бѣше подобень... видѣ же и кельтскыи народь арiанскою ересiю везещь вь сѣти«... В конце книги есть приписка: "И писасе сiа Бж҃твнаа книга Златоꙋсть вь лѣто ꙁн҃ѕ (1548) мц҃а Декабря ла҃. Сьвершисе же вь монастырь продрѡма при iгумена Серафима iеромонаха: и потрꙋдисе ѡ семь послѣднiи вь иноцѣх и ꙋбѡгги вь чл҃цѣхь, а богатiи вь грѣсѣхь Висарiѡнь iеромонахь ѡт Дебра, вѣчна мꙋ паметь».
19. Св. Ефрема Сирина поучения. Бум. лист, 2 столбца. Без начала и конца; первый лист – из 27 слова – начинается так: »гл҃ющꙋ поношенiа притчаа (?) дша моя«. Конец на слове 109-м »о покаянiи и ѡ любви, еже и о крьщеныхь и исповѣданiи и крⷵтоу похвала, ѡ бꙋдꙋщемь соудѣ: Ничтоже почтемь любимаа братiе паче нелицемѣрние любве».
20. Св. Иоанна Златоустаго избранные слова. Бомб. 80, 1 столбец. Всего 10 слов принадлежат Златоусту. Следующее 11-е есть Св. Григория Синайского о том, «что́ есть образь иночьскаго жития», начинается словами: «постриженiе ꙋбо власомь»... Затем следует жизнь Св. Василия нового. Потом ещё статья (без начала), начинающаяся словами: «нь вь вѣроу правоу на дѣланiе заповѣдей»... ХV века.
21. Св. Кирилла, архиепископа Иерусалимского поꙋченiа и прѣнiа кь жидовомь. Бум. лист 31 тетрадь. Начинается книга словами: ꙋже блаженства воля на вiи ѡ просвѣщанiе». В конце 5-го тайноводственного поучения приписано:х҃с. ꙁча и к(Христос зачало и конец). Вь лѣто ҂ꙁн҃е (1547) мц҃а авгоуста ла҃ писа сiю бж҃твноую книгу послѣдины и богати вь грѣсѣхь вь иноцѣхь iеромонахь Висариѡнь».
22. Аввы Дорофея – ученыа разлычна кь своимь ѥмоу оученикѡмь. Бом. 80, 35 тетрадей. Конец крепко попорчен. Первое поучение начинается: «Хвалю оусердиѥ»... Второе: «О оц҃и Досиѳеи. Блажени поистинѣ Авва Дороѳеи». Есть статьи и других подвижников. Книга не ранее XVI века.
23. Сборник разных статеек скорописных не одного времени и не одних рук. Есть любопытные местные заметки исторического характера, указания погоды, врачебные наставления и пр.215. Начала нет. Бум. 160. 13 тетрадок.
24. Τετραευαγγέλιον. Бомб. 80. 1 столбец. Толстая книга, вначале своём крепко повреждённая; есть в ней деление на главы (по старому порядку), без означения стихов, принадлежит XV веку.
25. Ὀκτώηχος. Бум. 80. 1 столбец, совсем разбитая книга XV-XVI века.
26. Ὡρολόγιον. Пергамент, 160. Без начала и конца. Всего 9 тетрадок. Листы крепко подмочены и покороблены. Письмо порыжело, и с трудом читается. XIII-XIV века.
27. Λόγοι τοῦ ἁγίου Ἰω. τοῦ Χρυσοστόμου. Пергамент, 40. 2 столбца. Книга состоит из 24-х тетрадей, обглоданных кругом мышами. Нет ни начала, ни конца. То, что сохранилось, есть 12-я по числу беседа, оканчивающаяся словами: εἰσσεβε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου· ἧς γενοιτο ἅπαντας… κ. τ. λ. оканчивается книга 38-ю беседою на словах: ὤντως επεφάνη ἡμῖν… Судя по характеру письма, книга должна быть ХI-го, если не ранее, века. Несомненно, что это самая большая древность в обители, но кажется также несомненно, что она занесена сюда от инуды.
Обзор, хотя и самый поверхностный, почти трёх десятков старых рукописей, большею частью очень повреждённых, отнял у нас вечер, и прихватил большую часть ночи. Последствием его было крепкое истомление и внимания, и зрения. Всё в обители уже почивало глубоким сном, когда я, окончив свою работу, вышел на крыльцо дохнуть чистым воздухом, освежённым к тому же ещё дождём. Полная луна стояла высоко на небе. Вспомнил я наказ давнего книгописца: блюди, блюди иноче! Блюди брате! Луна а, солнце а. И смешна и трогательна была забота «брата» по званию из XV века, ожидавшего от луны а и солнца тоже а, т.е. от перемены Великого Индиктиона великих перемен, а от того и знамений на небе и на земле. Не имеем свидетельств, как встречали иноки тот Индиктион (собственно: круг или период Индиктионов), который провожал наш безыменный наблюдатель небесных явлений. Но можно, не ошибаясь, думать, что в 877 году от форм и пределов земного летосчисления ставили в прямую зависимость всё, неширокое и не глубокое тогда ещё, небо. А ещё назад за один великий Индиктион, в 345 или 346 г., не только верилось всеми в тожество неба веры с небом мироздания, но, по вере их, даже виделось множеством людей, как стоял и сиял паче солнца на небе, простиравшийся от Голгофы до Елеона, христианский крест!.. Так представлялось дело: чем глубже в древность, тем проще! Что будут чувствовать, говорить и писать иноки инокам к началу будущего великого Индиктиона в 1941 году? Многим кажется, что иноков к тому времени уже не будет… Это первая причина не говорить им тогда ничего ни о луне, ни о солнце. А во-вторых, едва ли что останется к тому времени в науке от старых понятий о небе, о кругах – лунном и солнечном, о разных знамениях небесных и тому подобное. От всего, упомянутого в отысканной нами заметке, доживёт до того времени разве только одна «тоуга езыкомь» обо всём старом, давноминувшем, безвозвратно исчезнувшем, – и о небе и об Индиктионе и об иноках и об их заметках рукописных и о самых рукописях.
Слепиште 216). 27 Мая. Четверток.
Занятие рукописями преследовало меня даже во сне. Оно же подняло меня на ноги с рассветом. Дребезжащий звук колокола приглашал нас в церковь на утреню, но я предпочёл «зрению деяние», или, если угодно, наоборот « зрению деяние», выражаясь языком подвижников, т.е. вместо молитвы присел к работе. На которой стороне более деяния или зрения, это могли бы решить «грешный поп Никола» или «богатии вь грѣсѣхь Висариѡнь иеромонах», писавшие божественные книги и отбывавшие в то же время божественную службу. Поздно вечером вчера ещё отыскан был по темным углам обители целый десяток старых книг. Нужно было для полноты дела пересмотреть и их. Это были: 2 Евангелия, 2 Апостола, 3 Псалтири и 2 Лествицы. Одно из Евангелий – бум. 80 1 столбец – можно относить к XVI веку. Другое – бум. лист – не выходит из ХVII века; одного формата и как бы одного письма с последним есть и Апостол, в котором не достаёт первых пяти тетрадей. Другой Апостол – бум. мал. 40 – полный, но совершенно разбитый или того же, или ХVIII века. Из Псалтирей одна – бомб. мал. лист – крупного уставного письма несомненно XV века. Другая – бум. 80 – весьма разбитая, XVI века, отличается тем, что к ней приплетена часть Синаксариария, писанного на коже. Третья псалтирь – бум. мал. 40 – без начала и конца, принадлежит прошлому столетию. Из Лествиц старейшая – бум. 80 – хорошего письма с красными и зелёными заглавиями, не имеет ни начала, ни конца, состоя только из 8 тетрадей. Принадлежит XVI веку. Второй экземпляр её, во всём (сколько можно было наскоро сличить) сходный с первым, совершенно полный, имеет впереди себя и изображение самой «лествицы божественного восхода». Должен принадлежать ХVII веку. Осмотр этих последков был довольно беглый. Чувствовалось вообще утомление от занятия, хотя и нетрудного и даже весьма приятного, но довольно однообразного. Отдыхом и развлечением послужил самовар, составляющий, как заметил наблюдательный компаньон, предмет специального изучения со стороны братий честной обители, т.е. деда, отца и внука, особенно же – сего последнего.
Пора было нам познакомиться с монастырём. Надобно же было досмотреться пресловутого книжного подвала, о котором я первые сведения получил ещё в Царе-граде, или хотя увериться, что такого вовсе нет, или что он «был да сплыл» по пословице. Так как вчера, по возбуждённому книжному вопросу, часто слышалось имя третьей какой-то комнаты, то, прежде всего мы и постарались отыскать её. Она-то, конечно, и славится под именем «подвала». Это род тёмной кладовой со всяким скарбом и хламом, негодным, или, по крайней мере, не пригодным для употребления, в том числе, и старыми книгами. При одной из стен во всю длину её тянется широкая полка. На ней и лежали те рукописи, которые нам принесены были для просмотра. Заглянув на неё с зажжённым огарком свечки, я не нашёл там более ни одной книги, а только в разных местах валялись одиночные листы и может быть целые тетради, запылённые до того, что их нелегко было отличить от самой полки. Очевидно, что это остатки тех же богослужебных книг. Рассчитывать более, значит, было не на что. Каких-нибудь хрисовулов, дарственных записей, судебных актов, описей, приходорасходных книг и проч., оставшихся от времён древних, обитель теперь не имеет. Находившись много лет в совершенном запустении, она естественно не могла уберечь ничего, и диво ещё, что, хотя что-нибудь уцелело в ней. Как опять не похвалить фатальное равнодушие турков к церковному делу райядов. Тогда как в нескольких часах отсюда к западу, лет за 5 перед этим, греки сожгли два воза древних славянских богослужебных книг в патриотическом остервенении, турки оставляют неприкосновенным целый склад органов и проводников ненавистного им учения, и при случае даже свято охраняют их!
Всё же, посещение «третьей» комнаты не осталось совершенно бесплодным. Там же я досмотрелся приставленных к стене, так называемых «диптихов» церковных, т.е. больших деревянных складней, хранимых обыкновенно на жертвеннике и исписанных именами, предназначенными для всегдашнего поминовения при божественной службе. Больший и древнейший из них я осмотрел подробно217. В нём помещены, главным образом, имена братий монастыря. Во главе стоит имя иеромонаха Саввы, конечно ктитора обители. За ним стоит имя архиерея Макария (вероятно вышедшего из братства, или – наоборот – оставившего кафедру и поступившего в братство). Затем идёт целый ряд иеромонахов, иеродиаконов и простых монахов. Всех имён 34. В других побочных столбцах из множества имён выступают Дионисий архиерей αχοα (1671) года и Герман архиерей, – вероятно вкладчики монастыря. Заметив, что я интересуюсь разбором и списыванием имён, мне доставили целую книгу их. Это был монастырский помянник, писанный или на бомбицине или очень толстой бумаге, in 40, принадлежащий началом своим XVI веку, весьма любопытный в местно-географическом отношении. Начинается он так. Помѣни Ги҃ Архiепископа нашего първiе Iоустинiанiе Кир. Прохора. За тем следуют имена Епископов: Никифора, Герасима, Агапия (вероятно епархиальных), Всеосвященного Епископа Кир. Григория (Авлон), Сосипатра (Кратово), Паисия (град Воден), Герасима (Волож)218, Никодима, Герасима (Велес). На другом листе читается: Памѣния Ст҃ѣишим Митрополитом и боголюбивым Епископом. Всеосвященного Митрополита Кир. Митрофана. Епископов Афанасия, Пахомия. Новоначертанного (?) иеромонаха Каллистрата. Затем следуют на 7 тетрадях имена мирян, мужские и женские, как попало, с обозначением их места жительства, – и славянские и греческие. Видно, что памѣнник писан «таксидиотами» т.е. сборщиками, ходившими с книжкою по окрестным городам и селам. В конце помянника приписан Параклис (молебен) Св. Иоанну Предтече, не имеющий теперь конца. Конечно, таксидиот, по желанию христолюбивых дателей, правил по нему в домах молебен Св. Патрону обители.
Осмотрев монастырь внутри, мы пожелали обойти его и совне. Грязь от вчерашних дождей не послужила препятствием к тому. Объём монастыря оказался, конечно, незначительным. Стены ни древни ни новы, ни высоки ни низки, более невзрачны, чем величественны. Двое ворот – восточные и южные – запираются надлежащим образом. Над первыми, остающимися главными, есть под аркою изображение Св. Иоанна Предтечи, а под ним сделана и надпись славянскими буквами, гласящая: Изволением Отца и поспешением Сына и свершением Святаго Духа писасе сиа святои ѡбраз ва лето ҂ꙁр҃ме (1637). И писах при ѡромонахе игумене Сава. И над другими воротами тоже есть изображение и при нём надпись в 4 строки, которой мы едва досмотрелись из-под слоя пыли и грязи. Поднявшись к ней по лестнице и вымыв её тряпкою, мы прочитали: † Изволением Отца и поспешением Сина и Сфетаго Духа. И да се знае… Монах Киприан от село Скребля. Ва лето ҂ꙁрмѕ месеца септеория. Так как разница в летосчислении с предыдущею надписью только на один год, то и можно думать, что творец обеих их есть один и тот же, т.е. монах Киприан из Скребли. Но очевидно, что он не был ни строитель, ни обновитель, а только росписчик, или – по любимому выражению тех времён – историк обители. Старая церковь внутри тоже была вся расписана иконами. И в ней тоже были надписи и внутри, и снаружи. Когда я выражал сожаление, что они пропали для нас бесследно, Игумен утешил меня заверением, что их списал его «поп таксидиот», т.е. отправленный за сбором подаяний ещё один (вероятно самый главный или, по крайней мере, самый существенный) деятель в предпринятом восстановлении обители. Игумен Сава, с которым мы вот уже двукратно встретились, не был, как видно тоже, ктитором монастыря, а только в своё время обновил его. Теперешний возобновитель о. Николай тоже будет зваться ктитором, и, если, замазав прежние надписи над монастырскими воротами, напишет вместо них подобные же со своим именем, то будущим поколениям останется знать и верить, что Слепченский монастырь выстроил «боголюбивiи хтиторь попь Никола, ва лето 7373», или другое смежное с ним.
У монастыря есть и своего рода «пустынь». Через поле ближе к горам, по направлению к северу, белеет среди зелени, хорошо различаемая, небольшая церковь. В надежде хотя там найти нечто подревнее 1637 года, я отправился и к ней. Она выше положением монастыря, и от того зовётся «горною». Прямое имя её Богослов, потому что посвящена имени Св. Иоанна Богослова. Над входом в неё я с удовольствием уприметил тоже надпись, хотя начертание букв, одинаковое с монастырскими надписями, и не обещало чего-нибудь очень древнего. Было написано: Помени Ги҃ Иеромонаха Герасима. При Егумена Венiамина Иеромонаха, в лето ҂ꙁрке (1617). Приобрели лишних, 20 лет древности против памятников монастырских. Внутри церковь оказалась маленькою, но зато расписанною снизу до верху по стеротипным иконописным образцам рукою натёртою, но неискусною. На правой стене есть и историческая заметка художника, содержащая следующее: Изволениемь оц҃а и поспѣшениеьм Сина и съ врьшениемь Ст҃го Дꙋха писасе сей Бжⷵтвеннiи храмь ст҃го Николае (а не Богослова!). И потрудь матеѧ ермонахь при Игꙋменꙋꙗкимъ, Вь лѣто ҂ꙁрле (1627)219. Нечего было более рассматривать и списывать. Оставалось только полюбоваться местом. Оно очень хорошо и отлично годилось бы для Скита. Уединение глубокое. Кругом богатая растительность. Вид на окрестные горы. Вода поблизости. Чего нужно больше трудолюбцу, отверженному миром или отвергшему мир, и взыскавшему Бога сообщника, сотрудника, собеседника себе? Но, увы! Всеразрушающее время подточило старые затвержённые понятия о мире и не мире, о жизни для Бога и о жизни (на языке мирском: о пробавлении)... Богом. Не притягиваю я за волосы подобные мысли. Они сами собою лезли в голову у Агиазмы, к которой мы перешли от церкви. Что такое: Агиазма? Слово не славянское, целиком взятое у греков, и оставшееся у единоплеменников наших без перевода всего вероятнее потому, что не поддавалось простому практическому смыслу их, не выражая собою ясного определённого понятия. Ἁγίασμα – до слова то, что освящено, и прилагается преимущественно к освященной или святой (по-нашему) воде. А тут целый родник воды, и вся она почитается святою уже не по освящению, а по природе. Такими «агиазмами» переполнен Восток. Это совсем не то, что наш «водосвятный колодец», являющийся с прямым и положительным значением. На юге и у нас в России можно встретить, впрочем, «Святую Криницу» с оттенком греческого смысла. Отчего она Святая? Помню, спрашивал простовато-лукаво один студент пан отца Феодора. – Да, оттого, что тут святим воду, отвечал тот коротко да ясно. – Но тут выстроена уже и каплица, уставленная иконами, в роде как бы маленькой церкви? – Чтож? И прекрасно. Приди, покушай воды во здравие, отдохни и кстати помолись! – В самом деле, прекрасно. Только так же ли тот же батюшка объясняет значение Святой Криницы и Грыцьку и Оксане и их маленькой Гапке или Марусе?.. На Востоке, напр. даже в самом Константинополе, дело идёт ещё «прекраснее». Там не остановятся на слове: помолись, а присовокупят ещё: купи и поставь свечку (от 1-го пиастра до 1-го меджиде ценою). Запиши кого хочешь на поминовение (от А до Z), выпей кофе (по таксе), а то и полакомься мастикой с рахат-лукумом, погуляй, потанцуй, проведи целый день... Целая, так сказать, святая афера! Чтож? И прекрасно! Мне utile, а тебе dulce. Рассчитайся, и иди с Богом! Но да не подумает читатель, что такая агиазма устрояется там церковью в видах церковных. Ничего не бывало. Её содержит, такой же торгаш, как и все городские лавочники. Это своего рода бакалейный товар духовного требования. Духовное лицо если и является тут иногда за чем-нибудь, то разве только в качестве «рассыльного» и редко «компаньона». И никого на Востоке не блазнит такой порядок вещей в текущем Великом Индиктионе!.. Но на прощание с Слепченской агиазмой скажу, что, в виду нескрываемой интенции современной жизни и науки omne naturale возвести в sanctimoniale, я желаю не уменьшения, а размножения такого рода святых криниц малороссийских, часовен великорусских и агиазм греко-славянских, с их иконами и евангельскими напоминаниями человеку о Христе, о душе, о суде, обо всём, что старается вывеять у него из головы дух века. Прикомпанившийся святому делу житейский расчёт легко отделить и отдалить от него, а идея духовного чем глубже войдёт в него и укоренится в нём, тем лучше человеку.
Прилеп. 27 Мая. Вечер.
Когда мы возвратились в монастырь, Търпко всё уже приготовил к отъезду. Тут мы узнали, что наш суруджи есть сын старого проводника нашего. Ради сего мы наняли под него особого магаре (осла), чтобы сберечь его ноги, которым ещё много беготни предстоит в жизни вдогонку за куском хлеба. О. Игумен не хотел отпустить нас в дорогу тщи, т.е. тощими, и пригласил закусить. Передавая эту весть компаньону с достойным её благорасположением души, я неожиданно встретил насупленное лицо и спросил заботливо, что с ним, и здоров ли он? – Оборвались! отвечал он сквозь зубы, устремивши мрачно взор в угол комнаты. Смысл этого пифического изречения мне слишком хорошо был понятен, и я едва удерживался, чтобы не разлиться хохотом. – Ну, так что ж такое? Начал я утешать преогорчённого собрата. – Как, что? Стыдно! – Вот нашли время и место для стыда! Идёте, покушаем. Всё как рукой снимет... Когда мы сидели за столом, нам ещё принесли для просмотра отыскавшиеся где-то 5–6 рукописных книг, в числе их два служебника и один требник славянского письма, и две греческие рукописи: четвероевангелие на хлопчатке, in 80, века XV, и октоих – бум. 80, XVI века. Приятное зрелище этого старья было последним впечатлением нашим в обители. Мы успели пересмотреть её 40 рукописей. Довольно с нас. Я просил о. Николая ради памяти в Бозе почивших трудолюбцев «попа Николы» «попа Дмитра», «грешнаго и худаго во священноиноцех Пахомия» и других его предместников, беречь книги яко зеницу ока, собрать и держать их все вместе, устроив для них особый шкаф с полочками под замком, ибо это есть завет веков минувших векам грядущим, и проч. Особенно рекомендовал ему смотреть крепко за кожаным четвероевангелием, объяснив ему разницу рукописного и печатного и относительную ценность бумажного, хлопчаточного и кожаного. Старец обещал сделать, что́ нужно, и просил помочь ему, насколько это в нашей власти, возвратить монастырю его первоначальное значение. Бог поможет, отвечали мы, и на этих словах расстались.
Весело спускаемся с подгорья в долину. Смотрите, не «оборвитесь», замечаю я спутнику на одном скользком месте. – Хорошо вам смеяться, отвечает он, а если бы вы сами. – Ну, а вообще-то, как? Прерываю я его. Всё обстоит благополучно? – Ничего! отзывается он по-прежнему сквозь зубы, но с интонацией голоса, знаменующей ясно, что его «ничего» далеко не есть тоже, что: ни что... Търпко был рад, что юнак его тоже едет, и в благодарность старался болтать о чём-то. Погода стояла прекрасная, но видимо ненадёжная. Зловещие облака тёмного цвета неслись с запада бесперерывною вереницей. Встречается при дороге небольшое селение, очевидно христианское, т.е. болгарское, потому что в числе живых существ, бродящих по позадворьям, мы видели и тех, которых даже назвать по имени не согласится добрый магометанин. Собаки с лаем кидаются на нас, а полуголые мальчишки бегут с дороги, куда попало, спасая живот свой от вооружённого передового нашего. Опять поля мягкие, чернозёмные и ярко зеленеющие. Вид разнообразится. Встречаются перекрёстные пути. На досуге перебрасываемся с компаньоном несколькими замечаниями из области истории, филологии и даже ботаники, коротая время или и просто упражняя дар слова. Тьрпка, по-видимому, нисколько не занимает беседа наша. Самоуверенный вид его, с которым он вчера ехал в Слепче, сегодня как будто оставил его. По временам он беспокойно посматривал по сторонам. – Боишься Търпче? – Спрашиваем мы. – Нет, отвечает он протяжно, видимо не так, как ответил бы палликар, заподозренный в трусости. Тайна вскоре объяснилась. У первого встречного он начал отбирать показания о «более прямой дороге на Прилеп». Разуметь же следовало вообще дорогу туда. Несмотря на его утверждения, что он знает Македонию, как свою ладонь, едва ли не в первый раз он ехал путём этим. А впрочем, и то может быть, что от великого половодья горные долины эти делаются в иных местах не проездными, и что самому лучшему знатоку местности необходимо наводить справки от туземцев. К полудню начало парить, что сочтено было нерадостным явлением. Давно уже сзади нас слышались глухие раскаты грома. А тут вдруг гром раздался сбоку, да ещё и с удвоенною силою. Подняв голову, мы увидели, что и справа и слева надвигались на нас грозные тучи. Особенно пугала нас южная, собиравшаяся очевидно всё у той же зловещей «голубицы», нашей знакомки Битольской, обыкновенно вместо ветки масличной приносящей краю проливной дождь. Ещё село в стороне, в такой прекрасной местности, что спутнику пришли на память поля Елисейские. – Уж не берёзы ли это белоствольные высятся там около какой-то загороди? спросил я, указывая налево к отысканному у Ипербореев Елизию. Новой Колумб, в ответ на это сказал, что он слышал в Битоле от Х, что на вершине Перистери есть целая роща берёзовая. Мне показалось сомнительным подобное обстоятельство. Наведши зрительную трубу на деревья, я не нашёл стволы их на столько белыми и как бы пухлыми, каковым представляется наше, столько памятное, берёсто, да и цвет листьев и очертание их не говорили прямо о любезной берёзке. Особенно же «Иудин» трепет листьев выдавал в них скорее осину или малороссийскую осокорь, а не берёзу. А всё-таки «Русью запахло» от убогой деревушки. И долго ещё я оборачивался с лошади, чтобы полюбоваться на тех «ворон» растительного мира, по классификации детского мозга. Небогатая панорама родного села обиловала в давнее оное время залишком берёзами и осинами. Оживляло же её зрелище, под стать ей убогое, сорок и ворон. Почему-то первых фантазия приурочивала к берёзам, а вторых к осинам. Вероятно, степень белизны перьев тех и других давала повод к тому. Разумеется, по этой «философии бессознательного», берёзы и сороки занимали первое, а вороны и осины второе место в списке предметов, интересующих сердце. Не хороша, по крайней мере, не так хороша, была вторая категория уже и тем, что кроме отталкивающего предания о христопродавце, осины не давали берёзовки и не годились на веники, а вороны своим карканьем разрушали самые заветные мечты о «загородке» с её грибами и ягодами... Теперь оставалось выкинуть из памяти «давнопрошедшее время» и затверживать одно «будущее». Грамматика не менее скучная, чем и та 20-х годов, которая умела и самые берёзки делать страшилищем для детского воображения, напоминая ими пресловутую «берёзовую кашу».
Поднимаемся на небольшую высоту, направляющуюся с севера на юг и служившую доселе пределом кругозора нашего к востоку. Дорога повёртывает к югу. С одного пункта неожиданно открывается нам зрелище, вполне вознаградившее нас за терпеливое трёхчасовое высматривание привычных глазу горных высот. Прямо на восток стояла перед нами тёмно-фиолетовая масса скал самых причудливых очертаний. Первое впечатление рисовало её гигантским комком подсыхающей грязи, вывороченным прошедшею по местам этим в период мироздания колесницею Димиурга220. Торчали в небо какие-то сосульки, пупышки, головки, не поддающиеся никакому описанию. Перевидал я множество гор с разновиднейшими вершинами, но таких вычурных верхушек, которые – можно сказать – дразнили теперь глаза, ещё не случалось видеть. – Вот это и есть Прилеп, сказал нам, обернувшись, Търпко; под этою горою стоит город. – Дождавшись такого развлекающего зрелища, мы сделали привал у первой воды, и расположились под деревом на густой траве. Нужно было попоить лошадей, да, кстати, с ними и седоков. Мы находились уже на великой равнине Пелагонской, хотя кругозор наш всё ещё стеснялся выступающими в неё в виде мысов, подгорьями западной рамы её. Хотел я срисовать на память себе вид Прилепской горы, но на беду никак не мог отыскать карандаша. Уставши лежать и читать злой памяти «немецкие книжки», я пошёл разбирать великий и стародавнейший манускрипт Божий, расстилавшийся впереди нас цветущий луг, где что ни трава, что ни цвет, то мысль зиждителя, что ни червь ни мотылёк, то его дума живоначальная, переходящая в слово, живое и действенное, – в человеке... Строгой логики не ищите в гуляющей мысли. Довольно, что она в каждой форме физической жизни ищет видеть букву книги Божией. Сбирая цветы, я довольно далеко ушёл от места отдыха, и, видя перед собою ровную нескончаемую дорогу, пустился по ней вперёд. Сладость полнейшего одиночества переполняла душу. Напрашивалась память несчётных пешехождений моих в минувшем, тоже одиноких и тоже иногда довольно рискованных, от самых кратких в несколько десятков шагов до самых длинных в 800 с лишком вёрст. Последним я мог бы, но, к сожалению, не заслужил права, похвалиться. Непрактичность так называемого «зелёного» ума испортила эффект. Начитавшись рассказов о пеших странствованиях немецких «гелертеров» с батожком в руках и котомкой за плечами, я обратил это обстоятельство в вопрос чести для себя. Как? Немец может это делать, а русский – нет? Да не будет! Сказав это, я взвалил суму на плечи, и отправился из одного большого города русского в другой самый больший у нас, – как говорится, один-одинёхонек. Напевавшаяся без конца песня о рыцарском подвиге держала высоко мою голову до первой станции. Но тут и ждало меня искушение. Проезжавший куда-то из того же города на почтовых, профессор Д*, поравнявшись со мною, спросил: а вы куда, юный старец? – В X*. – В X* – прямо? Далеконько же! – А вот немецкие гелертеры и дальше моего ходят... Садитесь-ка со мной, да расскажите, как они ходят. Предложение это было сделано таким тоном, что отказаться значило обидеть человека. Решимость моя состязаться с немцами потерпела, как говорится, фиаско. Целые 53 версты пролетел я на почтовых. Компаньон мой не переставал трепать меня по плечу и приговаривать: так, так! Отставать от них? Ни за что на свете! И весёлый смех оглашал окрестность до самого пункта, где отличному человеку (да будет память его с похвалами!) доро́га выпадала на лево, а мне на право. На прощанье он ещё осмотрел меня всего с головы до ног, и весьма значительно остановил взор свой на последних, но не сказал ни слова, зная, что самый лучший профессор на свете есть собственный каждого опыт. На другой день к вечеру я был, что говорится, уже без ног. Казённые сапожки, годные для комнат и для класса, до того стёрли мне ноги, что я не только идти, но и пошевелить ими не мог... Отодвинулась уже и эта «история» в роковое прошедшее чуть не на ¼ столетия! Шёл я, почти тоскуя по невозвратимом минувшем, пока Търпко не нагнал меня с лошадью. – Ну, спроси же, думаю я себе, как спросил тот, а вы куда – старый юноша? – Ни он не спрашивает, ни у меня бы уже не нашлось самодовольного ответа. Идём далее. Равнина всё более и более раскрывается перед нами. Показывается на далёком юге хребет Сухой горы или Боры, оканчивающийся на западе громадой Перестери, закутанной в облака. Стал накрапывать дождь, но опасность промокнуть до костей уже миновала. Обе тучи, гнавшиеся, казалось, по пятам нашим, прошли на восток, не захвативши нас. Равнина всё ширится, почва становится мягче и сырее. В стороне большое село: Бела-церква, не дающее уприметить в себе никакой церкви, по крайней мере, такой, к какой привык глаз в России. Белых же церквей и в Константинополе не увидишь. Цвет этот стал преимуществом мечетей наравне с чалмами. Меня уверяли в Палестине (1857 г.), что если Христиан пожелал бы повязать себе по фесу голову, то может употребить для сего только чёрную материю. В противном случае рискует потерять и capitium и caput. Чем-нибудь ярко-показным, не в меру желанным и любимым, согрешили предки наши по вере пред Богом, что он наслал на них голодранную орду так грубо унижающую их. В ответ на это недоумение моё, откуда взялся, полил дождь, да такой частый и сильный, что не позволил мне даже посмотреть, из каких хлябей небесных он выходит. За минуту перед тем виделась над головою одна радующая лазурь... Высших себе не ищи, и крепльших себе не истязуй! Так видно, надобно. Великолепная радуга, ставшая впереди нас над Прилепом, возвратила нам веру в добрую погоду. Действительно, дождь сейчас же перестал, и засияло тёплое вечернее солнце. Хватит его ещё на столько, чтобы высушить наши зонтики. Наезжаем на какие-то странные чёрные полосы по земле. Что-то противное и страшное врывается в душу. Полосы кажутся живыми. Кишит и копошится на них миллионами какое-то омерзительное население. Подъехав ближе, мы увидели простые массы чёрной мелкой саранчи, усевшейся по сторонам дороги. – Пожрёт проклятая все наши посевы! Проворчал озлобленно старик. Какой её дьявол несёт на нас? – Нескоро придумаешь, чем ответить на такой ропот. Что земля создана не для одного человека, это конечно, правда. Но чтобы труд одного вида земнородных обращался, ни за что, ни про что, в наслаждение другого вида, это неправедно. По философии абсолютного права, это так. Но куда девать этой философии наши: мёд, свечи, сукно, шёлк и всю животную пищу?.. – Търпко! Како мыслиши? Для кого курица несёт своё яйцо? Ужели для того, чтобы ты взял да съел его? – Старик не скоро понял суть вопроса, но когда понял, сразу ответил: а то что же? Сама что ли будет есть его? – Перед такою непобедимою логикою конец всякому прекословию. Подъезжаем к речке, зовомой Чёрною. Широкий и высокий деревянный мост перекинут через неё, но полотно его так ажурно, что мы не решились переезжать его верхом, а перешли пешие, ведя лошадей за повод. Странно узорчатая гора стояло уже перед глазами, а всё ещё было далеко до неё. Должно быть она гораздо выше того, чем кажется. – Пора бы уже нам увидать ваш пре-лепый Прилеп, говорю я Търпку. – А вы разве хотите в Прилеп? Неожиданно спросил он, и остановил лошадь. – А то куда же? Мы целый день едем к нему. – Если в Прилеп, то надобно было вот ещё оттуда взять направо, и ехать туда, где деревья. – Но куда же мы едем? – В Прилепский монастырь, где все путешественники останавливаются. В городе что́ вам делать? Там и ночевать вам негде. Туда ездят только в торжиште, но это не теперь, а в другое время. – Ну, в монастырь, так в монастырь, только бы поскорее добраться до места, отвечал я. Чувствовалось большое утомление. Монастырь не заставил долго ждать себя. Как гнездо птички белел в чёрных скалах голой горы Марковой, как нам её назвали. Мы прямо направились к нему, но, не доезжая горы, встретили на пути большое село Варош, и узнали, что Прилеп старых времён, о котором говорится в старых книгах, был именно на месте этого селения, в котором ещё теперь можно видеть «множество» старых запустелых церквей. Отлично. Жатва, значит, многа. Действительно, ещё издали, проезжая восточной окраиной села, я заметил большую и прекрасную церковь с высоким куполом, напомнившую мне «византийские» храмы Константинополя и Афин. Круто поднимаемся на гранитную гору. По сторонам стези нашей торчат причудливой формы каменные глыбы. Некоторые из них обрублены отвесно, и по отвесу расписаны иконами, отчасти уцелевшими. При одном из таких изображений была многострочная надпись, почти совсем уже изглаженная временем, не исторического, как видно, содержания. После многих туда-сюдов (зигзагов) дорога нас вывела прямо к воротам монастыря; как бы вделанного в скалу, напомнившего мне несколько Пелопонисский Мега-спилеон своим тесным и укреплённым входом. Икона Архангелов над воротами даёт знать, что обитель посвящена их имени. Не нужно было стучаться в ворота, стоявшие настежь. Сейчас же видно стало, что и этот памятник былых времён ничего монастырского, кроме имени, не имеет. В старые, и даже очень старые, времена тут, несомненно, была иноческая обитель, укрывавшаяся под защитой крепкого и неприступного замка ещё древнейших времён. Может быть, начало её даже предварило собою наплыв в эти места славянской стихии, если давать веру мнению, что она существует уже тысячу лет. В Сербскую эпоху, конечно, процветала вместе с именитым городом, но потом вместе же с ним и запустела под давлением ислама. Мы нашли в монастыре население, которого даже после Слепченского, не ожидали встретить. Всё везде полно было приезжего народа с целою оравой детей и всякого рода и вида прислуги, с кухней и даже с музыкой. Дни были праздничные, заговельные и Христиане окрестных мест по обычаю хотели почтить их благочестивым странствованием по св. местам, и, как водится, всем домом. Да, как мне показалось, тут были и не одни христиане. Доброе соседство и обоюдная помощь в нужде всё более и более становятся в Турции звеном, соединяющим разделённые верою семьи и целые общины. При отсутствии чего-нибудь большего и лучшего, можно с радостью приветствовать и этот симптом перерождения Востока.
Нас принял священник средних лет, игуменствующий в монастыре, по примеру Слепштенского о. Николая. Немедленно для нас очищена была комната с хорошим видом из окна и более ничем, чтобы строго подходило под понятие хорошего. Для утруждённых костей наших, однако же, всё нам казалось не только хорошим, но даже отличным. Если же что, по всей справедливости, следовало назвать не хорошим, так это нескончаемые визиты гостей монастырских, не дозволявшие нам расположиться на украшающей пол рогоже, как бы того хотелось. Не замедливший явиться в «ода́ю» нашу походный самовар наш оказал неоценённую услугу, отогнав лишних любопытных. Укрепившись не заменимым суррогатом дорожной панацеи, и успев уже собрать кое-какие сведения о том, что тут есть на месте замечательного, мы, не теряя времени, под руководством одного местного провожатого, предприняли восход на Маркову гору. – Дело поначалу представлялось как бы прямо не возможным. Громадная твердыня стояла как бы отвесно над монастырём, и голова кружилась при взгляде на выспреннюю крепость, где предстояло быть нам. Нас вывели в верхнюю калитку за монастырь на северный скат горы, до того крутой, что, оступившись раз, можно было далеко неудержимо катиться кубарем к низу, пока какой-нибудь роковой удар о встречный камень не положит предела и движению, и дыханию. Под такими страшливыми мыслями мы начали свой подъём. Сперва дорога, виляя туда-сюда, давала нам возможность выбирать, куда ступить покрепче и понадёжнее. Монастырские батожки держали тела на равновесе. Приходилось шагать под углом 45° и больше сего. Потом дорожка разбежалась во все стороны. Вместо неё торчали одни каменные глыбы. Приходилось карабкаться, хватаясь за скользкий гранит всем, чем попало. Батожок не помогал более, и положительно мешал рукам. Через каждые 5 минут нужно было давать себе передышку, я старался не смотреть ни вперёд, ни назад от страха, чтоб не закружилась голова. Наконец мы оперлись в стену, перегораживавшую дорогу, но развалившуюся на столько, что ни в каких воротах не оказывалась нужда. Их и следа, впрочем, не видно было с этой стороны, так что мог бы на досуге возникнуть вопрос, откуда же люди входили в крепость в былые времена, если верить проводнику, что другого доступа к Маркову замку нет, как только от монастыря. Стена кладена из кирпича и природного камня, и идёт в несколько рядов по косогору, представляя своеобразное, величественное и вместе страшащее зрелище. Поднимаемся ещё выше, и оканчиваем восход свой у одной башни с узкими окошечками. Куда ни посмотришь, всюду видишь одно и то же. Всё растрескалось, пошатнулось, облупилось, исказилось. Нам показывают разные ямины в стенах башни, в коих часто находят целые горсти ячменя и других хлебных зёрен. Это – остатки того корма, который приносит и даёт каждую ночь своему любимому коню, обитающий в замке Марко Кралевич. В тех дырах стенных, которые можно было ощупать рукой и осмотреть глазом, на тот раз, впрочем, не оказалось ни одного зёрнышка. Не диво, что они и бывают иногда тут. Помимо Марка, их могут заносить сюда и птички, у коих водятся, конечно, по углам башни и гнезда, свидетельствуемые кучами помета. Что ни Марку, ни коню его не страшно тут жить одним, это понятно. Но как белорукий Кралевич выносит всю отвращающую неприглядность своих одичалых палат, вот этого не смекнула неприхотливая славянская фантазия, создающая своих богатырей по образу своему и по подобию. Можно было ещё выше карабкаться к остаткам самой выспренной круглой башни. Но для этого следовало бы не показывающемуся хозяину прислать нам в подмогу своего «Шарца». Всё равно, стоит же так себе даром где-то там, и ест краденый ячмень! Поговорил бы подольше о славном витязе древности на тезоименитом ему месте, но другой крылатый конь, только не Шарц, а разве schwarz, т.е. мрак ночи заставлял нас спешить возвращением восвояси. Спускаться было, хотя тоже опасно, как и подниматься, но зато дышалось легко. Мы взяли другое направление к «висячему камню», которому сказано было: стой, в тот самый момент, как он, летя сверху, готов был ринуться со стремнины и убить там неосторожного пастуха, и он повис, и висит до сего дня! А пастух продолжает внизу на поляне пасти своё стадо. Мы его видели, но конечно в двадцатом или тридцатом уже поколении. Что же касается самого камня, то справедливо, что стоит только коснуться его рукою, он и полетит в бездну, но руку-то нужно зиждительную. Часам к 7-ми ночи мы уже опять покоились в своей одае, перебрасываясь замечаниями о совершенном нами подвиге.
Кто был Марко со светлым именем и тёмной историей? Когда, где и как он жил, и чем успел стяжать себе посмертную славу? Это был один (старший) из четырёх сыновей узурпатора краля Волкашина или Вукашина, истребившего последний отпрыск владетельного дома Немашей. Сам краль этот властвовал от трёх до четырёх лет, не более. В его державствование не было особенного случая прославиться его детям, в том числе и Марку. После его кончины, с 1371 до 1395 г. Марко был вассальным владетелем Кастории. Там он прославился только своим семейным скандалом. Жена его – гречанка – бросила его, и вышла замуж за другого богатыря Балшу, который отнял у него, кроме жены, и самую землю, вместе и с резиденцией. Во всех этих приключениях не видно и тени геройства Марка. В обеих Коссовских битвах (1370 и 1389 г.) он мог быть и просиять военною славою, но сиял одним отсутствием. История не знает его во всё правление князя Лазаря и сына его Стефана IX, а вдруг, совсем неожиданно, застаёт его убитым в сражении Султана Баягида с Валашским Воеводой Мирчей (1395 г.), и притом в стане мусульманском, а не христианском! Это ли славный богатырь южнославянского мира? Правда, что он, как говорят, искал смерти, сгорая от стыда, что вынужден был воевать за чужих против своих, и тем как бы смыл пятно со своего имени, но это уже не герой песнопений народных, не юнак, не Кралевич, а сам пустоименный Краль Костурский или иной какой, купивший достоинство своё ценою унижения. Тело его привезено было с поля битвы и погребено по близости города Скопля в монастыре Власянне, следовательно, опять-таки не здесь, что бы чем-нибудь можно было объяснить приурочение имени его к местам этим. Впрочем, весьма могло быть, что и тот и этот монастырь выстроены были им, по общему обычаю времён тех. К году кончины его, он был уже преклонных лет, вероятно, давно порешивший с удальством молодости и ударившийся может быть в другую крайность. Самое место погребения Маркова не напоминает ли именем своим «власяницу» Маркову? Не довольно знакомые с памятниками южнославянской поэзии, воспевавшей с таким сочувствием Марка Кралевича, мы прекращаем свои рассуждения, боясь и так, что успели уже знатокам дела выказать себя если не смешными, то наивными221. Удовольствуемся тем, что вместе с другими признаем Прилеп родиною Марка. Довольно и сего, чтобы объяснить, отчего Прилеп старый с его замком на горе слыл в народе под именем Марковой Паланки. Обо всём этом я думал и передумывал, и отдыхая с книжкой в своём углу, и сидя за вечерней трапезой, и ходя потом по длинной галерее, освещённой полною луною. Наконец, как ни славен, ни дорог славянскому сердцу «Кралевич», он подчинился общему закону природы, – наскучил мысли. Не происходило ли ещё чего-нибудь, действительно славного, в исторической местности? Византийцы познакомились и других познакомили с нею, по-видимому, впервые. До них, конечно, знали её ещё римляне и греки и, вероятно, не раз упомянули о ней в истории, но под каким именем её знали, остаётся неизвестным. Ничего созвучного с именем: Прилеп не встречается у древних историков и географов. Был тут в Пеонии весьма именитый город Стовы – по-гречески, а Stobi – по-латински. Но учёные древлесловы указывают ему другое место, – восточнее Прилепа – и старого (Вароша) и нового (Перлепе). По свидетельству Тита Лисия (книга XXXIX, глава 59) предпоследний царь Македонии Филипп V, ведя войну на жизнь и смерть с Римлянами, выстроил неподалёку от Стоби город, который назвал, по имени сына своего, Персеидой. Легко понять, чем мог водиться он, строя новый город. Ему нужна была неприступная крепость. Что лучше для этого теперешней Марковой горы? Могло это происходить только до 178 (года его кончины) года до Р.X. ... После роковой битвы под Пидной, положившей конец Караловой монархии, погасло имя Персея, исчезло из истории и мертворождённое имя Персеиды. Постройка же должна была остаться, и, за негодностью для новых хозяев страны, мало-помалу запустеть, оставаясь безыменною развалиною во весь римский период. С ослаблением империи, пограничные Иллирийцы весьма естественно позарились на прелепое место, и втихомолку заняли его, пока не вытеснены были оттуда законными преемниками победителей при Пидне – Византийцами. Последние, не терпя варварского Прелепа, переименовали место Прилапом, напоминающим любезного педантам Приапа 222... Всё это, конечно, только могло быть. Настоящим образом познакомилась с местом Византийская хронография уже по случаю многовековых войн империи то с Болгарами, то с Сербами, из коих то те, то другие постоянно норовили отнять укреплённый пункт у греков. Положение его на рубеже славянства и эллинства, первого – ширившегося во всех направлениях, второго – пятившегося к своему исходному, но фальшивому, центру – Константинополю, делало его яблоком раздора между двумя народностями. К сожалению, немые камни, очевидцы давноминувшего, не в состоянии передать, сколько раз город переходил из греческих рук в славянские, и обратно. Нам не откуда узнать, из чьих именно рук, когда и как перешёл он, наконец, к Туркам, чтобы положить конец единоборству единоверных соперников. В конце ХIV века мы находим его под славянским владением. Если давать веру тёмному известию, что славной и несчастной памяти князь Лазарь I Бранкович был побочный сын царя Стефана Душана, то надобно будет согласиться, что Прилеп воздоил и воспитал одного из державцев земли Сербской. Ибо, вследствие известия, отец назначил ребёнку, вместе и с матерью, местом пребывания Прилеп, который, по-видимому, только что взят был им от греков.
В 1328 г. (только за 5 лет до воцарения Душана) город принадлежал Византийским самодержцам, коих было тогда два – дед и внук, оба Андроника из дома Палеологов. Деду хотелось единодержавствовать, а внучку недаром украшаться титулом императора. Последний стал забирать у первого в свои руки Фракию и Македонию, слабый старик в сотый раз, может быть, прибёг к пресловутой политике Византийского двора – побеждать своих чужими, и отправил воевод своих к Кралю (отцу Стефана Душана) уговаривать его пойти войной на мятежного внука. Серб, естественно, отказался помочь усилению враждебной ему империи. В отместку за это, может быть, воеводы, возвращаясь от Краля (проживавшего, вероятно, в Скопле), заняли Прилеп именем императора – деда. Через несколько дней после сего царский протовестиарий (тоже Палеолог и тоже Андроник) умер. Чуть узнали об этом Прилепцы, немедленно перешли вторично на сторону юного царя... Этот эпизод заставляет нас спросить: кто были тогдашние жители Прилепа? Если они были славяне, то не всё ли равно для них, который бы из Андроников ни владел ими? Иноплеменник один, иноплеменник и другой. Но старший Андроник представлял собою принцип законности, т.е. порабощения всего инородного, а младший, как сам мятежник, естественно, привлекал к себе всё мятущееся, да к тому же вошёл, секретно от деда, в дружеские сношения с Кралем. Так можно объяснять прилипание наших Прилепцев старого времени то к той, то к другой предержащей власти. Но нет, также, ничего невероятного, что жители места могли быть если не все, то в большинстве, и греки. За 8 лет перед случаем встречается у историков (греческих, конечно) имя правителя Прилепского, чисто греческое: Федор Синадино́с, тоже дальний родственник Палеологов, державший сторону сперва деда, а потом со всею, управляемою им областью передавшийся внуку. Это обстоятельство служит подтверждением того, что в самое цветущее время Сербской державы древняя Пеония или Пелагония, т.е. теперешняя Битольская равнина, считалась греческою, а не славянскою.
Ступим ещё лет на 100 далее вглубь истории. Мы станем лицом к лицу ещё с третьим притязателем на межеумочный край этот. Знакомый нам по Солунским делам, Деспот Эпирский (Михаил II), задавшись мыслью, что с падением Константинополя империя принадлежит ему, всё-таки – как бы там ни было – Комнину, а не Никейскому скиптродержцу, неизвестному Ласкарю или и совсем безвестному Ватаци, простёр свои завоевательные замыслы, прежде всего к северу от своей, вновь созданной, державы, на греческую Иллириду – старых времён, т.е. на эти самые места, и овладел Прилепом. Император (Ватаци) вырвал крепость из рук Деспота, но ненадолго. При Феодоре II она опять отошла к владениям Ангела Комнина неугомонного. Никейский самодержец решился положить конец неуместным и совершенно безвременным притязаниям на лохмотья разорванной империи одного из своих, когда столько было чужих претендентов! Феодор II Ватаци Ласкарь отправил сюда значительное войско, разбитое на несколько отрядов, вверенных наилучшим полководцам, в том числе и Михаилу Палеологу – будущему пресловутому императору и основателю династии, верховное заведывание делами поручил канцлеру империи, своему бывшему учителю и историку, Георгию Акрополиту, который сам обо всём и рассказывает в своём «хронографе» о своём посольстве в эти места. Чтобы лучше наблюдать за ходом всей компании, императорский комиссар избрал местом пребывания своего Прилеп, как пункт, пригодный, между прочим, и для наблюдения за сношениями Деспота с Кралем. Происходило это в 1258 г. Любопытно и в историческом, и в топографическом отношении описание этого замечательного государственного деятеля и отличного писателя. Видно, что не только военные чины, но и разные местные правители городов, насколько могли, старались игнорировать, или и прямо не признавать приставленного к ним начальника. Губернатором Прилепа и вместе военным начальником округа был тогда некто Скутерий Ксилей. Умный писатель играет при этом словами. Первое из имён происходит от σκοῦτον – щит, а второе от ξῦλον – дерево, что́ и даёт ему повод делать аллюзию на: деревянный щит. Комендант во всём перечил дипломату, и при первом же случае зло отомстил ему за его невинное верховенство (и за острословие, конечно). Стало известно, что, пользуясь движениями Деспота, Краль (Стефан IV Храпавый, зовомый еще Урошем I и Великим) и сам вторгся в Пелагонию. Скутерий, при вести об этом, объявил солдатам, чтобы они шли на Сербов, кто хочет. Те не замедлили уйти, только не на Сербов, а кто куда хотел. С остатком войска Скутерий и сам двинулся на северного врага, но был разбит им на голову, и едва спасся где-то в неприступных горах. В крепости Прилепской (Марковом замке) остался только сам Акрополит с 40 человеками гарнизона. Это командование ею он называет «заключением в тюрьму». Тем временем на полях Водены происходили сшибки императорских войск с Деспотскими. Палеолог пожинал лавры, но желанного оборота дело не принимало. Поверенный царский послал приказ воеводам явиться к нему на совещание. Хотя-нехотя, генералы съехались в Прилеп223, но, увидав, что делать тут им нечего, поспешили убраться от ненужного главнокомандующего. Акрополит опять остался один со своими 40 телохранителями. Чуть Деспот узнал, что воеводы отправились к своим войскам, он, как тут и был, явился перед Прилепом. Три раза храбрые защитники крепости отразили приступ врага. Но жителям города (Вароша?) наскучила, наконец, осада. Они вошли в тайные сношения с осаждавшими, отворили им ворота, что́ с поля, и впустили врага. Акрополит выговорил лично себе свободу. Но не из таких был Деспот, которые считают нужным держать данное слово. Он заковал в железа императорского уполномоченного, и возил с собою на показ всюду, где ходил со своим войском, и наконец, отослал в свою столицу Арту.
Отбросим и ещё лет 200 глубже в древность. О Сербах тогда ещё не было слышно. Никакой Деспот, кроме самого самодержца (и пустоименных властителей духовных) не был известен. Империя казалась цельною и единичною, хотя уже и крепко ущерблённою с Востока. Но борьба славянства с эллинством тогда была ещё сильнее, чем при кралях Тривалльских. Это эпоха знаменитого Самуила краля Болгарского, сколько царствовавшего, столько воевавшего с императором, то удачно то нет, то забиравшего греческие земли, то с позором возвращавшего их законному державцу. Стыд поражения сходил с него как с гуся вода, по пословице. Его владения простирались чуть не на весь Балканский полуостров. Естественно потому, что он владел и Прилепом. В 1014 г. он ещё раз направился с воинственными ордами своими по проторённой дороге к Царю-граду. Не менее его неутомимый, соперник его император Василий II не замедлил выслать против него войско под командой Никифора Ксифия. Зловещее это имя «победоносного мечника» было роковым для Самуила и его державы. Где-то на Длинных полях (Кимбалунга – campi longi) произошла (29 июля) битва, кончившаяся совершенным поражением Болгар. Самуил бежал, спасая живот свой, куда глаза глядят, и укрылся в неприступном Прилепе. Победитель не преследовал его сюда, а только послал ему в утешение 15 000 слепых, в коих тот узнал своих несчастных сподвижников, попавшихся грекам в плен. Гуманный224 император оставил из них по одному на сто с одним глазом, чтобы было кому вести слепцов к месту их назначения225. Зрелище было до того разительно и плачевно, что даже такой бессердечный воитель, как Самуил, не вынес его, заболел и через два дня помер. Случилось это 15 Сентября 6523, т.е. 1015 года от Р.X. Этим из фактов фактом мы и заключим свою Прилепиаду.
Перлепе. 28 Мая. Пяток.
Утомление, подобное вчерашнему, требовало глубокого и продолжительного сна. Но, с одной стороны весёлая музыка гостей – боголюбцев, а с другой – да простит мне читатель – неистовая пляска тех хозяев гостелюбцев, которых всего менее имеем в виду, и от которых не избавлялись тут в своё время ни Душан, ни Самуил, ни сам Александр Великий (воевавший с Триваллами), не давали залежаться нам. В дороге, впрочем, чем меньше спится, тем лучше. В этом я убедился сегодня неоспоримым образом. Встав ещё до солнышка, по крайней мере, когда оно ещё не показывалось из-за горы Марковой, я вышел к церкви монастыря, желая отыскать в ней или на ней какие-нибудь следы его рассказываемого 1000 летнего существования. Церковь небольшая, византийского стиля, не представляет в архитектуре своей ничего замечательного. Новая штукатурка изнутри и снаружи закрыла собою всё, что могло уцелеть от времён древних. Впереди её есть открытый притвор с навесом, утверждающимся частью на стенах, частью на мраморных колоннах, существование которых одно уже говорит о значительной древности здания. В глубине сего притвора, на западной стене самой церкви, по обеим сторонам входной двери сохранились остатки фресковых (не в собственном смысле) изображений, пощажённых штукатурщиком, не весь какими судьбами. Видятся во весь рост фигуры царственных лиц, полагать можно ктиторов или особенных благодетелей обители. По правую (южную) сторону изображён мужчина лет 30 с красивым лицом, в царском – на византийский образец – одеянии, в короне наподобие архиерейской митры, и с сиянием в круг головы, как у нас принято писать Святых. В правой руке изображённый держит длинный крест с двумя перекладинами. По обеим сторонам головы видится трёхстрочная, хорошо различаемая, надпись слева: Въ Ха̅ (Христа) Ба̅ (Бога) верень крал Марко. Справа, к сожалению, уцелел только слог: ка.. Во всём подобное изображение существует и с северной стороны дверей, только там видится фигура старика. Надпись при нём совершенно стёрлась. И так, вот он сам превоспетый «кралевич» как бы приветствует нас, в качестве хозяина места, стоя в царском убранстве и в апофеозе святости! Конечно, верить изображению нельзя, не зная какого оно времени, но всё же взгляд на посмертную славу Марка старых Сербов замечателен. Не скупились тогда, конечно, на титулы и на ублажения сильным земли, и ореол святости усвоивался всем венценосцам, так сказать, по праву, отчего он мог достаться и Марку – «верному во Христа Бога кралю». Но не осталось ли в народе предания о его богоугодной напоследок дней жизни, на что мы уже и сделали намёк выше? Больше нечего было осматривать. Ещё вчера нам было сказано, что ни старых икон, ни старых книг, ни каких бы то ни было остатков глубокой древности, никто не знает и не слыхивал в монастыре. Оставалось потому довольствоваться тем, что видели. Проходя мимо колонн – числом трёх – или точнее колоннок, так как они весьма скромных размеров, я вспомнил свои археологические поиски на колоннах языческих храмов в другом месте, увенчавшиеся самым желанным успехом, и более как бы для очистки совести только, осмотрел поверхность их снизу доверху. Какова же была моя радость, когда на одной из них заметил присутствие строчек, и, поднявшись глазами на уровень их, прочёл следующее: (въ) лэто, ѕфа αγιω (ατος) епⷵпъ Анⷣри Феѵр. ꙁ. Цифроные буквы вырезаны так ясно и отчётливо226, что не дают повода ни к малейшему сомнению в верности их чтения. И так какой-то святейший Епископ Андрей был тут (молился, скончался..) 7 февраля 996 года. Какой епископ? местный епархиальный, или иной какой? Напрасно бы мы стали ломать над этим голову.
Ни в Oriens Christianus, ни инде где, думаю, не найти сего имени. Умножая им число иерархов христианского мира, мы ещё не большую оказываем услугу науке. Важнее сего то, что надпись выносит существование монастыря в X век. Самое же важное заключается в том, что мы открываем славянское письмо 996 года. С выводом этим нас заставляет не спешить одно только обстоятельство: современна ли заметка о епископе Андрее самому епископу? можно спрашивать. Её мог сделать кто-нибудь и сто, и четыреста, лет после Андрея, особенно, если дело шло о кончине какого-нибудь значительного для места Епископа, не занесённого в своё время в местные летописи. Возражение имеет свою относительную силу, но 9/10 вероятностей на стороне предположения, что появление надписи принадлежит указанному в ней году. Самое титулование епископа «святейшим» по-гречески указывает на время, когда славянский язык ещё слишком робко выступал в область освященных и утверждённых верою имён и терминов, чужеязычных и неразумеемых, но от того именно и неприкосновенных для верующего народа. Утвердивши же за надписью принадлежащую ей хронологию, можно поздравить себя с редкою находкою и ублажать мыслью, что мы сегодня заслужили спасибо от учёного мира за то, что встали до солнца. Aurora musis amica.. недаром мы когда-то «доказывали» это в своей ученической задачке, усыпая «еррорами»227 свою цицеронщину. Не знаешь, бывало, за чем смотреть более, мысли ли чтоб были подходящие, латынь ли чтоб была без ошибок, переписано ли чтоб было аккуратно, тетрадка ли чтоб была чистенькая, задачка подана в своё время, и пр.; поневоле должен был дружиться с музами, сочувствия к которым ничто не вызывало в тогдашней обстановке жизни. Иное дело вот – ὁ φιλόμουσος (музолюбивый) владыка Венедикт Попович Византийский. Обратившись к востоку, чтобы молитвенно проститься с церковью, я прочитал ускользнувшую прежде от взора (занятого святыми кралями) заметку над входными дверями церкви, гласившую, что храм возобновлён228 «во время действования (?) Митрополита Венедикта Поповича Византийского, в 1861 году». Так и видно, что человек и вспоен и вскормлен музами. Они (никто другой) подсказали ему употребить и слово: действование, они научили его коварно сочетать Поповича с Византийским. Они, они – все девять вместе! Человек родился в Византии, а между тем – Попович! На руку кому угодно – и панславистам и панэллинистам, и нашим и вашим, а всего более г. Димитраки и его миллионам.
Поднимаемся по галерее в свою одаю. Несколько таких с правой руки стоят запертыми. Занимающие их гости, после всенощного «панаира», предаются блаженному покою. Читаю поверх одной двери высеченную на мраморной плите, надпись: иже во монастыръ сты҃хъ Архагг҃лъ. Сі̇ѧ одаѧ соградисѧ... и пр. 1862 г. Такая же плита утверждена над входом и в нашу комнату. Читается на ней: сі̇ѧ одаѧ соградисѧ иждивені̇емъ православныхъ еснафъ кантардемрці̇искихъ, именемъ Ні̇кола Стоꙗновъ... 1863 г. Писавшие, видимо, не гонялись за Авророю, оттого и наполнили непростительными еррорами своё сочинение. Особенно хорошо эти: иже и именемъ. Похваляя патриотизм писавших, как видно ревнующих о родном языке, я не могу, однако же, оправдать пристрастия их к чуженародному слову: одая, т.е. комната. Греки туркомериты (из областей Турции), да большею частью и Элладиты – по старой памяти – зовут вообще комнату словом ὀντᾶς (ондас), род.: ὀντάδος мн.: ὀντάδες.., конечно, Турецкого происхождения. Познакомившись с ним ещё в Греции, я без труда понял смысл слова: одая, находя последнее даже удачнее переформированных из турецкого подлинника (видимого в сложных словах: ода-баши, ода-лиска и пр.), потому что тут дело обходится без вспомогательного носового звука. Но Греки не затруднятся выгнать варварское слово. В свободной Греции давно уже в употреблении свои родные слова: κάμαρα, δωμάτιον229), водится уже в Афинах и древнее ϑάλαμος. Мы славяне не скоро дойдём до убеждения, что следует и нам выгнать чужеземщину, и что есть чем заменить её нам. Оставляя в стороне одаю, легко объясняемую и извиняемую, спросим себя, откуда мы взяли свою комнату? Тоже у добрых соседей (die Kemnate), как и Болгары? Да и одна ли у нас слышится «комната»? А зала, а салон, флигель, (по-народному: флигирь), сортир, коридор?. И не замечательно ли? Разные части дома, каждую порознь, мы сумели назвать подходящими именами: изба, клеть, горница, чулан, заход, сени и пр., но обобщить неделимые понятия одним термином из своего языка не нашлись! Зато предки наши, составители и образователи русской речи – снабдили нас до излишества краснобайными: теремами, хоромами, покоями, светлицами, божницами, опочивальнями и т.под., из коих только покои могли бы действительно заменить чужеродные «комнаты», если бы не были слишком метафоричны и как-то педантичны. Если бы я, не зная, что толку воду, то предложил бы вместо комнат и покоев дать ход слову: хоромина (по церковному: храмина), совсем готовому и пригодному к делу. В известном заклинательном обороте народной речи: «не слушай хоромина», что другое выражается этим словом, как не общее понятие отдельных частей дома?
Осыпанные благословениями, поручениями и просьбами, мы оставили гостеприимную обитель, воссиявшу солнцу. Положено было посетить другой соседний монастырь Трескавец, стоящий далее к северу на продолжении Марковой горы, с которой мы вчера и наблюдали его в трубу. Его нам рекомендовали в Битоле бывальцы, обещавшие нам в нём и древние надписи, и древние рукописи, и древнюю церковь, выстроенную на основаниях языческого храма. Значит, впереди была пожива. Оттого мы спускались по тропинке от монастыря в самом благом настроении духа. Конечно, я не мог забыть притом своего «агиотата епископа Андрея», современника Самуилова, да и самого Самуила, умершего тут от печали. Верно, тут же и погребён грозный воитель в безвестности и всеобщем забвении. Тёмного рода человек, он тёмных был и религиозных убеждений, да не очень светлых и вообще нравственных качеств, всё разрушал и ничего не создал, всё воевал и ничего не приобрёл, всем грозил смертью и сам бежал (но не избег) смерти. Впрочем, не будучи историком, нельзя произносить приговор над историческою личностью. Едем между каменными глыбами, разбросанными по подошве горы. Останавливаюсь перед одним из упомянутых вчера изображений, украшающих гранитные скрижали, стоящие под открытым небом и подверженные всем атмосферным влияниям. Изображение сделано по штукатурке, видимо, очень давнее. Представлен в естественную величину всадник – воин на белом коне, со щитом в одной и мечом в другой руке. Не похоже, чтоб это были Св. Мученики Георгий или Димитрий, изображаемые обыкновенно с копьями. Возле головного сияния сохранились две буквы О А, означающие, конечно: ὁ ἅγιος – святой, и больше ничего. Под изображением была большая надпись в 7 строк, но она нещадно истреблена временем. Я с трудом мог разобрать только два слога КО и МА... Даже и того не могу определить, славянская ли она, или греческая была в своё время. Более похоже, что греческая.
Мы отдали поклон старому Варошу, сказавши: до свидания, и поворотили по косогору прямо на восток, а потом и ещё раз переменили направление, взявши к северу, в объезд горы Марковой. Крепость сияла вверху, освещаемая в упор солнцем. «Ворот с поля» я не мог усмотреть в ней. Но ничто не препятствовало мне видеть государственного канцлера, привыкшего к перу и пергаменту, трикратно отбивающим приступ осаждающих его войск, с помощью 40 телохранителей. Как он сумел это сделать, он один про то ведает. Взбираемся на перемычку, соединяющую крепостую гору с другою, ещё высшею точкою дикообразной гранитной толщи, которую бывалые люди называют миниатюрным Синаем. Солнце вскользь освещает зеленеющие поля Прилепские. Картинно и весело и – сказал бы – даже славно! Что-то победное напевается в голове. Это верно он, «в Христа Бога верен краль» незримо несётся с нами, и поднимает наше вовсе невоинственное сердце. Уже мы стали выше его горы, и, виляя туда-сюда между камнями и деревьями, выбрались, наконец, к загородке, явно указывающей границу монастырских владений. Она начинается у придорожной водотечи, устроенной в1802 году, как значится на украшающем её мраморе. Ещё мало, и мы выезжаем из чащи деревьев перед монастырские ворота.
Третья уже это, обозреваемая нами обитель Славянская. Имя её, по народному зову, просто: Богородица, а прозвание: Тре́скавец, Последнее это так хорошо выражает характер местности, что как будто нарочно придумано для неё. Тут всё и повсюду видится треснувшим и слышится трещащим от бессменных ветров, веющих пронзающим холодом даже в такую летнюю пору, как настоящая. Мы поспешили слезть с коней и стать за ветром. Търпко поднял такой стук в ворота, что им, пожалуй, тоже предстояла опасность треснуть. Послышались сзади их стуки и бряки. Отворили их нам дети, появление которых хотя и не удивило нас, но всё же было неожиданностью. Оказалось, что это были школьники, обучающиеся в монастыре чтению и письму. Самое же братство монастырское состояло из двух человек. Один был настоятель, как и в Архангельском монастыре – простой поп, глубокий старец, вероятно сдавший свой приход где-нибудь по близости своему сыну или зятю, и доживающий дни свои в мирной обители. Другой, такой же заштатный священник, и тоже старый, был при первом не то послушником, не то помощником его. Кроме этих «старцев», есть ещё человек несколько прислуги. Затем школяры с их учителем. Вот и всё население честной обители Трескавецкой, существующей по отзыву о. Игумена уже четыредесят сто́тин лет. Конечно, это – обмолвка, следовало сказать: четыренадесять. И то – за глаза! Братий же бывало когда-то тут три сто́тины, так что по всей горе и даже на обнаженных скалах, висящих над монастырём, жили в пещерах и расселинах боголюбивые отшельники, питаемые монастырём.
Монастырь показался нам очень тесным, недостаточно просторным для житья и одной «стотины» монахов. По своему положению на обрывистом скате горы, двор его представляет ряд небольших террас. На центральной из них стоит углубившийся в землю храм очень древней постройки с широким куполом посредине. Два меньших купола высятся над притвором с передней (западной) стороны его по углам. План церкви, впрочем, неправильный. Она низка и темна, внутри по стенам большею частью расписана иконами или новыми, или подновлёнными, не богата никаким убранством и, хотя содержится в порядке, но таком, который диктуется привычкой, а не вкусом. С северной стороны пристроен к церкви узкий придел, по древнейшему обычаю достигающий только половины церковного длинника. Такой же ширины южный придел идёт напротив во всю длину церкви, сообщаясь с нею одною дверью. Этот главный корпус церкви обходит с юга и запада низкая галерея, тоже тёмная, как и всё вообще здание. Не света, конечно, боялись первые здатели храма, а отверстий для пронизывающего и кружащегося горного ветра. Так мне думается. Внешняя стена галереи с фасада церкви выстроена из огромных, правильно обсечённых, камней, принадлежащих видимо дохристианской эпохе. Когда мы осматривали алтарь, о. Игумен обратил наше внимание на престол и жертвенник. Оба они оказались цельными кусками камня, обделанного в виде куба с расширенными основанием и карнизом по образцу древних надгробных или посвятительных памятников языческого времени. И на том, и на другом вполне сохранились греческие надписи крупного и красивого нарезного письма. На престольном камне читается: Года 260. Флавия Ника Никандроса (дочь). Аполлону Этевданиску. Обет230. Всё это размещено в 6-ти строках. После слов: года и Ника изображён обычный в подобных записях листок плюща. На жертвеннике надпись семистрочная гласит следующее231: Аполлону Отевдану Т. Флавий Антигонов сын. Аполлодар по обету232. И в этой надписи тоже вырезали в двух местах листки плюща, после слов: Отевдану и сын. Летосчисление не показано. Год первой надписи, считаемый по Македонской эре, будет соответствовать 53-му перед Р.Х., и, значит, выносит надпись в период уже римского владычества в этих местах, с чем хорошо согласуется и Латинское имя Флавий233. Так как камни, по своей тяжести, не могли быть принесены сюда (особенно – на такую высоту!) впоследствии времени из других мест, то и надобно думать, что на месте нынешнего монастыря в языческие времена стояло капище Аполлона, который почему-то назван Отевданом и Этевданиском. Между множеством известных прозваний этого, любимого древними, божества, не встречается подобное величание. Следует заключить из сего, что прозвание это совершенно местное. У древних историков и географов однако же не находится ни города, ни реки, ни горы с этим, или хотя малосхожим, именем, и мы не знаем потому, что́ сказать о нём более. Что-то слышится в слове Готфское234. Готфы, конечно, бывали в этих местах, но, кажется, спустя несколько столетий после Флавии Никандровой, прозванной «победой». Третью надпись гораздо позднейшего времени нам указали внутри церкви, высеченную на одной из мраморных плит помоста – в 130 х 58 фран. метра величиною. Нам объяснили, что плита сперва была вделана в поперечную стену церкви и находилась в стоячем положении. А потом, когда стена та для расширения церкви была снята, плита угодила на пол церковный. Неблагоприятное это обстоятельство было причиной, что большая часть надписи стёрлась совершенно. Из 10 строк её уцелели вполне только первые 4. Они содержат в переводе следующее: Почил раб Божий Николай Тосуй. Месяца Августа 21 дня. В царствование Стефана… в году… (инд.) 7235… Так как титул царя присвоил себе первый из Сербских Кралей (все почти Стефанов) Стефан VIII Сильный или Душан, то надпись не может быть древнее 1333 года, когда он вступил на престол. Замечательно, что она сделана по-гречески, а не по-славянски. Фамилия Тосуй говорит ясно, что усопший не был грек. Не сумею что сказать более о нём. В притворе церкви, по правую сторону входной западной двери было когда то, как и в монастыре Архангелов, изображение во весь рост какого-то венценосца – конечно, ктитора церкви, от которого осталась теперь только верхушка короны, окружённой сиянием, на которое, как видно, не скупились старые славяне, принимая ласкательное титулование Византийских самодержцев «святыми» за чистые деньги. Хорошо сохранилась зато прекрасная головка ангела с боку царя, обращённая к нему. Кроме её, по другую сторону изображения, отлично хорошо сохранилась греческая трёхстрочная надпись, гласящая в переводе следующее: Стефан во Христе Боге верный Краль и Самодержец всея Сервии и Помория236. К сожалению, личность Стефана не освещена хронологией. Слово самодержец (Αὐτοκράτωρ), заменяющее на деловом языке Византии латинское: imperator, могло бы давать намёк на Душана. Но если бы речь шла действительно о нём, верно бы вместо κράλης было употреблено Βασιλεύς. Можно согласить краля с самодержцем в лице Стефана разве предположивши, что надпись и изображение сделаны, когда Душан ещё собирался возвести себя в цари, и пускал, как говорится, пробный шар к тому титулом самодержца. Поискал я и по другую сторону дверей следов подобного же изображения, но не нашёл ничего. Половинчатая дверь деревянная, тёмного от древности цвета, изукрашена, как и в Слепченском монастыре, обильною и хитрою резьбою, изображающею Святых, какого-то скрипача, драконов, грифов, оленей и пр. Замечательный образчик древнего славянского художества. Из притвора есть выход направо и налево в маленькие притворы упомянутых выше боковых пристроек. Темны и они, несмотря на возвышающиеся над ними осмиоконные купола, темны и следующие за ними приделы, из коих левый, обращённый в церковь, расписан по стенам изображениями – внизу преподобных, а вверху мучеников. Как видно, придел этот служил когда-то Крестильней (или водосвятней, ибо кого крестить в монастыре?). В нём и доселе стоит древняя мраморная купель в виде чаши, с надписью по окраине: Во Иордане крещающуся тебе, Господи, на греческом языке. На боках её начерчено в одном месте: Гервасiе, а в другом: иеромонах Герасим. Стены нынешней галереи просто выштукатурены и ничем не украшены. В одном месте вделан в стену церкви камень с резным изображением креста в виде шестилучевой звезды, напоминающего Константинов Лаварон.
О. Игумен повёл нас из церкви в приёмную комнату в западной стене монастыря, возвышающейся на отвесной скале. При входе в неё нам бросилось в глаза приятное зрелище самовара испускающего пары и седой головы, выглядывающей из них, как из облака, нашего Търпка, объяснившего юным школярам тайны пресловутой русской машины. И давно пора была нам согреться. Архондарик наш имел одно неоспоримое достоинство, – обширный вид из малых приземистых окошек на широкую и цветущую равнину Пелагонскую или Перлепскую, действительно прелепую, упирающуюся в гранитный кряж этот своим северо-восточным углом. К сожалению, нельзя было наслаждаться этим благом. Окончин в окнах не полагалось, по отеческим преданиям, и по комнате, нет, лучше – по хоромине, гулял такой холодный и пронзительный ветер, что мы вынуждены были взять из-под себя подушки и коврики, чтобы ими заткнуть зияющие отверстия, так как ставни существовали только для порядка и от ветхости были совершенно ажурными. Что же бывает тут зимою? Везде, куда ни взглянешь, печатлеет себя убожество, недогляд, неуменье и, конечно, нехотенье что-нибудь поправить, украсить или хотя прибрать. Но заповедь не ходить в чужой монастырь со своим уставом удерживает нас от дальнейших нескончаемых неокончательных.
Подкрепившись питьём, столь пригодным для места в три или три с половиной тысячи футов абсолютной высоты, я оставил спутника вести со старцами беседу о прошедшем и будущем, и занялся, как умел, рисованием вида церкви с разных сторон. При этом нашёл и списал ещё пятую надпись – уже на Славянском языке. Она высечена тоже на мраморной плите, вставленной со вне церкви в стену, по близости алтаря, и состоит из 8 строк, сохранившихся вполне. Содержит следующее: Мецⷵа Генара оуспе раб Беи̅ Дабиживь; енохияр цр҃а Оуроша вьсе Сръбскиѥ земле: грьчьскѥ и поморскѥ в лте г: ѿ: о: енкⷣта: еi:. Год выходит от Р.Х. 1362-й. Царь Урош – 5-й этого имени и последний. Это был сын Стефана Сильного, отличный как человек, но слабый и неспособный правитель, изменнически убитый преемником его Вукашином. Какую должность отправлял Энохияр? Слово, очевидно, греческое, и может быть производимо двояким образом. По-гречески оно должно писаться или: οἰνοχυάρης – виночерпий, или ἠνιοχιάρης – конюший. Первое словопроизводство правдоподобнее. Дабижив, конечно, собственное имя, а не фамильное, и составлено из: да би жив, т.е. «дабы жив (был)», данное может быть энохиярю, ещё младенцу, боявшимися за его слабое сложение родителями. Если бы это было не собственное имя, а прозвище напр., то памятописец ужели бы не дополнил его настоящим именем, имея дело, как по всему видно, с немаловажным сановником? А что Сербы способны были (и суть) на такое нецеремонное обращение с крещальными именами, за доказательством не нужно ходить далеко. В той же эпитафии встречается имя Уроша или Уреша, никакого отношения не имеющее к христианским святцам. Кроме Уроша известны ещё крали Драгутин и Милутин, Вукашин, Углеша, сам Неманя, наконец!
Когда я оканчивал свою работу, был позван смотреть хрисовул «Стефана Четвертого Краля», данный монастырю на владение разными угодьями. Оказалось, впрочем, что это не был подлинник, а только список с подлинной грамоты, отосланной в Белград для учёных исследований. Я списал несколько строк документа на память237. Теперь хрисовул этот важен только разве в историческом и филологическом отношении. Монастырю от него ещё меньше пользы в настоящее время, чем от языческих жертвенников, угодивших в христианский алтарь. Подписался под грамотой: Стефан во Христа Бога благоверный краль и самодержец Сърпскомь и Поморскомь и Болгарскомь земли. Года нет в хрисовуле. По крайней мере, мы не отыскали его в копии. Но если он слывёт в монастырском предании (взятом, вероятно, из какой-нибудь заметки на самом хрисовуле) за четвёртого, то это должен быть Стефаном Храпавый или Урош I (1237–1270). Вероятно, он самый и был изображён при входе в церковь на «ктиторском месте», хотя монастырь верит, что ктитором его был знаменитейший из монархов Сербских, Стефан VIII Душан.
За единственным числом следует, естественно, множественное. Держа в руках рукописный лист, мы обратились к Игумену с заявлением, что в бытность свою в Битоле мы слышали о большом железном сундуке, полном старых рукописей, хранящемся в каком-то заклепе обители. Игумен улыбнулся на этот сумбур важных слов. Знаю, сказал он, кто вам говорил об этом. Но мы ему отдали последнее, что ещё было в сундуке-то не сгнившего совсем, – «едно големо Евангелие». Теперь в сундуке только куча разорванных и сгнивших листов. – Однако же, заметив, что нам непременно хочется добраться до заветного сундука, охотно повёл нас в церковь. Мы остановились перед одною, донельзя низкою и узкою дверцей, и пролезли в тёмное и тесное подполье, где при свете восковых свечей сейчас усмотрели воображаемое сокровище. Сундук сам мог поспорить с любою гнилью. Можно потому было гадать, в каком состоянии находятся стерегомые им рукописи. И точно, когда мы открыли его, взору нашему представился целый ворох гнилой и затхлой бумаги в изорванных, измятых и скомканных листах, разбитых тетрадях и наконец, нескольких цельных, но страшно растрёпанных, книгах в чёрном кожаном переплёте. Всё что попадалось на глаза, относилось к церковному обиходу, представляя собою остатки Миней, Триодей, Псалтырей и тому подобное и почти всё было бумажное. Листки хлопчатки составляли редкость, а о пергаменте и думать было нечего238. Всё, что можно ещё назвать книгою, было бегло пересмотрено мною. Серьёзных плодов от такого занятия, конечно, и ожидать нельзя. Замечательнее других показалась мне рукопись:
1. Слова сты҃хь оцⷮь. На бумаге, в лист. Большая и крепко разбитая книга. В конце её есть приписка: Сице писавый последний вь иноцехь авплоө. Молюже прочитающих преднастояща к исправлению сиа исправити, прочая спрезирати. Понеже не писа дх҃ь ст҃ы... писа же сиа книга в лето Зцоѕ(1468) григорїе гръкꙋ ѿ костꙋра и сн҃ꙋ Маноилꙋ. Криптографическое имя Авплоф, по известному способу чтения, даёт слово: Фикола, вместо которого несомненно следовало написать: Никола, т.е. Нвплоф; тут очевидна ошибка. Замечательно, что в 1468 г. Касторийский грек интересовался славянским переводом Отеческих писаний. А в 1865 г. какой-нибудь Битольский Попович слышать не хочет в своём городе славянского богослужения!
2. Другая рукопись: минеѧ марті̇е, – тоже на бумаге, в лист, и тоже разбитая, имеет в конце, на последнем листе: в лтѣ ҂ꙁск (1712) списа сии минеи аз убогий и мьншии в иноцех Захарие иеромонах монастиру Трѣскавцоу храм чтⷵное оуспение прест҃ыя Бц҃ы. Точно такая же приписка находится в конце других трёх-четырёх книг, писанных очевидно тем же самым Захариею.
Всех книг мы насчитали 15. Описывать их не стоило труда, да и обстоятельства не позволяли. Сырость, духота, всякое неудобство, да к тому же ещё и темнота, едва разгоняемая светом огарка, обливавшего платье наше воском, гнали нас неумолимо наверх. С десяток листов от «голема» (большого) Евангелия, незахваченных в своё время вместе с книгою в Битоль, мы, по поручению Игумена, взялись доставить, куда следовало. Тщательно осмотревши подвал и не нашедши в нём решительно ничего более, мы выбрались в церковь, и не одну минуту упражнялись в одном дыхании сухим и чистым (относительно) воздухом. Ещё раз на прощание обошёл я церковь внутри, с бо́льшим против прежнего вниманием присматриваясь ко всему. В правом (длинном) приделе мне удалось, при этом, прочитать на одной иконе Богоматери, писанной на дереве, следующую подпись: Саписасше сьꙗБжтⷵвная икона в лето҂ꙁрꙁ. Митропольть Прилепскои І҆осїфьИгꙋмень Маѯимь. Настоятель (?) Цветко. Хлебарь Мутавц. Так как вторую цифру летосчисления можно принимать и за р, и за о, то год написания иконы и процветания Цветка с Мутавцом и другими должен колебаться между 1599 и 1569-м. Во всяком случае мы приобретаем имя Прилепского архиерея Иосифа, неизвестное учёному Лекеню в его: Oriens Christianus. Другая, весьма чтимая, икона Богоматери в том же приделе написана в нише стены, отделяющей его от большой церкви, и, по-видимому, служившей когда-то дверью. По окружности нишевой арки тоже тянется надпись, гласящая: Изволением отца... и пр... сыи образ в лето є̅ц̅л̅ѳ̅. Месяца октовриа ід҃. Такая хронология поставила меня в тупик. 5939-й год соответствует 431-му от Р.X.! Иконы такой отдалённой древности, да ещё писанной на стене, мне ещё не случалось не только видеть, но даже слышать. Если икона относится к V веку, то и церковь сама должна быть того же времени... Выводов не оберёшься. Не доверяя глазам своим, я стал освещать цифры с разных сторон, и убедился, наконец, что числовая буква е подправлена. Очевидно, что первоначально на месте её стояло ѕ, и год выходил тогда 1431-й. Кому пришла охота играть людским доверием? Мне невольно припомнились при этом «четыредесять стотин».
Более незачем было оставаться в горней Обители Трескавецкой. Не от кого было узнать, отчего она получила такое трескучее имя. В Стефановом хрисовуле как будто можно видеть намёк, что Богоматерняя чудотворная икона звалась этим именем, перешедшим потом и к монастырю. Может быть, слышался по временам от образа треск. Выдаю догадку за то, что́ она есть, не зная даже, нет ли в южнославянских наречиях другого слова, также близко подходящего к Трескавцу, но с другим значением, нежели наше: треск. Мы поблагодарили хозяев за их радушный приём, сделали маленькие подарки школьникам, сказали слово благо их учителю, и вышли за монастырскую ограду. Нам указали место, откуда можно подняться на вершину горы. Признаюсь, при взгляде на голые и страшно разсчепанные скалы громадного конуса, именуемого златоверхом, золотой верхушки которого нельзя было и видеть изблизи, у меня, так сказать, упало сердце, хотя для меня и далеко не первина – горные подъёмы. Смелый спутник мой попытался было сделать несколько сальтоморталей с утёса на утёс, но, не заметив во мне большого сочувствия к такому напрасному подвигу, спустился назад. Тут мы вторично откланялись Трескавецким старцам, и по указанию их стали пешие спускаться с горы бездорожицей по западному её склону, а Търпко с лошадьми отправился в обход по стежке, носящей имя дороги. Пришлось всё-таки немало попрыгать по усеянному огромными глыбами гранита, крутояру. Долго стояли наверху на выдающемся утёсе оба старика, видимо пригорюнившись и провожая нас глазами. Уже мы махали им зонтиками на прощание, давая знать, что им пора идти на дело своё и на делание своё, а они всё стоят! Вид их умилил меня. Жаль стало их одиночества. Поставил я себя на место их, и почувствовал такой прилив тоски, что счёл за лучшее не оборачиваться уже более к ним. Живите с Богом, пришельцы мира, отшедшие из мира! Вероятно, вам и не на столько скучно там под небом, на сколько сокрушается тут о вас сердце, готовое горевать при всяком случае. – Не тужи, родимый наш, говорил мне, помню, один такой же глубокий старец, на которого я насматривался в последний раз, мы – семейные – ведь привыкли к разлуке. Вот по отъезде твоём, возьму внучка за руку, и пойдём в поле, горе и уляжется. – Божие, конечно, и это устроение, что где старый, там и малый. Друг за друга держатся они на земле сей, и так, неведомо самим себе, решают глубокую загадку жизни. Вот и Търпко нагоняет нас весёлый и благодушный, какими в его лета верно, не будут его спутники. Он, по слову Экклезиаста, видит и чувствует себя под солнцем с юным вторым, иже востанет вместо него, и рад тому!
«Златоверх» грозно высится тёмно-фиолетовой массой. Чтобы некоторое впечатление золота пало с него на глаз, нужно смотреть на него вечером при захождении солнца. Теперь же, скорее бы кто назвал его свинцоверхом. Вид его с каждым шагом лошади всё меняется, профилируясь и суживаясь. За то впереди раскрывается иззубренный конус Марковой горы. Придорожные высоты её мало-помалу задвигают собою златоверхий Синай в миниатюре. Как не пожелать ему на прощанье действительно стать Хоривом Славянства. Малая школа Трескавецкая пусть бы была питомником какого-нибудь нового ревнителя Илии. Мне всегда казалось знаком упадка и извращения идеи монашества наша последних времён тенденция обращать монастыри в школы, фальшивым звуком в общем строе нашей духовной жизни. Уступаю на этот раз в пользу Трескавца, зная, что тамошняя наука не выйдет из духа азбуки, и первым продуктом своим не будет иметь ополчение против монашества. Огибаем Маркову (да не лучше ли: Самуилову или Лазареву?) Паланку с запада, и выезжаем прямо к Варошу, или Старому Прилепу. Вон и монастырь Архангелов ослепительно белеет в своей горной впадине, и старая крепость уходит в безоблачное лазуревое небо. Было часов 11. От жара все в селении попряталось в дома, и на узких, искривленных улицах местечка не было ни души. Невольно припомнились мне пыльные и опалённые улицы Помпеи, по которым я когда-то также бродил в полдневный зной, не встречая образа человеческого. И здесь на каждом шагу разрушение. Предание о 70 церквях, существовавших тут в стародавнее время, из коих тридцати можно ещё указать место, побуждало нас переходить от одного пустыря Вароша к другому, в надежде отыскать что-нибудь более чем три единственные теперь (все, впрочем, древние) церкви места. Пришлось довольствоваться этими одними. Большая из них, как бы соборная, есть Св. Димитрий. Она стоит отдельно на площади, незначительных, конечно, размеров, но отличается красивым византийским стилем, с высоким куполом, пробитым множеством узких окон. Судя по трём абсидам (алтарным выступам) на восточной стороне, надобно думать, что храм трёхпрестольный. К сожалению, нам не удалось видеть его внутренность. Не могли отыскать человека, владеющего ключами от него. Обошед не раз кругом его, и напрасно поискав какой-нибудь надписи, преднамеренной или случайной, на стенах его, я сделал для себя карандашом набросок его с юго-восточной стороны, и предоставил преемнику и продолжателю своих странствований по Румелии удовольствие разглядеть и сообщить к сведению всех, что он найдёт там достойного пера нового Павсании. Другая, тоже очень красивая церковь Св. Петки (Параскевы) осмотрена была нами и снаружи, и изнутри. Изящно её наружное убранство из правильной перемеси красного кирпича и жёлтого камня, с разными игривыми узорами, не худо и внутреннее расписание стен иконами, конечно, уже много попорченными от времени239. План церкви есть параллелограмм, разделяемый четырьмя колоннами, поддерживающими купол и всю систему арок и сводов, на три продольника, по простейшему и самому общему чертежу византийских храмов; хорошо всё и стройно, но уже чересчур малообразно (миниатюрно). Достаточно сказать, что вся длина церкви 7 метров с половиной, а ширина только 5½. Третья церковь Св. Николая по плану ещё проще. Вся она состоит из продолговатой комнаты с выступом на восточной стороне для алтаря. Почти тех же (29x12 футов) размеров пристроен к церкви спереди притвор низкий, тёмный, нечистый, пригодный более для конюшни, чем для места общественной молитвы. Его требовала, конечно, крайность, условливаемая теснотою самого храма. Странно, что ктитору сего последнего не пришла в своё время в голову мысль о тесноте. Богомольцы того времени предпочитали множество величию. Не будем осуждать их за то, но желали бы узнать от них, где они доставали средства содержать столько церквей с богослужением в каждой из них, и след. со столькими священнослужителями? Внутренность церкви (без притвора) расписана иконами старой кисти, и стоила бы подробного осмотра. А внешняя отделка стен так изящна, что весь храм кажется дорогою игрушкою, на которую следует поставить футляр, чтобы защитить от непогоды. Осматривая внутри притвор, мы увидели в стене церковной, возле самой двери, ведущей из него в церковь, большой камень с древнею греческою надписью в 7 строк (сохранившихся), заключающую в себе следующее: Величайшего и божественнейшего императора Кесаря Луция Септимия Севера. Ульпия, Исидора – она же – Сарапиада – и Аврелий Антигон...240 (почтили чем-нибудь). Другой такой же камень с греческою же надписью, находится у входа в притвор, половина которого закрыта разделяющей притвор от церкви стеною. Оттого сохраняющаяся часть надписи не даёт определённого смысла. Мы передаём её в точной копии241. Вторично осматривая внутренность церкви, мы усмотрели над окном правой стены трудно различаемую от идущего из-под неё луча солнечного ктиторскую заметку, начинающуюся словами: с основания воздвигнут.. и пр. 6807 года, в Ноябре месяце242. Год этот соответствует 1299-му от Р.Х. Освещается, таким образом, эпоха построения Прилепских церквей, видимо принадлежащих одному и тому же времени. Кралевствовал тогда Стефан VI Милутин, а царствовал (в Константинополе) Андроник Старший, тесть Милутина, в этом именно году выдавший за него восьмилетнюю дочь свою Симониду, о чём мы уже упоминали, бывши в Солуне. Который из двух монархов владел тогда Прилепом? Верится, что греческий, а не славянский самодержец. Ибо вот, современное им обоим, расписание церкви иконами, представляет сплошь одни греческие надписи, увенчанные, так сказать, ктиторскою заметкою, писанною тоже по-гречески. Наконец, отыскались две строчки и славянского письма в притворе. По левую сторону дверей, вводящих из него в самый храм, есть заметка на стене: Помени моле... раба своего Димитра. В тёмном углу той же паперти мы досмотрелись шкафа. Он оказался без замка. На полочках его валялся всякий хлам церковный, негодный, или на время ненужный для употребления. Наряду со всем прочим валялось и около десятка старых и погнивших рукописных книг богослужебного содержания ХVII-ХVIII века, безжалостно брошенных на конечное истребление гордою эпохою скоропечатного слова, как колющий глаза анахронизм. Не сомневаюсь, что ими наполнен был когда-то весь шкаф, но лучшие из них, конечно, попали в карманы и саквояжи сострадательных туристов. Хоть бы уже то, что ещё осталось, священники забрали и спрятали в Архангельском монастыре, в свидетельство того, что Прилеп когда-то жил широкою славянскою жизнью, не смотря на свою греческую иконопись. Я просил вратарника церкви передать моё сердечное желание Архангельскому игумену.
Пожелав безнадёжно старому Варошу обновиться, мы сели на лошадей, и отъехав саженей сто, ещё раз полюбовались его прекрасными церквами, и затем понеслись без оглядки по ровному полю к новому Прилепу или по-турецки Перлепе, манившему к себе издали зеленью садов и белизною минаретов. Лёгкие и красивые эти здания исламофильной фантазии иного европейца-туриста могут казаться восковыми свечками, ставимыми новыми иконоборцами Византии перед нерукотворенным иконостасом храма вселенной. На взгляд же иного византийца, смотрящего денно и нощно из высокого окна Московсерая на целый лес минаретов, высящихся на том берегу, они представляются скорее отточенными стрелами, пускаемыми в живое и населённое христианское небо диким и степным магометанством. Есть, таким образом, способ заставить себя в действительно изящном видеть нечто неприятное и отвращающее. С другой стороны, и магометанин не может слышать равнодушно христианского колокола, этого всесличного органа музыкального, так мудро и вместе так просто придуманного духом человеческим, тоскующим о небе. Уже более 1000 лет уживаются кое-как на Востоке Коран с Евангелием, отрицая постоянно друг друга. Чем объяснить это? Всего проще – общностью понятий их о Боге – Отце Небесном. Нет никакого сомнения, что дервиш-изувер и христианский богослов протянут друг другу руку, чтобы вместе оттолкнуть от себя учёного астронома, «не отыскавшего в небе никакого следа Бога». Меньше, чем через полчаса мы были уже в городе, показавшемся, судя по улицам, через которые мы проехали, весьма невзрачным, в роде Водены и Енидже и отдалённых кварталов Битоля. Мы остановились в одном из многочисленных ханов торгового города, просторном, но крайне неприглядном. Пока Търпко кормил лошадей и производил на базаре какие-то необходимые закупки, нам представлялся случай осмотреть довольно громкую в Македонии местность и в частности место пресловутой в крае ярмарки, на которой, благодаря деятельному и предприимчивому духу родолюбца А.Н., открыта продажа и русских Богослужебных книг, особенно – Киевской печати. Так как мне нужно было привести в порядок свою записную книжку, то я и отказал себе в подобном удовольствии, но предложил воспользоваться им спутнику, улёгшемуся в тени на рогожке. В ответ получил замечание, что население города албанское, фанатичное, и что наш костюм, да ещё и русский, может неприятно броситься в глаза... и пр. Я переменил, как говорится, тему, и сказал, что хотя до церкви, во всяком случае, следует пройтись, чтобы иметь понятие о христианстве города... Но и на это последовало совершенно основательное замечание, что теперь в полдень все церкви заперты, и что не найдётся совсем охотника сидеть там и ждать нас с ключом... Так, припоминаю, и у Соломона некто, посылаемый на путь, глаголет: лев на стезех! На стогнах же разбойницы!.. Ничего не поделаешь! Правда, впрочем, требует сказать, что если не «лев», то палящий жар действительно свирепствовал на стезях и стогнах городских. Продолжая аллюзию, я мог бы отыскать и грозного «разбойника», только уже не в городе, а тут возле нас, в корзине. Его грозящему положению обязаны своим бытием и все вышеписанные 10–15 строк, как легко угадает читатель... Подкрепившись пищей и коротким сном, мы нашли, что у старого вожатого уже всё готово, и что он только в ожидании нашего пробуждения открыл, коротая время, «кувенду» с почтенным ханджи. От последнего мы узнали, что в новом Прилепе, как и в Битоле, одна только всего на все церковь, что при ней числится 13 священников, заведывающих 8-ю приходами, неравными по числу населения в каждом, но вообще не менее 100 и не более 300 семейств. Один из священников титулуется Протопопом, но существенного преимущества над другими не имеет. Каждый из по́пов ежегодно взносит владыке эпитрахильной подати один австрийский дукат (3 р. звонкою монетой). Из этих немногих сведений видно, что город более чем на половину христианский, ибо имеет в себе не более 6–7 тысяч жителей. И, несмотря на это, физиономия его, как говорится, турецкая. Ибо доколе существует в крае предательски-боязливая система «Византийских По́повичей», напрасно ожидать возвышающихся над массою домов куполов и колоколен. При мысли же о сияющем издали над городом золотом кресте, почтенная система пришла бы в верноподданнический ужас. Оттого-то у ней и умножаются ежегодно десятками тысяч золотые флурья, кремицы, маджары, дукаты243… А за тем у неё на голове хотя кол теши по пословице!
Сейчас же за городом начинается тучная луговая земля, вся зеленеющая в настоящую пору года от избытка воды. Не достаёт только леса, чтобы опять стала носиться перед глазами родная земля. Дорога широкая и колёсная, что в Турции не малая редкость. На встречу попадаются телеги, запряжённые и лошадьми, и волами. И час и два пути, – всё те же впечатления. Начинает уже и прискучивать гладкая и ровная земля славянская... Нет! Довольно уже аллюзий. Перестану тревожить ни в чём неповинное славянство. А то, того и гляди, покажутся где-нибудь на дороге 15 000 слепых воителей славян, гонимых гуртом, по направлению к Прилепскому замку, на показ зрячему воеводе. Славяне виноваты в таком обстоятельстве, не слыханном, думаю, от века и в истории гуртовых животных? Нет. Виноваты люди! Влево встречная телега, полная седоков. Один из них поп Никола, знакомый не знаю кому из нас, изъявляет и языком, и глазами и руками своё глубокое сожаление о том, что не был у себя дома в Перлепе, и потерял случай принять таких редких гостей. Спасибо за нежданную ласку. Видно, что из зрячих «гуртовых». Поднимаемся на одну возвышенность, с которой открывается вся широкая Битольская равнина, и на ней самая столица Пелагонии, исчезавшая в вечерней тени, набрасываемой на неё птичьим силуэтом громадной Перистери. Быстрее поехали мы на этот радующий и как бы помазавший нам образ. Дорожник Буе насчитывает с десяток селений между Прилепом и Битолем, но мне не удалось видеть ни одного из них. Верно, половодья ради, мы избрали другой путь. Вместо людей, встретили в одном месте большой табун лошадей, стоивший нам не малых усилий удержать в порядке своих коней. Наилучшим средством к тому оказалось пронестись в мах мимо соблазнительного для них зрелища. В награду за такой непосильный подвиг мы встретили целый обоз мирных поселян, двигавшихся со стоическим терпением на волах от Битоля к Прилепу с музыкой и всяким степным весельем. Стало темнеть, а Битоль всё мало подвигался к нам. Наконец всё кругом нас слилось в один непроглядный мрак. Усталые лошади чуть передвигали ноги, а мы чуть держались на них. Кажется, всё сплошь болело и просилось на покой. Лай собак приветствован был нами, как свет маяка мореходами. Затемнели очертания деревьев, за которыми естественно ожидались и неясные фигуры домов. А между тем дорога упёрлась в какие-то, даже Търпку – самоземцу мест этих неведомые, собрания вод. Это были лужи, образовавшиеся вчера и третьего дня от проливных дождей. Наконец задвигались по ним и огоньки, отражавшиеся, несомненно, из окон городских домов. В то же время сзади вдруг разостлалось какое-то белесоватое полотно кругом нас. Показалась запоздавшая немного (славянская?) луна. Вот загудела и мостовая под копытами лошадей наших на разные тоны, бросились с лаем собаки, захлопали оконные створки, заржала где-то лошадь, приветствующая наших четыреногих товарищей. Мы были, значит, дома... От всех впечатлений дальнейшего времяпровождения вечернего осталось в памяти одно, – поминутное сомнение в том, что сидишь на диване, а не на коне, и держишь в руках стакан с чаем, а не повод узды. Припоминается ещё смутно, вместе с пением самовара, и чьё-то напевание на тему, что, по обязательному уставу азбуки, за покоем следует: рцы, но что ни одно слово твердо не исходило из онемевших уст. Даже и острословный намёк на Прилеп не мог расшевелить языка, действительно прильпнувшего к гортани.
Пелагония. 29 Мая 1865 г. Суббота.
Целая неделя уже прошла со дня водворения нашего здесь. Приходит помысл в голову, усталую или ленивую, или боязливую – чего более? Не доберёшься – не достаточно ли на первый раз? Ведь, собственно говоря, мы только провожаем своего доброго знакомого до места его назначения. Цель наша была проехать Македонию, высмотреть своих предков по истории – южных славян – на месте их жительства, поверить своих ухом и глазом то, что рассказывают одни о других, с одной стороны «патриоты» с их великою идеею, а с другой – «родолюбцы» с их малыми затеями, и – наконец – просто прогуляться. Всё это мы сделали, по милости Божией, удачно, вполне по желанию сердца своего. Чего же ещё более? Остаётся помолиться Богу и возвратиться через Веррию и Олимп опять в Солунь, а оттуда на свой несравненный Воспор-Фракийский. И куда ехать ещё из Битоля? Прямо на запад к Албанцам? – На юг к Грекам? – На север к Сербам? Сербы – те же славяне, жизнь их я уже несколько видел, и – понимаю. Албанской не хочу, да, пожалуй, и боюсь видеть. Греческую – и так знаю... Так я рассуждал утром сегодня, находясь ещё под влиянием вчерашней непомерной усталости. Но вот явился на стол «славянский» самовар. К нему присоседился Kiepert, хотя и немец, но посвящённый во все таинства славянства. По Киперту ходит палец, измеряющий расстояние от Битоля до Охриды. – Ведь только один день! Утром отсюда, а вечером там! Вот померяйте. Что в Трескавец, то и в Охриду. – Всё это напевал мне любезный товарищ мой. Для него, конечно, она – Охрида, центральный пункт старой Болгарии, в течение последних 5–6 лет уже прославивший себя национальными стремлениями. А для меня она к тому же ещё и пресловутая Первая Юстиниана, столько шума наделавшая в истории церкви. Как же пропустить случай видеть её? – Ну, а из Охриды куда? – спросил я, притворяясь упорствующим и настаивающим на своём вчерашнем, отчаянно изречённом: nec plus ultra! – Из Охриды? А там – куда хотите. На море, и – домой!.. Это: «домой» так светло и радостно просияло мне из-за синего моря, что я чуть не сказал: «так что же? Садимся и едем. «Но ехать-то всё-таки пришлось обождать. Мы связаны были условием с тем, о ком осведомлялись из Солуня по телеграфу, а его не было на лицо. Он поехал провожать провожавших нас сюда. Пришлось посвятить покою день субботний. Да и очень кстати было это. Накопилось много «записнаго» дела. К тому же попалось в руки славянское пергаментное Евангелие, принадлежащее г. Секретарю местного консульства, завзятому славянофилу, поднесённое ему благодарными родолюбцами. По обычаю, книге недостаёт конца, и нет потому возможности с точностью определить век её, так как книготворцы старого времени, описывавшие «священныя делты», боялись осквернить их какими-нибудь сторонними заметками среди текста, и приберегали для этого последнюю страницу, на которую, к сожалению, больше всего нападает время. Может быть и Евангелие, о котором идёт речь, имело свою хронологию, рассчитывавшую на внимание и память отдалённых поколений, но не смекнувшую, что до тех поколений она может дойти в виде письма без адреса. По всей видимости, книга должна принадлежать ХII веку. Говорил ли кто-нибудь в то время её языком? И откуда взялся этот таинственный Славянский язык? Несмотря на сотни, и может быть тысячи исследований о нём, мне кажется, это всё ещё остаётся вопросом «открытым». Конечно, прежде всего, за осведомлениями о нём надобно обратиться к Словенам и Склавунам, как естественным наследникам и носителям великого имени. Но раз, знакомый мне и очень книжный Славун Афинский заверял меня, что и для него Евангелие на столько же и своё вместе и чужое, на сколько и для всякого русского; я ссылаюсь на этот пример потому, что считаю себя совершенно неподготовленным к делу. Наиболее знакомые мне исследования в этом роде Шафарика и Майкова оставляют многого желать в ясности и определённости, а главное – в систематичности изложения. Первое слово Библии: искони, говорят, уже есть наше русское, а не склавунское или иное какое южнославянское. Мы и теперь в живой речи своей употребляем выражение: по конь веку. В раннем детстве, играя в бабки, бывало, говоришь и слышишь с утра до вечера слова: в кон, за кон, из-кону... вовсе не думая о том, что выражаешься по-славянски. Отчего бы нашим славянистам не передать к общему сведению самым наглядным и впечатлительным образом все оттенки широкой, многочастной и многообразной славянской речи, передав напр. один и тот же литературный образчик какой-нибудь (всего бы лучше разговор) на всех существующих наречиях, мо́вах и гово́рях великого племени нашего. Всему свету известные (из Kladderadatsch) Шульц и Миллер сделали всему свету известным плоско-немецкий (Plattdeutsch) говор Германского племени. А наши несчётные писатели, вышедшие из народа, никак не додумаются до мысли ознакомить хотя свой собственный люд со всем разнообразием его областной говори в настоящих, живых и верных образцах, на которые так, мало похожи встречаемые иногда в изданиях «для народа», смешные и жалкие попытки подделаться под его могучую, замысловатую, и полную своеродного юмора, речь. После наших подобных образчиков всенародной мови в 10-ти и более видах, нашлись бы охотники сделать тоже самое и за границей, на славянском юге и западе. Сравнительные словари славянских наречий – вещь бесспорно хорошая, но им никогда не удастся своими тысячами страниц сделать то, чего достигнет придуманная подобным родом хрестоматия (вопиющее в русский смысл и слух слово) на 5–10 страничках. Заговорился я по обычаю чересчур, привязавшись к первому, что попало на язык. Но была и причина тому. Наслушавшись в течение трёх минувших дней Болгаро-пелагонского наречия, и сличая его напр. хотя с тою речью, которою, во что бы ни стало, хочет прельстить нас неотвязный г. М**, я воспламенился желанием увидеть в двух-трёх параллелях хоть бы уже одно Болгаро-Македонское наречие. Помню, один весьма почитаемый родолюбец, паче же боголюбец (на Афоне), утверждал, на основании читаемого в Евангелии: да прииде (мати Господа моего ко мне...), принадлежащего исключительно Болгарской речи, что Болгарское наречие имеет больше всех других, сродных ему, право называться славянским языком. Подстрекнутый любопытством, я отыскал в рассматриваемом Евангелии сказанное место, но там стояло грамматически неправильное: да приидет, т.е. будущее желательное вместо прошедшего сослагательного. И не диво. Текст Евангелия Сербского, так называемого, извода, а Болгаре, завербовавшие себе Кирилла и Мефодия, ревниво отстаивают своё первенство в христианстве, исторически взваливая на Сербов всякие ошибки... Возвратился в течение дня и г. И**, утвердивший нас в намерении ехать в Охриду и оттуда... далее. Чтобы изгнать из нас и последний скрупул страха, он сам предложил нам себя в спутники. Это было уже такое великодушие, перед которым должен был стать всяк глагол. Решено было потому за вечерним чаем прогостить тут ещё завтрашний день, как воскресный, да к тому же ещё и заговельный, а послезавтра в Понедельник и отправиться в Старую Болгарию.
Толи-Манастирь. 30 Мая. Воскресение.
То́ ли монастирь, что́ носит теперь на себе, по-видимому, без всякого права, монастырское имя, или в самом деле был тут где-то, когда-то знаменитый какой-нибудь, без вести пропавший, монастырь, сумевший закрепить своё имя за всею окрестностью? Надобно отыскать что-нибудь похожее на монастырь. Недаром же имя такое пристало городу. При первых поисках открывается предание о существовавших тут (где: тут?) 70 монастырях. Припомним рассказ о 70 церквях Прилепских... Следует заключить, что цифра 70 играет тут роль только круглого числа или множества, в роде французского: infinité. Но что-нибудь осталось же от стольких обителей, кроме неуловимого предания? Церкви, кельи, стены, заросшие холмы, урочища, земли, наконец – за недостатком всего этого – древние имена, истребить которые часто не могут ни люди, ни века, ни все силы природы?.. Когда на то пошло, объявились близ самого города, на подошве Перистери, вдруг два монастыря: Буковский и Христофоров. Решено было видеть их. Около полудня мы – трое всадников – отправились в путь, направляясь прямо к югу. Погода отлично благоприятствовала поездке. За городом пестрели по зелёному полю группы гуляющих. Под большим деревом целая ватага греческого юношества, распевающая патриотические песни, коих не должно было слышать магометанское ухо. – Вон и наш артист там же, замечает компаньон. Но артиста тут уже не было. Тут был патриот. Он не обратил на нас никакого внимания, хотя мы проехали весьма близко к partie de plaisir юных Ираклидов Пелагонских. Всё та же, роковая для потомства отставного полубога, колонизационная система продолжает заявлять себя повсюду и теперь у племени, которое всё учится, и всё не научится самой простой и старой истине, что сила народа заключается в совокупности, а не в разрозненности отдельных личностей, и что всякое выселение с родного места равносильно народному самоуничтожению. Но... фатума ни обойдёшь, ни перейдёшь! Весь теперешний жгучий вопрос Фрако-Македонский есть прямое последствие подобных partie de plaisir людей, живущих ultra-практическим, и на известный момент весьма пригодным правилом: Ubi bene, ibi patria, но в политических комбинациях совершенно не приложимым к делу. Простирая собственный взгляд за пределы угла своего, поселенец привыкает думать, что и всё прочее есть тоже его собственность в каком-нибудь смысле, хотя напр. в смысле его отечества, но никак не додумается до вопроса: он-то сам чья собственность? А когда вопрос этот, после множества родов и поколений, примет характер «вопроса жизни», ему не останется ничего более делать, как выбрать одно из двух: или согласиться на нерадостную правду, что он пришлец и живёт в чужом месте, или отделываться от неё софизмами, паралогизмами, жалобами, бранью, всем, что можно натянуть и, так сказать, притянуть за волосы, в подтверждение своих отрицаемых народных прав на том месте, где он живёт, по притязанию других мест, где он никогда не жил, но где живут такие же проходимцы, или хотя переходимцы, успевшие образовать из себя нечто сильное и целокупное... Но – опять мы толчём воду. Вот на подгорье стоит невзрачная кучка зданий, обнесённая кое-как стенкой. Это и есть монастырь Буковский, получивший своё имя от соседней деревни Буковы. Было время после – обеденного отдыха, и потому не скоро мы были приняты о. Игуменом. Приём был, конечно, по всем правилам местного этикета, но какой-то тяжёлый, как бы сонный. Почтенный хозяин – человек лет за 40 с тёмной и сухой физиономией – отделывался самыми краткими ответами на вопросы наши и даже на приветствия наши. Равнодушно показал нам свою, ничем незамечательную, церковь (Преображения Господня), выстроенную заново при Митрополите Пелагонийском Герасиме в 1836 г., и также равнодушно объявил, что в монастыре нет вообще ничего ни древнего, ни редкого, стоящего внимания нашего. После чего нам стоило только поблагодарить его за «ласковый» приём, и отправиться, откуда прибыли. Так мы было и сделали. Но на беду нашу на небо набежала туча, и мы напросились опять к Игумену невольными гостями, пережидая воздушную невзгоду. Оглушающий гром мешал беседе нашей. Воцарилось молчание. Гости мялись, хозяин жался. Вдруг, за блеском молнии, раздался... запрос Игумену о «пресловутом» Бувовском Евангелии, которое видел такой-то, исследовал известный знаток, описал неизвестный имярек и т.д., одним словом, громовый запрос последовал в такой форме, что досточтимый начальник экс-славянской обители, известный своим нерасположением ко всему неэллинскому, не мог, если бы и хотел, увернуться от нас. Он должен был сознаться, что действительно есть «там на полке» три-четыре Булгарски стари книги (сказано по-болгарски. Вся же беседа наша шла по-гречески), в том числе может быть и Евангелие, но что их от гнили страшно в руки взять. Однако же мы настояли на желании своём видеть погнившее старьё, в чаянии отыскать в нём хоть что-нибудь говорящее о прошедшем обители и самого Битоля. Сам Игумен, по своей новости в монастыре и в крае, ничего не мог сообщить нам в этом роде. По приказу Настоятеля, послушник (составляющий, по-видимому, всё братство монастыря) принёс и положил перед нас 5 старых рукописей. Видя, что мы имеем предмет, занимающий нас, Игумен поспешил оставить нас. Книги оказались следующие:
1. Четверо-Евангелие, на пергаменте. 4°, 26 х 18 фр. метра. 1 столбец. 20 тетрадей, из коих многие пополнены бумажными листами. Таково и начало книги. Первый кожаный лист начинается словами… де пристоꙋпиша къ нꙗмоꙋ оꙋченици ѥго и отврьзь оꙋста своꙗ оꙋчаше… конец книги полный. После всего текста замечено: слава бо҃ꙋ ѡ всемъ. Затем следовали ещё 4 строчки, но кем-то выскребены в давнее время. В Евангелии от Матфея 355 зачал или главиц. Марково Евангелие оканчивается на 166-м. Текст Лукина обрывается на 340-м зачале. В Евангелии от Иоанна всех зачал 225. Особенности, сколько я мог заметить, – общие всем так названным Сербского извода Евангелиям. Встретились: ин҃ꙗ вместо ныне, ѥтерь вместо: некий, понитъскомоꙋ вместо: Понтийскому.
2. Пролог. Месяцы: Сентябрь, Ноябрь, Декабрь. Бум. в лист. 2 столбца. Начала нет. Сохранившееся начинается житием Св. Апостола Иоанна Богослова. Оканчивается житием Св. Мученицы Анисии Солунской. Под 24-м Ноября положено житие Св. Григория Акрагантийского, а под 25-м Св. Мученицы и Философы Екатерины. Октября 1-го положено житие Св. Преподобномученика Михаила от монастыря Зовы.
3. Минея. Месяц Март, бумага, в лист, 1. столбец. Без начала и конца. XVI-XVII века.
4. Минея. Месяц Ноябрь244. Тоже. На первой странице замечено:В имя оц҃а и сн҃а и ст҃аго Дх҃а. Аз кир. (!) Аванасие проигоумен ст҃и оц҃ы прилагам сию книгꙋст҃омꙋоц҃ꙋіѡакимꙋ, Да кто щетъ отнести от цр҃кве или… да с проклят от оц҃а и сн҃а и ст҃о Дх҃а и ѿ ст҃го ѡц҃а в сии век и в бѫдѫщии.Другою рукою пониже приписано: Малахие повеза сию книгꙋѿ Кратова. Ясно, что книга принадлежала прежде Кратовскому монастырю Св. Отцев. Удалившись оттуда на жительство в монастырь Св. Иоакима, бывший Игумен тамошний взял с собой и принадлежавшие ему книги, которые и пожертвовал в свою новую обитель, в которой, как видно, удерживал за собой титул игуменский, отчего и зовёт себя проигуменом. Но величать себя вместе с тем и Киром, т.е. господином внушить могло ему одно только его славянство, которое не затрудняется иногда титуловать само себя и Великим Государем и Милостивым и Отцом, назвать себя по отчеству (на визитной карточке), подписаться «кавалером», и пр.
5. Октоих, оказавшийся не рукописным, а печатанным в Градчаницкой Митрополии в 7047 (1539) году.
Учёная пожива наша в Букове, как видит читатель, была не велика. Но повторим заключительные слова переписчика вышепомянутого Евангелия: Слава Богу о всем! Всё же кое-что приобретено. Отыскался новый монастырь Святаго Отца Иоакима. Не дочтёт до 70 монастырей, засвидетельствованных преданием, убавился на единицу. Где был Иоакимовский монастырь, остаётся, конечно, неизвестным. Не диво, если когда-нибудь докопаются, что он здесь именно и был. Буковский и Иоакимовский – одно другому не противоречит. Может быть вопросом ещё имя Иоакима. В Святцах наших один известен, так называемый «Богоотец» Иоаким, но он никогда и не пишется, и не празднуется один, а постоянно с праведною Анною. Может быть «Святый Отец», давший своё имя здешнему монастырю, был местный преподобный Иоаким, неизвестный за пределами этой области. Туча прошла, не задевши нас, и мы вслед за нею поехали от одной обители к другой – по преднамеренному плану. О. Игумена мы не нашли, чтобы поблагодарить за обязательное позволение видеть «Българско Евангелие». Его сухость и холодность не шла согласно с известною мне греческою приветливостью. Смотря на него, я всё задавал себе вопрос, не огреченный ли это болгарин? Оказалось, что это – Влах, но не из Великой Дунайской Влахии или по-теперешнему Романии, а из Эпиро-Фессалийских Куцо-Влахов или горных пастухов, знакомых мне ещё по Греции. Это бродячее безземельное племя, подобно цыганам, не имеет причины ни любить кого-нибудь по идее, ни ненавидеть, и готово служить первой силе и первой подачке. Таков именно характер и нужен был Пелагонийскому Святителю, задавшемуся мыслию обратить Буковский монастырь в Греческий245. Но увы! Торговый дух греческий не находит пригодного себе поприща в стенах обители, и всё население её, как мы видели, состоит доселе из одного Игумена, который – надобно отдать ему справедливость – действует в видах эллинизма почище настоящего грека. Не странно ли? В Молдаво-Влахии существует поголовное ополчение против всего греческого, а тут волох распинается за греков! Явление поучительное. Мне припоминается теперь, как лет за 12 перед этим один архимандрит греческий (и кавалер Св. Анны), долго живший в Валахии, прибыв с «золотыми», конечно, воспоминаниями о месте своих подвигов – в прекрасную, но нищую, землю отцов своих, говорил мне, жалуясь: «Брат ты мой любезный! Ненавидят нас там наши братья по вере (и соперники по карману!), и не одних нас, а и вас, да ещё – как»! Тогда мне казалось, что перегорчённый фанариот хочет только утешить себя, примешав ὑμᾶς к ἡμᾶς. Но за тем уже не раз я имел случай убедиться, что нас, пожалуй, тоже недолюбливают новые Римляне. Отчего бы это было? Не от того ли, что столько веков уже славяне упорно навязывают им своё письмо, а под час и ещё кое-что? Не вследствие ли столько известного положения: «из огня да в пламя», вот они и оказываются на стороне греков? А то, нет ли ещё какой-нибудь более важной, просмотренной историей, причины, каких-нибудь старых неконченных счётов из тёмного периода Печенегов, Аваров, Команов, способствовавших размолвке «братьев»? Смешно признаться. При виде сухой, чёрствой, черномазой фигуры игумена, во мне как бы воскресало представление Печенега, составленное ещё на ученической скамейке, как чего-то перепечённого, потрескавшегося и пригорелого. Наша последних времён беллетристика помешалась на слове (без понятия): мягкий. Вот этого-то «мягкого» и не достаёт о. Игумену, как несомненно, недоставало и Пацинакам Византийских историков, так чёрство отнесшимся напр. хоть к нашему Сфендоселаву.
Нечем было занять души посерьёзнее, оттого мысль и носилась от предмета к предмету. За Святославом стоял уже Цимисхий и весь печальный двор Византийский, а за ним da саро Римляне и т.д. Однообразная дорога благоприятствовала кружению представлений. Чуть мы спустились и поднялись, повернули и обогнули пересекавший дорогу холм, как впереди уже показался и другой монастырь, зовомый Христофоровым. Близость обеих обителей как бы, в самом деле, не делает невероятным предположение о существовании тут когда-то множества обителей, передавших своё имя городу. Если Битоль, Бетолья, Толи... ещё могут подавать повод к сомнению в том, то турецкое имя Монастир закрепляет веру в него. Откуда туркам взять это слово, как не от монастыря? Христофоровская обитель оказалась ещё менее и невзрачнее Буковской. Церковь выстроена тоже лет за 30 перед этим. Видно, что одна и та же добрая и властная воля действовала и там, и здесь. Начальства монастырского мы не застали, и сами себя руководили по монастырю. Сверх всякого чаяния напали на одну замечательную древность – целокаменный саркофаг языческого времени в 2 метра длины, 0,72 ширины в 0,62 высоты. Его нашли на соседней ниве и поставили в притворе церкви. Крышка же его угодила на украшение водотечи на дворе монастырском. Ни надписи, ни рельефных украшений он на себе не имеет. Видно таким образом, что поблизости монастыря, а может быть и на самом месте его, была в древности селитва человеческая, и притом не из дюжинных. Мало того. Видно, что селитва эта продолжала быть значительною и в христианские времена. В северном окне церкви, разделённом столбиком на византийский образец, мы увидели вставленную мраморную плиту с древнею христианскою надписью, к сожалению, разбитую в длину на три части или и более, из коих сохраняются только две. Надпись надгробного значения и состояла из 9 строк. В теперешнем обрубленном и искалеченном её состоянии, только с помощью догадок можно дать ей некоторый смысл246. Видно, что дело идёт о кончине, случившейся в Ноябре месяце в пятницу, некоего Марка, по поводу чего и призываются Святые Апостолы и ученики принести молитву владыке Спасу Христу о (упокоении) души его. Года нет, но характер букв вообще и в частности букв: Α, Ω и широкого Ο выносят надпись в глубокую христианскую древность, одной эпохи с Воденскими эпитафиями. Когда и где отыскана плита, некому было объяснить нам. Мне кажется не подлежащим сомнению, что мы находимся по близости древней Ираклии Линковой. О давности монастыря и о его прошедшем, а равно и о происхождении его имени, мы ничего не могли дознаться. Но что он, наравне с Буковским, был славянскою обителью, это свидетельствует его единственная старая рукописная книга: Сборник похвальных слов или Метафраст, без начала и конца, ХVII века, хорошего славянского письма, незамечательная, впрочем, ничем, кроме своей единственности.
Солнце уже склонялось к западу. Приехавшие вероятно ещё с утра в горнюю обитель подышать чистым воздухом горожане собирались обратно в свой дымный и сырой город. Мы, так сказать, показали им дорогу, пожелавши на прощание обители... обитателей. Возвращаясь прямою дорогою восвояси, мы проехали мимо заведения кислых вод, где встретили большую публику и немало солдат. Оба паши были там на прохладе. Наш колонновожатый приветствовал сановников, как знакомый. Этикет требовал, чтобы и мы сошли со своих лошадей. С напускным вниманием рассматривали и испытывали мы целительные воды, ставши в свою очередь, предметом действительного внимания и наблюдения со стороны всех гулявших. В городе уже ходили слухи, что новый Москоф-Консул привёз с собою целый штаб сестёр милосердия... Отсюда до самого города дорога идёт ровная экипажная. Лошади, настроившись в дух арабских бегунов, принадлежащих послам и их свите, и едва сдерживаемых сенсами (конюхами), неудержимо понесли нас во весь мах. Оставалось молить Бога, чтобы остаться в живых. Получасовое расстояние мы пролетели в 5 минут. Удержала наше, отчаянное стремление только городская мостовая. – Зато, показали им себя! с торжеством произнёс мой горячий патриот. Для меня же осталось под сомнением, точно ли мы в этом геройстве показали себя, или только лошадиные ноги.
Но было и настоящее: «за то». Посмотрев на часы, мы нашли, что у нас ещё осталось довольно времени, чтобы посетить жилище митрополита или собственно прилегающий к его дому сад, в котором, как говорили, немало собрано камней с древними надписями, доставляемых из разных мест владыке, известному своею любовию (?) к древностям. Сказано – сделано. Визита нашего там давно уже ждали, и приглашали «на верх» пожаловать, чуть только мы появились. Но мы, сославшись на низкое солнышко, просили позволения остаться в саду. Немало, действительно, виделось кусков белого мрамора, расставленных то там, то сям на садовых дорожках. Три из них имеют надписи, все греческие; на одном обрубке колоны вышиною в аршин и около двух четвертей в диаметре, читается (в переводе): Ав(релий) Юлиан Ав(релию) Амианту сожительницу, равную Артемиде. Воздвиг по повелению богини247. Собственное имя Амианты (непорочной) в связи с намёком на равенство Артемиде (Диане), говорит, как будто о девстве сожительницы, явление, конечно, редкое в языческом мире. «Богиня» очевидно, разумеется, сама Артемида. Жаль, что достохвальный сожитель не объяснил, каким способом ему открыта была воля богини, видимо не равнодушной к своей подражательнице. Мог бы кто-нибудь от такого ревнивого божества ожидать скорее казни новой Ниобе, дерзнувшей сравняться с ним, чем ласки и почести. Разве предположить, что к веку Аврелиев и Аврелий и самые божества колониальной Греции присмирели и сделались человечней под римскою ферулой. Другая надпись, начертанная на капители бывшей колонны больших размеров, странная и необычная уже по сему одному обстоятельству, представляется смесью строк и разнохарактерных букв, то совершенно отчётливых, то почти сглаженных, из коей нельзя вывести никакого заключения о её значении и назначении. Мы довольствуемся передачей её в возможно верной копии для любителей древности. Капитель Ионическая. Буквы надобно представлять, потому, идущими частью по цилиндрической поверхности ствола капители, частью по завиткам, улиткообразно выходящим в две противоположные стороны. Обе эти надписи доставлены на место из селения Вашарейцы, по-турецки: Ак-кечели, не отыскиваемого на картах. Третья, самая любопытная, надпись состоит из 13 длинных строк. Содержание её следующее: некто Филон Кононов на совете, собранном Политархами (градоначальниками)... Филиппова в Дерриопе, держал речь о своём дяде Веттие Филонове, и объявил, что тот, высоко почитая свою родину, оставил ей по завещанию 534 (монет?) для получения по ним ежегодных процентов. Составлен же акт этот перед выборными председателями: Филиппом Посидипповым, Орестом Орестовым и Траллом Макновым, в месяце Дэсие, 243 (70 до Р.X.)248. Из дарственной записи этой видно, что и под Римским владычеством Македонские города пользовались полным самоуправлением, имея свою палату и своих градоначальников или точнее граждано-начальников. К сожалению, имя родного города жертвователя написано весьма нечётко. Можно бы гадать, что дело происходило в упомянутой нами Персеиде Филипповой, но тёмное и сбивчивое слово требует непременно имени, оканчивающегося на... αρος или αρον249. Но был ли тут какой-нибудь город с таким окончанием в древние времена, неизвестно. В моих справочных книгах такого не оказывается. Камень найден в селении: Чепигово, тоже не означенном на карте. Там, значит, и нужно искать остатков Филиппова имя рек города.
Идучи домой, мы завернули в квартиру Английского Консула г. Кальверта, большого любителя древностей, скупившего также, в числе прочих вещей, и несколько камней с древними надписями. Мы их могли только осмотреть сегодня. Сумерки мешали заняться списыванием. На случай, мы выпросили позволение, завтра, чуть свет не тревожа никого, прийти прямо в сад, где расставлены вещие антики, и заняться списыванием их. Нас предварили впрочем, что их уже многие европейцы приходили и списывали, и что верно они известны уже всему свету. Что ж? тем больше причин списать их, значит, стоят того. Впрочем, их всего на все – 4. Дома я продолжал приводить в порядок свои заметки, а компаньону выпал жребий собираться в путь-дорогу. Когда я за вечерним чаем хвалился археологическими успехами дня, дорогой хозяин сказал, что и он тоже в течение какой-нибудь одной недели успел уже открыть древность, современную самому Гомеру. – Да вот она тут, прибавил он, заметив, что я ищу глазами чего-нибудь не бывалого. Антик заключался в стоявшей перед нами бутылке, полной вина, называемого по-гречески: ἡλιασμένον, что можно бы перевести: просолнеченное. Оно есть хотя местное произведение и весьма недавней даты, но известно было ещё Гомеру, как уверял амфитриона один бывший с визитом, местный учёный. Не справляясь ни с Илиадой, ни с Одиссеей, мы попробовали антикварного вина, нашли его отличным по вкусу и лекарственным по свойству, т.е. говоря прямее, – усыпительным до того, что порекомендовали его какому-то отсутствующему лекарю давать своим пациентам вместо морфина. В самом деле, его ли действие или утомление дневное, навели тут же за самоваром такую неодолимую дремоту, что весь обстоятельный рассказ о способе приготовления его не оставил по себе в памяти никакого следа. Помню только одно заключение рассказа: «взять его с собою»!
Ещё Румелия. 31 Мая. Понедельник.
Итак… finis Rumeliae! С этими словами я и проснулся. Они были финалом сонного разговора моего с кем-то по латыни, как будто опять с Мальтийским сенатором, с которым мы вместе плыли в 1852 г. на пароходе и усердно бранили протестантское правительство острова, подкапывающееся под католическую церковь островитян. Причина же ночного латинства моего заключалась, конечно, в виденной мною вчера у Английского Консула Латинской надписи языческого времени, с датою: anno mundi... Невозможная вещь! Оттого, конечно, она и засела в память глубже всего прочего. Но finis-то оказался на сей день неоправдавшимся. Вышло, что сегодня понедельник, тяжёлый день, в который «даже и медведь не выходит из своей берлоги, а только поворачивается с боку на бок». К тому же совпали и последнее число месяца, и первый день поста, – столько причин, внушавших пребывание in statu quo... у меня же, кстати, оставалась ещё на совести не конченая работа археологическая. За ночь её даже прибыло. Когда я наводил вчера вечером свои карандашные копии чернилом, мне сказали, что они списаны мною не все, что в том же саду владычнем есть ещё одна большая надпись греческая со славянским именем Пуда. Такой я действительно не видел. Следовало всячески отправиться и списать её. Я начал именно с неё, оставивши Кальвертовы камни с неудобоваримым: anno mundi, как говорится, на закуску. Извинился перед хозяевами владычного сада в частом беспокойстве, и без труда отыскал камень, во всём подобный виденному вчера и составляющий как бы дополнение к нему, второй том парламентского акта Дерриопов. Надпись состоит из 15 строк такого же точно письма и видимо одного с предыдущею времени. Она содержит в себе следующее: День, в который правится праздник Уэттия Волана, бывает за 14 ноябрских календ... Угодно было Совету принять честность и намерение мужа по статьям, прописанным в его завещании, получить серебро, и править ежегодно праздник Уэттия Волана на проценты, и ничего из преждеписанного капитала совершенно не издерживать на другие потребности, ни из самых процентов с него, но (поступать), как хотел давший Филон. Серебро сосчитал и принял Денежный Старатель Совета, Луций Лукреций Пуд250. Надежда моя объяснить этою надписью тёмные места вчерашней не оправдалась. Имя места, где свершён акт правительственный, не повторилось более. Ни название единиц пожертвованной суммы, ни количество процентов с неё не означены в другой раз. Остаётся потому довольствоваться высказанными вчера соображениями. Что дело здесь идёт о том же самом Уэттие, это очевидно, но отчего же в той надписи он не назван Воланом, а напротив, как будто именно в замену этого прибавочного названия (или прозвания), он поименован там Филоном. Грамматическая последовательность двух сряду собственных имён в родительном падеже Οὐεττίου и Φίλωνος даёт возможность переводить последнее и: Филона, и: Филонова (сына). Для выражения последней флексии требовался бы, впрочем, определённый член τοῦ перед именем: Φίλωνος, так как этому правилу следует надпись в 4-х других случаях. Не менее Уэттия обращает на себя внимание и Казначей Совета Луций Лукрещй Пудис. Два первые имени очевидно Латинские. А в последнем, как не рискнуть, в самом деле, не усмотреть славянщины? Из святцев наших мы уже знакомы с именем Апостола (из 70) Пуда (См. 4-го Января и 4-е Апреля). К сожалению, нам ничего не известно о его роде и месторождении. Возможно, что и он, со многими другими, был родом из Македонии, но далее этого предположения некуда пойти. Конечно, в греческом языке не отыщется подходящего корня для имени Πούδης, только есть ли такой и в южнославянских наречиях? Мало ли чего можно найти в русском языке, о чём и не слыхали никогда ни Болгаре, ни Сербы, ни другие заграничные единоплеменники наши. По крайней мере, здесь в Битоле и понятия не имеют о нашем пуде. А помню, один грек, хорошо знавший по-русски, в укор нашей подражательности, уверял меня, что мы свой пуд целиком взяли у французов, вместе с манерами, сортами, модами и пр. Предоставляю судить знатокам дела251.
С нетерпением спешил я из одного рассадника древностей в другой. Annus mundi не давал мне покоя. По сделанному вчера соглашению, я прямо из ворот квартиры г. Кальверта направился в садик к римскому камню. Это – надгробная стоячая плита белого мрамора в 0,67 фр. метра ширины и в 1,55 вышины, из коих – идя снизу – 85 заняты 9-ти строчною надписью, 50 рельефным изображением двух фигур: отходящей из мира и прощающейся с нею, и остальные 20 входят в род фронтона, венчающего памятник. Надпись по римскому обычаю сделана с частыми усечениями слов, и особенно собственных имён, и кое-где потёрта. Оттого отчётливое списывание её потребовало немало соображения и времени. Насколько я мог понять, в ней содержится следующее: Кай Юлий Басс, Кайев сын, Мециевой трибы, Пелагонец из отпускных ветеранов, из VIII легиона Августова. Служил 25 лет. Жил 75 лет. Наследники (?): Кай Юлий Цэниал, и Кай Юлий Олимп, и Кай Юлий Экспедит, и Кай Юлий Феликс. Поставил А. М. за 60 динариев252. Никакого летосчисления в надписи нет и признаков. Соблазнившие вчера меня А. М., если не суть начальные буквы имени и прозвания резчика, то весьма могут означать: Ad mercedem. Четыре Кайя Юлия очевидно суть дети Кайя Юлия Басса. Жил покойник, несомненно, во время первых императоров римских Августа-Калигулы. Из греческих надписей первая начертана на обломке колонны в 0,85 фр. метра вышины и в 0,28 в диаметре, состоит из 9 строк и содержит следующее: Года 267. Фронтон Дионисиев Стиверреец, начальствующий вместо Дионисия, Агораномова сына, столбы (эти) сделал253. Сотенная цифра года может подлежать сомнению. В том виде, как теперь она представляется глазам, она не похожа ни на какую из букв алфавита. Город Стиверра известен древним историкам. Он находился в Дерриопии, и значит тут недалеко от нас. Жаль, что не у кого было осведомиться, где найден камень с надписью. Вероятно, археологи ad hoc уже отыскали местность Стиверры. Жёсткие и дерущие звуки этого имени, как бы сами просятся на знакомый нам Трескавец, где был же в старину какой-то безъименный город. Впрочем, не надобно терять из виду, что, если б и было известно место, откуда доставлен Фронтонов камень, ещё не следует заключать, что там и находился город Стиверра. Фронтон мог быть Стиверрейцем, а жить и чертить надписи совсем в другом месте. Теперь несколько слов о самой надписи. Что она такое? Не эпитафия, не судебный акт, не похвальный лист, не «возложение», ничего в подобном роде. Широколобый Стиверрянин, кажется, хотел только заявить векам грядущим, что он исправлял должность начальника в своём месте, а начальник этот (если только не отец его) был не кто-нибудь из простых людей, а сын Агоранома, т.е. базарного смотрителя!.. Такого рода обстоятельство, по Стиверрийским понятиям, следовало увековечить памятником. Шути над ним, сколько хочешь, а он достиг своей цели. Вторая греческая надпись надгробного значения начертана на могильном памятнике, во всём подобном Бассовому, вышиною в 1,39 фр. метра и шириною в 0,57. Также в верхней половине своей имеет изваянные фигуры, а в нижней 5-ти строчную надпись, гласящую так: Юлия Александра Г(аию?) Юлию Александру (своему) сыну... Александр Ант(оний) Юлиев – Юлие Александре матери. Из своих (денег) поставили (надгробный сей памятник)254. Соорудителей памятника было, таким образом, двое: мать и сын. Встречается, однако же, неразрешимое затруднение, усугубляемое повреждением слова, существенно важного для определения смысла. Вторая Юлия Александра была мать или дочь Александрова? От слова, определяющего это, осталось только окончание... τρὶ, общее и μητρὶ – матери и ϑυγατρὶ – дочери. Но какое бы ни принять чтение, всё остаётся не решимым, как мог умерший сын ставить кому бы то ни было памятник. Разве сын и мать хотели поспорить в великодушии и заказали общий друг другу памятник, для обоюдного прославления в потомстве? По-видимому – так. И чтобы окончательно убедить в том всех и каждого, люди позаботились прибавить заметку, что сделали это на свои деньги. Если и этот памятник стоил 60 динариев, то выйдет, что сын для матери и мать для сына издержали по семи рублей с полтиной – на наши деньги... Потомство может воспользоваться таким уроком. Последняя надпись принадлежит христианскому времени, и тоже имеет значение надгробия. И в начале, и в конце её стоит изображение креста. Она говорит следующее: Здесь покоится Спуркион воин, хорошо прошедший годы привременной жизни, благочестно же преставившийся от здешнего жития индиктион 13, месяца июля, в четверток, которого принявши упокой Христе молитвами Святых255. Надпись замечательна характером письма, какого мне ещё не удалось встретить между тысячами виденных мною греческих рукописных памятников из всех эпох эллинской письменности. Жаль, что нет возможности определить её время. Её три даты: индикта, числа месяца и недельного дня дают слишком широкую рамку для того, чтобы покуситься отыскать в ней место для надписи. Две числовые (если только числовые) буквы, видимые в конце её, какую должны составить цифру, нелегко решить. Вторая из них несомненно 9. Первая же, совершенно необычная в греческой графике, похожая на наше 4, если должна заменять собою скорописное 4 или 9, то даёт цифру 90. Но христианское счисление на Востоке, ни Селевкидское, ни миробытное, с 99-м годом, возможно только по «эре Мучеников» или Диоклитиановой, начинающейся 285 годом по Р.X. Прибавив к этому числу 99, получим 383-й год христианский. И по составу своему и по характеру письма и по множеству орфографических ошибок наша надпись, пожалуй, и подошла бы к этому времени256, так мало оставившему по себе письменных памятников, но употреблялась ли эта, весьма мало распространённая эра (особенно без прямого указания на лице Диоклитиана) в Македонии? Весьма сомнительно. Можно бы думать, что ставивший числовой знак 4, имел в виду столько обычное ϛ, т.е. значок (или сложные буквы στ) 5, соответствующий цифре 6. Тогда сумма цифр выражала бы число 6009, т.е. 501-й год по Р.X. К сожалению, и так не выходит. Этому году соответствовал 9-й, а не 13-й индиктион. Для охотников хронологических вычислений мы передаём в точном fac-simile всю надпись257. Странно слышать христианское имя (очевидно Латинского происхождения), имеющее такой не хороший смысл. Spureus значит: нечистый, мерзкий... Если и предположить, что носивший его, живший и вероятно воспитавшийся на греческом востоке, не разумел смысла, заключающегося в его имени, то дававший оное ему должен был знать о том, ибо выбирал, конечно, таковое из множества других. Может быть, по христианскому смирению и самоукорению назвал так себя человек впоследствии? Имеем же мы пример Св. Коприя... Имя, прямо бьющее в греческий слух. Спуркион, как видно, был не из великих мира, – простой солдат, и не должен был обижаться своим нехорошим именем. Но, сделанное ему, такое сердечное и полное уважения надгробие показывает, что не по низкой доле, а скорее по высокой доброй воле своей он носил и любил своё мерзостное имя. Вечная ему память!
Возвратившись из последнего своего археологического похода в Румелии, мы употребили остаток дня на приготовление к дороге. Завтра неотложно едем в старую Болгарию, а по-древнему Иллириду, а там за нею... что Бог даст. Последний вечер под гостеприимным кровом близкого нам человека, немало лет делившего с нами своё доброе сердце, имел оттенок грусти. – И останусь завтра один... с канарейками, проговорил он, прощаясь и желая нам доброй ночи. Хотел по обычаю подшутить над собою, но тон шутки был фальшивый. В нём слышались, как говорится в музыке, «три бемоля», вовсе нерасполагающие к веселью, – одиночества, немощи и старости. Порывистый ветер и зловещий дождь долго смущали сердце страхом, пока на месте их не появилась великолепная ясная погода с теплом и прохладой, с цветами, птичками, мотыльками... Она принадлежала уже сновидению.
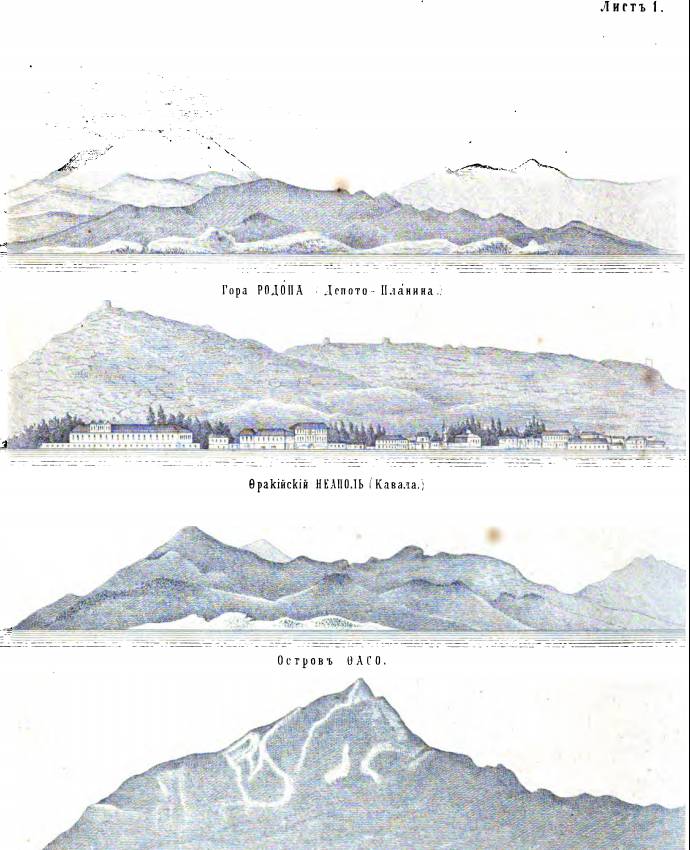
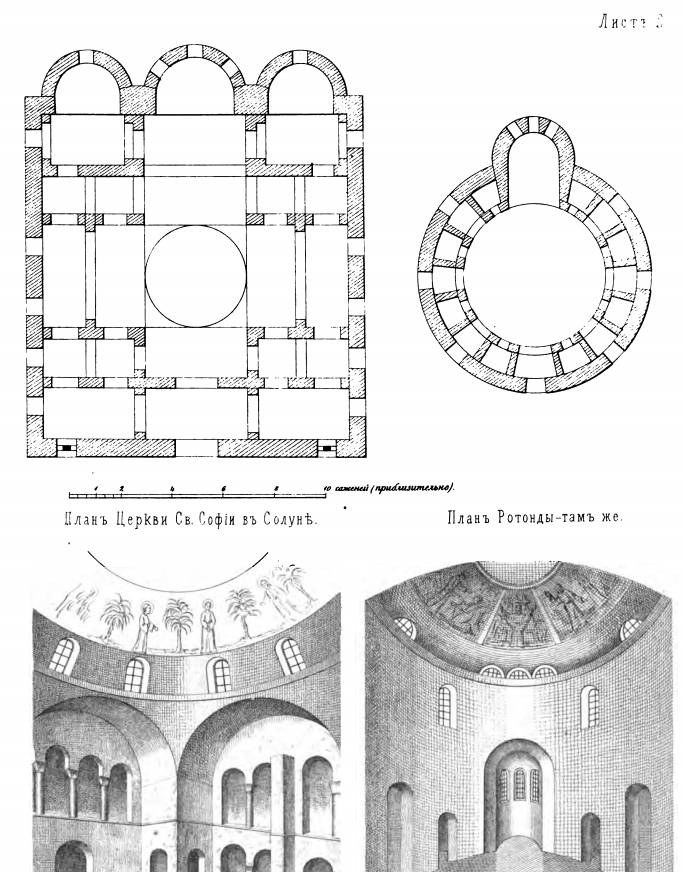



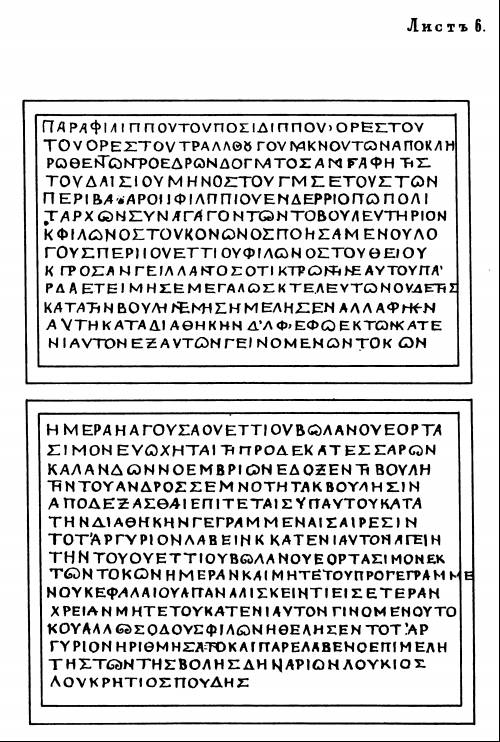

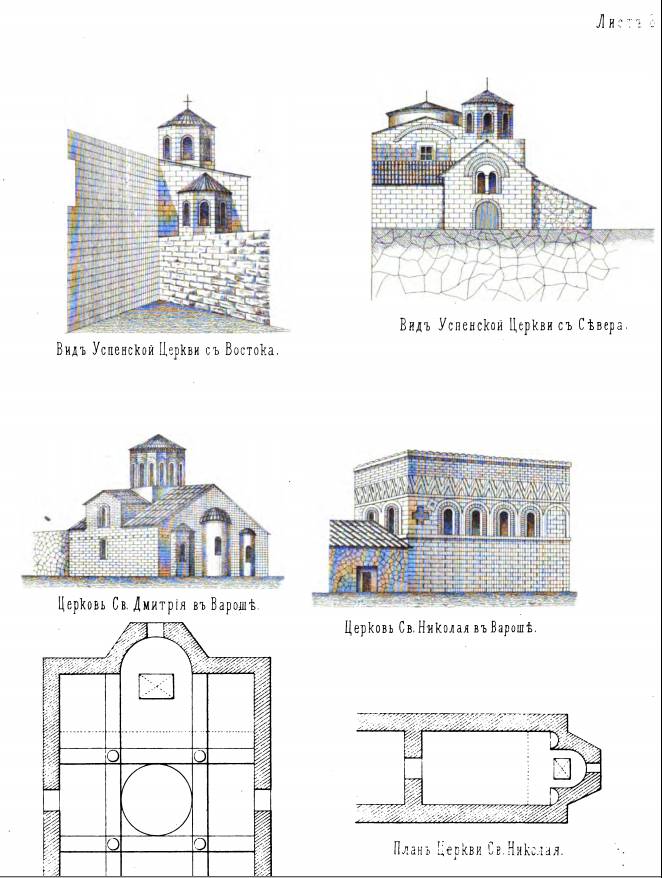
* * *
Примечания
Позднее появление в печати настоящего труда одного из русских старожилов Востока зависело от целого ряда причин, не имеющих интереса для читателя.
Itinéraire déscriptif, historique et archéologique de l’Orient par Adolphe Joanne et Emile Isambert. Paris. 1861.
В близком кругу нашем так титуловался константинопольский книгопродавец Roth, так часто докучавший нам своими долговыми счетами.
Les Turcs et la Turquie contemporaine… par B. Nicolaidy, capitane de genie an service de la Grece. Paris. 1859.
Потом удалось достать большую карту Европейской Турции, составленную австрийскими военными инженерами; несмотря на изящную отделку, она далеко уступает кипертовой в точности.
См. статьи мои: Вифания, в христианском чтении за 1863–5 годы.
Имелось в виду достать его сочинение: La Turquie d’Europe, в 4-х томах, а приобретён его же: Recueil d’itinéraires dans la Turquie d’Europe, в 2-х томах.
Турецкое название переносчика тяжёлых вещей, взятое вероятно из греческого языка, где есть похожее слово: χαμηλὸς или χαμαλὸς. Впрочем, ещё прямее слово объясняется из арабского языка, где Гхямель значит: несущий бремя.
Дело идет о Д...м духовном училище 1825–30-х годов. Начальник его был завзятый латинист. Школьные дни недели делились на Латинские и Греческие: Понедельник, Среда и Пятница – Латинские, остальные – Греческие. В стенах класса ученики обязаны были в Латинские дни говорить по латыни, и тому, кто проговаривался по-русски, всучивался в руки calculus. Всех, у кого он побывает за день, вносил «цензор» в «записку», и ожидала неминуемая расправа у порога, характеризуемая именем «березовой каши» и пр. Перед классом всех учеников выслушивали «авдитора», и отмечали в «нотате» знающих буквами: s (ciens) и γ (ινόσκων), ошибающихся: er (rans) и ἁμ (αρτάνων), худо знающих: nb (non bene) и οὐκ (οὐ καλῶς), со всем незнающих: ns (nesciens) и οὐκ (οὐχὶ). Несцитов всегда и Энбеев почти всегда «порол» учитель. Еранцов и Амарта́нов переслушивал, и ставил «на колени» или на месте, или тоже «у порога». Случалось, что переспрашивал и Сцитов с Гиносками, и горе авдитору, если они оказывались помеченными выше своих действительных успехов. Авдиторы в свою очередь тоже «слушались» у других, подслуших другим авдиторам. Не без того, что бывали и злоупотребления властью со стороны этих тиранчиков, в роде прижимок, потачек и негласных поборов хлебом, бумагой, перьями, бабками. Между одноавдиторниками бывало такого рода, соревнование, что невыучившие «урока» мешали всячески выучившему ответить перед авдитором хорошо. Пишущий сии строки целые два года не выходил из уков и энбеев только потому, что попал в среду таких, для которых и е (произноси: je) ранс был предметом зависти.
Теперешний разговорный язык греческий много разнится от древнего эллинского, который обязательно изучается в школах, ради сего официально именуемых Эллинскими. Попытки говорить по-эллински у простого народа зовутся эллиникурами.
Это был третий Калуян. Первый был Иоанн Комнин, второй – Иоанн Ватаци, третий – Иоанн Палеолог.
παμπληϑεῖ – по Пахимеру. Риторически «круглота», избавляющая читателя от труда счисления. Один писатель, на основании её, утверждал, что жители Каллиполя при этом избиты были – все до одного!
Раичь. Кн. II. Гл. 9. § 2.
По Lebeau – в 1354 г., по Раичу – в 1358 г.
В обнародованной г. Григоровичем в 1859 г. Волошской летописи говорится, что император I Кантакузин, узнав о намерении Турков перебраться из Азии в Европу, просил для отражения их вспомогательного войска у кралей Сербского и Болгарского, но те отвечали: «Обороняйся сам, как умеешь». Император опечалился и послал сказать им: «Если теперь не хотите помочь мне, то после будете каяться». На каких основаниях всё это утверждается, не знаем. Нам кажется, что Кантакузин в своей истории не опустил бы случая похвалиться своею ревностью, встреченною с такою холодностью со стороны славянских «варваров». Но там нет ни слова об этом.
Мурат Драгоман, приводимый у Раича.
«Les rameurs du rang superieur… les Grecs les appelaient ϑρανῖται. Ceux du rang inferieur… portaient le nom de ϑαλαμῖται. Ceux enfin, qui êtaient attachés au rang du milieu, étaient nommes ζευγῖται». Dictionnaire der Antiquités Romaines et Grecques. Pag. 678.
Всего вероятнее по капризу. Был он человек – из ряда вон. Сын Асеня старшего и, следовательно, наследник престола, он выжидал, пока державствовали двое дядей и после них двоюродный брат. Боясь козней последнего, он бежал в Россию, где, собравши полк охотников, с ними возвратился в отечество, победил соперника, и 7 лет держал в осаде столичный город Тернов, где укрылся тот. Когда Венгерский король Андрей возвращался домой через Болгарию из Крестового похода, он захватил его и не выпускал дотоле, пока не вынудил его отдать за себя дочь (Марию). Когда временный император Солунский, нарушив мир с ним, объявил ему войну, он мирную грамоту того прицепил к своему знамени, и так сражался. Победив врага, он выколол ему глаза, а потом держал в чести при дворе своём и женился на его дочери... Ссорился и мирился с кем и за что попало, выдавал себя и за паписта и за православного. Акрополит пишет, что для него ничего не значила никакая клятва, и в виду малейшей выгоды он изменял своему слову, прикидывался другом, и поступал как враг.
Он вскоре и прямо раскаялся в том, и лукавством выманил у императора дочь свою, всё ещё остававшуюся в девстве, как несовершеннолетнюю. Посадив её перед собою верхом на седло, он бил её рукою, чтобы та не плакала. Впрочем, видя, что бедная крепко привязана к мужу, отослал её потом к свекру.
С некоторой натяжкой Пеласгов можно считать за: οἱ πέλας τῆς γῆς = туземцы. Наряду с этим заслуживает упоминание и угроза одного нашего ультра-монтана славянофила добраться, во всеоружии истории, до этой загадочной Белой зги…
У поэтов упоминается Лимнийская огнедышащая гора Мосихль (Мοσυχλός), несуществующая теперь.
По Плинию, 10 000 шагов высоты.
Кебир или Кабир по-арабски значит: большой, великий.
По Санхониатону, Сидик – это сам Юпитер. Евсевий говорит: «от Сидика (произошли) Диоскуры, Кабиры, Корибанты, Самофраки…». Если уже писатель с такой исторической славой, как Евсевий, отделывается подобным сумбуром, то ясно, что не откуда ожидать света для такого тёмного культа, каков культ Кабиров.
В древности, при входе в пристань главного города острова, стояли две медные мужские статуи, которые и слыли в народе за великих богов, но ошибочно, как замечает Варрон.
К немалому сожалению холодного исследователя, где встретится в древней мифологии таинство, там верно предполагать нужно некое явное безобразие. Хотелось бы о Самофракийских таинствах иметь лучшее понятие. Но Иродотово рассуждение (кн. II, гл. 51) о том, как и почему у Самофракийцев изображался Эрмес, не благоприятствует тому. Чтобы это, если не прямо бесстыдное, то не стыдящееся божество не имело отношения к таинствам, трудно поверить. Эрмес был в числе 7 Кабиров и носил особое имя Казимила, может быть Фракийское, может быть Финикийское (не Славянское ли: кажи мил?). Хотя с другой стороны историк Диодор рассказом своим о том, за что поражен был молниею (fulmine ictus perlit, attentatâ Cereris pudicitiâ. Кн. I) на острове брат Дарданов Яс, как будто даёт знать, что в «оргиях» Самофракийских не могло быть ничего нехорошего. Преступление Ясово относилось, конечно, не самой богине, а к посвящённому ей лицу, тем не менее, оно говорит о нравственной чистоте культа. Судя по Диодору, и пресловутый культ Весты в Риме был в исторической связи с Самофракийским. Он полагает несомненным, что Весталки кроме огня смотрели ещё за чем-то другим, ни кому кроме их и приставников неизвестным, и гадает, что это была святыня, вынесенная в Рим из Трои Энеем, а в Трою занесённая Дарданом из Самофраки, или, как думают другие, то был сам Палладий, т.е. подлинная статуя Афины (Паллады – Минервы) Илийской, о которой говорили, что она упала с неба. От мифа Афины тоже веет чистотой. Дай Бог почаще встречаться с нею на классической земле обоженного разврата.
Не красиво, но что делать? Есть много словопроизводств собственного имени: Аἰγεῖον. Так 1) думают, что оно вышло от множества островов, коими усеян Архипелаг, напоминающих собою стадо коз (αἶγες), 2) производит от царя Эгея, ринувшегося в него (?) при вести о смерти сына Фисея (Тезея), 3) от Амазонской царицы Эгеи, утонувшей в нём, 4) от одной из опасных отмелей на нём, имевшей фигуру козы, 5) от Эвбийского города Эги, 6) от волн, весьма частых на нём, которые у Дорян зовутся «козами», 7) (наше мнение) от имени вообще моря на каком-нибудь не-греческом языке, остатком или памятником которого можно считать теперешнее простонародное слово: яло т.е. αἰγιαλός – морской берег.
Он же передаёт, что ни один предмет не всплывал на поверхность Бистониды… Хоть бы и не от него слышать такую сказку.
На Целляриевой карте Фракии он даже изображён (в порфире и диадеме) рубящим кого-то у дверей своей конюшни.
См. заметки поклонника Св. Горы. Киев 1864 г., стр. 391.
Cavallo – лошадь. И у греков тоже в просторечии ἡ καβάλα идёт вместо: ἵππος почти повсеместно.
«Француз», ради краткости. Разумеется: itinéraire de l’Orient etc.
Не прибавить ли ко всем им еще Афонцев? Недавний русский «турист, артист и аферист» и вдобавок, публицист, уверил свет, что у монахов Афонских есть свой флот и свой флаг.
Не удалось мне нигде вычитать этимологии слова: кавала. Что оно не древнее, это очевидно. Что при наименовании им города какой-нибудь мореплаватель итальянец не руководствовался памятью соседних Диомидовых «лошадей», это также верно. Византийцам не зачем было давать месту римскую кличку. Один грек турист с замашками учёными полагает, что на месте Кавалы был когда-то город Халипс (Хαλυψὸς). Но ни во Фракии, ни в Македонии такого имени у древних не встречается. Думаем, что его именно разумеет одна карта Европейской Турции, когда помещает (на значительном отдалении от нынешней Кавалы) город «Старую Кавалу» и прибавляет в скобках: Капсал, Наконец один французский ориенталист (Белон), говоря о Кавале, утверждает, что место называлось в старину: Вουκέφαλος (бычачья голова) что, как известно, было кличкою пресловутой лошади Александра Великого. И так, всё-таки мы не уходим от лошади, т.е. кавалы.
Серрская кафедра занимает в ряду других подчиненных Константинопольскому престолу 27-е место, а Драмская 28-е. В «Нотиции» Имп. Львамудрого (по Лекеню), митрополии Филиппийской подведомы были 7 епископий: Феорийская, Полистильская (город: Пολύστηλον занимал в византийскую эпоху, как вообще думают, место Абдеры), Великская, Хрисопольская (по иным спискам: Христопольская), Смоленская (Σμολαίνων). Кесаропольская и Алектриопольская, Феорийской в иных списках недостаёт. Не читать ли вместо Θεωρίου, Nεωρίου, т.е. пристани? Ибо трудно предположить, чтобы такое значительное место оставалось в те времена без епископа. Впрочем, в числе Архиепископий Константинопольского престола упоминается прямо Неапольская (17-я в ряду других). Где её искать должно, неизвестно.
При этом необходимо иметь в виду, что в греческом алфавите нет славянских б, ж, ч, т, щ (полагая, что ц есть сложное тс) и что для б при передаче славянских слов греческими буквами должны были служить β и π, для ж конечно ближе всего ζ, для ш всегда ς, для ч сложные τσ или τζ. Присовокупим к сему, что в греческом υ весьма часто должно скрываться наше у или ю (Στρύμων – Струма), в κ перед ε, ι, υ звучать наше ч или ц (Кυριαϰόν – церковь, Кεράσια – черешня), в γ часто предполагается наше й, или, незамечаемое нами, придыхание язычное, если стоит перед ε и ι, и особенно между двумя гласными (Ἰάγκος – Янко, т.е. Ваня, Тσετίηγε – Цетинье).
А самое имя Δευκαλίων как мало звучит по-гречески! Один византиец (Феофан), признавая в Девкалионе библейского Ноя, выводит имя его из влагаемого в уста его покаянного обращения к грешникам его времени, в переводе на греческий язык будто бы составляющего фразу: Δεῦ (τε) Кαλεῖ (ὑμὰς ὁ θεὀς εἰς μετάνοι) αν. Так как от великого до смешного один только шаг, то мне и припомнилось при этом, как один из товарищей моих по Риторике, отличавшийся быстроумием, читал в загадочном имени русскую фразу: Девка (что) ли он? произнесённую возродителем людей, когда Фемида заверила его, что бросая за спину свою кости «матерой матери», он народит вновь людей.
Ещё опалами и аметистами. Ещё – уксусом. Ещё – эллебором, исцелявшим глазную боль.
По Иродоту (кн. II. гл. 44) компания имела в виду другую цель, а именно – отыскать похищенную Европу.
Вино имело замечательное, если не прямо чудесное, свойство принимать вкус окружающих виноградные лозы растений (для чего и сеяли около кустов эллебор), и было двух родов, одно – усыпляло, другое – производило бессонницу… «Не любо не слушай».
В недавней учёной «повести об Афоне» на место Божией Матери заносится на Афон Апостол Павел. Известно, что он на пути из Финикии в Солунь посетил Амфиполь и Аполлонию. Местность первого города вполне известна. На месте его в средние века был город Христополь (по иным Хрисополь), о чём прямо говорится у «Византийцев». Теперь же там деревушка Мармара с древними и большими развалинами. Нельзя того же сказать о городе Аполлонии. По «Дорожнику Антонинову», она находилась почти на середине пути от Амфиполя к Фессалонике, отстоя от первого на 32, а от второй на 26 миль (по «Иерусалимскому Дорожнику» 31 и 38 миль). На «Феодосиевой» (Певтингеровой) карте: 30 и 38, и совершенно в стороне от Афонского перешейка. На «карте Европейской Турции» Австрийского Штаба прямо означено и место её, где у Киперта видится слово: Polina, – на столько далеко от Афона, на сколько требуется, чтобы не зайти туда Апостолу. Правда, Плиний упоминает об Афонской Аполлонии, которой жители слыли за долговечных. Но Мела (кн. II. гл. 11) прямо ставит её на место разорённого Акрофоя, а Акрофой, по Плинию, был oppidum in cacumine, а не у Ериссо, где воображает её упомянутая учёная сказка.
По наиболее ходячему мнению, Тирскую (по другим – Сидонскую) царевну подсмотрел и похитил критский царь Астерий, отправившийся с нею на корабле Тавре (откуда баснь о «быке» уплывшем с нею по морю) на свой остров, где и прижил с нею двух сыновей. Посему-то и Иродот делает намёк, что Европа совсем не видала мест, нареченных её именем, и что из Крита могла побывать разве только в Киликии. С этим мнением расходится занесённое Павсанием в его книгу предание, что Зевс (похититель) укрывал пленницу в Тельмиссе, близ города Фив. Туда же отправился за поисками сестры и (четвёртый?) Царевич Тирский Кадм, передавший финикийский алфавит Грекам, своим новым подданным.
Невинная аллюзия нашего покойного «Святогорца» на слово Ἄϑως, как бы: ἀϑῶς. Дарий и Ксеркс, если знали не более святогорца по-гречески, я думаю, скорее прочли бы в Ἄϑως прилагательное: ἄϑεος – безбожный.
В самом наименовании их есть уже что-то намекающее на эту разность: Ἄ – ϑως и Σί – ϑως. Первое как будто отрицает, а второе (вероятно) утверждает то, что должен означать слог ϑως. А что он означает, не знаем.
Теперь: Дрепано (серб.). Вместо Амбела, Страбон указывает тут мыс: Δέῤῥίς, и при нём «Глухую пристань» (Кωφὸς Аιμὴν).
Он считает эту гигантомахию чистою выдумкою, и полагает, что на полуострове просто жил один нечестивый народ, истреблённый Ираклом (поспешавшим всюду!), когда он, по взятии Трои (!), возвращался восвояси… «А лгать не мешай».
О Ἄγιος Кασσανδρίας, с выпуском существительного: μητροπολίτης. Впоследствии он был сделан Деркским (кафедра на Босфоре), с тем, чтобы Великая Церковь имела возможность постоянно озаряться лучами такого светила.
Мне доселе памятно, как одна компания, отправляясь в том же самом Константинополе из Галата на Сладкиеводы в лодке по Золотому Рогу, задержана была у моста таможенным дозором, и принуждена была заплатить пошлину за 22 чайные ложки, лежавшие в погребце. Никакие резоны не помогли. Для объяснения нужно было ехать за тридевять земель и ждать там может быть целый день, пока удосужится начальство. В другой раз послана была из Перы в Фанарь для одной церкви одна, пожертвованная в России, икона. Попала и она в таможенное мытарство на том единственном основании, что для сбережения вложена была в тот самый ящик (разломанный и открытый), в котором прислана была из России. Sic vola… etc.
Митрополия, Шесть Богородичных церквей (именуемых: Παναγία Μεγάλη, Παναγία Δέςα, Παναγοῦλα, Ἡ ἐλεοῦσα. Ἡ λαγουδιανή, Ἡ τοῦ Τσαούση), Св. Афанасий. Св. Николай. Св. Константин. Св. Мина. Св. Феодо́ра. Церкви на подворьях: Сретинскя, Богородица – Персио́тисса, Св. Георгий, Св. Антоний, Св. Николай (ὁ ὀρφανὸς – сирота) и св. Харлампий.
То, что мы, по-своему, зовем парой и паричкой (самая мелкая Турецкая монета), грекам известно в муж. роде: ὁ παράς.
Acta Sanctorum, Mensis October, dies VIII, pag. 70 (edit. 1865).
Случай передается так: Был обычай в праздник Святого, т.е. 26 Октября (а по Латинскому месяцеслову 8 Октября) освещать гробницу его. Праздник продолжался несколько дней. В один из них, именно ночью, произошёл пожар. Пламень был так силен, что весь Киворий растопился. Тогдашний епископ города Евсевий, желая сделать новый Киворий (вероятно во всём похожий на прежний), нашёл недостаточным количество собранного после пожара серебра, и решился дополнить его, употребив на то серебряную же кафедру. Но одному из пресвитеров церкви три раза приснился Великомученик, запрещая ломать кафедру, и заверяя, что серебра доставят сколько нужно. Когда всё это пресвитер рассказывал епископу, последнему доложили, что его спрашивает некто г. Мина. Пришедший вручил архиерею 75 фунтов серебра на новый Киворий. За ним другой житель местный пожертвовал на тот же предмет ещё 40 фунтов дорогого металла. Потом стали жертвовать и другие, увлечённые слухом о видении и примером. Киворий был сделан, и кафедра осталась цела.
Чтобы это могло случиться в краткий промежуток Франкского владычества в Солуне, совсем невероятно. Франки не имели никакого повода сделать это.
А что сталось с самым пресловутым Киворием? Можно бы не сомневаться, что, если он досуществовал до 1430 года, то пошёл, по практическому взгляду мусульманскому, на более полезное употребление, на пополнение тощей казны Амуратовой. Но был ли уже он в это время? Последние сведения о нём даёт, совсем неожиданно, наша первопрестольная столица. В ризнице Московского Успенского собора хранится, как известно, миниатюрная модель его, называющая сама себя «ясным образом Кивория». Что думать о ней? По описанию архиепископа Иоанна, Киворий Солунский имел фигуру шестиугольника, а Московская модель сделана осьмиугольною. Что следует заключать из сего? То, что и второй Киворий; сделанный при епископе Евсевие (конечно по образцу первого), уже не существовал в то время, как делалась модель, т.е. в XI веке по Р.X. Изображённый на модели император Константин Дука неизбежно наводит на мысль, что при нём (и может быть, им самим) сделан был новый (третий?) Киворий. Иначе нельзя объяснить появление его изображения на Киворие. Трудно предположить, что оно имеет отношение только к модели, и что «ясный образ» есть только риторический оборот. Как бы то ни было, видно, что в X веке ещё существовал в храме Великомученика Киворий. При сём, кстати, заметить, что приданное Московскому Киворию в статье о нём (Христианские Древности. Год 1-й. Книга 8) значение Дароносицы не имеет твёрдого основания. Вероятно, это была просто модель или копия Солунского Кивория, сделанная по заказу для «тайнописца» Иоанна Авторьяна, жившего или в XII, или в XIII веке (известен патриарх Вселенский Михаил Авторьян – 1212 г.), занесённая в Россию, и приложенная придельному при Успенском соборе храму Св. Великомученика Димитрия. Ещё заметим, что приведённое в надписи на Московском Киворие, слово: τεῦξας не значит: сделал, а – приобрёл, или по-славянски: улучил, возымел. Неправильно прочтено слово в другой надписи того же Кивория: ПСϴТНС. Читать следует: ПIСТОС. Также и необъяснённое в статье: м҃, должно быть почитаемо сокращением слова: μεγάλη. Что стояло в подлинном Киворие на местах, где в копии видятся объяснительные надписи? Изображение самого Великомученика? Взамен того, ясное дело, что внутренняя коробочка представляет собою упоминаемую писателем Солунским скимпиду, или гробничную доску мученика.
На точение чудотворного мира намекают, думаем, и стоявшие, как видно из Московской модели Кивория, поверх его стенок в полукруглых окошках, чаши, так как едва ли их можно счесть лампадами.
Ҕ ЭПГ. (1475).
ἐκοιμήϑη ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ Λουκὰς ὁ Σπανδονῆς. ἐν ἔτει Ҕ ЭПӨ (1481). Фамилия: Спандони и теперь слышится кое-где на Востоке.
(Σεκ)οῦνδος καὶ Кασσάνδρα οἱ… (Σεκούν) δου τοῦ Λευκίου ἑαυτοῖς καὶ… Σεκούνδῳ τῷ Λευκίου καϑὼς διεϑ… имя Секунда мы читаем гадательно.
М(άρκος) Аἴλιος Пαραμόνος Аἱλία Фαύστᾳ-τῇ γυναικὶ καὶ ἐαυτῷ. Ζῶν. ἔτους ΔIТ (314.)
Не осмеливаемся в Луцее или Луцеле предполагать нашу: Лучшую, ещё менее – Лучину.
Тогда же пересчитываются ещё следующие мученические имена: Бигат (Багат, Бигитт) Ламптан (Лупитан) и Салонита (Солоника). Солон-ика очевидно есть перевод Salon-ita. A Bagatus – что́, как не: Богатый?
По другим сказаниям (см. у Болландистов), Люция является римлянкою, чем и объясняется её латинское имя. Царю Авцею удалось где-то пленить её. 20 лет прожила она потом при нём, пользуясь великим уважением за своё христианство, в которое вероятно и обратила самого Царя. Потом ей было откровение, внушавшее ей отправиться в Рим и пострадать там за Христа, что и случилось. Она была замучена в Риме префектом Элием. С нею или вслед за нею туда же отправился и царь Авцей со свитою из 21 человека. Все они были тоже замучены. Происходило же всё это никак не в Солуне, а в Риме. В Римском Мартирологе помещается (под 6-м июля) ещё третья мученица Люция. Она схвачена была Рипсием Варом Викарием, и мучена, а потом обратила его ко Христу. И он, и она и ещё 21 человек были потом замучены. Очевидное сходство обстоятельств заставляет предполагать в обоих случаях одну и ту же историю. (Из Rixius вышел Rex, а из Varus, сперва Vicarius, а потом и Barbarus.
См. заметки поклонника Св. горы. Киев. 1864. Стр. 255 «Ст҃ыКѵрилъ философъ учител словенскы. Иже приложи рускую (sic) грамату сгречекiе… въ лето ѕуді, в царство Льва царя премудраго.
Пощажен был при этом дом правителя Давида, сперва заперся было в крепости, а потом бежал, и наконец, кажется, поладил с победителями. Впрочем, личность эта вскоре затерялась у историков.
Фамилия эта впрочем, была как бы своя при дворе Константинопольском. Кроме Реньера, известен ещё другой брат Бонифация, Конрад, повенчавшийся в 1186 г. в Константинополе с сестрою императора Исаака II Ангела, по имени Феодорою. Сам Бонифаций взял за себя вдову того же Исаака Маргариту или Марию. Ставши во главе ополчений, составлявших 4-й крестовый поход, он вторично отправился на знакомый ему Восток, и своим личным весом и влиянием довёл дело до взятия Константинополя, чему рукоплескал весь католический запад.
Титулуется впрочем, у западных писателей и Фассалийским, вместо Фессалоникского.
Одна из лучших личностей своего времени. Она была дочь Венгерского короля Белы III († 1196) и сестра короля Андрея II, прозванного Иерусалимским, – стоявшего во главе пятого крестового похода. В Константинополе воспитывалась при дворе, и приняла православие. Была замужем сперва за Исааком II Ангелом, убитым в 1204 г., от которого имела и сына Мануила, пропавшего потом бесследно в истории.
Ефросинию очень хвалят историки. Евдокия сперва выдана была отцом за Сербского краля (какого?), который вскоре возвратил её к тестю за какой-то физический недостаток. Во второй раз вышла за Алексия Дуку Мурцуфла, умертвившего Маргаритина мужа Исаака. В третий раз вышла за Льва Сгура, памятного своими военными похождениями в Греции и своим как бы тоже царствованием в Коринфе.
Краль держал сперва пленника в чести. Но вышло подозрение, что кралевна не равнодушна к прекрасному франку, да ещё и императору. Что бы показать ей наглядно, какая разница между тем и другим венценосцем, ярый человек приказал отрубить Балдуину и руки и ноги, и отнести туловище на скалу, где его клевали хищные птицы в течение трёх суток!
Иван, между прочим, искал себе царского венца у Папы, соглашаясь на Унию. Ласкательные выражения «св. отца» относятся к этому периоду Иваницына хамелеонства. Он прикидывался врагом греков и называл себя: Ῥωμαιοφόνος – грекобойцем.
К удивлению, столько естественного ожесточения против «Франков» мы не находим ни у греков ни у славян того времени. Внук Ласкаря потом женат был на племяннице Балдуина и Генриха. А дочь Иваницы была женой Генриха!
Историк (Акрополит), умалчивая о смерти Бонифация, утверждает, что «Псо-Иоанн» поступил так с черепом Бонифация. Но очень могло статься, что ему мало было одной чаши, и что обе венценосные главы угодили в буфет болгарина.
Воспалением в лёгких – πλευρίτιδι νόσῳ, по Акрополиту. «А некоторые говорили, прибавляет писатель, что Божиим действием». Внезапную смерть его приписали современники заступничеству св. Великомученика Димитрия. Краль успел вскричать, умирая: Манастра! Именем этим назывался его полководец, которого палатка ближе всех стояла к государевой. Звал ли умиравший на помощь к себе генерала, или обвинял его в убийстве, осталось неизвестным. Жестокого человека не любили, и расследовать дела не хотели. В своём письме к Папе Иннокентию III он называл себя: Ego Calojohannes Imperator Bulgarorum seu Blancorum (?).
Кажется всё тем же знаменитым Иннокентием III, умершим в этом самом году.
Δεσπότης (владыка) с IX века имело смысл латинского: Dominus IV-VIII веков, прилагаясь собственно к лицу самодержца. Со времени Комниных, оно стало означать: лицо царствующего дома. Император мог возводить в это достоинство и отдалённых родственников, каковыми были и Ангелы-Комнины, происходившие от дочери Алексия 1 Комнина Феодоры и Константина, за красоту прозванного Ангелом, служившего во флоте. От них родились 4 сына: Михаил, Андроник, Иоанн, Константин и две дочери. От Андроника вышла императорская линия Ангелов: Исаак, Алексий с их потомством. От Иоанна, носившего почётный титул Севастократора, произошли: Михаил (побочный) и Феодор, Константин, Мануил (законные). Они-то и были родоначальниками Эпирских «Деспотов» и на некоторое время Императоров (Солунских).
Это был некто Константин, по прозванию: Месопотамский, которого историки описывают царедворцем и даже другом фамилии Ангелов, и ставят в пример ненасытного властолюбия и самонадеяния и, неразлучного с ними, быстрого падения. Писатель называет его «Протеем разнообразнейшим и пестрейшим». Ещё до франкократии он был соборно низложен за свою, мало духовную, жизнь. Каким образом потом опять оказался архиереем, да ещё и Солунским, неизвестно. Во всяком случае, последний поступок его показывает, что он под старость из Протея сделался Прометеем. Юпитер, которого он ослушался, подверг его также «не малым злостраданиям и заточениям», по Никифору Григора́.
Димитрий Хоматин – по Акрополиту. Привилегию Патриаршего Престола он взял на себя потому, что считал себя «самоправным (ἀυτόνομος) и необязанным никому отчётом». Это был большой юрист своего времени. Как таковой, он известен своими ответами Сербскому кралю Стефану по вопросам о степенях родства. Те же или другие его ответы о том же предмете известны и Константину Кавасиле, Диррахийскому Митрополиту. Фамилия: Хωματηνὸς показывает, что этот «Архиепископ всей Болгарии», был родом грек.
Историк Эпира П. Аравандинос уверяет, что Солунь взят Феодором в 1218 г. Это было бы ещё при жизни Имп. Феодора Ласкаря. Но по «Византийцам» имя Феодора Деспота Эпирского огласилось уже при Имп. Иоанне Ватаци, след. после 1222 г.
Феодор жил при Никейском дворе, пока брат не позвал его деспотствовать в Эпире.
Собственно уже третьей. У Феодора тоже была жена, но имя её не занесено на скрижали истории. Известно только, что она была из фамилии Петралифов, французского дворянского происхождения, сестра Великого Хартулария при Никейском дворе, Иоанна.
Мануил успел, впрочем, бежать с дороги к Имп. Иоанну Ватаци, которому и пожаловался на обиду, давая ему клятву заодно ратовать против «Франков». Ватаци дал ему средства собрать войско и овладеть южной Фессалией. В то же время брат Мануила Константин овладел частью Эпира, над которым властвовал племянник Михаил. Феодор, узнав обо всём этом, заблагорассудил помириться с братьями и с племянником. Водворился, таким образом, полный династический мир. Мануил мирно скончался в своих владениях в 1241 г.
Скифы – бродячий в устах Византийцев термин этнографический, столько любимый эллинским педантством. Вышеупомянутые 1 000 человек Команов тоже у одного писателя названы Скифами. Кто они были на этот раз?
Торникий этот вероятно отец Константина Севастократора, тестя Иоанна Деспота, брата Михаила Палеолога. Фамилия эта – Ивирийского, т.е. Грузинского происхождения и известна в Византийской истории ещё с Х века. К каким нынешним должностям государственным применить службу Димитрия?
Андроник Палеолог, отец знаменитого Михаила, родоначальника царственного дома Палеологов. Domesticus, по нашему как бы домочадец, призванное означать одну из самых высших должностей империи, не говорит ли о злой иронии официального языка византийцев? Или это только непереваренный греческим смыслом латинский термин, в роде Магистра, Ректора, Кандидата?
Рауль Алексий, полным именем: Радульф, занесённый на Восток Крестовыми походами. Был женат (впоследствии, конечно) на Евлогии, дочери сестры Михаила Палеолога – Феодоры.
Кондостефан, вероятно сын Андроника Кондостефана, за которым была дочь Имп. Алексия III Ангела и сестра жены Имп. Феодора I Ласкаря, след. тётка царствующей императрицы. Оттого он и носит титул «перво-августейшего». Первый из Кондостефанов упоминается под 981 г.
Петралиф – тоже отпрыск крестоносных ратаев за св. места. Фамилия эта была в двухстороннем родстве с Эпирскими Комниными-Ангелами. Великий Хартуларий доводился шурином Феодору Солунскому.
Тохары отожествляются историками с Татарами. А Мусульмане конечно суть Иконийское царство, насчитывавшее ко времени имп. Ватаци уже 13 «султанов», и бывшее весьма часто в ссоре с империей. Защищать или добивать их пошёл император, пусть решает история.
Так напр. передают, что он раз проводил ночь у жены одного вельможи. Заметив опасность быть открытым, он выскочил из окна, и вывихнул себе ногу.
Заговорщики, чтобы отчасти приготовить его к предстоявшему перевороту, отчасти отвести подозрение от себя, выдали перед ним кого-то из своих за изменника, и когда Димитрий приказал пытать его, то они били палками по мешкам и заставляли кричать кого-то, как бы биемого.
Кесари носили уже привилегированную обувь и украшались венцом, на подобие царского.
Сначала земля распадалась на жупанства. Но фамилия Неманей закрепила за собой титло Великого Жупана, а потом и Краля.
В ночь, когда мучилась родами мать Симониды, в почивальне её перед 12-ю иконами 12-ти Апостолов горели свечи. Император сделал завет: перед которым из Апостолов долее всех других будет гореть свеча, того именем и назвать имеющее родиться чадо. Позже всех погасла лампада перед иконою Св. Симона Зилота, оттого и вышло необычное имя: Симонида (Σιμωνίς).
Историк замечает, что тестю было тогда только 40 лет, а зятю 45.
Патриархом был тогда Иоанн, из игуменов монастыря Паммакаристы (Всеблаженной, т.е. Богородицы).
Впрочем, справедливость требует заметить, что Андроник имел сначала в виду выдать за Краля сестру свою Евдокию, вдову Трапезунтского императора, но та предпочла вторичной короне монашеский кукуль.
Не сдержал. Оттого у Симониды и не было детей, замечают летописцы.
Она не стыдилась рассказывать про мужа такие вещи, которые не выносятся за порог спальни.
В 1299 г. дочери её Симониде было 8 лет. По смерти матери, сей последней было 22 года. Следовательно, между двумя событиями протекло 14 лет. Вероятно, 10 из них Ирина провела в Солуне.
По-гречески: Ξένη может значить и собственное имя Ксения, и прилагательное: чужая. Марии, как армянке, приходилось и последнее. Но вероятнее, что это было монашеское имя Марии. Уважение к царице не позволило бы такую игру словами.
Историк (Н. Григора́. VIII. 3) рассказывает две истории о его любовных похождениях в Константинополе и в Солуне. Тоже подтверждают и обстоятельства его первого брака с дочерью Георгия Музалона. Хотя осталось невыясненным, от кого она осталась беременною ко дню обручения своего, но уже одно решение императора выдать её за Константина, даёт разуметь, что «некто из царского родства» (предполагаемый виновник беременности) был именно сам Константин.
Зовется и Хортиатой. Со времени завоевания города Амуратом, стала известна под именем Чауши.
Когда пленного Деспота – дядю представили племяннику Императору, то с ним оказалось ещё два Константина Палеолога, один в звании стратопедарха, а другой – Папия (Пαπίας). Четвёртый Константин Палеолог был муж той прекрасной неокесарьянки, за которой ухаживал в Солуне Деспот, и которую взял, наконец, за себя, по смерти (по примеру Урии, книги царств?) мужа.
По историку Григора́, он был «дважды и трижды» (δὶς καὶ τρὶς) правителем Солуня. Упомянутый случай относится в 1325 или 1326 году. Однако же у историка есть место, где говорится, что в январе 1327 года правитель Солуня Димитрий находился при армии Андроника старшего. А городом управлял вместо него Великий Стратопедарх Хумн. А в 1330 г. правителем был некто Сириан. Значит, в третий раз ряд властителей Солунских оканчивается на фатальном имени Димитрия.
По всей вероятности ей хотелось быть регентшей государства от имени внука. Но как это мирится с её монашеством?
«Фессалоника не изволила (?) пристать ни к кому, ни к Константину, ни к князю Тривалло́в (Сербов). Ею давно владел мятеж. Скопище Зилотов – так называемых, первенствовало над другими. Ни на какое гражданство она не походила. Не была она ни аристократическою, ни демократическою, ни смесью того и другого на подобие Кипра или Рима, но какою-то странною охлократией, порождённой случаем. Ибо наиболее дерзкие (люди), совокупившись в самопоставленное сборище начальников, преследуют там всякий возраст, направляя чернь городскую туда, куда им нужно и отнимая имущество богатых. Сами наслаждаются, и других заставляют не подчиняться никакому государю отвне, но считать законом то, что придумают». Никифор Григора́. т. II. стр. 795–96. Так охарактеризовал вечно мятежный Солунь современный историк, не отличавшийся сочувствием к Кантакузину!
γυμνοὶ Вероятно, однозначительно с «обезоруженными». Ибо странно представить, зачем бы их выводили голыми.
Анна, кажется и прежде жила в Солуне при свекрови, во время похода её мужа против деда. Итак, с 1204 г. по 1355, в течение полутораста лет в Солуне жили преемственно следующие разноплеменные царицы: Венгерка Маргарита (в православии Мария), жена Бонифация, безымянная Францужанка, жена Феодора Ангела-Комнина, Болгарка Мария, жена Мануила, брата Феодора, Испанка Ирина, жена Андроника старшего, Армянка Мария (в мон. Ксения), жена со-императора Михаила, Итальянка Иоанна (в православии Анна), жена Андроника Младшего, и наконец, гречанка Елена, жена Иоанна V, Палеолога.
Судя по стихотворному рассказу Иерака, Император Константинопольский Иоанн ничего не знал о совершившейся продаже. У него был заключен мирный договор с султаном (Амуратом), по которому этот не должен был трогать греческих (τῶν Ῥωμαίων) владений. Между тем он узнал, что Азиат двинулся с войсками забирать Македонию. Он пишет последнему укорительное письмо, обличая его в нарушении договора. Султан отвечает, что он челобитиям мирным остался верен, греческой земли не трогает, но хочет отнять Солунь у Венециан, против чего император не имеет сказать ничего. Так ли было, не знаем. Во всяком случае, афера Андроникова может быть названа, с известной точки зрения, блестящею. «Тонкий» грек провёл «тупого» франка. По Гаммеру, однако же выходит, что Солунцы сами продали себя Венецианам, а Андроника, как неспособного, отправили к братьям в Пелопоннис.
Андроник. Михаил. Андроник. Михаил. Андроник. Иоанн. Мануил. Андроник. Средние шесть были императорами. Период их тянулся 183 года.
С какого времени стали показывать в Чауши Св. Купу? По-видимому, очень недавно. По крайней мере, наш любознательный, и именно ad hoc настроенный паломник – исследователь Барский не упоминает о ней ни единым словом. Предполагается, что при Тайной Вечери Господь употребил для чаши отрезок восточной тыквы, имеющей вид кувшина. Монастырь владеет только малейшею частью её. Вложенная в серебряный ковш, наполняемый для каждого посетителя места вновь водою, часть эта может скоро истлеть от сырости. Не знаю, каким образом обстоятельство это укрывается от внимания заведывающих делом. Легко предположить, что люди водятся при этом верою в нерушимость святыни. Но скептицизм не затруднится найти и другой способ объяснить беззаботность или непредусмотрительность распорядителей такой драгоценной вещи.
Отец упомянутого выше Солунского Правителя – заклятый враг императора Кантакузина.
В подлиннике острота: μὴ ἐκκακήσητε καλοποιοῦντες, дающая не простой смысл: не утомляйтесь, делая добро, а другой: не злитесь, когда взялись быть добрыми. Такая же острота чувствуется и в выражении: но благоволившие в неправде. По-гречески: εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ.
Этою Психою наделяют «мудрые земли» всё животное царство от слова до инфузории, щадя старые понятия о душе человеческой. Идут ли они вместе с Апостолом в этом случае? Дело не казалось таким одному моему давнему знакомому и наставнику (уже покойному) Богослову-философу. Припоминаю, с какою тончайшею ироний произносил он это, взятое на прокат наукою, слово. На губах его фальшиво недовластвовали оба слога: пси и хе!
Один Александр, другой Александрович – они шутя говорили нам, что не только догонят нас, пустившись в путь часа два после нас, но и перескочат через нас, с тем, чтобы в Пелле вместе с Александром В. поздравить нас с приездом.
Приморская эта область у древних географов зовется Амф-акситида, что в переводе будет значить: по обе стороны Аксия (реки), или короче Приаксье. В ней они ставят и самую Ферму или Фессалонику.
Еще яснее оно становится по греческому произношению: Гαλλικὸ (ποτάμι), с ударением на конце
У Иоанна Кантакузина (XIV в.) имя реки читается: Гαλυὸς – Галик (т. I, стр. 456. Бон.), необъяснимое из греческого языка, и, следовательно, инородное. Как не придти на мысль, при этом, нашему русскому голику? Только не знаем, известен ли он под этим же именем южным славянам. В подспорье ему годилась бы ещё наша галька, усеевающая собою именно такие реки, от которых Ксерксы уходят с удвоенной жаждой.
Книга: Les Turques etc. сообщает, что мост выстроен христианами, по принудительной работе, в течение двух лет, и что строивший его Паша Солунский нажил при этом миллион (чего, неизвестно).
Правда, что ударение в названии реки стоит на последнем, а не на первом слоге, но это мало изменяет сущность дела. У нас есть фамилии Мертва́го, Хитрово, очевидно вышедшие из: Мёртвого, Хи́трого (род. падежа).
Зато другая половина могла бы быть чисто турецкою. Вар значит: есть, имеется, по-гречески её перевести нельзя, как только словом ἔχει. Припомним же, при этом соседний Эхи-дор. Конечно, это игра случая. Не прямее ли искать корня Вардар в Армянском языке, подарившем Византийской истории имена Варды, Вардана, Вардабурия и пр.? Армяне не малое время занимали престол Константина. Самый Василий (Македонянин) происходил, по исследованиям современных ему историков, от царского (еще бы!) рода Арсакидов. А Лев V Армянин, после войны с болгарами, занимался восстановлением городов Македонии. Что мудреного, если при этом обновил (в Церковном смысле, т.е. освятил, окрестил) и самую реку каким-нибудь, родным ему именем?
По крайней мере, других значительных развалин в этой части Македонии не находят. Но судя потому, что древние писатели – Греческие и Латинские – сообщают о Пелле, и это местоуказание её можно бы считать сомнительным. По Страбону (Z) «от (устья) реки Лудия до Пеллы надобно плыть вверх 120 стадий». Из этого видно, что Пелла стояла при реке или точнее при озере Лудие, из которого вытекала река того же имени. Озеро же наполнялось водою из какого-то притока Аксия (Вардара). Ещё обстоятельнее говорит о местоположении Пеллы Тит Ливий (кн. 44. гл. 46). По нему, Пелла «лежит на холме, по скату его к зимнему западу. Окружают её болота с водою, стоящею и зимой, и летом на одной высоте. При разливе, из них образуется озеро. На ближайшем к городу болоте возникает, наподобие острова, замок, выстроенный на отличной работы плотине, которая держит на себе стены и нимало не терпит от окружающей влаги. Издали, кажется, что город соединён со стенами (замка). А (между тем) он отделен от них рекою и соединяется только мостом, так что, если бы кто напал (на замок) совне, не имеет доступа ни с какой стороны, ни тот, кого бы царь заключил в него, не может убежать иначе, как по мосту, который легко усторожить». Всё это, столь подробное описание Филипповой и Александровой резиденции, какою она была во время завоевания Македонии Римлянами, по-видимому, совсем не соответствует местоположению, приурочиваемому теперь для Пеллы. Главное возражение – то, что ни у Алахклисья, ни у нашей Бани нет теперь никакой реки. Возможно, что она изменила своё течение, что совсем высохла, наконец, но мало вероятно.
Ирод. VII. 123
Лукиан: ψευδομάντις.
Ювенал. Сат. Х.
Что у Македонян был свой язык, этого, надеемся, никто (кроме Афинских и Константинопольских патриотов) не будет отрицать. Имена первых царей Македонских подтверждают то неоспоримо.
Да вы не отставайте, пришпоривайте немножко вашего буцефала! – слышалось мне, при этом, спереди. Вообразив себя от такой почести моему коню и в самом деле Александром, я хотел, но посовестился ответить на это словами знаменитого наездника – царя, которому льстецы, зная его лёгкость и быстроту в ходьбе, предложили раз отправиться на Олимпийские игры, чтобы одержать там верх над бегунами всей Греции. Известен ответ его: «Да! если там бег держать будут цари». Пошёл бы и я за вами, думал я, если бы вы были мои однолетки.
Известны немалочисленные Ени-шеер (новый город), Ени-квой (новая деревня), Ени-Базар, и пр. В настоящем случае за ени не следует никакого существительного, чем и выдается его неоригинальность. С другой стороны, странно, что тут вышла Яница, а не Иованица или в роде того. Яни есть греческая, а не славянская уменьшительная форма имени Иоанна.
В «Певтингеровой Табуле» между Пеллой и Эдессой нет никакого промежуточного города. А Тавриани поставлен севернее от via Egnatia, за городом (а не за рекой?) Pallicum, и очевидно есть нынешний Дойран.
Составлено по примеру и под влиянием Аристотелева: μετὰ φυσικὰ = Метафизика.
Первая от Солуня высота зовётся, судя по картам, Карадаг, Караташ, и Караджова, одним словом: Кара́, что́ значит: чёрный. Неприятное предисловие к дальнейшему пути. Автор «Турков» и пр., интенциозно населяя Македонские сёла греками, делает исключение для этой горы, заселённой по его уверению ренегатами из Болгар и Влахов, принявшими ислам лет за 200 перед этим. Оттого, видно, она и почернела! Болгары – да ещё ренегаты! Чёрное к чёрному. Смысл басни тот, что греки бы этого не сделали. Но греки могли сделать другое: натолкнуть тех на ислам.
Удивительная путаница на картах Румелии! Большею частью севернее Водены печатается Моглена город. На карте Австрийских инженеров Moglena стоит при речке Караджове. По Киперту Караджова есть гора, а Моглена – местность к северу от Водены. На Болгарской карте (составленной по Киперту) нет ни города, ни местности Моглены.
Европа отчуралась от славных Вандалов, и навязала их Славянской крови. Что-ж! Спасибо и за то. Чем более исторической известности в минувшем, тем славнее. Их выводят de Vistula. Оно и кстати.
Ἔδεσσα. Пишется и Аἴδεσσα – конечно с тем, чтобы слово вышло ещё более по-гречески, от Аἰδός – стыд.
Аἴξ, αἰγὸς = коза. Множественное число выйдет впрочем αἴγες, а не αἴγαι.
Имя не греческое, а след. варварское. Не от карат ли, равнозначительно карателю, каковым и следовало быть царю такого отдалённого времени? К сожалению, как сейчас видим, Каран считается греком.
Justinus, lib. VII. с. 1. Точно ли она называлась тогда этим именем, или только рассказчик, зная уже её под таким именем, выражался так, вместо того, чтобы просто звать её «городом»? Urbem Edessam – Aegeas, populum – Aegeadas vocavit. Больше похоже на то, что город уже до случая был известен под именем Едессы. По Юстину, не выходит странным, что тут играют роль греческие имена и коз, и города, и горожан. Каран, по нему, был грек (по Плутарху – даже из рода Иракла), пришёл сюда с греками, и основал греческое царство. Прежде его страна звалась Эмафией, а эта часть её называлась Боттией. Природные же жители были Пеласги – имя, не поддающееся доселе никакому серьёзному исследованию. В другой области Эмафийской Пэонии царствовал (современный Троянской войне) Пелегон, по тому же автору. А с другого боку, прибавляет он, в Европе держал царство некто Европ по имени. Не любо, не слушай.
Тὰ Вοδενὰ – по-гречески, как бы: водные или водяные места. Местные Болгары знают имя своего города в единственном числе, женского рода.
Столько известная Via Egnatia, еще Страбону известная под этим именем: Еγνατία ὁδὸς.
Пройдёт, вероятно, ещё не один десяток лет, пока счастливые потомки наши будут ясно представлять себе историю и географию Иллирика средних веков за каждое, например, столетие или хотя по известным периодам. Теперь куда ни посмотришь, всюду непроглядный мрак или дикая до невозможности историческая перспектива. Хорошо бы представлять, что разные крали освобождали только от греков свои древнеславянские земли, восстановляя свои нарушаемые границы, проходившие там-то и там-то... Но – так ли было?
Так хвалились потом сами Воденцы. Но дело представляется сомнительным, – тем более что и времени не хватает для сего. Взятие города кралем могло последовать только ранее 1342 года. А от 1328 г. – времени Андрониковой осады до 1342 года не прошло 16 лет.
Из описания дела (Кант. III. 129) оказывается, что город на половину окружён был озером, и на половину обнесён крепчайшими стенами, на которые осаждавшие взбирались по лестницам. Император обещал первому, кто взойдёт на стену, дать награду в 4 мины (фунта?) золота, второму – 3, третьему – 2. Понять нельзя, какое и где тут могло быть озеро. Разве предположить, что водопад был когда-нибудь запруживаем.
γυμνοὺς невероятно, чтобы употреблено было в смысле: обнажённых. Вероятно, под нагими разумелись только: лишённые имущества, ограбленные.
Διὰ συνδρομῆς τοῦ Мακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου А’χριδῶν, πρώην κ προέδρου Вοδενῶν Кυρ. Гερμανοῦ.. и пр. «Председатель» равносильно Архиерею. Митрополит острова Карпаво и теперь официально зовется председателем.
Δέησις τοῦ δούλου τοῦ Θῦ Ἀγγελὰ κὴρ. μεγαλοϑέτα τῆς. ἀγ. Ἰουστινιανῆς К’πάσης Вουλγαρίας ἐτους ζρκζ. ἰνδ. В′. + διμος. Малограмотность надписи обличает, по нашему мнению, в писце славянина. Слово: Мεγαλοϑέτης нам не встречалось прежде этого нигде. Вместо ἀγ. Ἰουστινιανῆς очевидно должно стоять: ά–ς Ἰουστινιανῆς. ибо αγ. могло быть только сокращением слова: ἀγίας , т.е. святой, что́ к собственному имени города Юстинианы нейдёт никоим образом. Значок же ά–ς заменяет слово: πρώτης = первой, каковою и слыла Иллирийская Юстиниана в отличие от Кипрской, называвшейся второю. – Слово κήρ. , очевидно усечённое, если считать искажением весьма употребительного: κύρ. (вместо: κύριος), и переводит словом: господин, то ему не место стоять после собственного имени Ангелы! Совсем не слыханное имя: Ἀγγελὰς наводит нас на мысль, не нужно ли читать вместо: κὴρ, κης, что́, в соединении с предыдущим словом, составит имя: Ἀγγελάκης, уменьшительно от: Ἄγγελος. Последнее слово надписи, если не есть искаженное: δῆμος (которому впрочем, нет никакой стати быть тут), то мы не знаем, что́ такое.
Надпись состоит из 17 строк хорошего древнего письма. Первые 5 строк начертаны более крупными и реже расставленными буквами. В них σ имеет начертание

Μένανδρος Παρμενῶνος. Ἀννίβα(ς) Μεϑωνάδου. Μεϑωνάδης Μενάνδρου. Ἠρωσι. Посвятители, по-видимому, были родственники. Всем ли героям древности посвящался камень или только местным каким-нибудь, неизвестно. Обе надписи могли быть доставлены в Водену и извне, но вероятнее, что суть памятники древней жизни самой Эдессы.
Что говорит о Св. Фалалее церковное предание? То, что он родом был от Ливана, сын воеводы Верукия и Ромилы, что за христианство своё был схвачен и судим Едесским Игемоном Тиверием, бежал из Едессы, и снова был схвачен по близости города Аназара (читай: Аназарва) и представлен игемону Феодору в Егинетем (читай: Егейстем) граде, разнообразно мучен и посечён мечом на месте некоем нарочитом, именуемом Едесса, Всё это произошло при царе Нумериане, и именно в 285 году. Вот что в сущности передают церковные памятники о Св. Фалалее. В известиях этих встречаются действительно имена городов Едессы и Егеи, уже нам известные. Выходит, таким образом, как будто, что Св. Фалалей (по-гречески: Фаллелей – зеленеющий, цветущий) и иже с ним, если не были родом из Македонии, то пострадали здесь, и именно в Едессе, так как в житии прямо утверждается, что Св. Фалалей задержан был у города Аназарва, который принадлежал к области Киликии, и не имел нигде на свете никакого соимённого себе места, чтобы мог ввести в заблуждение исследователя-историка. Нет ничего невозможного, что за весь период мученичества святые побывали в разных местах земли римской. Есть много примеров (Св. Климент и Агафангел, Св. Анастасий и пр.) такого странствования мучеников следом за своими мучителями. Но есть ли необходимость или крайность предполагать это. Кроме города Аназарва помехою к такому заключению служит ещё и море, в которое был брошен мученик, с намерением утопить его, находившееся, судя по тому, при самом городе Эгее. Не предполагать же, что для этого нарочно водили или возили его на морской берег, напр. к Солуню. Но, если совсем перенести место страданий Св. Фалалея в Киликию, найдём ли мы там что-нибудь похожее на Эдессу и Эгею? Начнём с последней. Древние географы знали несколько городов этого имени. Знатнейший из них находился на Коринфском заливе. Второй по нём именно в Киликии. О нём упоминают Птолемей, Плиний, Стефан и Константин Багрянородный. Он стоял, к тому же, при самом море и был в недалёком расстоянии от Аназарва. На «табуле (Певтингеровой)» он наименован: Aregea (вероятно, читать надобно: Arx Egea). Расстояние между ним и Аназарбом (Anazarbus) указано в 24 мили. А в «Синекдиме Иерокловом», в области 2-й Киликии указывается главный город (μητρόπολις) Аназарв. В числе же 8-ми подчинённых городов, вторым читается: Аἰγιαῖ. Таким образом не остаётся сомнения, что всё дело могло свершиться не выходя из пределов (Второй) Киликии. Теперь перейдём к Едессе. Правда, что места с таким именем по близости Эгеи или Аназарва географы не знают. Но, мало ли о чём не говорят они? Дело идёт не об отдельном городе, а о месте нарочитом в самой Эгее. Можно бы думать даже, что тут вышла описка. По близости Эгейской пристани был остров: Элеуса (Ἐλεοῦσα – милующая). Может быть, Элеуоци имели на твёрдой земле свой посёлок, который также называли: Элеуса. А прочесть в Элеусе Эдессу весьма легко. Впрочем, выдавать предположение за положение мы вовсе не хотим, тем более что нет в том никакой крайности. Болландисты сумели объяснить дело другим образом. По их мнению, слово: αἷγες (козы), несомненно родоначальное имени города: Эгея или собственно: Эгеи (мн. ч.), могло произноситься и αἷδες. Отчего важнейшее («нарочитое») место города, напр. крепость или акрополь, могло удерживать за собою тоже имя, но по другому (напр. древнейшему) произношению. И выйдет, таким образом, в городе Эгеях вышгород Эдесса. Предоставляем читателю судить, чьё предположение правдоподобнее. Не скроем, что в просторечии нынешних греков не редкость услышать γιἀ вместо предлога διὰ. А из старых времён сошлёмся на пример Диметры (Цереры), слова составленного из γὴ–μήτηρ – мать земля. При таком предположении вышло бы, что и Царь Каран, переименовывая Македонскую Эдессу в Эги, острил в своё время. Можно, не доискиваясь причины: как и почему? верить, что в Киликийской Эгее известное место называлось Эдесса. Но делу суждено затемниться ещё от третьей Эдессы. В житии св. Фалалея первым мучителем его указывается некто Тиверий, Игемон Эдесский. Не мог же он называться так по имени одного из кварталов Эгеи. Игемоном мог быть только областной начальник. Надобно потому думать, что здесь дело идёт о настоящей, и так сказать первоименной, Едессе Месопотамской. Мы видели, что Св. Фалалей был «родом от Ливана» (по Никодимову Саниксаристу: из места в Финикии, зовомого Ливан), известной горы Сиро-Палестинской. Вероятно, родное место его административно зависело от Едесского правителя, или он по каким-нибудь делам своим был в соседней Осроене, где и был выдан Игемону Тиверию в качестве христианина. Дело, таким образом, улаживается. Мученик бежал от Игемона (где этот находился в то время, неизвестно. Нет нужды представлять, что случай произошёл в самой столице областной Эдессе, в Киликии), и в другой раз пойман был у Аназарва. А так как игемон этой области в то время находился в Эгеях, то и мученик доставлен был туда же. Там он и страдал и был замучен. Место же кончины его, если действительно звалось Едессой, то тут одно случайное тожество имён городской местности и славной столицы славного Авгаря. Остаётся ещё решить: откуда же взялась церковь Св. Мученика Фалалея в Эдессе Македонской. 1) От какого-нибудь строителя её, звавшегося Фалалеем. 2) От такого же строителя, или родившегося 20 Мая, или почему-нибудь считавшего для себя это число важным. 3) От строителя, имевшего особенное благоволение к Св. Фалалею. 4) От исторического педантства какого-нибудь учёного, вычитавшего в Синаксарах своего времени, что Св. Мученик Фалалей мучен был «Едесским Игемоном» и посечён во главу на месте, зовомом: «Едесса», и поспешившего заключением, что, значит, местом подвигов Страстотерпца был его родной город, называвшийся этим именем ещё до нашествия на Македонию Ираклидов, и пр. От подобного заключения до переименования какой-нибудь языческой развалины в церковь Св. мученика Фалалея один шаг! Особенно же, если это случилось во время борьбы за существование Едессы и Водены.
Не менее бездоказательным представляется и мнение, что святые мученики Гурий, Самона и Авив принадлежат Македонской, а не Месопотамской Едессе. Географический скачок тут ещё менее простителен, чем в попытке приурочить Св. Мученика Фалалея к Македонии. Там блазнила судительную мысль кроме Едессы ещё Эгея. А здесь просто одно имя Едессы, да и то заведомо, как говорится, передёрнутое. Всё житие Святых, так сказать, дышит Азией. Самые имена их не греческие и не латинские, а видимо Сирские или Арабские. Не отрицаем того, что в известном житии их ни одним словом не заявлено, в какой именно Едессе происходило дело, но близость места подвигов их к Персам не оставляет сомнения, что разуметь нужно Едессу Месопотамскую. Тоже подтверждает, по нашему мнению, неоспоримо, и имя горы, на которой они были умерщвлены. Она читается: Вефилавикля. Как ни читать его, Вефиль-аб-икль или бет-иль-авихле, или ещё иначе как, всё оно, несомненно, взято из Еврейского или Арабского языка, и никоим образом не приходится ни к огреченной, ни к латинствующей Македонии. Поразительный случай с клятвопреступником солдатом-готфом, хотя и ставит Едессу Мучеников в соседство как бы со страною готфов, и тем, по-видимому, помогает рассудку при суждении о чуде мгновенного перенесения Эдессянки Евфимии из Готфии к гробам Мучеников, но также не в состоянии объяснить его, как если бы последние находились в 10 раз или далее, или ближе и той, и другой Едессы от родины вероломного Готфа. Вообще, мы возвращаемся к своему убеждению, что в святцах наших не известен ни один святой, которого как-нибудь можно было бы считать своим Едессе-Водене, хотя близость её к Солуню, славному столькими мучениками, могла бы дать ей неоднократный повод разделить эту печальную почесть с апостольским городом.
Мημόριον Мαρτυρίου πρεσβ(υτέρου) καὶ Δημητρίῳ Ἀναγνώ(στου). Надпись в 6 строк. Верхняя строка отбита почти вся вместе с мрамором, но следы букв явственны. В слове Δημητρίω описка. Следовало быть: Δημητρίου.
… νου… οἰκον(όμου)… πρεσβ(υτέρου). Плита отличного белого мрамора, представляется теперь обломком.
Мημόριον Ἀλεξάνδρου, Δροσερίας, Ζωσιμιανο(ῦ), Ἀνασ(τασίας). Последнее имя можно подвергать сомнению.
Мημόριον Διογένους καὶ τῆς τούτου ἀδελφῆς Пροκοπίας.
Мημόριον Δροσερίας καὶ Еὐδοξίας καὶ Ἀνϑεμίου εἰ(sic)ατροῦ κἀι τῆς συμβίας αὐτοῦ Σοφίας.
ΙΧ. ΘϒΣ. ΧΜΓ. Α. Ω. Мημόρι δύο ἔνα Δουλκιτίου ψάλτ(ου), καὶ τὸ ἔνα Мαύρου οἰκοδόμου καὶ τῆς συμβίου αὐτοῦ Δομνίνας, Έμμανουὴλ ἐλέησον ἡμὰς. Звание ψάλτης, конечно, одно и то же с нынешним (псалтом) греческих церквей, заменившим теперь все древние низшие церковные степени. О звании Икодома (домостроителя) надобно выправиться в церковной Археологии. Не совсем грамотное выражение ἔνα … καὶ τὸ ἔνα выдаёт вполне безграмотную руку писца, незнавшего, что слово μημόριον среднего рода, и что следовало ему писать, вместо ἔνα, ἔν.
Мημόριον Θεοδοσίας διακόνου καὶ Ἀσπη(sic)λίας καὶ Ἀγαϑοκλή (sic)ας παρϑένο (sic)ν, – вместо: παρϑένων
Мημόριον Ἀγαϑωκλίας παρϑένου καὶ διακώνου. В обеих надписях слово: διακόνος мы переводим Диаконисса, потому что именно это оно означает. Равно и παρϑένος не есть просто дева, но девственница, – слово и понятие, предварившие собою позднейшее: μονάχὴ и совсем позднее: καλογραῖα.
Мημόριον τῶν ἀγίων Пέτρου καὶ Пαύλου. Написано без ошибок. Никакого украшения, ни даже обычного креста, нет ни в начале, ни в конце её. Плита имеет вид узенькой дощечки из сероватого мрамора и сохранилась вполне.
Мημόριον τοῦ ἀγ(ίου) Εὐδοξίου πρεσβυ(τέρου) καὶ τοῦ ἀμαρτουλο (Ι)ωάννου сιακόνο(υ). Плита обита со всех сторон. Слово: ἀγίου не читается вполне, но иное толкование его невозможно. В слове: ἀμαρτουλο очевидная описка. Надобно читать: ἀμαρτωλοῦ.
Мημόριον Εω(sic)φίας καὶ Кαλλικράτου στατιουτου. В последнем слове, несомненно, ошибка. Надобно было написать στατιώτου. Замечательно впрочем, что и в этой и в предыдущей надписи представляется писцу возможность ошибиться в произношении ου вместо ω.
Мημό(ριον)… καὶ τῆς… ανατ… την του… σιν… Нельзя додуматься ни до чего.
Мημόρ(ιον)… γιόυ γ (или π)ου… καὶ τῆς σ(υμβίου αὐ)τοῦ κ…ης.
Мημόριον Ἰορδάνου ίπποιατροῦ καὶ τῆς συμβίου αὐτοῦ Δημητρίας. Имя Иордана, встречающееся в первых веках христианства в Македонии, замечательно.
Мημόριον Γλαύϰου Παραμονιοῦνος (καὶ τῆς συ)μβίου. Следовало написать: Παραμονιῶνος.
Мημόριον δη(sic)αφέρον τὰ Ἰωάννου Ο’ϑωνιαϰοῦ καὶ τῆς συμβίου αὐτοῦ Δαμη… Выражение: «δαφέρον» в смысле содержания или заключения (именно костей в гробнице) известно в христианской древности самого отдалённого периода. Вошло оно в употребление вероятно под влиянием христианских понятий о бессмертии. Коренное значение глагола: δαφέρω – разношу, различаю, и тому подобное уступило здесь место другому: переношу, уношу, переселяю. Ὀϑωνιακός – есть ли имя фамилии, места рождения или проживания, занятия… неизвестно. Имя сожительницы не угадывается. Вместо Δ можно читать и Λ . Чтение: τὰ ὀστᾶ λείψανα (Ἰωάννου), хотя необычно, но несомненно.
Мημόριον Θεοδοτίας κ(αὶ) Ἀσπιλίας παρϑένων. Конечно, это не те же лица, что упоминаются в надписи № 7. Любимые, как видно, христианскою древностью имена Аспилии и Дросерии (не запятнанной и прохладительной) не вошли в наши Святцы. Прокопия и Димитрия могут быть рекомендованы нашим женским монастырям.
а. Δουλο(υ) Προκοπη(ου). б. Κυ(ριε) βοηϑι του δουλου σου Γεοργη(ο)υ αμην. в. κε βοηϑι του δουλου σου παπα Ιοαννου αμην. г. Ομηος (ομοιως) του κουναου βερναρου αστου Θεοδορου. д. Βοηϑη του δουλου σου λπαντονηκλτε.
Memoria Marcilli ne… Можно читать вместе: Marcilline (вм. ае).
D. M. Epicteto Nutricio Mulva. C. F. Piacida. patrona Tadi. nepotism. Leo(g) pro. pr. pro. vinc. Macedoniae. Над конечною буквою слова: Leo, припавшею на самый край (с правой руки) строки, видится, менее отчётливо начертанная буква G или C. Камень вделан в стену церковного притвора с левой руки.
Λ. Ἰούλιος Ἐπαφρόδειτος Ἰουλίψ Νει(sic) κηφόρῳ καὶ Ἰουλία Ῥώμῃ τοῖς ἀπελευϑέροις. Μνήμης χάριν. Ἔτους ςιτ. С обеих сторон летосчислительной пометки изображение по плющевому листку. Такой же листок видится и после слова χάριν. Видно из сего, что символического значения – такого или иного – он прямо не имеет, а служит просто или грамматическою точкой, или даже одним украшением.
Κλαυδιανὸς Παράμονος Κουριατίῳ Τροφίμῳ ίῷ φίλφ. Латинские имена выносят надпись в римский период Македонии. Видно, что друзья были огречившиеся римляне. Трижды поставленное Ω не помешало резчику там, где недоставало места для Ω, начертать малое ω. Урок исследователям древней графики греческой не спешить хронологическими заключениями, на основании преобладающего в надписи характера тех или других букв. Любовь к старине, подражательность и педантство наделали много неузнаваемых вещей, и немало затруднили историческую науку.
Ἔτους ζος Ἐτῶν κβ. Σ. Πέδις Λύκον τὸν ἀδελφιδι. ξεν ὡς τὸν ὑὸν. Μνήμης χάριν. Вместо Λύκον, можно читать, как одно имя Λύκοντον. Стоящий в надписи за этим словом листок плюща, кажется, не мог бы иметь места между членом и именем, если тут допустить чтение: τὸν ἀδελφιδ(οῦν). Так как чтение: ξενως не даёт тут никакого смысла, то мы и отделили от него осмысленное ὡς. Затем остаётся подыскать глагол, который имел бы окончание ξεν (аористное). Кстати, какой-нибудь глагол непременно тут нужен. Но найти подходящий весьма нелегко. Впереди слога ξεν, он может иметь только одну и много – две буквы. Вместо ὑὸν, читай: υἱὸν.
Γ. Πέδου καὶ Ὀστρία Καδίων καὶ Ἀτεῖα Παραμόνα καὶ Σαβεῖνα τῷ τέκνῳ ζῶντες ἑαυτοῖς ἐποίησαν. Повторяется имя Педа или Спеда но ещё в более странной форме, с окончанием на ου. Другие, следующие за ним, три имени, по своей необычности напрашиваются на иное чтение текста. Но как ни разбивать его, всё окажется больше лиц, чем сколько нужно для одного τέκνῳ. С именем Pedo упоминается впрочем, один претор у Тацита, а Атией (Atia) называлась мать Августа.
Βουλή καὶ δῆμος… νε η δε πολιταισμο… επιν γὰρ τοιαῦτα… Видно из надписи одно, что в Едессе, как и в других больших «самозаконных» городах эллинских, были в древности и Дума и Палата народных представителей или Совет (Βουλή). Мы уже выше, в списке кончивших курс Эфивов, встретились с этим учреждением, но тогда умолчали о нём из опасения, как бы не сказал кто, что камень с надписью мог быть доставлен совне в Водену. Теперешний, вторично заявляющий о местном «парламенте» камень, найден тут в окрестности.
…πλουσίους τοὺς δν…
…ροτιν… μερου τῶν καϑοσιωμένων σεκουνδάνων… Тщательно двойными чертами высеченная надпись.
Также и А языческих надписей заменяется в христианских постоянно ѧ, хотя это последнее начертание встречается наравне с А во множестве надписей языческой эпохи. Тоже надобно сказать и о начертании σ в виде


Все 28 надписей мы представляем для любопытства читателей в довольно точных отподоблениях. См. таблицы.
Раз и навсегда мы оговоримся, что, когда упоминаем «крест», то надобно разуметь крест четырёхконечный. Ни шестиконечного выходного креста позднейших императоров византийских, ни осмиконечного нашего глубокая древность христианская не знала. Для ознакомления, более наглядного, с Эдесскими могилами см. рисунок сего склепа на таблице.
Ἐλληνικὸν Σχολεῖον не значит только Греческая школа. Это есть высшая инстанция элементарного образования у греков, где дети учатся древнему эллинскому языку, которым, не смотря на всё учение Афинских и Константинопольских учёных, народ ещё не говорит. В Воденском «Эллинском» училище преподаётся и французский язык; с не малым удивлением узнали мы, что учит ему один турок. Вот и составляйте верные заключения о том, что такое Македония.
До слова: гречанка-город, так как слово: πόλις – город есть женского рода.
…Pia Cido… Фамилия хозяина: Сидо.
Illyris. Иное дело: Иллирис – область, и иное: Иллирик – страна. Первая, в отличие, зовётся ещё Греческой.
На картах пишется Телево. Скорее – блато, чем озеро, хотя величается последним именем. Пуквиль окрестил его именем Лодово. Буе, вопреки Киппертовой карте, находит его круглым и кратеровидным.
Такое имя, конечно, напрасно было бы искать на «Табуле» (Певтингеровой). Не изображено там и самое озеро. Пуквиль полагает, что оно самое известно было в древности под именем lacus Begoritis.
Михаила II, сына Михаила I, основателя Эпирского владения. И сын, и отец были не законно прижитые дети, и потому не имели права считать себя ни Комниными, ни Ангелами, но на зло Никейским parvenus упорно называли себя так.
На австрийской – Генерального Штаба – карте оно переиначено в Turboli.
Ещё называется (у Киперта) весь хребет: Неречка Пла́нина, да тут же в скобках приводится и древнее имя: Вога т.е. бора. И Буе указал там же гору: Вини, а по-албански Бор, что значит: снег. Это название горного хребта Бора даёт повод учёному Пуквилю сюда приурочивать пресловутых Гипербореев, т.е. за – борян, перевода слово по-русски. Не малою неожиданностью было бы встретиться так недалеко от Греции с обитателями, заносимыми не учёным воображением на глубокий север. Большое влияние на образование географических (и всяких иных) понятий древних греков имел Эпир, для которого хребет Сухой Горы точно мог иметь значение предела, за коим шла terra incognita, и обитали люди, для коих самое выразительное имя было ὑπὲρβόρεοι без всякой дальнейшей характеристики, какими когда-то были для наших предков немцы, чудь, жмудь, воть, весь,.. Впрочем, словопроизводство Ипербореев может обойтись и без всякой горы с именем Бора. Достаточно для этого Борея или Борра, т.е. северо-западного ветра.
При этом славянист наш ссылается на греческое имя (у Византийцев) Βυτέλιον. Правда, что греческая гласная υ в древнем языке, смотря по диалектам, произносилась не одинаково, и могла точно иметь звук нашего у (μῦς–mus–мышь, ὗς–sus, λύκος–Iupns и пр.). Но желательно бы узнать, у какого именно писателя отыскалось имя: Βυτέλιον.
Πανήγυρις – общая сходка, праздник, базар… Славяне выделали из него: панаир, панагур, панадюр.
Имеем в виду Болгарского Самуила, по исследованиям будто бы армянина родом.
Напр. у Козар, которых, кажется, нет крепкой причины выделять из великой семьи Славянской.
Выражения: торжественный момент, торжественный акт, торжественная служба.
Βρακᾶς – носящий широкое нижнее платье (βρακὶ), простонародный костюм. Μπακάλης – мелочной продавец.
Так зовут укорительно и посмевательно в Константинополе и свои и чужие «Великую церковь» или Константинопольскую Патриархию. В переводе прозвище это значит: чёрный котел. Какой существенный оттенок мысли заключается в словах этих, скорее можно почувствовать, чем определить.
Фукидид упоминает о Линке, но так, что тоже не вдруг угадаешь, что именно он имеет в виду. Ἡ Λύγκος ставится у него уже в женском роде, след., как будто не значит реки, которую гений (каприз) греческого языка обыкновенно наделяет мужским родом, имея в виду, конечно, подразумеваемое слово: ποταμὸς – река. Но выражение его: ἐπὶ τῇ εἰσβολῇ τῆς Λύγκου – при впадении Линка, ничему так не прилично, как реке.
Λύγξ – рысь.
В Илиаде завоевателям Трои помогают и вожди Пеонийские, в числе которых упоминается Астеропей, сын Пилегона. По имени этого Пилегона, вероятно, и звались некоторые Пеонцы Пелагонами. По Страбону, они же назывались Титанами, а Пелагония звалась когда-то Орестией (См. Кн. VII).
«Патриоты» в Пеласгах древности видят нынешних Албанцев, словопроизводство которых, несомненно, упирается в корень: albus. Славяне греческий (архи)пелаг зовут белым морем… Итак, ПЕЛ… не есть ли простая, беспереводная, передача славянского БЕЛ?... Известно, что в Кадмовом алфавите нет буквы для звука б. Арабы и теперь постоянно чужеязычное П выговаривают как б, и передают буквою ب.
… primae regionis Amphipolim, secundae Theassalonicen, tertiae Pellam quartae Pelagoniam fecit (Paulus Aemilius). Так пишет Тит Ливий (кн. 45. гл. 29), рассказывая о сделанном Римлянами административном разделении Македонской провинции. Историк Киннам (кн. III. гл. 17) прямо говорит: Ἡρακλεία τῶν Μυσῶν, ἣν νῦν Πελαγονίαν τινὶ γλώσσᾳ ϰατακολουϑοῦντες ὀνομᾶζουσι, т.е. Ираклия Мисов, которую теперь, следуя одному языку, именуют Пелагонией. Выражение одному (или некому) замечательно в устах грека. Значит, слово: Пелагоны не греческое, а местное. Далеки мы от мысли делать при этом аллюзию на наши балахоны, но всё же устраняется, таким образом, производство Пелагонов от πέλαγος – море, до которого далеко им во все стороны.
Но, с другой стороны, через два года после Эфесского лже собора, именно на Халкидонском соборе (451 г.) заседал уже другой архиерей Ираклии Линкистидской, Дионисий (См. Vetera Itineraria, 735 г. стр. 319), которого Lequien пропустил в своём перечне битольских епископов. Конечно, Квинтилл мог умереть за два года, а ещё вероятнее, что был отрешён за своё участие в разбойничьем соборе, но всё же остаётся место предположению, что кафедрой его могла быть Ираклия Синтская.
Когда снятся мертвые, то значит у тебя ноги холодны. – Когда видишь, что летаешь, то значит, имеешь ветры в желудке… и пр. Какое разочарование для идеалиста!
Миллионы пиастров, конечно. Преосвященный, говорят, действительно очень богат. Кроме своих прямых и косвенных доходов с епархии, ведёт финансовые обороты (через родственников) на Константинопольской и даже Венской бирже, куда нередко и ездит под предлогом пользования минеральными водами… Повторяем: «говорят».
После мы осведомились, что Стоян и Иван – одно и то же, что Ян и Иоанн – разные формы одного и того же имени, что легко допустить и объяснить; но откуда взялась приставка: сто? Не есть ли это сокращение слова: свято, в той форме, как оно пишется «под титлой»? Стоян в таком случае значило бы: Святой Иоанн.
Оставленное без перевода, греческое: τάχα – как бы, как будто бы.
Три года спустя после Косовской битвы.
Беспримесной – относительно греков. А Турки? спросит кто-нибудь. У нас привыкли везде в Турции видеть турков. Для ленивой мысли и узкого взгляда это конечно так, – где Турция, там и турок. Но какое отношение имеют напр. к Слепченским христианам турки? Немного ошибемся, если скажем: никакого. Вероятно, даже подать государственную собирает какой-нибудь откупщик битольский из болгар или греков. Во всём прочем они ведаются и обходятся без турок. Просуществовавшая открыто в церкви 400 лет книга с самою не лестною бранью предержащей власти говорит ясно, что «турок» не мешает славянскому селу вести дела свои, как оно хочет.
Вот образчик сплошного письма: 1) Ѻч҃є нашь и̇жє ѥ̇си на нбⷵcєхь. да ст҃ытсеи̇мєтвоѥ̇. даприи̇дєцртⷵcвиє̇ твоѥ̇. и̇ да боу̇дєть волѣ твоѧ̇. ꙗ̇ко на нб҃си и̇ на земли. хлѣбь соущьствьни даждь намь на всѣкь дн҃ь. и̇ ѡ̇стави намь грѣхы̇ нашє. ꙗ̇ко и̇ мы̇ ѡ̇ставлѣѥ̇мь всакомоу̇ дльжникоу̇ нашємоу̇. и̇ нє вьведи нась вь и̇скоу̇шєниѥ̇. нь избави нась ѿ неприꙗ̇зни. – 2) и̇скони бѣ слово. и̇ слово бѣ кь Бо҃у. и̇ Бь҃ бѣ слово. сє бѣ и̇скони кь Бо҃у. и̇ всѣ тѣмь бы̇ше. и̇ безь нєго ничєсожє нє бы̇сть. ѥ̇же бы̇сть.
При пособии Дюканжа Раича и других, удалось отыскать Владислава Албертовича. Это был действительно краль, только не Сербский, а Угорский или Венгерский. В L’art de vérifier les daes он назвал Ladislas V ou VI, dit le Posthuma, сын Альберта († 1439) и Елисаветы. Он родился уже после смерти отца. В 1453 г. вступил на отеческий престол, а 23 Ноября 1457 г. скончался скоропостижно в Праге. Видно, таким образом, летосчисление заметки следует эре не от сотворения мира, а от Р.Х. Декабрь месяц очутился тут вероятно потому, что только в этом месяце памятописец узнал о сем.
Сечь кр҃ъ – вероятно: резня и кровь. Поводом к такой заботе о блюдении послужило, очевидно, совпадение начала «кругов» лунного и солнечного. По-теперешнему счёту, обстоятельство такого рода имело место в 1408–9 году. Указания же заметки о праздниках Рождества Христова и Св. Ап. Петра и Павла относится к 1408 году. Но так как в то время год начинался Сентябрем, то и Рождество Христово естественно отходило уже к новому 1409 году и след. должно было приходиться в понедельник – по табличке. Что же касается Петрова дня, то указание его верно.
Oriens Christianus, Матфей ставится между Архиепископами Анфимом XIV в. и Марком XV в.
Кирилл конечно епархиальный Епископ места, но едва ли из митрополитов, подведомых Архиепископу 1-й Юстинианы.
Под 9-м Ноября положена память Св. Александра и Антония мучеников Солунских, а под 6-м числом Св. Павла исповедника – тоже Солунца, пропущенных мною в списке Святых, принадлежащих Солуню. Из них Св. Александр стоит в Греч. Минее под 7, а не под 9-м Ноября. Антоний же действительно указывается под 9-м Ноября, но он по Минее жил и пострадал в Сирии в городе Апамие. В том же Синаксариарие, соименный мне мученик назван вопреки Греческим и Латинским Святцам андониномъ, а не Антонием, хотя конечно ошибочно.
Книжку мы решились выпросить у о. Игумена для выписки на досуге в Битоле; оттого и не занялись ею на месте. Пришлось пожалеть о таком решении, не проверенном благовременно «задним» умом русским...
Собственно: Слепище. Но болгаре, как и мы по деревням (шти, ештё…), любят обращать щ в шт.
Озаглавлен: Памѣнникъ прест҃ѣишимъархієпⷵcкѡмъ . Но Архиепископ внесён только один Прохор. «Пресвятейший» было ли официальным титулом Архиепископа, или придумано самим писцом? Официально это есть преимущество одного Вселенского Патриарха, величаемого παναγιώτατος (да ещё злоупотребительно Солунского Митрополита).
Собственное имя города мы читаем наугад. Написано: воло5ъ. Такого места не отыскивается на имеющихся под рукою картах. Других всех местоположение известно. Сомнительно, чтоб Кратово был епископальный город. Сосипатр, может быть, только проживал там временно или на покое.
Отыскались, таким образом, имена четырёх Игуменов монастыря: Серафим – 1548 года. Вениамин – 1617 г. Иоаким – 1627 г. Савва – 1637г.
Да найдёт себе извинение этот быстрый переход от «берёзовой каши» к «Димиургу». Никогда воображение не стремилось с такою страстью в область поэзии и мифологии, как в счастливое, но вместе и тяжёлое, время берёзовой ферулы.
Любопытен отзыв о Марке Кралевиче историка Раича: «Аще ли за истину почтется, еже о нем в простых песнех поется, обретаем его бытии продерзливым насильником и подлым пияницом, кроме прочих безстудий» (кн. VII. гл. 14. § 13).
Видимо в переиначении имени водились чисто капризом. Звук е или ѣ после л должен был слышаться греческому уху как ε, а вовсе не как α, чтобы из пралепа вышел прилап. Чтобы дело могло случиться наоборот, т.е. чтобы Славяне из древнейшего греческого πρίλαπον сделали, по своему усмотрению, прилеп, это крайне невероятно. Ученый автор: Les Turques etc. недовольный ненаходчивостью Византийцев, придумал городу имя Периллам (Περί-λλαπον), которому, конечно, рукоплещут Афины и Византия. Право, после это кажется уже Бог простит отыскать в имени и русские перила, а ещё удачнее считать его перифразом выражения, столько подходящего к условиям времени и места: бери в лапы.
Πρίλλαπον – по употреблению историка Никифора Григора.
Мы не иронизируем. По понятиям тех времен, он имел право умертвить пленников. Ослепление тогда считалось простым наказанием или даже административною мерою.
Передавая цифру 15 тысяч, историк (Кедрин) прибавляет: как говорят.
См. fac-simile по таблице.
Error – погрешность, которую знаменовала наведённая учителем под местом ошибки чёрточка. Сумма таких чёрточек выставлялась учителем в конце задачи и определяла собою «похвалу», а при переходе в две цифры, нередко и диверсию к «порогу».
Монастырь стоял 40 лет в совершенном запустении. Алтаря не существовало.
Греки не уступают этого слова Латинам, производя его от глагола: κάμπτω, тогда как Латины своё: camera не имеют из чего вывести.
Ἔτους ΞΣ Φλαυία Νείκη Νικάδρου Ἀπόλλωνι Ἐτευδανίσκῳ εὐχήν. Буква α постоянно пишется Α, а не ѧ, буква σ имеет начертание и Σ, и

Ἀπόλλωνι Ὀτευδάνω. Т. Φλάυιος Ἀντιγόνου υιός. Ἀπολλόδωρος εὐξάμενος. В этой надписи, на обороте, α пишется всегда z, а ω – Ω и σ –

Ἐυχήν… εὐξάμενος. Оба выражения, очевидно, должны иметь один и тот же смысл. Εὐχὴ, εὔχομαι и пр. имеет значение сердечного пожелания, частнее же мольбы и обета. Здесь оно должно иметь оттенок последней мысли, и заменять собою латинское: ex voto, и наше – по обету.
Однако же, имя Flavius стало известно и распространилось по Империи уже с Императором Флавием Веспасианом. Не считать ли 260-й год по Августовой эре, начинающейся годом Актийской победы? Вышел бы тогда 230-й от Р.Х.
Известны готфские имена Theadis, Theudericus… Но, каким образом одно и то же божество, в одном и том же месте, и, по-видимому, в одно и то же время, зовётся и Отевданом и Етевданиском? Ошибкой резчика нельзя объяснить этого. Уж если где, то при имени божества, да ещё местно чтимого, не могло быть недостатка во внимании у мастера. Считать одну форму имени официальною, книжную, а другую – уменьшительною, едва ли тоже согласятся осторожные критики. Правда, греческое словообразование даёт на то полное право (δρόμος – δρομίσκος, βασιλεὺς – βασιλίσκος и пр.), но к лицу Аполлона не приложимо такое удлинение имени и укорочение чести, а особенно – от благоговейного читателя и молебника. Не много поможет делу, если в окончании: ανος, мало известном грекам, мы будем видеть латинское… anus, передаваемое нашим окончанием: ский. Но чуть я произнёс в собственный слух это родное: ский, как всё затруднение исчезло! Тевданискос вдруг оказался точной, но не совсем удачной, передачей нашего славянского: Тевдонский, на греческое письмо. Смело, конечно, признать существование на этих местах до Р.Х. славянской стихии, но откуда-нибудь взялись же мы в Европе. Я не сомневаюсь, что почтенный компаньон мой, если бы ведал, над чем я бьюсь, сразу порешил бы, что Этевданискос есть не что иное, как Этевданушко. Я не пойду так далеко, хотя переделанный, как мы уже имели случай заметить, историками из Иваницы Иоанникий, развязывает нам руки на все. Для Этендана годятся, в случае, ещё Сербское дан (день), и общеславянское: дан (данный). Начало необъяснимого прозвища Аполлонова разногласит не менее, чем и конец его. Что вернее: отев или этев дан, кто может решить теперь? Не предположить ли, наконец, что два чествовались тут Аполлона, один – Отевдан, а другой – Этевданиск? И то возможно. Что сказать, наконец, об Аполлодоре, сказывающееся в надписи совершенно лишним? То, что он же самый и есть Т(ит) Флавий, выпрошенный, вероятно, родителями у Аполлона, и наречённый в благодарность за то, кроме метрического имени, ещё Аполлоновым даром.
Ἐκοιμήϑη δοῦλος τοῦ θῦ Νικόλαος ὁ Τοσούης μηνὶ Αὐγούστο (sic) ἡμέρα κα. ἐπὴ (sic) τῆς βασιλείας Στεφά… ἐν ἔτη… Сохранились, кроме того, оконечности трёх последних строк, состоящие из букв: καλ… ιλληαρη… ρστφνα, коим не возможно подыскать никакого смысла. В 6-й строке нам будто можно видеть указание индиктиона.
Στέφανος ἐν χῷ τῷ πιστὼ(sic)s κράλης καὶ αὐτοκράτωρ ἁπάσης Σερβίας καὶ παραϑαλασίας. Буквы седмикратно имеют слитное начертание. Ни ударений, ни знаков препинания нет.
Вот он в точной копии... «Святому Пророку Божию Моисею: повеле ему Господь Бог сотворити скинию по образу виденному ему на горе. И в ней службы совершали Господу Богу. И тако Бога прославляли. Они ветхозаветнии иудее суще. Сего ради и Кральство наше много подвигло есть на любовь церковь Господню.... Наипаче же в сем Святем и Пречестнем храме Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. Больше возлюбих красоту и благолепие сего Святаго храма Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии образе чудотворном Трескавцы. И що се предале царие и кралеве и кто-либо, все утвердисмо нарекоемо Хрvсовуль. Первы метох у Прилепе Св. Димитрия. И молю вы о Господе отцы и братия его же Бог изволи по кралевми господствующаго Сербскою землею, ни сын кралевми ни ин кто сродник кралевми симу записанному Хрvсовулю мною Стефаном четвертым, Богом поставленному кралю...» и пр. Полагаем, что представленная нам копия не верна своему подлиннику. В противном случае хрисовул представляется, судя по языку, весьма сомнительным.
Однако же компаньон мой уверял меня потом, что он и видел, и в руках держал пергаментную тетрадку с отличным славянским письмом. В подтверждение сего представлены были и вещественные доказательства.
Все подписи икон греческие. Заметки о времени расписания церкви и пр. я нигде не мог досмотреться.
Τὸν μέγιστον καὶ ϑειότατον αὐτοκράτορα Καίσαρα Λούκιον Σεπτίμιον Σεουῆρον. Οὔλπια, Εἰσιδώρα πι (?) καὶ Σαραπιὰς καὶ Αὐρήλιος Ἀντιγονο… εμων Конца надписи нет. Время определяется императором.
εικο τύχη… δ’ἄγαλμα… κκηι ἀνορ… ευξε παρὰ ε… πιγονητε… ομου… ευνο… μαι μαιμος…
ἐκ βάϑρου ἀνεγέρϑη… ςѡ̅з̅. Νόεμβρίου…
Всё это разные наименования одной и той же монеты – венецианского, а потом австрийского, червонца, более всех других распространённого по обеим сторонам Балканов.
Память и служба Св. Муч. Екатерины положены 24 числа, а 25 Свв. Климента и Петра.
Ультрамонтан В. Nicolaidy, согласно сему предположенному огречению, в своей книге уже называет монастырь: Boucovon. Удивляюсь, как не назвал его ещё патриотичнее: Βουκολέων.
(Μηνὶ Ν) οεμβρ(ίῳ, ἡμέρᾳ π) αρασκευ (ῇ. Ἀνεπα)ύσατο ὁ(δοῦλος τοῦ Θῦ) κάρκως… εναμψ… πσ… ον(δ)εξάμε(νοι οἱ) ἃγιοι Ἀπ(όστο)λοι καὶ μα(ϑηταὶ) σπρο(φῆ)ται τῷ δ(εσ)πότῃ (καὶ) Σωτῆρι Χριστῷ πρ(εσυ)εύοντε(ς… αῆναι τ(ὴν ψ)υχὴ(ν)αὐτοῦ. В собственном имени хотя ясно видится начальная буква К, но конечно вместо неё должна стоять М.
Αὐ(ρήλιος) Ἰουλιανὸς Αὐ(ρηλίαν) Ἀμιάντην τὴν σύμβιον. Ἀνέϑηϰον κατὰ κέλευσιν τῆς Θεοῦ. Надпись принадлежит, конечно, II веку по Р.Х., когда сделалось известным императорское имя Аврелия.
Παρὰ Φιλίππου τοῦ Ποσιδίππου, Ὀρέστου τοῦ Ὀρέστου, Τραλλόου τοῦ Μάκνου, – τῶν ἀποκληρωϑέντων προέδρων δόγματος ἀναγραφή. Τῇ ӡ́ τοῦ Δαισίου μηνὸς τοῦ ΓΜΣ ἔτους. Τῶν περὶ βα. αρον Φιλίππου ἐν Δεῤῥιοπῷ πολιταρχῶν, συναγαγόντων τὸ βουλευτήριον, κ(αὶ) Φίλωνος τοῦ Κόνωνος ποιησαμένου λόγους περὶ Ἰουεττίου Φίλωνος τοῦ ϑείου, κ(αὶ) προσαγγείλλαντος, ὅτι κ. γερῶν τὴν ἑαυτοῦ πατρ(ί)δα ἐτείμησε μεγάλως, κ(αὶ) τελευτῶν οὐδἐ τῆς κατὰ τὴν βουλὴν τείμῆς ἠμέλησεν, ἀλλ’ ἄφιεν αὐτῇ κατὰ διαϑήκηγ ΔΛΦ. εφωεϰτων ϰατ’ ἐνιαυτὼν γεινομένων τόϰων. Чтение затрудняется на словах: 1) Τράλλοου внутри буквы ο видится легкое υ, что вместе составило бы: ου – окончание род. падежа. Но в таком совсем лишнее, состоящее за ο ещё вторичное ου, да ещё и в небольшой форме ꙋ, свойственной позднейшему времени. 2) Μάκνου стоит, вероятно, вместо Μάγνου. 3) Περὶβα. αρον одно ли это слово, или надобно читать раздельно: περὶ и βα. αρον. Последнее, вероятнее, но чтение его трудно установить. Третья буква сглажена, вторая похожа и на α, и на λ. 4) ϑείου – имеет значение и «дяди», и «покойника». 5) κ. γερων – писано вязью нерешимою. Предположительно стоит вместо: γεραίρων. 6) Εφωεκτων одно ли это слово, означающее наше: 6%, или состоит из εφ’ ῷ ἐκ τῶν, или по описке поставлено вместо: ἐφικτῶν, или ещё иначе как, решить не можем.
А что, если это просто: Βαάρος т.е. Варош? В Греческом лексиконе приводится слово: Βάρις – дворец, замок, крепость. Слово, очевидно, не греческое. Но на столько же оно и славянское, чтобы, не раз встречаясь на теперешних картах Балканского полуострова в областях чисто славянских, дать этим самым повод считать себя результатом славянской речи и жизни. Смутно припоминается это же, или весьма близкое к нему, имя фигурирующим при взятии Иерусалима Титом, и тоже в значении укрепления или замка. Латинскому языку оно также не принадлежит. Турков оно, конечно, предварило собою здесь. Что же? Остается назвать его древне-Македонским, Пеонийском, Дерриопским.
Ἠμέρα ἡ ἅγουσα Οὐεττίου Βωλάνου ἐορτάσιμον (ἡμέραν, πρᾶξιν, τελετὴν) εὐωχῆται τῇ πρὸ δεκατεσσάρων καλανδῶν Νοεμβρίων. ἔδοξεν τῇ Βουλῇ τὴν τοῦ ἀνδρὸς σεμνότητα κ(αὶ) βούλησιν ἀποδέξασϑαι ἐπί τε ταῖς ὑπ’ αὐτοῦ κατὰ τὴν διαϑήϰην γεγραμμέναις αἰρέσεσιν, τὸ τ’ ἀργύριον λαβεῖν κ(αὶ) κατ’ ἐνιαυτὸν ἄγειν τὴν τοῦ Οὐεττίου Βωλάνου ἐορτάσιμον ἐκ τῶν τόκωτ ἡμέραν, καὶ μήτε τοῦ προγεγραμμένου κεφαλαίου ἅπαν ἀλίσκειν τί εἰς ἑτέραν, μήτε τοῦ κατ’ ἐνιαυτὸν γινομένου τόκου, ἀλλ’ ὡς ὀ δοὺς Φίλων ἠϑέλησεν. Τό τ’ ἀργύριον ἠριϑμήσατο καὶ παρέλαβεν ὁ ἐπιμελητὴς τῶν τῆς Βουλῆς δηναρίων, Λούκιος Λουκρήτιος Πούδης. Εὐωχῆται – до слова пируется, т.е. проводится в пиршествах. Νοεμβρίων. Замечательно это римское название месяца, тогда как в предшествовавшем акте употребляется Македонское название месяцев. Σεμνότητα в точности не переводимое на наш язык слово. Им обозначается и честность, и степенность, и скромность, и почтительность, и благочестие. Οὐεττίου Βωλάνου. Vettia gens – одна из известных римских до-императорских фамилий, пользовавшихся от республики правом бить свою монету. Встречаются монеты прямо с именем Vettia Bolani, бывшего проконсула Смирны. Оказывается, таким образом, что родиной этого сановника была нынешняя деревня Чепигово.
Все эти рассуждения о Пуде греческом и славянском ни к чему не ведут. Их разбивает в прах латинский текст 2-го послания Апостола Павла к Тимофею, где (гл. IV, ст. 21) Апостол Пуд поименован Pudens. Переформирование этого имени в греческое Πούδης следует совершенно тому же лексическому закону, как и Clemens переделанное в Κλήμης, Valens – в Οὐάλης и т.д. Нам, чтоб быть последовательными, следует потому переписать своего Пуда в Пудента.
C(aius) Iulius Bassus, C(ai) f(ilius), Ma(ecia tribu), Pelago, mis(sus) Vete(ranus) ex leg(ione) VIII Aug(usta) mil(itavit) ann(os) XXV, vixit ann(os) LXXV. H. r. d. f. (Haeredes… filii? fuerunt? fecerunt?) C. Iulius Cae (f? r? p?) nialis et C. Iulius Olympus et C. Iulius Expeditus et C. Iulius Felix. Paxit. A. M. denariis LX.
Ἔτους ΖΞ? Φροντὼν Διονυσίου Στυβεῤῥαῖος ὁ ἀντάρχων Διονυσίου τοῦ ὑοῦ τοῦ ἀγορανόμου τοὺς κίονες ἐποείη(σεν). Конец последнего слова сглажен. Στυβεῤῥαῖος… По Стравону в стране Девриопов были три города: Βρυάνιον, Ἀλαλκομέναι и Στύμβαρα. Поливий пишет последний: Στύβερρα, согласно с нашею надписью. У Тита Ливия он зовется: Stubera. Ἀντάρχων в греческих лексиконах не встречается. По аналогии с столькими другими, подобного склада словами, надобно заключать, что здесь частица: ἀντί означает: вместо (лат. Vice), а не против. ὑοῦ – ошибочно вместо υἱοῦ.
(Ἰο)υλία Ἀλεξάνδρα Γ. Ἰου(λίῳ) Ἀλεξάνδρῳ τῷ υίῷ. Ἀλεξάνδρος Ἀντ. (Ἰου)λίου Ἰουλίᾳ Ἀλεξάνδρᾳ τῆ (μη)τρὶ ἐκ τῶν ἰδίων ἔστησαν. Начало всех пяти строк сглажено временем.
† Ἐνϑάδε κῖτε (κεῖται) Σπουρϰίων στρατιώ(της), καλῶς πορευϑὶ(εὶ)ς τῆς ζωῆς προσκέ(αι)ρου χρόνον, σεμνῶς δὲ μεταστὰς τοῦ ἐντεῦϑεν βίον(βίου). ἰνδ. г̅і̅. Μην. Ἰουλίου к̅є̅. ἡμ. Ε ὃν προσεξάμενος Χε̅ ἀνάπαυσον εὐχἔ(αι)ς τῶν Ἀγίων. ѕчоѕ † Начертано на толстой мраморной плите почти квадратной (41х35) с фронтончиком наверху в 0,15 фр.м. вышиною. Надпись находится в совершенной сохранности.
Затруднение в индиктионе. 383-му году соответствовал 11-й, а не 13-й индиктион.
На досуге мы сосчитали все годы, которым соответствовал 13-й индиктион, за целый период от 310 г. по Р.X., т.е. года прекращения гонений до 900 года – крайнего предела для надписей с подобным графическим характером – и нашли их числом 40. Из них только на четыре приходилось 25-е Июля в Четверток, а именно 580, 625, 670 и 715-й, всего на период из 135 годов. По мнению нашему, только к этому именно периоду и может относиться наша надпись. С VIII века письмо унциальное греческое получило уже особенности, так сказать, типические (с которыми и к нам перешло), совершенно отличные от Спуркионового надгробия. Никакая, впрочем, комбинация из предполагаемых числовых знаков надписи не приводит к этим годам.
