Раздел 2. Современные исследования
К.А. Щедрина. «Крест императора Константина Великого» (К вопросу иконографии)
«Крест императора Константина» – наиболее употребительное название для нескольких иконографических типов изображения креста и целого ряда конкретных исторических памятников.
До сих пор, по мнению исследователей, не было предпринято попытки полного описания или систематизации, выделения характерных черт или признаков «креста Константина» на основании литературных источников и исторических преданий.
Изучение иконографии креста в христианском искусстве обычно ограничивается разделением типов креста на основе изобразительных различий: количество концов, их форма и т. п.48 Исследователи сохранившихся памятников чаще всего обращаются к истории святыни, или к традиционному стилистическому и иконографическому анализу49.
А. Н. Грабар на основании изучения византийской нумизматики указал на два типа «креста Константина» – «лабарум» – знамя, укрепленное на поперечине, прикрепленной к копью, увенчанному «хрисмой», монограммой имени Христа, и так называемый «вотивный крест Константина» – утвержденный на ступенчатом основании четырехконечный крест с тремя поперечными перекладинами на концах, завершенными металлическими шарами-яблоками50.
Г.В. Вилинбахов показал, что в западноевропейской геральдике с «крестом Константина» связывался определенный тип – четырехконечный крест с расширяющимися концами, вписанный в круг51.
И все же немногие попытки рассмотреть «крест Константина» как иконографическое или культурное явление в контексте его почитания в том или ином регионе христианского мира52, каждый раз задают и оставляют без ответа вопрос о том, что же собственно такое «крест Константина».
Изучение письменных свидетельств позволяет говорить о том, что свести представление о «кресте Константина» к одному иконографическому типу или историческому памятнику невозможно. Во-первых, древние авторы описывают несколько крестов, созданных императором Константином Великим, разной формы и назначения; во-вторых, в средневековом христианском мире было известно несколько памятников, связанных с именем Константина, а также ряд копий и подражаний, имевших ту или иную степень сходства с предполагаемым оригиналом. Поэтому на основании доступного фактического материала можно выделить несколько изобразительных черт, использование которых позволяет считать определенное произведение аллюзией на видение императора Константина.
Епископ Евсевий Кесарийский, биограф Константина Великого, описывает два видения, в которых императору было явлено знамение креста – дневное и ночное. Во время первого император «своими очами видел составившееся из света и лежащее на солнце знамение креста с надписью «сим побеждай!» (εν τουτω νικα)53. Той же ночью «во сне явился ему Христос Божий с виденным на небе знамением и повелел, сделав знамя, подобное этому, виденному на небе, употребить его для защиты от нападения врагов»54.
Согласно описанному Евсевием видению, явленный крест был сияющим, вписанным в круг или с концами, выходящими за его пределы (знамение, лежащее на солнце), по второму видению нижний конец креста мог быть длиннее прочих.
Далее описывается изготовление лабарума, военного знамени, по образу видения. «На длинном, покрытом золотом копье была поперечная рея, образовавшая с копьем знак креста. Сверху на конце копья неподвижно лежал венок из драгоценных камней и золота, а на нем символ спасительного наименования: две буквы показывали имя Христа, обозначавшееся первыми чертами, из середины которых выходило Р(…)потом на поперечной рее, прибитой к копью, висел тонкий белый плат – царская ткань, покрытая драгоценными камнями и искрившаяся лучами света. Часто вышитый золотом, этот плат казался зрителям невыразимо красивым, вися на рее, он имел одинаковую ширину и длину. На прямом копье, нижний конец которого был весьма длинен, под знаком креста, при самой верхней части описанной ткани, висело сделанное из золота грудное изображение василевса и его детей. Этим-то спасительным знамением как оборонительным оружием всегда пользовался василевс для преодоления противной и враждебной силы, и приказал во всех войсках носить подобное ему»55.

Рис. 1. Прорись креста из церкви св. Софии Константинопольской. 537 год

Рис. 2. Монета императрицы Пульхерии. 422 год
Крест, сделанный из копья, описывается в «Жизни Константина» еще дважды: в руке статуи императора в центре Рима56 и, возможно, на изображении на стене дворца василевса, попирающего змея57.
Наконечник копья в навершии креста – редкая, но все же встречающаяся в определенном типе памятников иконографическая черта. Прежде всего, это кресты, выложенные в толще кладки стен новгородских церквей58, а также вмурованные в стены каменные кресты59. Сюда же можно отнести и несколько поклонных каменных крестов (Тутаевский крест, крест дьяка Бородатого 1458 года из ЯРМЗ). В контексте иконографии знамени Константина можно рассмотреть деталь, известную по уникальным грузинским предалтарным крестам – навершие в виде шлема или конуса, украшенного изображением деисуса60.
Лабарум-копье Константина Великого получил в подарок от папы Льва IIIпосле коронации император Карл Великий61. У этого копья сложилась интересная судьба. Угерманских императоров-Оттонов оно участвовало в военных походах с именем копья св. Маврикия. Позже оно вошло в коронациональные сокровища Священной Римской империи и почиталось как копье св. Лонгина62.
Интересный пример совмещения реликвии св. копья и украшенного драгоценными камнями креста упоминает А. Фролов: «Св. Копье, которое Людовик IX привез в Париж, было вставлено в украшенный драгоценными камнями крест»63.
Евсевий упоминает еще об одном изображении креста, сделанном Константином Великим: «В превосходнейшей из всех храмин царских чертогов, в вызолоченном углублении потолка на самой середине его, он приказал утвердить великолепную картину с изображением символа спасительных страданий, которое составлено было из различных драгоценных камней, богато оправленных в золото. Этот символ боголюбивому василевсу казался хранителем его царства»64.
Крест, составленный из драгоценных камней, так называемый cruxgemmata (σταυροζδιαλυθος), получил широкое распространение в искусстве христианского мира. А. Фролов связывал его появление прежде всего с украшенным камнями лабарумом и упомянутым изображением в конхе парадной залы (хрисотриклиния) Константинова дворца65 и соотносил, как и другие исследователи, с апокалиптической и райской символикой драгоценных камней Нового Иерусалима (Апок. 21, 18–20, 23–25). В изображениях Христа с драгоценным крестом в руке обычно видят указание на Его царское достоинство66.
На наш взгляд, необходимо подчеркнуть, что изображение cruxgemmata, восходящее к дворцовой мозаике Константина Великого, повторяет конкретное видение императора, который увидел на небе, а затем во сне сверкающий драгоценный крест. Кажется, к тому же видению можно отнести и появление украшенного камнями нимба Спасителя, например, в мозаиках Равенны (илл. 1). Лик Христа здесь изображен как бы на фоне гемматического равноконечного креста в круге – «Христос Божий с виденным на небе знамением». К видению Константина можно условно отнести и сюжет, определяемый как «Похвала кресту» – ангелы, поклоняющиеся кресту, в навершии которого изображения лика Христа с крестчатым нимбом или на фоне сияющего круга67.
Церковное предание уточняет детали видения Константина, что позволяет объяснить назначение драгоценных камней в триумфальном кресте. «Житие святых Константина и Елены», содержащееся в составе «Летописца Еллинского и Римского» (XV век), так повествует о явлении креста: «Живущу бо ему (Константину) на некоем поле с вои, молебно молящуся и труждающуся, Божие же знамение некако явися ему от полудневнем часе, и луч пущание бе от него паче солнца, блещася на воздусе на крестный образ, предзнаменовася писанми римскими воображен звездами, и глас бысть с небесе, глаголя: «Костянтине, сим побеждаи!»68
Древнее предание, отраженное в древнерусском тексте жития, говорит о видении креста, составленного из звезд, «воображенного звездами». Богослужебные тексты указывают, что крест на небе явился «светосиянен звездами» (Служба на Воздвижение, Стихира на стиховне).
Золото и драгоценные камни императорского заказа должны были указывать на конкретные детали видения – солнечное сияние и звезды. Драгоценный cruxgemmataв последующие века будет неотъемлемой частью императорских пожалований. Самый известный из несохранившихся до нашего времени – огромный, по всей видимости, в меру креста Христова, голгофский крест, установленный в храме Воскресения Христова в Иерусалиме на месте Страданий Спасителя по повелению императора Феодосия II.По мнению некоторых исследователей, крест Феодосия содержал в себе частицу Св. Древа Креста, то есть был не только вотивным, но и реликварным69.
Древнейший из существующих ныне – крест, вложенный императором Юстинианом и его женой Софией в собор св. Петра в Риме (565–578), относится к типу выносных крестов – четырехконечных с расширяющимися концами, высотой более метра, на длинном древке для несения в процессиях.
Наибольшее число подобных памятников, известных от Афона до Новгорода датируется X–XIII веками. Еще А. П. Смирнов, посвятивший изучению выносных византийских крестов небольшое сообщение, замечал, что все они являются копиями или вариациями одного оригинала, которым, возможно, был хранившийся в константинопольской дворцовой церкви св. Стефана «большой драгоценный крест Константина, который предносился во время праздничных выходов василевса, как о том повествует Константин Порфирородный в своих Deceremoniis»70.
Возможно, в некоторой связи с дворцовым выносным крестом Константина был создан и крест императоров Священной Римской империи (IX–XI века), хранящий частицу Св. Древа и украшенный, подобно византийским выносным крестам, драгоценными камнями71. Его форма – с поперечными перекладинами на концах, повторенная на знаменах Священной Римской империи и Тевтонского ордена) близка изображениям на византийских монетах.
Помимо известного по описаниям еще IV века процессионального дворцового «креста Константина»72, византийские авторы упоминают еще и стационарный крест, установленный, по преданию императором Константином в Константинополе (рис. 1). Церковное предание сообщает о трех крестах в Риме и Константинополе по числу видений Константина73. «Сотвори христолюбивый царь Костянтин трие кресты великы по числу показанных ему на бранех: первое в Риме, егда Максентия потопи, второе в Византии, егда Византию взя, третие, егда мост созда на Дунайстей реце, егда скуфы покори. По образу три видения устрои, честныа три кресты от чистыа меди и нарече святаа их имена сице: «Исус Христос побеждает», еже нарицаемый «Исус», златым слитием устроив и постави на восток на комаре, идеже и ныне есть торг, теплое являа всем благочестиа своего, яко силою его еллиньскаа шатаниа низложи. Нарицаемаго же Христос всечестнаго божественнаго креста постави верху червленаго столпа римьскаго на Братолюбнем, идеже есть до днешняго дни, на том же месте утвержден. А другий животворящий и чудоточный божественный крест, нареченный «Победа», Ираклием же верным христолюбивым царем, «Аникит» наричаемый всеми верными христоименитыми»74.
Не входя в рассмотрение вопроса о реальных исторических достопримечательностях и их происхождении, известных в средневековом Риме и Константинополе и связываемых с именем императора Константина, отметим лишь, что в приведенном свидетельстве указывается на множественность созданных императором крестов, их большие размеры и материал (медь, золото).
Драгоценные камни-"звезды» или их имитация с помощью орнамента рельефной чеканки и литья украшали и исторические вотивные кресты Константина (по крайней мере, один из них). Подтверждает это и рассказ «Летописца» о чуде от «животворящего креста Господня, нарицаемого Аникит». «Глаголет бос я от многых, якоже слышахом о сем честнем кресте, яко се ангел Господеньпозде в нощи трижды летом яко блистанием молнииным светом с небесе сходя, звездами явлением месяца маиа в 7 в честное и святое его верных святитель на небо воздвижением месяца септембрия в 14, и святаго светлаго поста Христа Бога нашего на поклонение в преполовение поста. В тыи три честнаго креста Христова и святаго Аникита обходя, и кадя, и гласом сладким, тонкым клепанием, окрест того клепля»75.
В приведенном рассказе о чудесном явлении и поклонении кресту ангела, его схождение с неба «яко блистанием молнииным светом» перекликается со «звездным» видением императору Константину 7 мая, что позволяет говорить о корреляции образов звездосоставного креста и небесных ангельских сил (рис. 2).
Известно, что в античном и позднеримском мире был распространен культ героев-эпонимов, или богов-звезд. Достаточно вспомнить современные названия планет солнечной системы. Представления о богах-покровителях как о небесном воинстве императора были широко распространены в римском военном императорском культе76. С образом звезд связывалось небесное ангельское воинство и в иудейских ветхозаветных представлениях. Не чужды они и христианскому сознанию77.
В связи с предложенными рассуждениями о семантической параллели образов звезд и ангелов – небесных воинов, можно объяснить удивительное несоответствие между описаниями видения Константина Великого у Евсевия и произведением римлянина Назария – панегирик на победу Константина при Мульвийском мосте. Назарий говорит о том, что императору явилось небесное воинство, вооруженные всадники, готовые вместе с его войском вступить в битву. И. Ю. Шабага, анализируя видения, приходит к выводу, что противоречие в описаниях объясняется ориентацией на различную аудиторию. В случае панегиристом Назарием, который сам, по всей видимости, был христианином, описание видения было сделано на понятном для сенаторов-язычников образном языке78.
Согласившись с мнением автора о том, что различное истолкование видения императора Константина было следствием политической мудрости и изменчивости политической и религиозной ситуации в империи, отметим, что, несмотря на внешнее различие описания сияющего звездосоставного креста и небесного воинства, эти образы внутренне непротиворечивы, но отражают единое явление духовного мира.
Христианские монахи, претендовавшие на наследие Византийской империи, желали получить «крест Константина» как залог помощи небесного воинства в ратных делах. Возможно, константинопольский крест из часовни св. Стефана содержал частицу Св. Древа. Во всяком случае, помещение реликвии в кресте не противоречило представлениям о легендарном «кресте Константина». В 1190 году болгарский царь Иван IАсень в битве с византийским императором Исааком IIАнгелом «среди прочей добычи захватил большой патриарший крест, который, по словам Георгия Акрополита, «был сделан из чистого золота и имел в середине частицу Св. Древа, что было использовано при распятии Господа нашего Иисуса Христа, и частицы честных мощей святых, млеко Св. Девы и часть Ее пояса»79. Другой византийский автор XIIIвека Феодор добавлял: «Ходили слухи, что [этот крест] был сделан первым христианским императором, равноапостольным Константином, и что он, как и все благочестивые императоры по нем, пользовался им как знамением против своих врагов»80.
По мнению Д. И. Полывянного, «превращение» трофейной патриаршей реликвии в «Константинов крест» было обусловлено несомненным влиянием болгарской культурной модели, частью которой (…) была Константинова легенда»81. «Константинов крест» изображался на монетах государей из династии Асеней во второй половине XIIIвека, пока не был возвращен в Константинополь в ходе очередного болгаро-византийского конфликта в конце 1270-х годов82.
Реликвия, известная под названием «крест Константинов» появилась в XVIIвеке и на Руси. Речь идет о Ватопедской святыне, присланной в 1655 году царю Алексею Михайловичу с Афона на время для поклонения и удержанной им вместе с главой св. Иоанна Златоуста из того же монастыря. С начала 30-х годов XVIIвека между Ватопедом и русскими царями велась переписка о получении креста.
Царь Михаил Федорович в грамоте константинопольскому патриарху описывает крест со слов ватопедского игумена Игнатия как «крест Животворящего Древа, на нем же распят был Господь наш Иисус Христос, с которым ходили благочестивые греческие цария на недругов своих, царь Константин и иные древние цари»83.
Через двадцать лет царь Алексей Михайлович со слов другого афонского игумена Дамаскина, приехавшего за милостыней в 1652 году, описывает святыню как «животворящий крест Господень, положение благочестивого царя Феодосия, которой крест сделал благочестивый царь Константин с того образа, каков ему крест Христов явился на небеси о победе на нечестиваго царя Максентия»84.
О форме и внешнем виде присланной святыни не известно ничего, однако, по всей видимости, это был не выносной крест, а небольшая ставротека-реликварий85, которая могла быть частью – серединой другого креста, тем более что «крест Константина» был известен в Ватопеде и после его присылки в Россию.
Н. П. Кондаков в отчете о поездке по монастырям Афона, описывая хранящуюся в Ватопеде святыню, отмечал: «Крест Константина не представляет древнего памятника. Возможно, что современный крест заступает место исчезнувшей древности и относившейся, быть может, ко временам Константина, хотя не Великого, но Багрянородного. Современный крест шестиконечный, спереди обит бархатом и серебряными бляхами (…)по концам рукавов укреплены круглые бляхи сизображениям евангелистов и архангелов, наведенными финифтью XVII века (…). Вышина креста 1,5 метра»86.
Описанная Кондаковым афонская святыня – традиционный выносной запрестольный крест, украшенный серебряными «звездами», мог быть изготовлен после того, как насельники Ватопеда убедились в нежелании русского правительства возвращать святыни, которые, как считал Алексей Михайлович, принадлежали ему по царскому праву87.
Вряд ли возможно установить, является ли ватопедский крест копией с утраченного русского «креста Константина», или речь идет о двух разных святынях, однако приведенный материал позволяет говорить о том, что в XVII веке, так же как и во времена болгарских Асеней, в представления о «кресте Константина» входили две составляющие – он мог украшаться камнями (металлическими бляхами-звездами) и содержать частицу Св. Древа.
По нашему мнению, в связь с привозом на Русь в 1655 году «креста Константина» можно поставить и изготовление одного русского креста-реликвария. Кийский крест (илл. 2) был создан для строящегося по замыслу патриарха Никона и царя Алексея Михайловича Кийского Крестного монастыря (или Ставрос как нызывал его патриарх Никон) на Белом море88.
Огромный, в меру креста Христова, он содержит в перекрестии частицу Св. Древа в ковчеге, более трехсот частиц св. мощей и камней из святых мест Палестины, получивших обрамление в форме восьмиконечных звезд. Дробницы с изображениями святых, чьи мощи находятся в кресте были сгруппированы в виде геометрического орнамента, подобно драгоценным камням описанных выше выносных крестов X–XIII веков.
Патриарх Никон в грамоте об устроении монастыря на о. Кий прямо связывает создание обители с легендарным деянием императора Константина Великого, сооружением обители на Афоне. «В воспоминание же тричисленыя Честнаго Креста победы великий царь Константин возгради в своей державе монастырь во имя давшего ему на враги победу Честнаго и Животворящего Креста Господня, и именова его Ставрос, еже есть Крест, иже и доныне во святей Афонстей горе силою Распятаго стоит неврежден»89.
Упоминает патриарх Никон и о «кресте Константина», появление которого он относит, однако не к лету 1655 года, а ко временам князя Владимира: «От оных же убо триех честных крестов, их же великий царь Константин сотвори, един принесен есть в Россию при великом князе Владимире иже есть и доныне в царствующем великом граде Москве, егоже божественною и пресвятою силою той царствующий преименитый град Москва, со всеми прилежающими ему странами, блюдом есть и покрываем. егоже животворящим и всесильным действием прежде бывшии православнии велиции князи и цари Российстии светлое одоление и победы над враги своими поставляху, и окрестныя иноверныя страны под богохранимую Российского царствия державу удобь покаряху. Такожде убо и благочестивый христолюбивый великий государь наш царь и великий князь Алексий Михайлович всея великия и малыя и белыя России самодержец, и многих государств государь и обладатель, исполняя Господа нашего Иисуса Христа бывшее к великому царю Константину в видении о честном Кресте, еже носити его пред полками на победу врагов, повеление, и во всем оному первому христианскому Константину царю ревнуяй, оный един от триех Честный Животворящий Крест Господень, благочестиваго своего воинства предполки ностити повеле, и силою распеншагося на Кресте Иисуса Христа истиннаго Бога нашего, врагов Его побеждает, якоже и всеми видимо есть»90.
О помощи Кийского креста в ратном деле сообщает Иван Шушерин, клирик и биограф патриарха Никона. Описывая освящение и проводы креста-реликвария в монастырь на Кий-остров 1/14 августа 1656 года (в этот день Церковь празднует Происхождение Честных Древ Животворящего Креста), автор сообщает: «В той же день великому государю поручи господь Бог взяти город немецкий Динаборк, иже наречен бысть царевича Димитрия, зане в той день, в оньже царевич Димитрий празднуется, той град взят бысть»91.
В рассказе Ивана Шушерина присутствует историческая неточность. Динабург, действительно взятый 1/14 августа, был назван в честь первых русских святых князей Борисоглебом, а название Дмитров получил другой ливонский город Кукейнос (совр. Кокнесе), покоренный несколькими днями позже. Об этом сообщает в своем письме к близким сам царь Алексей Михайлович, связывая наречение города с видением ему св. князей Бориса и Глеба(вспомним подобное видение Александру Невскому перед Невской битвой и Дмитрию Донскому перед Куликовской) и приказанием прославить святого сродника: «Да по явлению мне страстотерпец Бориса и Глеба, повелевающу мне праздновати новому страдальцу царевичу Димитрию и церковь во имя его; и я потому и праздновал под тот день, как приступали, и церковь во имя его поставя, и освятися августа в 17 день(…)И отселе нарекли сему граду имя царевичев Дмитров град»92.
Очевидно, что Алексею Михайловичу было известно о назначенном на 1 августа перенесении Кийского креста, и возможно, что приступ Динабурга он намеренно связал с этим днем, рассчитывая на помощь прославлявшейся в тот день в Москве новосозданной святыни.
Кийский крест, украшенный мощами-"звездами», был создан по образу видения царя Константина. Святые, чьи мощи были вложены в крест, составляющие небесное воинство православных царей, нередко называются в православной гимнографии и агиографии «звездами», указывающими верным путь ко спасению.
Расположение мощей подобно драгоценным камням на выносных крестах подчеркивало роль святых, особенно воинов-мучеников, в качестве небесных помощников наследникам Константина Великого, о видении которых (в интерпретации панегириста Назария) возможно знали и преемственно следовали ему русские царь и патриарх.
С украшенным звездами Кийским крестом, несомненно, связан и декор выносного запрестольного «Корсунского» креста из Успенского собора Московского Кремля. На лицевой стороне драгоценные камни и медальоны с изображениями апостолов в кастах помещены в том же геометрическом порядке, что и наКийском кресте, а также на более ранних выносных запрестольных крестах93. На обороте двадцать две восьмиконечные рельефные звезды с хрустальными вставками. Оклад креста датируется XIX веком, иконография прослеживается по описям не ранее 1701 года (между 1638 и 1701 годами), однако, видимо, имеет более раннее происхождение94. Возможно, патриарх Никон при создании кийской реликвии обратился к имеющей древнейшую историю кремлевской московской святыне95.
Название «крест Константина» не соотносилось в восточнохристианской и русской традиции с определенным типом памятников, так назывались лишь избранные реликвии, связываемые церковным преданием с именем первого христианского императора. Однако использование определенных иконографических черт, одной из которых было украшение креста драгоценными камнями-звездами, позволяло подчеркнуть охранительную функцию креста, уподобить его виденному Константином Великим знамению императорской победы.
Г. А. Романов. Кресты в крестных ходах Древней Руси
Само название крестных ходов свидетельствует, что понятие креста является основополагающим для богослужений вне стен храмов. Важно рассмотреть, зачем и как в крестных ходах носили кресты, какие они были, какое значение имела форма выносных крестов. Статья посвящена анализу происхождения крестных ходов Древней Руси и сведений о крестах в крестных ходах до XVIIвека.
В истории христианства можно выделить три источника возникновения обряда крестного хода, его три составные части: римскую, иерусалимскую и ранневизантийскую традиции. Римская традиция возникла в процессе переноса Святых Даров в катакомбах, а потом – мощей св. мучеников. Римская традиция – образное шествие с Телом Христовым всех членов церковной общины.
Христианское богослужение в Риме до 313 года преследовалось. По римским законам гроб с телом усопшего считался предметом священным, а всякое место, предназначенное для погребения, признавалось неприкосновенным96. Евхаристия, совершаемая в катакомбах на гробах мучеников, была официально дозволена. В катакомбах господствовала темнота, о чем Аврелий Пруденций писал: «Дневной свет проникает в крипту через вход, а в извилистых галереях ее уже в нескольких шагах от входа чернеет темная ночь»97. Христианские общины стремились подготовительную часть литургического действия (проскомидию) совершить на свету у входа в пещеры, а для причастия Святые Дары торжественно переносились священнослужителями на блюде внутрь, а за ними следовали члены Церкви98. М. Скабалланович называл первыми крестными ходами, имевшими место в IIIвеке, перенесение ночью христианскими общинами тел святых мучеников. В 258 году тело священномученика Киприана, епископа Карфагенского, ночью было перенесено шествием со светильниками с места казни в дом священнослужителя Макробия. В 290 году тело мученика Бонифация было перенесено из Тарса в Рим ходом духовенства и верующих с торжественным пением гимнов99. В шествиях римских общин крест присутствовал образно через общее поклонение крестному подвигу Иисуса Христа.
Иерусалимская традиция – народное шествие в дни церковных праздников, возглавляемое епископом с Евангелием, и чтение Евангелия на остановках хода. Как свидетельствуют записи аквитанской паломницы в Иерусалим конца IV века, в большинстве ходов на места евангельских событий крест также присутствовал образно. Только в Страстную пятницу «на Голгофе, за (церковью, именуемою) Крестом… приносится серебряный позлащенный ковчег, в котором находится святое древо креста; открывается и вынимается; кладется на стол, как древо креста, так и написание (titulus)… Весь народ, подходя поодиночке, как верные, так и оглашенные, преклоняются перед столом, лобызают святое древо, и затем проходят»100.
Ранневизантийская традиция – шествия с покаянием по случаю угрозы бедствий и народные моления помощи Божией, то есть преображение в крестные ходы оградительных народных обрядов. Сведения о крестных ходах в Константинополе по случаям землетрясений, засух, извержений вулканов, угроз вражеских нашествий с 437 по 1000 год собраны и описаны в деталях Дж. Балдовином101. Моления об избавлении от бедствий и благодарения Господа за избавления византийцы совершали и ранее 437 года. Св. Иоанн Златоуст в VIбеседе о Лазаре говорит: «Хотя землетрясение миновало, но благоговение пусть не проходит. Три дня мы молились, да не окончится тем наше усердие»102. В другом месте св. Иоанн Златоуст повествует: «По случаю сильных дождей были литании и моления, и весь наш город, как поток, устремился в апостольские места; мы умоляли, призывая св. Петра и блаженного Андрея, эту двоицу апостолов, а также Павла и Тимофея». Не позже 420 года был совершен крестный ход по случаю бездождия, в котором носили крест, водруженный на шест. Греческий писатель Марк Диакон (V век) в жизнеописании св. Порфирия, епископа Газского (ск. 420), рассказывает: «Взявши знамение честного креста, которое нам предшествовало, мы вышли с гимнами к древней церкви, находящейся на запад от города. Сам Порфирий следовал, неся св. Евангелие и имея кругом себя благочестивый клир»103.
Дж. Балдовин заключает: «Природные катаклизмы и ереси, являвшиеся бичом города в раннехристианский период его истории, если и не в одинаковых масштабах, то, по меньшей мере, с равными для богослужения результатами, создавали главные поводы для совершения этих служб на открытом воздухе»104. Сократ Схоластик († после 439 года) сообщает о противостоянии ариан и паствы св. Иоанна Златоуста: «Ариане… проводили свои собрания вне города… Они собирались на площадях внутри городских ворот и пели антифонно песни, составленные согласно арианской вере. Они проделывали это в течение большей части ночи. Утром, распевая те же антифоны, они совершали шествие через цент города… Иоанн (Златоуст), озабоченный, как бы кто-нибудь из более наивных и доверчивых верующих не был отвлечен от Церкви подобными песнопениями, организовал своих людей на противостояние арианам. Они также должны были посвятить себя ночным песнопениям, дабы ослабить влияние ариан и укрепить веру своих прихожан». В ночных ходах св. Иоанна Златоуста константинопольцы несли серебряные кресты, освещаемые горящими свечами. Конструкции крестов были изобретены самим св. Иоанном, а их изготовление было оплачено императрицей Евдокией (400–404 годы). С этими крестами в 400 году был совершен перенос мощей св. мучеников из Константинополя в пригород Дрипии в 13,5 км к западу от города105. Горожане быстро потеряли интерес к арианским хождениям, а крестные ходы стали совершаться постоянно.
Позднее константинопольскими крестными ходами была преодолена ересь монософитства106. Значение шествий с крестом для искоренения народных заблуждений осталось навсегда. Св. Максим Грек († 1556 год) сообщает о событиях IXвека, сохранявших свое значение и в XVIв. «Патриарх Фотий, бывший при царе Льве Премудром, видя, что некоторые из древних идолопоклоннических обычаев еще соблюдаются и исполняются, старался прежде поучениями отвлечь православных от таких обычаев; затем соборно установил и завещал всем повсюду боголюбивым епископам в первый недельный день каждого месяца собирать православных в святые храмы, совершать освещение воды и освещать их, дабы таким чиноположением отвлечь их от тех эллинских обычаев, которые они совершали в начале каждого месяца, возжигая каждый пред своим двором огонь и перескакивая чрез него многократно, надеясь через то пребыть здравыми в течение наступающего месяца. И благодатию Господа нашего Иисуса Христа, многими подвигами и святыми молитвами блаженного патриарха Фотия этот эллинский ложный обычай совершенно прекратился у православных. Положенное тогда соборне установление об освящении православных окроплением святою водою в первый недельный день каждого месяца сохраняется и до сего времени в святых обителях Святой Горы»107. К Xвеку крестные ходы полностью заменили народные оградительные обряды, причем крест стал символом Божьего ограждения, как видно из молитвы: «Огради нас, Господи, силою честного и животворящаго Твоего креста и сохрани нас от всякаго зла».
Далее св. Максим Грек подробно описывает водоосвящение и крестный ход. Обратим внимание, что в действии участвуют два креста, которые выносят из алтаря. Один «честный крест (большой) держит инок, стоя несколько позади иконы Пречистой», в то время как «трижды погружают святый крест в воду с пением трижды тропаря». Выносной крест на шесте хранится в коническом основании к востоку за престолом, видом образуя Голгофу. Его называют запрестольный, а в искусствоведческой литературе – процессионный. Крест с ручной рукоятью хранится на престоле и именуется напрестольный108 или воздвизальный, поскольку в богослужении иерей его воздвизает и благославляет им мир на четыре стороны. Завершая крестный ход в афонском монастыре, «обойдя все службы, выходят за ворота обители с пением догматиков, осмогласных в честь Божией Матери и «славников» стихир празднуемых святых в разных пределах внутри монастыря и по башням. В то время как игумен с братиею стоят пред монастырскими вратами и поют, священник с диаконом входят в находящийся близ обители огород и окропляют в нем святой водой все овощи, чем они и сохраняются невредимыми от червей и гусениц». Описание монастырского крестного хода, данное св. Максимом Греком, передает афонский чин XV–XVI веков, сложившийся в Х веке.
Святым императором Константином Великим было установлено перед сражением с неприятелем совершать обхождение войска священником с полотном-хоругвью109. А. П. Голубцов писал об этом знамении Константина: «Поперечина, составляющая среднюю ветвь креста, имела чисто механическое значение и предназначена была поддерживать кусок полотна, представляющий царское знамя. Таким образом, главное, что придавало христианский характер этому знамени, есть монограмма имени Христова, а не крест». Хоругвь Константина Великого стала походным знамением византийских войск и при последующих императорах. Юлиан Отступник (361 – 363) приказал снять монограмму имени Христа, но Иовиан (363–364) не только возвращает ее, но и дополняет крестом, а Валент (364–378) использует изображение четырехконечного креста уже вместо монограммы110. Это позволяет предположить богослужебное применение изображения креста в крестных ходах с 370-х годов. О ходах перед выступлением в поход сообщает Скабалланович111. Описание многих ходов военных приводит А. Фролов112. Чтобы освящающее и благословляющее воинов знамение креста было видно всем, оно было водружено на шест. Запрестольные кресты, возможно, происходят из византийских ходов военных.
Какими были византийские выносные кресты? Изучение изображений на византийских фресках и иконах позволяет выделить четыре основных мотива, влиявших на вид крестов.
Первый – напоминание о крестном подвиге Иисуса Христа. Форма Креста – живоносного древа, на котором был распят Христос, – продолговатый крест, повторяющий пропорции человеческого тела. Он может быть четырех-, шести- и восьмиконечным, судя по тому с какой полнотой воспроизводится орудие казни. Симеон, архиепископ Фессалоникийский (конец XIV – начало XV века), поясняет влияние крестного хода на город: «На перекрестках и площадях возносим молитвы, чтобы всё, растленное нашими грехами, очистилось. Посему износим из храмов святые иконы, честные кресты, а иногда и священнейшие остатки Святых, чтобы вместе с людьми святилось и всё то, чем они пользуются – и дома их, и пути, и воды, и воздух, и земля, нами оскверненная и как бы попираемая, и город, нами населенный, и страна, и чтобы всё это удостоилось божественной благодати и освободилось от порчи и тления; … чтобы ходивший ради нас на земле и распятый за нас во плоти Бог спас нас, исповедающих дело высокой Его благости и любви, по которой Он излил на кресте свою кровь и умер за нас, и чтобы нас, которые собираемся вместе и предносим те самые знамения Его страдания, честные образы креста, Он, чрез истребление врага, умертвившего нас древом исхитил от смерти»113. К этому же мотиву следует отнести дополнения, передающие крестные страдания Спасителя, например, изображения круглых капель крови на концах креста.
Второй – воспоминание победного креста императора Константина Великого, виденного им на небесах. По форме это крест, расширяющийся от средокрестия, как от источника света, во все четыре стороны, так называемый византийский или константиновский крест. Сюда же можно отнести и отображения сияния от креста. Тропарь кресту «Спаси, Господи, люди Твоя…» связывают с посвящением св. императору Константину, которому Господь крестом дарует победу. Изгнание врагов, дарование победы, уподобление равноапостольному императору Константину Великому, – вот смысл применения константиновской формы креста в крестных ходах.
Третий – подобие пастырскому жезлу. Симеон, архиепископ Фессалоникийский, пишет о пастырском жезле: «Жезл… означает власть Духа, силу утверждения народа в вере, (символ) пасения душ, путеводства, наказания непокорных, привлечение к себе отдаляющихся и отражения зверонравных и вредных людей. Наконец, он знаменует крест Христов, который есть вместе и трофей Христов, которым мы и побеждаем, и утверждаемся, и пасемся, и запечатлеваемся, и детоводимся, и привлекаемся ко Христу, умерщвляя страсти, и прогоняем врагов, и охраняемся во всем»114. Этот мотив передается расширением на концах креста, наподобие завершения пастырского жезла или значительным удлинением основания креста. Крест как пастырский жезл обязательно присутствует в торжественных шествиях святителей, когда впереди несут архиерейскую лампаду и крест.
Четвертый – воспроизведение образа христианского мироздания. Симеон, архиепископ Фессалоникийский, говоря о четверочастной просфоре, уподобляет ее кресту и правильному мирозданию. «Бог воспринял всего совершенного человека, состоящего из души и четырех стихий, – и потому, что весь мир четверочастен, и само Слово есть зиждитель мира; и потому, что Христос принял тело, сложенное из четырех стихий, и потому, что воплотившееся Слово освятило все пределы мира, и небесные, и земные, – и потому, что сам вид этого хлеба образует Крест Его, чрез который, будучи пригвожден на нем и умерши, Христос исправил нас и весь мир»115. Чтобы передать, что крест – образ исправленного от грехов мира, было достаточно поместить в средокрестие образ Спасителя. В этом случае четыре конца креста становились четырьмя сторонами света.
Учитывая приведенные рассуждения, можно предположить, что для крестных ходов против ересей использовали крест – образ исправленного мира, а в оградительных от вражеских нашествий ходах и ходах военных носили константиновский крест – символ победы. В подавляющем большинстве случаев разные мотивы дополняли друг друга, усложняя смысловое содержание выносных крестов.
Кроме того, до VIIвека, по свидетельству латинского писателя, «снисходя до времени к немощи новообращенных, христиане поступали с ними с осторожностью, и писали один только крест, а образ Христа, на нем висящего, не изображали. Но при этом самый крест они облагали и украшали великолепно драгоценными камнями, а иногда под ним изображали стоящего Агнца»116. Только определением Трулльского собора (691–692) предписывалось образ Агнца заменять на прямые изображения Иисуса Христа по человеческому естеству117.
В музеях Ватикана хранится серебряный крест, созданный около 565 года, дар византийского императора Юстина IIПапе Римскому, с надписью по телу креста на греческом языке118. Все края креста константиновской формы обложены драгоценными камнями. В средокрестии помещен еще один равноконечный крест внутри серебряного кольца. Памятник представляет собой одновременно победный императорский крест и крест – образ мироздания. Крест назначался для крестных ходов, ограждающих от бедствий, и ходов военных.
Иллюстрации к статье Н. И. Троицкого

Рис. 14. Ананурская церковь. Южная стена. Грузия

Рис. 12. Византийский складень-триптих из слоновой кости (средняя часть). X в. Луврский Музей
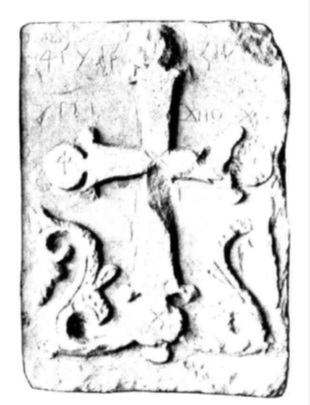
Рис. 4. Мраморная плита предалтарной преграды из базилики Херсонеса. Музей Херсонесского монастыря

Рис. 1. Надежда прародителей после грехопадения. С карт. Б. Джонса, Рим.
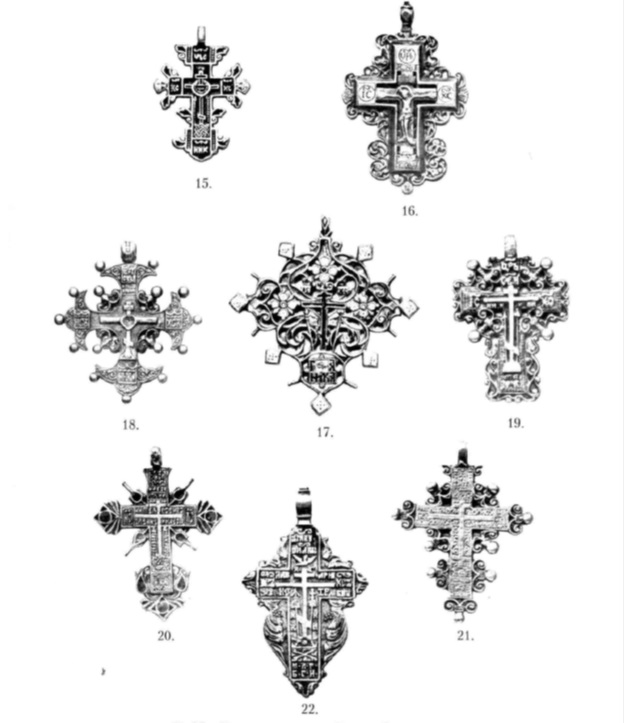
Рис. 15–22. «Тельные» кресты. Типы «Древа жизни»

Рис. 25а. Афонский крест – «Древо жизни». XV век. Тульская Палата Древностей. (По современной атрибуции – Афон, XVII век. – Прим. ред.)

Рис. 25б. Афонский крест – «Древо жизни». XV век. Тульская Палата Древностей. (По современной атрибуции – Афон, XVII век. – Прим. ред.)
Иллюстрации к статьям Г. Д. Филимонова

Илл. 1. Резной по дереву напрестольный Афонский крест XVвека. (По современной атрибуции – Афон, XVII век. – Прим. ред.)

Илл. 2. Резной Афонский крест Севастьяновского собрания
с нижним змееобразным орнаментом
Иллюстрации к статье К. А. Щедриной

Илл. 1. Равенна. Сан-Аполлинаре-ин-Классе. Мозаика
в аспиде. Середина VI века
Иллюстрации к статье К. А. Щедриной

Илл. 2. Кийский крест. 1656 год
Иллюстрации к статье Г. А. Романова

Илл. 1. Император Алексей III Комнин с запрестольным
крестом. Грамота Дионисиевскому монастырю. 1374 год

Илл. 2. Запрестольный крест монастыря Дохиару. IX век

Илл. 3. Напрестольный крест Дионисиевского монастыря. XV век

Илл. 4. Крестный ход на освящение церкви Благовещения Богородицы. Миниатюра Летописного свода. XVI век

Илл. 5. Торжественная встреча великого князя Дмитрия Донского крестнымходом во главе с митрополитом Киприаном. Миниатюра Летописного свода. XVI век

Илл. 6. Запрестольный крест Благовещенского собора. Вторая половина XVI века
Иллюстрации к статье И. А. Стерлиговой

Илл. 1. Крест напрестольный. 1553 год. Музеи Московского
Кремля. Надписи о мощах

Илл. 2. Крест напрестольный. 1591 год. ГИМ.
Надписи о мощах
Теме уподобления императору Константину Великому долго придавалось особое значение. С константиновским крестом торжественно шествовали императоры в праздничных крестных ходах. Именно с константиновским крестом на длинном древке повелел изобразить себя император Алексей III Комнин в 1374 году в грамоте афонскому Дионисиевскому монастырю (илл. 1) и на ктиторской двусторонней иконе 1375 года119, вложенный в этот же монастырь.
Другой из сохранившихся в Риме запрестольных крестов – серебряный Велитернский крест VII века120 (рис. 2). Концы украшенного сканью и драгоценными камнями креста расширены. В средокрестии находится диск с символом Христа – Агнцем, а в четырех дисках по концам креста показаны животные – символы Евангелистов. Такой образ христианского мироздания чаще всего представлен на окладах Евангелий. Крест содержит мотивы исправленного мира и пастырского жезла. Подобная композиция неоднократно повторялась потом в выносных крестах. Крест мог использоваться для крестных ходов против ересей.
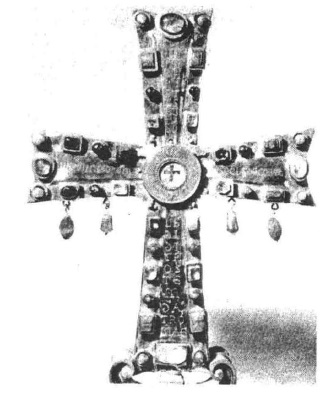
Рис. 1. Запрестольный крест византийского императора Юстина II. Около 565 года

Рис. 2. Запрестольный Велитернский крест. VIIвек
Константиновская форма запрестольных крестов признается исследователями старейшей, связанной с ходами военных, и восходящей к ранневизантийским временам121. От IXвека сохранились крест из афонского монастыря Дохиару (илл. 2) и одинаковый с ним по форме и размерам крест 899 года, находящийся сейчас в греческом собрании Закоса. Бронзовый крест монастыря Дохиару (95х60х0,8 см) на каждом из четырех концов завершается двумя маленькими кружочками, передающими стекающую жертвенную кровь Христа122. Сверху вниз и слева направо по всему телу креста проходит надпись на греческом языке: «Христос Господь хранит этот град вечно в мире. Разумейте язы́цы, яко с нами Бог и Пресвятая Богородица». Судя по этой надписи, крест ранее был городским и использовался в оградительных от вражеских нашествий ходах.
По мнению специалистов с X–XIвеков в средокрестии и по краям константиновских крестов появляются пять дисков123, чем вводится мотив образа мироздания. Выносной крест XIвека в серебряном позолоченном окладе из Лавры св. Афанасия связывают с вкладом императора Никифора Фоки. Хотя пять дисков также передают образ мироздания, как и на Велитернском кресте, но их содержание иное. Изображения в дисках Богоматери, Спаса Вседержителя и Св. Иоанна Крестителя образуют Деисусный чин, который пополнен архангельскими ликами и ликами святых, выбранных вкладчиком. Интересно отметить большое количество подвесок, придающих кресту во время шествия много общего с хоругвями византийских военных ходов.
Выносные напрестольные кресты появляются в крестных ходах не позже IXвека. В слове «О святой и нерукотворной иконе Иисуса Христа Бога нашего, как чтилось в городе Эдессе жителями его» в чине Торжества Православия (празднования восстановления почитания святых икон), установленного в 842 году, читаем: «Четверо епископов, …подняв воздвигнутый трон, выходят из скевофилакия с архиереем, шествующим впереди и несущим в руках крест… Архиерей трижды останавливается, осеняет крестом народ и вновь отправляется в путь»124. Наличие чинопоследования освящения воды в Византийской Церкви позволяет предположить использование напрестольных крестов и более ранним.
Напрестольный, восьмиконечный, деревянный, обложенный серебром крест XV века – вклад императрицы Елены Палеолог в афонский Дионисиевский монастырь125 (илл. 3). Филигранная скань растительного узора и красные драгоценные камни пополняют символическое содержание креста как образа мироздания и носителя жертвенной крови Спасителя. На лицевой стороне центральный образ распятого Христа обрамляют фигуры Богоматери и апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а в навершии – архангела Михаила и архангела Гавриила. На оборотной стороне помещены изображения Крещения Христова в Иордане, св. Иоанна Крестителя, ангелов. Образ христианского мироздания представлен как объединение мира видимого и невидимого вокруг Господа. П. Успенский, путешествовавший в 1848 году на Афон, справедливо отметил, что такого типа восьмиконечные напрестольные кресты получили самое широкое распространение в России, а образцами для них были византийские произведения126.
На фресках XIV века Маркова монастыря в Македонии, посвященных строфам Акафиста Богоматери, св. равноапостольная царица Елена и константинопольский патриарх изображены держащими шестиконечные широкополосные воздвизальные кресты127. Возможно, такими были первые патриаршие константинопольские кресты.А. Фролов высказал мнение, что старейшие из сохранившихся напрестольных крестов относятся к Х веку, имеют шестиконечную форму и восходят к крестам, освященным богослужением при византийском императорском дворе128. Они представляли собой реликварии с частицами Крестного древа и св. мощей. Ношение таких крестов в крестных ходах воспроизводило римскую традицию, то есть перенос тел святых мучеников. Широкополосные воздвизальные кресты шестиконечной удлиненной формы со вставками частиц истинного Креста или со вставками образа Креста внешне напоминали святительский посох. Они, вполне вероятно, с византийских времен были отличительной чертой святительского богослужения.
На Руси крестные ходы русские князья, их священники и дружины совершали после принятия христианства в качестве государственной религии. Однако в стране были условия, чтобы в краткий исторический период крестный ход стал общенародным обычаем. Суровый климат, рискованное земледелие, массовые заболевания, – вот причины, по которым были распространены оградительные народные обряды. По мере воцерковления русского народа эти обряды преображались в крестные ходы или замещались крестными ходами129. С XII века стихийные бедствия и массовые заболевания воспринимались широкими народными массами как Божия кара. Самой страшной карой, посланной Богом за народные грехи, сочли татаро-монгольское порабощение. Средствами, чтобы Господь даровал прощение и освобождение, были покаянные молитвы, всенародные моления и крестные ходы.
Вера в оградительную силу крестных ходов быстро стала безграничной. В 1382 году, после трехдневной осады Москвы войском хана Тохтамыша, москвичи, поверив обманному обещанию провести переговоры, совершили крестный ход за врата града: «Они же, емше сему веру и отверзъше врата, выидоша прежде со князем (Остеем) лучьшими люди с дары многими, а по них чин священничьскы со кресты. И тако погании… приидоша ко вратом града и начаша без милости сечи, священников и прочих хрестьян и святые иконы потопташа»130. Погибло множество народа и город был сожжен. Тем не менее в 1395 году на Москву двинулось огромное войско Тимура-Тамерлана и «егдаже приидоша близ града Москвы с пречюдною иконою Пречистыя Богоматере, тогда изыде весь град в сретение ея; …се множество бесчисленное народа христианского сретоша ю далече за градом на поле; и ако узреша чюдный образ предреченныя иконы Пречистыя Богоматере, и таков си падоша на земли с многими слезами, молящеся и въздыхающе из глубины сердца, и тако намнозе благодарившее я и въставше от земля, руце въздевше на высоту, въпиюще»131. И враг отступил без боя и разбоя.
На Руси сохранились четыре константиновских запрестольных пятидисковых креста византийского происхождения XI–XII веков. Вдобавок, по сообщению Н. В. Покровского, в Киеве в начале ХХ века при раскопках был найден «большой крест медный этого типа», который датировали XI веком. Факт многочисленного употребления византийских выносных крестов свидетельствует о том, что между Византией и Русью не было и не могло быть принципиальных различий в использовании богослужебных предметов.
В новгородском Софийском соборе хранился константиновский пятидисковый крест в серебряном окладе. Дерево креста датируется XIвеком, басменный оклад и чеканные медальоны поновлены в XIX веке132. Гораздо лучше сохранился византийский крест в бронзовом окладе из Орельской церкви близ Новгорода. На лицевой стороне креста показан Деисусный чин, как и на афонском кресте из Лавры св. Афанасия. На оборотной стороне в средокрестии – образ Голгофы. Тело креста чеканено продолговатыми овалами, напоминающими о жертвенной крови Спасителя. Сохранились многие петли для подвесок, как и на афонском кресте. Третий новгородский запрестольный константиновский пятидисковый крест происходит из церкви Архангела Михаила, главной церкви Загородского конца Новгорода. XIвеком датирована деревянная основа креста, серебряный оклад поновлен в начале XIVвека. Особенностью креста является, то, что и медальоны и оклад покрыты изображениями Распятия Христова, Спаса на престоле, Спаса Нерукотворного, Богоматери, апостола Петра, св. Георгия, Серафима, евангелистов Иоанна и Марка. О крестном ходе с этим крестом сообщает летопись за 1187 год. В праздник собора Архангела Михаила «пришедшим со кресты от святыя Софии ко святому Михаилу Архангелу на Михайлову улицу и поющим девятую песнь (канона), и шибе гром и молния, и падоша ниц вси людие, и загореся церковь древяная: но, своею милостию, соблюде Бог молитвами святого Архангела Михаила и святителя Григория, не бысть беды никоея же церкви»133.
Четвертым византийским пятидисковым крестом был известный «корсунский» крест из Успенского собора Московского Кремля, традиционно связываемый со св. Антонием Римлянином. Серебряный оклад креста был обновлен в XIX веке, но на нем сохранились греческие надписи.
Безусловно, эти и другие византийские пятидисковые кресты константиновского извода послужили образцами для творений русских мастеров. Однако равномерные расширения концов крестов часто были утрачены и подобие византийским образцам достигалось благодаря дискам на концах крестов. Для Руси, изнывавшей под гнетом татаро-монгольского ига и, соответственно, под тяжестью народных грехов, мотив исправления грешного мира крестным подвигом Спасителя становился наиважнейшим. По этой же причине диск в средокрестии иногда раскрывался в полное изображение Распятия Христова и диски оставались только на концах запрестольного креста. Множество русских деревянных пятидисковых расписных крестов, носимые в крестных ходах, были прямой формы, без расширений концов. И. А. Стерлигова заключает: «Все так или иначе известные нам древнерусские выносные кресты XI–XV вв. – с дисками на концах»134. Четырехконечные пятидисковые или пятиромбовые запрестольные кресты передавали образ христианского мироздания, повторяющий либо композицию оклада Евангелия, либо Деисусный чин. Если круг был символом мира, то ромб был древним символом Церкви. Применение ромба вместо диска на запрестольных крестах в крестных ходах должно было подчеркивать воцерковленность действия.
Подтверждением применения пятидисковых крестов являются изображения крестных ходов на иконах и миниатюрах летописного лицевого свода XVI века. На иконе второй полвины XV века «Знамение от иконы Богородицы» («Битва новгородцев с суздальцами») из церкви св. Николая Качанова мы видим новгородский крестный ход 1169 года, в котором несут запрестольный крест с ромбами по концам135. На пелене 1498 года из мастерской великой княгини Елены Стефановны в церковной процессии в Московском Кремле, посвященной, как показала Н. А. Маясова, празднованию Входа Господняв Иерусалим, несут запрестольный крест с дисками по концам136. О. И. Подобедова убедительно показала, что на миниатюрах десяти томов лицевого свода показаны предметы и архитектура, современные создателям миниатюр, а не описываемым событиям137. Поэтому многочисленные изображения крестных ходов передают, что в середине XVIвека в московских крестных ходах носили пятиромбовые или пятидисковые запрестольные кресты. На миниатюре об освящении кремлевской церкви св. Архангела Михаила шествие возглавляет пятиромбовый крест138 (рис. 3). На миниатюре об освящении кремлевской Благовещенской церкви – также пятиромбовый крест139 (илл. 4). На миниатюре о торжественной встрече великого князя Дмитрия Донского митрополитом Киприаном показан пятидисковый крест140 (илл. 5). Пятидисковые запрестольные кресты на миниатюрах лицевого свода встречаются чаще всего. На миниатюре о Сретении Владимирской иконы Богоматери запрестольный крест в средокрестии имеет ромб, а по концам – диски141 (рис. 4).
Не позже начала XV века на Руси стали использовать восьмиконечную форму для запрестольных крестов. На иконе первой половины XV века «Знамение от иконы Богородицы» («Битва новгородцев с суздальцами») из с. Курицкое на запрестольном пятидисковом кресте дополнена наклонная подножная перекладина, так что получается восьмиконечный крест142.
В мастерских Троице-Сергиевского монастыря в XV веке мастером Амвросием с помощниками был изготовлен большой деревянный восьмиконечный крест, на котором были помещены 28 икон, резанных на кости143. Крест назначался для монастырских ходов. Тема иконостаса на кресте – образе христианского мироздания была продолжена на запрестольном кресте второй половины XVIвека из Благовещенского собора Московского Кремля144 (илл. 6). В средокрестии помещен литой образ распятого Спасителя со сдвоенными литыми поясными фигурами предстоящих. На лицевой стороне укреплено 19 литых серебряных киотчатых рамок с литыми иконками в них. Столько же икон и на оборотной стороне. С этим крестом священники царских домовых церквей исходили из Благовещенского собора на Соборную площадь и направлялись в Успенский собор.

Рис. 3. Крестный ход на освящение церкви св. Архангела Михаила. Миниатюра летописного лицевого свода. XVI век
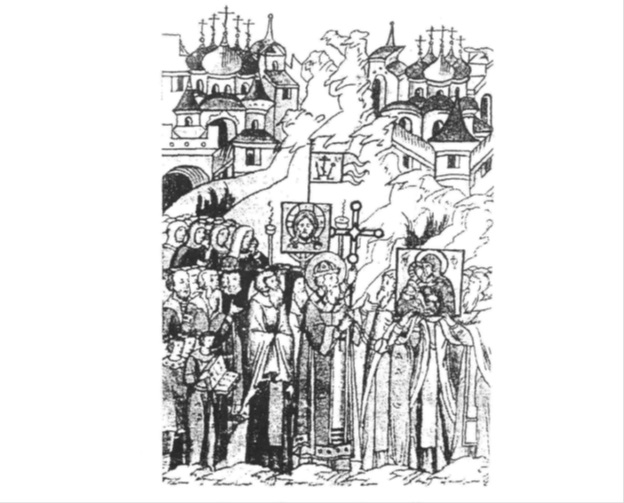
Рис. 4. Сретение Владимирской иконы Богоматери. Миниатюра летописного лицевого свода.XVI век
В новгородском Софийском соборе хранилось несколько широкополосных шестиконечных крестов для святительского богослужения. Самым знаменитым из них является несохранившийся крест архиепископа Антония, вид которого известен благодаря фиксационному рисунку Ф. Г. Солнцева, выполненному в 1830-х годах. Летопись за 1211 год сообщает: «Пришел… Добрыня Ядрейкович из Царяграда, и привезе с собою Гроб Господень, а сам пострижеся на Хутине у святого Спаса, и волею Божиею възлоби и князь Мъстислав и вси Новгородьци, и послаша и в Русь ставиться, и приде поставлен архиепископ Антоний»145. На лицевой стороне обложенного серебром креста, в средокрестии, помещен ковчег с частицами истинного Крестного Древа, очевидно тоже привезенного Добрыней Ядрейковичем из Константинополя. Отметим, что ковчег выполнен в форме четырехконечного креста с чуть расширенными концами, то есть он имеет вид победного константиновского креста. Напрестольный крест был изготовлен до 1238 года146.
Еще ранее, в XII веке, в Новгороде был создан воздвизальный крест в золотом окладе. В средокрестии его – ковчежец в форме шестиконечного креста для части Крестного Древа, покрытый слюдой. В верхнем перекрестии – ковчежец для других реликвий, также покрытый слюдой. Крест многократно поновлялся. В XVI веке он был вывезен в Москву и с ним совершали богослужения и крестные ходы в Вознесенском монастыре Московского Кремля.
В новгородском Софийском соборе хранились также шестиконечный крест XII века в серебряном окладе XIV века, обильно украшенный камнями, с частицами Крестного Древа под золотой пластиной в виде четырехконечного продолговатого креста, и шестиконечный крест XIIвека в серебряном окладе с «мощьми в воскомастике». Оклад последнего креста полностью поновлен в XIX веке.
Один из этих крестов был свидетелем чуда от иконы Знамение Божией Матери в 1169 году: «Нашедше суждалцы, и с ними 72 князи с воинством, на гад сей, и молящуся Иоанну архиепископу и глас бысть: веляше вынести на град икону Богородицыну из храма Спасова с Ильины улицы; посла же святитель архидиакона, и не движеся икона, сам же пришед со кресты, и образ сам о себе двигнулся на град, и слезы источи; абие противнии ослепоша и побеждени быша».
В 1342 году крестным ходом боролись против разбоя «лихих людей». «И много пакости бысть людем и убытка от лихих людей, иже Бога не боятся, владыка же, сигумены и попы, замысли пост, и хождаху с кресты по монастырем и по иным церквам весь град, молящеся Богу и Пресвятеи Богородици, дабы отвратил от нас праведный гнев свой».
О том, что в крестные ходы носили и запрестольные, и напрестольные кресты свидетельствует описание событий 1418 года, когда Торговая сторона города восстала на Софийскую, и на мосту через Волхов состоялась битва. «Архиепископ… своим собором повеле взяти крест Господень и Пречистыя Богородицы образ, и пойде на великий мост, и по нем последующе священици, и причет церковный, и христоименитое людство; бяше же на пути теснота доспешными людми… Пришед святитель, ста среди мосту, и взем животворящий крест, нача благословляти обе страны; овии же взирающе на честный крест кланяхуся, инии, видяще архиепископа, из очию слезы испущающа, …благодаряще Бога и Пречистую Его Матерь, глаголюще сице: давшего нам такового святителя, …сию брань крестом Господним и поучением укроти».
Крестным ходом избавлялись от пожара, как в 1508 году. «Егда бысть пожар, архиепископ Серапион изыде из града со кресты и со иконами чюдотворными и со всем освященным собором на великий мост, и начаша пети молебны… ко Господу Богу нашему Иисусу Христу, и ко Пречистей Его Матери Пресвятей Богородице, и ко святым, о еже пременитися граду от належащего прещения и гнева Божия, и пожара великого избавитися»147.
Десятки раз во время моровых поветрий архиепископы обходили с крестами Новгород и Псков. В 1352 году «архиепископ Василий… обоиде весь град с кресты, и с всем священным събором и с всем клиросом, и с мощми святых, и с пениями, и с молитвами и слезами, молящеся Господу Иисусу Христу и Пречистей Его Матери, святей Госпоже Богородици, о заступлении града; …и весь народ и люди, мужи и жены, от мала и до велика вси воследующе со многими слезами зваху: Господи, помилуй!»148.
В некоторых архиепископских праздничных крестных ходах напрестольные кресты архимандриты и игумены носили на блюде, как видно из чиновников Новгородского Софийского собора. «Чин церковный архиепископа Великого Новгорода и Пскова», по мнению А. П. Голубцова, описывает богослужения 1530 –1540-х годов. Во время действий Новолетия и Страшного суда на Соборной площади архиепископ осеняет святительским воздвизальным крестом народ: «Взем святитель крест в руки, и возлашает святитель велегласно, …и осеняет на люди крестом воздвизальным». Во время празднований Воздвижения и Богоявления «архиепископ вземлет дискос с честным крестом и с васильки на главу»149 и несет. В том, что на блюдах носили и мощи святых и воздвизальные кресты можно видеть прямое продолжение римской традиции крестных ходов.
Шестиконечный, широкополосный удлиненный крест применялся для святительского богослужения и во Владимире. Лицевая Радзивилловская летопись, как показала О. И. Подобедова, создавалась в конце XVвека во Владимире. Ее миниатюры отражают быт Владимира конца XVвека и прославляют владимирских князей и святителей. На миниатюре встречи князя Михаила в 1175 году крестным ходом во главе со св. епископом Симоном перед святителем диакон несет шестиконечный святительский крест150 (рис. 5). Сам епископ изображен несущим Евангелие в окладе на пелене.
Важное назначение напрестольных крестов в крестных ходах ярче всего проявилось в обычае недельных крестных ходов или, как их еще называли, крестных ходов «на похрестие». В начале XVIвека в Новгороде и в Пскове в теплое время года каждый воскресный день, называвшийся тогда неделей, клир церковного прихода вместе с прихожанами совершал крестный ход в соборный храм своего собора священнослужителей. Целью встречи было благословение соборян напрестольным крестом соборной церкви, а протопоп собора благословлялся напрестольным крестом каждой приходской церкви. Так совершалось «похрестие».

Рис. 5. Торжественная встреча князя Михаила крестным ходом во главе со св. епископом Симоном. Миниатюра Радзивилловской лицевой летописи конца XV века
С 1551 года по постановлению Стоглавого собора недельные (с 1594 года воскресные) крестные ходы городских соборов священнослужителей (сороков) в XVIвеке стали совершать не только в Новгороде, Пскове и Москве, но и во всех городах Руси. В Москве в течение лета вечерние крестные ходы дважды приходили в Успенский собор Кремля, а в остальные недели сходились к соборным храмам. В неделю Всех святых и в неделю перед Воздвижением священники и диаконы приносили кресты и выносные иконы своих соборных церквей «на похрестие» в Успенский собор Кремля к митрополиту. По исполнении заздравного молебна соборяне знаменовались у Владимирской иконы Богоматери, и митрополит благословлял их воздвизальным крестом. Он, в свою очередь, знаменовался у принесенных соборянами икон и целовал воздвизальный крест каждого собора. От недели Всех святых и до недели перед Воздвижением каждую неделю вечером священнослужители шли крестным ходом «на похрестие» в соборную церковь своего собора, где их вместо митрополита подобным образом встречал протопоп (его называли поповским старостой). Из описания видно, что символом собора священнослужителей был воздвизальный крест их соборной церкви, наряду с выносной иконой и запрестольным крестом. Позже к отличительным символам присоединилась соборная хоругвь. Соответственно, запрестольный в воздвизальный кресты, выносная икона и хоругвь определяли лицо каждого прихода. Воскресные крестные ходы были отменены церковной реформой патриарха Никона.

Рис. 6. Торжественная встреча князя Всеволода крестным ходом во главе со св. епископом Симоном. Миниатюра Радзивилловской лицевой летописи конца XV века
Когда святительский крестный ход приближался к монастырю, то из ворот монастыря навстречу выносили воздвизальный крест на блюде. Святитель «благословит себе крестом и властей… и того монастыря игумена и священников и диаконов, которые в облачении, а братию благословляет рукою»151.
Напрестольные кресты, согласно определенной в Византии церковной символике и сформулированной Симеоном, архиепископом Фессалоникийским, передавали образ орудия Христова подвига. Поэтому большинство древнерусских напрестольных крестов сделаны восьмиконечными. Они были деревянные или деревянные и покрытые окладом. Оклады применяли бронзовые, серебряные или золотые. Обратим внимание на то, что кресты изготовлялись из дерева не в целях экономии средств, а в воспоминание Крестного Древа Христа. Многие древнерусские приходские церкви и даже монастыри имели простые деревянные напрестольные кресты обычной восьмиконечной формы. В 1363 году преподобный Сергий Радонежский дал деревянный напрестольный крест на основание Ростовского Борисо-Глебского монастыря первосторителям Федору и Павлу. В середине XVIвека крест был оправлен басменным серебром с небольшим литым изображением Распятия Христова и тремя дробницами152. Подобные воздвизальные кресты в серебряном позолоченном окладе XVI века хранятся в собрании ГИМа153 и во многих других собраниях.
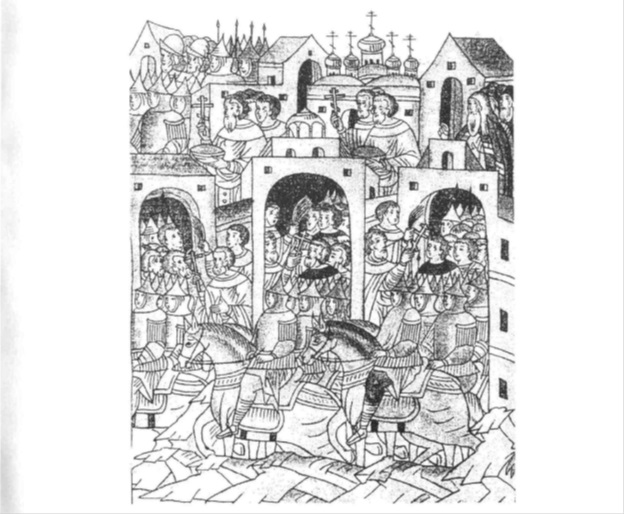
Рис. 7. Благословение войска великого князя Дмитрия в воротах Московского Кремля. Миниатюра летописного лицевого свода XVI века
Использование напрестольных крестов в крестных ходах отражено на миниатюрах летописей. В Радзивилловской летописи на миниатюре о встречи князя Всеволода крестным ходом из Золотых ворот Владимира князь прикладывается к восьмиконечному воздвизальному кресту154 (рис. 6). На миниатюре летописного лицевого свода о проводах в Кремле войска великого князя Дмитрия на Куликово поле воинов окропляют св. водой и благословляют восьмиконечными напрестольными крестами155 (рис. 7).
Причина проведения крестного хода влияла на то, какой формы запрестольный крест носили в шествии. Большинство древнерусских крестных ходов совершали с четырехконечными запрестольными крестами с дисками или ромбами на концах. Восьмиконечные запрестольные кресты получили распространение с XV века. В святительских крестных ходах Новгорода и Владимира использовали широкополосные шестиконечные удлиненные воздвизальные кресты, специально назначенные для святительского богослужения. Напрестольные кресты в праздничных крестных ходах носили на блюде. Когда в соборную церковь приходил крестный ход другого собора, то на «похрестии» благословляли воздвизальными крестами друг друга. Деревянные восьмиконечные напрестольные кресты заключались в металлические оклады, чаще всего – серебряные. Соборные запрестольный и воздвизальный кресты, выносная икона и хоругвь были символами собора священнослужителей (сорока). Запрестольный и воздвизальный кресты, выносная икона и хоругвь приходской церкви определяли лицо прихода.
В. Г. Пуцко. Византийско-русские бронзовые богослужебные кресты XII–XIII веков
При общем взгляде на произведения христианской металлопластики, выполненные на Руси до монголо-татарского нашествия, бросается в глаза наряду с их своеобразной «серийностью» присутствие довольно оригинальных, если не совершенно уникальных изделий. Нет уверенности в том, что опубликованы все старые находки и своевременно вводятся в научный обиход новые. Поэтому осуществляемые опыты обобщения известного на сегодняшний день материала могут иметь лишь предварительный характер. Соответственно, любой перечень образцов оказывается заведомо неполным, поскольку весьма трудно сразу охватить все раритетные образцы, особенно в труднодоступных музейных и частных коллекциях.
С учетом этого обстоятельства представляется возможным показать здесь лишь группу бронзовых литых крестов, условно относимых к типу епископских и киотных, а в одном случае – процессионных. Они изучены далеко не в равной степени. В это ряд, однако, не включены те, которые служили деталью каких-либо предметов церковной утвари и, следовательно, не являлись самостоятельным изделием.
1. Крест из Аксманич, 1181 год
В национальном музее во Львове хранится бронзовый крест с надписями и датой (инв. № ДМ-634), найденный 8 декабря 1911 года при корчевании леса в окрестностях с. Аксманичи (или Яксманичи) и подаренный священником П. Ступницким, о чем сообщила газета «Дiло» в 1912 году. Находка впервые воспроизведена в путеводителе по музею, составленном И. С. Свенцицким, где крест определен как епископский156. Упоминания об изделии встречались в литературе и позже157. В. М. Петегирич впервые локализовал место находки, приведя аргументы в пользу того, что крест обнаружен не вблизи с. Яксманичи, в двадцати километрах на север от Добромиля, а возле с. Аксманичи, в 13 км на северо-запад, где в лесу, со стороны с. Клоковичи, находится городище, открытое польскими археологами; исследователь дает детальное описание креста, особо уделяя внимание истолкованию его надписей, и приходит к выводу о том, что своим происхождением этот епископский крест связан с находящимся в 11 км на северо-восток Перемышлем158. Об этом кресте приходилось вспоминать и нам, в связи с его формой, идентичной византийскому воздвизальному , получившей распространение на Руси159.
Бронзовый шестиконечный, «двораменный» крест, размером 23,2х10,3х0,8 – 1,7 см, с обоих сторон гладкий, с немного расширяющимися концами и с заметным утолщением внизу. На лицевой стороне в перекрестьи нанесены две пересекающиеся линии, имитирующие перевязь, связывающую мачту креста и его нижнюю, большую перекладину, тогда как в верхнем средокрестьи прочерчен шестиконечный крест с монограммами Христа, нанесенными на концах верхней или малой перекладины – с хс вверху лигатура НИ ниже – КА образующие вместе НИКА . Перевод этого греческого слова дает надпись большой перекладины: ПОБЕДА НА БѣСЪ (рис. 1).Ниже перекрестья, над рукоятью: ҂ЅӨПХ что было расшифровано И. С. Свенцицким как обозначение 6689, соответствующее 1181 году. Для этого две верхние цифры надо прочитать слева направо, повернув крест вправо рукоятью, а нижние по вертикали снизу вверх. Своего рода разновидность тайнописи, не имеющая известных аналогий. Однако этот вариант прочтения оказывается единственно приемлемым. Так, если применить чтение по вертикали, оставив без объяснения знак Х в числовом отношении соответствующий 600, получим 1072 год, противоречащий эпиграфическим признакам надписи. Остановимся на некоторых из них, наиболее показательных.
Особенность графической формы а с вогнутой спинкой зафиксирована на памятниках, встречающихся начиная с первых десятилетий XII века (новгородский кратир Братилы, 1-й Борисов камень, около 1128 г.)160. Мягко округленная петля а в НА хотя и представлена уже в надписи 1068 года на Тмутараканском камне161, – широко входит в употребление только с начала XII века. Поскольку в трех различных написаниях встречаются неодинаковые начертания а естественно, приходится учитывать наиболее позднее из них. В обоих встретившихся случаях Б довольно архаичное по своей форме. Зато Д с плоским крышкообразным завершением с широкой нижней частью, снабженной обращенными концами к средине лапками, – признак надписей третьей четверти XII века. Одна из них украшает знаменитый крест преп. Евфросинии Полоцкой, 1161 года162. По сравнению с ней на кресте из Аксманич нет существенных отличий, которые отодвигали бы датировку к более позднему времени. Напротив, присутствуют старые начертания К и нН но они не решают вопрос о датировке. Таким образом, вывод И. С. Свенцицкого остается в силе.

Рис. 1
Цитированная надпись ПОБЕДА НА БѣСЪ заслуживает внимания не только в качестве указания на символическое значение креста как духовного оружия, но и со стороны написания, фиксирующего определенную фонетическую норму славянского произношения. Как признак древнерусского извода следует отметить ПОБЕДА вместо ПОБѣДА свойственного южнославянским текстам163. Перенесенная на бронзовый крест формула заимствована из апокрифической «Похвалы кресту», широко представленной в славянской рукописной традиции164. Она отчасти перекликается с текстом, начертанным на каменном поклонном кресте, датируемом около 1164 года, прежде стоявшем около церкви Покрова на Нерли165. Попутно надо заметить, что на ранневизантийских крестах обычно встречаются надписи с молением оспасении заказчиков166.

Рис. 2
Бронзовый крест из Аксманич, определенный И. С. Свенцицким как епископский, типологически подобен воздвизальным, хотя, в отличие от них, не имеет ни сюжетных изображений, ни, разумеется, каких-либо ювелирных украшений. Шестиконечная форма креста в Византии известна уже по изображениям на монетах императора Юстиниана II (685–695, 705–711), но период ее наиболее широкой популярности приходится преимущественно на XII век, что столь наглядно показывают кресты-реликварии и ставротеки167. На Руси кроме уже упомянутого креста 1161 года известны новгородские воздвизальные кресты XII–XIIIвеков, иногда со следами более поздних переделок168. Они обычно с прямыми рукавами, неимеющими расширений на концах, подобно бронзовому кресту 1181 года. Последний в этом отношении скорее может быть соотнесен с изображением на каменном рельефе конца XII или первой четверти XIII века, вмонтированном в 1219 году в кладку фронтона западного фасада притвора Столпов св. Георгия в Будимле169. В сущности, сохранилась лишь верхняя часть первоначальной композиции с отчасти поврежденным рельефным крестом, по сторонам которого вверху – фигуры двух ангелов, а ниже – памятные славянские надписи с именами усопших (рис. 2).
Крест 1181 года, несомненно, принадлежит к типу ручных, ранее обычно носимых епископами и священниками при совершении богослужения. Рудиментом этого обычая на восточных землях Украины до самого последнего времени оставался крест в руке священника, когда он совершал отпевание умершего или панихиду. В регионе Перемышля, рассказывают, священник имел крест всегда, независимо от того, что ему предстояло служить. Сказанное касается треб.
2. Крест из Галича
В 1882 году Л. Лаврецким и И. Шараневичем была раскопана в Галиче церковь Спаса170. В руинах обнаружены бронзовые кресты-энколпионы и два креста-тельника, а также фрагмент бронзового креста с рельефными изображениями, оказавшийся собственностью священника с. Залуквы Льва Лаврецкого. В 1888 году это произведение было экспонировано на археологическо-библиографической выставке в Ставропигийском институте во Львове171. Миниатюрное воспроизведение находки на одной из фототаблиц, изготовленных в весьма ограниченном количестве, не позволяет охарактеризовать с желаемой подробностью это неизвестное ныне в оригинале изделие (рис. 3). Можно лишь отметить, что по типологическим признакам следовало бы предполагать выполнение скорее всего на рубеже XII–XIII веков. Сохранилось, однако, произведение металлопластики более позднего времени, являющееся репликой модели галицкого произведения: это известный крест преп. Авраамия Ростовского, ныне принадлежащий Государственному музею-заповеднику «Ростовский кремль», куда он поступил из Ростовского Богоявленского Авраамиева монастыря172.

Рис. 3
Крест шестиконечный, с рельефными изображениями с лицевой стороны (рис. 4). Кроме крупной массивной фигуры распятого Христа на выделенном рельефом крестном древе с табличкой вверху, помеченной крестиком, на всех концах, кроме нижнего, расположены медальоны с погрудными изображениями предстоящих Богоматери и Иоанна Богослова (рис. 5), двух архангелов и ангела с мерилом в правой руке (рис. 6). Изображение архангела Михаила и Гавриила явно надо понимать как относящиеся к их изображениям в моленной позе, на концах верхней перекладины. Под Распятием вместо обычной для византийских изображений «главы Адама» характерная для романских памятников человеческая маска – олицетворение Земли. Надписи обычные, но в формуле ІС ХС НИКА последнее слово не разделено на два слога173. Имена архангелов соответственно имеют форму МИХАИЛЪ и ГАВРИЛЪ нетипичную для Северо-Восточной Руси, но весьма обычную для западных украинских земель. Криптограмма над Распятием не находит соответствий среди учтенных исследователями174.

Рис. 4
По преданию, описываемый крест получен преп. Авраамием на берегу р. Ишни, в окрестностях Ростова, на том месте, где стоит деревянный храм в честь св. Иоанна Богослова, вручившего этот крест. Данный сюжет только в XVIIвеке становится известным как иконографическая тема175. В середине этого столетия впервые изложено в пространной редакции жития преп. Авраамия о прежде хранившейся при его гробе «Трости», увенчанной крестом, которую якобы Иван Грозный «взя на победу и одоление Казанского царства», и лишь со второй половины XVIIстолетия начинают приобретать известность связанные с именем подвижника реалии, в томчисле и упомянутый крест176. Жезл же или «трость» – для сокрушения преп. Авраамием стоявшего в Ростове изваяния языческого бога Велеса. С подобными крестами на длинной рукояти, как известно, представлены на монетах и миниатюрах византийские императоры различных периодов177. Причем на монете Никифора IIФоки (963–969) изображена вручающей шестиконечный крест Богоматерь. Следовательно, иконографический мотив уже был известен, и оставалось его лишь переосмыслить применительно к местным условиям. Датировка креста преп. Авраамия долго оставалась загадочной, и в свое время такой крупный языковед, как И. И. Срезневский, относил его ко времени около 1125 года лишь на том основании, что подвижник был современником Владимира Мономаха178.
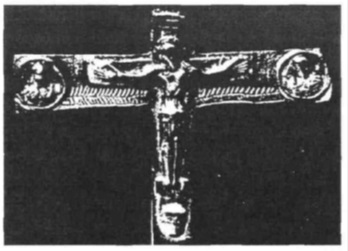
Рис. 5
Однако литературные сведения о преп. Авраамии Ростовском очень противоречивы. Уже В. О. Ключевский, изучавший три редакции жития, пришел к заключению, что источником первой из них, нестройной и составленной не раньше XVвека, оказалось устное предание, а мало знающий составитель второй редакции смешал основателя ростовского монастыря с Авраамием Чухломским179. Различные перипетии, сопровождавшие составление жития в XVI–XVII веках, детально освещены М. И. Соколовым180.Здесь стоит особо обратить внимание на начальную фразутретьей редакции: «о родословии чюдотворца Авраамия в прежде написанном житии его токмо возвещено от предел Галицких града нарицаемого Чюхлома»181. Легендарный характер сведений о преп. Авраамии Ростовском отмечал А. П. Кадлубовский182. Е. Е. Голубинский, исходя из сомнительных известий жития, находил логичным передвинуть описанные в нем факты к концу XIVвека и отождествить самого Авраамия с игуменом Богоявленского же монастыря в РостовеАвраамием Низким, сопровождавшим в 1385 году митрополита Пимена при его путешествии в Константинополь183. Прообразом легендарной трости Иоанна Богослова исследователь считал виденный некогда Антонием Новгородским в императорском дворце «посох железен, а на нем крест Иоанна Крестителя», который мог вывезти этот игумен184. Сохранившийся отливок креста по эпиграфическим признакам резных сопроводительных надписей следует датировать именно XIVвеком. Распятие, между тем, находит типологические параллели в византийских рельефах из слоновой кости, датируемых X–XII веками, и в том же материале можно найти аналогии для погрудных изображений архангелов185. Сходные медальоны с образом архангела Михаила, как уже было замечено, есть на крестах константинопольского происхождения186. Олицетворение Земли в подножии Распятия, иногда с сопроводительной надписью: TERRA, более характерно для романской пластики187.
Достаточно взглянуть на живописный рельеф массивных и с как бы заплывшими деталями изображений ростовского креста, чтобы понять, что это копия более раннего оригинала, столь органично соединившего иконографические и стилистические черты византийского и романского искусства (рис. 5, 6). Это слияние отличает продукцию наиболее элитарных константинопольских мастеров около 1200 года, следы деятельности которых прослеживаются в начале XIIIвека также в Киеве188. Фрагмент бронзового рельефного креста, найденный в Галиче, даже при всей своей неудовлетворительной сохранности (рис. 3), исключительно важен в том отношении, что позволяет говорить об изяществе утраченного оригинала ростовской копии XIVвека. Это заметно прежде всего по фигуре распятого Христа, а отчасти и по бюстам предстоящих, в медальонах, обрамление которых имитирует жемчужную обнизь. Но, с другой стороны, не будь этой копии, – оказалось бы невозможным представить первоначальный вид изделия, пластические качества которого сегодня понятны все-таки относительно (рис. 4).
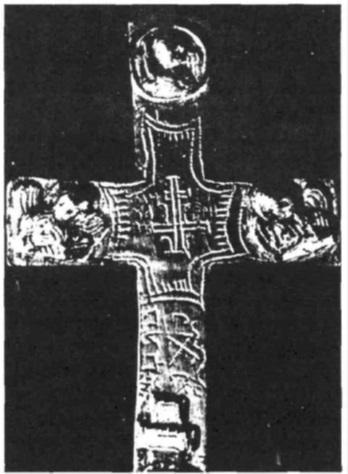
Рис. 6
Смутный слух о происхождении преп. Авраамия Ростовского «отпредел Галицких», по-своему истолкованный поздним составителем его жития, находит подтверждение при сопоставлении галичского и ростовского крестов. С последним местное предание связывает уничтожение преп. Авраамием изваяния Велеса, «скотьего бога»189. Другое – рассказывает о том, как, желая Авраамию «спону сотворити водою», дьявол залез в умывальницу, но преподобный предусмотрительно накрыл ее крестом, и бес долго мучился «крестною силою жегом в сосуде, не могый изыти». Источником легенды о заключенном бесе, распространенной в христианских сказаниях Востока и Запада, как показал в своем исследовании Н. Н. Дурново, явились древнееврейские сказания о власти Соломона над бесами, в число которых входил и рассказ о том, как Соломон запечатал бесов в сосудах190. В византийской повести об авве Лонгине бес залезает в чашу с водой, и то же происходит с русскими святыми, искушаемыми бесом, – Иоанном Новгородским и Авраамием Ростовским, каждый из которых в таком случае кладет крест поверх сосуда191. Тем самым как бы подтверждается справедливость изречения, начертанного на кресте 1181 года из Аксманич. Происхождение модели галичского креста, с учетом всего сказанного, связывается именно с началом XIIIвека.
Остается еще заметить, что крест преп. Авраамия Ростовского пользовался большой популярностью у русских старообрядцев, о чем свидетельствуют его воспроизведения в литье XVIII–XIXвеков, иногда тоже рассматриваемые в качестве достопримечательностей192. Рельефные изображения на них только по иконографии напоминают оригинал, тогда как характер моделировки уже в духе новых эстетических вкусов. Не соблюдена, конечно, в сопроводительных надписях орфография образца. Зато на рукояти появилась пространная надпись следующего содержания: «Сей крест в граде Ростове во Аврамиеве монастыре св. Иоанном Богословом дан преподобному Авраамию победити идола Велеса, при князе Владимире. Преставися Авраамий в лето 6518; зри о сем в пролозе октября 29 дня» (рис. 14).
3. Киотный крест из Херсонеса
Шестиконечный меднолитой крест, разм. 24,0х9,5 см и толщ. 0,4 см, обнаружен при раскопках квартала XVIIСеверного района Херсонеса в 1940 году, а его публикации начались только десять лет спустя193. В литературу он вошел как произведение металлопластики первой половины XIIIвека. Была сделана попытка соотнести крест с русскими изделиями194, определено его место среди синхронных памятников, с привлечением ранее неизвестных в литературе фрагментов аналогичных экземпляров195. Рассмотрен крест и в контексте развития византийско-киевской металлопластики начала XIIIвека196. Наконец, выявлена группа стилистически схожих изделий, обязанная индивидуальной манере выполнившего их мастера197.

Рис. 7
Крест отлит в односторонней форме и предназначен для укрепления на плоскости: возможно, он был врезан в доску, чему не противоречит выполнение части его изображений в технике прорезного литья (рис. 7). Плоскость креста в значительной мере заполняет центральная крупная фигура распятого Христа удлиненных пропорций, с тонкими, прогнутыми в локтях руками и несколько изогнутым торсом, с головой склоненной к правому плечу. Бедра покрыты длинной, собранной в мелкие мягкие складки повязкой, доходящей до колен; изогнутые в коленях ноги соединены пятками. Крестное древо обозначено лишь вверху (на дощечке монограммы Христа) и внизу (с наклонной перекладиной-подножием). Под большой перекладиной слева размещена входящая в композицию Распятия опирающаяся на кронштейн фигура скорбящей Богоматери. Справа ей соответствовала фигура Иоанна Богослова, здесь не сохранившаяся, но теперь реконструируемая благодаря находке на городище близ Шепетовки (рис. 8). В верхней части креста представлена Этимасия, по сторонам которой находились прорезные полуфигуры двух поклоняющихся ангелов (сохранилась одна). В иконографическую схему включены также рельефные изображения семи избранных святых, из которых шесть поясные: на верхней перекладине представлены князья Борис и Глеб, святители Василий Великий и Григорий Богослов, со славянскими сопроводительными надписями в «зеркальном» виде. На концах большой перекладины погрудные изображения апостолов Петра и Павла, с аналогично выполненными их именами. Над простертыми руками распятого Христа имена скорбящих архангелов Михаила и Гавриила, прорезные полуфигуры которых связаны с большой перекладиной. Под Распятием фигура в рост святителя, определяемая сопроводительной колончатой надписью как Лазарь; фрагментарно сохранившаяся эта деталь из городища близ Шепетовки имеет более четкий рельеф, как и расположенная над ней изображенная в профиль голова Адама (рис. 8).

Рис. 8
Уплощенный рельеф перечисленных изображений, украшающих этот крест, отличается удивительной пластичностью, объяснимой высоким мастерством автора каменной литейной формы. Тонко моделированы мышцы распятого Христа, лики Богоматери и Иоанна Богослова, складки их одежд. Сопроводительные надписи на каменную основу нанесены были, разумеется, в «позитивном» виде, как и на известных киевских крестах-энколпионах, образцы которых, надо отметить, обнаружены в Херсонесе вблизи от описываемого изделия. Представленные на киотном кресте вселенские святые и столь почитаемые на Руси князья Борис и Глеб изображены в соответствии с иконописными оригиналами.

Рис. 9
Отсутствие в херсонесском экземпляре креста фигуры Иоанна Богослова логичнее всего отнести на счет ее механической утраты, как и одной полуфигуры ангела. Но, как это ни удивительно, без этой фигуры оказался и бронзовый крест, хранящийся в Археологическом музее в Киеве, некогда обнаруженный на глинобитном полу под развалом стен дома в Судаке198 (рис. 9). Он менее качественного литья и, похоже, отлит в глиняной форме с использованием в качестве модели херсонесского, с более четким рельефом. Судакская находка имеет вид отчасти деформированного изделия, более узкого во всех своих частях, с как бы заплывшей поверхностью. Детали аналогичных херсонесскому киотных крестов были найдены на Княжей Горе близ Канева199, при раскопках Воскресенской церкви в Переславле и, как было уже сказано, на городище близ Шепетовки200. Этот перечень на сегодняшний день определяет ареал распространения киевской металлопластики в начале XIIIвека, правда включающий еще галицко-волынские земли.

Рис. 10
Все существенные особенности иконографии и стиля херсонесского киотного креста находят параллели в византийских памятниках пластического искусства рубежа XII–XIIIвеков, а манера исполнения не оставляет никаких сомнений в том, что это изделие весьма квалифицированного константинопольского ремесленника. Этому не противоречат воспроизведенные в зеркальном виде славянские сопроводительные надписи с эпиграфическими признаками раннего XIIIвека. Изделие изготовлено в Киеве вскоре после захвата византийской столицы крестоносцами в 1204 году, когда здесь оказались и первоклассные резчики по камню201.

Рис. 11
В отличие от многочисленных крестов-энколпионов с рельефными изображениями и надписями, тип киотного креста скорее остался в стадии художественного эксперимента, как, впрочем, и ряд иных моделей художественного литья, связанных с работой в Киеве в начале XIIIвека византийских мастеров.Предмет был явно дорогостоящим, и уже по этой причине его изготовление не могло носить массовый характер. Обнаружение судакского экземпляра, возможно, указывает на принадлежность херсонесского бракованного изделия к реквизиту мастера-литейщика, стремившегося наладить на новом месте производство. О том, каким мог оказаться этот реквизит, дает представление кладовая византийского ювелира-литейщика, открытая в 1981 году в Галиче202.
Для того чтобы более наглядно представить место описываемого киотного креста из Херсонеса в развитии византийско-киевской пластики начала XIIIвека, надо, с одной стороны, сравнить его с классицирующей резьбой камеи из яшмы, разм. 6,5х6,0 см, выполненной около 1200 года, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне (рис. 10), а с другой – с бронзовым крестом-энколпионом начала XIIIвека, найденным между Княжей и Марьиной горами в Приднестровье (рис. 11). Первое из упомянутых произведений традиционно относят к IX–Xвекам203. Действительно, его композиция отчасти напоминает по общему характеру и несколько массивным фигурам рельефы из слоновой кости Xвека204. Но в то же время трудно не заметить существенные стилистические отличия, которые вряд ли можно приписать проявлениям индивидуальной манеры резчика. Тем более что они сближают эту камею с иной, хранящейся в Венеции, первоначально принадлежавшей византийскому императору Алексею IVМурчуфлу, соответственно датируемой около 1204 года. Крест-энколпион с рельефными изображениями Распятия и скорбящего Иоанна Богослова с херувимом и серафимом можно охарактеризовать как свидетельство дальнейшего развития тенденций, определяющих художественный строй рельефных фигур киотного креста. Распятие с изогнутым торсом и неестественно тонкими, прогнутыми в локтях руками, надо сказать, выполнено более ремесленно. Подчинив фигуру пропорциям креста, мастер слишком удлинил руки, не соотнеся их с рисунком тела. В верхней части изображение Этимассии более схематизированное, чем на киотном кресте. Изображение же апостола изысканных пропорций тонко моделированное, и только при детальном сопоставлении с изображением на лицевой створке креста-энколпиона приходится убедиться, что они выполнены той же самой рукой205.
Если говорить о стилистическом сходстве среди иных образцов в византийско-киевской металлопластике, то, безусловно, надо указать на кацею, известную по находкам из Изяславля, Херсонеса и Чернигова206. Она украшена находящимся на фигурной ручке поясным изображением Христа Пантократора, а ажурная крышка имеет медальоны с деисусной композицией и погрудным образом апостола. Опять-таки ареал распространения соответствует отмеченному обнаружением фрагментов киотного креста.
4. Крест из Василёва
Отлитый из бронзы крест, по высоте достигающий 32 см, был обнаружен в 1959 году при раскопках храма рубежа XII–XIIIвеков на территории средневекового города Василёва, в селе того же названия (Заставнянский район Черновицкой области), в подкупольном пространстве среднего нефа, и в 1961 году воспроизведен вместе с деталями хороса в статье об этой постройке207. Временами о находке упоминали в литературе, но специальной публикации изделие так и не дождалось, хотя его уникальность, казалось бы, является совершенно очевидной208.

Рис. 12
Собственно группа Распятия невелика по размерам, составляя примерно половину высоты изделия, имеющего снизу длинную ручку, снабженную «яблоком» и заканчивающуюся незначительным раструбом, предназначенным для насадки скорее всего на деревянный стержень. Из этого можно сделать вывод о функциональном назначении креста в качестве процессионного креста имело место в украинской церковной практике еще в середине XVII века, о чем можно судить по изображению гравюры Требника Петра Могилы, напечатанного в 1646 году. Такого же типа изделие на одной из иллюстраций киевского издания 1658 года книги Сильвестра Коссова «Столп цнот знаменитых». Но к указанному времени форма креста стала совершенно иной.

Рис. 13
Упомянутый крест из Василёва (рис. 12) по своей общей типологии может быть назван схожим с уже рассмотренным крестом из Херсонеса (рис. 7), тогда как во всем остальном обнаруживает существенные отличия. Иные иконография, состав изображений, их пропорции, стиль. Общее впечатление таково, что стилистически он ближе к произведениям романского пластического искусства. Однако приходится признать, что фактически сходство этого изделия с образцами романской сакральной металлопластики весьма незначительно209. Романские бронзовые кресты обычно имеют накладные литые фигуры распятого Христа. В стилистическом плане рельеф василёвского креста скорее может быть приближен к бронзовым византийским иконам романизирующего стиля, начала XIIIвека, происходящим из Раковца в Воеводине210. В сущности, это памятники одного художественного круга, хотя и обязанные своим происхождением различным мастерам. Романизирующие тенденции указанного периода в какой-то мере затронули и греческую каменную резьбу малых форм. Здесь не является исключением и уже упомянутая камея с изображением Распятия в Лондоне (рис. 10). Но, может быть, это несколько отчетливее выражено в более многофигурной композиции Распятия на каменной иконке, рам. 14,0х13,0 см, в Византийском музее в Афинах211. Мастер бронзового креста из Василёва, надо заметить, остается в целом на традиционных позициях, хотя его при этом нельзя назвать представителем воссоздаваемого классицирующего направления, свойственного более элитарным, столичным по происхождению произведениям.
По сравнению с киотным крестом из Херсонеса, здесь композиция Распятия кажется шире, а фигуры, соответственно, выглядят как довольно грузные, с тяжелыми массивными головами. Иконографическая схема ближе всего к представленной в византийских иконах монастыря св. Екатерины на Синае, написанных для крестоносцев, а также в миниатюре миссала в Перуджии212. Для нее особо показательными служат позы предстоящих у креста, а также скорбящих ангелов с недоуменными жестами. Подчеркнуто низко склонена голова юного Иоанна Богослова. Особо должна быть отмечена тонкая пластическая моделировка лиц и складок одежд, столь удаленная от более привычной для русских ремесленников графической линейной манеры, в которой обозначены большей частью все детали. Не будет преувеличением считать, что, казалось бы, вопреки отмеченной массивности фигур, исполнение рельефа по сути выдается утонченностью. Мастер тщательнейшим образом прорабатывает каждую деталь, широко и при этом не очень заметно применяя резец. Им он очерчивает обрамление креста и таблички с монограммами Христа, усиливает линии и, наконец, осуществляет разделку нимба вокруг головы распятого Христа, кстати, не имеющего обычного в византийской иконографии крестовидного обозначения. Это усиливает подозрения насчет отмеченных элементов, приближающихся к романизирующему течению художественного стиля. Заметно стремление подчеркнуть характер прорезного литья, для чего введены маленькие просветы на фигурах Богоматери и ангелов, скорее воспринимаемые как отверстия для крепивших пластину штифтов.
Безусловно, одна из самых существенных особенностей креста из Василёва служит помещение фигур предстоящих Богоматери и Иоанна Богослова на ответвлениях в виде трилистников, соединенных с дугообразными креплениями консолей. Эта усложненная конструкция, по сравнению с отличающей киотный крест из Херсонеса, где короткие прямые

Рис. 14
консоли заканчиваются трилистниками, вероятно, должна быть поставлена в связь все-таки с западными крестами XII–XIIIвеков. Среди них два креста из монастыря св. Трудберта во Фрейбурге, а также хранящихся ныне в Государственном Эрмитаже происходящий из той же обители на Бресгау известный Фрейбургский крест, третьей четверти XIIIвека213. Здесь, однако, необходимо заметить, что речь идет лишь об общем сходстве основного типа, но не изображений, состав которых оказывается различным. Тем не менее высказанные замечания, думается, исключают правдоподобность относительно причастности к выполнению василёвского креста киевских либо галичских мастеров. Не о том ли свидетельствует и фрагментарно сохранившийся галичский крест вместе с его более поздней ростовской репликой?
Судя по следам поздних чинок, выполненных в первой половине XIIIвека, василёвский крест служил не одно столетие. Другие отливки по этой модели нам неизвестны. Тем более примечательным является появление в Новгороде на рубеже XIII–XIVвеков разных каменных крестов этого же типа, с подобными дугами ответвлений (рис. 13), хотя переданными совершенно иначе214. Здесь кроется своя загадка, поскольку находки описанных изделий пока в этом регионе не зафиксированы. Правда, такие бронзовые кресты могли быть в древности и в Новгородской земле.
Д. В. Пежемский. Новгородский серапионов крест
В начале 1860-х годов в научную литературу были введены данные о новгородском каменном кресте, которому суждено было стать одним из самых загадочных ставрографических памятников215. Чаще всего он именуется Молотковским, что не совсем верно. Дело в том, что до начала XIXвека этот крест находился в кладке стены Спасской церкви на Красном поле близ Новгорода и только около 1810 года, при ее упразднении, был перенесен вместе со всей церковной утварью в городской храм Рождества Богородицы на Молоткове и вмонтирован в стену его западного придела. В настоящее время крест изъят из кладки во избежание порчи и находится в фондах Новгородского государственного объединенного музея.
Подробные описания Спасского (Молотковского) креста в литературе имеются216, поэтому здесь следует ограничиться лишь указанием на то, что это гранитный восьмиконечный крест (133х104 см), нижняя перекладина которого скошена слева направо, а основание имеет заметное расширение книзу. Одним из важнейших конструктивных элементов данного памятника является круг, символизирующий терновый венец. Лицевая поверхность несет на себе изображения и надписи, выполненные выемчатой резьбой. Концы креста снабжены медальонами с литерами: ІС / ХС / ЧРЬ / СЛАВ / НИ / КА / УСТРО / ЕНИЕ (рис. 1).Среди изображений наибольший интерес представляет резная икона Спас Нерукотворный, расположенная в верхней части ствола, на уровне верхней перекладины. В средокрестии и ниже него помещен семиконечный крест с кругом на двухступчатой Голгофе, по сторонам которого – копье и ветвь растения (вместо трости). Между иконой и голгофским крестом в XIX веке читалась греческая надпись, переводимая как «святой убрус». Расширяющееся основание креста несет на себе таинственную надпись в две строки, о которой будет сказано ниже. Уже с момента первой публикации данного креста возникли две большие проблемы – его датировка и прочтение надписи на основании. В настоящее время можно добавить к этому проблему функциональной атрибуции.
Хронологическая атрибуция – один из важнейших элементов анализа исторического (в том числе и археологического) памятника, но именно датировка зачастую становится неразрешимой проблемой. Для монументальных недатированных крестов это обычная ситуация. Сохраняется она и в случае с Молотковским крестом. Архимандрит Макарий датировал его временем около 1378 года, опираясь на дату постройки Спасской церкви, сообщенную Новгородской IIIлетописью217. На этом же
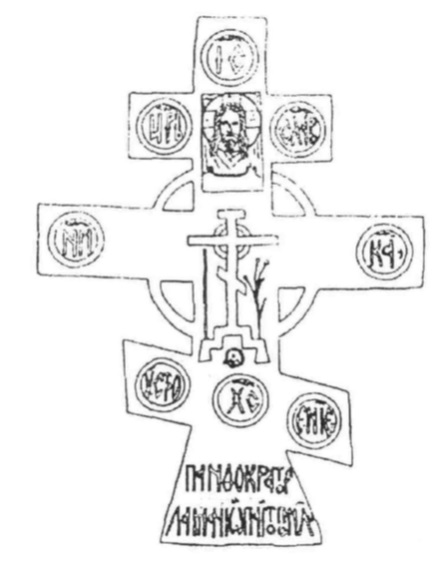
Рис. 1 Серапионов (Молотковский) крест
основывался И. А. Шляпкин, указывавший дату около 1379 года218. Более осторожно, за конец XIVвека, высказался А. С. Орлов219. Иную датировку предложил А. А. Спицын. Опираясь на морфологическое сходство Новгородского Чудного креста 1548 года с Молотковским, он датирует последний XVвеком220. Последовательность рассуждений известного археолога в данном случае восстановить сложно. Дополнительные исследования по Молотковскому кресту проводила Г. И. Матюшкина, которая датировала его серединой XVвека, используя следующие доводы: по ее мнению, «восьмиконечный крест получил широкое распространение именно в XVв.», а крест «на Голгофе со страстями» характерен для 30–40-х годов этого столетия221. В одной из последних публикаций, упоминающих данный крест, во избежание неточностей приведена широкая дата – XIV–XV
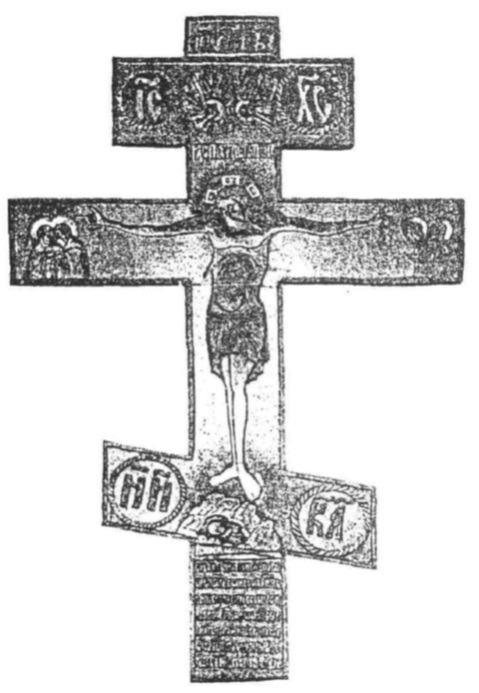
Рис. 2.Новгородский Чудный крест
века222. В таком состоянии находится проблема датировки Молотковского креста в настоящее время. Для того чтобы как-то продвинуться в этом вопросе, необходимо разобраться в аргументации предыдущих исследователей. Начнем с аргументов за датировку креста XVстолетием. А. А. Синицын обосновывает свою точку зрения ссылкой на Чудный крест 1548 года, стоявший в Новгороде близ Волховского моста (рис. 2). Сходство обоих крестов действительно имеется, особенно на уровне первоначального восприятия. При детальном же сравнении обнаруживаем некоторые различия в их пропорциях и конструкции. Так, верхняя часть ствола у Молотковского креста несколько длиннее, а Чудный крест не имеет круга. Тем не менее это не уменьшает значения тех черт, что объединяют оба памятника (например, медальоны на концах). Единственное, о чем все же не стоит забывать, это изъяны метода аналогий и недостаточность наших знаний о формах средневековых крестов. Ведь Чудный крест мог воспроизводить прототипы и более раннего времени, не обязательно лишь XVвека.
Возвращаясь к аргументации Г. И. Матюшкиной, следует признать, что ее указание на факт наибольшего распространения восьмиконечных крестов (как конструктивного типа) в XVвеке не вполне верно. Древнерусские материалы (фрески, иконопись, граффити, сфрагистика) позволяют уверенно связывать восьмиконечный крест, как минимум, с XIIвеком (вспомним лишь некоторые «новгородские» примеры: нифонтовский антиминс 1148 года223, композиции «Распятие» и «Сошествие во ад» фресковой росписи 1150-х годов из Спасо-Мирожского монастыря224, вкладную грамоту Варлаама Хутынского 1192 года225. Тем не менее в домонгольское время преобладал все же шестиконечный крест. Восьмиконечный крест присутствует в древнерусской культуре постоянно, но удельный вес таких памятников увеличивается от столетия к столетию, достигая максимума в XVIиXVIIвеках. Следовательно, нельзя говорить о XVвеке как о времени их наибольшего распространения. Далее, недопустимо датировать кресты «на Голгофе со страстями» только 1430–1440-ми годами. Во-первых, кресты (шестиконечные) на одно- и двухступенчатой Голгофе имеются среди граффити церкви Спаса на Берестове и датируются XII–XIIIвеками226. Восьмиконечными крестами на двухуступчатой Голгофе был украшен хорос начала XIIIвека из Старой Рязани227. О появлении и распространении Голгофских крестов с орудиями страстей можно судить по данным сфрагистики. Они появляются во второй половине XIVвека и продолжают существовать в XV веке228 – период, за который проходит некоторая эволюция и окончательное сложение иконографического типа, так хорошо известного по материалам XVI–XVIIстолетий. С этой точки зрения аргументы Г. И. Матюшкиной не имеют абсолютного значения, тем более при попытке датировать памятник узким хронологическим отрезком.
Значительно более логичный выглядит точка зрения архим. Макария и его последователей, предлагающих датировать крест годом постройки самой Спасской церкви (1378 год) и, следовательно, рассматривать его как храмозданный. Здесь следует указать на немаловажную деталь,
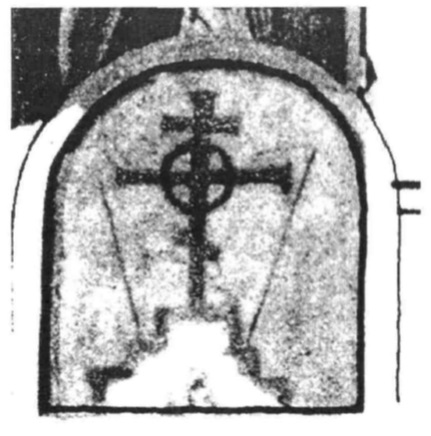
Рис. 3. Фресковое изображение Голгофского креста из церкви Спаса Преображения на Ковалеве
ускользнувшую от предыдущих исследователей, – основание Молотковского креста имеет длинный широкий шип, предполагающий его крепление в массивном стояке. Первоначально он не был помещен в кладку стены, на что указывает также тщательная теска и шлифовка его оборотной стороны. Данный факт не исключает храмозданной функции Молотковского креста, так как главным аргументом в пользу этого суждения является резная икона Спаса Нерукотворного Образа, помещенная на кресте. Вспомним, что храм на Красном поле был освящен не как Спаса Преображения, а как Спаса Нерукотворного Образа. К тому же Спас Нерукотворный – относительно редкий для русского средневековья иконографический сюжет, как собственно и посвящение. Таким образом, связь Молотковского креста со временем постройки Спасского храма становится все более тесной. Правда, никто не привел развернутого доказательства самой возможности отнесения этого креста к 1378 году. Попутно решается и проблема функциональной атрибуции Молотковского креста. Недавнее указание на его поклонную функцию229 может быть уточнено, первоначально крест был храмозданным.
Несмотря на «поздний» облик как самого Молотковского креста, так и Голгофского, расположенного в его средокрестии, для них невозможно назвать прямых аналогий (в том числе в материалах XVI–XVII веков). Тип

Рис. 4. Закладной каменный крест из церкви Рождества Богородицы в Порхове
семиконечного Голгофского креста вообще довольно редок, а тем более семиконечного креста с кругом. Близкую аналогию все же удается найти. В жертвеннике церкви Спаса Преображения на Ковалеве, фресковая живопись которой датируется 1380 годом, в нише северной стены изображен восьмиконечный крест с кругом на трехуступчатой Голгофе230. Следует обратить внимание не только на близость его конструкции к конструкции Молотковского Голгофского креста, но и на общность их пропорций (рис. 3). Менее близкую, но не менее важную аналогию дает каменный четырехконечный крест, вмонтированный в кладку колокольни церкви Рождества Богородицы в Порхове231. В его средокрестии вырезан семиконечный крест на одноуступчатой Голгофе, тип которого также очень близок к типу Молотковского по конструкции и пропорциям (рис. 4). Единственным его отличием является то, что это не крест с кругом (малым,

Рис. 5. Прорисовка фресковой композиции «Христос во гробе» из церкви Успения Богородицы на Волотовом поле
символизирующим венец), а крест в круге (ассоциирующийся с нимбом). Порховский крест датируется Вл. В. Седовым XIV–XV веками. Среди Голгофских крестов с орудиями страстей можно назвать и кресты конца XIV века, например, из церкви Успения Богородицы наВолотовом поле. Фрески этого храма датируются временем около 1390 года. Здесь, в восточной нише жертвенника, был изображен семиконечный крест, входивший в композицию «Христос во гробе» (рис. 5). Важно отметить, что он имел терновый венец на средокрестии, а не круг – его символический заместитель232. Как можно убедиться на основе приведенных аналогий, Молотковский крест вполне может быть датирован концом XIV века и даже 1378 годом, временем строительства Спасской церкви. Проблема только в том, что эта дата для данного храма была отвергнута еще в 1898 году В. С. Передольским233, мнение которого поддержали и современные исследователи234.
Как известно, Новгородская IIIлетопись, на сообщение которой о постройке Спасского храма опиралось большинство исследователей, грешит многими неточностями и под 6886 годом указывает: «поставиша церковь каменную святаго Нерукотвореннаго Образа, на Торговой стороне, яже близ града, на поле, Константин з братом Коровьяковичи»235. В данной летописной статье смешаны два разных сообщения. Начало этого текста связано с летописной статьей 6886 года (1378), Новгородской Iлетописи, где говорится: «Свершиша церковь камену святого Образа на Добрыни улице; и святи владыка Алексей с попы и с крилом святыя Софея, на праздник его»236. Вторая часть сообщения – искаженный текст статьи 6704 года (1196): «Заложиста церковь камену святого Кирила в манастыре в Нелезене Костянтин и Дмитр, братеника, а мастер бяше Коров Якович с Лубянеи улице»237. Таким образом, становится очевидной ошибочность даты строительства Спасского храма. Тем не менее письменные источники сохранили сообщение о его постройке, причем достаточно пространное. В Летописи Авраамки под 6971 годом (1463) читаем: «Того же лета заложиша церковь Святый Образ Господень на Поли, повеленьем и тщаньем раба Божиа тысяцкого Великого Новагорода Иякова Игнатьевича, словутнаго Лозьева; сий Яков ревнуя божиим рабом церковным строителем и милостивым к нищим, также желая раб Христов Яков церковь Божию устроити во имя Образа Господня нерукотворенаго во славу Божию и Образу Господню, а собе такоже в память в сей век и в будущей, и всякому творящему благая земная и воздаются им небесная, благословеньем пресвященнаго архиепископа Великаго Новагорода и Пскова владыке Ионы, месяца Мая 29, на святыя Троици день, на память святыя мученици Федосии девици преподобныя» и несколько ниже: «Того же дни (28 августа) священна бысть церковь Святыи Образ Господень на поли…»238
Приняв 1463 год как дату постройки церкви Спаса Нерукотворного Образа на Поле и считая Молотковский крест ее храмозданным крестом, можно уверенно завершить дискуссии о времени его создания. По иронии судьбы Г. И. Матюшкина, опираясь на совершенно иные данные, была наиболее близка к этой дате.
Теперь несколько слов о надписях. Под резной иконой Спаса Нерукотворного архим. Макарий зафиксировал надпись «то агиωннiiмандiлиωε», которую вполне уверенно читал по-гречески τό άγιον μαντίλιον и переводил как «святой убрус». Попутно он отметил, что надпись сделана с существенными ошибками, которые объяснил «незнанием каменописца». Надпись в две строки на основании креста архим. Макарий скопировал как «пандократорi || ламанiωпантопонила». Последние слова, с его точки зрения, «довольно затруднительны к уразумению», тем не менее он предпринимает попытку прочитать их по-гречески. По его версии, эта фраза должна была выглядеть как παντοκράτορι λαμάνιω παντο πονηλα и указывать на «истощание и тугу Спасителя под крестом».239 Греческие надписи и дата постройки Спасского храма на Поле (по его мнению – 1378 год) позволили архим. Макарию предположить, что создателем Молотковского креста был известный Феофан Грек, расписывавший в тот год церковь Спаса Преображения на Ильине улице240. В этой версии можно было усомниться сразу. Ведь Феофан, как «философ зело хытр», вряд ли бы высек греческие фразы с орфографическими и грамматическими ошибками, а если крест тесан не лично им, то он, по-видимому, должен был проконтролировать правильность текстов. Более того, надписи в медальонах креста (особенно ЧРЬ СЛАВ и УСТРОЕНИЕ) должны, вероятно, свидетельствовать в пользу того, что создатель креста был русским.
Как ни странно, но уже в 1907 году И. А. Шляпкин называет изучаемый крест Серапионовым241, хотя в печатном виде разъясняет все несколькими годами позднее. Оказывается, один из его студентов по фамилии Смирнов, применив премудрую литорею, прочел надпись на основании креста, только не по-гречески, а по-русски242. Достоверность этого факта была проверена Г. И. Матюшкиной, повторно дешифровавшей надпись как «Пандократора Сарапион наиконопсал». Выяснилось, правда, что в данном случае была применена простая, а не премудрая литорея243. Различного рода криптографические системы известны для древнерусских памятников с XII–XIII веков, но особенное их распространение приходится на конецXIV–XVвека, время наиболее интенсивного культурного влияния со стороны Балканского региона. «Простая литорея была известна в России, вероятно, с начала письменности; она употреблялась чаще всех других видов тайнописи…» – пишет В. Н. Щепкин244.
Дешифровка надписи не только персонифицирует автора креста (им оказывается некий Серапион), но и позволяет отметить еще одну любопытную деталь. Для начала обратим внимание на написание слова «пантократор». По-гречески оно пишется «παντοκράτορ», то есть через «τ» (тау), следовательно, по-русски должно было транслитерироваться через «т». Но в надписи на Молотковском кресте написано «пандократор», что на первый взгляд трудно объяснимо. Относительно этого факта А. А. Зализняк указывает, что византийцы уже в Х веке, имея на письме «τ», целый ряд слов произносили используя звук «д», а не «т»245. Этот небольшой факт позволяет дополнительно обосновать русское происхождение Серапиона. Византиец, произнося «пандократор», наверняка знал, что оно пишется как «пантократор». Только человек, воспринимавший греческую речь на слух, но не знавший греческого языка мог совершить подобную ошибку (либо он считал, что так будет более «по-гречески»). «Пристрастие» Серапиона к греческому языку становится очевидным уже на примере надписи «святой убрус», сделанной с ошибками. Все эти факты рисуют нам достаточно яркий, рельефный образ средневекового новгородца, более пятисот лет назад вытесавшего крест из гранитной глыбы.
Если задаться вопросом о том, кем мог быть мастер этого креста, то вряд ли удастся найти на него точный ответ. Тем не менее мы знаем о мастере Молотковского креста не так уж и мало. Известно его имя: Серапион. Время жизни: середина XVвека. Характерными его особенностями были книжная грамотность, тяготение к «греческой» (византийской) учености, осведомленность в криптографии, знакомство с лучшими иконографическими образцами своего времени. Для того чтобы попасть на страницы новгородских летописей, этих качеств, вероятно, было недостаточно. Летописи не знают такого персонажа, но имя некоего Серапиона сохранили другие новгородские источники. В 1431 году в пригородном Лисицком монастыре был создан Сборник с Поучениями Исаака Сирина (РГБ, ТСЛ 175), написанный двумя писцами. На л. 470 этого Сборника один из переписчиков оставил запись, сохранившую для нас время и место создания книги, а также его имя: «В ле(то) 6939 инди(к)[та] 9 м(с)ца иу(л)[я] 2 конца достиже книга стго Исака Сирина в обители Прч(с)тыя Бгомтре ч(с)тнаго ея рожь(д)ства на Лисичеи горке, в пределе Великаго Новаго гр(д)а иеромона(х) Серапион маза». Характерно, что после этой приписки следует тайнописный текст246. Хорошо известно, что Лисицкий монастырь был не только одним из крупнейших книжных центров конца XIV–XV века, но и главнейшим проводником второго южнославянского влияния в Новгороде247. В данном случае может быть не менее важным его непосредственное соседство с церковью Спаса Нерукотворного на Поле. Заманчиво было бы идентифицировать «каменописца» Серапиона с Серапионом Лисицким. Хронологические расчеты этому не противоречат. Если в 1431 году, например, в возрасте 25–30 лет, он участвовал в создании Сборника, то в 1463 году ему должно было быть около 60 лет- возраст хоть и почтенный, но вполне реальный. Персонологические изыскания – достаточно трудная задача, а найденные параллели, приводящие к идентификации или параллелизации исторических персонажей, зачастую оказываются зыбкими, но определенная польза от подобных исследований, безусловно, есть.
Подведем основные итоги. Серапионов (Молотковский) крест, скорее всего, был создан около 1463 года как храмозданный для церкви Спаса Нерукотворного Образа на Красном поле. Допустимо предположить, что автором его был иеромонах новгородского Лисицкого монастыря Серапион – один из переписчиков Сборника 1431 года (РГБ, ТСЛ 175).
И. А. Стерлигова. Священные вложения в новгородских напрестольных крестах XVI–XVII веков
После долгого вынужденного перерыва отечественные исследователи вновь обратились к истории почитания в Древней Руси святых мощей248, оказавшего глубокое влияние на многие стороны русской культуры.В этой связи интересны почти не публиковавшиеся надписи на серебряных напрестольных крестах, перечисляющие их священные вложения. Одновременно с подготовкой к изданию научного каталога новгородской богослужебной металлической утвари XVI–XVIIвеков, в котором эти кресты будут всесторонне описаны и воспроизведены249, мы сделали сводку таких надписей250, сопроводив их лишь минимальными комментариями. Надеемся, что она послужит ученым разных специальностей при дальнейшем изучении этой важной темы.
Напрестольный крест, повторяющий форму Истинного креста, найденного святой Еленой в Иерусалиме и воздвигнутого, чтобы его увидели все христиане, иерусалимским патриархом Макарием, издревле был не только иконой Голгофского креста, но, по возможности, и ковчегом для его частицы. Напрестольные кресты с частью Древа креста Господня пользовались особым почитанием в день Крестовоздвижения, как правило, отличались большим размером и более длинной рукоятью и назывались воздвизальными, но в документах упоминаются и небольшие воздвизальные кресты. Например, в начале XVIIвека на престоле московского Успенского собора находились: «крест воздвизальный, два креста воздвизальных невелики»251. Это показывает, что определяющими в классификации крестов были не размер или форма, а священные вложения. Создание таких крестов или несение их в особо торжественных крестных ходах отмечалось в летописях252. Как и византийских императоров, животворящий крест сопровождал русских государей в военных походах. В летописном известии о вступлении Ивана Грозного в 1552 году в Казань говорится, что перед царем «ехали воеводи и дворяне многие да з животворящим крестом Андрей протопоп (царский духовник. – И. С.)» и в Казани «…воссия… праведное солнце, само древо животворящее, животворящий крест…»253. На самом царском знамени с Нерукотворным Образом был «водружен животворящий Крест Господен еже бе у праордителя его государя нашего достохвального Великого Князя Димитрия на Дону»254. Наряду с частицей Истинного древа в напрестольные кресты вкладывались и другие мощи. В Древней Руси так называли частицы различных священных предметов, и это слово, употреблявшееся также в единственном числе (как в нижеприводимой надписи на кресте Евфросинии Полоцкой), не случайно было тождественно обозначению могущества, силы и крепости. Согласно Стоглаву – своду постановлений церковного собора 1551 года – «вдан от Христа крестьяном крест на освещение и просвещение, и на отогнание врагов, видимых и невидимых. И того ради православным святому кресту верою покланятися и истинною, и чистотою и того честнаго креста целовати со страхом и трепетом, и з чистою совестию, и целуай тако крест освящает себя от болезни, и от недугов всяческих исцелевает»255. Закономерно, что в эпоху Стоглава и позднее, вплоть до конца XVIIвека, напрестольный крест с мощами чаще всего именовался «животворящим»256. Сам составмощей – от связанных с ветхозаветными пророчествами о Сыне Божием до свидетельствующих о Его земной жизни и Страстях – отражал представления о домостроительстве спасения.В крестах-мощевиках осуществлялась непосредственная связь между двумя проявлениями Божественной воли – через Сына Божьего и через творящих чудеса Его святых, как древних, вселенских, так и недавно просиявших в данной епархии. Сама основа напрестольного креста была деревянной и являлась образом Крестного древа, а драгоценный оклад из золота или золоченого серебра с самоцветами и жемчугом способствовал прославлению Искупительной жертвы Спасителя. Частицы святынь были сокрыты в древе креста вспециальных замастикованных уклублениях, в большинстве случаев на их присутствие указывали лишь надписи на окладе оборотной стороны креста. Если оклад был чеканным или резным, надписи выполнялись непосредственно на его поверхности, если сканым или, как в большинстве случаев, басменным, – на отдельных серебряных дробничках. Басменные оклады крестов быстро ветшали, надписи утрачивались, и ныне вложения многих крестов стали «беспамятными». В расположении мощей, как правило, соблюдалась иерархия: в верхнее и в центральное средокрестие вкладывались частицы главных христианских святынь, прежде всего – Истинного креста, по сторонам и ниже – мощи святых в соответствии с их ликами, внизу – мощи святых жен, в самом конце могли быть положены также мощи «неводомых святых».
Древнейший из известных русских напрестольных крестов с надписями о вложениях – созданный в 1161 году крест Евфросинии Полоцкой257. Этот драгоценный крест со священными изображениями перегородчатой эмали, согласно надписям на лицевой и оборотной стороне оклада, содержал в себе: ДРЕВО ЖИВОТ[ВОР]НОЕ; [ЧАСТЬ] ОТ ГРОБА ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЯ; МОЩЬ СВТГО СТЕФАНА; КРОВЬ СТГО ДЬМИТРИЯ; МОЩЕ СВТОГО ПАНТЕЛЕИМОНА258. Немногие, но поистине величайшие и программно подобранные святыни креста, среди которых особое внимание заслуживает кровь святого Димитрия Солунского259, в XI–XIIвеках глубоко чтившегося русскими князьями260, несомненно, были получены от византийских императоров261. Другие дошедшие до нас древнерусские напрестольные кресты домонгольского периода, в центральном средокрестии которых имеется специальный ковчежец для части Истинного древа Господня, свои первоначальные оклады, на которых, возможно, были и надписи о вложениях, не сохранили262.
Наиболее ранний из новгородских напрестольных крестов XVI–XVIIвеков относится к 1533 году. Это крест из Спасо-Преображенского Хутынского монастыря (НГИАМЗ, инв. № 1237), сооруженный, судя по вкладной надписи, его игуменом Феодосием, названным в надписи «грешным иноцем», при высочайшем покровительстве великого князя Василия Ивановича и архиепископа новгородского Макария. Крест содержит замечательное собрание мощей, прежде всего, часть Истинного креста. Характерно, что в монастырскую опись 1642 года он включен как «крест воздвизальной»263. Оклад креста с литыми фигурами Спасителя и двух скорбящих ангелов украшен сканью, самоцветами, жемчугом и эмалью. На обороте – девять накладных дробниц с чеканными углубленными надписями о мощах на фоне зеленой и синей эмали. Главные святыни сосредоточены в центральной части. Это: ДРЕВО ЖИВОТВОРЯЩЕЕ; КРОВЬ Х[РИ]С[ТО]ВА; КАМЕН ГРОБА Г[О]С[ПОД]НЯ; РИЗА ВАРЛАМА ЧЮДОТВОРЪЦА. Вокруг них: ГОЛЕНЬ ПЕРВОМУЧНКА СТЕФАНА; ЕОУСТАФЬЯ ПЛАКИДЫ; ДЛАНЬ ЯКОВА ПЕРЬСКАГ; ФЕДОРА ТИРОНА; МОЩИ МНОГИХЪ СТЫХЪ; МИ[РО?] МЧНКЪ: МЧНКА НИКИТЫ; МИРО ДМИТ[Р]ИЕВО; МЧНЦИ ВАРЪВАРЫ. Ранг святынь позволяет предположить, что часть из них происходит непосредственно из великокняжеской казны264, ведь Хутынский монастырь пользовался особым покровительством московских великих князей еще с начала XVвека. Феодосий был постриженником Иосифо-Волоколамского монастыря и уже там обратил на себя внимание великого князя. По непосредственному распоряжению самого Василия III за год до создания креста, в 1532 году, он стал игуменом Хутынского монастыря. Возможно, тогда же он привез в монастырь какие-либо святыни от великого князя, глубоко чтившего Варлаама Хутынского и перед смертью принявшего постриг именем Варлаам. В 1542 году именно Феодосий стал преемником Макария на новгородской митрополичьей кафедре265.
На другом не менее роскошно украшенном кресте – 1553 года, сделанном «повелением игумена Никифора з братию в дом святого Николы» новгородского Вяжищского монастыря и, вероятно, после «кровавого пира» Ивана Грозного в Новгороде в 1570 году попавшем в московский Благовещенский собор (Музеи Московского Кремля, инв. № МЗ-1193), мелкие резные записи о вложениях рамещены на десяти прямоугольных табличках, вплетенных в сканый орнамент оборотной стороны (илл. 1). Мощи, вложенные в крест, расположены строго по иерархии: ДРЕВ[О] КР[Т]СТА Г[ОСПО]ДНЯ; [МОЩИ] ЕВА[Н]Г[Е]ЛИСТА МАТФЕА; ЕВА[Н]Г[Е]ЛИСТА МАРКА; ЕВА[Н]Г[Е]ЛИСТА ЛУКИ; ИЯКОВА БРАТА Г[ОСПО]ДНЯ; АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННАГО; ВЕЛИКОМЧНКА ГЕОРГИА; ВЕЛИКОМЧНКА ДИМИТРИА; ВЕЛИКОМЧНКА АРЕФЫ; ВЕЛИКОМЧНКА НИКИТЫ. И эти святыни могли быть получены через посредничество упомянутого во вкладной надписи новгородского архиепископа Пимена из Москвы.
В сканном кресте из новгородского Софийского собора, не имеющем вкладной надписи и относимом по своим художественным и технологическим особенностям к середине XVIвека (НГИАМЗ 810)266, согласно перечню в пяти круглых выпуклых клеймах на его обновленном в XVIIIвеке обороте, содержатся: МОЩИ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКАГО; МОЩИ АПОСТОЛА ВАРНАВЫ; МОЩИ ФЕОДАРА СТРАТИЛАТА; МОЩИ ИОАННА ДАМАСКИНА; МОЩИ МНОГИХ СВЯТЫХЪ.
Наиболее примечательное и обширное собрание святынь – в кресте 1560 года, вложенном в Соловецкий монастырь «повелением и трудами» его старцев Исака Шахова и Данилы Жданьского (Музеи Московского Кремля, инв. № МР-1199), недаром названном во вкладной надписи «святым и животворящем кресте Господнем с мощми». Хотя этот крест, относимый по своим художественным особенностям к произведениям новгородских серебряников, и его священные вложения уже были основательно исследованы Е. А. Моршаковой267, представляется важным привести перечень его мощей и в данной публикации. Сопоставление надписей этого и других новгородских крестов подтверждает не только художественные, но и духовные связи монастыря с центром его епархии. Часть вложений креста привезена из Святой земли, часть безусловно происходит из Новгорода, а упомянутые во вкладной надписи «труды» его создателей были связаны именно со стяжанием столь замечательных и многочисленных святынь. Надпись, выполненная чеканом с большим искусством, занимает почти всю поверхность оборотной стороны креста: ДРЕВО ЖИВОТВОРЯЩАГ[О] КРЕСТА ГОСПОДНЯ; ПЛАЩАНИЦА ХРИСТОВА; КАМЕН[Ь] ГРОБА ГОСПОДНЯ; ПРЕЧИСТЫЕ БОГОРОДИЦИ МЛЕКО, РИЗЫ И ПОЯС; ДУБ МАМВРИСКИИ; ИОАН ПРЕДОТЕЧА; ИАКОВА БРАТА ГОСПОДНЯ; ПЕРВОМУЧЕНИКА СТЕФАНА; ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА; НИКОЛЫ ЧЮДОТВОРЦА МИРО; СИМЕОНА СТОЛПНИКА; АНТОНИЯ РИМЛЯНИНА; ЦАРЯ КОНСТЯНТИНА; ДИМИТРИА СЕЛУНСКОГО КРОВЬ И МИРО; М[ОЩИ] МУЧЕЕНИК[ОВ] БОРИСА И ГЛЕБА, ФЕОДОРА ТИРОНА; ВЕЛИКО МУЧ[ЕНИКОВ] ПРОКОПИЯ, ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА, МИНЫ И ВИКТОРА, ЕУСТАФ[И]Я ПЛАКИД[Ы], ИАКОВА ПЕРСКА[ГО], МЕРКУРИА; ДРЕВО КОПИА ХРИСТОВА; ПАВЛА ИСПО[ВЕДНИКА]; СКУФ[ЬИ] ИОАН[НА] ЗЛАТ[ОУСТА], ЗОСИМЫ СОЛОВЕЦ[КАГО], ВАРЛАМА ХУТ[ЫНСКАГО]; НИКИТЫ ЕПИСКОПА ОМОФОР И РИЗЫ; ИОАН[НА] АРХИЕПИСКОПА РИЗ[Ы]; АЛЕКСАНДРА СВЕР[СКАГО]; ПАФНОТИА БОРОВ[СКАГО]; ФЛАВИАНЯ МЕЧА КРЕСТЬ; НЕОПАЛИМЫА КУПИНЫ КАМЕН[Ь]; ВАРВАРЫ; [10]-РЫ МОЩ[ЕЙ] НЕВИДОМЫ СВЯТЫХ; ПЕРСТЬ ИЕРДАНА, И МНОГИХ СВЯТЫХ ВМИСТЕ; КАМЕН[Ь] НА НЕМЪ Ж[Е] ХРИСТОС СЕДИЛ; ИОАН[НА] БОГОСЛОВА; ПАВЛА ФИВЕИСКАГ[О]. К развернутым комментариям, сопровождающим в публикации Е. А. Моршаковой почти каждое вложение креста, можно добавить лишь следующее: «Неопалимой купины камень», чтившийся на Синайской горе, не был редкой святыней. Так называли (и называют до сих пор) характерные для этих мест камни, имеющие на сколах, благодаря включениям из окисей и солей железа, очертания опаленного куста.
На оборотной стороне креста 1567 года (НГИАМЗ, инв. № 1300), покрытой ветхой басмой, – три накладные прямоугольные серебряные пластины с резными трудночитаемыми надписями на фоне синей эмали: датой создания креста, именем его вкладчика – игумена Филофея и перечнем мощей: В ГЛАВЪ СВЕЧКА ГРОБА Г[ОСПОД]НЯ И ИЗМИРНА И МИРО ВЕЛИКОЕ ГРОБА Г[ОСПОДНЯ]; МОЩИ ИЯКОВА ПЕРЬСКАГО, ЧА[СТЬ] ИВАННА БЕЛОГРАДЪЦКАГО; ОТ РИЗЫ ПЕТРА МИТРОПОЛИТА И ВАРЛАМА ЧЮДОСТВОРЦА; ПЕРСТЬ ИЯКОВА БРАТА Г[ОСПОД]НЯ. На первой пластине перечислены евлогии, традиционно приносимые паломниками из Святой Земли: часть пасхальной свечи, чудесным образом воспламенившейся у Гроба Господня, «измирна» – или смирна, а также ливан – благовонная и целебная древесная смола, способствующая нетлению. «Персть» – прах или земля – своего рода «вторичная реликвия» из святилища. Иоанн Белоградцкий – Иоанн Новый – святой, претерпевший мученичества в XIVвеке в Белгороде на Днестре и с первой трети XVIвека достаточно широко чтившийся на Руси, в том числе и в Новгороде268. Заслуживают вниманиявпервые встретившиеся нам в новгородских крестах мощи московских святых (святителя Петра).
Еще один, но не дошедший до нас крест этого времени, также в басменном окладе, с интересной для нас надписью, в середине XIXвека был зафиксирован архимандритом Макарием Миролюбовым в новгородской Никитской церкви: ЛЕТА 7078 [1568] ГОДА МАРТА 25 ДНЯ ПОЛОЖЕНЪ КРЕСТЬ БЛАГОВЕЩЕНИЮ ВЪ [Е]ФИМЬИНЪ, А ВЪ НЕМЪ МОЩИ АПОСТОЛА ВАРНАВА, ДА КАМЕШОКЪ МЕСТА ЛОБНАГО, ДА НИКИТЫ ЕПИСКОПА ПАТРАХИЛЬ, ДА ПАЛИЦА, ДА ПОЯСЪ, ДА АНТОНИЯ РИМЛЯНИНА ТРОСТЬ, ДА ПОМИНАТИ ГЕРМАНА ИНОКА269.
На кресте неизвестного происхождения, в ветхом басменном окладе второй половины XVIвека, со следами былых накладных литых изображений (НГИАМЗ, инв. № 1311), сохранились две резные эмалевые дробнички с фрагментарными записями о мощах: ЖИВОТВОРЯ[ЩЕЕ ДРЕВО]; ..РА Г[?] ДМИТРЕ.
Замечательное собрание святынь содержится в кресте 1591 года, вложенном новгородским митрополитом Александром в Антониев Сийский монастырь (ГИМ, инв. № 77657, ок. 10817). Надпись о вложениях с большим изяществом выполнена чеканом на гладком обороте: В СЕМ С[ВЯ]ТЕМЪ КРЕСТЕ ЖИВОТВОРЯЩЕЕ ДРЕВО; РИЗЫ ПРЕЧСТЫЕ БГЦЫ; КАМЕН ОТ НЕОПАЛИМЫЯ КУПИНЫ; МОЩИ И РИЗЫ БОГООТЕЦЪ АКИМА И АННЫ; ИЯКОВА БРАТА ГСДНЯ; АПОСТОЛА ВАРНАВЫ; ИВАННА ЗЛАТАОУСТАГ[О]; МИРО ВЕЛ[ИКО]М[У]Ч[ЕНИКА] ДИМИТРЕЯ; МОЩИ М[У]Ч[ЕНИКОВ] АРТЕМИЯ, МИНЫ, ИЯКОВА ПЕРСКАГ[О], ПАНТЕЛИМОНА; МОЩИ МОУЧЕНИКЪ КОЗМЫ И ДАМЬЯНА; АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО, М[У]Ч[УНИЦ] ПРАСКОВИИ, МАТРОНЫ И ИНЫЧЪ С[ВЯ]ТЫХЪ МОЩИ; ПОРУЧИ НИКИТЫ ЕП[ИСКО]ПА НОУГОРОДЦКО[ГО]; ОТ РАКИ ИОНЫ АРХИЕППА НОВГОРОД[СКОГО]; ОТ РИЗЪ СЕРГИА ЧЮД[ОТВОРЦА], КИРИЛЛА БЕЛОЗ[ЕРСКАГО], АЛЕКСАНДРА СВЕРСКОГО; ЕФРЕМА НОВОТОРЖЬСКОГО.
Созданный на рубеже XVI–XVIIвеков «повелением преосвященного Варлама митрополита Великого Новграда и Великихъ Лукъ» для новгородского Софийского собора роскошный золотой крест (НГИАМЗ, инв. № 776) является выдающимся произведением новгородских мастеров-серебряников – сканщиков, литейщиков, эмальеров и словописцев. Надпись о вложениях на его обороте выполнена с большим мастерством. В кресте содержатся: МЛЕКО ПРЕЧСТЕИ Б[ОГОРОДИ]ЦЫ; РИЗА ПРЕЧСТЫЕ Б[ОГОРОДИ]ЦЫ; ЖИВОТВОРЯЩЕЕ ДРЕВО; КУПИНА НЕОПАЛИМАЯ; РИЗА МЧ ПАНТЕЛИМОНА; МОЩИ ДМИТРЕЯ СУЛУНЬСКАГО; МОЩИ ВЕЛИКОМЧ ФЕОДОРА СТРАТИ[ЛАТА]; МОЩИ МУЧНКЪ: МОЩИ ВЕЛИКОМУЧКА ЕГОРЯ; МОЩИ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННАГО; ЖЕЗЛЪ АРОНО(В) И МОИСЕЕВЪ; МОЩИ МЧ ПАНТЕЛИМОНА; КАМЕН ГРОБА ГНЯ; МОЩ ЕФРЕМА СИРИНА; МОЩИ АНАСТАСИЯ ПЕРСКАГ; ПЕРЬС ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА; МОЩИ ВЕЛИКОМЧ ПРОКОПИЯ, МОЩИ ЯКОВА БОРОВИЦКАГО, МОЩИ ЯКОВА ПЕРСКАГО; МОЩИ МЧ ЕКАТЕРИНЫ, МОЩИ МЧ ПАРАСКОВИИ; РИЗА ИВАННА АРХИЕПСКПА ПАТРАХИЛ И ПОРУЧИИ ПОЯС НИКИТЫ ЕПСКПА; МОЩИ И РИЗА ИОНЫ АРХИЕПСКПА. Заслуживает внимание «жезл Аронов и Моисеевъ» – святыня, чтившаяся как прообраз Креста Господня. Именно такое толкование жезлы Аарона и Моисея поличили в Каноне на Воздвижение Честнаго Креста Косьмы Маюмского270. Состав вложений этого креста, в числе которых и частицы различных облачений новгородских архиепископов, прямо указывает на то, что они были уделены из самого Софийского собора. Большинство перечисленных в надписи мощей вселенских святых также фигурируют в описях собора271.
К этой же эпохе относится прекрасный посвоим художественным достоинствам крест в сканом, с эмалью окладе лицевой стороны (НГИАМЗ, инв. № 802). На его гладком обороте, на рукояти – резная запись без даты: КРСТЬ СО СТЫМИ МОЩМИ РЖТВА ПРСТЕЙ БДЦЫ АНТОНЬЕВА М[ОНАСТЫРЯ] РМСЛЯНИНА, выше – перечень вложений: ДРЕВО ПРЧСТЕИ БДЦЫ ЗНАМЕНСКОЙ; КАМЕНЬ ГДЕ СТОЯЛЪ ДУБЪ МАМВРИЙСКИЙ; КОСТЬ СТЫЯ МУЧ[?]К Р[АИФСКИХ?]; ОМФОР АРХИЕПКПА СИМЕОНА ИЕРОР[САЛИМСКАГО]; РИЗА П[РЕПОДОБНОГО] МАРКА ПЕЧЕР[СКАГО]; ВЛАСЫ И РИЗА П[РЕПОДОБНОГО] СЕРГИЯ РАДОНЕЖ; ГРОБЪ П[РЕПОДОБНОГО] МАКАРИЯ КОЛЯЗ[ИНСКОГО]; ЧАСТЬ ГРОБА ИОНЫ АРХИЕПСКПА НОВГОРОДС; РИЗЫ И ЧАСТЬ ГРОБА П[РЕПОДОБНОГО] АЛЕКСАНДРА СВИР[СКАГО]; РИЗЫ НОВГОРОДСКИХ ЧЮДО[ТВОРЦЕВ] НИКИТЫ И ИОАННА ЕВФИМИЯ И П[РЕПОДОБНОГО] ВАРЛААМА ФУТЫНС; ОМОФОР ПАВЛА ИСПОВЕДНИКА; КАМЕН И ТРОСТЬ П[РЕПОДОБНОГО] АНТОНИЯ; МОЩИ СТЫХЪ НЕДОВЕДОМЫХЪ. Первая святыня этого креста чрезвычайно важна. Видимо, она связана с древним новгородским образом «Богоматерь Знаменье», в доске которого, в двух замастикованных ковчежцах оборотной стороны – священные вложения. Возможно, что чтилось и само древо этой чудотворной иконы.
Ряд новгородских крестов XVIIвека с надписями о мощах открывает крест, вложенный Василием Елеуферевым в Юрьев монастырь в 1617/1618 году, то есть вскоре после освобождения Новгорода от шведской оккупации (НГИАМЗ, № 1363). Его лицевая сторона украшена сканью с эмалью, оборот – более скромный, басменный. Из накладных дробничек с записями о мощах уцелела лишь одна: МОЩИ НИКОЛЫ ЧЮДОТВОРЦА.
О культе Николая Чудотворца в Новгороде XVIIвека свидетельствует и достаточно скромный крест 1627 года (НГИАМЗ, № 1301) с резными изображениями, который, к сожалению, утратил свою деревянную основу и святыни. Этот «святый животворящий крест Господень» сделал, согласно надписи на нем, «Б[о]жию милостию и бл[а]го[сло]вениемь» игумен Леонид «из своих келейных денег и ода во опщую обитель в Д[у]хов мнстырь что в великом Новегороде по собе и по своих родителех». На обороте, в средокрестии, надпись: А В КРЕСТЕ МОЩИ: НИКОЛЫ ЧЮДОТВОРЦА КОСТЬ ДА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРЕЯ СЕЛУНСКАГО МИРО ДА [ЧАСТЬ] ОНТОНИЯ РИМЛЯНИНА ТРОСТИ. На главную святыню креста – частицу мощей Николы – указывает образ святителя на его лицевой стороне, на рукояти.
Крест с резным изображением Распятия с предстоящими, Варлаама Хутынского, Антония Великого, Григория Великого, Николая Чудотворца, пророка Ильи, преподобного Александра и Ангела Хранителя, вложенный в 1630 году архимандритом новгородского Хутынского монастыря Феодоритом в Спасо-Преображенский собор (НГИАМЗ, № 1235), утратил свои многочисленные, судя по надписи на его обороте, вложения. В нем были: КАМЕН ГРОБА ГСДНЯ; КУПИНА НЕОПАЛИМАЯ; СЛЕЗА Б[ОГОРОДИ]ЦЫ С ПЕРСТИЮ СМЕШЕНА; МОЩИ ИЯКОВА БОРОВИЧСКОГО; МОЩИ ИЯКОВА ПЕРСКАГО; МОЩИ МЧНКА ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА; ЧАСТЬ ЖЕЗЛА АРОНОВА; МОЩИ АЛЕКСАНДРА СВЕРЬСКАГО; КОСТЬ ВЕЛИКОМЧ ДИМИТРЯ СЕЛУНСКАГО; КОСТЬ МЧ ПАРАСКОВИИ НАРЕЦАЕМЫЕ ПЯТНИЦЫ; КОСТЬ ИОНЫ АРХИЕПКПА НОВГОРОЦКОГО; МОЩИ КН[Я]ЗЯ ФЕОДОРА ЯРОСЛАВИЧА, НЕ[В]СКОГО КН[Я]ЗЯ АЛЕКСАНДРА БРАТА. Примечательны исторический комментарий, завершающий эту надпись, и то, что запись о главной святыне креста вынесена на его лицевую сторону: здесь, на рукояти, ниже полуфигурного изображения преподобного Варлаама, в три строки написано: МОЩИ ВАРЛААМА ФУТЫНЬСКАГО.
На обороте серебряного оклада креста 1661 года (илл. 3), «состроенного» в церковь Воскресения Христова новгородского Деревяницкого монастыря при его игумене Иосифе (НГИАМЗ, № 1333), – семь фигурных киотцев с резными надписями о вложенных святынях: КАМЕНЬ ГРОБА ГОСПОДНЯ; ПЕРСТЬ М[УЧЕНИКОВ И] ВЕЛИКО МЧНКЪ; ЖЕЗЛЪ ААРОНОВ; КОСТЬ М[УЧЕНИКА]ПАНТЕЛЕИМОНА; ПЕРСТЬ МЧНКЪ ДЕВЯТИ ИЖЕ В КИЗИЦЕ; КОСТЬ М ПАРАСКОВЪИ ПЯТНИЦА; КОСТЬ ВЕЛИКМЧИКА НИКИТЫ КОСТЬ ВЕЛИКМЧНКА ДИМИТРИЯ; ПЕРСТЬ МОИСЕЯ АРХИЕПСКОПА. Последней надписи, помещенной в киотце на рукояти с оборотной стороны креста, на его лицевой стороне соответствует киотец с резным ростовым изображением архиепископа Моисея. Судя по составу, святыни были получены игуменом у новгородского митрополита.
В украшенном резьбой кресте 1664 года (НГИАМЗ, № 1340), сделанном для новгородского Духов монастыря архимандритом Киприаном «своими келейными денгами по обещанию», согласно резным надписям на оборотной стороне (илл. 4), были вложены всего две ныне утраченные святыни: ЧАСТЬ ГРОБА АЛЕКСАНДРА СВЕРСКАГО ТРОСТЬ АНТОНИЯ РИМЬЛЕНИНА.
На кресте 1670/1671 года, сделанном для новгородского Ростокина Иосифо-Предтеченского монастыря его игуменьей Марфой Пановой (НГИАМЗ, № 1328), записи о мощах размещены в восьми килевидных клеймах, они необычайно крупные, выполнены сложной декоративной вязью: ЧАСТЬ ВЛАСОВ ГДНИХ; 2 ЧАСТЬ КРОВИ ГСДНИ; ЧАСТЬ МЛЕКА ПРЕСТЫЯ БДЦЫ; ШЕСТАЯ ЧАСТЬ КАСИ..(?); ЧАСТЬ РИЗЫ ГСДНИ, 3 ЧАСТЬ ТРОСТИ ГСДНИ; ЧАСТЬ МОЩЕЙ МОИСЕЯ МУРИНА; ЧАСТЬ МОЩЕЙ ИСАКИЯ ДАЛМАТА; ЧАСТЬ МОЩЕЙ СТЫХ МЧНКЪ 9 ИЖЕ В КИЗИЦЕ. Состав святынь необычен: если «млеко Богородицы» – известная евлогия Святой Земли (так в Иерусалиме называли мягкую белую землю из пещеры, которая, согласно преданию, была местом избиения младенцев Иродом и находилась недалеко от пещеры, где родился Христос272), то «власы Господнии» и «части трости Господней» (на которой Распятому была поднесена губа с оцетом) в других новгородских крестах неизвестны.
Надпись на чеканном кресте 1689 года (НГИАМЗ, № 1351), несмотря на трудности чтения, особенна интересна. Этот единственный из новгородских крестов, названный во вкладной надписи, помещенной на обороте в специальном фигурном щитке, «благо[сло]вящим», был сооружен «новгородским посадским человеком Стефаном Никифоровым сыном Салодовника на престолу» в церковь Федора Стратилата. Здесь же сообщается: А МОЩЕЙ В НЕМЪ ПОЛОЖЕНО ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЧАСТЬ. Другие надписи о мощах находятся на боковых сторонах рукояти креста: [С]ВЪЧК[А] ГРОБА Г[ОСПО]ДНЯ; ИЗМИРНА; ЧАСТЬ КРАСНОГО И ЧЕРНОГО; ИОНЫ АРХИЕП[С]КОПА ВЪ НОВГОРОДЦИ; ЧАСТЬ КОЛОДЫ НА НЕИ ЖЕ СЕДИЛА П[РЕ]Ч[СТА]Я Б[ГОРОДИ]ЦА; ЧАС[ТЬ] РИЗЫ ИВАНА И МОЩИ; МОИСЕЯ ЧАСТЬ РАКИ. Упомянутая в надписи «часть красного и черного» могла принадлежать мере Гроба Господня, представлявшей собой в большинстве случаев ленты (такая голубая с розовыми полосами лента хранилась в новгородской Софии, на концах ее были печати из красного сургуча273), которая могла быть двухцветной, или же в крест были вложены частицы двух разных лент, или же «частью красного» были кусочки от печатей красного сургуча.
Один из самых сложных и интересных по составу крест, названный в надписи «животворящим», «построенный по обещанию» в 1690 году высокопоставленным служащим новгородского митрополита, «приказным Дома Премудрости Божией» Андреем Богдановичем Сназиным для придела Воздвижения Честного Креста церкви Михаила на Михалицкой улице Торговой стороны Новгорода (НГИАМЗ, № 1316). К сожалению, деревянная основа, в которой содержались святыни, для более точного определения и веса серебра была отделена от массивного оклада креста (вероятно, в 1920-е годы) и, скорее всего, уничтожена. Крест этот – выдающийся во многих отношениях. Андрей Богданович не только поручил его выполнение лучшему новгородскому серебрянику той эпохи274, но и позаботился о богатейших священных вложениях, перечисленных в грамотной и прекрасно выполненной надписи, занимающей всю оборотную сторону креста: ЧАСТЬ ПЛАЩАНИЦЫ ГСДНИ; ЧАСТЬ ВОСКУ ПЕЧАТИ ГРОБА ГСДНЯ; ЧАСТЬ КАМЕНИ ГРОБА ГСДНЯ; ЧАСТЬЮ МЕРЫ ГРОБА ГСНЯ; ЧАСТЬ ЗМИРЪНА; ПОДЛИНАЯ ЧАСТЬ КАМЕНИ С НЕГОЖ С[Н]ЕЛ[?] ГДЬНА; ОДНА ЧАСТЬ ДРЕВА МАСЛИЧНОГО; ЧАСТЬ ЛИВАНА; ЧАСТЬ ВЕРХНИЕ РИЗЫ БДЦЫНЫ; ЧАС НЕОПАЛИМЫЕ КУПИНЫ; ЧАСТЬ ИСПОДНИЕ РИЗЫ БДЦЫНЫ; ЧАСТЬ КАМЕНЕ, ЧТО ПРИНЕСНА ЛЕ[?] БЦЫ; МЛЕКО С ЗЕМЛЕЮ ПР(С)ВТЫЯ Б(Д)ЦЫ; ЧАСТЬ МОЩЕЙ ИОАННА ПРЕДТЧИ; ЧАСТЬ МОЩЕЙ ЛУКИ ЕВАНГЕЛИСТА; ЧАСТЬ ЖЕЗЛА АРОНОВА; ЧАСТЬ ЖЕЗЛА МОИСЕЕВА; КАМЕН СИНАЙСКИЕ ГОРЫ; ЧАСТЬ МОЩЕЙ АПСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННАГО; ЧАСТЬ МОЩЕЙ ЛАЗОРЯ ПРАВЕДНАГО; ЧАСТЬ МОЩЕЙ МАРКА ФРЕЧЕСКАГО275; ЧАСТЬ МОЩЕЙ ИОАННА БЕЛОГОРОДСКОГО; ЧАСТЬ МОЩЕЙ СТЫХ МЧНКОВЪ ИЖЕ В СЕВАСТИИ; ЧАСТЬ МОЩЕЙ ФЕОДОРА ТИРОНА; ЧАСТЬ МОЩЕЙ ИАКОВА ПЕ[Р]СКАГО; ЧАСТЬ МОЩЕЙ ВЕЛИКОМЧНКА ДИМИТРИА СЕЛУНСКОГО; ЧАСТЬ МОЩЕ ПРИДБНЫХ ОТЕЦ В РАИФЕ УБИЕНЫХ; МОЩЕЙ МЧНКОВ ИЖЕ В КИЗИЦЕ; ЧАСТЬ МОЩЕЙ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА; ЧАСТЬ МОЩЕЙ ВЕЛИКОМЧНКА НИКИТЫ; ЧАСТЬ МОЩЕЙ ВЕЛИКОМЧНЦЫ ПАРАСКЕВИ НАРИЦАЕМЫЯ ПЯТНИЦА; ЧАСТЬ МОЩЕЙ СИМЕОНА СТОЛПНИКА; ЧАСТЬ РАКИ ИОАНЪНА АРХИЕПСКПА;ЧАСТЬ РИЗЫ ЕВФИМИЯ АРХИЕПСКПА НОВГОРОДЦКОГО ЧУДОТВО[Р]ЦА; ЧАСТЬ АМАФОРА МОИСЕЯ АРХИЕПСКПА НОВГОРОДЦКОГО ЧУДОТВОРЦА; ЧАСТЬ ИОНЫ АРХИЕПКПА НОВГОРОДСКОГО ЧУДОТВОРЦА; ЧАСТЬ МОЩЕЙ АЛЕКСАНДРА СВИРСКАГО ЧУДОТВОРЦА; ЧАСТЬ МОЩЕЙ ЕФРЕМА ПЕРЕКОМСКОГО НОВГОРОДЦКОГО ЧУДОТВОРЦА; ЧАСТЬ ТРОСТИ АНТОНИЯ РИМЛЯНИНА; ЧАСТЬ МОЩЕ ВАРСОНОВИЯ КАЗАНЪСКАГО; ЧАСТЬ ОТ РИЗЫ БЛГОВЕРНАГО ФЕОДОРА ЯРОСЛАВИЧА; ЧАСТЬ МОЩЕЙ КИРИЛЛА БЕЛОЗЕРЪСКАГО ЧУДОТВОРЦА. Столь полное собрание евлогий Святой Земли, несомненно, свидетельствует о паломничестве, предпринятом, возможно, самим вкладчиком креста, неслучайно сразу за их перечнем названа часть мощей Андрея Первозванного, вероятно, небесного покровителя Андрея Сназина. Далее перечислены мощи других вселенских святых, в число которых включен и Иоанн Белогородский, возможно, из-за того, что он был греком. Далее – русских святых, за одним исключением- святителей, среди которых первенствуют новгородские. Почти вс новгородские святители представлены так называемыми «вторичными» реликвиями – частицами раки, ризы, омофора и трости, которыми, вероятно, располагал и благословлял новгородский владыка.
За ним следует богато украшенный крест 1697 года (НГИАМЗ, № 1236) из новгородского Знаменского собора, принадлежавший к его первоначальной утвари; в надписи о «построении» креста вкладчик не упомянут. На обороте креста – крупные резные надписи о мощах: КАМЕН ГРОБА ГДСНЯ; МОЩИ ИОАННА ЗЛАТОУСТАГО; МОЩИ СВТЫХ ОТЦЪ ИЖЕ В СИНАЙ И В РАФЕ ИЗБИЕНЫХ; МОЩИ ВЕЛИКОМУЧНИКА ДМИТРЕЯ МИРОТОЧИВАГО; МОЩИ ЧЕТЫРЕДЕСЯТ МУЧЕНИКЪ; МОЩИ ВЕЛИКОМУЧНИКА ФЕОДОРА ТИРОНА; МОЩИ ИОАННА ДАМАСКИНА; МОЩИ ДЕВЕТИ МУЧЕНИКЬ ИЖЕ В КИЗИЦЫ. Шесть из десяти святынь этого креста совпадают со святынями предыдущего, что, несомненно, свидетельствует об их происхождении из новгородского Софийского собора, в перечне мощей которого, относящемся к 1749 году, фигурируют практически все святыни второго креста и многие из святынь первого276.
В еще одном новгородском чеканном кресте, не имеющем вкладной надписи и относящемся по своим художественным особенностям к концу XVIIвека (НГИАМЗ, № 1345), судя по резным надписям в рельефных фигурных клеймах на обороте, находятся: Ч[АСТЬ] КАМЕН ГРОБА ГСДНЯ; М[ОЩИ] ИВАННА ЗЛАТАУСТАГО; М[ОЩИ] МОИСЕЯ АРХИЕПСКОПА; М[ОЩИ] ИЯКОВА ПЕРСКАГО; М[ОЩИ] ИЯКОВА БОРОВИЦКАГО; М[ОЩИ] ИВАННА АРХИЕПИСКОПА НОВГОРОЦКАГО; М[ОЩИ] ЧЕТЫРЕДЕСЯТ М[Е]Ч[ЕНИ]К[ОВ] В СЕВАСТИИ; М[ОЩИ] ПРЕПДОБН ОТ[ЕЦ] УБИЕНЫХ В РАИФЕ; М[ОЩИ] ДИМИТРЕЯ ВЕЛИКОМЧК; М[ОЩИ] КАЗАНСКИХЪ ЧУДОТВОРЦОВ; М[ОЩИ] ИВАННА ДАМАСКИНА; М[ОЩИ] НИКИТЫ ВЕЛИКОМЧНИКА; М[ОЩИ] ДЕВЯТИ ИЖЕ В КИЗИЦЕ; М[ОЩИ] ВЕЛИКОМЧИКА ПЕНТЕЛЕМОНА; М[ОЩИ] ВЕЛИКОМУЧЦЫ ПАРАСКОВИИ; Ч[АСТЬ] РИЗЫ ЕПИСКОПА НИКИТЫ НОВГОРОЦКОГО. Среди святынь этого креста примечательны мощи новгородского архиепископа Моисея, чтившиеся в новгородском монастыре Архангела Михаила «на Сковородке». По словам протопопа Максима, описавшего святыни Великого Новгорода в 1634 году, новгородцы, издавна «прибегающие с верою к честным его мощам, почерпают здравие… нипаче же жены исцелевают…»277. Однако вплоть до конца XVIIвека мощи Моисея почивали под спудом, поэтому в вышеупомянутый крест 1661 года из Деревяницкого монастыря была вложена лишь ПЕРСТЬ [земля] МОИСЕЯ АРХИЕПИСКОПА. В 1686 году мощи владыки были обретены и положены в храме. Частицы прежней раки и облачений Моисея стали святынями, поэтому среди мощей креста 1689 года из церкви Феодора Стратилата последней названа МОИСЕЯ ЧАСТЬ РАКИ. В 1693 году часть мощей святого была перенесена из Сковородского монастыря вДухов278. Вероятно, тогда же частица мощей была уделена и для этого напрестольного креста; соответственно, его датировку можно уточнить: после 1693 года.
Завершает ряд древнерусских новгородских крестов со святынями крест 1698 года из Троицкого Клопского монастыря (НГИАМЗ, № 1330), так же как и крест из Знаменского собора, не имеющий в своей летописи указания на определенного вкладчика. На его обороте – выполненная вязью резная надпись о мощах: РИЗА И МЛЕКО ПРЕСТЫЕ БДЦЫ; РИЗЫ ПЕТРА И АЛЕКСИЯ, ИОНЫ, ФИЛИППА, ЛЕОНТИЯ; РИЗЫ И ЖЕЗЛЬ АЛЕКСЕНДРА; КЛОБУКА СЕРГИЯ; МОЩИ МУЧНИКЪ: ПЕРВОМУЧЕНИКА СТЕФАНА; ГРИГОРИЯ БГСЛОВА; ИОАНА ЗЛАТАУСТА; ГЕОРГИЯ, ЕВФИМИЯ, ЕВСТРАТИЯ, И ДВОЮТ [ДВОЕ ОТ?] МУЖЕВ НИКОМИДИИ И КИРИКА И УЛИТЫ, НАСТАСИИ, МАРИИ ДЕВИЦЫ. Подбор святынь этого креста своеобразен: за Ризой Богоматери следуют частицы риз шести русских святителей, а также части жезла Александра [Свирского] и клобука Сергия [Радонежского], а затем уже перечислены мощи вселенских святых, в том числе трех жен. В таком подборе святынь очевидна не столько случайность, сколько заметен замысел.
Подведем некоторые итоги:
– большая часть вложений новгородских крестов связана с «хождениями в Святую Землю, имеющими в Новгороде давнюю и, видимо, не прерывавшуюся и в XVI–XVIIвеках традицию. На втором месте по числу – мощи новгородских угодников и вселенских святых, чтившиеся в Софийском соборе. Мощи московских святителей встречаются редко;
– рассмотренные кресты можно разделить на два типа. К первому относятся роскошно украшенные кресты XVIвека, с мощами, уделенными для важнейших новгородских храмов великим князем и московским митрополитом. «Построение» таких крестов было не только духовным, ни и общественным деянием, являлось своеобразным свидетельством собирания великим князем Иваном Васильевичем Русского царства, укрепления в стране вертикали духовной и политической власти279. Ко второму типу можно отнести кресты, созданные по частной инициативе, иногда, как крест Андрея Богдановича Сназина, с богатейшими святынями, чаще – с определенным набором мощей, уделенных из святости новгородского Софийского дома;
– на протяжении XVI–XVIIвеков нарастает и число вложенных в кресты святынь, и степень подробностей надписей, включающих в себя даже элементы толкования.
Хотя в этой статье были рассмотрены надписи не всех новгородских крестов с мощами, а в комментариях к ним затронуты далеко не все темы, надеемся, что нам удалось убедить читателей в необходимости публикации и изучения записей о священных вложениях.
В. В. Игошев. Ярославские серебряные и золотые кресты XVI–XVIII веков (к вопросу о типологии церковной утвари)
В храмах и монастырях Ярославля бытовали многочисленные святыни, в числе которых выделялись серебряные кресты разных типов, являющиеся интереснейшими произведениями ярославского церковного искусства XVI–XVIIIвеков280. Музейные собрания сохранили несколько десятков крестов этого времени, среди которых особенно часто встречаются кресты-мощевики. Мощи всегда были важнейшими составляющими христианского богослужения281, они вкладывались в кресты разных типов – в напрестольные, воздвизальные, водосвятные, наперсные и др. Нередко кресты содержали в себе часть Древа Господня или мощи святых. Такие предметы церковной утвари всегда почитались и поэтому бережно сохранялись.
До настоящего времени типология древнерусских и, в частности, ярославских крестов является темой малоизученной, несмотря на большой к ним интерес, проявившийся еще у исследователей церковных древностей XIX – начала XX века282.
И. П. Сахаров кресты разделял на «напрестольные (благословенные), воздвизальные, запрестольные (выносные), наперсные, походные патриаршие, закладные, тельные», им же отмечались кресты «осеняльные» и «колыбельные»283. И. Е. Забелин кресты выделял «по церковному назначению»: «а) напрестольные или благословенные, благословящие;б) воздвизальные, «что выносят из алтаря в день Воздвижения честного креста», и в) запрестольные или выносные»284. Н. В. Покровский, упоминая многочисленные древнерусские кресты, сделал верное замечание: «кресты эти имели разное назначение: напрестольные, выносные, наперсные и тельники, киотные и поклонные, хотя это разграничение и не выдерживалось строго и не имело иконографической важности»285.
Задачей настоящей статьи является показать не только многообразие типов ярославских крестов, но и их назначение при богослужении, а также разнообразие техник, которые были использованы при их изготовлении. На отдельных серебряных предметах ярославской церковной утвари нами также анализируются изображения крестов, являющихся очень важными указаниями на главный христианский символ. Такие изображения крестов являлись смысловым и значимым центром всего предмета церковной утвари и становились ядром его композиции.
На Руси в различных художественных центрах под влиянием византийских образцов создавались и бытовали те или иные типы крестов, которые с течением времени претерпевают изменения. Постепенно изменяются их форма, пропорции, размеры и характер декора. В результате длительного использования при богослужении в храмах, крестных ходах, военных походах и т. д. кресты ветшали, металлические и деревянные части изнашивались, появлялись утраты. В результате производились различные чинки, добавлялись новые детали. Иногда при поновлении обветшавший драгоценный оклад воссоздавался заново, появлялись новые драгоценные камни, жемчуг, но при этом, как правило, сохранялись основа креста, его форма и размеры. Однако в ряде случаев для проведения тех или иных служб в результате поздних переделок менялся тип креста: из водосвятного286 или из наперсного287 он превращался в благословенный или напрестольный.
Часто крест определенного типа специально заказывался и изготавливался к назначенному дню для вклада в ту или иную церковь или монастырь, что отражено в многочисленных вкладных надписях и архивных документах288. При этом мастера и заказчик ориентировались на известный образец. Во вкладных надписях серебряные и золотые ярославские кресты именовались: «ЖИВОТВОРЯЩИЙ КРЕСТ», «СВЯТОЙ КРЕСТ», «КРЕСТ ГОСПОДЕНЬ», «ЧЕСТНЫЙ» и «СВЯЩЕННОТВОРЯЩИЙСЯ КРЕСТ»; иногда указывалось его назначение – сделан «…НА ПРЕСТОЛ…"289.
Кресты выполнялись из дерева и обкладывались сканым, басменным, чеканным и гравированным металлом – серебром, золотом, украшались эмалью, литыми деталями, драгоценными и полудрагоценными камнями, жемчугом. Деревянные кресты XVI–XVIIвеков нередко были с резными или иконописными изображениями. Если они были сделаны из ценных пород дерева, это отмечалось в документах или во вкладной надписи на окладе.
Так, в описи 1651 года церкви Ильи Пророка отмечено, что восьмиконечный крест с иконописным Распятием 1657 года (ЯМЗ-7892)290 в золотом чеканном окладе изготовлен из кипарисового дерева: «писан на кипарисе»291 (илл. 1). Кормовые книги Толгского монастыря середины XVII века отмечают, что Семейка Иванов сын Бутримов в числе разных предметов церковной утвари дал в монастырь крест из сандалового дерева: «…крест сандалной обложен серебром с камением и жемчюги обнизан…»292. Надпись на напрестольном кресте 1709 года в серебряном окладе из церкви Богоявления указывала, что он был устроен «из трех древ: певга293, кедра и кипариса»294.
Наиболее характерным и полюбившимся приемом изготовления окладов серебряных крестов или непосредственно цельных крестов у ярославских мастеров была чеканка, получившая особенно широкое распространение в XVII веке. Это очень трудоемкий, требующий высокой квалификации и одновременно творческий, отличающийся большими эстетическими достоинствами вид ювелирной техники. Техника чеканки использовалась при создании различных типов крестов: напрестольных, водосвятных, запрестольных, наперсных.
Серебряные и золотые чеканные оклады на ярославских крестах выделяются высоким скульптурным рельефом, тщательной фактурной отделкой, виртуозной миниатюрной лепкой ликов фигур, одежд, тончайших деталей орнамента и элементов пейзажа (илл. 2). Кроме того, изображения восьми- и четырехконечных крестов, выполненных в технике рельефной чеканки, являются центральной частью композиции на многочисленных предметах ярославской церковной утвари: на серебряных иконных венцах и цатах, звездицах, дароносицах, окладах Евангелий295.
В XVI – первой четверти XVII века ярославские мастера при изготовлении крестов часто использовали технику скани и басмы. Техника скани – напаивание разнообразных узоров из тонких серебряных нитей – не получила широкого распространения в Ярославле. Скань в виде мелких витых из проволоки колечек применялась при изготовлении серебряного оклада для деревянного восьмиконечного ярославского креста второй половины XVIвека (ГММК-16662)296. Кроме того, скань в виде мелких восьмерок украшает лицевые стороны оправ двух четырехконечных аналогичных крестов XVI века (ЯМЗ-7550, 7673)297. На крестах вырезаны темные деревянные и светлые костяные горельефные изображения праздников, Богоматери «Знамения» и «Троицы Ветхозаветной».
Техника басмы широко применялась в украшении напрестольных и запрестольных крестов XVI века, ее рисунок отличался большим разнообразием. Растительный узор вьющихся и переплетающихся стеблей трав, бутонов, цветов, густо переплетающихся колец – основной мотив тиснения по серебряной фольге. Басма была очень широко распространена и особенно популярна из-за своей экономичности. Золото или серебро расковывалось в тонкие листы, что позволяло покрыть большую площадь поверхности, используя сравнительно малое по весу количество драгоценного металла. И еще одно существенное преимущество: тиснение – это одна из немногих техник, в средневековом искусстве широко используемая для тиражирования изделий и при этом не требующая высокой квалификации мастера. Серебряной золоченой басмой с идентичным растительным узором окованы два напрестольных креста второй половины XVIвека (ЯМЗ-7668, 7670)298. Такая басма с орнаментом «древовидного» типа, состоящим из мелких стеблей трав и цветочных розеток на гладком фоне, украшает лицевую и оборотную стороны этих крестов, что позволяет предположить одновременность их изготовления.
Тончайшая линейная гравировка покрывает поверхность ярославских серебряных крестов XVI–XVIIвеков (напрестольных, водосвятных, наперсных и др.) и отличается высоким мастерством исполнения, красотой и изысканностью плавных линий. Наряду с сюжетными изображениями на ярославском серебре часто вырезался очень тонко исполненный пышный растительный узор. Кроме того, на предметах церковной утвари ярославскими мастерами нередко гравировались изображения крестов. Такие четырех- семи- и восьмиконечные кресты встречаются на церковных блюдах, потирах, дорных тарелях (илл. 3), дароносицах299 и др.
Многоцветная эмаль и контрастирующая с серебром и золотом чернь (ниелло) также были известны в Ярославле. Технику выемчатой эмали широко применяли при изготовлении крестов-тельников XVIIвека и крестов-наверший кадил XVI–XVIIвеков. В это время на ярославских предметах встречалась эмаль темно-синего, голубого, реже – зеленого цвета. В XVIIIвеке на лицевой поверхности ярославских напрестольных крестов появляются овальные, реже – фигурные слегка выпуклые финифтяные дробницы в гладких серебряных оправках. Такие полихромные дробницы, вероятно, закупались серебряниками или заказывались у других мастеров-эмальеров, имевших узкую специальность работы по финифти.
Ярославские мастера-серебряники XVIIвека нередко использовали технику литья. Как правило, это отдельные детали изделий – четырехконечные кресты, венчающие кадила300, распятия и дробницы с изображением предстоящих, крепящиеся на напрестольных крестах, а также кресты-тельники. Такие литые серебряные детали иногда дополнительно тщательно дорабатывались чеканом и резцом.
О широком распространении в Ярославле серебряного литья свидетельствуют найденные на территории города и хранящиеся в Ярославском музее-заповеднике каменные формы XVII–XVIIIвеков, используемые для литья крестов-тельников, пуговиц, пряжек. Одна из форм для отливки креста-тельника (ЯМЗ-1547) обнаружена в земле в Толчковской слободе. Вторая форма, предназначенная для литья двух крестов-тельников разных типов, найдена в земле на мельнице Вархрамеева (ЯМЗ-1546)301.
На ярославских серебряных предметах церковной утвари часто делались прорезные изображения четырехконечных крестиков. Ажурные равноконечные кресты имеются в центре небольших серебряных квадратных (ромбовидных) пластин, закрывающих мощи святых, врезанные в поля ярославских икон XVI–XVIIвеков. Подобные четырехконечные прорезные кресты на серебряных пластинах являются важным сакральным центром иконы. Вокруг прорезного креста в несколько строк гравированы наименования святых мощей.
Например, на ярославской иконе конца XVIвека «Иоанн Предтеча Крылатый» (ГТГ-19752) такая пластина, имеющая ромбовидную (квадратную) форму с прорезным четырехконечным крестом крепится слева от венца над плечом святого302 (илл. 4). Вокруг креста гравирована надпись в пять строк: «МОЩИ СВТГО ПРОРОКА ИОА(Н)А ПРЕДЧЕЧИ». Аналогичная серебряная ромбовидная (квадратная) пластина XVIIвека с четырехконечным прорезным крестом в центре крепится на фоне ярославской иконы Симеона Богоприимца (ЯХМ). Вокруг креста гравирована надпись вязью в шесть строк: «МОЩИ СТГО ПРАВЕДНАГО СИМЕОНА БГОПРИИ(М)ЦА» (илл. 5).
Прорезные небольшие четырехконечные крестики, необходимые для выхода дыма сжигаемого ладана, часто делались на кровле ярославских серебряных кадил XVII века303 (илл. 6). Глубоко символично, что дым сжигаемого ладана выходит из кадила через прорези, выполненные в виде крестов. Прорезные крестики имеются на многочисленных серебряных кадилах XVII века ярославской работы304, что является одним из признаков, отличающих ярославские серебряные предметы от кадил из других художественных центров Древней Руси305.
Кресты напрестольные, благословенные
Крест символизирует орудие казни Христа. Его место – на престоле православного храма, где совершается бескровная жертва, как напоминание об этой жертве306.
Напрестольный крест является важнейшим предметом церковной утвари, не случайно он изображен на одной из красивейших русских фресок XVIIвека – в алтарной апсиде ярославского храма Ильи Пророка (1647–1650 годы). Представленный на стенописи восьмиконечный крест с узкими ветвями лежит рядом с Евангелием на престоле и является центром композиции307.
Ярославские восьмиконечные напрестольные кресты XVI–XVII веков выделяются среди крестов, выполненных в других древнерусских художественных центрах, легкой и тонкой формой своих ветвей, отличающихся от более широких и массивных новгородских и московских крестов XVI–XVII веков. И еще одно отличие «ярославского» типа напрестольного креста заключается в своеобразии изображения «Распятия». Рельефная фигура Христа дана в легком изгибе с распростертыми руками и напоминает букву «Т». Особенное выразительные голова, плотно прижатая к правому плечу, и тонкие руки с изгибом в локтях, раскинувшиеся в стороны. Можно выделить несколько ярославских напрестольных крестов второй половины XVI – первой половины XVIIвека с аналогичной фигурой Христа. Это деревянный рельеф креста в сканном серебряном окладе XVIвека (ГММК-16662)308; рельеф тиснения серебряного креста XVIвека (ЯМЗ-7670)309; чеканный рельеф серебряного креста 1630 года310 (ЯМЗ-7859) (илл. 2);чеканный рельеф золотого креста 1630 года (ЯМЗ-7879)311 (илл. 8) и серебряное «Распятие» на кресте XVIIвека (ЯМЗ-7672)312. Такие рельефы «Распятий» ярославских напрестольных крестов близки изображениям на каменных крестах XVIвека, бытовавших в Ярославских землях, например, на резном кресте из белого камня, происходящем из Тутаева (б. Романов-Борисоглебск)313. Иконография и характер пластики «Распятий» на ярославских крестах отличается от «Распятий» на новгородских314 и московских315 напрестольных крестахXVI–XVIIвеков.
К концу XVII–XVIIIвеку форма ярославского напрестольного креста меняется, он становится более массивным, шестиконечным, с трехлопастными завершениями ветвей. Такой крест формой и декором приближается к столичным образцам. На концах ветвей и в нижнем перекрестии в картушах чеканятся или гравируются многофигурные сцены из Евангелия. К таким предметам относится, например, серебряный напрестольный шестиконечный крест 1695 года из ярославской церкви Иоанна Предтечи в Толчкове (ЯМЗ-7857)316. С лицевой стороны в центре здесь чеканено крупное «Распятие», вокруг которого в дробницах в форме трилистников чеканены: внизу – «Тайная Вечеря», справа – «Снятие с Креста», слева – «Положение во гроб» и вверху – «Воскресение, Сошествие во ад».
Аналогичную форму имеет напрестольный серебряный крест 1761 года (РЯМЗ) с чеканным изображением «Положения во гроб» под небольшим «Распятием». Сверху «Распятия» чеканено «Воскресение», а по его сторонам – «Тайная Вечеря» и «Омовение ног». На кресте имеются клейма ярославских мастеров А. Корытова и М. Серебряникова317. С 1720-х годов ярославские серебряные кресты украшались многоцветными финифтяными дробницами318. Четыре овальные и одна круглая дробница крепятся на лицевой стороне напрестольного креста 1764 года (ЯМЗ-7869) работы А. Корытова, здесь же в средокрестии расположено финифтяное «Распятие» (илл. 10).
Некоторые ярославские напрестольные кресты выделялись круглой рукоятью, сделанной в нижней части. У таких крестов внизу имеется деревянная круглая в сечении рукоять, не закрытая окладом. Это восьмиконечные деревянные кресты второй половины XVIвека, рассмотренные выше, обложенные сканым (ГММК-16880) (илл. 7) и басменным окладами (ЯМЗ-7668, 7670). Подобные восьмиконечные напрестольные кресты с крепящейся к нему рукоятью называются благословенными или молебными319. К этим же крестам, вероятно, можно отнести уже упомянутый выше переделанный из водосвятного четырехконечный крест второй половины XVIIвека, к которому в XVIIIвеке добавлена рукоять. Крест происходит из Успенского собора г. Ярославля (ЯМЗ-7763)320.
Однако в описях ярославских церквей благословенными крестами называли и обычные напрестольные кресты, у которых нижняя часть ствола квадратная в сечении и закрыта окладом. Например, в описи храма Ильи Пророка читаем: «Крест благословенный, …обложен золотом чеканным и резным…»321 В описи приводится упомянутый выше кипарисовый крест 1657 года (ЯМЗ-7892) (илл. 1) традиционной формы, имеющей сходство с формами других ярославских напрестольных крестов, полностью окованных окладом322.
Кресты воздвизальные
В ярославских храмах бытовали также воздвизальные кресты. В архивных документах первой трети XVIIвека Толгского монастыря указано, что в церкви Введения Пресвятой Богородицы в алтаре был «крест воздвизальной»323. Два восьмиконечных воздвизальных серебряных позолоченных креста-мощевика, украшенных жемчугом, имелись в ярославском Казанском женском монастыре. На рукояти одного из них – креста-мощевика 1761 года гравирована вкладная надпись о вложении в него многочисленных мощей святых324.
Воздвизальными назывались кресты, возносимые в православных храмах и монастырях на праздник Воздвижения Господня. Воздвизальные отличались от напрестольных несколько большими размерами и использованием их во время службы в дни Воздвижения, третьей недели поста, 1 августа и во время крестных ходов325. В отличие от напрестольных, воздвизальные кресты хранились обычно в ризницах. Воздвизальными крестами могли также служить напрестольные кресты, и наоборот. Описываемый выше крест из Казанского монастыря находился на престоле и выносился «14 сентября и в неделю крестопоклонную для поклонения ему на аналой»326.
Кресты водосвятные
Кроме вышеописанных крестов, в ярославских храмах бытовали серебряные полые четырехконечные кресты-мощевики XVII – началаXVIIIвека с килевидными завершениями. В архивных документах и во вкладных надписях такие кресты называются «водосвятными» или «корсунскими». Иногда в одном храме было несколько таких святынь. Например, в ярославской церкви Благовещения имелось два креста: серебряный водосвятный крест с частицей камня Гроба Господня и серебряный водосвятный крест с мощами святых преп. Антония и Феодосия Печерских чудотворцев327.
Водосвятные кресты-мощевики использовались при чине водоосвящения, когда «воде по молитвам церкви сообщается сила, действующая к исцелению души и тела, к отогнанию навета видимых и невидимых врагов; к освящению храмов и других зданий и к великой пользе для верующих»328. При водосвятии использовались также серебряные и медные водосвятные чаши, блюда под крест, кропила, подсвечники для водосвятия, водосвятные ковши, кунганы («кумганы» – кувшины), водосвятные ведра и ушата для воды329. Кроме того, для водосвятия предписывалось иметь стол, обтянутый материей330.
Форма четырехконечных ярославских водосвятных крестов XVII – начала XVIII века близка форме квадрифолия. Окончание четырех ветвей такого креста были килевидными331. На его лицевой стороне чеканилось рельефное «Распятие» с фигурами предстоящих в рост. К таким ярославским памятникам относятся: серебряные кресты второй половины XVIIвека (ЯМЗ-7655) и 1707 года (ЯМЗ-7285) из ярославской церкви Петра Митрополита, а также серебряный крест второй половины XVIIвека (РЯМЗ-11757)332. В верхней части креста, как правило, изображался Саваоф, под ним – Святой Дух в виде голубя, по сторонам которого – херувим и серафим. Иногда над «Распятием» в верхней части предмета чеканились два светила (РЯМЗ-11757) (илл. 11).
На серебряном кресте XVIIвека (ЯМЗ-7655) из церкви Петра Митрополита в нижней части на лицевой стороне чеканено «Водоосвящение» с двумя поясными фигурами и с водосвятной чашей в центре. А в нижней части креста 1707 года (ЯМЗ-7265) чеканены три фигуры: св. Андрей Первозванный, апостол Петр и Петр Митрополит. В нижней части креста XVIIвека (РЯМЗ-11757) чеканены три небольшие фигуры в рост: св. Параскевы Пятницы, Екатерины, Варвары (илл. 11).
С оборотной стороны крестов гравировались различные надписи вязью: литургическая333 (илл. 12), вкладная334 или с указанием мощей святых335. Иногда вкладная надпись гравировалась на боковой поверхности предмета336. Обычно лицевая сторона креста была позолочена, а оборотная и боковые части оставались белыми.
Постепенно к концу XVII – началу XVIII века окончания вертикальных ветвей четырехконечного креста удлинились, при этом несколько изменились его пропорции. Водоствятный крест как бы вытянулся по вертикали, а окончания его ветвей из килевидных превратились в трилистник.
К подобным предметам, с несколько вытянувшимися по вертикали пропорциями, относятся, например, серебряный чеканный крест конца XVIIвека из Успенского собора г. Ярославля (ЯМЗ-7763)337. Его окончания ветвей килевидные, а на оборотной стороне чеканены извивающиеся стебли с листьями.
Несколько вытянуты пропорции по вертикали также и у водосвятного серебряного креста-мощевика ярославской работы второй половины XVIIвека из Сольвычегодского музея338 (илл. 13, 14). Крест серебряный, четырехконечный, полый, с окончаниями ветвей в форме трилистника. На лицевой поверхности данного произведения в центре чеканена крупная горельефная фигура распятого Христа на семиконечном кресте, по сторонам которого – две горельефные фигуры предстоящих, вверху – Саваоф, внизу – голова Адама339 (илл. 13). С оборотной стороны на кресте чеканены пять плоских, несколько выступающих круглых медальона с резными изображениями поясных фигур святых с надписями340 (илл. 14).
Аналогичную форму с сольвычегодским крестом, с такими же окончаниями четырех ветвей в виде трилистника, имеет ярославский водосвятный крест-мощевик XVIIIвека (ЯМЗ-7662). На его лицевой стороне в центре чеканено крупное «Распятие», а на окончаниях ветвей вверху – Саваоф в облаках, поясные фигуры предстоящих, внизу – Глгофа и голова Адама. С оборотной стороны гравированы названия 32 мощей.
Кресты запрестольные
Большие запрестольные, или выносные, кресты устанавливались в алтаре храма к востоку за престолом на специальных деревянных подставках. Во время крестных ходов, в праздники, их обычно выносили из церкви наряду с особо чтимыми иконами, хоругвями и другими святынями.
Подобные кресты были сделаны из дерева, нередко украшены тончайшей резьбой, чеканным, басменным серебром, камнями, жемчугом, костяными, иконописными или финифтяными клеймами с изображением «Распятия», праздников, святых. Запрестольный крест являлся центром храма и символизировал «Древо жизни»341. В XVI–XVIIIвеках в ярославских храмах встречались четырех-342, семи- и восьмиконечные запрестольные кресты.
Семиконечный деревянный крест 1578 года (ЯМЗ) работы мастера Салмана происходит из Спасо-Преображенского монастыря343. По описям 1691 и 1727 годов этот выносной крест находился в Спасо-Преображенском соборе за престолом. По сторонам креста были две рипиды серебряные, ажурные, золоченые; здесь же – икона «Богоматерь Знамение» в серебряном окладе. Над престолом – сень деревянная, резная, золоченая, в ней висел голубь серебряный. В нижней части креста, под яблоком, сохранились остатки серебряной позолоченной басмы. Басма служила фоном и крепилась под костяными изображениями святых и праздников. Узкие деревянные полоски, обрамляющие костяные пластины на семиконечном запрестольном кресте, повторяют узоры басменных, чеканных и резных серебряных изделий.
В описи 1651 года ярославской церкви Ильи Пророка упомянуты два запрестольных креста: «За престолом же два кр[е]сты выносныи резные позолочены, травы на одном прорезные»344. До нашего времени сохранился деревянный восьмиконечный запрестольный крест конца XVIIвека (ЯХМ-985) с живописными «Распятием» и изображениями святых в серебряном золоченом чеканном окладе345.
Кресты панихидные (канунницы)
Восьмиконечные кресты с «Распятием», укрепленные в вертикальном положении на серебряной горке – «Голгофе», бытовали в ярославских храмах с конца XVIIвека. Такой крест ставился на столике (кануне) с рядами мелких подсвечников, перед которым служили панихиды по умершим. К работе ярославского серебряника можно отнести панихидный крест 1691 года (ЯМЗ-7689) из церкви Власия г. Ярославля346. Деревянный резной крест, оправленный в низкопробное серебро, украшенный жемчугом, бирюзой и стеклами в гнездах, был укреплен на медной горке – «Голгофе».
Кресты-тельники
На Руси, так же как и в других странах православного мира, принадлежностью подавляющего числа жителей был нательный крест. По свидетельству иностранцев, «русские все до одного имели обычай носить нательные кресты: они были золотые, серебряные, медные или из другого материала, соответственно состоянию каждого»347. Нательный крест возлагался при крещении на каждого христианина в знак того, что он последователь Христа348.
В XVIIвеке в Ярославле изготавливались серебряные литые кресты-тельники, украшенные темно-синей и голубой (бирюзового цвета), а иногда еще и зеленой эмалью (травяного цвета). Часть крестов имеет штралы (лучи) с крепящимися на них жемчужинами. Можно выделить нательные кресты местной работы нескольких типов.
Наиболее широко распространены кресты-тельники первого типа – четырехконечные, равноконечные или слегка удлиненные по вертикали, с завершениями ветвей в виде крина.На лицевой стороне нательного креста имеется рельефное изображение восьмиконечного «Голгофского креста» с цатой, на оборотной – рельефные надписи в кругах, фигурных ромбах, квадратах. Подобные кресты-тельники второй половины XVIIвека сохранились в различных музейных собраниях349. Такой тип литого креста отличается от новгородских нательных четырехконечных крестов почти круглых, с сомкнутыми трехлопастными ветвями350, напоминающих «людогощенский» деревянный крест. У ярославских крестов-тельников килевидные завершения, в отличие от новгородских, разъединены351.
В XVIIIвеке ярославский крест-тельника сохраняет четырехконечную форму с криновидными завершениями ветвей, но несколько увеличивается в размерах, и по его краям делаются шарики. На таких литых крестах, как правило, отсутствует эмаль и какая-либо проработка чеканом или резцом, оборотная его сторона, как правило, была гладкая352.
Нательные кресты второго типа – традиционной простой четырехконечной формы (вписанной в вытянутый прямоугольник), с изображением «Спаса» в рост с Евангелием в руке. Литые кресты-тельники подобных типов изготавливались ярославскими мастерами во второй половине XVII – начале XVIIIвека353.
Кресты наперсные
Золотые и серебряные четырехконечные кресты, богато украшенные драгоценными камнями, жемчугом, эмалью, предназначались для ношения на цепи поверх одежды священнослужителями, высшим духовенством, князьями и царем. Кресты такого типа часто являлись крестами-мощевиками. К подобным предметам можно отнести сделанный в Ярославле в конце XVIIвека наперсный серебряный четырехконечный крест-мощевик, с лицевой стороны богато украшенный рубинами и изумрудами в золотых кастах, финифтью и жемчугом (ЯМЗ-7886)354. На оборотной стороне креста гравированы стилизованный растительный орнамент и цветочные розетки, в верхней части – надпись: «МОЩИ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕЙМОНА».
Небольшие наперсные или специально сделанные для подношения иконе золотые и серебряные кресты в XVII–XVIIIвеках нередко подвешивались в ярославских храмах к венцу или в нижней части образа. В описи церкви Ильи Пророка упоминается подвесной золотой крест: «Золотой крест, малый для подвешивания на икону, украшен четырьмя камнями и жемчугом». Этот «корсунский» четырехконечный крест с округлыми ветвями был подвешен к иконе «Всемилостивого Спаса», а второй четырехконечный крест, форма которого вписана в четырехугольник, – к венцу иконы355.
Из литературных источников известно, что кресты-мощевики давались «в приклад» и подвешивались к иконе, а также врезались в икону. Вероятно, это были, подобные описанным выше, четырехконечные наперсные или специально изготовленные небольшие кресты-мощевики.Серебряный крест, украшенный чернью, с мощами святых Спиридона чудотворца и Феодосия Тотемского, был врезан в икону и находился в Благовещенской церкви г. Ярославля356. В ярославской Николо-Рубленской церкви имелась икона «Обретение Креста Господня», в нее вложен небольшой четырехконечный позолоченный серебряный крест с частицами Креста Господня и мощами неизвестных святых357.
В итоге можно сделать следующие выводы. Ярославские серебряные и золотые кресты выделяются среди изделий, сделанных в других художественных центрах России, яркой неповторимостью форм и декора, высоким уровнем техники исполнения, праздничным характером сюжетных изображений и обилием разнообразного орнамента фантастических трав, цветов и плодов. Такие серебряные предметы отличаются глубоко национальным характером, своеобразием «цветочного» стиля и высокими художественными достоинствами.
Иллюстрации к статье И. А. Стерлиговой
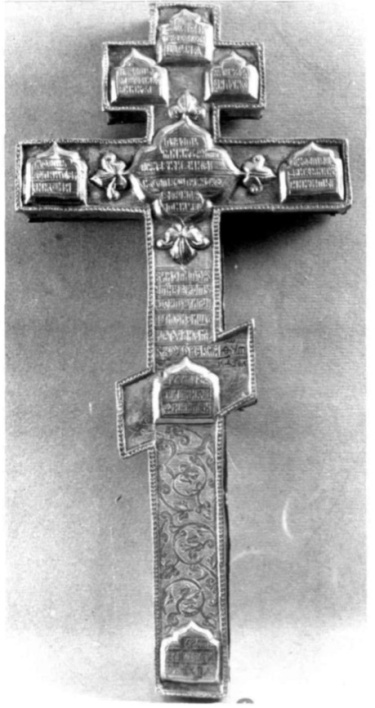
Илл. 3. Крест напрестольный. 1661 год. НГИАМЗ. Надписи о мощах

Илл. 4. Крест напрестольный. 1664 год. НГИАМЗ. Надписи о мощах
Иллюстрации к статье В. В. Игошева

Илл. 1. Фрагмент золотого напрестольного креста 1657 года(ЯМЗ-7892)

Илл. 2. Золотой напрестольный крест 1630 года (ЯМЗ-7859)

Илл. 7. Крест напрестольный благословенный в серебряном окладе. Вторая половина XVI века (ГММК-16880)

Илл. 8. Серебряный напрестольный крест. 1630 год (ЯМЗ-7859)

Илл. 9. Серебряный водосвятный крест-мощевик. XVIII век (ЯМЗ-7662)
Форма, пропорции и размеры крестов различных типов, бытовавших в ярославских храмах, тесно взаимосвязаны с тем или иным их использованием в разных церковных службах. На протяжении XVI–XVIII веков пропорции и форма креста, изображение «Распятия» и другие иконографические изводы, а также характер орнамента меняются.

Илл. 10. Напрестольный серебряный крест. 1754 год (ЯМЗ-7869). Мастер – Афанасий Корытов

Илл. 11. Лицевая сторона серебряного водосвятного креста. Вторая половина XVII века (РЯМЗ-11757)

Илл. 12. Оборотная сторона серебряного водосвятного креста. Вторая половина XVII века (РЯМЗ-11757)

Илл. 13. Серебряный водосвятный крест-мощевик. Лицевая сторона (СМ-63)

Илл. 14. Серебряный водосвятный крест-мощевик. Оборотная сторона (см-63)
Иллюстрация к статье И. Г. Харламовой

Илл. 1. Крест мастера Салмана. 1578 год. Лицевая сторона

Илл. 2. Крест мастера Салмана. 1578 год.Оборотная сторона

Илл. 3. Крест мастера Салмана. 1578 год. Фрагмент

Илл. 4. Крест мастера Салмана. 1578 год. Фрагмент

Илл. 5. Крест мастера Салмана. 1578 год. Фрагмент
Иллюстрации к статье Л. Б. Сукиной

Илл. 1. «Корсунский» крест из переславского Никольского монастыря. Дерево, медь, серебро, чеканка, гравировка, полудрагоценные камни, цветное стекло. XVII–XVIII века

Илл. 2. Рождество Христово. Серебро, чеканка, гравировка

Илл. 3. Дмитрий Солунский. Серебро, чеканка, гравировка

Илл. 4. Сошествие во Ад.Серебро, чеканка, гравировка

Илл. 5. Мощевик Князя Федора Смоленского и чад его Давида и Константина. Серебро, чеканка, гравировка
Изменяется не только стилистика памятников, но и характер технологических приемов их изготовления.
Многообразие разных типов ярославских крестов, выполненных из серебра и золота, обусловлено, прежде всего, вкусами заказчиков и местных мастеров. Такие произведения церковной утвари тесно связаны с богатейшими местными традициями церковного искусства и убранством ярославского храма. Многочисленные сюжетные изображения на крестах XVI–XVIII веков чеканены в высоком рельефе или горельефе с ярко выраженным скульптурным характером и в большей степени ориентированы на образцы резьбы по дереву и камню. В многочисленных гравированных и чеканных изображениях на серебряных крестах разных типов можно видеть повторение иконографических изводов, встречающихся в ярославской иконописи и фресках.
Список сокращений
ГИМ – Государственный Исторический музей.
ГММК – Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль».
ГТГ – Государственная Третьяковская галерея.
РЯМЗ – Ростово-Ярославский музей-заповедник.
ЯМЗ – Ярославский музей-заповедник.
ЯХМ – Ярославский художественный музей.
И. Г. Харламова. Запрестольный крест XVI века мастера Салмана из собрания Ярославского музея-заповедника
В собрании Ярославского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника хранится выносной запрестольный крест мастера Салмана с резьбой по дереву и кости358. Крест является подписным датированным памятником эпохи Ивана Грозного, что делает его особенно привлекательным для исследователей. Ранее этот крест не раз упоминался в литературе, однако никогда не был предметом специального научного исследования.
Первые упоминания о кресте встречаются еще в дореволюционной литературе. В 1887 году в Москве был издан каталог графини Прасковьи Сергеевны Уваровой, составленный на основе описания древностей ризницы ярославского Спасского монастыря, где наряду с другими категориями «древностей» представлен и крест Салмана359. В каталоге помещена фотография фрагмента лицевой стороны креста и дано краткое его описание.
На момент составления каталога (1887 год) на кресте находились следующие композиции с резьбой по кости: «Распятие», «Благовещение», «Не рыдай Мене Мати», «Жены-мироносицы», «Снятие со Креста», «Троица Ветхозаветная», «Воскресение» (в изводе «Сошествие во ад»), «Явление Христа апостолам». На верхней перекладине помещались фигуры: «Богоматерь Знамение», херувим, серафим, царь Давид и царь Соломон.
При описании оборотной стороны креста указаны князья Борис и Глеб, на верхней перекладине – «Троица» и «разные святители». Вероятно, уже к тому времени большинство вставок на кресте были утрачены, а сохранившиеся частично перемонтированы и находились не на своих местах.
Таким образом, каталог П. С. Уваровой содержит минимальные сведения о кресте Салмана и является первой попыткой ввести этот памятник в научный оборот.
В 1892 году фотография лицевой стороны креста была опубликована Н. В. Покровским360. Автор приводит этот крест в качестве примера выносных крестов с изображением праздников и святых, ссылаясь при этом на каталог П. С. Уваровой. Фотографии П. С. Уваровой и Н. В. Покровского фактически повторяют друг друга, однако представляют интерес, так как воспроизводят несохранившиеся костяные пластины в центральной части креста (в том числе «Распятие»).
В советское время изучением этого памятника занимался выдающийся знаток древнерусской резьбы и скульптуры Н. Н. Померанцев, принимавший участие в его реставрации. Им был выделен целый ряд произведений с резьбой по дереву, камню и кости, связанных с Ростовом. В предисловии к каталогу выставки работ Государственной центральной реставрационной мастерской им. И. Э. Грабаря в 1965 году крест Салмана был назван им в числе центральных памятников ростовской резьбы361.
Краткие замечания о кресте содержатся в каталоге по ярославскому серебру В. В. Игошева (1997 год)362 и в статье И. М. Соколовой (1994 год)363.
В трудах вышеуказанных авторов сведения об интересующем нас кресте носят весьма общий, отрывочный характер. До настоящего времени остается неясным вопрос о происхождении памятника, нет подробного его описания, не изучена его иконографическая программа и, как следствие этого, не дана объективная оценка значимости этого памятника в ряду аналогичных произведений XVI века.
В настоящей статье мы попытаемся найти ответы на некоторые поставленные вопросы. Крест Салмана будет интересовать нас как с точки зрения произведения мелкой пластики, так и с точки зрения его идейного замысла.
Крест большой, деревянный, по форме семиконечный, с тремя прямо положенными перекладинами364. С лицевой и оборотной сторон на кресте вырезаны четырехугольные (у основания – килевидные) киотцы и место для «Распятия», которые первоначально были заполнены резными вставками из слоновой кости с изображением праздников и святых. В настоящее время большинство костяных вставок утрачено (из пятидесяти девяти киотцев изображения сохранились лишь в шестнадцати, некоторые – фрагментарно).
На боковых сторонах, по краю и вокруг киотцев крест украшен резным орнаментом трех видов: «криновидным» (в виде волнистого растянутого стебля с отходящими от него в противоположные стороны побегами); геометрическим в виде выпуклых четырехгранников; на торцах поперечных перекладин – геометрическим в виде «косой сетки».
В древности крест был обложен серебряной золоченой басмой, о чем свидетельствует гвоздевые отверстия и небольшие кусочки фольги, сохранившиеся у основания креста.
На резьбе повсюду видны следы позднего золочения.
У основания креста – точеное деревянное яблоко, на котором в лентообразном углублении по периметру оброном вырезана авторская надпись:
«ЛЕТА 7080 ШЕСТАГО (1578) М(Е)С(Я)ЦА И(Ю)НЯ В 27 Д(Е)НЬ ЗДЕЛ(А)Н КР(Е)СТ ПОВЕЛЕНИЕМ АРХИМАНДРИТА ЯРОСЛАВСКАГО ФЕОДОСИЯ ДЕЛАЛ МАСТЕР САЛМАН».
Музейные инвентарные книги не дают достоверных сведений о происхождении памятника. В книге музейных поступлений значится, что крест происходит из ризницы ярославского Спасского монастыря, что не соответствует действительности. Включая этот памятник в каталог ризницы Спасо-Преображенского монастыря, П. С. Уварова делает важное замечание: «Крест этот не принадлежит ризнице, не находится в ее описях и сохраняется в книгохранительнице монастыря»365.
Попытаемся выяснить происхождение креста, обратившись к описям Спасо-Преображенского монастыря 1709 и 1787 годов.
В описи 1709 года на л. 15 находим следующую запись: «Крест выносной, большой, обложен басменным серебром золоченым… вырезаны Христовы страсти и святые на кости…»366
Запись относится к перечню предметов, находившихся в алтаре церкви Преображения. Описание очень общее и лишь условно может быть отнесено к нашему кресту.
В описи 1787 года среди предметов алтарной части той же Преображенской церкви находим описание креста, точно соответствующее нашему: «Крест выносной, большой, обложен серебром золоченым; на нем вырезаны на кости на разных штуках страсти Господни и разные святые на обеих сторонах. Зделан 7086 году Салманом месяце июне… Одной штуки нет…»367
Совершенно очевидно, что речь идет об интересующем нас памятнике.
При этом в датировке креста последняя цифра написана неразборчиво и больше напоминает ноль, чем шесть. Поэтому неудивительно, что в ученической копии описи стоит дата 7080 (1572)368.
Иеромонах Владимир, ссылаясь на описи Спасского монастыря 1691 и 1787 годов, приводит следующие данные: «В алтаре Преображенской церкви… за престолом икона Пречистые Богородицы Знамения в серебряном окладе и крест выносной со страстями Спаса и святыми; на кресте написано: «зделан 7080 (1572) года». По сторонам две ризы серебряные сквозные, вызолоченные»369.
Заметим, что архимандрит Феодосий, чье имя упоминается на кресте и по чьему заказу он был сделан, занимал пост настоятеля Спасского монастыря с 1574 по 1578 год. Поэтому крест не мог быть выполнен в 1572 году.
Это несоответствие в датировке следует рассматривать как ошибку переписчика или же неправильное прочтение надписи на кресте.
Таким образом, в конце XVIIвека крест Салмана находился в алтаре главного храма Спасо-Преображенского монастыря. Можно предположить, что он был там и раньше и, более того, специально был изготовлен для этого храма (косвенным доказательством тому является тот факт, что заказчиком креста был архимандрит Спасского монастыря).
Согласно описям в Спасском монастыре было несколько крестов подобного типа. Один из них, похожий по описанию на крест Салмана, находился в сопредельной с собором церкви Входа Господня в Иерусалим:
«Крест воздвизальный, на нем с передней стороны вырезано «Распятие Господне» и двунадесятые праздники на белой кости, а с другой стороны вырезаны образы на черной кости; обложен серебром золоченым сканым, края – басменным…»370
В XV–XVIвеках подобные деревянные запрестольные кресты с костяными вставками были весьма распространены в русских церквах. Они могли быть разной формы, но непременно должны были иметь на себе образ «Распятия». Особенно много их было в Вологодском и Белозерском краях, где в конце XV – началеXVIвека сложилась своя школа резчиков. В их числе знаменитый резной крест XVIвека из вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря371.
Был такой крест и в Иосифо-Волоколамском монастыре, выполненный в 1544 году по заказу новгородского архиепископа Феодосия372. Кресты устанавливались в алтаре храма к востоку за престолом на специальных деревянных подставках. Они могли использоваться и как прецессионные: в особо торжественных случаях во время крестных ходов их выносили из церкви наряду с особо чтимыми иконами, хоругвями и другими святынями373.
Обращает на себя внимание семиконечная форма креста с параллельным подножием. В древнерусском искусстве кресты семиконечной формы чаще изображались в живописи и в произведениях мелкой пластики XV–XVIвеков. Особенно часто их можно увидеть на новгородских иконах XVвека в композициях, связанных с «Распятием»374.
Большие запрестольные, поклонные, памятные кресты в XV–XVIвеках имели четырех-, а чаще восьмиконечную форму с выступающими вверх концами. Такие кресты были широко распространены на Русском Севере, в Москве, Новгороде и других регионах России. В собраниях ряда музеев сохранились уникальные запрестольные кресты, являющиеся выдающимися памятниками древнерусского искусства. Таковы, например, два восьмиконечных запрестольных креста Благовещенского собора Московского Кремля375; уже упоминавшийся нами крест первой трети XVIвека из Спасо-Прилуцкого монастыря, украшенный басмой и резной костью; четырехконечный дубовый крест 1532 года с резными на кипарисовых пластинах сценами праздников работы новгородского мастера Стефана Романовича и др.
Семиконечные кресты встречаются значительно реже. Ближайшие аналоги кресту Салмана – два деревянных резных креста середины XVIвека, упомянутые в свое время Н. Н. Померанцевым. Один из них происходит из церкви Богоявление с. Угодичи Ростовского уезда; 376 происхождение второго не установлено. Ранее эти кресты хранились в Ростове, в настоящее время местонахождение их неизвестно. Кресты идентичны не только по форме, но имеют общие изображения святых. На обоих крестах имеются изображения в рост Николая Чудотворца и Леонтия Ростовского и, в круглых медальонах, полуфигуры ростовских святых – Исайи и Игнатия, изображения которых находились также и на кресте Салмана.
Мотив вьюна с отходящими в противоположными стороны трехлепестковыми ростками, покрывающий боковые стороны креста и перегородки между киотами, – один из древнейших орнаментальных мотивов, получивший широкое распространение в различных видах древнерусского искусства. Уже в XII–XIIIвеках «крин» – стилизованный цветок лилии – появляется в произведениях монументального искусства и книжной графики, а в XVIвеке становится наиболее характерным для произведений мелкой пластики и прикладного искусства в целом. Подобным орнаментом в XVIвеке обычно украшали рамки на иконах, будь то медное литье или резьба по дереву377.
Растительные орнаменты на крестах глубоко символичны: трехлепестковые ростки – крины символизируют «древо жизни», так же как и все кресты так или иначе иллюстрируют мысль о «животворящем древе».
На кресте Салмана криновидный побег имеет отличительные особенности как в деталях рисунка, так и в технике и приемах резьбы, как-то: сдвоенный стебель, сочетание растительного оранмента с геометрическим, абсолютно точные аналоги которым мы вновь находим среди ростовских памятников378.
Впервые предположение о существовании в Ростове Великом в середине XVIвека крупной мастерской резчиков высказал Н. Н. Померанцев в 1965 году. Исследования последних лет подтвердили это предположение. В настоящее время выделен целый ряд памятников с характерными признаками орнаментальной резьбы379. Это в основном небольшие деревянные иконы и складни, хранящиеся в разных музейных собраниях страны. Среди них – икона середины XVIвека «Ростовские святители и Николай Чудотворец» из Государственного Исторического музея. Резной орнамент двух видов, покрывающий поля этой иконы, является абсолютно точной аналогией орнаментам на кресте Салмана380. Очевидна их принадлежность к одному кругу произведений, объединенных близостью стиля и техники резьбы, которые исследователи вслед за Н. Н. Померанцевым традиционно связывают с Ростовом Великим.
География распространения изделий ростовских резчиков была довольно обширна и не ограничивалась близлежащими городами. Примерами тому может служить крест конца XVIвека из Благовещенского собора Сольвычегорска, иконография резных изображений которого восходит к двум деревянным запрестольным крестам, хранившимся ранее в Ростовском музее381.
Костяные вставки, сохранившиеся на кресте Салмана, неодинаковы по размеру, расположены не на своих местах; их размеры не всегда соответствуют вырезанным в кресте киотцам, а изображения святых – надписям над ними. Скорее всего, эти пластины были бессистемно скомпонованы в более позднее время, некоторые из них перенесены с какого-то другого произведения. Вероятно, одна из таких «перенесенных» пластин – фигурка Леонтия Ростовского, чье изображение дважды встречается в деисусном чине.
Опуская подробное описание каждой из сохранившихся пластин, отметим, что все они выдают руку опытного мастера. Иконография святых, технические приемы резьбы, палеогрфические признаки сходны с ростовскими резными иконами и складнями. Отметим общие свойства, характерные для памятников этой группы, выделенные И. М. Соколовой:
– уплощенные фигуры с крупными головами, по форме приближенные к правильному кругу;
– лики с удлиненным овалом, большими, расширяющимися книзу носами, близко поставленными глазами;
– повторяются приемы разделки крыльев и волос мелкими параллельными бороздками, пересеченными тонкими прямыми линиями382.
Резьба плоскорельефная, выполнена в стиле «подражания» деревянной резьбе; в изображении праздничных композиций – глухая, в деисусном чине и изображении избранных святых – сквозная с удалением фона. Сочетание глухой резьбы с ажурной накладной давало возможность сохранить излюбленную в Древней Руси полихромность вещи. Типичный образец такой резьбы – крест 1544 года из Волоколамска.
Иконография святых и праздничных сцен на кресте Салмана обычна для второй половины XVIвека. В изображении «Богоматери Знамение» отметим характерную новгородскую деталь – изображение младенца без круга (извод «Воплощение»).
По сохранившимся костяным пластинам, по надписям над киотцами и по аналогиям с другими запрестольными крестами попытаемся восстановить композиции костяных вкладышей на кресте Салмана. Для этого возьмем три наиболее характерные аналогии нашему кресту:
1. крест конца XV века работы Амвросия и мастеров его круга из Троице-Сергиевой Лавры;
2. крест XVI века из вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря и
3. крест 1544 года из Иосифо-Волоколамского монастыря383.
При размещении на кресте костяных вставок использована традиционная схема: на лицевой стороне в средокрестии помещалось «Распятие». По сторонам от него в двенадцати киотцах находились композиции праздников. «Распятие» тематически и композиционно делило их на две части: земную жизнь Христа и рассказ о Его Воскресении. Над «Распятием» в двух киотцах могли находиться изображения «Воскресения» (в изводе «Сошествие во ад») и «Троицы».
На вертикальной части креста под «Распятием» по традиции помещалось изображение храмового праздника, на нашем кресте это должно было быть «Преображение». Ниже – еще шесть ячеек, в которых могли находиться клейма с изображенными сюжетами.
На малой верхней перекладине в трех киотцах были помещены поясные фигуры «Богоматери Знамение» с херувимом и серафимом, Давид и Соломон.
На нижней перекладине также в трех киотцах находились изображения: Макария и Онуфрия; Антония, Сергия и Варфоломея; Евфимия и Макария. У основания креста в отдельном киотце с килевидным завершением – преподобный Иоанникий.
Что касается оборотной стороны креста, то здесь можно говорить с большей долей уверенности, так как в большинстве случаев над киотцами сохранились надписи.
На обороте креста в средокрестии находилось изображение «Спаса в силах». Над ним в двух киотцах – «Спас Нерукотворный» и «Троица Ветхозаветная». Верхнюю перекладину украшали фигуры Бориса и Глеба, херувим и серафим, в центре – возможно, «Отечество».
В остальных киотцах большой перекладины помещались ростовые фигуры (по две в каждом) деисусного чина. Слева направо: Симеон (столпник?); Дмитрий (Солунский) и Иаков (епископ Ростовский); Исайя (епископ Ростовский) и Иоанн (Богослов); Николай (Чудотворец) и Василий (Великий); Петр (митрополит Московский) и Петр (апостол); Михаил (архангел) и Богоматерь.
Далее – «Спас в силах» и вновь пары святых: Иоанн (Предтеча) и Гавриил (архангел); Павел (апостол) и Иоанн (Златоуст); Григорий (Богослов) и Алексий (митрополит Московский); Андрей (апостол) и Леонтий (епископ Ростовский); Игнатий (Ростовский) и Георгий (Победоносец); Даниил (столпник ?).
На вертикальной перекладине также попарно помещались избранные святые: Афанасий и Кирилл; Филимон и Феодор; Филипп и Ипатий; Стефан и Филипп; неизвестные святые; Феодор Тирон и Никита; Косма и Дамиан; Никита и Исидор.
На нижней перекладине в трех киотцах: Варвара и Параскева Пятница; Савватий, Зосима, Пафнутий; Екатерина, Ирина.
У основания креста – мученик Галактион. Удивляет отсутствие на кресте изображений «ярославских чудотворцев» Федора, Давида и Константина, чьи мощи находились в сопредельном с собором храме. В XVIвеке изображения этих святых, получивших признание русской церкви еще в конце XVвека и имевших большую популярность, уже известны не только в монументальной живописи (в том числе в стенописях Спасского собора), но и в памятниках прикладного искусства, аналогичных нашему кресту384.
На наш взгляд, изображения этих святых обязательно должны были присутствовать на кресте Салмана, и они там были: в том единственном киотце, где не сохранились не только костяные вставки, но и надписи над киотом. В настоящее время на этом месте закреплены фигуры Макария и Онуфрия, которые, согласно надписям, должны помещаться на нижней перекладине с оборотной стороны креста вместе с мучениками, пустынножителями и основателями монастырей. Кроме того, дерево под костяными вставками изменило свой цвет, и ранее находившиеся здесь изображения отпечатались по контурам. По этим «отпечаткам» можно заметить, что первоначально здесь находилось не две, а три фигуры – одна в центре и две по бокам; при этом центральная была на голову выше боковых385. На это же указывают и отверстия от гвоздей, которыми фигуры крепились. Вероятно, это могли быть изображения Федора, Давида и Константина.
Одно лишь вызывает недоумение: по утверждению В. В. Игошева, костяные дробницы на кресте крепились поверх золоченой басмы, которая служила для них фоном. В таком случае непонятно, как могли появиться эти «отпечатки».
Из всей массы находящихся на кресте изображений, можно выделить следующие группы: воины – Архангел Михаил, Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, Борис и Глеб, Федор Тирон; пустынножители – Макарий и Онуфрий, Савватий, Зосима, Пафнутий Боровский, Антоний (Новгородский ?); мученики – Варвара, Параскева Пятница, Екатерина, Ирина, Никита, Стефан, Дмитрий и Георгий (они же воины), Галактион; апостолы – Петр, Павел, Филимон, Филипп; святители – Николай Чудотворец, Василий Великий, Иоанн Златоуст; митрополиты Петр, Алексей и Филипп; преподобные – Афанасий, Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский, Исайя, Игнатий, Феодор, Исидор, Иаков, Леонтий, Ипатий.
Все они отражают соответствующие идеи. Подбор и размещение святых на кресте соответствует его заказному характеру. Особое внимание уделено мученикам и святым, проявившим себя на монастырском поприще. Их изображения помещались отдельно на нижней перекладине креста.
Исследователями было замечено, что в подножиях крестов обычно изображались святые, связанные с заказчиком, храмом или монастырем, куда кресты были вложены386. На нашем кресте у основания в отдельных киотцах находились фигуры мученика Галактиона и преподобного Иоанникия, которые соответственно должны были отражать идею мученичества и указывать на преемственность общежительского иночества устава. Преподобный Иоанникий – один из учеников и последователей Сергия Радонежского, чье изображение находилось здесь же, вместе с другим его учеником Варфоломеем.
Такое предпочтение монашествующим особам можно объяснить не только монастырским статусом собора, каким являлся Спасо-Преображенский собор, но и общей направленностью канонизации второй половины XVIвека, выражавшейся в преимущественном прославлении основателей монастырей и их последователей387.
В деисусном чине рядом с раннехристианскими святыми помещались изображения наиболее почитаемых святителей московских – митрополитов Петра и Алексия. Здесь же находились фигуры шести ростовских святых: Леонтия, Исайи, Игнатия, Иакова, Феодора, Исидора. Такое соседство, по-видимому, не случайно. Напомним, что в XVIвеке Ярославль входил в состав ростовской митрополии. Сам же Ростов в это время «имел особый статус, входя в «удел» Ивана IV, который в конце 1575 года принял титул князя Московского, и Псковского, и Ростовского»388.
Ярославский Спасский монастырь пользовался покровительством московских властей и всегда находился на позициях официальной политики Московского государства. Уже в первые годы опричнины Спасский монастырь в числе немногих монастырей вместе с Кирилло-Белозерским и Симоновым монастырем выступил в поддержку внутриполитической линии царя и был активным ее проводником.
Вторая половина правления Ивана Грозного отмечена также неспокойной и внешнеполитической ситуацией: 1562–1563 годы – полоцкий поход; 1570 год – погром Новгорода и борьба с Крымским ханом Девлет-Гиреем. Кроме того, продолжалась затяжная Ливонская война (1558–1582 годы). Поэтому по-прежнему актуальной была тема прославления воинских подвигов. Неслучайно на кресте находилось довольно много изображений святых воинов.
Важно отметить и тот факт, что большинство святых, чьи имена сохранились на кресте, получили признание Русской Церкви еще до Макарьевских соборов. На соборах 1547 и 1549 годов было канонизировано еще более тридцати новых святых, что также нашло отражение в иконографической программе креста. На нем были помещены четыре вновь канонизированных святых: Пафнутий Боровский, Макарий Калязинский, Иаков (епископ Ростовский), Никита Новгородский. Изображения этих святых есть и в стенописях Спасо-Преображенского собора389.
Анализ состава изображений на кресте Салмана наводит на мысль, что он был задуман, прежде всего, как запрестольный. Его иконографическая программа перекликается с системой росписей Спасо-Преображенского собора, выполненных на четырнадцать лет раньше. Всего на кресте Салмана и в росписях собора встречается около двадцати общих изображений святых. При этом и тут и там местная монастырская тема отчетливо звучит на фоне общерусских тем.
Среди массы икон и складней, которые изготавливали в Ростове, отдельные вещи выполнялись на заказ. Вероятно, одним из таких заказов является крест для ярославского Спасского собора. Известно, что в XVIвеке Спасский монастырь был одним из крупнейших монастырей центральной Руси. Запрестольный крест для центрального монастырского храма – серьезный заказ, и то, что Феодосий делает его в Ростове, свидетельствует о соответствующем уровне подготовки ростовских резчиков, способных создавать такие сложные произведения, как запрестольные кресты с многочисленными композициями праздников и святых.
Где в Ростове могла находиться такая мастерская? В литературе высказывались предположения о возможности существования крупной мастерской резчиков при дворе ростовского архиепископа, или же при монастыре390. Обратившись к синодикам XVIIвека ростовского Богоявленского Авраамиева монастыря, мы трижды находим упоминание рода Салмана – крестешника391. Салман – имя редкое в наших краях, созвучное с восточным «салма» (= татарское кушанье)392. Вряд ли такое совпадение имени, рода занятий, времени и места бытования можно назвать случайным. Нам уже известно имя инока Исайи, выполнившего в 1562 году знаменитые резные врата для одного из приделов Богоявленского собора ростовского Авраамиева монастыря. Теперь мы можем назвать имя еще одного великолепного мастера, чья связь с этим монастырем подтверждается документально393.
В заключение следует отметить, что многие наши выводы носят предварительный, предположительный характер и нуждаются в дополнительных доказательствах. Однако не подлежит сомнению, что перед нами ценнейший памятник древнерусского искусства второй половины XVIвека, представляющий огромный интерес как с точки зрения художественной, так и с точки зрения его исторической значимости.
Л. Б. Сукина. «Корсунский» запрестольный крест из Переславского Никольского монастыря
Среди дошедших до нашего времени древнерусских выносных и запрестольных крестов встречаются памятники, история которых овеяна легендами об их «корсунском» происхождении. В фондах Переславль-Залесского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника хранится такое редкое произведение русского декоративно-прикладного искусства – запрестольный крест из собора святителя Николая местного Никольского монастыря394. Он поступил в музей в 1923 году, после закрытия обители, и в каталожной карточке значится как «крест корсунский четырехконечный, дубовый, византийской формы XVI–XVIIвв.». С такой же аннотацией и датировкой крест экспонировался на постоянной музейной выставке «церковных ценностей» с 1923 по 1926 годы. В то же время среди служителей церкви и некоторых краеведов сложилось и до сих пор бытует мнение, что данный памятник является одной из древнейших святынь Ростова-Ярославской епархии, связанной с первыми веками христианства на Руси, едва ли не подлинником «корсунского дела». Эта точка зрения и по сей день остается весьма распространенной в связи с тем, что крест долгое время оставался вне поля зрения специалистов. В данной статье мы попытаемся восстановить историю появления креста в Переславле-Залесском, уточнить его датировку и дать краткую характеристику художественных особенностей памятника.
Переславский «корсунский» крест, имея весьма внушительные размеры, производит монументальное впечатление. Его высота – 208 см (с рукоятью – 239 см), ширина – 135 см. Ветви креста неодинаковой длины, нижняя – заметно длиннее, чем три остальных. Деревянная основа произведения обита золоченой медью и украшена тридцатью серебряными дробницами-мощевиками (по 15 с каждой стороны), обведенными серебряными же картушами. Кроме того, по полю креста, как с лицевой, так и с оборотной стороны, разбросаны касты с ограненными цветными стеклами и полудрагоценными камнями-кабошонами, а также небольшие крестики из полудрагоценных камней – яшмы, лазурита и др. По периметру крест обведен обнизью из крупного речного жемчуга и стеклянных бусин изумрудно-зеленого цвета.
На лицевой стороне креста дробницы с гравированными на них изображениями расположены следующим образом: в средокрестии – Распятие с Богоматерью и Иоанном Предтечей; н концах – Рождество Христово, Сошествие Святого Духа, Положение во гроб и Сошествие во Ад; на ветвях – Дмитрий Солунский, Иоанн Богослов, Иоанн Предтеча, Святой Василий пресвитер Анкирский, Великомученик Георгий, Апостол Павел, Федор Тирон, Великомученик Виктор, Федор Стратилат, Федор Смоленский и чада его Давид и Константин. На оборотной стороне: в средокрестии – Вознесение Христово; на концах – Въезд в Иерусалим, Благовещение, Успение Богоматери, Сретение Господне; на ветвях – Мученица Христина, Мученик Евстратий, Святой Василий епископ Амасийский, Святой Агафоник, Святой Меркурий, Великомученица Марина, Великомученик Орест, Святой Игнатий Ростовский, Святой Исайя Ростовский, князь Василий Ярославский. К сожалению, еще до поступления креста в музей дробницы были грубо вскрыты и находившиеся в них мощи перечисленных выше святых утрачены. При этом часть дробниц повреждена, а некоторые целиком оторваны от креста и ныне хранятся отдельно (например, центральная композиция лицевой стороны «Распятие с предстоящими» лишь недавно была обнаружена хранителями музея среди других предметов прикладного искусства неизвестного происхождения)395.
Сохранившиеся до нашего времени документы Никольского монастыря не дают никаких сведений о происхождении «корсунского» креста и обстоятельствах его появления в обители396. Сторонники древности этого памятника апеллируют к мнению известного историка церкви и исследователя переславской старины А. И. Свирелина, посвятившего кресту отдельную работу, опубликованную в 1900 году в «Трудах Владимирской ученой архивной комиссии»397.
Отнесение креста к «корсунским» древностям А. И. Свирелин аргументирует его схожестью со знаменитым запрестольным крестом из Успенского собора Московского Кремля: «Если Московский крест считается Корсунским крестом, то и Переславский крест должен быть отнесен к типу (выделено нами. – Л. С.) Корсунских крестов»398. Из этого сравнения и ряда отвлеченных историко-богословских рассуждений исследователь сделал неожиданные, ничем более не подтверждаемые выводы: 1) крест, находящийся в переславском Никольском монастыре, есть корсунский, принесенный из Киева в Ростово-Суздальскую землю в конце Х или в начале XIвека; 2) московский корсунский крест принесен в Москву из Ростова во второй половине XVвека; 3) украшения на переславском корсунском кресте выполнены в северной Руси попечением князя Дмитрия Донского и царя Ивана Грозного с супругами; 4) корсунский крест принесен в Никольский монастырь из Суздаля во второй половине XVIIвека некими почитателями старины399.
Что касается формы Переславского креста, то он действительно принадлежит к древнему типу процессионных и запрестольных крестов, восходящих к кресту императора Константина, явившемуся ему перед Мильвийской битвой. Неизвестный византийский автор конца VIII – начала IXвека описывает один из таких крестов, украшавших площадь Константинополя: «В северной части форума стоит крест [такой], каким увидел его на небе великий Константин, позолоченный и с круглыми шарами [яблоками] на концах»400. Эволюция этой формы креста изучена и подробно описана А. П. Смирновым в статье, посвященной греческому выносному кресту XI–XIIвеков401. Кресты, подобные Константинову, в период раннего средневековья встречались в алтарях храмов Сирии, Армении, Грузии, на Афоне402. Вполне возможно, что на Русь такие кресты впервые попали из Византии через Корсунь, и здесь за ними закрепилась традиция именования «корсунскими»403.
Ветви креста из Никольского монастыря, как и его византийских прототипов, заканчиваются дисками, связанными с концами перемычками, выходящими из середины выемок концов. Из глубокой древности идет и традиция обнизывать крест по периметру бусинами и жемчугом (в некоторых случаях обнизь заменялась чеканным узором из выпуклых бляшек), украшать кастами с драгоценными и полудрагоценными камнями и снабжать его крючками и кольцами для удобства ношения во время крестных ходов. В средокрестии изображены «Распятие» (с лицевой стороны) и «Воскресение» (с оборотной) как ведущие сюжеты литургического действа. Но на этом сходство заканчивается.
В XI–XII веках концы византийских запрестольных крестов обычно украшали чеканные изображения Богоматери, Иоанна Крестителя, Архангелов Михаила и Гавриила, Святых Дмитрия Солунского, Георгия Победоносца, Федора Стратилата и Николая Мирликийского. В случае с Переславским крестом мы имеем дело с более сложной декорацией, включающей в себя дробницы с мощами святых Ростовской митрополии, большинство из которых удостоились канонизации только на Макарьевских соборах середины XVIвека404. На почетных местах на верхней ветви с двух сторон расположены мощевики святых Василия Амасийского и Василия Анкирского, получивших известность как ревнители чистоты христианства и борцы с ересью. Такая программа декорации, несомненно, была обусловлена какими-то особыми обстоятельствами, сопровождавшими историю изготовления данного памятника.
В древности победные выносные кресты должны были убеждать новообращенных язычников и еретиков в торжестве истинного христианства и играли важную роль в религиозных процессиях и действах как на Православном Востоке, так и на Католическом Западе. Неслучайно, такой тип креста был распространен на Руси в первые века ее христианизации405.
Интерес к форме большого запрестольного креста, вероятно, возродился на русской почве в середине XVII века. Н. Ф. Каптерев связывал его с деятельностью патриарха Никона. В 1656 году для только что построенного Кийского Крестного монастыря Никон заказал точную копию Креста Господня, для чего даже посылал в Иерусалим иеромонаха. На кресте были устроены мощевики с тремя сотнями частиц различных святынь. По мысли Никона, поклонение новому кресту должно было заменить путешествие в Святую землю: «Аще кто с верою восхощет к тому Животворящему Кресту на поклонение приити, да не менее тому силою того святого Животворящего Креста благодать дается, якоже путешествующим в святые палестинские места»406.
Деяние патриарха, надо полагать, вызвало подражание в среде ревнителей древнего благочестия. Известно, что подобные кресты появились в это время не только в Московском Кремле, но и в Ярославле, Дмитрове и других городах407. Вероятно, эти новые святыни использовались в борьбе с расколом и влиянием идей протестантизма.
Когда же такой крест мог появиться в Переславле? В решении этого вопроса, пожалуй, можно согласиться с А. И. Свирелиным, который связывает его перемещение в Никольский монастырь с деятельностью в обители раскаявшегося расколоучителя Питирима, который с 1704 года был здесь строителем, а с 1713 года игуменом. В начале XVIIIвека Питирим выступает уже в роли яростного борца с расколом, за что заслуживает постановления в 1719 году в епископы Нижегородские408. Напомним, что среди мощевиков переславского креста есть ковчежец с мощами Апостола Павла, также пережившего обращение в истинную веру. Ростовской митрополией, в чьей юрисдикции находился переславский Никольский монастырь, в этот период управляли также ревнители официального православия: знаменитый митрополит Димитрий (1702–1709), а затем его преемники архиепископы Досифей (1711–1718) и Георгий (1718–1730).
При игуменстве Питирима на средства бывшего переславского купца, а в то время уже «московского гражданина», Герасима Яковлева Обухова в монастыре строился новый каменный Никольский собор, для которого и предназначалась святыня. Храм был завершен в 1721 году409.
В монастырской описи конца XVIII века среди существенного соборного имущества указан «на горнем месте крест большой серебряной обложен медью…»410. О его древности не упоминается. Возможно, в самом монастыре и не питали никаких иллюзий по поводу времени создания святыни. Так, назначенный в 1898 году настоятелем Никольского собора священник Ф. П. Делекторский в своем описании обители высказался весьма определенно: «…в Николаевском монастыре находится замечательный археологический памятник XVII века – так называемый Корсунский Крест». И только ниже, будто спохватившись, излагает версию А. И. Свирелина о его корсунско-киевском происхождении411.
Анализ стилистических особенностей декора креста подтверждает версию Ф. П. Делекторского. Изображения на дробницах выполнены в характерной для конца XVII – началаXVIII века «гравюрной» манере. А обрамляющие их картуши с европейскими «императорскими» коронами в верхней части не оставляют сомнений в своей принадлежности к стилю раннего русского барокко412. Этому же времени и стилю присуща любовь к украшению предметов декоративного искусства мелко ограненными крупными цветными стеклами и разнообразными полудрагоценными камнями, которыми щедро декорирована вся обитая медью поверхность креста (они художественно «разбросаны» между картушами с мощевиками). Учитывая время строительства храма, для алтаря которого предназначался крест, думается, можно ограничить датировку его создания самым концом XVII – первой четвертью XVIII века.
Жесткая, несколько грубоватая техника исполнения гравировки и чеканки, а также отсутствие пробирных и авторских клейм на деталях декорировки, выполненных из серебра, могут свидетельствовать о провинциальном происхождении памятника. Фигуры людей гравированы контурно, почти без теней, что было особенно характерно для ярославских ювелиров второй половины XVIIстолетия413. Выбор из числа русских святых, чьи мощи были вмонтированы в крест, исключительно тех, кто почитался в Ростове и Ярославле, также позволяет предположительно связать его изготовление с местными серебряниками, выполнявшими церковные и частные заказы на территории Ростовской митрополии.
В 90-е годы XIX века Никольский собор был отремонтирован на средства переславского купца А. А. Варенцова. После ремонта «корсунский» крест переместился из алтаря и оказался «на завороте к левому клиросу»414. Вероятно, сам крест также «реставрировали» в конце XIX или в начале XX века. На месте некоторых дробниц, которые А. И. Свирелин считал утраченными, появились новые – «Благовещение», «Успение», а также был заменен поврежденный мощевик Федора Стратилата (он заметно отличается небрежностью исполнения и примитивностью рисунка от более древних).
Таким образом, «корсунский» крест из переславского Никольского монастыря если и может считаться таковым, то не по происхождению, а исключительно по своей типологической принадлежности. Датировать этот памятник можно концом XVII – первыми десятилетиями XVIIIвека, и ничто не указывает на его более древнее происхождение. Приблизительно в это же время крест оказался в Переславле, но привезен он был сюда, вероятнее всего, не из Суздаля, а из Ростова или Ярославля. А первый серьезный исследователь креста А. И. Свирелин, видимо, оказался жертвой искушения обрести среди столь высоко ценимых им переславских древностей «настоящую корсунскую вещь», что было свойственно многим «археологам» его времени415.
Список сокращений
ПЗИАХМЗ – Переславль-Залесский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
РФ ГАЯО – Ростовский филиал Государственного архива Ярославской области.
Примечание редактора: В дополнение см. статью Л. Б. Сукиной: О датировке «корсунского» креста из переславского Никольского монастыря // Сообщения Ростовского музея. Ростов Великий, 2002. С. 265–272.
О. А. Сухова. Чудотворные Сретенский и Виленский кресты из города Мурома
Сретенский крест
Чудотворный «животворящий Крест Господень», издавна почитавшийся в городе Муроме, получил название «Сретенский», так как с 1795 года он находился в приходской Сретенской церкви. В ней был устроен придел святого Димитрия Солунского в память о деревянном храме, где ранее хранилась эта древняя городская святыня. В настоящее время Сретенский крест выставлен в экспозиции Древнерусского отдела Муромского историко-художественного музея416.
В городе сложилось и бытует до настоящего времени следующее предание о Сретенском кресте: «Однажды в Муроме случилось моровое поветрие – чума… похитившая здесь немало жертв и приведшая всех жителей у ужас. Долго и усердно граждане муромские молились Господу Богу, прося помощи о помиловании, но эпидемия не ослабевала и люди умирали каждодневно сотнями. Тогда одному простому по происхождению, но благочестивому старцу в видении было открыто, что для спасения города нужно отыскать в соборе находящийся среди ветхостей древний деревянный крест большой и с ним обойти вокруг Мурома. Граждане послушались слов старца и устроили крестный ход. И когда крестоносцы дошли до Сретенского пруда, на глазах у всех совершилось знаменательное событие: выползавшие сюда больные после молитвенного обращения к святыне получали исцеление. Молитвы после сего усилились, и бедствие, постигшее город, миновало. В память этого события, на означенном месте вскоре же была устроена часовня и в ней поставлен… крест, а улица названа Выползовой. Из сей же часовни крест и был перенесен впоследствии в ближайшую к ней церковь»417. Точно неизвестно, когда произошли эти события. По одной из версий предания – в первой половине XVI века, по другой – в 1654 году, по третьей около – 1770 года. Эпидемии XVIII–XIX веков не получили в Муроме значительного распространения. По мнению жителей, это случилось благодаря чудодейственной силе Сретенского креста.
Теперь в Муроме вновь возрождено почитание этого чудотворного креста. Уже несколько лет подряд в праздник Сретения Господня в залах музея проходят молебны животворящему Кресту418. Он поражает своими внушительными размерами и роскошным серебряным с золочением окладом. Его высота – два с четвертью метра, а размах крыльев – более полутора. Эта святыня все более привлекает к себе внимание местных жителей, паломников, а также современных исследователей «церковных древностей». Между тем этот памятник еще малоизвестен и не исследован. Единственная публикация о нем вышла еще до революции, более ста лет назад419. В течение 1993 – 1995 годов крест экспонировался на двух выставках в Москве. В 1996 году впервые его изображение было воспроизведено в печати420.
Муромцы в прошлом особо чтили Сретенский крест и часто обращались к этой святыне: «В городе Муроме и его окрестностях с давних пор пользуется благоговейным почитанием и многими считается чудотворным деревянный больших размеров крест, принадлежащий Сретенскому храму. Во всех крестных ходах, которые бывают в летнее время в городе и вокруг оного, эта святыня является необходимою принадлежностию. Часто для совершения молебных пений, св. крест принимают и в домах граждан при самых разнообразных случаях жизни, преимущественно же туда, где нередко находятся больные, нередко получающие от него благодатное врачевание в своих недугах. Но чаще и наиболее всего обращаются к нему взоры молящихся во время постигающих местность эпидемических болезней. Так было, по словам муромских старожилов, в 1830, 48, 53, 55 и 71-м годах при появлении в г. Муроме и близлежащих селениях страшной холеры. В эти печальные годины, и особенно летом 1853 года, духовенство Сретенской церкви даже при помощи других священноцерковнослужителей, говорят, едва могло удовлетворить просьбы всех желающих помолиться перед животворящим Крестом. Почти каждый муромский житель старался принять тогда святыню под свой кров как благодатную защиту от всегубительной язвы, так что Крест носился по городу ежедневно с раннего утра и до позднего вечера»421.
История почитания креста, безусловно, относится к достаточно раннему времени, о чем свидетельствуют документы Муромского Духовного Правления 1771 и 1773 годов422. Они рассказывают о споре из-за святыни, разгоревшегося между группой муромских купцов во главе с Трофимом Лихониным и причтом Дмитриевской церкви. В 1771 году купцы направили в Муромское Духовное Правление доношение. Они просили «о возвращении из Дмитриевской церкви в деревянную часовню, находящуюся в их Выползовой улице, большого честнаго животворящего креста, который, по их словам, с давних пор стоял в сей часовне, был возобновлен живущими в улице разноприходскими людьми и взят отсюда самовольно дмитриевским причтом 15 лет тому назад»423. Во время разбирательства священник дмитриевского храма Петр Иванов, служивший здесь с 1749 года, показал, что святыня принадлежит этой церкви по праву. Отец Петр заявил, что в 1753 году он принял имущество по описи и что крест тогда уже находился в храме. Он предъявил церковную опись, где значилось: «…Крест Господень великий, у него венец и цата серебряные позлащенные чеканные, пелена камчатая зеленая». Однако он не отрицал и того, что чудотворный крест «в реченной часовне некоторое время в прошлых давних годех, назад тому лет свыше шестидесяти и был…»424.
Более года спустя, в 1773 году, было подано обстоятельное доношение в Муромское Духовное Правление от церкви Димитрия Солунского «всех приходских людей и разных приходов жителей Выползовой улицы и протчих обывателей». Документ содержит подписи пятидесяти трех известных в городе купцов. Они объявляли доношение Трофима Лихонина «ложнозатеянным», доказывали давнее нахождение святыни в храме и утверждали, что кресту подобает быть не в запустевшей удаленной часовне, а в церкви, «иде же бывает служба божественная, каждение, свещи приносимые и елей в лампаде горящий» и «в день пророка Божия Илии, июля 20 дня… как издревле, так и ныне с честным крестом и прочими святыми иконами для пения молебного с водоосвящением священник ходит неотменно»425.
В документе также указано на то, что крест «возобновлен с давних лет приходскими тоя церкви людьми, родом Жадиных»426. Лихонина же упрекали в том, что он «не прежде, но в самый гнев Божий, на нас бывший, в великую по местам заразу, начал просить о Кресте Господни, чтоб из святыя церкви вынести в часовню и поставить в пусте месте, а нас, ко святей церкви притекающих, богоугодного поклонения молебным пением Кресту Господню в скорби сущих лишить…»427
Эта тяжба отразила настроение муромцев, опасавшихся, что «свирепствовавшая в 1771 г. в Москве чума» поразит и Муром. По свидетельству местного «хроникера» А. А. Титова, содержащемуся в «рукописи, находящейся у немногих граждан… несчастье для Мурома кончилось смертию лишь двух или трех человек»428. Избавление от напасти связывали со Сретенским крестом, который, как следует из документов, уже «издавна почитался» к тому времени.
Очевидно, спор был решен в пользу Дмитриевского храма, где был оставлен крест, позже перенесенный в новую каменную Сретенскую церковь. Становится ясно, что обретение чудотворного креста относится к гораздо более раннему времени. Так, тот же «хроникер» Титов «под 1654 годом говорит о жестокой язве, истребившей в течение двух лет более трети жителей Мурома. Возможно, что к этому году и относится то исцеление от креста многих болящих и соединение с ним построения часовни, о которой повествует местное предание»429.
Муромская легенда об исцелениях по-своему объясняет название улицы Выползовой. Это наименование в Муроме известно еще по городским описям 1566, 1573–1574, 1636–1637 годов430. Деревянная церковь во имя Димитрия Солунского, стоявшая на этой улице, также упомянута во всех этих документах. Она считалась одной из самых древнейших в городе.
Предание указывает на то, что чудотворный крест был обретен в городском соборе. В Писцовых книгах города Мурома 1624 и 1636–1637 годов такие «воздвизальные» деревянные кресты, обложенные серебром, упомянуты в нескольких храмах города, в том числе и в соборе Рождества Богородицы и в димитриевской церкви. Возможно, именно тот самый чудотворный крест упомянут в Писцовой книге 1624 года писца Киреевского при описании деревянного дмитриевского храма: «крест воздвизальный древян, обложен серебром, золочен»431. Почти также описан он и в Писцовой книге 1636–1637 годов: «Да в Дмитриевской улице по конец посаду Церковь В. Стр. Христова Дмитрия Селунского древяна с папертью… да в олтаре… крест воздвизальный дръвен обложен серебром золочен»432.
В приведенных выше документах XVIII века, касающихся спора из-за святыни, описан крест, который уже считался чудотворным. В отличие от предыдущих описаний, здесь указаны такие детали, как чеканные венец и цата. Возможно, это как раз и свидетельствует об упомянутом в указанных источниках «обновлении» креста433. Отмечен чудотворный крест при описании Сретенской церкви в «Статистическом обозрении города Мурома», составленном А. А. Титовым в тридцатые годы XIX века: «св. крест, в большом размере, обложен серебром с позолотою; стоит в особом месте»434. Уделено внимание Сретенской святыне в «Описании церквей и приходов Владимирской епархии» 1897 года. Здесь указано на почитание креста, но совершенно не дано его внешнее описание: «Из священных изображений особенно чтится не только прихожанами, но и окрестными жителями изображение Животворящего Креста Господня, молебствия пред этим Крестом особенно усердно совершаются во время эпидемических болезней»435.
Интересно отметить, что этот чудотворный крест имел «копию грубой работы». Ее изготовили для установки в часовне, когда известная святыня бала перенесена в храм. В этой часовенке, кроме копии креста, находились и иконы. «В Ильин день совершались молебствия, причем кропился водою весь скот. Неизвестно точно, сколько просуществовала часовня». После 1817 года, находившаяся тогда «за плетнем в частном саду» часовня «за ветхостью» была разобрана. Копию креста и иконы передали сначала в Сретенский храм, а оттуда в 1857 году – в церковь Погоста Горицы Муромского уезда436.
Чудотворный Сретенский крест постоянно менял свой драгоценный убор. Очевидно, это было связано с неоднократными массовыми исцелениями муромцев. Так, сохранившийся до настоящего времени богатый серебряный оклад изготовлен в 1848 году. Эта дата упоминается в местном предании в числе тех лет, когда Муром был спасен от очередного «морового поветрия». Не сохранилось источников, указывающих имена жертвователей на этот пышный убор святыни. Возможно, ими стали многие жители города.
Первое подробное описание Сретенского креста содержится в «Описи древних церквей города Мурома и древних предметов, в них находящихся» конца XIX века: «В приделе св. Димитрия Солунского на левом клиросе находится животворящий Крест в сребропозлащенной ризе. Оригинальна и представляет археологический интерес сама форма креста и внешний вид его. Имея около трех аршин в вышину и два в ширину, он может быть назван десятиконечным, так как не только вершина, но и поперечная доска его по бокам пересечены крестообразно, внизу же у подножия такого пересечения нет. При этом крайние оконечности девяти верхних концов также имеют подобие малых крестов. В центре его находится древнего письма изображение Спасителя, лик Коего украшен серебряным вызолоченным нимбом, выше – Св. Дух в виде голубя, а в боковых узлах или перекрестиях слева – Божия Матерь с Марией Магдалиной, справа – Иоанн Богослов с сотником Логином. С лицевой стороны крест покрыт серебряной вызолоченной ризой, а с задней – медью. Стоит он в иконостасе дмитриевского придела, с левой стороны, в особо устроенном для него футляре и на пьедестале в виде Голгофы»437. Слева на полях обозначена дата – XVIIвек, есть также поздние приписки карандашом: «и другой 1711 г.», «требует реставрации, серебряный оклад 1835 г., сзади медь»438.
В местный музей крест поступил в 1929 году. При описании в книге поступлений была указана и его легенда: «"Крест животворящий», четырехконечный с Голгофой, покрытый сверху и сзади медной окладкой. В центре находится изображение Спасителя, покрытого слюдой, которая уже потрескана. Лик украшен венчиком с лучами из белых камешков, но их осталась небольшая часть… Живопись сохранилась очень плохо. 150х210. Крест поступил из Сретенской церкви, в которой находился в приделе Димитрия Солунского в правой части иконостаса. По церковному описанию он относится к XVIIвеку. С ним связана легенда, что свирепствовавшая чума в 1771 году не получила в Муроме распространения благодаря «чудотворной силе» креста. 30.XII.1929. Передано в отд. Антирелигиозного отдела»439. Позже оклад был учтен как серебряный.
Сретенский крест является сложным разновременным памятником церковного искусства XVII–XIXвеков. Деревянный древний крест оказался «замурованным» в сплошном окладе – «футляре». Сохранившиеся не закрытые окладом фрагменты живописи датируются XVII–XVIIIвеками440. Так как оклад не снимался, трудно судить о времени изготовления деревянной основы.
Крест запрестольный, деревянный, четырехконечный, с живописным изображением на лицевой стороне «Распятия» с ростовыми фигурами четырех предстоящих. С лицевой стороны обложен чеканным серебром с прорезями для фигуры Христа и ликов предстоящих. Нимбы Христа и Марии украшены двумя накладными чеканными венцами. Над фигурами предстоящих справа – эмалевая дробница с надписью «С IОАННЪ…ОГИНЪС.». Над Христом – накладные без позолоты буквы: "ИНЦИ". С оборотной стороны обложен золоченой медью, с чеканными изображениями орудий страстей и ангелов. Торцевые части обложены гладкой медью. На окладе в трех местах клейма: С-Е, А-К 1848, 84, Георгий Победоносец. 1848. Клеймо: А-К, внизу под чертой 1848, рядом клеймо с пробой и клеймо с гербом Москвы – Георгием Победоносцем годовое. Очевидно, принадлежит Ковальскому Андрею Антоновичу (1821–1856). В 1821 году он – обер-бергпробирер, с 1856 года – старший пробирер в Москве. Клейма с инициалами мастера С-Е у Постниковой-Лосевой с таким начертанием Е нет. Есть похожее клеймо неизвестного московского мастера 1841 года (чеканный оклад иконы ГИМ)441.
Муромская святыня – чудотворный Сретенский крест требует дальнейшего исследования специалистами различных областей. Он еще не поставлен в ряд подобных ему памятников и пока не стал широко известной православной реликвией.
Виленский крест
Крест, получивший название «Виленский» и прославленный в древнем городе Муроме, является известной православной святыней, дошедшей до нашего времени.
В 1930 году эта реликвия поступила в местный музей, где хранилась, не привлекая к себе внимания исследователей; среди специалистов бытовало мнение, что этот чудотворный крест утрачен. В 1994 году мною он был упомянут среди сохранившихся предметов Муромского Троицкого монастыря442. В 1996 г. Виленский крест был возвращен в свою прежнюю обитель, где выставлен для поклонения. Этот памятник требует тщательного изучения, так как имеются некоторые противоречия и несоответствия данных, содержащихся в источниках о нем и в тексте «Повести о чудесах Виленского креста», с его нынешним внешним обликом.
«Повесть о чудесах Виленского креста» – памятник местной литературной традиции, созданием которого завершилось формирование так называемого «муромского цикла» произведений443. Тексту повести уделялось большое внимание специалистами, но все же вопрос о ее датировке окончательно не решен, тогда как этот вопрос и проблема атрибуции исследуемого креста тесно связаны и разрешение их во многом зависит друг от друга.Не зная о том, что святыня сохранилась, Т. А. Брун первоначально датировала Повесть последней третью XVIIвека, затем она предложила отнести ее к первой половине XVIII века444. В настоящее время другая исследовательница этого произведения Т. Р. Руди, получив возможность проанализировать материалы о сохранившемся кресте, предложила вернуться к его первоначальной датировке445. Ею также было выдвинуто предположение, что Повесть была создана вМуромском Благовещенском монастыре446.
Привожу полное название произведения: «ПОВЕСТЬ О ЧУДЕСАХ Ч(Е)СТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КР(Е)СТА ИЖЕ ВЗЯТ В ЛИТОВСКОМ ГРАДЕ ВИЛНЕ, СЫНОМ БОЯРСКИМ АРЗАМАСКИМ ВАСИЛИЕМ МИКУЛИНЫМ, И ПРИНЕСЕН ВО ГРАД МУРОМ, ИЖЕ ИЗВОЛИЛ БЫТЬ В ДЕВИЧЬЕ МОНАСТЫРЕ ЖИВОНАЧАЛЬНЫЯ ТРО(И)ЦЫ»447.
В самом начале Повести дано описание внешнего вида креста: "В ЛЕТО 7166 (1658. – О. С.) ГОДУ В ИЮЛЕ М(ЕСЯ)ЦЕ В СУББОТНИЙ ДЕНЬ, В МУРОМЕ ГОСТИННОЙ СОТНИ, ТОРГОВОЙ Ч(Е)Л(О)ВЕК БОГДАН БОРИСОВ С(Ы)Н ЦВЕТНОВ, ТОГО ДНЯ ПРИЛУЧИЛОСЯ ЕМУ ИДТИ ОТ Ц(Е)РКВИ Б(О)ЖИЙ ОТ ВЕЧЕРНЯГО ПЕНИЯ КО ДВОРУ СВОЕМУ И КАК БУДЕТ ОН БОГДАН ПРОТИВ УЛИЦЫ СВОЕЙ, ПО ОБЫЧАЮ ОБРАТИСЯ К СОБОРНОЙ ЦЕРКВИ ПОМОЛИТСЯ, И ПРОТИВ УЛИЦЫ ЕГО БОГДАНА СЕДЯЩУ Ч(Е)Л(О)ВЕКУ, И УВИДЯ ЕВО ЧЕЛОВЕК ПОШЕЛ ЗА НИМ В УЛИЦУ, И ПОСТИГШИ ЕВО ОСТАНОВИЛ, И ВЫНУЛ ИЗ ШАПКИ ОБОЛОЧЕН В БУМАГЕ КР(Е)СТ ПОКЛОННЫЙ СКОВАН В СРЕБРЕ ПОЗЛАЩЕН С КАМЕНИЕМ И ЖЕМЧУГОМ УКРАШЕН, И ТОЙ КР(Е)СТ ДАЕТ БОГДАНУ, ПРИИМИ СЕЙ ЖИВОТОВОРЯЩИЙ КР(Е)СТ; ИБО ИЗВОЛИЛ ОН У ТЕБЯ БЫТИ??»448.
Не сразу принимает крест Богдан Цветной у Василия Микулина, а только после того, как боярский сын «с великими слезами» рассказал свою повесть. В 1657 году Василий Сергеевич Микулин был при взятии литовского города Вильны. «И КАК ВОШЛИ В ТОТ ГРАД МНОГИЕ ЛЮДИ ВОИНСКИЕ, И ВОШЛИ В ЛИТОВСКУ ЦЕРКОВЬ, ТАКОЖДЕ И Я ВОШЕЛ, ХОТЯ ЧТО ВЗЯТИ, И ДО МЕНЕ ВСЕ ПОБРАНО, ТОЛКО ДЕ УВИДЕЛ ЛЕЖИТ НА ПОМОСТЕ ЦЕРКОВНОМ СРОНЕН СЕЙ ЖИВОТВОРЯЩИЙ КРЕСТ, И Я ДЕ ЕВО ПОДНЯЛ И ПРИВЕЗ ЕГО В АРЗАМАСКОЙ УЕЗД…»449В 1658 году Микулин вновь получил приказ отправиться на военную службу, и трижды был ему «глас» о том, чтобы отвез он крест в город Муром и отдал бы его Богдану Цветному. «ТАРАС ЖЕ ПО ПРОЗВАНИЮ БОГДАН, ТОЙ ЖИВОТВОРЯЩИЙ КР(Е)СТ Г(О)СПОД(Е)НЬ СО МНОГОЮ ЧЕСТНО ПОСТАВИЛ В ДЕВИЧЬЕ МОНАСТЫРЕ ЖИВОНАЧАЛЬНЫЯ ТРО(И)ЦЫ НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ НА НАЛОЕ, ГДЕ И ДО НЫНЕ БЛАГОДАТИЮ Б(О)ЖИЕЮ ОБРЕТАЕТСЯ»450.
Василий Микулин попадает в плен к крымским татарам, спасается бегством, положившись на помощь обретенного креста. «…ИЗ ПОЛОНУ ПРИШЕД В ГОРОД МУРОМ, МОЛИЛСЯ ЖИВОТВОРЯЩЕМУ КР(Е)СТУ, И ПРО ВСЕ ОН ВАСИЛЕЙ СКАЗАЛ, ЕЖЕ ЕМУ СЛУЧИСЯ»451.
Другой же герой Повести Тарасий Борисович Цветной по прозвищу Богдан – известная историческая личность, незаурядный человек своего времени. Он был причислен к Московской гостиной сотне. Вместе со своим отцом Борисом Семеновиче Цветным был ктитором муромских монастырей. Предположительно фамилию Цветные (Цветновы) они получили от того, что среди их товаров были и москательные. Эти данные содержатся в Описи г. Мурома 1637 года. Упоминания Бориса и Тарасия Цветных встречаются в различных документах XVII–XVIIIвеков. Кроме того, известен ряд вкладов Тарасия Борисовича в два муромских монастыря: Троицкий девичий и Благовещенский мужской. Это в основном замечательные изделия из серебра 1630 – 1650-х годов, возможно исполненные в Муроме. С этими обителями тесно связана жизнь Богдана Цветнова. Его двор находился на территории Троицкого девичьего монастыря. Известно, что он заботился о красоте его строений и убранстве. На колокольне Благовещенского собора им были установлены часы, что было редкостью для того времени. Интересны и сведения о нем, как о человеке высокой книжной культуры. Есть упоминания о книгах, которые приобретали он сам и его отец в книжной лавке Московского Печатного двора. Среди них шесть экземпляров «Книги о вере», а также одна «Грамматика» Милетия Смотрицкого452. Ранее мною было высказано предположение, что свою жизнь Тарасий Борисович Цветной закончил «старцем Тихоном» в Муромском Благовещенском монастыре453.
По мнению исследователей, «Повесть о чудесах Виленского креста» могла быть написана еще при жизни героев произведения и, возможно, при личном участии Тарасия Цветнова454.
Первое из известных упоминаний в документальных источниках о кресте содержится в Описи Троицкого монастыря 1766 года, повторяющей Опись 1731 года: «1766, НОЯБРЯ ДНЯ ОПИСЬ УЧИНЕННАЯ МУРОМСКОГО ТРОИЦКОГО ДЕВИЧА МОНАСТЫРЯ… ИГУМЕНИЮ НЕОНИЛОЮ, ПО ВЗЯТОЙ ТОГО МОНАСТЫРЯ У КАЗНАЧЕНИ МОНАХИНИ АГЛАИДЫ, ЧИНИМОЙ В 1731-М ГОДУ МАРТА ДНЯ НА ПРЕЖДЕБЫВШУЮ ИГУМЕНИЮ АДРИАНУ, ОПИСИ ЖЕ ТОГО, ЧТО В ОНОМ МОНАСТЫРЕ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ И ВСЯКОГО ИМУЩЕСТВА ПРОТИВ ТОЙ ПРЕЖНЕЙ ОПИСИ В НАЛИЧЕСТВЕ ИМЕЕТСЯ И ЧЕГО НЕ ЯВИЛОСЬ ТАКО ЖЕ И ВНОВЬ ПРИВОВОКУПЛЕНО ЯВСТВУЕТ НИЖЕ СЕГО: …НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ У КРЫЛОСА НА НАЛОЕ ОБРАЗ КАЗАНСКИЯ БОГОРОДИЦЫ В КИОТЕ, ОКЛАД СЕРЕБРЯНЫЙ ЧЕКАННЫЙ, ВЕНЕЦ И ЦАТА ОБНИЗАНО ЖЕМЧУГОМ, ОСЬМНАДЦАТЬ ЗЕРЕН В ВЕНЦЕ ЯХОНТ ДВА КАМНЯ ЗЕЛЕНЫХ ДА 11 КАМНЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕТЫРЕ КАМНЯ С ЖЕМЧУГАМИ, ДВА БОРКА ЖЕМЧУЖНЫХ, ПОДУШЕЧКА ОБНИЗАНА ЖЕМЧУГОМ, РЯСЫ, В НИХ ВОСЕМЬ КАМНЕЙ, ЧЕТЫРЕ ЗЕРНА БОЛЬШИХ; ПАНАГИЯ СЕРЕБРЯНАЯ ЛИТАЯ – КРЕСТ СЕРЕБРЯНЫЙ С МОЩАМИ ВЫЗОЛОЧЕН, ЦЕПОЧКА СЕРЕБРЯНАЯ, НА НЕЙ ВОСЕМЬ ЗЕРЕН ЖЕМЧУЖНЫХ… У КРЕСТА ТРЕХ ЗЕРЕН НЕ ЯВИЛОСЬ"455. Публикуя эту опись, Н. П. Травчетов на этом листе дает примечание: «Крест этот, почитаемый чудотворным, был найден в городе Вильне сыном боярским, жителем г. Арзамаса Василием Сергеевичем Микулиным, и им же в 1658 году приложен в монастырь»456.
Итак, Повесть дает красочное описание святыни, а Опись зафиксировала реальное состояние креста в 1731 году, оставшееся таким же и в 1766 году. Судя по этой Описи, в то время Виленский крест был привешен к иконе Казанской Богоматери и находился с ней в одном киоте. Собственного реликвария он тогда еще не имел.
Столетие спустя «Главная церковная и ризничная Опись Муромского Троицкого девича монастыря», составленная игуменей Евфросиней в 1861 году, отмечает иное размещение святыни, которая описана несколько иначе: «На аналогии столярном с позлащенною нарезкою, в киоте деревянном с затворами, крест серебряный без пробы, позлащенный с частицами мощей разных святых, на цепочке, скованный без пробы, позлащенный, в нем с цепочкою весу 40 золотников; на киоте и на затворе 12 Господских и Богородичных праздников, на коих ризы и поля также серебряные без пробы, позлащенные»457. Упоминают этот крест и другие описи XIXвека, например, 1878 года458.
Практически такое же описание креста давали дореволюционные краеведы459. Н. П. Травчетов к подробному описанию святыни добавляет интересные примечания: «Описываемый в повести крест пользуется в городе Муроме благоговейным почитанием, как чудотворный, и берется в дома жителей для совершения водосвятных молебствий, сделан он из серебра, вызолочен, находится в середине такого же складня с чеканными изображениями двунадесятых праздников и вместе с последними помещен в киоте, положенном на аналое. По своей форме крест восьмиконечный, но закругленные тупые концы его не выделяются резко один от другого, что при малой величине креста делает его несколько похожим на архиерейскую панагию. К верхней части прикреплена серебряная же цепочка. Размеры крест имеет 3 вершка (13,2 см. – О. С.) в длину, 2 вершка (8,8 см. – О. С.) в ширину и ½ вершка (2,2 см. – О. С.) в толщину"460.
Обращает на себя внимание то, что, приводя описание креста по Повести, Н. П. Травчетов смущен «каменьями и жемчугом», поэтому он делает сноску: « В настоящее время таковых украшений на кресте не имеется»461. В советское время Виленский крест в литературе не упоминался.
При поступлении в музей (10.02.1930) крест получил следующее описание: «Животворящий крест серебряный вызолоченный, имеет восьмиконечную форму, на лицевой стороне которого вычеканены изображения. Крест с прикрепленной сверху цепочкой, помещен в киот… На оборотной стороне креста вырезана надпись о хранящихся в нем частицах мощей разных святых»462. Вместо датировки приводится легенда о происхождении креста с указанием 1658 года, то есть крест без сомнения датировался при поступлении годом упоминания в Повести. При записи его в инвентарь в 1940 – 50-х годах дано более пространное описание, но назван он десятиконечным, сделана та же запись о происхождении463.
С 1980 по 1989 год данный памятник находился на централизованном хранении во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, где в 1984 году был описан хранителем коллекции драгоценных металлов Н. Н. Трофимовой: «Крест-мощевик, вложенный в средник складня, серебряный, чеканный, четырехконечный, боковые концы трехлопастные с полуфигурами Богоматери и Иоанна; в средокрестии – Распятие, верхний и нижние концы многолопастные, с изображением Саваофа и «Главы Адама», фоны около изображения покрыты проканфаренным травчатым «узором». На оборотной стороне по всей поверхности гравированы надписи о мощах. Вверху – петля для подвески… Не этому ли кресту посвящена «Повесть о чудесах честного и животворящего Креста Господня, иже взят в литовском граде Вильне… и принесен в град Муром…» Датировка креста в повести (1658 год) ошибочна». Н. Н. Трофимова продатировала этот памятник концом XVIII – началомXIX века464. Эта атрибуция была использована мною при упоминании Виленского креста в статье о древностях Троицкого монастыря465. В настоящее время необходимо пересмотреть эту датировку. При пристальном изучении памятника и письменных источников выяснилось, что к этому времени крест, безусловно, не может быть отнесен. Даже если пока не брать во внимание дату упоминания его в Повести, а именно: обретение в 1657 году и перенесение в Муром в 1658 году, – а взять только первое упоминание о нем в письменных источниках, то и тогда уже его следует отнести к не к концу XVIII – началуXIX века, а к первой трети XVIIIвека. Возможность атрибуции его временем, указанном в Повести, будет рассмотрена несколько позже. Следует отметить, что складень, в который был помещен крест, действительно следует датировать рубежом XVIII–XIX веков. Совершенно очевидно, что этот реликварий был специально заказан для святыни. Это традиционный складень-кузов с живописными изображениями в центре и на створах. Здесь размещены следующие сюжеты: Вход Господень в Иерусалим, Воскресение, Вознесение, Успение Богоматери (на среднике); Рождество Богородицы, Рождество Христа, Богоявление (на левой стороне); Введение во храм, Сретение Господне, Преображение (на правой створе); Благовещение (в верхней части створ); Троица (в килевидном завершении средника). Живопись закрыта серебряными чеканными окладами с прорезями для ликов.
При вскрытии окладов во время реставрации креста уже в монастыре было проведено визуальное обследование живописи, которое дало возможность заключить, что иконописная работа была исполнена примерно в начале XIXвека. На окладе же имеется клеймо П • С, возможно, Сазикова Павла Федоровича, московского купца третьей гильдии, ставившего такое клеймо с 1793 по 1810 год, а с 1810 года уже имевшего фабрику серебряных изделий466. Это клеймо не было отмечено ни в одном из дореволюционных описаний памятника. Таким образом, можно уточнить датировку складня – до 1810 года.
Непосредственно для Виленского креста в среднике складня сделано углубление, соответствующее форме креста.
Приведенные выше описания мощевика несколько различно трактуют его форму. Она не совсем обычна, несколько сложна. Это четырехконечный крест. Боковые концы трехлопастные, верхний и нижний – многолопастные, при этом три верхних конца соединены. Мощевик вытянут по вертикали (длина в 1,6 раза больше ширины). Он исполнен из серебра 500º (в отличие от складня, где оклад 875º) в технике чеканки, с золочением. На лицевой стороне пластины условно можно выделить три уровня изображений: первый – с Распятием в средокрестии, заключенным в семиконечном кресте, напоминающем по форме ранние наперсные кресты-мощевики такого типа, как крест, подаренный патриархом Филофеем преподобному Сергию Радонежскому; второй – примыкающие к этому внутреннему кресту полуфигуры Богоматери и Иоанна Богослова, «вписанные» в трехлопастные формы центральной перекладины, и Саваоф, размещенный в «надстроенном» трехлопастном килевидном навершии; третий – пространство до краев креста, заполненное проканфаренным травным узором; в самом низу – голова Адама. Изображения выполнены в низком рельефе, в несколько наивной манере. Композиция производит впечатление построенной нарочито искусственно, что продиктовано вычурной формой креста. На обороте резаны надписи о тридцати пяти реликвиях. Они исполнены полууством и умело размещены подписчиком на поверхности фигурной пластины: «МОЩИ СВ(Я)ТЫХ • ПРОРОКА ДАНИИЛА • АНДРЕЯ ПЕРВОЗ(ВАННОГО) • ЕВ(А)НГ(Е)Л(И)СТА МАТФЕЯ • ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА • АПОСТ(О)ЛА ВАРФОЛОМЕЯ • АРХИДИАКОНА СТЕФАНА • АНТИПЫ ЧЮДОТВОРЦА • ЛАЗАРЯ ЧЕТВ(Е)РОДН(Е)ВНАГО • ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА • МЛ(А)Д(Е)НЦА ОТ ИРОДА ИЗБИЕНЫ(Х) • ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО • Ц(А)РЯ КОНСТАНТИНА • ФЕОДОРА СТРА(ТИЛАТА) • ВЕЛИКОМ(У)Ч(Е)Н(И)КА ПРОКОПИЯ • ИОАННА ЗЛАТОУСТАГО • ИОАННА МИЛОСТИВАГО • ВЕЛИКОМ(У)Ч(Е)Н(И)КА МЕРКУРИЯ • ПЕРВОМ(У)Ч(Е)Н(И)ЦЫ ФЕКЛЫ • К(НЯЗЯ) АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО • ПАНТЕЛЕИМОНА ЦЕЛИТЕ(ЛЯ) • ЕВТРАФИЯ ПЛАКИДЫ • ЕФРЕМА СИРИНА • МИХАИЛА МАЛЕИНА • Б(О)ГОМАТЕРЕ АННЫ • М(У)Ч(Е)Н(И)ЦЫ ВАРВАРЫ • ВЕЛИКОМ(У)Ч(Е)НИЦЫ МАРИНЫ • АНАСТАСИИ РИМЛЯНИНЫ • ФЕОДОСИИ ДЕВИЦЫ • ДРЕВАЖЕЗЛА МОИСЕОВА • ГРОБЫ ГУРИЯ И ВАРСОНОФИЯ КАЗАНСКИХ • РИЗА СЕРЪГИЯ РАДОНЕЖСКАГО • РИЗА ЕФРЕМА НОВОТОРЖСКАГО • ТРОСТЬ АНТОНИЯ РИМЛЯНИНА • ПЕРСТЬ ЕВФРОСИНИИ СУЗЪДАЛСКИЕ • ГРОБА МАКАРИЯ ЖЕЛТОВОЦКАГО»467.
В самом тексте Повести названы только семь из заключенных в Виленском кресте частиц мощей святых, перечень которых, за исключением некоторых разночтений, одинаков во всех известных списках памятника: «А ВЪ ТОМЪ ЖИВОТВОРЯЩЕМЪ КРЕСТЕ ГОСПОДНИ СОКРОВЕННОЙ БЛАГОДАТИ СВЯТЫХ И ЦЕЛБОНОСНЫХ МОЩЕЙ ПОДПИСАНО ТАКО • ЧАСТЬ ДРЕВА ЖЕЗЛА ПРОРОКА МОИСЕЯ РИЗА ПРЕПОДОБНАГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКАГО РИЗА ЕФРЕМА НОВОТОРЖСКАГО • ТРОСТИ АНТОНИЯ РИМЛЯНИНА • ОТ РАКИ ЧАСТИ ГУРИЯ И ВАРСОНОФИЯ КАЗАНСКИХ • ПЕРСТ ЕВФРОСИНИИ СУЖДАЛСКИЯ • ОТ РАКИ ЧАСТЬ МАКАРИЯ ЖЕЛТОВОДСКАГО»468. Любопытно, что эти реликвии заключены в самом низу мощевика. Возможно, это связано с тем, что при погружении креста во время водосвятий сначала именно эта часть оказывалась в воде. Исследовательница Повести Т. Р. Руди предлагает свой вариант объяснения несоответствия разночтений текста произведения и надписей на Виленском кресте. Интересна ее гипотеза, что данный крест вначале не был мощевиком, затем в него были помещены перечисленные в Повести реликвии, а позже постепенно он был дополнен еще двадцатью восьмью частицами мощей469. Но все же полностью принять эту версию довольно сложно. Во-первых, этот крест по типу именно мощевик, то есть он сразу был изготовлен как реликварий и вряд ли мог быть принесен в Муром пустым, совсем без частиц мощей. Во-вторых, семь поименованных в Повести реликвий располагаются в самом низу креста, и трудно предположить, что он заполнялся снизу вверх. В-третьих, против постепенного заполнения мощевика реликвиями говорит тот факт, что все тридцать пять надписей на обороте исполнены рукой одного резчика (подписчика) с характерным начертанием буквы «Т» в скорописном варианте и, очевидно, в одно время. Это очень хорошо видно даже при беглом осмотре памятника. Однако предположение Т. Р. Руди может оказаться верным, если допустить, что пластина с надписями была заменена после окончательного формирования креста-реликвария. Т. А. Брун, опираясь на описание святыни в Повести с перечислением частиц мощей, сделала вывод, что мощевик мог быть окончательно сформирован только в самом конце XVIIвека, а именно после 1699 года, времени обретения мощей святой Евфросинии Суздальской, чья «персть» также заключена в кресте470. Это даже послужило основанием для исследовательницы передатировать Повесть более поздним временем. Наблюдение это очень важно. В самом деле, хотя эта суздальская святая почиталась с древности, но мощи ее находились под спудом и до их обретения в 1699 году вряд ли могли распространяться. «Персть» (земля) с могилы могла быть взята как до 1699 года, так и именно в этом году471. Возможно, что пластина была исполнена взамен более ранней после 1699 года.
Итак, исследуемый Виленский крест при некоторых его особенностях является типичным крестом-мощевиком того типа, что сложился в XVII – начале XVIII века. Если ранние кресты-мощевики в основном были наперстными, то более поздние кресты, сохраняя некоторые внешние признаки нагрудных (кольца и ушки для привески, цепочки, украшения), все же имели уже несколько большие размеры и часто помещались в специальные реликварии, в которых выставлялись для поклонения, а также использовались при водосвятных молебнах. Так, Виленский крест в церковных описях даже назывался панагией (то есть воспринимался нагрудным), был привешен к иконе, имел цепочку с жемчугом; позже был помещен в складень-кузов; с его помощью совершались водосвятия в домах жителей. В Муроме и уезде, как известно по источникам и литераруре, такие кресты назывались «мощевиками». Подобные кресты в Ярославле чаще именовали «водосвятными» или «корсунскими»472.
Такие кресты-мощевики XVII–XIXвеков из местных храмов хранятся в Муромском музее, среди них серебряных – двадцать один, исполненных в технике чеканки и гравировки. Любопытно отметить, что больше половины этих предметов происходит из Троицкого монастыря, так же как и Виленский крест. Известно, что они были помещены в специальном ковчеге-реликварии в виде небольшой гробницы473. Все эти кресты-мощевики имеют примерно одинаковую форму и иконографическую схему. Они четырехконечные, с трехлопастными концами, вытянуты по вертикали, в отличие от крестов ярославского типа, равных по длине и ширине. На лицевой пластине – Распятие, по одной паре предстоящих, вверху – Саваоф, внизу – череп Адама. Та же схема изображений, что и на Виленском кресте. Он отличается от них только по форме лопастей. На большинстве из мощевиков собрания на обороте резаны надписи о мощах. Но ни один из них не содержит такого значительного количества реликвий, как исследуемый Виленский крест. В этих крестах вложено от одной до девяти частиц мощей святых. Два из них имеют клейма Москвы 1758 года и Петербурга 1854 года, остальные без клейм. На двух крестах имеются вкладные надписи 1665 (?) и 1704 годов. Что касается вопроса об украшениях, а именно «каменьях» и «жемчуге», упомянутых при описании Виленского креста в начале Повести и которых нет на исследуемом памятнике, то ответить на него однозначно непросто. Такого типа кресты-мощевики, так же как и любые другие кресты, встречаются как с подобными украшениями, так и без них. Например, такой водосвятный крест-мощевик из Ярославля второй половины XVIIвека обнизан жемчугом474, а замечательный мощевик из Вологды 1662 года декорирован стеклами (?) в кастах и жемчугом475. Вологодский крест близок муромским мощевикам с удлиненным нижним концом, и в то же время его фигурные лопасти напоминают о форме Виленского креста. Исследуемый нами памятник вполне можно представить с кастами и жемчугом, как на кресте из Вологды. Но при визуальном обследовании муромской святыни не удалось обнаружить ни отверстий, ни петель, ни следов от каст для крепления жемчуга, камней или стекол. Однако следует отметить, что состояние памятника не позволяет однозначно судить о том, были ли на нем упомянутые в Повести украшения, так как на лицевой пластине имеются значительные утраты в средокрестии (10х15 и 3х5 мм), а также по краю в нескольких местах – пайки оловом; на нижнем конце слева – поздняя доделка. Поэтому нельзя исключить и такого варианта, что в местах утрат могли быть какие-либо крепления для жемчуга и камней. Но следует обратить внимание и на то, что все же нельзя безоговорочно опираться на описание святыни в Повести как на документальный источник. Возможно, что драгоценных украшений не было с самого начала, но Повесть представила святыню в устойчивых красочных выражениях; не исключена и возможность того, что упомянутые драгоценности имели отношение не к самому кресту, а к цепочке с «зернами жемчужными», которая упомянута под 1731 годом и могла быть на мощевике с самого начала.
Сохранившаяся святыня – Виленский крест, как нам представляется, претерпел некоторые изменения за время своего существования. Так, не исключена вероятность и того, что на нем все же могли быть какие-либо украшения, хотя эта вероятность и не очень велика. Также, возможно, произошла замена пластины с надписями о мощах. Следы вторжения в памятник на кресте заметны: пайки и доделки оловом. Все же это произведение в целом со всеми изменениями вполне можно отнести ко второй половине XVII века, учитывая, что его внешний облик (форма, иконографическая схема, характер исполнения изображений) не противоречат даже времени его упоминания в Повести, а именно – 1657–1658 годам, тогда как оборотная сторона может быть датирована последним годом XVIIстолетия, чему вполне соответствует специфика резных надписей о мощах. Однако, опираясь лишь на визуальное обследование данного памятника, можно сделать лишь предварительное заключение, а другие методы его исследования могут внести коррективы и уточнения, и, возможно, значительные. Обратившись к вопросу о месте создания Виленского креста, следует заметить, что его специфическая форма отлична от таких же крестов-мощевиков центра и севера России, что, возможно, косвенно подтверждает его «чужеземное» происхождение и позволяет считать, что он действительно был принесен с запада России. Дополнение же его реликвиями, вероятно, могло происходить в Муроме, что подтверждается тем, что «персть» Евфросинии Суздальской, местной святой, чьи мощи были обретены в соседнем Суздале, вероятнее всего была помещена в него во время ее прославления в 1699 году476.
20 апреля 1999 года Виленский крест вместе со складнем был дерзко похищен днем из Троицкого собора монастыря. Со слов игуменьи Муромского Свято-Троицкого женского монастыря, крест был похищен на Радуницу, а найден на 40-й день. После кражи в монастыре был объявлен пост, не взирая на то, что шла Пятидесятница. Читались ежедневно сугубое монашеское правило и акафисты всем святым по очереди, чьи частицы мощей и другие реликвии заключены в кресте.
По данным Уголовного розыска УВД г. Мурома, крест был похищен 20 апреля 1999 года, а найден в Нижнем Новгороде у преступника. В Муром возвращен в июле 1999 года. Розыск был проведен успешно благодаря скоординированной работе органов УВД Мурома и Нижнего Новгорода.
Г. М. Зеленская. Монументальные кресты нового Иерусалима
Монументальные кресты Нового Иерусалима не были предметом специального исследования. Между тем письменные источники содержат сведения о поклонных, памятных, водружальных и подпрестольных крестах, изготовленных из камня, дерева или керамики и находившихся в храмах и часовнях Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. К сожалению, из них сохранился только деревянный кипарисовый Крест на Лобном месте в Голгофской церкви Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
Настоящая статья посвящена преимущественно монументальным крестам XVII века, которые были установлены в первый строительный период обители (1657–1666) основателем Ново-Иерусалимского монастыря Святейшим Патриархом Никоном, а во второй и третий строительные периоды (1679–1685; 1686–1698) – его учениками и последователями.
Памятный и поклонный Крест на горе Елеон
Один из первых Крестов Нового Иерусалима был водружен Патриархом Никоном к востоку от Воскресенского монастыря на холме, названном в соответствии с палестинской топографией Елеоном. Крест стоял на вершине холма, отмечая место Вознесения Господня. К югу простиралась бывшая деревня Котельниково, переименованная в село Вознесенское, с деревянной церковью Вознесения Господня. Далее к востоку находилась Ново-Иерусалимская Вифания – основанный Патриархом Никоном Новодевичий монастырь с церковью Входа Господня в Иерусалим. Паломник, направлявшийся в Новый Иерусалим по московской дороге, поднимался, минуя Вифанию и село Вознесенское, на вершину Елеонского холма, откуда открывался великолепный вид на святые места Российской Палестины и наВоскресенский монастырь. Крест, таким образом, имел значение поклонного Креста, который устанавливался обычно в Древней Руси на высокой точке при подъезде к городу. Патриарх Никон целенаправленно и разными средствами созидал Воскресенскую обитель как «святое ограждение», созданное «на видение приснопамятнаго святаго того Иеросалима»477.
В конце XVII века на Елеоне была возведена каменная, украшенная изразцами часовня. Она воспроизводила восьмигранную часовню VIIвека на месте Вознесения Господня в Палестине, внутри которой хранится камень с отпечатком стопы Спасителя. Внутри Ново-Иерусалимской часовни находился каменный Крест.
Елеонская часовня была разрушена в 1930-х годах. Она стояла на невысоком холме, уничтоженном вместе с постройкой, поэтому от святыни не сохранилось ничего, даже, по-видимому, фундамента.
Сохранились сделанные в XIX веке описания Креста, позволяющие судить о его размерах, форме и надписях. Одно из этих описаний принадлежит И. М. Снегиреву:
«Посреди этой моленной (Елеонской часовни. – Г. З.) поставлен камень длиною и шириною 1 аршин 15 вершков, вышиною 9 вершков, обложенный с боков мраморными плитами. В нем водружен осмиконечный каменный Крест вышиною 3 аршина 12 вершков, толщиною 4 вершка. Средина этого Креста обложена листовым серебром с золочеными ободками. Над изображением Распятаго Христа виден Господь Саваоф и Святый Дух и дщица с надписью: «IesusNazarenus, RexIedaeorum», т. е. Иисус Назарянин, Царь Иудейский. На другой стороне Креста высечена следующая надпись:
Водрузися Святый Божественный Крест Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на сей горе Елеоне, от востока прямо Лавры святаго Живоноснаго Воскресения на Святом Сионе. Благословением Великаго Господина и Государя Никона, Святейшаго Архиепископа Царствующаго великаго града Москвы и всея виликия и малыя и белыя России Патриарха, того ради, понеже тишайший Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, всея великия и малыя и белыя России Самодержец, будучи в зачатии Лавры сея на освящении храма Святаго Живоноснаго Христова Воскресения древянаго. И по освящении церкви, походя окрест монастырскаго основания и дошед сего места, возшед на него, посмотря сюду и сюду на широту пространства полнаго, и возлюби е и нарече имя монастырю Новый Иерусалим и честныя своея руки писанием изобрази, его же Патриарх в ковчежец сребрен вложи, в вечное благословение в Лавре Святаго Воскресения положи лета 7166 года, а от еже по плоти Рождества Бога Слова 1657 года, октября в 18 день.
Богомольцы, лишенные возможности совершить странствие в древний Иерусалим, посещают Новый. На пути своем к святому месту они останавливаются здесь, на Елеонской горе, поклониться Кресту Господню, который напоминает им не одно время основания и имя основателя сего монастыря, но вместе и крестный путь Спасителя на земли (…). На память Вознесения Господня с Иерусалимского Елеона, сюда в Вознесеньев день бывает из монастыря крестный ход, сопровождаемый толпами окрестных жителей и странников»478.
Аналогичное описание Креста в Елеонской часовне содержится и в монастырской описи 1875 года:
«Внутри часовни в средине на каменном помосте водружен Крест из цельного дикого камня, вышиною 3 аршина 12 вершков, шириною 12,5 вершка.
На нем изображено Распятие Господне, вверху – Господь Саваоф и Дух Святый. Самый Крест с лицевой стороны позлащен, а на задней вырезана надпись»479.
Итак, на основании двух источников XIXвека можно заключить, что памятный и вместе с тем поклонный Крест на горе Елеон был восьмиконечным, высеченным из камня, с Распятием Господним на лицевой стороне и резной надписью на оборотной.
Высота Креста – 263 см, ширина – 55,5 см, толщина – 7,7 см.
Крест был водружен на каменной подставке высотой 49 см, близкой в сечении квадрату размером 137,7х137,7 см480.
Вопрос о времени изготовления Елеонского Креста требует специального изучения. В истории Нового Иерусалима два первых строительных периода (1657–1666 и 1679–1685 годы), обусловленные ссылкой Патриарха Никона и перерывом сооружения Воскресенского собора на 13 лет, «расслаиваются» с большим трудом. К сожалению, начальный период практически не документирован. В 1680–1690-х годах ученики и последователи Патриарха Никона завершали возведение главного храма обители и устройство Российской Палестины в новых исторических условиях. Стремление сохранить преемственность с идеями своего духовного отца и учителя сочеталось с новым осмыслением замыслов Патриарха Никона. В это время была создана и получила широкое распространение та историография Нового Иерусалима, которая, будучи бесценным свидетельством современников, носит все же печать иного времени, иных задач и целей. Проблему усугубляет то обстоятельство, что Патриарх Никон в начале 1660-х годов перестраивал свои более ранние монастырские сооружения. Огромные по масштабу переделки и обновления производились в обители в первой, а затем – во второй половине XVIIIвека. И если даже при изучении архитектуры и убранства Воскресенского собора не всегда удается разделить близкие по времени напластования, то в отношении святынь это представляет сложнейшую задачу, требующую скрупулезного всестороннего исследования.
В связи с вышесказанным отметим те особенности Елеонского Креста, которые заставляют усомниться в его безоговорочной идентификации с Крестом Патриарха Никона. Это прежде всего изображение Распятия. В системе святых мест к востоку от Воскресенского монастыря, призванных напоминать о Входе Господнем в Иерусалим и о Вознесении Христовом, Крест с Распятием, стоящий под открытым небом на Елеоне, не кажется органичным. Что касается надписи на Кресте, впервые зафиксированной Описью 1685 года, то здесь сомнений еще больше. Надпись соединяет традиционную историческую «летопись» с развернутым повествованием о наречении царем Алексеем Михайловичем на данном месте «имя монастырю Новый Иерусалим», после чего следует рассказ о событиях более поздних, не связанных с водружением памятного Креста на Елеоне, но подтверждающих царскую волю относительно наименования обители. Завершается надпись датой 18 октября 1657 года, которую в равной степени можно отнести и к водружению Креста, и к освящению первой деревянной церкви Воскресения Христова. По жанру, по форме (текст частично зарифмован), по невольной неясности смысла надпись характерна для второго строительного периода. Текстологические совпадения с «Летописцем» архимандрита Никанора (1686–1698), отмеченные А. Г. Авдеевым481, лишь подтверждает это. Содержание надписи свидетельствует о стремлении исторически обосновать по отношению к обители название Новый Иерусалим, упраздненное решением Собора 1666–1667 годов, после чего монастырь официально именовался «Воскресенский, что на Истре».
Более глубокий анализ Елеонского Креста не входит в нашу задачу, это дело будущих исследований. Пока ограничимся предположением, что Крест был водружен на горе Елеон Патриархом Никоном 18 октября 1657 года и надпись на нем представляла собой историческую «летопись», расширенную в первой половине 1680-х годов. Изображение на Кресте Распятия Господня (техника его неизвестна) могло относиться ко времени помещения святыни в Елеонскую часовню.
Крест, водруженный при основании Воскресенского собора
В письменных источниках выявлены упоминания о пяти Крестах, водруженных в разное время на месте престолов монастырских храмов Нового Иерусалима.
О Кресте, водруженном при основании Воскресенского собора, прямых сведений нет. Однако в той редакции монастырского стихотворного «Летописца» архимандрита Никанора, который опубликован К. Тромониным и архимандритом Леонидом (Кавелиным), сказано, что Патриарх Никон 18 октября 1657 года
Крест, идеже престолу быти, водрузи,
И яко на камени основание положи482.
Списки «Летописца» архимандрита Никанора в должной степени не изучены, и пока трудно судить, какими письменными источниками пользовались исследователи XIXвека, издавая надпись на белокаменных плитах у южного входа вВоскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря. Однако представляется вполне вероятным водружение 18 октября 1657 года двух крестов – на место будущего Воскресенского собора и на горе Елеон. В любом случае приведенный нами текст относится к закладке храма.
Согласно Требникам середины XVIIвека, «чин, бываемый на основании церкви», обязательно включает в себя водружение Креста «великого деревяннаго» на месте будущего престола и положение камня в основание храма.
В Требнике московского издания 1651 года на листе 21 приведен рисунок водружального Креста, который должен быть семиконечным, со следующей надписью: Освятися олтарь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и водружен бысть крест сий в церкви преподобного, или мученика, в которого имя церковь, или святая или пророка. Лета седмь тысяц РМЗго, или котораго будет лета, такоже и месяц, и день. При благоверном царе и великом князе, имярек, всея Русии. И при патриархе Московском, и вся Русии, имя рек. Или при митрополите или архиепископе града, имя рек.
Крест, водруженный при совершении чина на основание храма в честь Воскресения Христова в Воскресенском монастыре, во всем, по-видимому, соответствовал указанному в Требниках образцу. Косвенным подтверждением этого служат другие водружальные кресты Патриарха Никона.
Водружальный Крест из церкви Богоявления Господня Богоявленской пустыни Патриарха Никона
В историю Нового Иерусалима этот Крест вошел с названием подпрестольного. В середине XIX столетия он хранился в алтаре Богоявленской церкви, на стене483. Впоследствии вместе с другими достопамятностями Богоявленской пустыни Крест был перенесен в монастырскую ризницу, а в 1874 году помещен в музей Патриарха Никона, основанный настоятелем Воскресенской обители, известным церковным историком и археографом архимандритом Леонидом (Кавелиным).
Богоявленская пустынь – одна из первых каменных построек в Новом Иерусалиме. 22 июня 1658 года был совершен чин основания Богоявленской церкви с водружением на месте будущего престола деревянного семиконечного Креста с надписью: Освятися Олтарь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и водружен Честный Крест сей в церкви Боголепного Его Богоявления в лето ЗРѮS (7166. – Г. З.) месяца июня в 22 день, при Благоверном Государе Царе и Великом Князе Алексее Михайловиче, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержце и при Святейшем Никоне Архиепископе царствующаго града Москвы и всея Великия и Малыя и Белыя России Патриарха. NIKA484.
К сожалению, упоминание о размерах Креста пока не обнаружено.
Престол церкви Богоявления Господня находился первоначально на первом этаже одноименной Пустыни, которая представляла собой в то время двухэтажные платы и примыкавший к ним с востока небольшой четырехстолпный храм. В таком виде Пустынь простояла до весны 1661 года, когда начались работы по ее перестройке, в процессе которой престол церкви Богоявления Господня был перемещен с первого этажа на вновь сооруженный третий. Здание получило облик четырехэтажного «столпа» с плоской кровлей, увенчанной кельей, звонницей и главкой-храмом во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В упраздненной церкви первого этажа апсида и простенки между восточными столпами были заложены.
В 1985 году во время архитектурных исследований центральной части апсиды первого этажа обнаружены три белокаменных блока с размерами 23х23х23, 25х27х32 и 31х28х[?] см, лежавшие «Т«-образно на глубине 40 см от уровня сохранившегося пола. Между блоками находился промежуток в 10 – 13 см, не заполненный раствором. Местоположение камней соответствовало престолу на третьем этаже Богоявленского храма485. Все это позволило предположить, что находка представляет собой те три камня, между которыми был водружен Крест при совершении чина основания церкви. В Требнике 1651 года читаем: И взем (архиерей или иерей. – Г. З.) три камени, и положит их на место, идеже быти святому престолу, и посреди их потчет крест486.
Между водружением Креста на месте будущего престола 22 июня 1658 года и великим освящением церкви Богоявления Господня прошло совсем немного времени. Возможно, храм был возведен за один или два строительных сезона487.
Однако при сооружении Воскресенского собора с его придельными церквами, расположенными на разных ярусах, ситуация была иной и в каждом случае – особой. Между водружением подпрестольного Креста и великим освящением церкви могло пройти несколько месяцев и даже лет.
Водружальный Крест Голгофской церкви
В монастырском Музее Патриарха Никона хранился с 1874 года деревянный семиконечный Крест со следующей надписью:
Водружен сей Святый Божественный Честный Крест Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Новаго Иерусалима на Святой Голгофе, благословением Святейшаго Никона Патриарха, во царство благочестивейшаго Великаго Государя Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича всея Великия и малыя и белыя России Самодержца и при сынех его: Царевиче и Великом Князе Алексие Алексиевиче, Царевиче и Великом Князе Феодоре Алексиевиче. Лето ЗРО (7170. – Г. З.) отеже по плоти Рождества Христова АХВ (1662. – Г. З.) сентября а EI (15. – Г. З.) день на память Святаго Мученика Никиты488.
Несомненно, это тот «водружальный Крест с подписью», который находился в 1679 году в алтаре Голгофской церкви489.
Изменение традиционной формулы надписи позволяет предположить, что Крест был водружен не на месте престола Голгофской церкви, освященной Патриархом Никоном в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, а на Лобном месте, где впоследствии был поставлен кипарисовый Крест в меру Креста Господня с резным изображением Распятия Христова.
Водружение данного Креста 15 сентября 1662 года, на другой день после праздника Воздвижения, совершаемого 14 сентября, свидетельствует, на наш взгляд, о том, что Голгофский придел был освящен позже этой даты. Подтверждение этому находим в истории строительства и освящения Успенского собора Иверского Валдайского монастыря, основанного Патриархом Никоном в 1653 году.
В 1656 году Успенский собор, при закладке которого совершался, несомненно, «чин, бываемый на основании церкви», был выстроен уже до сводов. 19 августа 1656 года по просьбе Патриарха Никона прибывший в Иверский монастырь Антиохийский Патриарх Макарий совершил службу при водружении Крестов под тремя престолами соборного храма. Архидиакон Павел Алеппский оставил подробное описание этого события:
«Рано утром мы отслужили обедню, после которой вышли крестным ходом с молебным пением, пока не подошли к вышеупомянутой церкви, чтобы совершить службу при водружении креста под престолом, прочесть молитвы над основаниями и окропить их. В каждом из трех алтарей была уже выкопана яма, как место для престола, и алтари украшены занавесами и иконами. Когда мы вошли, наш владыка окадил вокруг ямы, вырытой для престола главного алтаря, и наименовал в честь Успения Владычицы, при чем мы пели ее Тропарь. Затем, взяв разведенной извести, он положил ее в яму наподобие креста и бросил один камень; взял новый деревянный крест и водрузил его в яме; это был именно крест, на коем написаны имя, дата и имена патриарха и царя, как это положено в Евхологионе. Затем он пошел во второй алтарь и то же сделал, назвав его во имя св. Филиппа Новаго, Московского. Точно то же сделал в третьем алтаре, назвав его имя св. Иакова Новаго… Потом он окропил святой водой жертвенник, прочел Евангелие Владычице, и мы вышли из этой церкви»490.
Великое освящение Успенского собора Валдайско-Иверского монастыря совершилось в декабре 1656 года, тогда как престолы были заложены в августе – после Успения Пресвятой Богородицы, но до отдания праздника. Учитывая, что подпрестольный Крест был водружен на Голгофе в попразднество Воздвижения Креста, можно предположить, что великое освящение этой придельной церкви было совершено несколько месяцев спустя – может быть, даже в следующем строительном сезоне, то есть в 1663 году.
Подпрестольный Крест из придела Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца
Сведения о подпрестольном Кресте из придела Святителя Николая, расположенного на первом этаже Воскресенского собора, к северу от колокольни, известны из описи музея Патриарха Никона, где о нем сказано следующее:
Подпрестольный семиконечный Крест, вверху которого надпись: Iисуса Христа Сына Божия и в промежутках между слов І. Х. и С. Б. идет следующая надпись: Освятися престол Господа Бога и Спаса нашего Iисуса Христа в церкви во имя и Святителя и Чудотворца Николая, по благословению Святейшего Кир Iоакима Митрополита и всея России Патриарха, во царство Благочестивейших Государей, Царей и Великих Князей Iоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодржцев благоусердным тщательством Государыни Благоверныя Царевны и Великия Княжны Татианы Михайловны лета ЗРХЧ (7190. – Г. З.) месяца июля в 31 (17. – Г. З.) день. В конце самого Креста подпись: Во время же Святаго Священия храма сего действова благодать Трисвятаго Духа чрез грешнаго архимандрита Никанора сея Св. Обители Воскресенской491.
Итак, подпрестольный Крест был водружен в приделе Святителя Николая 17 июля 1682 года тщанием царевны Татианы Михайловны. Надпись «каменного путеводителя» первой половины 1680-х годов сообщала, что «церковь св. Николая архиепископа Мир Ликийских чудотворца не освящена»492. Освящение придела было совершено архимандритом Никанором только в 1690 году493. Восемь лет водружальный Крест имел значение не только подпрестольного, но и памятного Креста. Неслучайно архимандрит Никанор счел возможным дополнить традиционную надпись на Кресте авторским текстом об освящении храма.
Подпрестольный Крест из придела Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных
Придел в честь Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных, был устроен на первом этаже теплой трапезной церкви Рождества Христова усердием князей Мещерских. Рождественнский храм, сооруженный в период настоятельства архимандрита Никанора в 1686 – 1692 годах, символизировал Вифлеем. На его первом этаже был устроен в XVIIIвеке Святой Вертеп, ясли и четыре придела по Вифлеемскому образцу.
Датой освящения придела Избиения младенцев принято считать 1789 год по надписи на антиминсе, выданном в этом году митрополитом Московским и Калужским Платоном494. Однако надпись на подпрестольном Кресте, водруженном настоятелем Воскресенского монастыря архимандритом Платоном (Любарским), называет другую дату – 9 мая 1790 года. По-видимому, вскоре после этого события и было совершено великое освящение церкви Избиения младенцев в Ново-Иерусалимском Вифлееме.
Подпрестольный Крест по форме и надписям соответствовал указаниям Требников предыдущего столетия. Он был семиконечным, с дощечкой с надписанием ІНЦІ на верхней перекладине. Ниже размещалась следующая надпись: Освятися Жертвенник Господа Бога и Спаса нашего Iисуса Христа во храме избиения от Ирода младенцев при державе Благочестивейшия Самодержавнейшия Великия Государыни Императрицы Екатерины Алексиевны всея России и при наследнике Ея, Благоверном Государе Цесаревиче и Великом Князе Павле Петровиче и при Светлейшей Его фамилии, по благословению Святейшаго Правительствующаго Синода Архимандритом Платоном в лето 1790 месяца мая 19 число, на память Святаго Священномученика Патрикия Епископа Прусскаго495.
Крест с резным изображением Распятия Господня на Голгофе
Голгофская церковь в Воскресенском соборе Иерусалима планом и пространственной структурой воспроизводит первообраз. Опись 1685 года предваряет архитектурные обмеры придела замечанием: «Гора же Голгофа, по Иерусалимскому описанию, разделена на два места: едина от стены с полудня церковное, и то место называют «Снятие со Креста», а инии «Распятие»496.
В южной части придела, отделенной от северной столпом, Патриарх Никон устроил церковь Воздвижения Креста. В северной, которая соответствует Лобному месту, сохранилось плоское возвышение с тремя круглыми углублениями, обозначающими те места, где стоял Крест Господень и кресты двух разбойников. Лобное место в Новом Иерусалиме представляет собой камнепостлание-лифостратон497, сложенное из крупных блоков белого камня в форме неправильной трапеции. Западная сторона образует ломаную линию, северный отрезок которой (длина 54 см) соединен уступом (длина по оси восток-запад – 4 см) с южным отрезком (длина 367 см). Ширина Лобного места по северному краю – 100, в центре – 120, по южному краю – 140 см. Длина восточного края постамента в месте примыкания к стене – 158 см. Высота – 44 см.
Диаметр круглых отверстий: центрального (для Креста Господня) – 26,5 см, боковых (для крестов двух разбойников) – 22.
Между центральным и южным отверстием (для креста нечестивого разбойника) по всей ширине Лобного места высечена глубокая с разветвлениями трещина, которая заканчивается резным рисунком каплевидного очертания, «стекающим» на переднюю вертикальную грань возвышения. Эта трещина изображает расселину в горе Голгофе, которая образовалась в момент смерти Иисуса, когда «земля потряслась; и камни расселись» (Мф. 27, 51). Каплевидное заострение на конце расселины напоминает о Крови Спасителя, омывшей погребенного под Голгофой праотца Адама от первородного греха.
Изображение соответствует надписи «каменного путеводителя» второго строительного периода, высеченной на белокаменной плите и расположенной слева от северной лестницы на Голгофу: От святыя горы Голгофы разселася / гора во время оно, егда на Кресте / возопи Иисус гласом великим и испу/сти дух; неции же глаголют, яко тою / скважнею спаде кровь Христо/ва на главу Адамову. NIKA.
В глубине Лобного места стоит Распятие – семиконечный кипарисовый Крест с резным изображением Спасителя, вставленный в деревянный киот XVIIIвека.
Размеры Креста (общие параметры): высота – 340 см; ширина верхней перекладины («титло») – 71,8; центральной перекладины – 203; нижней перекладины – 77 см. Крест изготовлен из кипарисового бруса сечением 27х10 см. На верхней и центральной перекладинах, а также в нижней части сохранились фрагменты металлического оклада.
Крест реставрирован в начале 1980-х годов специалистами Межобластной СНРПМ объединения «Росреставрация» под руководством резчика В. А. Погорельцева. В местах утрат были сделаны кипарисовые вставки (без тонировок).
Сохранившееся оформление Ново-Иерусалимской Голгофы прослеживается со второй половины XIXвека. Первоначально же композиция в северной части придела была иной, о чем свидетельствует опись 1679 года: «Крест в киоте большой кипарисной, на нем вырезан образ Распятие Господа Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, по сторонам написана Пресвятая Богородица с Мироносицами и Иоанн Богослов и Лонгин Сотник. Киот и столпцы большия прорезныя, золочены, вверху над Распятием сень резная, на сени образ Спасов Нерукотворенной, над ним Крест древян золочен.
По правую сторону киота образ царя Константина, да на том же образе в молении образ блаженные памяти великого государя царя и великаго князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, да бывшаго Никона Патриарха. По левую сторону того ж образ царицы Елены, да на том же образе в молении ж образ блаженные памяти государыни царицы и великия княгини Марии Ильинишны, да государя царевича и великого князя Алексея Алексеевича, всея Великия, и Малыя и Белыя России. Перед Распятием (…) у киота завеса кизылбашской шолковой с проволокою золоченою в шесть полотнищ»498.
Голгофский Крест с иконами к нему были изготовлены по заказу Патриарха Никона до его ухода с кафедры и присланы из Москвы в Новый Иерусалим по указу царя Алексея Михайловича вместе с другим имуществом Патриарха. В списке отправленных вещей значатся:
«Два Креста больших самых кипарисных неписаны. Две иконы больших, которые писаны к большому кипарисному Кресту, на одной цке царь Константин, да великий государь Алексей Михайлович (…) да Великий Господин Святейший Никон Патриарх, а на другой дске – царица Елена да Государыня (…) Мария Ильинична да благоверный (…) царевич (…) Алексей Алексеевич»499.
В надписях на этих, ныне утраченных иконах был указан возраст всех изображенных членов царской семьи и Патриарха Никона. Иконописцы соединили в композиции разновременные изображения, существовавшие, вероятно, в образцах-прорисях, которые, подобно документам, точно датировались500. Так, Патриарх Никон (1605–1681) представлен «в пятьдесятое лето» своего возраста, то есть изображен в 1654 или 1655 году, а царевич Алексей (1654–1670) – «в пятое лето» возраста, следовательно, не ранее 1658 года, когда, по-видимому, и были написаны иконы. Кипарисовые же Кресты, сотворенные в меру Животворящего Креста Господня, привезены, вероятно, из Палестины, как и Кийский Крест, посланный Патриархом Никоном в Крестный монастырь в 1656 году.
Следует отметить, что Кийский Крест был установлен первоначально в Крестовоздвиженском соборе Крестного монастыря на месте храмового образа в деревянном киоте с завесой. По сторонам Креста помещались иконы с изображением святых равноапостольных Константина и Елены, царя Алексея Михайловича, царицы Марии Ильиничны и коленопреклоненного Патриарха Никона501. Впоследствии эта композиция получила широкое распространение как особый иконографический извод с названием «Поклонение Кийскому Кресту», причем на некоторых иконах (например, из собрания ГТГ) Крест изображается в киоте.
Распятие с предстоящими, установленное в северной части Голгофского придела, было, как и в Крестном монастыре, не только храмовым образом, но и образом единства Церкви земной с Церковью Небесной, образом скинии Бога с человеками (Откр. 21, 3), Иерусалима Нового в его церковно-историческом и вселенском, эсхатологическом значении.
В связи с многоплановым содержанием и монументальными размерами Голгофской композиции встает вопрос о первоначальном оформлении основания, на котором она помещалась. Опись 1679 года о нем не упоминает. Опись 1685 года, составленная после освящения Воскресенского собора, говорит о новом деревянном иконостасе в южной части Голгофского придела, но о Кресте с Распятием и предстоящими повторяет сведения предыдущей описи, добавляя только, что у киота «побито красным Анбургским сукном вместо ковра»502. Эта деталь лишний раз убеждает в том, что основание Голгофской композиции не воспроизводило историческое Лобное место или воспроизводило его символически.
По чину и уставу церковному Воскресенского монастыря XVIIвека, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня вся служба совершалась на Голгофе «у Креста, а не противо олтаря и Царских врат (…) понеже у нас Крест на Святой Голгофе великий утвержден на месте твердо, неподвижно. Такое же по сему чину и уставу творится и в 4-ю неделю святаго поста и августа в 1-й день»503.
Когда же было устроено на Ново-Иерусалимской Голгофе белокаменное возвышение? Вероятно, во второй половине XVIIIвека, в период переустройства многих приделов Воскресенского собора, в том числе и Голгофской церкви. Одна из целей этих перепланировок состояла в более точном уподоблении святых мест Нового Иерусалима первообразам. При новом оформлении Голгофы иконы были отделены от киота с Распятием и помещены в западной части придела. Придел стал именоваться церковью Страстей Христовых. Сюжеты икон в новом иконостасе были посвящены событиям Страстной седмицы. Иконопись сменилась живописью в итальянской манере.
В это же время сложился устав богослужения на Голгофе в Великий пяток, когда святая Плащаница полагалась н Лобном месте у подножия Креста «согбенна», затем по ходу службы четыре священника полагали ее «на уготовленном столце распростерши», после чего при пении «Тебе одеявшагося светом…» Плащаница торжественно переносилась «прямо на запад к церковному месту, идеже приуготованы две белыя простыня долгия плащаницы, (…) к которымпривязана бывает по углам святая Плащаница». Настоятель с братиею сходили с Голгофы к Камню помазания, куда и спускалась святая Плащаница «с тихостию на низ (…) приемлющим ю ту четырем священником» и полагалась н приуготовленном одре504.
В процессе характерного для XVIIIвека смещения центра тяжести от внутреннего к внешнему и от духовного к душевному неизменным остался на Ново-Иерусалимской Голгофе только Святой Крест. Рельефное Распятие, выполненное, по-видимому, монастырским резчиком, изображает Спасителя как совершенного Бога и совершенного человека. Пречистое Тело Христа, переданное анатомически првильно, не искажено физическими страданиями. Прекрасен и спокоен лик Иисуса. Православный мастер, работавший по заказу Патриарха Никона, показал в Голгофском Распятии не мучение и смерть, а Богочеловека в славе Его, выразив тем самым истину Боговоплощения и Воскресения.
Голгофский Крест в Новом Иерусалиме – великая святыня, сохраненная для нас милостью Божией. От крестного древа исходит тонкий запах палестинского кипариса, который сменяется иногда сильным благоуханием, ощутимым во всем соборе.
***
Сакральное пространство Российской Палестины, простиравшееся при Патриархе Никоне на десять километров с севера на юг и на пять – с востока на запад, было многозначным образом Святой Земли, Святой Руси и Царства Небесного, где центральное место занимал Крест Господень. Изучение этой темы только начинается. Предстоит осмыслить значение Креста в архитектуре и убранстве Воскресенского собора и ввести в научный оборот напрестольные кресты из ризницы Воскресенского монастыря, хранящиеся в Историко-архитектурном и художественном музее «Новый Иерусалим».
Примечание редактора: Материалы по крестам Нового Иерусалима вошли в монографию Г. М. Зеленской «Святыни Нового Иерусалима». М.: Северный Паломник, 2002. С. 281–310.
Священник Александр Парфенов. Надписи на подпрестольных крестах из храмов Ростовской округи
Здесь опубликованы надписи с крестов, найденные в двух храмах ростовской округи, добавлены также надписи, найденные в архиве. Эти кресты правильнее было бы называть памятными, поскольку они отражают обстоятельства освящения данного храма (придела). Располагались эти кресты внизу под престолом (правильнее – жертвенником) на крестовине, где теперь располагается маленький крестик и иногда ящичек со святыми мощами. Какие-либо источники, освещающие эту традицию, автору неизвестны. Сами эти кресты с памятными надписями распространены повсеместно.
1. Надпись на кресте из придела Косьмы и Дамиана в храме Тихвинской иконы Божией Матери села Павлова (Борисоглебский р-н)
Освятися жертвенник Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в храме святых чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана при державе Благочестивейшей, Державнейшей Государыне Императрице Екатерине Алексеевне, при Благоверном Государе Цесаревиче и Великом Князе Павле Петровиче, при его Благоверной Великой княгине Наталии Алексеевне, по благословению Святейшего Правительствующего Синода члена Высокопреосвященного Афанасия505 Архиепископа Ростовского и Ярославского 1774 года месяца ноября 2 дня на память святых мученик Анкиндина и Пигасия. Святися сей жертвенник Ростовского Борисоглебского монастыря архимандритом Авраамом со освященным собором.
Размеры (м):
Высота = 0,73
Ширина = 0,354
Толщина = 0,03
2. Надпись на подпрестольном кресте из придела Рождества Христова храма святителя и чудотворца Николая села Вашки Переславского района
Освятися жертвенник Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в храме Рождества Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса; При державе Благочестивейшего Самодержавнейшаго Великого Государя Нашего ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, всея России; при ЕГО Супруге Благочестивейшей Государыне ИМПЕРАТРИЦЕ АЛЕКСАНДРЕ ФЕОДОРОВНЕ; при Наследнике ЕГО Благоверном Государе Цесаревиче и Великом Князе АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ и Супруге Его Благоверной Государыне Цесаревне и Великой Княгине МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ; при Благоверных Государех Великих Князех КОНСТАНТИНЕ, НИКОЛАЕ И МИХАИЛЕ НИКОЛАЕВИЧАХ; при Благоверном Государе Великом Князе МИХАИЛЕ ПАВЛОВИЧЕ и Супруге ЕГО Благоверной Государыне Великой Княгине ЕЛЕНЕ ПАВЛОВНЕ; при Благоверной Государыне Великой Княгине МАРИИ НИКОЛАЕВНЕ, и Супруге ЕЯ; Благоверных Государынях Великих Княжнах ОЛЬГЕ и АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВНАХ; при Благоверной Государыне Великой Княгине АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ; при Благоверных Государынях Великих Княжнах МАРИИ, ЕЛИСАВЕТЕ и ЕКАТЕРИНЕ МИХАЙЛОВНАХ; при Благоверной Государыне Великой Княгине МАРИИ ПАВЛОВНЕ и Супруге ЕЯ, при Благоверной Государыне Королеве Нидерландской АННЕ ПАВЛОВНЕ и Супруге ЕЯ.
По благословению Святейшего Правительствующаго Синода, и Преосвященнейшаго Парфения506 Архиепископа Владимирского и Суждальского и Кавалера, в лето от сотворения мира 7350, от Рождества же по Плоти, Бога Слова 1842, Индикта [15?507], Октобриа Месяца в 19 день на память святаго пророка Иоиля.
Размеры (м):
Высота = 0,79
Ширина = 0,37
Толщина = 0,03
3. Из летописи церкви Одигитрии за 1777–1912508:
17 апреля 1912 года. В сию летопись считаю нужным занести следующия надписи с трех воздвизальных509 крестов с их орфографией.
Первая надпись:
Освятися жертвенник Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во храме Пречистыя Владычицы нашея Богородицы Одигитриа при державе Благочестивейшия Самодержавнейшия Великия Государыни нашея Императрицы Екатерины Алексеевны всея России и при Наследнике ея Благоверном Государе Цесаревиче и Великом Князе Павле Петровиче и при супруге Его Благоверной Государыне Великой княгине Наталии Алексиевне. По благословению Святейшего Правительствующего Синода члена Преосвященного Афанасия510 Епископа Ростовского – далее надписьна сем кресте сорвана.
Вторая надпись:
Освятися жертвенник Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во храме святых великих Царей и равноапостолов Константина и матери его Елены при державе Благочестивейшия Самодержавнейшия Великия Государыни нашея Императрицы Екатерины Алексеевны всея России, при Наследнике ея Благоверном Государе Цесаревиче (…) Епископа Ростовского и Ярославского освящен храм сей Соборной церкви Священноиноком Ключарем Иоанном в лето 1775 Индикта 8 месяца Иулия в 28 день511 на память святых апостолов и диаконов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена при священнике тоя церкви Андрее при диаконе Афонасии512.
Третья надпись:
Освятися жертвенник Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во храме святых и чудотворцев Косьмы и Дамиана, в Риме пострадавших при державе Благочестивейшия (…) Епископа нашего Афонасия Ростовскаго и Ярославскаго Который и святил Сам Его Преосвященство Епископ Афонасий в лето от Рождества Христова 1769 года Индикта втораго месяца Июля в первый день. На память святых и чудотворец Безсребренник Космы и Дамиана в Риме пострадавших при священнике тоя церкви Максиме Никифорове и диаконе Афонасии. Далее писано киноварью не разборчиво.
* * *
Примечания
Dinkler E., Dinkler von Schubert E. Kreuz // Reallexikon zur byzantinische Kunst. Stuttgart, 1991.Bd. 5. Lfg. 33–35. P. 27–32; Kreuz // Lexikon der christlischen Ikonograhpie. Rom. Herder, 1994.Bd. 2. P. 562–590.
Напр. Frolov A. Reliquaries de la Vrai Croix. Paris, 1964.
Грабар А.Н. Император в византийском искусстве. М., 2000.
Вилинбахов Г.В. Крест царя Константина в средневековой воинской геральдике Европы // Художественные памятники и проблемы культуры Востока. Л., 1985. С. 188–194.
Бадаланова-Покровская Ф. К., Плюханова М. Б. Средневековая символика власти: крест Константина в болгарской традиции // Ученые записки Тартуского университета. № 781. Тарту, 1987. С. 132–148.; Плюханова М. Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995 и др.
Евсевий Кесарийский. Жизнь Константина. 1, 28. Цитируется по изданию: Евсевий Кесарийский. О жизни блаженного василевса Константина. М., 1995.
Евсевий Кесарийский. Указ.соч. 1, 29.
Евсевий. Указ.соч. 1, 31.
Евсевий. Указ.соч. 1, 40.
Евсевий, Указ.соч. 3, 3.
Например, церковь Спаса на Ильине (XIVвек), Антониев монастырь.
Церковь Рождества Богородицы на Молоткове, XIVвек.
См., например, кресты из Пари и Цхумара. Чубинашвили Н. Г. Грузинское чеканное искусство. Тбилиси, 1959. № 473, 381.
Изображение дара сохранилось в мозаиках Латеранской базилики в приделе папы Льва.
Filitz H. Schatzkammer in Vienne. Vienne. 1964.
Frolov A. Reliquaries de la Vrai Criox. P. 193.
Евсевий. Указ.соч. 3, 49.
Frolov A. Reliquaries de la Vrai Croix. P. 191–192.
Denkler E., Dinkler von Schubert E. Kreuz // Reallexikon. Bd. 5.Lfg. 33–35.
Напр. Филимонов Г. Д. Похвала кресту по византийским камеям в Париже и в Москве // Вестник общества древнерусского искусства. М., 1874–1876. С. 58–60. Смесь.
Летописец Еллинский и Римский. Т. 1. Текст. СПб., 1999. С. 278.
FrolovA. Reliquaries. P. 192.
Смирнов А. П. Выносной чеканный крест греческой работы X–XIIвв. // Древнерусское искусство. Зарубежныесвязи. М., 1975. С. 36.
Frolov A. Reliquaries de la Vrai Criox. P. 245, Fig. 96.
Шалина И. А. Реликвии в восточнохристианской иконографии // Христианские реликвии в Московском Кремле. М., 2000. С. 269–270.
Евсевий упоминает только о двух видениях.
Летописец Еллинский и Римский. С. 301.
Там же. С. 302.
Абрамзон М. Г. Астральные символы в римской чеканке. Происхождение и развитие монетных типов // ВДИ. 2002. № 1. С. 137–142.
Вспомним распространенное поверье, что звезды на небе – ангелы, а самая большая – архангел Михаил.
Шабага И. Ю. Небесное видение как элемент земной политики Константина Великого // Труды кафедры древних языков исторического факультета МГУ. Вып. 15. М.; СПб., 2000. С. 98–109.
Литаврин Г. Г. България-Византия: XI–XIIвв. София, 1987. С. 303–310.
Полывянный Д. И. Культурное своеобразие средневековой Болгарии в контексте византийско-славянской общности IX–XVвв. Иваново, 2000. С. 133–134.
Полывянный Д. И. Указ.соч. С. 134.
Полывянный Д. И. Указ.соч. С. 134.
Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к Православному Востоку в XVI иXVIIстолетиях. Сергиев Посад, 1914. С. 63.
Каптерев Н. Ф. Указ.соч. С. 66.
Н. Ф. Коптерев сообщает, что «по донесению архиепископа Тверского и Кашинского Лаврентия, «животворящий крест мерою с ковчегом в длину вершков шесть и болши, а поперег того животворящий крест поменше четверти аршина» (с. 66).
Кондаков Н. П. Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902. С. 215.
Каптерев Н. Ф. Указ.соч. С. 68.
Ныне находится в храме преп. Сергия Радонежского в Крапивниках в Москве.
Грамота патр. Никона цитируется по изданию: Архим. Лаврентий. Краткое известие о Крестном Онежском Архангельской епархии монастыре. М., 1805. С. 20.
Там же. С. 20–21.
Иван Шушерин. Известие о рождении и воспитании и житии святейшего Никона, патриарха Московского и всея России. М., 1997. С. 51.
Письма русских государей и других особ царского семейства. М., 1896. Т. 5. С. 62. № 61.
Крест из лавры св. Афанасия на Афоне.
Христианские реликвии в Московском Кремле. Автор-составитель А. М. Лидов. М., 2000. Кат. 49. С. 180–183.
Практически идентичен московскому крест из Никольского монастыря Переславля-Залесского. См. статью в настоящем сборнике: Сукина Л. Б. «Корсунский» запрестольный крест из Переславля-Залесского.
Голубцов А. П. Из чтений по церковной археологии и литургике. СПб., 1995. С. 78.
Голубцов А. П. Указ.соч. С. 70.
Киприан (Керн). Евхаристия. Париж, 1947. С. 50, 197.
Скабалланович М. Толковый Типикон. Киев, 1910. Вып. 1. С. 165.
Скабалланович М. Указ.соч. С. 150–151, 278–287, 292, 294–296.
Baldovin J. F. Urban Character of Christian Worship.The Origins, Development and Meaning of Stational Liturgy.OCA, 228.Roma, 1987.
Дебольский Г. С., протоиерей. Дни Богослужения Православной Кафолической Восточной Церкви. СПб., 1901. Т. 1. С. 654.
Скабалланович М. Указ.соч. С. 166.
BaldovinJ. F. Op. cit. P. 171.
Тафт Роберт Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк. СПб., 2000. Пер. сангл.; R. F. Taft. The Byzantine Rite.A Short History. Collegeville, MN, 1992. P. 36–37.
Baldovin J. F. Op. cit. P. 184–186.
Максим Грек. Сочинения. Ч. 3. Сергиев Посад, 1911. С. 78.
Вениамин (Краснопевков). Новая скрижаль или объяснение о церкви. СПб., 1899. С. 15.
Георгиевский Г. П. Праздничные службы и церковные торжества в старой Москве. М., 1995. С. 237.
Голубцов А. П. Указ.соч. С. 219.
Скабалланович М. Указ.соч. С. 166.
Frolov A. La dedicace de Constantinople dans la tradition byzantine // RHR. № 127 (1944). Р. 61–127.
Сочинения блаженнаго Симеона, архиепископа Фессалоникийского. СПб., 1856. С. 503–504.
Сочинения блаженнаго Симеона, архиепископа Фессалоникийского. С. 98.
Там же. С. 108.
Вениамин (Краснопевков). С. 52–53.
Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. М., 1913. Ч. 2. С. 1751.
Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982. Илл. 422. С. 251.
Treasures of Mount Athos.Thessaloniki, 1997.2.29, pp. 95–97. 13.19, p. 518.
Покровский Н. В. Церковная археология. Пг., 1916. С. 9–10.
Смирнов А. П. Выносной чеканный крест греческой работы XI–XIIвв. // Древнерусское искусство: Зарубежные связи. М., 1975. С. 27–40; Bauras L. The Cross of Adrianapole: A Silver Processional Cross of the Middle Byzantine Period. Athens, 1979.P. 9–16; Вилинбахов Г. В. Крест царя Константина в средневековой воинской геральдике Европы // Художественные памятники и проблемы культуры Востока. Л., 1985. С. 172– 174.
TreasuresofMountAthos. 9.26, pp. 351–353.
Покровский Н. В. Древняя Софийская ризница в Новгороде. М., 1914 Т. 1. С. 67–68; Банк А. В. Послесловие к статье А. П. Смирнова // Древнерусское искусство: Зарубежные связи. М., 1975. С. 41.
Стерлигова И. А. О значении драгоценного убора в почитании святых икон // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. М., 1996. С. 126–131.
TreasuresofMountAthos. 9.23, p. 346–347.
Успенский П. Путешествие в афонские монастыри и скиты, часть II, отделение второе, 1848 год. М., 1880. С. 17–28.
Восточнохристианский храм. Литургия и искусство. СПб., 1994. Илл. 4, 5, с. 58, 59.
Frolov A. Les Reliquaries de la Vraie Croix. P., 1965.P. 116–134.
Романов Г. А. Городские крестные ходы XIV–XVIвв. (По материалам Москвы и Новгорода): Дис. … канд. ист. наук. М., 1997.
ПСРЛ. Т. 23. СПб, 1910. С. 128–129.
ПСРЛ. Т. 8. СПб, 1859. С. 67.
Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода: Художественный металл XI–XVвека. М., 1996. С. 142–148. Кат. №№ 11, 12.
ПСРЛ. Т. 3. СПб, 1841. С. 216.
Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. С. 142.
Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода. XVвек. М., 1982. Кат. № 18, с. 430.
Средневековое лицевое шитье. Византия. Балканы. Русь. М., 1991. С. 60–61.
Подобедова О. И. Миниатюры русских исторических рукописей. М., 1965. С. 49–315.
Древний летописец, т. 1 (Остермановский). ОР БАН, 30.7.30. Л. 352об.
Шумиловский т., Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. F.IV.232. Л. 421 об.
Древний летописец, т. III. (Остермановский). ОР БАН, 30.7.30. Л. 48–129об.
Древний летописец, т. III. Л. 541.
Смирнова Э. С. Указ.соч. Кат. № 12, с. 423.
Николаева Т. В. Древнерусская мелкая пластика XI–XVIвеков. М. 1968. Илл. 85–88.
Качалова И. Я., Маясова Н. А., Щенникова Л. А. Благовещенский собор Московского Кремля. М., 1990., Илл. 233–234.
ПСРЛ. Т. 3. С. 31.
Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. С. 129–141.
ПСРЛ. Т. 3. С. 81, 137, 215, 245.
ПСРЛ. Т. 4. С. 191.
Чиновник Новгородского Софийского собора. М., 1899. С. Х, 243, 247, 254, 259.
Радзивилловская летопись. Владимирский лицевой летописный свод. XVв. ОР БАН. № 34.5.30. Л. 216об.
Чиновник Новгородского Софийского собора / Под ред. А. П. Голубцова. М., 1899. С. 22.
И место сие велми возградится. Борисо-Глебский монастырь, 2000. С. 3–9.
Напрестольный крест XVIв. 44,5х21,8 см. ГИМ 58383/131 ОК 14017.
Радзивилловская летопись. Л. 219–221об.
Древний летописец, т. III. Л. 18–129об.
Свенцiцкий I. Нацiональный музей в 1911 роцi// Дiло. 1912, 17 сiчня. С. 2–3; он же. Iлюстрований проводник по Нацiональнiм музееви у Львiвi.Жовква, 1913. С. 11. Ил. 6.
PelenskiJ. Halicz w dziejachs ztuki sredniowiecznej.Krakow, 1914.S. 41; Пастернак Я. Коротка археологiя захiдно-украiнських земель // Богословиiя. Т. Х. Львiв, 1932. Табл. XVII; он же. Княжий город Перемишль // Перемишль – захiдний бастiон Украiни. Нью-Йорк – Фiладельфiя, 1961. С. 15.
Петегирич В. М. Значення Перемишля в утвержденнi християнства на пiвденно-захiдних рубежах Киiвськоi Русi в XI–XIII ст. // Poczatki sasiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-slowackie w średniowieczu. Rzeszow, 1996. C. 127–131. Рис. 5.
Пуцко В. Чин воздвижения Креста в византийской живописи // Revue des etudes Sud-Est Européennes. T. XVI. Bucarest, 1978. C. 659–660; он же. Крыж Еуфрасiньнi Полацкай i узьвiжальныя крыжы XII–XIIIстст. // Полацак (Клiуленд). 1992. № 4 (14). С. 15–16. Кроме того, была написана статья «Надпись на бронзовом кресте из Яксманич», сданная в печать в сборник «Нумизматика и эпиграфика» в октябре 1977 г. и возвращенная 3 февраля 1991 г. «в связи с изменением условий издательской деятельности Института археологии АН СССР», вследствие чего прекратился выпуск этой серии. Работа не опубликована, и частично используется в тексте данной статьи.
См.: Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи XI–XIVвв. // САИ. Вып. Е 1–44. М., 1964; Медынцева А. А. Грамотность в Древней Руси (По памятникам эпиграфики Х – первой половины XIII века). М., 2000.
См.: Медынцева А. А. Тмутараканский камень. М., 1979.
Алексеев Л. В. Лазарь Богша – мастер-ювелир XII в. // Советская археология. 1957. № 3. С. 224–244.
Яцимирский А. И. К истории ложных молитв в южнославянской письменности. П: «Похвала кресту» как молитва и толкования «крестных словес» // ИОРЯС. т. XVIII. Кн. 3. СПб., 1913. С. 38, 43.
Там же. С. 22–51.
Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи XI–XIVвв. № 28.
Примеры см.: Mundell Mango M. Silver from Early Byzantium. The Kaper Koraon and Related Treasures. Baltimore, 1986.
Frolov A. La Relique de la Vraie Croix. Recherches sur le Developpement d’un Culte. Paris, 1961; idem. Les Reliquires de la Vraie Croix, 1965.
Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный металл XI–XV века. М., 1996. №№ 7–10.
Бошковиђ Ћ. О jедном рељефу са натписом са Ћyрђeвих стубова у Будимљу // Зборник Народног музеjа. Књ. VIII. Београд, 1975. С. 409–415. Сл. 1–3. Рельеф выполнен из белого мрамора.
Szaraniewiecz I. Trzy opisy historyczne staroksiazecego grodu Halicza w r. 1860, 1880 i 1882.Lwow, 1883.S. 111–114; Пастернак Я. Старий Галич. Археологiчно-iсторичнi дослiди у 1850–1943 рр. Кракiв–Львiв, 1944. С. 27, 75. О повторных раскопках в 1980–1981 гг. см.: Иоанисян О. М. Церковь Спаса в Галиче – памятник первой половины XII века // Древние памятники культуры на территории СССР. Л., 1986. С. 102–109, 169–173.
Шараневич И. Отчет из археологическо-библиографической выставки в Ставропигийском институте, открытой 28 сент. (10 окт.) 1888 г., закрытой 16 (28) февр. 1889 г., и опись фотографий снятых предметов из той же выставки. Львов, 1889. С. 26. Табл. II. № 28.
Инв. № Ц-929/320, разм. 35,0х14,5 см. Пуцко В. Г. Крест преп. Авраамия Ростовского // История и культура Ростовской земли. 1994. Ростов, 1995. С. 96–104.
Ср.: IC XC / NIKA // Byzantinoslavica. T. XVII. Prague, 1956.P. 98–113.
Покровский Н. Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских. СПб., 1892. С. 356–357.
Мельник А. Г. Икона «Явление Иоанна Богослова преподобному Авраамию Ростовскому с житием преподобного» // Макарьевские чтения. Вып. VI. Можайск, 1998. С. 266–286.
Подробнее см.: Никитина Т. Л. Надгробный комплекс преподобного Авраамия Ростовского // Уваровские чтения – III. Муром, 2001. С. 192–196; вариант этой же статьи – История и культура Ростовской земли. 2000. Ростов, 2001. С. 127–134.
См.: Morrison C. Catalogue des monnaies Byzantines de la Bibliotheque Nationale. Paris, 1970; Spatharakis I.The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts.Leiden, 1976.
Срезневский И. И. Древние памятники русского письма и языка. СПб., 1863. С. 27; он же. Славяно-русская палеография. СПб., 1885. С. 163.
Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 26–38.
Соколов М. И. Пространное житие преподобного Авраамия, ростовского чудотворца. Ярославль, 1890; он же. О редакциях жития св. Авраамия Ростовского // Труды VIII Археологического съезда. Т. II. М., 1895. С. 236–241.
Там же. С. 238.
Кадлубовский А. Очерки по истории древнерусской литературы житий святых // Русский филологический вестник. Т. XXXVIII. Варшава, 1897. № 1–2. С. 147. См. также: Буланина Т. В. Житие Авраамия Ростовского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988. С. 237–239.
Голубицкий Е. История русской церкви. Т. 1. Период 1. Ч. 2. М., 1904. С. 768–770.
Там же. С. 770. Прим. 1. Ср.: Савваитов П. Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце XII столетия. СПб., 1872. С. 98.
Ross M. C. The Walters Art Gallery. Early Christian and Byzantine Art on Exhibition held at the Baltimore Muzeum of Art. Baltimore, 1947. Cat. 126, 128, 132, 133, 135, 137. Pl. XXVI, XXVII, XXXI.
Ross M. C. Catalogue of the Byzantine and Early Medieval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection.Vol. 1.Washington, 1962. Cat. 21. Pl. XXIII.
Morey C. R. Cli oggetti di avorio di osso del Museo Sacro Vaticano. Citta del Vaticano, 1936. P. 69.Fig. 66; Swarzenski H. Monuments of Romanesque Art.Chicago, 1954.Fig. 50.
См.: Пуцко В. Константинополь и киевская пластика на рубеже XII–XIII вв. // Byzantinoslavica. T. LVII. Prague, 1996.C. 376–382. Табл. I–II.
Подробнее о культе Волоса (Велеса) см.: Живанчевич Б. «Волос-Велес» – славянское божество териоморфного происхождения // Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук (1964). Т. VIII. M., 1970.C. 46–49; Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. М., 1974. С. 45–47; Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. (Реликты язычества в восточнославянском культе Николы Мирликийского). М., 1982. С. 31–89.
Дурново Н. Н. Легенда о заключенном бесе в византийской и старинной русской литературе // Древности. Труды славянской комиссии имп. Московского Археологического общества. Т. IV. Вып. 1. М. 1907. С. 54.
Там же. С. 60, 127.
Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи. М., 1908. С. 707; Покровский Н. В. Церковно-археологический музей С.-Петербургской духовной академии СПб., 1909. С. 10. Табл. V:2; Грацилевский В. Д. Описание музея Псковского церковно-археологического комитета. Псков, 1914. С. 38. Рис. XIII.
Якобсон А. Л. Средневековый Херсонес (XII – XIVвв.). М.-Л., 1950 (МИА.Вып. 17). С. 35. Рис. 2в; Белов Г. Д., Якобсон А. Л. Квартал XVII(раскопки 1940 г.) // Материалы по археологии юго-западного Крыма (Херсонес, Мангуп). М.-Л., 1953 (МИА. Вып. 34). С. 147. Рис. 30; Корзухина Г. Ф. О памятниках «корсунского дела» на Руси: (По материалам литья) // Византийский временник. Т. XIV. М., 1958. С. 135–136. Табл. IV:1; Византийский Херсон. Каталог выставки. М., 1991. С. 148–149. Кат. № 156.
Стерлигова И. А. Киотный крест из Херсонесского музея и русские меднолитые киотные кресты XII–XIVвв. // Древнерусская скульптура: Проблемы и атрибуции. Сборник статей. М., 1993. Вып. 2. Ч. 1. С. 4–19.
Пескова А. А. Херсонесский киотный крест и его место среди синхронных памятников древнерусской культовой пластики // Церковная археология. Вып. 4. СПб., 1998. С. 238–252.
Пуцко В. Г. Бронзовый киотный крест из Херсонеса (Византийско-киевская металлопластика начала XIII в.) // Византийский временник. Т. 58. М., 1999. С. 165–171.
Пуцко В. Г. Художественное ремесло Киева начала XIII века (по данным археологических находок) // Проблемы славянской археологии (Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. Т. 1). М., 1997. С. 321–323; он же. Киевское художественное ремесло начала XIII в. Индивидуальные манеры мастеров // Byzantinoslavica. T. LIX. Prague, 1998.C. 315–317. Табл. VI–VII.
Фронджуло М. А. Раскопки в Судаке // Феодальная Таврика: Материалы по истории и археологии Крыма. Киев, 1974. С. 144–145. Рис. 8.
Каталог украинских древностей коллекции В. В. Тарновского. Киев, 1898. С. 11. Табл. (№ 77).
Пескова А. А. Херсонесский киотный крест и его место среди синхронных памятников древнерусской культовой пластики. С. 238. Рис. 2, 3.
Пуцко В. Киевская сюжетная пластика малых форм (XI–XIIIвв.) // Зборник посветен на Бошко Бабик. Прилеп, 1986. С. 174–177.
См.: Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (Раннеславянский и древнерусский периоды). Киев, 1990. С. 190–191. Рис. 23; Пекарская Л. В., Пуцко В. Г. Византийская мелкая пластика из археологических находок на Украине // Южная Русь и Византия. Киев, 1991. С. 136–137. Рис. 8–12.
Late Antique and Byzantine Art (Victoria and Albert Muzeum).London, 1963.Fig. 23.
Goldschmidt A., Weitzmann K. Die byzantinischen Elfenbeinsculpturen des X.–XIII. Jahrhunderts.Bd. II. Berlin, 1934.Cat. 103, 106, 158, 161, 168.
Это произведение относится к числу самых известных. См.: Каталог украинских древностей коллекции В. В. Тарновского. С. 33. № 1696; Собрание Б. И. и В. Н. Ханенко. Древности русские. Вып. II. Киев, 1900. С. 4–5. Табл. XVIII(№ 220а-б); История русского искусства. Т. 1. М., 1953. С. 295. Илл. на с. 289; Коваленко В., Пуцко В. Бронзовые кресты-энколпионы из Княжей горы // Byzantinoslavica. T. LIV. Prague, 1993.P. 307–308. Fig. 3:3, 4.
Банк А. В., Залесская В. Н. Кацея XIIв. из Изяславля // У истоков русской культуры: XI–XVII вв. Сб. статей. СПб., 1995. С. 80–87. Илл. 44, 45, 52–56; Коваленко В. П., Пуцко В. Г. Фрагмент бронзовоi кацеi з Чернiгова // Археологiчни старожитностi Подесення. Чернiгiв, 1995. С. 83–86.
Логвин Г. Н., Тимощук Б. А. Белокаменный храм XIIв. в Василёве. // Памятники культуры. Т. 3. М., 1961. С. 43. Рис. 5. См. также: Тимощук Б. О. Василiв – мiсто Галицькоi Русi. Чернiвцi, 1992. С. 24. 1 л. на с. 19.
Находка вместе с крестами-энколпионами представлена в экспозиции Черновицкого краеведческого музея, из коллекции металлопластики, с которой я имел возможность ознакомиться в октябре 1988 г. благодаря любезному содействию заведующего сектором археологии В. Н. Войнаровского. Эта коллекция заслуживает научного издания.
См.: LaskoP. Ars Sacra.800–1200. Baltimore, 1972; Bloch P. Staufische Bronzen: die Bronzekruzifixe // Die Zeit der Staufer. Geschichte-Kunst-Kultur. Bd. V. Suppl. Stuttgart, 1979. S. 291–330; Kovacs E. Croix limousines en Hongrie // Acta Historicae Artium. T. VII. Budapest, 1961.P. 155–185.
HaђШ. Домбо. Резуљтати истраживања на градини у Раковцу (1963–1966) // Рад воjвођанских музеjа. Св. 20. Нови Сад, 1971. С. 169–173.
Byzantine Art and European Art.Athens, 1964. Cat. 110.
Weitzmann K. Icon Painting in the Crusader Kingdom // Dumbarton Oaks Papers. Vol. 20.Washington, 1966.P. 53–57. Fig. 5–7, 9, 10.
Лапковская Э. А. Прикладное искусство средних веков в Государственном Эрмитаже. Изделия из металла. М., 1971. С. 26–27. Табл. 61, 62.
См.: Пуцко В.Г. Перынский каменный крест // Раннесредневековые древности Северной Руси и ее соседей. СПб., 1999. С. 164–172; он же. Византийская модель в новгородской каменной резьбе // Восток – Россия – Запад: Мировые религии и искусство. СПб., 2001. С. 147–150.
Макарий, архим. Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях. Ч. 1. М., 1860. С. 339–341; он же. Древние кресты в Новгороде, поставленные на поклонение // Известия Русского Археологического Общества. Т. 2. СПб., 1861. С. 95.
Макарий, архим. Археологическое описание… С. 340; Матюшкина Г. И. Крест мастера Серапиона // Советская археология, 1970, № 3. С. 250–251.
Макарий, архим. Археологическое описание… С. 341.
Шляпкин И. А. Конспект лекций по истории и древностям Великого Новгорода. Новгород, 1910. С. 17.
Орлов А. С. Библиография русских надписей. М., 1952. С. 107.
Спицын А. А. Заметки о каменных крестах, преимущественно новгородских // Записки Отделения русской и славянской археологии Русского Археологического Общества. Т. V. Вып. 1. СПб., 1903. С. 214, 216.
Матюшкина Г. И. Указ.соч. С. 252.
Святославский А. В., Трошин А. А. Крест в русской культуре. Очерк русской монументальной ставрографии. М., 2000. С. 151.
Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи XI–XIVвеков. М., 1964. С. 28–32. Табл. 42.
Сарабьянов В. Д. Фрески древнего Пскова. М., 1993. С. 12–13.
Янин В. Л., Зализняк А. А. Вкладная грамота Варлаама Хутынского // Памятники культуры. Новые открытия. 1990. М., 1992. С. 8.
Высоцкий С. А. Киевские граффити XI–XVII вв. Киев, 1985. С. 81. Табл. XLIV.
Даркевич В. П., Борисевич Г. В. Древняя столица Рязанской земли. М., 1995. С. 192, 289. Табл. 61.
Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. Т. I–II. M., 197).См. Свод; Янин В. Л., Гайдуков П. Г. Актовые печати Древней Руси X–XVвв. Т. I. I. M., 1998. См. Свод.
Святославский А. В., Трошин А. А. Указ.соч. С. 151.
Греков А. П. Фрески церкви Спаса Преображения на Ковалеве. М., 1987. С. 52.
Седов Вл. В. Новгородская архитектура на Шелони. М., 2001. С. 84, 108. Илл. 17.
Вздорнов Г. И. Волотово. Фрески церкви Успения наВолотовом поле близ Новгорода. М., 1989. Документация, № 84.
Передольский В. С. Новгородские древности. Записка для местных изысканий. Новгород, 1898. С. 87.
Петрова Л. И., Анкудинов И. Ю., Попов В. А., Силаева Т. В. Топография пригородных монастырей Новгорода Великого // Новгородский исторический сборник. Вып. 8 (18). СПб., 2000. С. 144.
НЛ. С. 242.
НПЛ. С. 375.
НЛП. С. 235.
ПСРЛ. Т. XVI. Стб. 212, 214.
Макарий, архим. Археологическое описание… С. 340.
Там же. С. 341.
Шляпкин И. А. Древние русские кресты. I. Кресты новгородские, до XVвека, неподвижные и нецерковной службы // Записки Отделения русской и славянской археологии Русского Археологического Общества. Т. VII. Вып. 2. СПб., 1907. С. 65.
Шляпкин И. А. Конспект лекций… С. 17.
Матюшкина Г. И. Указ.соч. С. 252.
Щепкин В. Н. Русская палеография. Изд. 3-е. М., 1999. С. 159–160.
Пользуясь случаем, хотелось выразить проф. А. А. Зализняку искреннюю признательность и благодарность за консультацию.
Гальченко М. Г. Лисицкие датированные рукописи конца XIV–первой половины XVв. и проблема второго южнославянского влияния // PALAEOSLAVICA, V(1997), рр. 59–84; она же. Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси. Избранные работы. М., 2001. С. 162.
Бобров А. Г. Книгописная мастерская Лисицкого монастыря // Книжные центры Древней Руси XI–XVI вв. СПб., 1991. С. 98.
См.: Маханько М. Собирание в Москве древних икон и реликвий в XVIв. и его историко-культурное значение // Искусствознание. М., 1998. № 1. С. 120–142; Христианские реликвии в Московском Кремле / Ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2000; Реликвии в искусстве и культуре восточнохристианского мира: Тезисы докладов и материалы международного симпозиума / Ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2000; Щедрина К. А. Царей держава: Значение реликвий и символов Святого Креста и Страстей Христовых в церковном освящении государственной власти. М., 2000; Гос. Историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». Сохраненные святыни Соловецкого монастыря: Каталог выставки. М., 2001.
Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода: художественный металл XVI–XVIIвеков / Ред.-сост. И. А. Стерлигова (готовится к печати в рамках серии «Центры художественной культуры средневековой Руси», издаваемой Государственным институтом искусствознания).
Эта работа стала возможной благодаря деятельной помощи главного хранителя Новгородского историко-художественного музея-заповедника Н. В. Горминой, которой мы приносим сердечную благодарность.
Описи московского Успенского собора, от начала XVIIвека по 1701 год включительно // РИБ. СПб., 1876. Т. 3.
См., например, упоминания пяти воздвизальных крестов, вложенных князем Владимиром Васильковичем Волынским в различные храмы, в Ипатьевской летописи под 1289 годом, а также о выносе воздвизального креста при встрече в Новгороде московского святителя Киприана в Новгородской IV летописи под 1391 годом.
ПСРЛ. М., 2000. Т. 13. С. 220.
Там же.
Емченко Е. Б. Стоглав: Исследование и текст. М., 2000. С. 300.
См., например, устав молебна в соборах XVIвека: «…и староста возмет животворящий крест в руку правую, а дьякон кадило, а иной диякон крест выносной возмя, который стоит за престолом…» (Там же.С. 297). Известные с конца (?) XVIIвека другие названия напрестольных крестов – «благословенные» или «благословящие» – в новгородских письменных источниках той поры и в надписях на самих крестах встречаются редко.
См.: Алексеев Л. И. Крест Евфросинии Полоцкой 1161 года в средневековье и в позднейшие времена // РА, 1993, № 2. С. 70–75, с библиогр.
Точное воспроизведение надписей см.: Макарова Т. И. Перегородчатые эмали Древней Руси. М., 1975. С. 119–121.
В базилике Святого Димитрия, воздвигнутой в Фессалониках на месте мученического подвига святого, никогда не было его костных останков. В качестве мощей чтилась частица одеяний Димитрия, пропитанная его кровью, сохраненная его сподвижником св. Луппом. Эта реликвия в маленьком флаконе находилась в крипте под алтарем базилики. С Х века частицы крови вдрагоценных реликвариях попадают в разные страны, возможно, в качестве даров византийского императора. Несравнимо более широкое распространение получает миро святого Димитрия, источаемое в базилике, согласно преданиям, сложившимся уже в средневизантийский период, от его тела, находящегося под спудом. См. библиогр., указанную в нашей работе: Стерлигова И. А. Византийский мощевик Димитрия Солунского из Московского Кремля // Дмитриевский собор во Владимире: к 800-летию создания. М., 1997. С. 260–264.
См.: Смирнова Э. С. Храмовая икона Дмитриевского собора. Святость солунской базилики во владимирском храме // Там же. С. 220–225.
О связях полоцких князей XII века и преподобной Евфросинии с византийскими императорами, отразившихся и в житии святой, см.: Шалина И. А. Богоматерь Эфесская-Полоцкая-Корсунская-Торопецкая: исторические имена и архетип чудотворной иконы // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси / Ред.-сост. А. М. Лидов. М., 1996. С. 202–204.
Воспроизведение и описание см.: Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода: Художественный металл XI–XVвека / Ред.-сост. И. А. Стерлигова. М., 1996. С. 129–141.
Цит. по: Макарий, архим. Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях. М., 1860. Ч. 2. С. 174.
Согласно летописям, святыни хранились «в казнах великого князя и в постельных». Подробнее см.: Стерлигова И. А. Новозаветные реликвии в Древней Руси // Христианские реликвии в Московском Кремле / Ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2000. С. 19–36.
Буланин Д. М. Феодосий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Л., 1989. Ч. 2. Л–Я. С. 454–460.
Воспроизведение см.: Постникова-Лосева М. М. Серебрянное дело в Новгороде XVIи XVIIвеков // Древнерусское искусство: Художественная культура Новгорода. М., 1968. С. 322.
Моршакова Е. А. Крест воздвизальный // Сохраненные святыни Соловецкого монастыря… № 40. С. 150–153, с библиографией.
По мнению А. А. Турилова, которого мы сердечно благодарим за консультацию, культ святого мог получить распространение в московской великокняжеской семье со времени женитьбы Ивана Молодого на Елене Волошанке. Об Иоанне Новом или Белгородском см.: Турилов А. А. Южнославянские памятники в литературе и книжности Литовской и Московской Руси в XV–первой половине XVIв.: парадоксы истории и географии культурных связей // Славянский альманах. М., 2001. С. 252, 259. В XVIIвеке Иван Белоградский был небесным покровителем рано умершего сына Алексея Михайловича Ивана Алексеевича.
Макарий, архим. Указ.соч. Ч. 2. 175.
Библиотека литературы Древней Руси. Т. II: XI–XIIвека. СПб., 1999. С. 484, 486.
Наиболее полный перечень мощей содержится в описи 1745 года. См.: Описи имущества Новгородского Софийского собора XVIII – началаXIXв. / Сост. Э. А. Гордиенко, Г. А. Маркина. Новгород, 1993. Вып. 2. С. 39–48.
См.: Моршакова Е. А. Указ.соч. С. 152 (со ссылкой на Хождение Трифона Коробейникова 1594 г.).
О мере Гроба Господня как евлогии Святой Земли см.: Царевская Т. Ю. О Царьградских реликвиях Антония Новгородского // Реликвии в искусстве и культуре восточнохристианского мира: Тезисы докладов и материалы международного симпозиума / Ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2000. С. 69–70; Жерве А. Мера святого Гроба Господня: традиция перенесения святыни на Руси в XII–XVIIвв. // София. Издание Новгородской епархии. 2000, № 4, с. 10 – 11; 2001, № 1, с. 20.
О кресте как ювелирном произведении см.: Горина Н. П. Новгородский серебряник XVIIв. Григорий Лопков и мастера его круга // Памятники культуры. Новые открытия 1982. Л., 1984. С. 419–423.
Т. е., Марка Фраческого [Фракийского] – афинского преподобного, чтившегося на Руси, его образ, как нам любезно указала Т. В. Толстая, есть во фресковой росписи алтарной преграды Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря.
См.: Описи имущества Новгородского Софийского собора XVIII – начала XIXв. / Сост. Э. А. Гордиенко, Г. А. Маркина. Новгород, 1993. Вып. 2. С. 39–48.
Забелин И. Описание новгородской святыни в 1634 году // Чтения ОИДР. 1862. Кн. 2. Смесь. С. 55.
Словарь исторический о святых, прославленных в Российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых. СПб., 1862. С. 174.
О движении святости в Московской Руси XVIвеке см. работу М. А. Маханько, указ.в примеч. 1.
В статье приводится преимущественно новый материал, не вошедший в монографию автора о ярославской церковной утвари. См.: Игошев В. В. Ярославское художественное серебро XVI–XVIIIвв. М., 1997.
Стерлигова И. А. Новозаветные реликвии в Древней Руси // Христианские реликвии в Московском Кремле. Каталог выставки. М., 2000. С. 19–32.
Краткие описания серебряных крестов из ризниц ярославских храмов и монастырей имеются в публикациях XIX–начала ХХ века (в основном краеведческих) таких авторов, как: А. Крылов, А. Лебедев, В. Лествицын, Н. Первухин, Г. Преображенский, С. Серебреников, С. Соколов, Ф. Успенский и др. (О библиографии этих авторов см.: Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. С. 12–13.)Описание замечательных произведений драгоценной церковной утвари из ризницы Спасо-Преображенского монастыря приводится в работе П. Уваровой (см.: Уварова П. В. Каталог ризницы Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле.М., 1887).
Сахаров И. П. Обозрение русской археологии. СПб., 1851. С. 15.
Забелин И. Е. О металлическом производстве в России до XVIIстолетия. СПб., 1851. С. 46.
Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. М., 2001. С. 424.
Например, ярославским мастером в нижней части водосвятного креста второй половины XVIIвека (ЯМЗ –7763) из Успенского собора г. Ярославля добавляется рукоять, и о превращается в благословенный крест. Рукоять XVIII века, чеканная, серебряная, с рельефным изображением Архангела Михаила (см.: Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. Кат. № 32. С. 212). Подробнее о благословенных крестах будет сказано ниже.
Наперсный золотой крест-мощевик XVIвека из Соловецкого монастыря в результате поздних переделок (в XVIIIвеке к нему добавлена рукоять) превращается в благословенный или напрестольный (см.: Сохраненные святыни Соловецкого монастыря. Каталог выставки. М., 2001. Илл. на с. 157). О благословенных крестах подробнее будет сказано ниже.
В архивных документах XVII–XVIIIвеков нередко содержатся записи о создании серебряных крестов, например, для церкви Федоровской Богоматери: «…соделан стый крест благословящий, его же украси серебром и жемчугом, подаянием всех прихожан». Архив ЯМЗ. № 18088. Повесть о построении церквей Николая Чудотворца на Пенье и Федоровской в Ярославле. Сборник XVIIIвека.
Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. С. 204–212.
Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. С. 206.
Опись 1651 г. церкви Ильи Пророка // 350 лет церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1650–2000 гг. Статьи и материалы. Ярославль, 2001. С. 127.
Козляков В. Н. Толгский монастырь XVIIвека и его вкладчики // Ярославская старина. Ярославль, 1992. С. 17.
Певг – дерево хвойной породы, возможно – пихта (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. М., 1955. С. 27).
Крылов А. Церковно-археологическое описание города Ярославля. Ярославль, 1860. С. 108; Лествицын В. Краткий путеводитель по церквам Ярославля. Ярославль, 1887. С. 26.
Изображения чеканных крестов имеются на многочисленных предметах ярославской церковной утвари – см.: Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. Илл. 58, 86, 56 (на с. 152); Илл. 44; Илл. 52; Илл. 108, 177 и др.
Этот крест подробнее будет рассмотрен ниже – в разделе, посвященном напрестольным крестам. Благодарю Е. А. Моршакову за предоставленную возможность его публикации.
См.: Игошев В. В., Грязнова Н. А. Русское художественное серебро Ярославля и Москвы XV– начала ХХ в. (Из собрания Ярославского музея-заповедника). Каталог выставки. Ханау (ФРГ), 1995. Кат. № 2, 3. С. 61.
См.: Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. С. 204. № 1, 2.
Изображение гравированных крестов см.: Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. Илл. 39, 44, 12, с. 240, 242, с. 249, № 174.
На главке ярославских кадил XVIIвека крепятся литые четырехконечные кресты, с криновидными завершениями ветвей, отличающиеся от восьмиконечных крестов, венчающих главки кадил «московского» типа. Такие кресты на ярославских кадилах XVIIвека формой, размерами и техникой изготовления повторяют ярославские нательные кресты этого же времени.
Сохранилась только одна половина этой каменной формы размером 72х78 мм. Справа на форме вырезан в контррельефе четырехконечный крест с килевидными окончаниями ветвей. Об этих крестах будет сказано ниже в разделе о ярославских крестах-тельниках первого типа. С левой стороны на пластине вырезан крест-тельник другой формы. Изображение подобного креста см.: Винокурова Э. П. Металлические литые кресты-тельники XVIIв. // Культура средневековой Москвы. XVIIвек. М., 1999. С. 347. Илл. 22. Тип IX.
Скорее всего, серебряная пластина с прорезным крестом и гравированной надписью является одновременной иконе. См.: Игошев В. В. Опыт атрибуции серебряной и золотой басмы XV–XVIIвеков // Материалы IVнаучной конференции «Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства». М., 2000. С. 35. Илл. 3.
Курение фимиама – ароматических смол в специальном сосуде кадиле – являлось неотъемлемой частью богослужения и сопровождало все наиболее значительные литургические действия. «Каждением, – писал Симеон Солунский, – святые места и вещи чествуются, а предстоящие освящаются». По словам Феодора Печерского, «святое бо кадило образ Святаго Духа есть».
Подобные прорези в виде небольших четырехконечных и равноконечных крестов имеются на многочисленных шарообразных серебряных кадилах работы ярославских мастеров. Например, на кадиле 1662 года (ЯМЗ-7337), являющемся вкладом рукавишника Сергея Андреева с сыном, по обещанию святой Троице, Борису и Глебу; на кадиле 1674 года (ЯМЗ-7332) из ярославской церкви Спаса на городу; на кадиле середины XVIIвека (ЯМЗ-7346) из ярославской церкви Ильи Пророка; на кадиле середины XVIIвека из Спасского монастыря г. Ярославля (ГММК-мр3362); на кадиле 1677 года (ГИМ-4392) из Афанасиевского монастыря г. Ярославля; на кадиле 1687 года (ЯМЗ-7349) из церкви Петра и Павла г. Ярославля; на кадиле 1689 года (ГММК-мр4247) из Соловецкого монастыря; на кадиле 1692 года (ЯМЗ-7334) из церкви Федоровской Богоматери г. Ярославля. О подобных прорезных крестах на кровле кадил см.: Игошев В. В. Ярославское художественное серебро XVI – XVIIIвв. М., 1997. С. 44; Игошев В. В. Ярославские серебряные кадила XVIIв. из собрания новгородского музея-заповедника (К вопросу о типологии церковной утвари.) VIIТихомировские чтения. Тезисы докладов. Ярославль, 1999. С. 76.
Например, на кровле новгородских, в отличие от ярославских кадил этого времени, делались срдцевидные прорези. См.: Игошев В. В. Новгородские кадила XVI–XVIIвв. // Искусство христианского мира. Вып. № 6. М., 2002. С. 291–292; Игошев В. В. Серебряное кадило XVIвека из Кирилло-Белозерского монастыря // Искусство христианского мира. М., 2000. С. 271.
Никольский К. Пособие к изучению богослужения Православной церкви. СПб., 1907. С. 13–14.
См.: Покровский Н. Стенные росписи в древних храмах греческих и русских. М., 1890. Табл. XVIII. С. 125.
Крест деревянный напрестольный или благословенный, оправленный в серебряный позолоченный сканый оклад, состоящий и мелких колечек. На его лицевой стороне – рельефное резное по дереву «Распятие», заключенное в вырез на серебряном окладе, сделанный в форме четырехконечного креста. Вокруг «Распятия» расположены четыре медальона с открытыми вырезами на окладе. На медальонах – резные изображения по дереву: двух погрудных предстоящих – на средней перекладине, вверху – двух летящих ангелов, внизу – поясное изображение Симеона Богоприимца. По краю крест украшает жемчужная обнизь, а по краям его ветвей – 9 камней в кастах. Рукоять круглая в сечении и обтянута тканью. На обороте креста в средокрестии – резная фигура Николая Чудотворца, вокруг – серебряный оклад с резными травами, XVIIвека. Размер креста – 32,5х16,5 см.
См.: Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. С. 204.
См.: Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. С. 205. Илл. 6.
См.: Уварова П. В. Каталог ризницы Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. М., 1887. С. 6. Табл. 5; Владимир, архим. Ярославский Спасо-Преображенский монастырь, что ныне Архиерейский дом. Ярославль, 1913. С. 112; Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. С. 205.
См.: Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. С. 206, 207. Илл. 81.
См.: Выголов В. П. Ярославль. Памятники архитектуры и искусства. М., 1985. Илл. 25 на с. 54.
На новгородских памятниках XVIвека фигура Христа более мощная, изгиб тела более динамичный, чем на ярославском «Распятии». Отличается и общее очертание несколько провисшей фигуры новгородского «Распятия», кисти почти прямых рук подняты чуть выше головы, поэтому фигура Христа напоминает букву «Y». Новгородские кресты XVIвека неоднократно были опубликованы, однако сопоставления стилистики характера их рельефов с крестами из других художественных центров ранее не проводилось (см.: Постникова-Лосева М. М. Серебряное дело в Новгороде XVI иXVIIвеков // Древнерусское искусство. Художественная культура Новгорода. М., 1998. Илл. на с. 320; Бочаров Н. Г., Горина Н. П. Об одной группе новгородских изделий конца XV иXVIвека // Древнерусское искусство. Проблемы и атрибуции. М., 1977. Илл. на с. 299, 301, 305). Аналогичные фигуры «Распятий» имеются и на многочисленных новгородских окладах Евангелий XVIвека.
«Распятие» на напрестольных крестах «московского» типа XVI–XVIIвеков отличается от ярославских и новгородских образцов ярко выраженной статичностью. Пропорции фигуры Христа стали другими. Удлиненная прямолинейная и хрупкая фигура Христа, словно застывшая, дана без малейшего движения, руки почти не согнуты в локтях и раскинуты под прямым углом к корпусу, также прямые и ноги, не согнутые в коленях. Можно предположить, что образцам для «Распятий» на серебряных чеканных крестах «московского» типа послужили иконы письма Дионисия. Например, «Распятие» письма Дионисия 1500 года (ГТГ) из Павло-Обнорского монастыря (см.: Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVIвека. М., 1983. С. 123. Илл. 124). Такие фигуры «Распятий» с двумя ангелами вверху чеканены на серебряных напрестольных крестах московской работы, являющихся царскими вкладками. Это – крест 1594 года (ГИМ) (см.: Каталог выставки ГИМ «1000 лет русского золотого и серебряного дела», проходившей в Финляндии в г. Хельсинки. Эспоо, 1991. Илл. 6). Окончание нижней части ствола креста первой половины XVII века, если смотреть на него фронтально, имеет закругление, а на рукоятях с лицевой стороны гравированы вкладные надписи, что является характерным признаком московских образцов. Это – крест 1623 года (РЯМЗ) из Успенского собора г. Ростова (изображение креста см.: Монастыри и храмы земли Ярославской. Краткая иллюстрированная энциклопедия Т. 1. Ярославль – Рыбинск. С. 73); 1623 года (ГММК-мр9979) из Николо-Угрешского монастыря (Каталог выставки «1000-летие русской художественной культуры». М., 1988. Илл. на с. 222. Кат. 305. С. 392); 1652 года (ЯМЗ-7870) из Успенского собора г. Ярославля; 1655 года (ГММК-мр4977) из церкви Покрова Богоматери села Покровского (Каталог выставки «1000-летие русской художественной культуры». М., 1988. Илл. на с. 222. Кат. 310. С. 392–393).
Бурдакова Е. В. Произведения из серебра с надписями в собрании Ярославского музея-заповедника // Художественный металл России. М., 2001. С. 94.
Изображение креста см.: Монастыри и храмы земли Ярославской. Краткая иллюстрированная энциклопедия Т. 1. Ярославль – Рыбинск. С. 169.
Например, напрестольные кресты 1726 года (ЯМЗ-7659), 1737 года (ЯМЗ-7972), 1780 года работы Ф. Тукалова (ЯМЗ-7860).
Гольберг Т. Г., Мишуков Ф. Я., Платонова Н. Г., Постникова-Лосева М. М. Русское золотое и серебряное дело XV–XX веков. М., 1967. С. 115.
Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. Кат. № 32. С. 212.
Опись 1651 г. церкви Ильи Пророка // 350 лет церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1650–2000 гг. Статьи и материалы. Ярославль, 2001. С. 127.
На кресте 1657 года (ЯМЗ-7892) открытым оставлено только иконописное изображение «Распятия» на лицевой стороне креста. См.: Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. С. 206. Ил. 23.
Козляков В. Н. Толгский монастырь XVIIвека и его вкладчики // Ярославская старина. Ярославль, 1992. С. 20.
На рукояти креста гравирована надпись: «СЕЙ СВЯТЫЙ КРЕСТ ЯРОСЛАВСКАГО КАЗАНСКАГО ДЕВИЧЬЯ МОНАСТЫРЯ В СЕЙ КРЕСТ ВЛОЖИЛ СВ МОЩИ АРСЕНИЙ МИТРОПОЛИТ РОСТОВСКИЙ И ЕРОСЛАВСКИЙ В 1761 ГОДУ ОКТЯБРЯ В 9 ДЕНЬ ТЩАНИЕМ И РАДЕНИЕМ ТОГО МОНАСТЫРЯ СВЯЩЕННИКА ИОАННА ЛЮГОРИНА ДА ДВОРЯНИНА СЕМЕНА ЛЕОНТЬЕВА СЫНА ТИХМЕНЕВА». Размер креста 37х22 см. На лицевой стороне чеканено «Распятие», ниже – «Воскресение», на концах перекрестия – «Снятие со креста» и «Положение во гроб», под «Распятием» – «Тайная Вечеря». На рукояти чеканены орудия казни. На обороте в шести круглых клеймах гравированы наименования вложенных в крест мощей (Крылов А. Церковно-археологическое описание города Ярославля. Ярославль, 1860. С. 88–89. В публикации крест назван – «воздвизальный»; Архив ЯМЗ. «Первая инвентарная книга Отдела религиозного культа Ярославского губмузея». 1923 г. № 83. В рукописи крест назван – «осеняльный»).
Макарий, архим. Опись Новгородского Спасо-Хунынского монастыря. 1642 г. СПб., 1856. С. 37.
Крылов А. Церковно-археологическое описание города Ярославля. Ярославль, 1860. С. 88–89.
Преображенский Г. Монастыри и храмы г. Ярославля, их святыни и древности. Ярославль, 1901. С. 70; Крылов А. Церковно-археологическое описание города Ярославля. Ярославль, 1860. С. 121.
Никольский К. Пособие к изучению устава Богослужения. СПб., 1907. С. 829.
Забелин И. Е. О металлическом производстве в России до конца XVIIстолетия. СПб., 1853. С. 51; Сахаров И. П. Обозрение русской археологии. СПб., 1851. С. 19; Игошев В. В. Новгородские водосвятные чаши XVI–XVIIвв. // Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный металл XVI–XVIIвв. М. (в печати).
В описи ярославского храма Ильи Пророка отмечены два стола для водосвятия: «2 стола, что воду с[вя]тят, выкрыты зеленью» (Опись 1651 г. церкви Ильи Пророка // 350 лет церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1650–2000 гг. Статьи и материалы. Ярославль, 2001. С. 125).
Аналогичная форма трехчастного городка с килевидным верхом часто встречается на ярославских корунах серебряных венцов, на верхних частях лампад, брачных венцов и на других предметах ярославской церковной утвари XVIIвека.
См.: Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. С. 212.
С оборотной стороны креста второй половины XVIIвека (РЯМЗ-р11757) в центре гравирована надпись вязью: «ВО ИОРДАНИ КРЕЩАЮЩУТИСЯ ГДИ ТРОИЧЕСКОЕ ЯВИСЯ ПОКЛОНЕНИЕ РОДИТЕЛЕВЪ БО ГЛАСЪ СВЕДЕТЕЛЬСТВОВАШЕ ВО(З)ЛЮБЛЕН(Н)АГО (ТЯ) СНА ИМЕНУЯ И ДХ ВО В(И)ДЕНИИ ГОЛУБИНЕ И(З)ВЕС(Т)ВОВ(А)Ш(Е) СЛОВЕСИ УТВ(Е)РЖ(ДЕ)НИЕ ЯВ(Л)ЕСЯ ХРТЕ БЖ(Е) МРЪ ПРО[СВЕЩЕЙ] С[ЛАВ]В[А] ТЕБЕ». Эта надпись является тропарем праздника Крещения Господня (6 января).
На оборотной стороне серебряного четырехконечного водосвятного креста 1697 года из ярославской церкви Иоанна Предтечи в Толчково гравировано изображение Иоанна Предтечи в рост, а внизу вырезана надпись: «ЛЕТА 7205 (1697) ГОД ПОСТРОЕН СЕЙ КРЕСТЪ ЦЕРКВИ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ». Размер креста 21х17 см (Архив ЯМЗ."Первая инвентарная книга Отдела религиозного культа Ярославского губмузея». 1923 г. № 359).
На оборотной стороне креста 1707 года (ЯМЗ-7285) по гладкому фону гравированы пять столбцов с наименованием вложенных в него мощей. Столбцы отделены друг от друга гравированным растительным орнаментом. Вверху креста гравировано: «МОЩИ СТАГО МЧКА ВАСИЛИСКА МОЩИ БЛГОВЕРНАГО КНЗЯ ФЕОДОРА И ЧА(Д) ЕГО ДВДА И КОНСТАНТИНА БЛГОВЕРНЫ(Х) КНЗЕЙ ВАСИЛИЯ И КОНСТАНТИНА ЯРОСЛАВСКИХ ЧДТЦВ», с левой стороны: «МОЩИ СТАГО ВЕЛИКОМУЧКА ФЕОДОРА ТИРОНА МОЩИ СТАГО ВЕЛИКОМУЧКА ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА МОЩИ АНТОНИЯ РИМЛЯНИНА НОВГОРОЦКАГО». В центре креста: «МОЩИ НИКИТЫ АРХИЕПКПА ХАЛКИДОНСКАГО МОЩИ СТАГО МЧКА НЕСТОРА МОЩИ СТАГО МЧКА КИРИКА МОЩИ ТИМОФЕЯ».
Справа: «МОЩИ СВЩНМЧКА ВЛАСИЯ МОЩИ СТАГО МЧКА ЕВСТРАТИЯ ЗМИРНО МОЩИ СТАГО МЧКА ХРИСТОФОРА МОЩИ СТЫ(Х) МЧЦЪ ХРИСТИНЫ И ГЛИКЕРИ». В нижней части креста гравировано: «МОЩИ СВЩЕ МЧКА КИПРЕЯНА МОЩИ СТАГО ФОТИЯ КИПРСКАГО МОЩИ ПРП(Д)НГО МАРКЕЕЛА МОЩИ ПРНОМЧКА АНАСТАСИЯ ПЕРСЯНИ».
На боковой поверхности креста 1707 года (ЯМЗ-7285) гравирована надпись вязью: «ЛЕТА 7216 (1707) ГО СЕНТЯБРЯ В 30 Д[ЕНЬ] ГРАДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСАДА ХРАМА БОГОМАТЕРИ СОБОРА И ПЕТРА МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО НА КОТОРОСЛЬСКИЙ БЕРЕГ ПОСТРОЕН СЕЙ СВЯТЫЙ КРЕСТ КОРСУНСКОЙ С МОЩАМИ СРЕБРЯНЫЙ ЧЕКАННЫЙ… ТЩАНИЕМ ПРИХОДСКИХ ЛЮДЕЙ».
Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. С. 212.
Крест-мощевик. Сольвычегодский музей. Инв. № 63 др. 1515 кп. 670 пр. Серебро, чеканка, гравировка, золочение. Размеры: 13х10,6 см. Атрибуция креста имеется в работе: Игошев В. В. Произведения ярославского художественного серебра XVIIв. в собрании Сольвычегодского музея // Материалы конференции VIIIТихомировские чтения. Ярославль (в печати).
Чеканные фигуры предстоящих сделаны в два раза меньше, чем фигура Христа. Над «Распятием» чеканены изображения двух светил. Чеканные фигуры предстоящих, Саваоф в облаках, Голгофа фигурной фигурной формы с пещерой и черепом Адама красиво скомпонованы и вписаны в форму трилистников – завершений четырех ветвей водосвятного креста. Фон изображений на лицевой поверхности креста украшен мелким растительным орнаментом пышных цветов и листьев, выполненным тонкой чеканной линией. Боковая поверхность и оборот креста украшены резным орнаментом причудливых пышных цветов на гладком фоне.
В центре на обороте креста – медальон с гравированным изображением патриарха Нифанта и надписью: «НИФАНТ ПАТРИАРХЪ ЦРЕ», слева – Гурия и надписью: "С ГУРИИ", справа – с изображением Варсонофия и надписью: "С ВАРСОНОФИ", вверху – Григория Богослова, рядом надпись: "С ГРИГОРИ БГОСЛОВ", внизу – с изображением Меркурия и надписью: "С М МЕРКУРИИ". Между медальонами гравированы надписи о вложении святых мощей: «МУЧЕНИКА ИПАТИЯ», «МУЧЕНИКА ТРИФОНА», МУЧЕНИКА СИМИОН(Н)А ПЕ(Р)СКАГА», «МУЧЕНИЦЫ ПАРАСКО[ВИИ]», а также растительный орнамент.
Запрестольный крест олицетворял ветхозаветное «Древо жизни», насажденное Богом в середине рая и воплотившееся в Новом завете в «Древо Креста» – символ победы жизни над смертью, орудие искупления, открывающее путь к спасению человечества. По словам Симеона Солунского, «…яко же посреди рая есть древо жизни, тако и посреде церкве есть древо жизни сиречь крест, иже носит плод жизни, сиречь Христа».
Вероятно, самой ранней и наиболее широко распространенной формой запрестольного креста была четырехконечная. Подобные процессионные кресты с круглыми медальонами в центре и на концах были широко распространены в Византии в X–XIIвеках, откуда были перенесены на Русь. О ярославских четырехконечных крестах XVIIв. см.: Игошев В. В. Ярославское художественное серебро XVI–XVIIIвв. М., 1997. С. 37.
См. статью в настоящем сборнике, а также: Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. С. 37–38.
Опись 1651 г. церкви Ильи Пророка // 350 лет церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1650–2000 гг. Статьи и материалы. Ярославль, 2001. С. 124.
Крест, имеющий многочисленные утраты, был отреставрирован в ГосНИИР. Реставраторы живописи – В. В. Баранов, оклада – В. В. Игошев. См.: Игошев В. В. Ярославское художественное серебро XVI–XVIIIвв. М., 1997. С. 212. № 34.
Игошев В. В. Ярославское художественное серебро XVI–XVIIIвв. М., 1997. С. 212–213.
Рущинский Л. Религиозный быт русских по сведениям иностранных писателей XVIи XVIIвв. М., 1871.
Никольский К. Пособие к изучению богослужения Православной церкви. СПб., 1907. С. 64.
Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. С. 213.
Новгородские серебряные нательные кресты опубликованы. См.: Постникова-Лосева М. М. Серебряное дело в Новгороде XVIи XVII веков // Древнерусское искусство. М., 1968. С. 311.
См.: Постникова-Лосева М. М., Платочова Н. Г., Ульянова Б. Л. Золотое и серебряное дело XV–XXвв. М., 1983. Ил.на с. 44.
Например, крест XVIIIвека (ЦМиАР-КП3496), аналогичный крест опубликован Н. Троицким (Троицкий Н. Крест Христа – «Древо Жизни» // Светильник. 1914. № 3. С. 16. Ил. 18). Еще один нательный крест XVIIIвека, украшенный «Распятием» низкого рельефа, по сторонам которого – копие и трость, хранился в Музее Белой палаты в г. Ростове Ярославской губернии. Изображение креста имеется на снимке И. Ф. Барщевского (Фототека ГНИМА. № 640). По контуру крест украшен пятнадцатью шариками; на его ветвях в прямоугольниках сделаны обронные надписи литургического характера.
Игошев В. В. Ярославское художественное серебро XVI–XVIIIвв. М., 1997. С. 213.
Уварова П. Каталог ризницы Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. М., 1887. С. 27; Игошев В. В. Указ.соч. М., 1997. С. 40.
Игошев В. В. Указ.соч. М. 1997. С. 40.
Крылов А. Церковно-археологическое описание города Ярославля. Ярославль, 1860. С. 121; Лествицын В. Краткий путеводитель по церквам Ярославля. Ярославль, 1887. С. 30.
Крылов А. Указ.соч. Ярославль, 1860. С. 24.
Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник. Инв. ЯМЗ-51358.
Уварова П. С. Каталог ризницы Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. М.,1887. С.9–10, табл.7.
Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских. СПб., 1892. С. 337–338.
Померанцев Н. Н. Русская деревянная скульптура и декоративная резьба / VВыставка произведений изобразительного искусства, реставрированных ГЦХРМ им. академика И. Э. Грабаря. Каталог. М., 1965. С. 70–71.
Игошев В. В. Ярославское художественное серебро XVI–XVIIIвеков. М., 1997. С. 37, 38.
Соколова И. М. Об одной группе резных ростовских икон XVIв. // Сообщения ростовского музея. Вып. VI. Ростов, 1994. С. 121.
Высота креста без ручки – 1 м 05 см; длина средней перекладины – 83 см; верхней и нижней перекладин – по 26 см.
Уарова П. С. Указ.соч. С. 10, прил.
Опись Спасо-Ярославского монастыря 1709 года. С. 15. Инв. ЯМЗ-15446.
Опись Спасо-Ярославского монастыря 1787 года. Лист 7, № 63. Инв. ЯМЗ-15277.
Опись Спасо-Ярославского монастыря 1787 года. Копия. ЯМЗ-15277/2.
Иеромонах Владимир. Ярославский Спасо-Преображенский монастырь, что ныне архиерейский дом. Ярославль, 1913. С. 48.
Опись Спасо-Ярославского монастыря 1787 года. Лист 16, № 223. ЯМЗ-15277; опись 1709 г. С. 15. ЯМЗ-15446.
Николаева Т. В. Произведения мелкой пластики XIII–XVIIвв. в собрании Загорского музея. Каталог. Загорск, 1960. С. 72–75.
Николаева Т. В. Крест 1544 г. из Волоколамска // Советская археология, 1971. № 2. С. 286.
Настольная книга священнослужителя. Т. 4, 1983. С. 37, 57–58.
См.: Живопись Великого Новгорода. М., 1982. Кат. 60, 73; 63, 16а, 14б, 15б.
Качалова И. Я., Маясова Н. А., Щенникова Л. А. Благовещенский Собор Московского Кремля. М., 1990. С. 86.
См.: Иконография Креста // Даниловский благовестник. Вып. 8. 1986. С. 14, ил. 1.
Подобный орнамент на меднолитой иконе «Никола Зарайский» XVIвека (Русское медное литье. Вып. 1. М., 1993. С. 178, ил. 22); на иконе «Богоматерь Одигитрия» XVIвека из частной коллекции (там же. С. 117, ил. 17); на новгородских меднолитых иконах (Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный металл XI–XVвв. М., 1996. С. 398. Кат. 126).
Святое искусство Руси. Каталог. М., 1998. Кат. 59. 54–55.
См.: Соколова И. М. Указ.соч.
Святое искусство… Кат. 59.
1000-летие Русской художественной культуры. Каталог. М., 1988. С. 391. Кат. 30.
Соколова И. М. Указ.соч. С. 120.
Николаева Т. В. Произведения мелкой пластики… С. 318–330; она же. Крест 1544 года… С. 258–260.
Резное изображение Федора, Давида и Константина на костяной пластине запрестольного креста первой половины XVIвека из Спасо-Прилуцкого монастыря. См.: Николаева Т. В. Произведения мелкой пластики… С. 74, ил. 21(а).
Согласно канону, установившемуся с момента появления первого изображения «ярославских чудотворцев» (1501 год), князья изображались стоящими во весь рост: в центре – Федор Ростиславович Черный в образе принявшего схиму, по сторонам от него – Давид и Константин в княжеском облачении и значительно меньшего роста (см., например, икону из собрания Ярославского музея-заповедника.Инв. 40948, ИК-141).
См.: Саликова Э. П. Запрестольный крест XVIIв. с живописными клеймами из собрания государственных музеев Московского Кремля // Русская художественная культура XVIIв. М., 1991. С. 41–42.
Голубицкий Е. История канонизации святых в русской церкви. Сергиев-Посад, 1894.
Каштанов С. М. Иван Грозный и Ростов // История и культура ростовской земли. Ростов, 1994. С. 74–75.
Анкудинова Е. А. К вопросу о программе стенописей Спасо-Преображенского собора // Краеведческие записки. Вып. VI. Ярославль, 1991. С. 85.
См.: Соколова И. М. Указ.соч. С. 123–124.
Синодики Богоявленского Авраамиева монастыря. Р-760, лист 66 (об.); Р-221, лист 11; Р-222, лист 53.
Полный церковно-славянский словарь. Составитель Григорий Дьяченко. М., 1900. С. 1101.
Выражаем признательность Т. Л. Никитиной за помощь при работе с архивными материалами.
ПЗИАХМЗ. Инв. 1711. Автор благодарит главного хранителя Переславского музея Н. Р. Герасимову за предоставленную возможность исследовать этот памятник.
Благодарю за указание на эту находку Н. Р. Герасимову и Г. М. Петровнину.
Переславский Никольский монастырь был основан около 1350 года преподобным Дмитрием Прилуцким. Разорен в Смуту и восстановлен в середине XVIIвека старцем Дионисием. Расцвет монастыря падает на вторую половину XVII– первую половину XVIIIвека и связан с деятельностью бывшего расколоучителя игумена Питирима (в будущем Нижегородского архиепископа) и царского духовника Варлаама Высоцкого. В это время весь ансамбль монастыря был отстроен в камне, в том числе главный храм – Никольский собор. В 1898 году монастырь из мужского был преобразован в женский. В 1923 году упразднен. С 1993 года – вновь действующий женский монастырь Русской Православной Церкви. До нашего времени сохранились монастырские описи и синодики XVII–XIXвеков.
Свирелин А. И. Древний запрестольный крест в городе Переславле-Залесском // Труды Владимирской ученой архивной комиссии. Владимир, 1900. Кн. II. C. 1–20.
Там же. С. 6–7.
Там же. С. 19–20.
Цит. по: Смирнов А. П. Выносной чеканный крест греческой работы XI–XIIвеков // Древнерусское искусство. Зарубежныесвязи. М., 1975. С. 36.
Тамже. С. 27–40.
Baumstark A. Altarkreuze in nestorianischen Klostern des VI . Jahrhunderts // Romische Quartalschrift. XIV. Rom, 1900. S. 70–71; ЧубинашвилиГ. Н. Грузинскоечеканноеискусство. Тбилиси, 1959. С. 174–176; GrabarA. La precieuse craix de la Lavra Saint Athanase au Mont Athos // Cahiers archeologiques. XIX. 1969. P. 99–125.
См. размышление о «корсунском» деле А. П. Смирнова: Смирнов А. П. Указ.соч. С. 40.
Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903. С. 92–108.
Смирнов А. П. Указ.соч.
Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVIиXVIIстолетиях. Сергиев Посад. 1914. С. 62.
Владимир, иеромонах. Ярославский Спасо-Преображенский монастырь, что ныне Архиерейский дом. М., 1881; Касаткин Д. В. Сказание о древнем чудотворном кресте Господнем, находящемся в Успенском соборе г. Дмитрова Московской губернии. Дмитров. 1895; Саликова Э. П. Запрестольный крест XVIIвека из собрания Государственных музеев Московского Кремля // Гос. Музеи Московского Кремля. Материалы и исследования. Вып. VIII. М., 1991. С. 32–47.
Свирелин А. И. Ук. соч. С. 18.
Опись зданий Переславского Никольского монастыря за 1748 г. (?) // РФ ГАЯО. Ф. 331. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 13 (об.). В архиве ошибочно названа описью Сольбинской Николаевской пустыни.
Николаевский мужской монастырь. Опись монастырского и церковного имущества за 1798 г. // РФ ГАЯО. Ф. 327. Оп. 1. Ед. хр. 143. Л. 3.
Делекторский Ф. П. Николаевский женский монастырь в городе Переславле, Владимирской губернии. М., 1904. С. 25.
Похожий орнамент встречается на изделиях первой половины – середины XVIIIвека. Например, на серебряной стопке новгородской работы из собрания ГИМ. См.: Постникова-Лосева М. М., Платонова Н. Г., Ульянова Б. Л. Золотое и серебряное дело XV–XXвв. М., 1995. С. 95.
Постникова-Лосева М. М. и др. Указ.соч. С. 115. Отметим, что элементы барочного орнамента в виде короны появляются в русском декоративно-прикладном искусстве только в последней трети XVIIстолетия как символ «единого Христа, Пророка, Царя и Архиерея» и обозначают тенденции к абсолютизму в государственном устройстве России предпетровского и раннего петровского времени (см.: Шитова Л.А. Жемчужное шитье второй половины XVIIвека. Проблемы атрибуции // Филевские чтения: Тезисы конференции 16–19 мая 1995 года. М., 1995. С. 131).
Опись церковного имущества Никольского монастыря. 1894 г. // ПЗИАХМЗ. Инв. 5387; Делекторский Ф. П. Указ.соч. С. 30.
См., например, статью Г. Ф. Корзухиной, специально посвященную этой проблеме: Корзухина Г. Ф. О памятниках «корсунского дела» на Руси (По материалам литья) // Византийский временник. Т. XIV. М., 1958. С. 129–137.
МИХМ. Инв. № М-9879/178. Размер 223х154х12. В музей поступил 30.XII.1929 из Сретенской церкви города Мурома. Крест сразу же был выставлен в антирелигиозном отделе музея. Затем долгие годы хранился в фондах. После реставрации в ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря в 1995 году был помещен в экспозицию.
См. Без автора и выходных данных отдельный оттиск. К истории честного животворящего Креста Господня, находящегося в Сретенской города Мурома церкви. Муром. 1999 (?). С. 4; Епанчин А. А. Забытые святые и святыни Мурома // Муромский сборник. Муром, 1993. С. 84.
Молебны организуются и проводятся Муромским мужским Спасо-Преображенским монастырем и приписным к нему Сретенским храмом по согласованию с Муромским музеем.
Травчетов Н. К истории честного животворящего Креста Господня, находящегося в Сретенской города Мурома церкви // Владимирские епархиальные ведомости. Владимир, 1899. № 35. В Муроме также был выпущен отдельный оттиск с тем же названием, видимо, того же автора, с пометкой цензуры в Москве 1899 года. Без автора. Без выходных данных. Типо-Литография Н. В. Зворыкина в Муроме. С. 1–15. Оттиск хранится в научной библиотеке Муромского музея – № 17541.
«Реставрация музейных ценностей России». Триеннале. Российская АХ. Декабрь 1993 – январь 1994 года (без каталога); «Возрождение сокровищ России» в ГТГ. Декабрь 1994 – январь 1995 года (без каталога); Древнерусское искусство из собрания Муромского историко-художественного музея. Календарь на 1996–1998 годы Владимир, 1996. Л. 7.
Травчетов Н. Указ.соч. С. 1–2.
Там же. С. 5–10.
Там же. С. 5.
Там же. С. 5–6.
Там же. С. 7–8.
Там же. С. 7.
Там же. С. 9.
Там же. С. 11. Прим. 2.
Там же. С. 12.
См.: Кучкин В. А. Материалы для истории русского города XVIв. // Археографический ежегодник за 1967 год. Отдельный оттиск. М., 1969. С. 301, 309; Писцовая книга города Мурома 1637 г. // Тихонравов Н. Владимирский сборник. Материалы для статистики, этнографии, истории и археологии Владимирской губернии. М., 1857. С. 152.
Травчетов Н. Указ.соч. С. 2–3. Прим. 1 на с. 2.
Писцовая книга города Мурома 1636–1637 годов. Рукопись XIXв. МИХМ (Муромский историко-художественный музей). НА. Л. 40об.
К истории честного животворящего Креста… С. 5–6, 7.
Титов А. А. Статистическое обозрение города Мурома. Владимир, 1900. С. 9.
Добронравов В. Описание церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир, 1897. Вып. IV. С. 180.
Травчетов Н. Указ.соч. С. 3. Прим. 1. С. 14–15.
Опись древних церквей города Мурома и древних предметов, в них находящихся. Рукопись XIXвека. НА. МИХМ. № 29. Л. 21–21об.
Там же. Л. 21–21об.
Книга поступлений Муромского музея. МИХМ. НА. 70. Л. 1об.–2. № 2.
Реставрационный паспорт. КП. ВХНРЦ 3614/24. Живопись – Реставратор Бучило Е. И. Руководитель Дунаева Н. В. Оклад – Петров В. Е. 1993 г.
См. Постникова-Лосева М. М., Платонова Н. Г., Ульянова Б. Л. Золотое и серебряное дело XV–XXвв. М., 1983. С. 205. №№ 2108–2110. С. 226. № 2867.
Сухова О. А. Древности Муромского Троицкого монастыря // Уваровские чтения. – II. Муром, 21–23 апреля 1993 г. М., 1994. С. 141.
Руди Т. Р. Еще раз о датировке «Повести о чудесах Виленского креста» // ТОДРЛ. Т. 51 (в печати). Выражаю сердечную благодарность Т. Р. Руди за предоставленную мне возможность до публикации ознакомиться с данной работой и за консультации, оказанные мне в процессе работы над статьей.
Брун Т. А. Муромская «Повесть о чудесах Виленского креста» // ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 34. С. 326; Брун Т. А. О датировке «Повести о чудесах Виленского креста» // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 2. XVI – началоXVIII веков. М., 1989. С. 210–211.
Руди Т. Р. Указ.соч.
Там же.
«Повесть о чудесах Виленского креста» // Рукописный сборник начала XIXв. МИХИ. Инв. № М-2299. Л. 12. Здесь и далее цитаты из произведения приводятся по этому тексту с сохранением особенности орфографии подлинника.
Там же. Л. 12–13.
Там же. Л. 13об.
Там же. Л. 15–15об.
Там же. Л. 16об.
См.: Читатели изданий Московской типографии в середине XVIIвека // Публикации документов и исследование С. П. Лупова. Л., 1983. С. 19, 41, 51, 92, 93, 104. О том, что такая информация содержится в этом издании, я узнала из указанной статьи Т. Р. Руди.
Сухова О. А. Группа серебряных вкладных вещей из собрания Муромского историко-художественного музея // Сборник Калужского художественного музея. Калуга. 1993. Выпуск 1. С. 96.
Брун Т. А. Указ.соч. С. 326; Руди Т. Р. Указ. соч.
Травчетов Н. П. Материалы для истории Муромского Троицкого монастыря. Владимир, 1902. С. 18–19.
Там же. Прим. 2 на с. 19.
«Главная церковная и ризничная опись Муромского Троицкого девича монастыря» 1861 г. (записи по 1891 г.). ГАВО. Ф. 570. О. 1. Д. 31. Л. 12об.
«Опись древних вещей Муромского Троицкого женского монастыря» 1878 г. ГАВО. Ф. 570. О. 2. Д. 218. Л. 4об.
Тихонравов К. Город Муром, история его и древности // Владимирский сборник. Материалы для статистики, истории и археологии Владимирской губернии. М., 1857. С. 83; Косаткин В. В. Монастыри, соборы и приходские церкви Владимирской епархии. Владимир, 1906. Ч. 1. С. 271 – 272; Ушаков Н. Н. Спутник по древнему Владимиру и городам Владимирской губернии. Владимир, 1913. С. 334.
Травчетов Н. П. Материалы для истории Муромского Троицкого монастыря. С. 51.
Там же. Прим. 1 на с. 52.
Инвентарная книга Муромского музея № 1. Отдел искусств. МИХМ. НА № 70. Л. 88об.
Инвентарная книга «Художественная резьба по металлу, кости и т. д.». МИХМ. НА № 100. Л. 65об.–66об.
Трофимова Н. Н. Карточка научного описания. Погашенный № М-5213/1–2. Из картотеки МИХМ.
Сухова О. А. Указ.соч. С. 141.
Постникова-Лосева М. М., Платонова Н. Г., Ульянова Б. Л. Указ.соч. С. 225. № 2835.
До настоящего времени полный список частиц мощей был неизвестен. Впервые полностью прочитан мною. Публикуется впервые с представленных мною материалов в статье Т. Р. Руди «Еще раз о датировке «Повести о чудесах Виленского креста"" (в печати).
«Повесть о чудесах Виленского креста». Л. 15об.
Руди Т. Р. Указ.соч.
Брун Т. А. Указ.соч. С. 210–211.
См.: Словарь исторический о святых, прославленных в Российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия местночтимых. СПб., 1862. Репринтное издание 1990 г. С. 91; Жития святых 1000 лет русской святости (собрала монахиня Таисия). Джорданвиль, 1984. Т. 2. С. 198–202. Благодарю за консультации по вопросу распространения частиц мощей данной святой ст. научного сотрудника Владимиро-Суздальского музея-заповедника Курганову Н. М.
Игошев В. В. Ярославское художественное серебро. XVI–XVIIIвв. М., 1997. С. 36.
Этот ковчег XIXвека хранится в Муромском музее. В настоящее время возвращен в Муромский Троицкий монастырь. Кресты-мощевики хранятся в музее.
Игошев В. В. Указ.соч. Кат. 32.
Рыбаков А. А. Художественные памятники Вологды XIII– начала ХХ века. Л., 1980. Кат., ил. 139.
Статья была написана несколько лет назад. В ней не рассматриваются новые уточнения в атрибуции текста. В. Г. Пуцко считает крест ювелирным произведением московского круга середины XVIIIвека (лицевая сторона). Оборот – 690-е годы. См. Пуцко В. Г., Сухова О. А. Виленский крест в «Повести» и мощевик Троицкого монастыря в Муроме // Уваровские чтения. V. Муром, 2002 (в печати).
Возражение, или разорение, смиренного Никона, Божиею милостию патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написана Газскому митрополиту Паисию Лигариду, инаответыПаисиовы // Patriarch Nikon on Church and State. Nikon’s «Refutation» / Ed. With introduction and notes by V. Tumins and G. Vernadsky. Berlin et al., 1982. C. 80–812 (Slavistic printings and reprintings edited by C. H. Vanschooneveld. IndianaUniversity. 300). C. 157.
Снегирев И. М. Никонова часовня на Елеонской горе Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества. М., 1852. С. 109–111.
Церковная и ризничная опись Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря 1875 года с более поздними дополнениями. Опись храмов и придельных церквей. Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим». Отдел письменных источников дореволюционного периода. Ф. 1. Оп. 1. Дело 1877. Л. 252.
Все переводы в современную метрическую систему сделаны по изданию: Таблица для перевода русских мер в метрические и обратно. М., 1921. 1 аршин = 0,7112 м; 1 вершок = 0,04445 м = 4,445 см.
Авдеев А. Г. Елеонский крест патриарха Никона // Ставрографический сборник. Книга I. М.: Древлехранилище, М., 2001. С. 271–278.
К. Тромонин. Краткое описание Воскресенского монастыря до 1685 года. М., 1844. С. 7. Леонид (Кавелин), архимандрит. Историческое описание Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря. М., 1876. С. 95. (Далее – Историческое описание…)
Амфилохий (Казанский-Сергиевский), архимандрит. Выписка пз подробной описи имущества Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, 1680 года. Доставлена архимандритом Амфилохием // Известия императорского археологического общества. СПб., 1863. Т. 4. Раздел «Исследования и материалы». С. 55.
Опись Музея, посвященного памяти Святейшего Патриарха Никона, собранного тщанием настоятеля Ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря архимандритом Леонидом. Составлена в 1875 году. РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 34. Л. 9 (Далее – Опись Музея Патриарха Никона.)
Горячева М. Ю. Отходная пустынь Патриарха Никона. Материалы исследований // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». М.: Северный паломник. 2002. С. 28–29.
Требник. М., 1651. Л. 1–1об.
Строительный сезон в Новом Иерусалиме длился при Патриархе Никоне от 25 марта до 1 октября, то есть от Благовещения и до Покрова Пресвятой Богородицы.
Опись Музея Патриарха Никона. Л. 13об.–14.
Опись Воскресенского монастыря 1679 года, Список XIXвека. Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим». Отдел письменных источников дореволюционного периода. Ф. 1. Д. 1880. Л. 18. (Далее – Опись Воскресенского монастыря 1679 года.)
Павел (Алеппский), архидиакон. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVIIвека, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. Вып. I. М., 1898. С. 64.
Опись Музея Патриарха Никона. Л. 14–14об.
Историческое описание… С. 88. О значении Никольского придела в топонимике Воскресенского собора см.: Зеленская Г. М. «Каменный путеводитель» XVIIвека по Воскресенскому собору Ново-Иерусалимского монастыря // Искусство христианского мира. Сборник статей. М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт. Факультет церковных художеств. 1999. Вып. 3. С. 170.
В Месяцеслове Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря (М., 1870.С. 11) временем освящения Никольского придела ошибочно назван 1685 год. Однако в других изданиях это событие датируется 1690 годом, что представляется верным, поскольку, как свидетельствует вторая надпись на подпрестольном Кресте, придел освящен архимандритом Никанором, настоятелем монастыря с 1686 по 1698 год. См.: Историческое описание Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря. М., 1894. С. 44; Ставропигиальный Воскресенский, «Новый Иерусалим» именуемый, монастырь (Историческое описание). М., 1903. С. 40.
Главная церковная и ризничная опись Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря. Составлена в 1875 году. Часть первая. Опись храмов и придельных церквей. РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 32. Л. 304; Месяцеслов Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря. С. 32.
Опись Музея Патриарха Никона. Л. 15.
Историческое описание… С. 77.
Щедрина К. А. О некоторых особенностях иконографии горы Голгофы и изображениях Креста и Распятия // Ставрографический сборник. Книга I. М.: Древлехранилище, 2001. С. 284.
Опись Воскресенского монастыря 1679 года. Л. 15об. – 16. Утраты восполнены по публикации архимандрита Леонида (Кавелина). Историческое описание… С. 194–195.
Переписная книга домовой казны Патриарха Никона // ВОИДР. М., 1852. С. 133.
Подписи с указанием возраста изображенных членов царской семьи помещались и на Воскресенском колоколе, вылитом в Новом Иерусалиме в начале 1660-х годов. См.: Историческое описание… С. 202.
Осипенко М. В. Кийский Крест Патриарха Никона. М.: Подворье Патриарха Московского и всея Руси. Храм Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, 2000. С. 14.
Историческое описание… С. 243.
Там же. С. 462–463.
Амфилохий (Казанский-Сергиевский), архимандрит. Описание Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки. М., 1875. С. 97–98.
Афанасий Вольховский (1763–1776), НКСЦС. II. C. 1418.
Парфений Чертков (1833–1850). НКСЦС. II. C. 1396.
Неразборчиво.
РФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 1. Ед. хр. 358. Л. 11–12об.
Надо думать, что имеются в виду памятные кресты из-под жертвенника (престола).
Афанасий Вольховский (1763–1776), НКСЦС. II. C. 1418.
То есть в день храмового праздника – Одигитрии.
Не он ли автор надписей?
