- Про детское счастье
- Чтобы Ангел не улетал
- Как и сколько бывать ребенку на службе
- «Научи нас молиться»
- Вопрос возраста
- Пост ребенка
- Не спешите
- Где оно, одиночество?
- «Он стал большим.»
- Нужно ли заставлять?
- Дитя непослушное
- По чьей вине?
- «Cкажи мне, кто твой друг»
- Отношение к святыне
- «Маленькие» грехи
- О мире в доме
- Любящее сердце
Нет такого родителя, который не мечтал бы о счастье для своих детей. Но в чем оно, детское счаcтье? Только ли в материальном благополучии и возможности черпать от жизни «полной чашей»? Подлинное счастье начинается, когда душа человека прикасается к неиссякаемому источнику Божией любви. О том, как научить ребенка богообщению в молитве, как привить любовь к Божьему храму, как воспитать православное отношение к святыне — расскажет читателю эта книга.
Про детское счастье
Редко бывает спокойно родительское сердце. С рождения ребенка и до конца жизни не покидают его заботы и тревоги за любимое дитя. У православных родителей это беспокойство реализует себя в молитве за детей, в стремлении к личному благочестию. У людей неверующих или нецерковных оно проявляется в страхах и предчувствиях. И конечно, каждый родитель желает счастья своему ребенку и старается сделать все для этого счастья. Только в чем оно, счастье?
Счастье. Что это такое? Корень этого слова «часть». С-часть-е. Счастливый человек — это человек, живущий с частью чего-то, имеющий какую-то часть. Часть какого-то Блага. Блага общего для всех. Всеобщего. Всемирного. Безмерного. Неиссякаемого Блага. И это Благо есть Бог! Счастливый — имеющий общую часть c Богом. Живущий в Боге. И чем ближе человек к Богу, тем он счастливее.
Верующий человек, церковный человек, никогда не скажет про себя, что он несчастен. Но заметьте, что и неверующий человек счастлив лишь тогда, когда он, сам того не зная, живет по Божьим заповедям, вложенным Господом в сердце каждого человека. Он счастлив чистой совестью, действенной любовью, исполнением долга, личной жертвой. Правда, подчас слово счастье прилагают к различным временным удовольствиям, жизненным победам, небывалой удаче. Да, человек радуется окончанию института, выздоровлению, защите диссертации, крупной премии, рождению ребенка. Но это счастье временное, оно хрупко и недолговечно. Оно не полно. А главное, счастливым можно быть и без всего этого.
Так какое же мы можем дать нашим детям полное, настоящее счастье? Мы не можем. Счастье это может дать только Господь. А мы можем поставить их на путь к этому счастью. Воспитать верующими и церковными. Для жизни с Богом.
Чтобы Ангел не улетал
Первые два-три года пребывания младенца в семье настолько радостны для родителей, что остаются на всю жизнь одним из самых сладких воспоминаний. Нет темы, на которую женщина даже в преклонные лета говорила бы с таким воодушевлением и интересом, как о рождении и первых годах жизни своего ребенка. И никогда лицо мужчины не покажется нам столь мягким и нежным, как при воспоминании о младенческом возрасте сына или дочери.
Младенца часто сравнивают с Ангелом. Приходит мне на память многодетный папа Вячеслав. Когда, после рождения четвертого сына, года на четыре численный рост семьи прекратился, Вячеслав вздыхал: «Нет Ангела в доме. Все в нем не так. Непорядок. Нужен Ангел». Видимо, поэтому пятого, долгожданного Степашку, и звали в семье несколько лет Ангелом. Помню, что в это время наши телефонные переговоры с многодетными кумовьями постоянно прерывались родительскими репликами: «Иван, куда поволок Ангела, положи его на кровать… Минька, забери у Ангела вилку… Поменяй у Ангела ползунки…»
Да, счастливое время, прекрасное время. Кажется еще долго-долго будешь наслаждаться этим свалившимся с Неба счастьем. Но вдруг замечаешь, что ангельское постепенно отходит от младенца. И вот в нем проявляется какая-то необоримая капризность, деспотизм, своеволие. «Может быть, пора заняться воспитанием? — думают родители. — Правда, он еще такой кроха».
Рассказывают, что к одному старцу пришла за советом женщина. «Отче, два месяца назад у меня родился сын, с какого времени я должна его воспитывать?» — спросила она. Старец ответил: «Ты, мать, опоздала на 11 месяцев». Другими словами, воспитание ребенка следует начинать с зачатия.
Собственно о судьбе своего будущего ребенка, о его воспитании мы должны задумываться еще раньше. До свадьбы. При выборе супруга или супруги. Но коль скоро семья уже сложилась, то обсуждать проблему выбора мы не станем. Однако обратим внимание на то, в каком браке живут родители. Венчаный это брак или невенчаный.
Конечно, оформленный по гражданским законам брак — тоже брак. Но союз, не благословленный Церковью, не покрытый Божественной Благодатью в таинстве браковенчания похож на дом с раскрытой кровлей. Жить в нем бесспорно можно, но дожди и снег будут омрачать эту жизнь, ветер станет приносить всякий мусор, выдувать тепло. Особенно тяжело жить в таком доме ребенку. Взрослые как-то притерпятся, живут не замечая, а младенец существо нежное — любой сквозняк чувствует.
Отличаются ли дети, рожденные в венчаном браке, от детей неосвященного союза? Безусловно, отличаются. Мало того, бывает, что в невенчаном браке дети просто никак не рождаются. Не хотят. И часто бесплодным супругам дитя посылается вскоре после браковенчания. В наше время даже в Церкви, к сожалению, встречается немало невенчаных супружеских пар. Или может быть правильнее сказать: временно невенчаных супругов. И поэтому у священника есть возможность наблюдать состояние семей до венчания и после него. И детей, рожденных до венчания и после него. Дети законного брака спокойнее. Во всех отношениях.
Обратите внимание, что во время таинства Крещения маленькие дети ведут себя по-разному. Кто-то кричит, а кто-то молчит. Причины тому могут быть разные, но, замечу, что кричат и капризничают в основном дети нецерковных родителей. Невенчаных, не причащающихся.
Для православного человека жить в невенчаном браке — грех. Разве не грех сознательно отвергать благословение Божие, участие Божие в вашей семейной жизни? Откуда же появились в нашей Церкви невенчаные супруги и родители? Обыкновенно это люди, которые пришли к вере недавно и затянули, по легкомыслию, свое дальнейшее воцерковление. Возможно, они считают, что венчание уже ничего не изменит в их жизни и в жизни их детей. Или это так называемые «смешанные» пары, где один супруг верующий, а другой не очень.
Первым следует все же, несмотря на сомнение и лень, узаконить свой брак, даже если он приближается к юбилейной дате, а жизнь к закату. С грехом нужно расставаться здесь, до могилы. Вспомните, что родительский грех обязательно отражается на детях. И на взрослых детях тоже. Кстати, и на внуках.
Что касается «смешанных» семей, то верующий супруг должен постараться ласковыми уговорами и просьбами, подкрепленными безупречным поведением, склонить неверующего или нецерковного супруга к венчанию. А если пока невозможно достичь согласия по этому вопросу, то православный супруг обязан на исповеди обязательно каяться в невольном грехе невенчаного брака. И молиться, обязательно молиться, просить Господа, Его Пречистую Матерь о помощи, чтобы венчание все же состоялось.
Мы знаем, как трудно растить ребенка одному родителю. Дети неполных семей — это очень трудные дети. Но и при двух родителях семья не всегда полна. Мама, папа и Христос — вот тот состав воспитателей, который необходим ребенку. Поэтому так важно для родителей узаконить свой брак через таинство Браковенчания, так много значит для ребенка церковная жизнь семьи, участие родителей в таинствах.
Церковное воспитание, как мы уже говорили, следует начинать с нулевого возраста. В период беременности одни мамочки часто бывали в храме, прикладывались к иконам, исповедовались, причащались Христовых тайн, молились, пили святую воду. Другие мамы, убоявшись духоты и скопления народа, не посещали церковь, совершали прогулки по бульвару или сидели в палисаднике. И детки также ведут себя по-разному. Одни младенцы чувствуют себя в церкви спокойно, пространство храма для них «свое», хотя они никогда и не видели его. Другие — беспокоятся, капризничают, тяготятся. Это не «свое» для них. Хотя плакать в храме могут, конечно, и «свои» церковные детишки, но это случается редко и плачут они иначе.
Воспитание, которое мать может дать своему ребенку до его рождения, так сказать, внутриутробное воспитание, незаметно усваивается им из ее благочестивой, церковной жизни. Именно ради будущего ребенка так часто приходит она в храм, быть может, выбирая для посещения спокойные малолюдные будние дни. В заботе о нем она часто исповедуется и причащается. И младенец радуется, приобщаясь вместе с матерью, освящаясь от православных святынь: икон, святой воды, просфоры.
В Евангелии говорится, что когда Дева Мария вошла в дом родственницы своей Праведной Елисаветы, бывшей тогда на шестом месяце беременности, то у Елисаветы взыграл младенец во чреве и она сказала: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа Моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем» (Лк. 1, 43-44). Радостно! Радостно он взыграл! Так же радуются и другие младенцы, еще не увидевшие свет, когда мамы их бывают в храме.
Когда в церковь приносят младенца, особенно когда его подносят к Чаше для Причастия, обычно бывает легко отличить дитя церковных родителей от нецерковных детишек. Спокойно лежит малыш на руках у одной мамы, вертится, пытаясь спрятать личико, у другой. Еще за несколько шагов видит священник дитя из нецерковной семьи и уже готовится к тому, что может произойти у Чаши. Как жалко бывает смотреть на кричащих, отворачивающихся от Причастия, сжимающих ротик малюток. Что их так пугает? В храме благолепие, рядом мама или бабушка, что же кричит он, выгибается дугой, сучит ножками? Это кричат родительские грехи, это они отворачивают от Благодати малютку. У этого крохи еще нет ничего своего, только рот и нос, ножки и ручки, а грехов своих нет. Есть лишь маленькие семена грехов родителей. И если родители сами не оставляют своих грехов, не каются в них на исповеди, не укрепляют свое стремление к праведности Причастием, если они не желают жить с Богом, то и дитя их будет бояться Господа, станет бояться Чаши.
Детишек, которых часто причащают, сразу видно. Удивительно, как легко они находят друг друга в любой компании. Без лишних слов и объяснений. Они могут быть разными, шалунами и паиньками, «шустриками» и «мямликами», но есть в них общее: какая-то особенная тишина, душевный покой. Они более управляемы, послушны, и ангельское в них сохраняется дольше.
Как и сколько бывать ребенку на службе
Семилетнему малышу вряд ли кто предложит ведерную лейку для поливки огорода. Дадут поменьше. Учитель физкультуры не установит для первоклассника планку на метровой высоте. Еще не время. Нагрузку для ребенка увеличивают постепенно. Ее определяют годы и физические силы. Возрастает дитя, возрастают и требования к нему. А как нам определить религиозную «нагрузку» ребенка? Когда и сколько он должен пребывать в храме, какие молитвы учить?
Наверное, многим родителям приходилось слышать на многолюдной праздничной службе: «Зачем вы детей-то мучаете, пусть бы погуляли во дворе, все равно они ничего не понимают». Наверное, поэтому некоторые родители из жалости к деткам приходят со своими чадами в храм прямо к концу службы, к Причастию, благо до семилетнего возраста ребенок может не исповедоваться. Проведут или пронесут сына или дочку от паперти до Чаши и обратно — вот и весь праздник Рождества, весь Николин день. С такой жалостью трудно воспитать церковного человека.
К храму, к церковной службе ребенка нужно приучать с пеленок, с первых месяцев и даже недель. Пространство храма особенное, сам воздух в нем иной. И наша церковность напрямую зависит от того, сколько времени мы провели в этом пространстве, как долго мы дышали этим воздухом. Не думайте, что младенец не слышит и не понимает происходящего вокруг него. Его сознание впитывает в себя звуки и образы и, быть может, он переживает службу гораздо полнее чем взрослые. Обратите внимание, как часто маленькие дети первых полутора лет жизни внимательно и долго смотрят под купол храма. Особенность освещения, дальность изображений, недоступная младенческому оку, не позволяют им разглядеть и осознать роспись на куполе и под ним. Однако меня много раз удивлял именно осознанно-внимательный взгляд и радостные улыбки младенцев глядящих вверх. Нередко дитя протягивает ручку, показывает маме или папе что-то в вышине. Быть может, это «горний Ангелов полет», который не видим мы, взрослые?
Ранний возраст, когда от ребенка не требуется напряжения собственных сил для присутствия на богослужении; возраст, когда он «ходит» и «стоит» еще на маминых ножках, — самое благоприятное время для воспитания у него привычки к церковной службе. Если это время упустить, пожалеть усталую маму или младое дитя, то позже на воцерковление ребенка родителям придется потратить гораздо более сил.
Характеры у малышей разные. Бывают непоседы от рождения. Такому не под силу долгое пребывание на материнских руках или стояние на одном месте. Ему нужна смена впечатлений. Как же мамы активных детишек решают проблему тихого пребывания на службе? Посмотрите, как мать шепчет что-то своему чаду на ушко, лишь только заметит кисло-скучающую гримаску на милом личике. Подышит в макушку, даст поиграть лоскутком или маленькой игрушкой, переменит положение, а. с ним обновится для малыша и внешний мир — лица, роспись. Поднесет к иконе, к подсвечнику (дети любят глядеть на огонь). Малютку качнет на руках, двух-трехлетнего погладит по спинке, поднимет на минуту-другую на руки. Отведет в сторону, расскажет тихо что-нибудь соответствующее дню или службе. Зачастую матери приходится более заботиться о поведении своего непоседы на службе, чем самой участвовать в ней. Это жертва. Материнская жертва, прокладывающая тропку в Царство Небесное. И для дитяти и для матери.
Стоять с малыми детьми в храме — тяжелый труд. Поэтому обычно матери ищут для себя случай побывать на службе без детей. Спокойно помолиться, поисповедоваться, причаститься. Близким желательно постараться и обеспечить им такую возможность.
Где удобнее на службе стоять с ребенком? Заметьте, люди в храме находят себе место в зависимости от своего внутреннего состояния, настроения. Кто-то стоит ближе к алтарю, кто-то в середке, кто-то в самом конце. Молиться можно везде, но все же обстановка и окружение оказывают влияние на наше чувство. Чем ближе мы к священнодействию, тем менее рассеивается наше внимание, тем полнее наше участие в общей молитве, тем проще нам на время оставить попечения житейские, забыть о домашних заботах. Удаляясь от алтаря, мы невольно косвенно включаемся в тихую, но неизбежную суету перемещений, приветствий. Краем глаза мы замечаем передвижения вновь пришедших, опоздавших на службу или заглянувших в храм на малое время по какой-то надобности. Здесь труднее сосредоточиться. Здесь волны мирских забот еще не улеглись, не успокоились, шепот вопросов и замечаний мешает молитве. «Впереди-то я стою — ног под собой не чую, а если сзади встану — только о ногах и думаю», — говорила одна пожилая прихожанка.
Дети чувствуют обстановку так же как и взрослые, но на них она оказывает большее действие. Ребенок пытается подражать тем, кто рядом. «Почему кому-то можно говорить или принять вольную позу, а мне нельзя?» — думает он, вернее, даже не думает, а просто делает то же самое.
Опыт многих родителей показывает, что стоять с ребенком впереди легче. Благодать священнических молитв, близость святого престола, Святых Тайн, молитвенное пение хора, явственнее слышимые слова службы, лики святых, словно глядящие из горнего мира через окна-иконы яркого иконостаса — все это оказывает свое благотворное воздействие на ребенка. Впереди он свободно может наблюдать красоту внешнего действия церковной службы. Это удовлетворит детской потребности впечатлений и смены событий.
Вспоминаются мне долгие пасхальные службы в Троице-Сергиевой лавре. В небольшом Троицком соборе детишек обычно стараются поставить впереди, против боковых дверец алтаря. Находятся они там одни без родителей. Даже малыши. И что замечательно, те ребятишки, что стоят или сидят на складных стульчиках, а порой и лежат на полу в середине храма неподалеку от своих родных, переносят трудности ночной службы тяжелее. Хотя находятся, казалось бы, в более комфортных условиях.
Помню, как однажды в этом соборе два брата Сережа и Паша О. разделились на пасхальной службе. Вначале братья стояли со всеми ребятишками впереди, а потом кто-то из них, кажется Паша, ушел к маме и через некоторое время сомлел и уснул на постеленной на полу одежке. К концу службы мама разбудила его. Вид у Паши был усталый, он куксился и всхлипывал. К Чаше привычного к церковной службе отрока пришлось почти нести. Большой уже в сущности парнишка, он плакал от усталости. Брат же был весел, чувствовал себя бодро, несмотря на бессонную ночь.
Близость алтаря помогает детям участвовать в общей молитве, настраивает быть внимательными. Святыня прогоняет всякие дурные мысли и. темные силы, нашептывающие их. Если служба переживается ребенком, то она не утомляет его, а укрепляет.
Кстати здесь вспомнить и о торжественных, праздничных, особенно многолюдных богослужениях. Нужно ли приводить детей на престольные праздники, на особенные архиерейские службы? Или «пожалеть» их, не мучить теснотой и духотой?
У торжественной многолюдной службы, кроме духоты, есть и другие качества. В архиерейской службе мы можем видеть особую полноту церковного богослужения. И воспринимается она иначе, чем обычная. На этой службе даже усталые и немощные люди стоят легко. Да и многолюдство престольных праздничных служб не безусловно отрицательная характеристика. Общее народное воодушевление, общая любовь к празднику или святому, объединяющие всех переживания евангельского события или события из истории Церкви способны «зажечь», вдохновить и равнодушного.
Рассказывала пожилая женщина, недавно пришедшая в Церковь. Великим постом она впервые попала на вечернюю службу с чтением Великого Покаянного канона Андрея Критского. Службы эти очень многолюдны, ведь первые четыре вечера Великого поста все православные христиане стремятся обязательно быть в храме. Моя рассказчица очень сожалела, что не имела при себе текста и мало что поняла из читаемого, но при этом она переживала счастье быть «вместе со всеми». Не теснота, не духота этой многолюдной службы запомнились ей, не утомительные с непривычки земные поклоны, а то, что она почувствовала себя в единстве со своей церковью.
Точно так же и слабое малое дитя, быть может, и не понимая достаточно того, что объединило на торжественной праздничной службе так много молитвенников, незаметно проникается чувством единства с церковью, роднится с ней, становится частицей православного народа. Такие не частые, конечно, паломничества в другой храм, к праздничной службе откроют перед ребенком мощь Православия, его всенародность, соборность.
И все же, как быть с капризными непоседами? Как поступить, если дитя мешает людям молиться, если оно своим поведением нарушает благолепие церковной службы? В таком случае маме или бабушке придется отойти с малышом к дверям или вовсе выйти из храма. Но выйти не на год, не на полгода, а ненадолго. Ребенку можно дать передышку, но не волю. Там, в отдалении, есть возможность, никого не смущая, растолковать ему, какого поведения вы от него ожидаете, или просто успокоить малыша. И еще подумать. Подумать, почему ваше дитя так неспокойно на службе. Может быть, вы редко приходите в храм, может быть, вы сами давно не исповедовались и не причащались. Возможно, есть какой-нибудь иной изъян в вашей духовной жизни. Дитя, как барометр, непременно реагирует на состояние духовной атмосферы в семье. Хотя, понятно, бывают и другие причины неправильного поведения ребенка в храме: недомогание, усталость и т.п.
Тем родителям, дети которых плохо ведут себя в церкви, следует навести порядок в своей духовной жизни и, конечно, молиться, просить о помощи Пресвятую Богородицу. Православные матери особенно почитают Тихвинскую икону Божьей Матери. У Ее образа они молятся о здоровье, о послушании своего малыша, о прибавлении разума, о благочестивом его устроении. И в ответ на сердечную материнскую молитву Царица Небесная никогда не отказывает в милости.
«При деле Бог ума прибавит», — говорит народная мудрость. Материнское желание видеть своего ребенка достойным прихожанином, благочестивым молитвенником в церкви обязательно найдет, как себя реализовать. Во время службы, приноравливаясь к возрасту, ребенку можно объяснить то, что происходит перед ним, обратить внимание на какие-то действия священнослужителей, их одежду, роспись и убранство интерьера. Настроить на участие в общем деле.
«Скоро выйдет диакон и скажет., сейчас будет каждение, надо поклониться, . смотри, сейчас откроют царские врата, . это херувимская песнь, постой спокойно, . скоро будут все петь «Верую», . когда диакон скажет: «Господу помолимся», ты тоже тихонько помолись, чтобы была хорошая погода, чтобы вырос отличный урожай, поскорее поспела клубника. помолись о мирном времени, чтобы не было войны, чтобы никого не убивали. чтобы не случилось землетрясения и наводнения».,. Такие или примерно такие слова вы можете сказать тихонько на ухо вашему юному прихожанину, чтобы он не просто отбывал необходимый «срок службы», а поучаствовал в ней по мере сил, чтобы возбудить внимание утомившегося ребенка.
Одна малышка с большой неохотой встававшая по утрам, часто по воскресеньям говорила: «Можно я еще посплю, вы идите в церковь без меня, а я посплю». Но мама ей напоминала: «Как же ты не пойдешь в церковь? Выйдет из алтаря отец диакон, посмотрит: все ребятишки пришли, а Лены нет. Он очень огорчится». И маленькая Лена, пожалев отца диакона, надевала платье. В храме она спешила пройти вперед и с нетерпением ждала каждого выхода диакона. После службы она обычно рассказывала: «А меня отец диакон видел. И когда говорил: «Миром Господу помолимся» — видел. И когда с кадилом был — тоже видел, и когда все «Отче наш» пели — видел. Очень обрадовался.»
И все же бывает, что ребенок совсем не готов к тому, чтобы стоять впереди. Какое-то время он будет проводить свой церковный день неподалеку от паперти, в притворе. Но и здесь его никак нельзя пускать в «одиночное плавание» и вольное хождение во время службы. Все время он должен быть под наблюдением взрослого, который вовремя пресечет шалости или несоответствующее месту поведение.
И еще. Мы уже говорили, что поведение ребенка на службе, его желание и нежелание быть в храме в немалой степени определяется духовной жизнью его родителей. Если родителям в тягость церковная служба, то и дитя тяготится ею. Если мама рассеянно смотрит по сторонам или, более того, переговаривается во время службы со знакомыми, то и ребенку скучно в храме. Если в семье воскресное посещение храма может быть отменено из-за генеральной уборки, огорода, ремонта автомобиля или приезда любимого родственника, то вряд ли можно ожидать от ребенка благоговейного отношения к церковной службе. А с возрастом у него тоже найдутся свои дела «поважнее», чем храмовая молитва: лыжная прогулка, встреча с приятелем. Словом, церковность родителей, их отношение к духовной жизни, состояние их совести обязательно отразятся на церковности их ребенка.
«Научи нас молиться»
Удивительно, как похожи на нас наши дети, как умело подражают они нам! Наблюдая за нами, учатся говорить, брать ложку, качать головой, открывать дверь. жить. Наблюдая за нами, учатся они молиться. Кроха стучит себя сложенными пальчиками в лоб, показывая маме первое движение крестного знамения, полностью воспроизвести которое он еще не в силах. Ребенок наклоняет головку перед иконой — кланяется, приближает личико к образу — целует. Все эти действия усвоены им из быта семьи. Это начало молитвы, маленькие зернышки, из которых с помощью папы и мамы вырастет духовная пшеничка — хлеб жизни.
К молитве, как и к храму, дитя необходимо приучать с самого малого возраста. Ребенок должен знать, что его родители молятся. Ему нужно это видеть. Молитва матери и отца должна быть для него привычна. И тут есть некая тонкость.
Рассказывала как-то одна знакомая. Она никак не могла приучить старшего сына к чтению. Уговаривала, рассказывала интересные повести и все удивлялась: «Да как же тебе не скучно без книг, без чтения?» На это мальчик ей ответил: «Да ведь ты сама никогда не читаешь». И тогда мама вспомнила, что она действительно никогда не читает. при детях. Днем у нее совсем нет времени. Только после того, как она уложит всех спать, закончит свои домашние дела, она берет книгу. Это бывает уже ночью. Значит, ее мальчик никогда не имел и не имеет перед собой доброго примера. И все ее слова о чтении книг воспринимаются им как сухая теория, а не как личный опыт.
То же самое может случиться при воспитании у ребенка привычки молиться. Если ребенок не имеет примера родительской молитвы, причем непосредственного, видимого примера, то объяснить ему необходимость молитвы будет очень трудно. Как правило, родители, особенно мать, просыпаются раньше, чем дети. После пробуждения взрослые молятся, выполняют какие-нибудь необходимые по дому дела и лишь потом будят малютку. То же происходит и вечером — родители читают молитвенное правило, когда ребенок уже спит. И вот оказывается, что такой, казалось бы, естественный режим, имеет очень существенный изъян: ребенок не видит родительской молитвы. Наверное, стоит подумать об изменении режима.
Вид молящейся матери, стоящей перед святыми иконами, поклоны, коленопреклоненная молитва оказывают на душу ребенка гораздо более воздействия, чем самые авторитетные объяснения и указания. Образ материнской молитвы запечатлеется в его душе навсегда. Он встанет преградой на пути разрушительных веяний современного нецерковного или, вернее, антицерковного мира, укажет путь в сомнениях, научит, утешит в печали. Заметьте, почти невозможно быть просто свидетелями молитвы. Когда мы видим молящегося человека, мы невольно, пусть на несколько мгновений, «присоединяемся» к нему, то есть наше внимание, чувство обращается к Богу, к горнему миру. У нас появляется «настроение» молиться.
Но, конечно, не стоит превращать молитву в воспитательный спектакль. Ребенок видит неправду лучше, чем взрослый. Он может увлечься ненадолго впечатлением, но быстро поймет фальшь, и скоро вы увидите не молитву, а лишь «игру», лицемерное подражание.
Совсем маленького ребенка можно, взяв на руки, поднести к иконам, прочесть с ним, то есть за него «Отче наш», «Богородицу», «Верую», молитвенное обращение к Ангелу Хранителю, к святому угоднику, имя которого носит малыш. Перед кормлением младенца не забывайте читать «Отче наш» или «Очи всех на Тя, Господи, уповают.», крестить пищу и самого едока. После того как младенец поел, обязательно прочтите благодарственную молитву и опять перекрестите малыша.
Так, понемногу, ребенок выучит свои первые молитвы. Согласуясь с возможностями младенца, вы со временем «подключите» его к общей семейной молитве. Обычно первая молитва, которую может повторить дитя, это «Господи, помилуй». Если вы считаете, что вашему сыну или дочери пока еще трудно стоять рядом с вами те несколько минут, пока вы вслух читаете утреннее или вечернее молитвенное правило, то пускай дитя послушает какую-то его часть. И поучаствует, трижды произнеся: «Господи, помилуй». Потом когда-то ребенок освоит молитвословие: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», и своим звонким голоском произнесет начальные слова молитвенного правила всей семьи. Затем — «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Все чаще и чаще будет слышен его голос у икон. Выучит малыш и «Отче наш», и «Царю Небесный». А когда он научится читать и укрепится телесно, можно будет отметить ему в молитвослове несколько посильных молитв, и он сможет читать правило вместе с мамой. По очереди. Одну или две молитвы прочтет мама, одну — сынок, еще несколько — мама, и опять — сынок.
Кроме молитв с определенным известным текстом, малыша обязательно нужно научить молиться своими словами. О заболевшей бабушке или маме, о благополучном учении старшего брата, о личных нуждах. Пусть он сам, по-своему, разговаривает с Господом, Пресвятой Богородицей, Ангелом Хранителем, святыми угодниками. Но при этом, какими бы искренними и сердечными ни были «собственные» детские молитвы, не следует, довольствуясь ими, оставить или отложить заучивание молитв из молитвослова. Впрочем, если ребенок действительно искренен, нелицемерен в своих «придуманных» молитвах, он с охотой выучит и несколько «взрослых» молитв, которые непременно должен знать каждый. Тем более что их и не так много.
Вопрос возраста
Знаю, что иногда родители боятся перегрузить своих питомцев обязательной церковностью. Хождением в храм, молитвами, постом, считая, что настойчивость в этом смысле может вызвать в ребенке неприязнь к Церкви, к религии. «Вот подрастет, тогда сам будет ходить в храм, будет молиться, а пока пусть погуляет», — думают добренькие мамы и папы. «Если его принуждать, то он станет лицемерно выполнять все необходимые внешние действия, а душа его при этом будет холодна», — строят они свои прогнозы. Но это неверно.
Все полезные навыки лучше прививать в раннем детстве. В еще бессознательном, что ли, состоянии. Как говорят, усваивать с молоком матери. Одно из основных свойств младенца это доверчивость. Дитя, особенно до семи лет, открыто миру, оно без устали впитывает в себя впечатления, не рассуждая, добро это или зло, хорошо или плохо. В эту пору самое время дать ребенку как можно больше хороших добрых впечатлений.
Храм. Есть ли на Земле более прекрасное место для воспитания?! Воспитания в любом понимании. Замечательные архитектурные формы, ни с чем не сравнимый интерьер, полный возвышенных символов. А разве не воздействуют на душу ребенка церковная живопись, церковное пение, призванные отразить небесную гармонию? Ребенок привыкает к красоте, проникается прекрасным.
В памяти младенца запечатлеются торжественные, даже символично-величественные движения священнослужителей, их особенные праздничные яркие облачения. Запечатлеется стройный чин православного богослужения. Никакие специальные гимназии, гувернеры, системы воспитания не смогут сделать для развития наших детей столько, сколько может дать им регулярное посещение храма, присутствие на церковной службе. Сейчас я говорю о восприятии ребенком только внешней культуры. Но существует еще и особенное духовное воздействие. В пространстве храма меняется даже взрослый, сложившийся человек. Вспоминается мне увиденная однажды сценка.
В храм вошли четверо молодых людей, крепкие юноши лет по 16-18. У самого входа трое стали в плотную шеренгу, четвертый пристроился чуть сзади. Нарочито не сдерживая громкой поступи, они двинулись вперед с таким видом, с каким входят на дискотеку или молодежную тусовку в поисках приключений. «Ну, кому мы здесь не нравимся» — безмолвный лозунг подобных выходок. Руки плотно вдвинуты в карманы, локти расставлены, взгляды задиристо ищут ответного взора. Ребята прошли до середины храма. Остановились. Было видно, что они ждут. Но приключения никакого не намечалось, никто их не остановил, не подошел с замечаниями или нравоучениями. Все были заняты своим и общим — молитвой.
Уйти сразу после такой боевой проходки казалось неудобным и ребята остались на какое-то время стоять среди прихожан. Они оглядывались по сторонам, с любопытством смотрели на диакона и священника, когда он выходил на амвон. Грозная удаль начала исчезать. Постепенно напряженные плечи и спины их обмякли, руки полезли из карманов, локти прижались, ребята как бы поуменынились в объеме, наглый взгляд пропал. Прошло минут десять, теперь они могли уйти, без ущерба для своего авторитета, но притихшие юноши медлили. Наконец, один молча тронул соседа за локоть, тот кивнул и тихо, гуськом, чтобы не помешать молящимся, они направились к выходу. Всего-то и пробыли они в храме пятнадцать, от силы двадцать минут, вряд ли они поняли что-либо из богослужения, вряд ли разобрали, что нарисовано на стенах, какие иконы были рядом с ними, но сама обстановка, служба, общая молитва, воздух храма усмирили их буйство, принесли покой в души.
Конечно, ребенку, и именно малому ребенку, нужно больше бывать в храме. А для родителей это наиболее простой и естественный способ развития эстетических понятий и взглядов в своем чаде, а также простой и естественный способ внушить ему в этом святом месте и многие этические понятия и нормы.
Известно, что если в пору младенчества ребенка не приучить к труду, то есть выполнять какие-то полезные действия не зависимо от своего желания, то в дальнейшей жизни ему придется на нелюбимое или на несвоевременное, по его понятиям, дело тратить гораздо более сил, так как немалая часть их уйдет на преодоление себя. А еще чаще такой человек будет стараться уйти от всякой ситуации, которая ему придется не по нраву. И не всегда достойным образом.
Молитва это тоже труд, и к ней нужно приучать с младых зубов. Не страшно, что ребенок не все понимает в словах молитвы, пусть он сначала выучит ее, понятие придет позже с объяснениями, с возрастом. Ведь даже нам, взрослым, не всё и не все молитвы достаточно понятны. О самом привычном молитвословии можно говорить так много, что не уместить и в целую книгу. Однако мы молимся, произносим известные слова, не всегда постигая их глубинный смысл и силу.
«Ты не понимаешь, зато бесы понимают и трепещут», — ответил один старец на жалобу о непонятных словах молитвы.
Расскажу вам одну, достаточно страшную историю.
Один человек сознательно выбрал для себя путь преступника, научился разным магическим действиям и заклинаниям нарочно, для того чтобы войти в контакт с нечистой силой, ища у дьявола поддержки в своих преступлениях. Не раз он попадал в тюрьму, но относился к этому как к временной неприятности, за которой последуют новые «удачи» и счастливая сладкая жизнь. Постепенно он дошел до самого тяжкого преступления. За вооруженный грабеж и убийство его приговорили к высшей мере наказания — расстрелу.
Пока шло следствие, человек тот находился в общей камере. Один заключенный, зная, что соседу грозит «вышка» дал ему листок с молитвой. Но тот стал смеяться. Он не привык обращаться за помощью к Богу и не верил, что Он может ему помочь, он верил только в силу дьявола.
После приговора осужденного перевели в одиночную камеру. Он как-то тупо думал о том, что его ожидает, а чаще вспоминал свою полную приключений жизнь. Неожиданно он услышал смех. В камере никого не было, но смех повторился. Потом еще и еще. Это был подленький довольный смех обманщика. И заключенный понял, что смеются над ним, он понял и кто смеется. Тот, кого он всегда просил о помощи, тот, кто, как привык он считать, помогал ему быть «хозяином жизни». Бес обманул его, завлек в камеру смертников и теперь смеялся над ним. Осужденному стало страшно. Страшно, как никогда не было, даже смертный приговор не вызывал у него такого страха. Он не знал, как ему победить этот леденящий ужас. Вспомнил, что в кармане куртки лежит листок с молитвой, который он почему-то сохранил. Достал его и начал читать непонятные слова. Молитва была короткой. Он читал ее раз, и два, и три. десятки раз. Страх пропал. В душе созревало раскаяние. Смех больше не повторялся.
Вскоре осужденному сообщили, что смертную казнь ему заменили колонией особого режима. Какое счастье, что в кармане лежал этот листок!
Молитва всегда должна быть рядом. В особо опасных обстоятельствах мы вспоминаем Бога, вспоминаем как Всемогущего Защитника и Помощника. Но не все могут просто, как дитя, обратиться к Нему своими словами. Бывает, страх так сковывает сознание, что оно просто не в силах подсказать эти слова. Бывает, отчаяние и уныние парализуют волю и опять мы не знаем, что делать. И тогда в каком-то кармашке памяти находим знакомое: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его.», «Живый в помощи Вышняго.» — или иную молитву. Не задумываясь над смыслом, мы повторяем то, что положили в наше сознание мамы и палы, когда мы были еще маленькими. Слова молитвы, как зажженная свеча, прогонят мрак уныния и страха, словно боевой меч, обратят в бегство врагов.
Как-то я оказался в доме, в подвале которого начался пожар. Жильцы верхних этажей с тревогой ждали пожарных. Идти вниз было небезопасно, так как в лестничный проем, как в аэродинамическую трубу втянуло весь едкий дым от горящей изоляции электрических коммуникаций. На соседнем балконе стояла женщина. Она беспрерывно повторяла молитвы «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся». Более она, по всей видимости, ничего не знала. Конечно, повторяла она молитвы, не задумываясь над смыслом, механически, и все же это были молитвы. Обращение к Богу.
Мы не знаем, какой будет судьба наших детей. Мы можем лишь надеяться, но не гарантировать их жизненный путь. Не случайно сложилась поговорка: от сумы да от тюрьмы не отрекайся, то есть в жизни у всякого человека могут случиться любые горести и испытания. Воспитывая свое дитя, мы должны помнить, что в дальнейшем мир будет стараться разрушить то доброе, что построили мы в его сознании, в его душе. Скоро, очень скоро у него появятся новые авторитеты и они могут быть нецерковными людьми. У него будет учитель или учительница, а для ребенка это безусловный авторитет, и мы знаем, что не все, далеко не все педагоги верующие, среди них бывают и богоборцы, и сектанты. Друзья-одноклассники тоже не все православные, а среди них может случиться яркая привлекательная личность совершенно чуждых взглядов. Через нецерковную среду, через книги, телевидение, разрушительное современное искусство мир обязательно попытается втянуть наших детей в водоворот яркой, шумной, но пошлой и бессмысленной жизни без Бога и без Церкви. И нужно успеть напитать их церковностью — любовью к Богу, к Его Святой Церкви, осознанным отношением к ее таинствам, ее святым, любовью к чистоте, сознанием скверны греха.
Опыт говорит, что дети в 14-17 лет нередко охладевают, теряют интерес к церковной жизни, пробуют отойти от уклада семьи, от ее традиций. Еще раньше, лет в 12-13, они уже пытаются расширить свою самостоятельность, подвергают критике, не всегда явной, мнение родителей. Этому возрасту уже не так легко объяснить или внушить что-либо, противопоставить что-то соблазну. Вот он, сын, и взрослее, и умнее кажется, а в то же время и закрытее, и недоверчивее. Привлекает подростков и разнообразие, новизна. В это время обычно ребенок поддается соблазну уйти «в дальнюю сторону» (Лк. 15, 13) от привычного, семейного. И не во всем родители в силах остановить его. Но если у ребенка есть опыт церковной жизни, участия в таинствах, опыт молитвы и поста, то этот опыт как якорь удержит его от страшного, не даст пропасть, поможет вернуться. В нашей памяти воспоминания детства занимают особое место. Книгу детства мы готовы читать и перечитывать много раз. Но как счастлив человек, вспоминающий церковное детство! Вспоминающий годы, когда среди любящих, добрых, ласкающих милых лиц родных совсем рядом были Боженька, Богородица, Никола Угодник, Ангел Хранитель. Когда сердце было чистым, Господь был ближе, а любовь и вера были такими, какими они бывают только в детстве. Душа помнит счастье детской молитвы, праздничного причастия, ярких огоньков всенощной службы, запах кадильного дыма! Она помнит их ярче, чем усталость, раннюю дорогу, подавленное желание движения и свободы. Этой душе есть куда вернуться из самых дальних стран, из самых глубоких бездн!
Пост ребенка
Слово ребенок происходит от слова раб. То есть человек с ограниченной волей, не принадлежащий себе. Такова уж участь ребенка в семье. «Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего» (Гал. 4, 1), — сказано у Апостола. Но в русских семьях ребенка часто называли еще и батюшкой. «Петенька, батюшка, прими блинок», — подаст мать любимцу румяный масляный блин. «Вот и Семен-батюшка идет, рукавицы красные, валенки, росписные», — радуется Семушке крестная. А девочку могли назвать матушкой. «Ну, матушка, наплакалась — теперь песни пой», — скажет, качнув люльку, бабушка внучке.
И правда, не долог век человеческий, быстро подрастут сынок да дочка. Сами станут стар-.шими над отцом-матерью. Кормильцами, поильцами,, защитниками. А после смерти родителей и молитвенниками за них. Потому и «батюшка», потому и «матушка». В этих словах приоткрывалось будущее.
Однако только через послушание, доверие и смирение перед родителями из подневольного маленького раба — ребенка, мог вырасти настоящий хозяин, господин в доме, а не похититель родительского достояния, оскорбитель отцовства.
Перед Господом все мы дети. Даже взрослому человеку, самому большому, самому «главному» в этой жизни необходимо помнить и чувствовать свое рабство, свою детскость перед Отцом Небесным. Пост помогает, удерживает нас в этом детском послушании. Он, как проверка сыновнего чувства. И только смирившийся перед Господом, послушный Его заповедям, достигает обещанного наследства — Царства Небесного. Пост воспитывает, пост охраняет нас от наших слабостей, укрепляет волю к добру, помогает бороться с грехом. Каждый верующий знает, насколько необходим пост. Он необходим всякому человеку. Но более всех пост необходим . ребенку.
Жаль только, что не все православные родители понимают необходимость поста для ребенка. Много разных объяснений находят они для своей неразумной жалости. «Потребности растущего организма, закладка здоровья на всю жизнь.», — говорят мамы и бабушки, подкладывая в пятницу Вовочке или Машеньке мясную тефтельку. Здоровье это хорошо, оно необходимо, но заметьте, что постящиеся дети болеют ничуть не чаще непостящихся, они не слабее своих сверстников, есть некоторые болезни, которые у постящихся ребят встречаются реже. Конечно, если скоромную пищу просто изъять из рациона, то ребенок ослабнет. Необходимо ее чем-то заменить. И замену не обязательно искать среди экзотических фруктов или орехов. Наши отечественные зерновые, бобовые, корнеплоды, тыква, кабачки, растительные масла вполне могут заменить на время мясо и молоко. Нужно только подумать, что и как приготовить. Можно самим подумать, а можно прочесть, спросить.
Легкомысленно со стороны родных пренебрегать детским постом. Мол, не велик грех. Знаете поговорку: «Смолоду прорешка, под старость дыра». Сначала пост отменяется в угоду растущему организму, потом в угоду учащемуся организму, далее по просьбе или уже по требованию, изнемогающего в тяжелых трудах организма и, наконец, по дряхлости или болезни организма увядающего. После смерти поститься уже нет надобности.
Прежде в русских семьях младенец постился сразу же, как заканчивалось грудное вскармливание. По прежним обычаям — с полутора лет. Может быть, это был не всегда полный «взрослый» пост, но это уже был пост. И не слабые, вялые тугодумы вырастали из таких деток: Илья Муромец, Александр Невский, Кузьма Минин, Михайло Ломоносов, Александр Суворов, Гаврила Державин, Дмитрий Менделеев. Да что там говорить, хорошие вырастали люди. Сильные, умные, благочестивые.
Приходится иногда слышать, что младенцу, то есть ребенку до семи лет, как существу чистому, почти равноангельскому, поститься не нужно. Пост помогает нам почувствовать и осознать свою греховность, зачем же, мол, он безвинному ребенку. Вспомните, что пост был установлен Самим Господом. Заповедь поста Господь дал Адаму еще в Раю. Адаму, первому человеку, который еще помнил и ощущал на своем лице дыхание Бога, своего Творца. Господь дал заповедь поста еще до грехопадения. Чистый, безгрешный Адам нуждался в посте. Так же нужен пост и самому чистому ребенку.
Давайте повнимательнее приглядимся к нашим «ангелам». Упрямство, непослушание, капризы, жестокость к животным, обманы — все это начинается обычно еще до семи лет. Отчего происходит большинство детских грехов? Оттого, что дитя неправильно понимает свое место в мире. Ребенку кажется, что он уже сам может решить, можно или нельзя, хорошо или плохо. Дитя забывает о своей спасительной зависимости и готово поверить, что все может, имеет право. И точно так же, как пост «возвращает в себя», отрезвляет взрослого человека, так же он приводит в разум ребенка. Это замечательный помощник в воспитании.
Заметьте, как неполезно человеку иметь все, что ему хотелось бы. Ведь только совершенный человек имеет совершенные желания. И Господь по милосердию «тормозит» наши неразумные хотения. Пост более всего помогает умерить неполезные аппетиты и в прямом и в переносном смысле. И у ребенка особенно.
У малышей пост — это просто перемена питания, да, может быть, лишение какой-нибудь любимой вкусноты: мороженого или яичка, кто что любит. А для более старших деток пост — не только в постной еде, это и особенное время, когда не смотрят телевизор, чаще бывают в церкви, с особенным вниманием относятся к своим поступкам и мыслям, больше читают духовную литературу. Постом деткам к молитвенному правилу можно добавить несколько земных поклончиков перед сном. Быть может, с особенной покаянной молитвенной просьбой, своими словами. Святые отцы говорят, что пост без молитвы не полон. Вот и додумайте, обсудите вместе с сыном или дочерью, какую личную, собственную покаянную молитву-просьбу можно добавить им в пост. Понятно, что хочется попросить новую игрушку, или сапоги, или ранец. Но пусть это будет просьба о духовной помощи. «Господи, помоги мне не драться в школе» или не сплетничать, не болтать на уроках. «Помоги, Господи, мне не огорчать маму, не обижать младшую сестру».
Не спешите
Есть еще тревога у родителей, да и у бабушек-дедушек тоже: не будет ли церковному ребенку одиноко среди неверующих или нецерковных деток? Сначала деток, а потом и взрослых, однокурсников, сотрудников, соседей?
Надо заметить, что беда современного ребенка, большинства детей именно в том, что они слишком рано становятся неодинокими. Еще в сельской местности, где в доме живет полная семья, то есть семья из трех поколений, ребенку как-то находится занятие на собственном дворе, среди своих. Но в городских семьях домашнее воспитание зачастую сводится к обеденному столу, постели, ванной и туалетной комнате. Остальное время малыша воспитывают чужие люди из детского садика, телевизора или мини-лицея с широкой программой. Когда в сад или группу продленного дня ребенка отдают для того, чтобы заработать ему на хлеб и курточку, это понятно. Это нужда. Но часто в особые элитные развивающие садики отдают своих питомцев именно не нуждающиеся родители. Зачем?
«Ему дома скучно одному», «он (или она) не умеет общаться с другими детьми, надо учиться», «пусть привыкает жить в обществе» — вот аргументы неработающих бабушек и мам, отдающих чадо в чужие руки. Чужие.
До семи лет дитя — открытая система, поэтому впитывает в себя все. Да, в детском саду ваш ребенок может получить много различной информации, но она не отфильтрована семейными правилами и взглядами, не процензурована родителями. Среди усвоенных малышом в обществе навыков и манер не все соответствуют семейным традициям. Не обязательно он переймет именно греховные, безнравственные привычки или неэстетические манеры, но как бы то ни было, все это будет не родное. Не свое.
Для того чтобы развить в ребенке способности, его не обязательно «сдавать» на весь день в садик. Занятия музыкой, живописью, иностранным языком можно обеспечить и другим способом. Частое и долгое пребывание малыша в обществе может способствовать не открытию, а закапыванию его талантов. Для творчества нужен покой и. одиночество. А в шумной компании ребенок устает, хотя и не замечает, не осознает этого. И как защитная реакция на такую психическую усталость — рассеянность. Она — защита на перегрузку. Не беспокойтесь, ваш ребенок еще успеет насладиться обществом. Школа, институт, работа. Так что, если у вас есть такая возможность, побудьте до семилетнего возраста с вашим малышом дома.
Впрочем, не стоит и преувеличивать опасность чужого влияния на вашего ребенка. Речь идет лишь о том, что общественное воспитание имеет свои негативные стороны и их следует учитывать.
Малышу из православной семьи, конечно же, не полезно надолго расставаться с особенной религиозной атмосферой родного дома, где в каждой комнате есть святые иконы, на полочке стоит его Библия с картинками, в шкафчике (он уже заметил) стоит святая вода, а воздух чуть-чуть пахнет ладаном, словно маминой молитвой, где без молитвы не садятся за стол, а после еды благодарят Бога. Пусть хотя бы в эти младенческие годы миром для него будет дом и семья. Чтобы надежнее закрепилось в нем все то хорошее, что вы хотите воспитать в нем.
Где оно, одиночество?
А существует ли одиночество верующего человека в нецерковном обществе? Безусловно, оно есть. Как одиночество зрячего среди слепых, слышащего среди глухих. Но вряд ли нужно изживать его завязыванием глаз или затыканием ушей. Быть своим хорошо в меру, не обязательно становиться таким же.
Впрочем, религиозный человек не может быть действительно одинок. Одиночество, страх одиночества — удел неверующих людей. Более ста лет назад поэт написал:
Ты говоришь, что я останусь одинок
С моим осмеянным давно мировоззреньем.
Что бурный жизненный поток
Своим стремительным теченьем
Подхватит и умчит мой маленький челнок.
Не беспокойся, друг! Ведь я не новичок,
Давно я плаваю и в бурях закалился.
Я пристань вижу, и поток
Не страшен, как бы он ни злился.
Я к пристани приду, приду не одинок:
Со мною будет Тот, Кто создал и поток,
И волю дал его мятежному теченью,
Кто направляет мой челнок,
И моему мировоззренью
Возникнуть и созреть в душе моей помог.
(А. Круглов)
Господь всегда с нами. Пророк говорит: «Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его во истине» (Пс. 144, 18). Верующий человек очень хорошо чувствует свое неодиночество. Тот, кто не верит — ориентирован на себя. На свои силы, свои знания, свои возможности. Он надеется только на себя, верит только себе, советуется только с собой, ищет поддержки в себе. Человек религиозный надеется на Бога, верит в Божественный Промысел, просит помощи у Господа, проверяет себя Божьими заповедями. Он постоянно в общении с Господом, с памятью о Нем. Какое тут одиночество? Верующий человек знает заповедь: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 39). Эта заповедь призывает нас к общению, а иначе как мы можем любить ближнего, не видя его, не слыша о нем, не думая о нем, не проявляя своей любви в делах? Православный человек — заведомо общительный человек.
От безрелигиозного одиночества не уйдешь даже в шумной компании. Религиозный человек не одинок будучи и один.
Дети из православных семей не одиноки, они не буки надутые. Они готовы общаться, но они выбирают. А разве это плохо? Ведь с кем поведешься, от того и наберешься. Церковные детишки по каким-то неуловимым признакам находят друг друга даже на детской площадке. Они чувствуют, что они свои. Христовы.
Помню, как несколько лет назад четырехлетний Сережа из всего многолюдия большого двора безошибочно нашел единственного причащающегося мальчика. Костю. Он играл и с другими детьми, но с Костей у них были какие-то особенные отношения. Через некоторое время мы уехали из этого дома. На новом месте Сережа поступил в школу, у него появилось много приятелей, с которыми он встречался каждый день. Прежние и, надо заметить, не частые прогулки с Костей, казалось, должны были забыться. Ведь это было так давно, «когда я был еще совсем маленьким», как говорят дети. Но в третьем классе Сереже задали домашнее сочинение на тему «Мой друг», и он, не задумываясь, вывел на первой строке: «Моего друга зовут Костя.» Он сидел над тетрадкой и лицо его было удивительно нежным. Он вспоминал то один, то другой случай, слова, сказанные когда-то Костей, его облик. Как и многие дети, Сережа не любит много писать, но это сочинение получилось у него необычайно длинным. Проходят годы, но сын не забывает друга Костю, он называет его имя в утренней молитве и иногда спрашивает: «А как ты думаешь, Костя все еще ходит в Михаила Архангела, или они тоже переехали?» «Мы, наверное, и не узнаем друг друга, если встретимся», — говорит он, и при этом чему-то радостно улыбается.
Вспоминаются мне и первые знакомства Насти. Она так же верно «угадала» себе верующую подружку на детской песочнице. В эти годы не говорят о мировоззрении, о религии. В эти годы лепят куличи и строят домики. Но и без объяснений Настя и Маша нашли друг друга, нашли раньше, чем их мамы обнаружили свое единомыслие по духовным и жизненным вопросам. И это неплохо, что нашим детям не все равно, с кем дружить. Ведь друг — это «другой я», и замечательно, когда дети это «я» определяют православием, когда свою общность они видят не в родстве интеллектов, не в совпадении вкусов, не в едином месте жительства, а прежде всего — в православии, в церковности.
«Он стал большим.»
«Когда же юности мятежной.» — Пушкин нашел очень точное слово. Юность действительно мятежна. Юность — это возраст, когда ребенок пытается сбросить или как-то ослабить домашнее иго, возраст, когда молодому человеку хочется постоянно противоречить, не соглашаться, предлагать пусть неверное, но свое. «Он как будто не слышит, что я ему говорю. Словно не верит мне. Слушает, кивает, а глаза пустые», — жалуются мамы, да и папы тоже. Действительно, нередко детское, а особенно юношеское самомнение не дает ребенку услышать слова и наставления родителей и других взрослых. «Любой совет воспринимают в штыки. А об ошибке и не заикайся. Сразу в слезы», — горевала как-то мама девочки-подростка. Как же быть? Как вложить информацию в закрытые уши?
Рассказывала мне одна пожилая женщина, детство и молодость которой прошли в деревне. В провинции обычаи сохраняются долго. В их деревне были в обычае вечером женские посиделки с рукоделием. Соберутся вечером женщины, девушки и девчонки в какой-нибудь крестьянской избе. У взрослых в руках у какой — спицы, у какой — лоскут с иглой, у какой — пяльцы, ну а девчонки, те только глазами да ушами трудятся. Ума набираются.
Переговорят женщины о своих делах да заботах, а потом выберут какую-нибудь неспесивую девушку и примутся ее «учить». «Если тебе парень станет такие-то слова говорить, ты его не слушай, а скажи вот что. А если. то.» Девушка голову над рукоделием клонит, а сама чуть улыбается. Подружки тоже сидят улыбаются, а замужние женщины обучают, наставляют, всякие примеры приводят.
Девчонки малые, конечно, слушают. Боятся шевельнуться, как бы не выгнали, дали дослушать, как Наташку или Тоньку учат, И только позже, повзрослев, понимают эти девчонки, что не Наташу, не Антонину учили на глазах у них женщины, а для них, тринадцати-четырнадца-тилетних давали они урок. Вспоминаются смешки несдержавшихся девиц-невест и лукавые, чуть заметные улыбки наставниц — домашних артисток. С каким уважением и благодарностью говорила о них моя, рассказчица, и теперь, через пятьдесят лет, восхищаясь их мудростью и тактом.
Такие чуть театрализованные уроки, в обход прямого нравоучения используют многие родители. «Исподволь и ольху согнешь, а вкруте и вяз переломишь», — говорит народный» опыт. Кстати, этот способ косвенной передачи информации годится и для «тихого» обличения, щадящего самолюбие.
В одном монастыре, чтобы отучить молодого инока сидеть, положив ногу на ногу, — настоятель попросил другого монаха при всех сесть таким же образом. Вечером, во время беседы, брат так и сделал. Тут же бывшие рядом монахи стали обличать его, выговаривать и объяснять, чем неприлична и опасна подобная вольность. Бывший здесь же молодой инок не знал об уговоре братии и не почувствовал никакого на себя давления. Но выводы сделал: больше никто никогда не видел, чтобы он сидел, положив ногу на ногу.
Правда, к таким литературно-драматическим композициям не следует прибегать слишком часто. И они, конечно же, должны быть талантливо выполнены. По этому поводу вспоминается мне один маленький мальчик. Его мама и бабушка так часто предавались перед ним воспоминаниям о детях, попавших в беду из-за той или иной Шалости или оплошности, что мальчик просто перестал воспринимать эти воспитательные «страшилки». Уже в четыре года, стоило ему услышать, что «один мальчик тоже открывал форточку или рисовал на обоях, а потом.», как он перебивал своих воспитательниц и скучным голо-сом говорил: «А потом он умер, или стал бандитом». Ему так надоела домашняя драматургия, что он стал настороженно относиться ко всякой информации, полученной дома.
Нужно ли заставлять?
Иногда дети, которые в раннем детстве любили ходить в храм, искренне молились и с удовольствием читали книжки о вере и о святых, в старшем возрасте охладевают к Церкви, к молитве, к духовной литературе. Как в таком случае поступить родителям? Настаивать на выполнении хотя бы внешних действий и проявлений церковной жизни или отпустить дитя «на волю», боясь развития в нем ханжества и лицемерия?
Преподобный Амвросий Оптинский в одном из писем предлагает такое рассуждение: «Если не можем мы душевно, то по крайней мере телесно и видимо да держим себя благоприлично. Телесное и видимое благоприличие может приводить нас к благому устроению внутренних помыслов. Как Господь прежде создал из земли тело человека, а потом уже вдохнул в оное бессмертную душу, так и внешнее обучение и видимое благоприличие предшествует душевному благоустроению».
Пока возможно, следует уговорами и просьбами поддерживать в детях хотя бы внешнюю церковность. И обязательно в своих родительских молитвах просить Господа, Его Пресвятую Матерь, угодников Божиих помочь сохранению в ребенке веры, не дать ему отойти от Церкви.
У некоторых детей такой период охлаждения к церковной жизни длится не очень долго. Через какое-то время юноша или девушка, словно пробудившись от какого-то сна, вновь возвращаются на прежнюю стезю, и теперь церковность их более осознанна, более самостоятельна. Хотя, конечно, для кого-то такой период может затянуться, кто-то отпадет и совсем. Но родительское сердце никогда не отчаивается, в этом его особенность. Родитель, любой родитель любого ребенка верит в возможность возвращения «блудного сына», и это Божье свойство: ждать с раскрытыми объятиями, с готовым на радость сердцем: «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15, 24).
И послушное и непослушное дитя в воле Божией, на нее обязательно должен надеяться каждый родитель. На всеблагую волю Господа. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя» (Пс. 54, 23) — сказано у Псалмопевца. Отвечая на письмо одной матери, оптинский старец Макарий писал: «Возложа попечение о детях своих на Господа, находишься спокойною, что Он устроит по Своей благости: и если будет воле Его угодно, чтобы они (дети) познали тяжесть суеты мира сего ранее твоего, то и это Он силен устроить, если им будет полезно. Ты старайся воспитывать их православно-религиозно, смиренно; насади на юных сердцах их семена добродетелей, и насажденное в юности принесет плод в свое время, аще бы и уклонились мало через сообращение. Это я вижу на многих и даже на ближних».
Своим разумом трудно и даже невозможно «просчитать», как поступить в том или ином случае, воспитывая дитя. «И тут подобает иметь мудрость, но не с своим разумом, а молить Господа, да упремудрит вас, как поступать в воспитании детей, и да сохранит их от тлетворного духа вредных обычаев мирских. На сей вопрос не могу ничего больше ответить» (преп. Макарий Оптинский. Письма).
Поэт про эти годы верно заметил: «ветреная младость, которой ничего не жаль» (А. Пушкин). Молодость не имеет опыта, не знает, чем отзовется в будущем тот или иной поступок. И поэтому ей не жаль терять то хорошее, что она имеет.
Юности свойственно особенное желание свободы. Это желание свободы и самостоятельности нормально в молодых людях, и к нему нужно подходить с пониманием. Ведь любой человек должен раскрыть и проявить в жизни свои таланты, выразить свою уникальную личность, то, что вложил в него Господь. И юность ищет, торопится. Она вообще тороплива. Ну и пусть ищет, пусть торопится найти «свое». Ведь дело, которое нам по сердцу, «свое» дело мы изучаем и совершаем быстрее и лучше. Наиболее удачно и наиболее полно раскрывается в нас тот талант, который нам по нраву. Так что поиски своего пути — дело благое. Но все же проходить они должны под родительским надзором. Задача родителя не сковать по рукам и ногам, а уберечь, направить. В каждой семье эта задача решается по-своему.
Что касается церковной жизни, то я не сторонник того мнения, что родительская настойчивость в этом вопросе может вызвать в ребенке устойчивое негативное отношение к Церкви. Сейчас в Церковь возвращаются люди, церковный опыт которых прервался в детстве или юности, много лет назад. Вспоминают: «Ходил с бабушкой в церковь, причащался.», «Мать в детстве водила в храм.», «Знаю «Отче наш» и «Богородицу» — бабушка научила, когда я маленький был». Вспоминают с благодарностью к родным. И ни разу ни один верующий, ни один атеист, противник Церкви не сказал мне, что охота молиться и ходить на церковную службу у него пропала из-за того, что его водили в храм в детстве против его воли. Напротив, многие пожилые люди сожалеют, что их родители не были настойчивы в религиозном воспитании. Известны упреки родителям: «Если бы мама меня заставляла.». Вспоминается персонаж пьесы Николая Васильевича Гоголя: «Мой отец. Он и не думал меня выучить французскому языку. Я был тогда еще ребенком, меня легко было приучить — стоило только посечь хорошенько, и я бы знал, я бы непременно знал» (Г. Гоголь «Женитьба»), Да, только с годами, с личным опытом дано нам понять, как хорошо быть послушным ребенком.
Дитя непослушное
«Яблочко от яблоньки недалеко падает» — говорит пословица и порой добавляет: «но далеко откатиться может». Бывает, что у хороших родителей растет дитя непослушное, злое. Отчего? Или, может быть, для чего дается родителям такое испытание — непослушное дитя?
О женщине Апостол сказал: «Спасется через чадородие» (1 Тим. 2, 15). Вот иногда трудный ребенок и спасает маму, а то и всю семью. В каждом приходе есть семьи, которые привела в Церковь болезнь малютки.
Порой живет человек, не выходя ни чувствами, ни мыслью за пределы житейских своих интересов. Ходит на работу, сажает яблони, любуется закатом. Все сам по себе. Без Бога. Может, и слышал он про Него, может, и верит, что есть Господь, да не пускает он Христа в свою жизнь. И без Него хорошо живется человеку. Вера вроде есть, да мертвая она, потому что «вера без дел мертва» (Иак. 2, 20). Как отрезвиться ему от своего безумия?
Сколько раз уже стучал Господь в его сердце! Сколько раз человек мог услышать Его голос! Весь мир природы, его красота и совершенство говорят нам о Боге. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18, 2). Открыты и действуют многие храмы Божий, и верующие знакомые есть у каждого человека. Отечественная история и культура на каждой своей страничке вспоминают о Боге и о Церкви. Но не слышит человек, не отзывается, не открывает своего сердца! И тогда Господь, не желая погибели человека, дает ему горькое лекарство от глухоты сердечной, от забывчивости — попускает временное несчастье, останавливает на время привычное налаженное течение жизни. И самое действенное для родителей лечение — болезнь ребенка. При этом болезнь может быть и телесной и нравственной. Но не спешите горевать над сокрушенным родительским сердцем. Нередко с горя начинается восхождение человека, а то и всей семьи. В горе мы поднимаем глаза к небу.
На памяти у меня много интересных судеб, где церковная жизнь начиналась с молитвы за трудное дитя.
Вспоминается одна мама. Поздний, долгожданный ребенок, — слабый здоровьем, с неустойчивой, подвижной психикой. Первый год жизни младенца был сплошным кошмаром для родителей. Папа и мама спали по очереди по часу, по два, весь день не спуская ребенка с рук. Чем старше становился мальчик, тем большая тревога одолевала родительское сердце. Сын рос капризным, непослушным, склонным к каким-то диким шалостям. Удивительно, но при внешней схожести он, казалось, ни одной чертой своего характера не походил на родителей, словно был из другой семьи. Мать стала молиться, ходить в церковь. Ребенка крестили. Мать брала сына на службу, он причащался. Через какое-то время выходки мальчика все реже огорчали близких. А когда у него родились брат и сестра, то в этом маленьком «варваре» открылся кладезь нежности!
Пожалуй, не скажешь, что мальчик стал во всем примерным ребенком, отличником в школе, что его поведение не беспокоит родителей. Нет, как и всякая мама, его мать не знает покоя. Она ругает его за лень, помогает исправлять отметки, расстраивается, если он не идет с ней на церковную службу. Она молится о нем, она плачет, она тревожится за его судьбу. Но она видит, что он изменился, он не такой, каким был и каким мог бы стать, не приведи она его в Церковь. И она сама не такая, и муж, и малыши. Она знает это и счастлива, что все так случилось. Иногда она вспоминает: «Он был таким неуправляемым в детстве. До семи лет я водила его на шарфике, как собачонку» И потом, вздохнув, добавит: «Зато он привел меня в Церковь».
Заболевшее или «зачудившее» дитя словно говорит своим родителям: «Посмотрите, все ли у вас в порядке. Может быть, ваша родительская молитва так тиха и невнятна, что Господь не слышит ее?»
Когда одной девочке врачи поставили страшный диагноз, мама ее каждый вечер шла в храм и молилась. Она рассказывала: «Каждое утро везу в лабораторию анализы, оттуда на работу, потом за ответом и в храм. И так месяц за месяцем. Я тогда на Иерусалимском подворье все полы слезами вымыла — молилась о Катюше. Через какое-то время врачи стали сомневаться в правильности диагноза, провели еще несколько обследований и сняли его совсем».
Как может родитель повлиять на судьбу ребенка? Прежде всего занявшись своей судьбой. Кто я такой, чтобы Господь слышал меня? В Евангелии говорится: «Мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает» (Ин. 9, 31). Благочес-тие родителей обязательно отразится на жизни их чад. Если в вашем доме беда, если дитя огорчает вас, вспомните: давно ли вы исповедовались и причащались, нет ли на совести у вас каких-либо забытых грехов. Поспешите в храм на исповедь, подготовьтесь и причаститесь. Состояние вашей души очень важно для детей.
И молитесь. Молитесь за своих детей. Молитесь, никогда не отчаиваясь, за самых непутевых, за самых грешных деток, за верующих и неверующих, за церковных и нецерковных. Молитесь.
Закончить эту главу мне хотелось бы стихотворением нашего современника Леонида Васильевича Сидорова о молитве старушки матери.
Люблю подслушивать их моления.
Не по требникам и молебникам,
А по сердцу они лишь читаются.
Примерно так они изливаются:
«Уж кончаю жизнь эту бренную.
Услышь, Владычица, рабу смиренную!
Не за себя молю мою Заступницу —
За сына пьяницу, за дочь распутницу.
Мои же все уже иссякли силушки,
Одной лишь жду себе сырой могилушки,
Спаси, помилуй их, погибающих,
Про Царство Божие позабывающих!
О них здесь молится родная матушка.
Спаси, помилуй их, Спаситель Батюшка!
Никола милостив, ты будь хранителем,
Защитой верною, путеводителем,
Прости за все, за все моей беспутнице.»
И вновь, со вздохами, опять к Заступнице:
«Скорбящих Радосте, услыши в старости
О детках гибнущих Тебя просящую!»
А дальше слов уж нет, они теряются
И слезы жаркие лишь проливаются.»
По чьей вине?
Дитя — благословение Божие, утеха родителей, помощник в старости. Но дитя может стать и бичом Божиим, наказанием, несчастьем. Трудно сравнить с чем-либо горе родителей, стоящих у гроба сына или дочери. Но вот слова одной матери, сказанные в день похорон ее сына, умершего от наркотиков: «В моей жизни было два счастливых дня и оба они связаны с тобою, сыночек. Первый день, это когда я тебя родила. А второй, сегодня, когда я тебя схоронила». Сколько же горя нужно было вынести ей, чтобы произнести эти страшные в устах натери слова! Наверное, никто из родителей ясноглазых Вовочек и Верочек не думает, не ожидает пережить такое несчастье. А ведь семе-на его нередко закладываются в душу ребенка именно в семье.
«Дети грешников бывают дети отвратительные и общаются с нечестивыми» (Сир. 41, 8), — говорит Священное Писание. У древних греков была поговорка: «Пьяница родит пьяницу». Дети усваивают от нас не только доброе, но и худое. Родительский грех, даже скрытый, обязательно отразится на ребенке. А пример греха усваивается в семье легко.
«Сказал также Иисус ученикам Своим: невозможно не придти соблазнам, но горе тому, чрез кого они приходят; лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею, и бросили его в море, нежели чтоб он соблазнил одного из малых сих» (Лк. 17, 1-2). Какое же страшное наказание ждет человека за соблазн в будущем мире, если лучшее для него погибнуть в морской пучине?
Впрочем, родители, как правило, уже здесь на земле начинают пожинать плоды того дурного примера, злого соблазна, которые сами посеяли в души своих детей.
«Но ждет нас суд уже и в этом мире.
Урок кровавый падает обратно
На голову учителя. Возмездъе.
Рукой бесстрастной чашу с нашим ядом
Подносит нам же.»
(В Шекспир)
Особенно обидно, что подчас сами родители не замечают того тонкого яда, который содержит их быт. Яда, способного понемногу отравить детскую душу. Например — речь. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его всё воинство их» (Пс. 32, 6), — сказано у Псалмопевца. Слово обладает великой силой. Слова молитвы могут привлечь к нам милость Божию, могут сдвинуть горы; слова благословения призовут благодать на труды. Слова проклятия способны разрушить, уничтожить, убить. Человек всегда знал о силе слова и обращался с ним осторожно.
Дитя учится говорить, слушая нас. Оно слышит и то, что обращено к нему, и то, что относится к другим, и то, что ему вовсе не следует слышать. Оно учится. Принимает и повторяет. Повторяет .все, вплоть до наших ошибок. В семьях, где родители привыкли к грубым словам и ребенок обязательно станет осквернять свою речь этими словами. В Священном Писании сказано: «Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни свои не научится» (Сир. 23, 19). Привычное сквернословие в семье обязательно влияет на развитие интеллекта и на нравственность детей. Такому ребенку не тошно в компании сквернословов. Они для него «свои». А в дальнейшем, он и друзей, и невесту найдет себе по принципу подобия. Среди сквернословов.
Живой мир делится на словесных и бессловесных. Слово роднит человека с Богом, Человек один из всего мира наделен словом и разумом.
Но слово может и разлучить его с Господом. «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12, 37), — говорит Спаситель. «Злоречивые. Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 10).
Мудрые родители не ведут в присутствии детей разговоров, которые могут вызвать в ребенке осуждение, гнев, кощунственный или недобрый смех, блудные мысли. Если в доме случаются споры с людьми неверующими, имеющими чуждые православию взгляды, то им также лучше проходить вдали от детских ушей. «Оберегайте своего малютку, чтобы он не был слушателем ваших прений с N.», — предостерегал в письме к одной родительнице преп. Амвросий Оптинский.
Соблазнительные книги и телепередачи, занимающие досуг родителей, тоже способны посеять зерна разврата в открытое сердце ребенка. Как прячут от детей лекарства, чтобы ребенок неразумным употреблением их не нанес себе вреда, как прячут от него подальше всякие едкие и ядовитые хозяйственные растворы и вещества, так должно убирать от ребенка неполезные ему по возрасту книги, не допуская,
«Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка сон покойный
И сердце слабое увлек
В свой необузданный поток».
(М.Ю. Лермонтов)
Надо заметить, что та информация, которую ребенок получает в стенах своего дома, воспринимается им совершенно иначе, чем внешняя, Она подвергается меньшей критике или совсем не подвергается ей. И каждое впечатление когда-нибудь даст свой росток. Не забывайте об этом.
Ребенок — это в какой-то степени наше зеркало. В малыше очень мало своего. Умейте видеть в этом зеркале свои промахи и ошибки, эй грехи. Многодетная мама, воспитавшая семерых детей, сказала: «В молодости я многие грехи за собой не замечала, теперь на детях их увидела. Все мое». Умейте не только узнавать нa детях свои ошибки, но умейте признавать иx, каяться и исправлять. И тогда «зеркало» постепенно перестанет досаждать вам.
Не все в нашей взрослой жизни понятно ребенку и поэтому не все следует предлагать его вниманию. Вряд ли уместны в присутствии детей эмоциональные споры о политике. В таких разговорах обязательно прорывается осуждение. Кроме того, они таят в себе много страхов, выз-ванных непониманием. От этих страхов дитя может унывать. А уныние ослабляет волю, спо-собствует лени. «Все страшно в этом мире. С этим уже ничего не поделаешь», — думает чадo, слушая политические «страшилки» и прогнозы. Страх обессиливает слабых, особенно детей. Именно поэтому им не все говорят о нелегких проблемах семьи, о болезни мамы или папы. Русский ученый Петр Петрович Семенов-Тяньшанский вспоминал, что во время эпидемии холеры его родители были активными участниками мер, сдерживающих распространение болезни. «Замечательно, что мы, дети, были так охранены заботливостью родителей от всяких тревог, что даже не знали о существовании страшной болезни.» — писал он в своих воспоминаниях.
О тяжелой,, трудной и горестной стороне жизни ребенок, конечно, должен знать. Его нельзя воспитывать завернутым в вату. Малышу необходимо учиться сочувствовать, молиться о близких, просить Божьей помощи, Божьего участия. Но родители поступят мудро, если будут регулировать количество горестей и страхов, не перегружая ими -юное сердце.
Надо заметить, что излишняя суровость также угнетает волю. Воспитывая, следует быть настойчивым, а не суровым. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6, 4), — учит Апостол. Мелочная придирчивость не позволяет ребенку порадоваться выполненному делу: «Как ни сделаешь — все равно никому не нравится, все плохо. Не стоит и стараться». Безразличие к делу, к собственной судьбе могут быть следствием родительской нетерпимости к ошибкам ребенка. За строгостью, даже за наказанием ребенок обязательно должен видеть любовь. Не забывайте миловать, а не только карать.
«Cкажи мне, кто твой друг»
Родители отвечают за свое дитя перед Богом. И родительская обязанность — охранять ребенка от злых соблазнов. Поэтому все родители хотят, чтобы их дети дружили только с хорошими девочками и мальчиками. «С кем поведешься, от того и наберешься», — учат они своих деток, побуждая их внимательно относиться к выбору приятелей. Раннее детство послушливо, оно легко следует родительским словам. Да и то сказать, куда ему и деться-то! Но подрастет дитя и все больше у него свободы не только в движениях, но и в симпатиях, и в мнении. И тогда родителям приходится объяснять своему сыну или дочери, почему им не следует проводить время в той или иной компании. И здесь для восприятия родительского слова очень важным является навык исповеди. Церковный ребенок отличается самоконтролем. Он привык испытывать свою совесть: «Хорошо это плохо? Грех или нет?». Верующий человек относится ко всему сознательно. Для него невозможно бездумное отношение к жизни. Православный ребенок умеет и готов обсуждать и осуждать свои поступки и задача родителя лишь чуть показать, обнаружить ошибки, не всегда видимые ребенком, предупредить об опасности духовной болезни и инфекции.
Родителю нужно чаще говорить с ребенком, интересоваться всем, что происходит в его жизни. И, конечно, его знакомствами и занятиями вне дома. Не осуждать его приятелей, но обсуждать поступки.
«Пошли с ребятами на пустырь. Разожгли костер, напекли ворованной картошки. Рассказывали грубые анекдоты». Что доброго ты приобрел на этом «пикнике»? А сколько потерял? Любое свое занятие человек освящает молитвой. А ты молился перед тем, как полакомиться ворованной картошкой? Где, ты думаешь, был твой Ангел Хранитель, когда ты слушал грязные истории? Он отошел от тебя и плакал. Его отогнали грубые слова и смех, — объясняет мама сыну неприглядную сторону его прогулки.
Или пытается открыть дочери глаза на ее поступок: «Мальчишки закидали снегом? Столкнули с горки? Да ведь вы сами хотели внимания. Громко смеялись, кривлялись перед ними, чтобы вызвать их интерес. Вот и «заинтересовали». Ну и что ж, что нога теперь болит, это она твою совесть будит. Не прав медведь, что корову съел, не права и корова, что в лес ходила. Так-то. Не кокетничай. А синяки тебе для памяти, чтобы подумала, о чем сказать на исповеди».
Церковный подросток может критически отнестись к замечанию родителей, но авторитет Церкви для него безусловен. Обращая внимание сына или дочери на греховную сторону поступка, родитель, как правило, говорит не свое мнение, но мнение Церкви. И ребенок это чувствует и доверяет ему. Но для этого родителям нужно быть религиозно-грамотными, знать Священное Писание, объяснения святых отцов. Суждение, предлагаемое ребенку, не может быть суждением одного лишь своего суетного ума, но должно отражать взгляды Церкви. Если отец или мать не слишком сведущи в каких-то вопросах, то они могут и должны обращаться за разрешением их к духовнику или авторитетным людям Церкви.
Случается, что подросток и сам видит негативные стороны жизни какой-нибудь компании, но тем не менее не покидает ее. Ведь не всегда нам хочется совершать только правильные поступки. Вспоминается поговорка, сложившаяся еще до крещения мордвы: «С боярами знаться — честно, с попами — свято, а с мордвой, хоть грех, зато лучше всех». А тут еще юношеское любопытство да самомнение. Кажется, что можно как-то воздействовать на приятелей, отвлечь от дурных привычек. Как это ни печально, но такой подвиг мало кому по плечу. Святитель Григорий Богослов говорит: «Легче заимствовать порок, нежели передать добродетель, так как скорее заразишься болезнью, нежели сообщишь другому свое здоровье». Трудно остаться неповрежденным в безнравственном обществе. «Такова уж немощь человеческая, что добрый человек вступив в общество злых, становится сам злым, между тем, как эти редко делаются добрыми» (свят. Иоанн Златоуст). Апостол Павел писал: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15, 33).
Бесцельные хождения по улицам — не лучшее провождение времени. Именно в это время, вдалеке от родительских глаз и завязываются неблагополучные знакомства, совершаются необдуманные поступки. Прежде были такие понятия: уличные мальчишки, дети улиц, беспризорники. Так называли детей, которые проводили все свое свободное время на улице без присмотра. Обычно родители предостерегали своих детей от сближения с вольным племенем Гаврошей и Геккельбери Финнов. Конечно, и из уличных мальчишек и девчонок со временем вырастали обычные и приличные взрослые люди, но именно эта среда давала и дает большинство изломанных судеб и человеческих трагедий.
Не все родители имеют возможность целыми днями не спускать глаз со своего чада. Время наше трудное, часто и папе и маме приходится трудиться с утра и до ночи, чтобы обеспечить жизнь семьи. Увеличилось и число неполных семей, там уж и говорить нечего — мамы трудятся не покладая рук. Кажется, какой уж тут присмотр! Но присматривать — не значит не спускать глаз. Присматривать можно по-разному. Часто именно в трудовых семьях растут более «правильные» дети.
Многодетная семья. Пятеро детей. Теперь они уже взрослые. «На улицу гулять? Нет, не гуляли. Только когда пошлют куда-нибудь. По дому много работы было. Маму очень жалели, старались помочь». «Мама была строгая, но мы эту строгость не замечали. Она не запрещала ничего, но как-то у нее все выходило по-своему. Спросишь ее: «Можно, я пойду погуляю?» «Можно, дочка. Только ты сначала уроки сделай, а потом молоко отнеси». Я уроки сделаю. Жду пока скотину пригонят. Мать подоит, я возьму молоко и иду на другой конец улицы в дом, куда мы молоко носили. Обратно иду медленно, по сторонам гляжу, остановлюсь на минутку. Приду домой, а мама мне говорит: «Вот и хорошо, доченька. Вот ты и прогулялась, свежем воздухом подышала. Уж и вечер наступил, пора ужин готовить. Помоги мне». А без толку мы на улице не гуляли».
Как-то вечером, ожидая застрявший где-то в верхних этажах лифт, оказался я невольным слушателем чужого разговора. Соседка, давно разведенная мама, говорила с сыном-пятиклассником, видимо, она только что вернулась с работы. «Творог купил?», — спросила она полузакрыв глаза. «Купил», — ответил отрок и далее последовал доклад о поглаженной рубашке, сваренной и поставленной в подушки каше, о каких-то условленных с мамой домашних работах и подробное описание выполненного школьного задания. Мама все выслушала и тут же, не теряя времени, определила урок на следующий день. За недолгим диалогом осветилась картина жизни маленькой семьи. Увиделись отношения между матерью и сыном, их взаимная забота, постоянная память друг о друге.
Когда ребенок с раннего детства приучен трудиться, имеет свои обязанности, личную нагрузку, возрастающую год от года, то у него не так много бывает свободного времени для пустых гулянок. И труд делается его воспитателем.
«А как же детские игры, пребывание на свежем воздухе?» — спросит кто-то. «Неужели запереть дитя в четырех стенах, лишить радости дружеского общения?» Ни в коем случае. Дитя должно и дышать, и играть, и дружить. Но.
Игры и гуляния должны быть строго регламентированы во времени и в пространстве. Чем дольше ребенок находится вне дома, тем менее он ощущает на себе его влияние. Чем дальше он от дома, от своего двора, от родных окон, тем более свободным (не в лучшем смысле этого слова) он себя чувствует. Это необходимо учитывать. Родители всегда должны быть готовы ответить на вопросы: «Где ваш ребенок? Когда он придет?» А ребенок всегда должен чувствовать и помнить границы. Временные и территориальные. Разумеется, с возрастом и время, проведенное вне дома, и дистанция до родного подъезда увеличиваются. Но границы эти расстояния все же имеют.
Что же касается общества, то родителям обязательно следует знать, с кем проводит время их сын или дочь. «Как зовут твоего приятеля? Сколько ему лет? Как он учится? Кто у него родители? Есть ли у него брат или сестра? С кем он дружит? Что читает? Кем он хочет стать?» — не стесняйтесь и не забывайте задавать эти вопросы своим детям. И делайте выводы. Надобно и познакомиться с друзьями своих детей. Такое знакомство может оказаться полезным и вам, и вашему ребенку, и его другу.
И еще. Бывает, что рядом с нашим ребенком оказывается явно порочный человек, а мы из какой-то ложной деликатности боимся проявить решительность, оградить свое дитя от контактов с ним. Вроде не хотим осуждать человека, ведь и наше чадо не безупречно, что уж других судить. Нам неудобно показать кому-то, что мы гнушаемся его обществом, сторонимся. Мы боимся обидеть. Но ведь гнушаемся мы не Мишей-сквернословом, не Валей-распутницей, а грехом. Оберегаем дитя от греха. Это ведь наша обязанность.
В жизни случаются такие ситуации, которые невозможно разрешить абсолютно «безгрешно». Так, например, защищая слабого, можно ударить обидчика. Можно сильно ударить, и не один раз, если это необходимо. Иногда мы совершаем малый грех, дабы не совершить больший. Так что, если мы невольно и обидим кого-то тем, что удалим своего сына от его общества, сделать это тем не менее нужно. Пока дитя еще в вашей власти, всеми силами удерживайте его от опасных контактов. Объясняйте, предлагайте альтернативу, требуйте послушания, изобретайте всякие способы. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного», — говорит Апостол (1 Тим. 5, 8).
Отношение к святыне
В воспитании очень большое значение имеет ежедневное соприкосновение со святыней. Нательный крестик, иконы, святая вода, просфора, домашнее Евангелие — все это оказывает заметное влияние на любого человека, а тем более на детей.
Младенец, даже самый маленький, ни на минуту не может оставаться без крестика. Врачебный осмотр, купание, детский сад, урок физкультуры — не причина для того, чтобы снять с ребенка крест. В житии свв. благоверных князей Петра и Февронии Муромских рассказывается о таком случае. Невестка князя Петра, жена его брата, расчесывала волосы и нательный крестик запутался в них. Она сняла его и тут же попала под власть беса. Бес долго мучил ее, пока деверь с помощью Божьей не освободил несчастную женщину.
В местности, где я служу, помнят и почитают матушку Ефросинью из Песьян. Похоронена монахиня Ефросинья на нашем церковном кладбище, рядом с папертью. Знают и помнят ее очень многие наши прихожане, приезжают помолиться к ней на могилку и издалека. Несколько лет назад начали мы собирать и записывать воспоминания о матушке Ефросинье, таких историй собралось у нас на целую книгу, ведь когда-то за помощью и за советом в Песь-яне ездили со всего Подмосковья.
Вспоминает Таисия Федоровна.
«В 1965 году заболела у меня дочка Юлия. Было ей пять лет. Тает и тает на глазах. Возраст самый резвый, самый радостный, а она: «Мама, я полежу. Мама, я лягу». Ходила я с ней в больницу. Всю ее обследовали, все анализы провели. Не поймут, что с ней. Ни здоровая, ни больная.
Посоветовали мне съездить к матушке Ефросинье. Поехала я с дочкой в Песьяне. Зашли мы к матушке в дом, а она глянула на меня, на дочку и говорит, резко так говорит: «Сняли кресты-то!» Мы ведь тогда опасались с крестами ходить. А девочка у меня к тому же в садик ходила. И я боялась, что крест на ней кто-нибудь увидит. Матушка нам и говорит: «Наденьте кресты. Закажи в церкви молебен. Никакая она у тебя не больная. Поправится.»
Я крест на себя и на дочку надела. Молебен в церкви отслужили, и пошла моя девочка на поправку».
В доме у православного человека обязательно находятся святые иконы. В церковной семье даже младенцы чувствуют, что икона — это не просто картинка или деталь обстановки, как часы или ваза на серванте. Благоговейное отношение родителей к святому образу передается и ребенку. Входя в разум, дитя уже «понимает» икону. Она соединяет для него два мира: он смотрит на Боженьку и Боженька смотрит на него. Он видит Николая Угодника и Угодник видит малютку. Да и все святые и Богородица видят его из иконы. Все видят. И хорошее и плохое. И поэтому стыдно и страшно делать плохое. Особенно рядом с иконой.
Ребенку нужно обязательно рассказывать, кто изображен на иконе, что там нарисовано, что происходит. Рассказывать о жизни святых. Пусть дитя видит, как папа и мама молятся, «разговаривают» со святыми угодниками, пусть учится обращаться к святым со своими просьбами.
Помню, как маленькую Настю попросили помолиться святым врачам бессребреникам Косьме и Дамиану о здоровье знакомой девочки. С того дня стоило ей услышать о том, что кто-то заболел, как она тут же просила знакомых Угодников Божиих помочь больному. На следующий день Настя обязательно интересовалась: не поправился ли больной, и если улучшения не наступало, то продолжала просить свв. Косьму и Дамиана о помощи.
В храмах в то время можно было купить иконы Спасителя, Божией Матери, святителя Николая, может быть, еще преподобного Сергия Радонежского и великомученика Пантелеимона. И, пожалуй, все. Но Насте повезло. Ей передали подарок из православного монастыря близ Иерусалима, и это была иконка свв. Косьмы и Дамиана. Мы устроили эту икону на стене пониже других икон, чтобы Насте были видны любимые ею угодники и чтобы она могла приложиться к образу сама, в любое время.
Однажды во время ужина позвонил мне кум и сказал, что Данилка, мой крестник, за-— болел. Эту печальную новость я сообщил жене. Настя, не мешкая, соскользнула со стула и бросилась к двери. «Косьма и Демьян! Косьма и Демьян! Помогите Данилке!» — кричала она на бегу, словно хотела, чтобы ее было слышно в комнате, где находилась икона. Она добежала до места, встала перед образом и перевела дух. «Святые Косьма и Демьян, помогите Данилке от температуры», — произнесла она тихо, почти шепотом. Здесь, она знала, святые слышат ее.
Особенное отношение воспитывается у ребенка к святому Евангелию, к книгам о Спасителе, о Его Пречистой Матери, о святых угодниках и прочим духовным книгам. Семейное Евангелие должно иметь в доме свое особенное место. Духовной литературе определяется своя полка или шкаф. Детские книги религиозного содержания тоже не могут стоять вперемежку со сказками и стишками.
После утренних молитв мы достаем заранее разрезанную просфору и все домашние съедают по частичке, запивая ее крещенской водой. Не забывайте дать ложечку святой воды и крошку просфорки и вашему младенцу. С какого возраста? Для воды вообще не существует возраста, ее можно пить сразу же после Крещения, а с размоченной крошкой просфоры младенец, говорят, справится даже в два месяца.
Просфору и святую воду мы потребляем натощак, но для младенчика это правило соблюдается не так строго. Хотя лучше давать просфору и воду до кормления.
Святая просфора и крещенская вода — наше ежедневное малое причастие. Эта святыня укрепляет наши телесные силы, просветляет разум, укрепляет волю к добрым делам, защищает от дурных помыслов. Как отец, могу заметить, что для детей святая вода и просфора необходимы. Если родители, а это забота скорее матери, приучат своих деток после утренней молитвы непременно съедать частичку святого хлеба и запивать ее крещенской водой, то детки станут расти более крепкими, умными, послушными. В них будет меньше капризов и недовольства.
Перед соприкосновением со святыней мы совершаем крестное знамение. В просфоре и святой воде перед нами Сам Господь. Не забудьте напомнить это своим детям. Просфору не съедают между прочим, как и крещенскую воду не пьют на ходу, словно чашку чая, торопясь в школу. Святыню должно принимать достойно. Благоговейно.
Вот, кажется, простая привычная вещь — просфорка после молитвы. Однако она многое, многое может сделать для нас, и даже незаметно изменить нашу жизнь. Вспоминается мне одна беседа.
Было это давно. Случилось мне как-то провести несколько летних дней в подмосковной деревне у своей бабушки. На один из них пришелся церковный праздник, сейчас уже и не вспомню, какой именно. Приходской наш храм находится в нескольких километрах от деревни в селе Лузгарино. Туда мы и поспешили на службу летним утром.
В то время жил там на покое замечательный старец — игумен Серафим. Позже, в схиме он получил имя Симеон. Схиигумена Симеона знали и почитали не только в окрестностях села, приезжал к нему православный люд отовсюду. Из Москвы, Санкт-Петербурга, из других городов ехали за советом, для умной беседы.
После литургии мне посчастливилось недолго поговорить с о. Серафимом. Кто когда-либо встречался с этим незаурядным человеком, навсегда запомнили как располагала, влекла к себе его светлая личность. На церковном дворе к о. Серафиму беспрерывно подходили за благословением, с вопросами. Разговор наш ежеминутно прерывался, к тому же было заметно, что батюшка куда-то торопится и я напросился к нему в гости на вечер.
Наша вечерняя беседа длилась долго. Игумен Серафим рассказывал случаи из своей жизни, и, удивительно, в его рассказах я услышал немало ответов на свои невысказанные вопросы. Батюшка словно знал, «видел» меня, понимал все мои сомнения.
Чудесный это был вечер. Хозяин вышел проводить меня до калитки. На зеленом лужке перед палисадником ожидали моего возвращения жена с ребятишками и двоюродная сестра. Я подозвал их, чтобы и они могли получить благословение и напутствие старца. Прощаясь, я спросил у о. Серафима совета: на что, по его мнению, нам следует обратить внимание, что наиболее важно в нашей духовной жизни. Батюшка уже устал, выглядел утомленным, но тут он оживился. «Когда вы в воскресенье будете приходить из храма», — начал он свое поучение, — то воскресную просфору разрежьте на малые кусочки и положите в какое-либо место. Каждое утро после молитвы берите все по частице просфоры и съедайте ее, запивая крещенской водой». Старец посмотрел на малыша, сидевшего у матери на руках и добавил: «Можно частичку опустить в святую воду и размочить ее, чтобы не было жестко». «Так нужно делать каждый день, во всю жизнь не оставлять этого правила. Нам обязательно надлежит бывать в храме, молиться, исповедоваться и причащаться. Но про водичку крещенскую и просфорку тоже никогда не забывайте. Это великая святыня. От нее вы будете потихоньку, незаметно для себя изменяться, и все у вас будет правильно, все хорошо». О. Серафим говорил горячо, даже дал рекомендации, как именно хранить разрезанную просфору, чтобы она не заплесневела.
Тогда я внутренне несколько растерялся, услышав такой «простой», обыкновенный совет. Видимо, ждал от старца более «духовного» напутствия. Мне показалось странным, что, узнав меня за вечер достаточно хорошо, игумен посоветовал мне то, что я очень хорошо и давно знаю и выполняю. «Наверное, я так утомил о. Серафима, что он сказал мне первое, что пришло ему в голову», — подумал я. Удивляло только то, с каким чувством он говорил, как искренне заботился объяснить нам значение этого ежедневного привычного действия.
Прошли годы. И случилось однажды, что там, где я жил, не было в доме просфоры и святой воды. Период этот длился недолго, может 10 или 12 дней. Жаль было, конечно, что так вышло, но делать было нечего, дня через два я уже особенно и не вспоминал об этом. И только вернувшись в привычную обстановку и в первое же утро потребив после молитвенного правила частицу просфоры и крещенскую воду, я понял, как трудно, как серо, как пусто нам без этой святыни. Понял и вспомнил старца Серафима.
Не только на себе, но теперь уже и на детях могу я видеть благотворное воздействие святыни. Случается, что по недосмотру матери или из торопливости кто-то из детишек позабудет на какое-то время о просфоре и святой воде и начинают происходить с ним какие-то странности. То отметку плохую получит, то на сестру или брата накричит, проявится в нем какое-то тупое упрямство. Но стоит вернуться к благодетельной привычке — и все налаживается, утихают капризы, переламывается болезнь, появляется усидчивость.
Наверное, большинство наших грехов происходит от безволия. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7, 19), — говорит о себе апостол Павел. Надо заметить, что безволие — характер нашего времени. Особенно оно привычно для современного подростка. Причин тому много и не все их мы в силах устранить. И потому, дорогие родители, если вы хотите укрепить волю ваших деток, чтобы они могли противостоять внешнему злу, не поддаваться греховным соблазнам, победить свои внутренние нравственные недуги (а они есть у всех), то не забывайте, никогда не забывайте о ежедневной частице просфоры и крещенской воде. И этой частичкой святого хлеба и глотком воды Господь также просветит и укрепит ваших детей. Аминь.
«Маленькие» грехи
Пришел один человек на исповедь. Открыл свое сокрушенное сердце, все без утайки высказал перед батюшкой. «Все ли ты сказал, чадо. Нет ли у тебя еще чего на совести?» — спросил его духовник. «Есть еще один маленький грех.» — начал было кающийся. «Маленький? Так ты брось его и ладно», — говорит священник. «Нет, отче, не могу», — отвечает тот человек. «А. Не можешь? Значит, это уже не маленький, а большой грех».
Маленькие грехи, нечаянные грехи случаются с каждым. Про них и говорят: «С кем не бывало». Уронил ли чашку, толкнул ли случаем кого, перепутал. Скажи на исповеди и забудь. С кем не бывало. Но если такая маленькая оплошность повторяется, то это уже не оплошность, и есть о чем подумать перед исповедью, поразмышлять — почему это со мной случается, да и случайность ли это.
Например, привычное православному христианину крестное знамение. Учат родители малыша складывать пальчики: три в щепотку, а два других к ладошке прижмут. Не сразу младенец освоит эту науку, сначала будет одним пальцем себя в лоб стучать, потом кое-как три сложит. Словом, родителям есть чем заняться. Но вот ребенку уже четыре или пять лет, а он все безвольной ладошкой перед собой машет. То до плеча не донесет ручку, то и просто какой-то зигзаг на себе начертит. Вроде маленький он, какой с него спрос. С него не знаю, а вот мамочку, папочку спросить можно, почему они своего малыша не поправят, не объяснят ему, что крестное знамение следует совершать аккуратно, что небрежному кресту бесы радуются. Это не маленький грех.
Был у меня знакомый, звали его Евгений. Он умел обратить внимание малыша на разные «мелочи» духовной жизни. И объяснял ребенку так, что он потом еще и всех своих приятелей учил благочестию. Увидит он, к примеру, что мальчик или девочка пальчики безымянный, и мизинчик к ладошке не прижали, прижмет малышу пальчики и скажет: «Ты следи, чтобы щелки не оставалось, а то бес конец хвоста туда непременно сунет». Позже я не раз слышал, как мои ребята про тот хвост своим приятелям говорили, учили.
Или обратите внимание, как детишки молятся. Сегодня он четко все произносит, бодренький стоит перед иконами, а в другой день не выспался или устал — торопится, невнятно говорит или вообще, слова не договаривает. Жалко усталого сынишку, а поправить обязательно надо. Это не мелочь. Молитва это святыня и коверкать ее — святотатство. Ведьмы и колдуны, когда колдуют, то читают исковерканные молитвы, ругаются над православной святыней, чтобы показать нечистой силе, что они «свои». Молиться нужно внимательно и без ошибок. В Священном Писании сказано: «Проклят, кто дело Господне делает небрежно» (Иер. 48, 10).
Был такой случай. Одна женщина, неразумно построив свой рабочий график или увлекшись каким-то делом, для вечерней молитвы определила самый поздний час, когда силы совсем покидали ее. В таком полудремотном состоянии молитвенное правило она читала почти бессознательно, не всегда четко проговаривая слова, не исправляя замеченные ошибки, торопясь поскорее окончить дело и лечь спать. Постепенно и утренние молитвы стали похожи на вечернее невнятное бормотание перед иконами.
Через какое-то время она почувствовала себя плохо, но не придала этому особенного значения. И однажды у нее случился небольшой инсульт. Небольшой, потому что частично парализовало только часть лица. Наступило время одуматься и осознать, что же происходит. Больная, чуть только пришла в себя, взяла акафистник, чтобы помолиться. Онемевший язык и уста не слушались, еле-еле выговаривая слова. Тогда она очнулась совсем: как похожи эти непонятные, словно ленивые слова, на ее молитвенное правило последних месяцев! Тогда она позволила себе эту небрежность, а сегодня болезнь, нет Сам Господь лишил ее дара внятного, четкого слова! Она заплакала, пытаясь хоть мысленно «проговорить» все, что было у нее на сердце, каясь и обещая.
Со временем нормальная речь у нее восстановилась, но урок запомнился. Страшный, но и счастливый урок, который дал узнать свой грех и милосердие Божие.
Наверное, все нам случалось опаздывать. По своей вине или по независящим от нас обстоятельствам. Бывает, что кто-то и на церковную службу опаздывает. Бывает. Ну, разок — это ничего, другой разок — тоже не страшно. А если часто, да еще с детками опаздывать на службу — это уже никуда не годится. Из такой мелочи, из десяти-пятнадцати минут регулярного опоздания, ребенок сделает свой вывод: «Наверное, церковная служба не имеет того важного значения в нашей жизни, о котором толкуют взрослые». И будет в чем-то прав — церковная служба в жизни его родителей, скорее всего, лишь обязанность, мертвая привычка.
Кстати, в чем ходят в храм ваши дети? Для детей очень важны внешняя форма и внешние действия. Внутренняя духовная причина не всегда понятна им, а вот внешнее — внешнее они скорее поймут. Если праздник — то надо быть и одетым по-праздничному. К тому же нарядная одежда обязывает к особенному, чинному поведению. Так что одевайте своих малышей в храм по-праздничному.
У подростка тоже есть свои особенности. Юные, особенно девочки, часто хотят показать себя, заявить о себе. А как это сделать? Надо приодеться, принарядиться. В храме народу много — пусть смотрят! Родители должны объяснить своим деткам-подросткам, какую одежду можно одеть в храм, а какая неуместна.
Напомню еще один «маленький» грех. В пространстве храма взрослый человек всегда ориентирован на святыню. Он не встанет спиной к алтарю, не будет стоять спиной вплотную к иконе, но, если есть место, сдвинется в сторону. Но дети часто забывают об этом. Они дети, и память у них короткая. Но на то и есть у них папы и мамы, чтобы вовремя напомнить.
Мелкие ошибки неизбежны в нашей жизни. Но их надо своевременно замечать и исправлять, не давая им «подрасти».
О мире в доме
Как-то беседовали мы с одним человеком, отцом двух детей-старшеклассников. Человек тот не был крещен и говорили мы с ним как раз о возможности крещения. «А как ваши домочадцы отнесутся к такому шагу?» — поинтересовался я. «Если я скажу, что с завтрашнего дня мы все должны ходить в церковь и молиться, то мои все пойдут, без вопросов. У нас так», — ответил мой собеседник.
Помню, что немного зная эту семью, я тогда подумал: «А ведь у них, действительно, скорее всего так и будет». И еще подумал: «Жаль, что сейчас такое искреннее признание авторитета отца и мужа — редкость».
Чаще, когда в семье кто-то из домочадцев становится церковным человеком, остальные не сразу и не все следуют за ним. Если к вере приходят родители детей-подростков, то проблемы с воспитанием обязательно будут. С малышами просто, с ними, как правило, не обсуждают необходимость пойти в магазин или в поликлинику, или к дяде Грише, на пруд, на рынок. Малыша берут за руку и ведут. А подросток существо особенное. С ним и так-то трудно, а тут еще новости: мать с отцом молиться стали да «чудные» книжки читать, да еще каждое воскресенье в церковь ходить. Ни тебе, теперь, рыбалки, ни за грибами в выходной. Как это все понять? Кстати, резкие перемены в человеке настораживают не только родных, но и сослуживцев, соседей, тех, кто рядом. Это надо учитывать и не удивляться настороженному отношению ребенка к новой жизни его родителей. Церковная жизнь приносит человеку столько радости, что хочется поделиться ею с близкими, приобщить их к ней. Однако вера — не праздничное угощение, и с ней не стоит быть назойливым. Если ребенок не разделяет новых взглядов родителей — им придется подождать. Нельзя насильно или под нажимом крестить ребенка. Но можно уговорить его сходить с папой или мамой в храм. Можно попросить его прочесть какую-нибудь доступную его пониманию духовную книгу. Можно пригласить в дом священника или верующего знакомого, у подростка будет возможность поближе познакомиться с церковными людьми. Пусть он будет слушателем или даже участником вашей беседы. Если среди ваших знакомых есть люди, у которых тоже есть дети-старшеклассники, то хорошо бы пригласить их к себе в гости или сходить в гости к ним, чтобы дети могли какое-то время пообщаться. Часто от сверстников дети принимают информацию проще, чем от взрослых.
Правда, мне не раз приходилось слышать от людей, недавно пришедших в Церковь, что у них мало или совсем нет церковных знакомых. То есть знакомые, может быть, и есть, а близкие отношения как-то ни с кем не складываются. Вроде, и хочет человек общаться, но не может преодолеть свою стеснительность. Как быть?
Сначала попробуйте осознать причины своей гиперзастенчивости. Быть может, она от неосознанной гордыньки или от самомнения, или от слишком большой требовательности к окружающим, от осудительности, от нежелания поступиться своей свободой, ведь любые близкие отношения подразумевают обязанности. В любом случае о своем душевном недуге следует сказать на исповеди. И, конечно, нужно молиться, чтобы Господь послал человека для общения.
Спаситель дал нам заповедь любви: «Возлюби ближнего своего, как самого себя» (Мф. 22, 39). Апостол учит, что мы не можем любить Бога, если не любим ближнего (1 Ин. 4, 20). Но любовь к ближнему проявляется «не словом или языком, но делом и истиною» (1 Ин. 3, 18), и преодоление застенчивости — одно из первых дел, ведущих к исполнению заповеди.
«О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга» (1 Фес. 4, 9), — пишет апостол Павел. И снова: «Братолюбие между вами да пребывает» (Ев. 13, 1), «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью» (Рим. 12, 10).
У апостола Петра читаем: «Прилагая к сему все старание, покажите. в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» (2 Пет. 1, 5-7); «Будьте все. братолюбивы, милосердны, дружелюбны.» (1 Пет. 3, 8).
Наша религиозная жизнь не полна, если в ней нет дружеского общения. Особенно важно такое общение для воспитания детей. Подросток не может обойти своим вниманием праздничные трапезы в дни православных праздников, когда к его родителям приходят верующие друзья и за столом говорят на необычные, но интересные темы.
Ребенка, даже если он никак не хочет «включаться» в духовную жизнь, все же можно «включить» в церковный календарь. Кто же откажется от рождественского подарка, от подарка к Пасхе или в день Ангела? Кому не милы пироги или особенное жаркое в праздник? В православный праздник. Пусть дитя постепенно привыкает, присматривается и прислушивается.
И все же главный авторитет для ребенка — это не авторитет власти, такта или деликатности, а авторитет любви. Особенно это относится к детям. Дитя не готово к рассуждению, ему трудно доказать, но оно отзывчиво на любовь. Навстречу любви оно открывает свое сердце. Но как бы правы ни были родители, и ради правды нельзя разрушать мир в доме. Бойтесь потерять доверительное отношение, любовь своего ребенка. Вера в Бога не должна приводить к оскудению любви, к вражде. «Бог не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14, 33).
«Мир имейте между собою» (Мк. 9, 50), — говорит Спаситель. И действительно, там где нет мира, нет и правды. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир» (Иак. 3, 18).
Поэтому свое желание видеть детей живущими церковной жизнью иногда приходится реализовывать более в молитвах. Любовь свободный дар, ее невозможно торопить, особенно любовь к Богу. Но со своими просьбами и уговорами можно обращаться не только к ребенку, а к Самому Господу, к Пресвятой Богородице, к Угодникам. Святые Апостолы привели к вере тысячи людей. Молитесь им, заказывайте молебны, да помогут они ввести в Церковь и ваше дитя.
Любящее сердце
Наверное, нет среди русских людей ни одного читателя, который не знал бы замечательной сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». Удивительно легко вошла она в русскую литературу и в народную память. Аленький цветочек. Символ любящего жертвенного сердца, он прижился в нашем сознании, словно был там всегда, от рождения.
Родительская любовь всегда жертвенна. Должна быть такой. Это любовь, о которой Спаситель сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). Но родительская любовь не должна быть любовью без памяти. Без памяти о Боге. Здоровье, образование, нравственное воспитание, достаток — все это добрые спутники на жизненном пути, и родители не зря отдают так много сил и средств для того, чтобы дитя имело их. Но здоровье может утратится от случайности или недуга; образование — остаться невостребованным для жизни; да и нравственность часто претерпевает изменения в нашем обществе с условной моралью. О имуществе, что и говорить, дело известное — сегодня есть, а завтра нет.
Потери и страдания ждут на жизненном пути каждого человека. Но живущий в Боге не страдает бесплодно, его страдания не бессмысленны. Он знает, что от «скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает» (Рим. 5, 3-5), не обманывает. Верующий человек может сказать про себя словами апостола Павла: «Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа.» (2 Кор. 12, 10). Верующий в Бога действительно не боится жизни, он всегда благодушествует. Теряя, он не впадает в уныние, приобретая — не привязывается сердцем. «Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лк. 12, 15). Православного человека отличает удивительная внутренняя свобода, позволяющая ему жить полной жизнью, а не выживать. Господь каждому человеку вложил в душу дар любви, веры, милосердия, стремления к познанию, сострадания, благодарности. Верующий в Бога не прячет свои таланты, боясь оскудения, но напротив, он ищет, как развить и приумножить их. Апостол говорит: «Они среди великого испытания скорбями пре-изобилуют радостью» (2 Кор. 8, 2). Церковная жизнь, жизнь с Богом для нас — постоянный источник радости.
Воспитать ребенка в православной вере и трудно, и очень просто. Как истинное сокровище — вера бесценна, но это не сокровище внешнего мира, которое можно добыть, купить, заработать, надеть на себя или положить на полку. «Царство Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21), — сказал Спаситель. И если есть это сокровище веры и любви к Богу в родительском сердце, то дитя непременно увидит и пожелает его. А если нет.
Для того чтобы воцерковить ребенка, подарить ему счастье жизни в Церкви, родителям нужно самим жить жизнью Церкви, самим знать и исполнять то, к чему призывают своих детей. Невозможно научить ребенка любить Бога, если сам не любишь Его «всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим» (Мф. 22, 37). Не научишь сына молиться, если сам молишься с ленью, бесчувственно. Не полюбит дитя Божественную литургию, если ты стоишь на службе с холодным сердцем. Не поверит наше чадо Евангелию, если мы не исполняем заповедей Господних. Верующий родитель — апостол для ребенка. А апостолы привлекали людей не доказательствами, а своей искренней верой. Верой, которая живет не страхом или надеждой, но живет любовью.
«Любовью дух кипит к Тебе, Спаситель мой.
Не радостных небес желаньем увлеченный,
Не ада мрачного огнями устрашенный
И не за бездны благ, мне данные Тобой!
И жар таинственный мне в сердце проникает;
Без Рая светлого пленил бы Ты меня,
Ты б страхом был моим без вечного огня!
Подобную любовь какая цель рождает?
Душа в любви к Тебе надежд святых полна;
Но так же и без них любила бы она».
(И. Козлов)
Но бывает, что человек чувствует в себе потребность бывать в храме. Там ведь действительно хорошо, и душа ощущает это. И так проходят годы, и есть уже привычка ходить в церковь, а осознать свое чувство, осмыслить цель человеку лень. Хорошо мне в храме и все! Это не есть духовная жизнь, и она не станет примером веры для ближнего.
Священник Александр Ельчанинов писал: «Для воспитания детей — самое важное, чтобы они видели своих родителей, живущими большой внутренней жизнью». Ребенок не обязательно осознает и обдумывает происходящее перед ним. Но он ежедневно назидается, соприкасаясь с искренней верой. Для воцерковления детей нужны не рассуждения и правила, а практика церковной жизни, совершающаяся у них на глазах.
И это, пожалуй, самое большее, что могут сделать родители для воспитания православного сознания в своих детях.
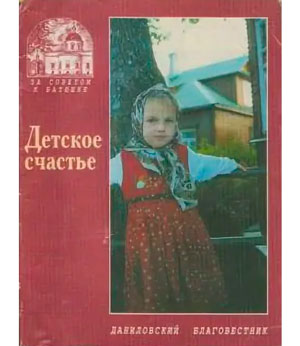
Комментировать