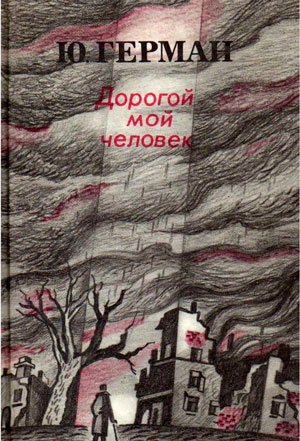- Глава первая
- Поезд идет на запад
- Мелкие неприятности, встречи и воспоминания
- Великолепный доктор Цветков
- Плохо поживает мой скот
- Маленькие и большие чудеса
- Глава вторая
- Осенней темной ночью…
- Я хочу быть контрабасом!
- На войне как на войне!
- Возьми меня к себе!
- Глава третья
- О французском физике Ланжевене и древнеримском враче Галене
- Я устала тебя любить!
- Печальная история медицинского советника доктора Гуго Хуммеля
- Глава четвертая
- Некто Федорова Валентина
- Вот и все!
- Тетка, где Варвара?
- Неудачи профессора Жовтяка
- Глава пятая
- Шнеллер, иуда!
- Воскресение и смерть бухгалтера Аверьянова
- Еще один спектакль провалился
- Операция «Мрак и туман XXI»
- Скучно человеку в госпитале
- Глава шестая
- «Строгий ошейник»
- «Закрытый мир моей души»
- Недурно иногда и опоздать!
- Отсталая мещанка
- Глава седьмая
- Здесь труднее, чем там
- Три письма
- В медсанбате у старух
- Глава восьмая
- О соломе и о «веревочке»
- Ашхен заболела
- Про девочку Леночку
- А если ваша тетушка сдалась в плен?
- Глава девятая
- В предполагаемых обстоятельствах…
- Сэр Лайонел Ричард Чарлз Гэй, пятый граф Невилл
- Ты, Амираджиби, любишь сгущать краски!
- Оперировать можно и должно!
- Глава десятая
- Эй, на пароходе!
- О кровоточащем сердце
- Свыше сил человеческих…
- «Танец маленьких лебедей»
- Глава одиннадцатая
- Ты только рождаешься!
- Надо идти и идти!
- Аминь
- Есть близ Киева больница…
- Я устала без тебя!
- Глава двенадцатая
- «Так поди же попляши!»
- Две таблетки — добрый сон, пятьдесят — тихая смерть
- И еще раз лейтенант Лайонел Невилл
- Ну свадьба…
- Дожил ли я?
- Начистоту!
- Видишь? Ты все-таки еще пригодишься!
- Глава тринадцатая
- Орлиное племя
- Кукушонок
- Прощай, «Светлый»!
- Дорогой мой человек!
«Танец маленьких лебедей»
Уорд привез Невилла на машине санитарного транспорта и сам руководил процессом погрузки раненого на пароход. «В таких делах он — дока», — так подумал Володя, следя за английским врачом. Но именно в таких — не больше. И историю болезни Уорд привез в роскошном конверте за пятью печатями.
— Так не пойдет, Уорд, — сказал Устименко, когда они остались вдвоем в кают-компании. — Я должен знать, что здесь написано. Мы немножко изучили друг друга, не правда ли? Ответственность за вашу, простите, трусость может быть, я и слишком резок — все-таки несете вы, а не наша медицинская служба. Поэтому я желаю — так же, впрочем, как и мой шеф, профессор генерал Харламов, — чтобы в истории болезни была отражена наша точка зрения, наше утверждение необходимости оперативного вмешательства. По всей вероятности, в запечатанном документе сказано не все, иначе бы вы здесь же вскрыли пакет.
Но Уорд, разумеется, пакета не вскрыл.
Он погрузился в традиционное английское безмолвие, не в молчание, а именно в чопорное безмолвие, потом сказал, что Устименко «очень пунктуален, очень», и отбыл, пообещав доставить другую историю болезни.
— Видите, как я вас раскусил, — с недобрым смешком заметил Устименко.
— Не ловите меня на слове, — сухо ответил Уорд. — Другую, в смысле открытую, вот что я хотел сказать.
— Но и эту же можно открыть! История болезни — не диппочта. Кстати, не забудьте отметить в другой истории оба случая вторичного легочного кровотечения.
Это было сказано уже на трапе. Англичанин пожал плечами и уехал, а Володя пошел к своему пятому графу Невиллу.
— Вы можете меня называть просто Лью, док, — сказал он.
— Сэр Лью?
— Нет, Лью. Вы же очень старенький по сравнению со мной! И пусть я полежу тут на воздухе, док, пока такая хорошая погода. Мне здесь отлично и все видно.
— А вас не слишком обдувает?
— Нисколько!
Носилки стояли за ветром — возле лазарета, и все-таки тут было прохладно. У тети Поли нашелся оренбургский платок — она сама принесла его англичанину. Вдвоем с Володей они повязали ему голову — по всем сложным правилам — быстро и искусно. Отросшие льняные кудряшки тетя Поля выпустила наружу — на чистый, не обожженный лоб и на виски. Лайонел осведомился:
— Теперь я русская матрешка, да, док?
Володя не смог заставить себя улыбнуться, глядя на лейтенанта: гордая, бешено гордая девчонка, старающаяся держаться как мальчишка, — вот так подумал майор Устименко про этого летчика королевских военно-воздушных сил метрополии Лайонела Ричарда Чарлза Гэя, пятого графа Невилла и композитора, имя которого никто никогда не услышит.
— Теперь я буду пить молоко! — сказал Лайонел.
— Будешь, будешь, Ленечка! — подтвердила тетя Поля, когда Устименко перевел ей насчет молока. — Будешь, Леня!
С этого мгновения на «Пушкине» Невилла все стали называть Леней и даже Леонидом. К нему вообще тут относились с уважением после того боя над караваном. Он знал это и улыбался, ему тоже все тут нравилось — и элегантный старпом Петроковский, и салатик из сырой капусты, который ему принес кок Слюсаренко, и знаменитая русская клюква, которую он все время жевал и похваливал, и капитан Амираджиби, навестивший своего пассажира и поболтавший с ним насчет погоды, и крики чаек над заливом, и холодное, изящное, слаженное спокойствие команды парохода, и стволы «эрликонов», которые любовно обхаживал солидный и уверенный в себе матрос…
Вечером, когда Володя в кают-компании писал письмо Варваре, его вызвали на трап.
Тут прохаживался Уорд. На нем был лягушачьего цвета плащ; внизу на причале разворачивался английский джип.
— Вот, пожалуйста! — сказал Уорд и протянул Володе открытый конверт.
Составленная заново история болезни лейтенанта ВВС метрополии сэра Лайонела Невилла была облечена в несколько туманную форму, но факты тем не менее были поименованы.
— Ну что ж, — сказал Володя. — Все более или менее нормально.
Сложив бумаги, он сунул конверт в карман.
— Теперь, кажется, вы отдохнете от меня…
Володя усмехнулся.
— Я бы хотел все-таки попрощаться с сэром Лайонелом.
— Пойдемте.
Невилл не спал — курил и потягивал виски из стакана. Он был немножко пьян и как-то загадочно обрадовался появлению Уорда. Загадочно и злорадно.
— А, док! — прищурился он. — Представьте себе, я уж стал предполагать, что не взгляну в ваши сверкающие очки. И ваша тайна останется с вами. Что это вы мне наболтали перед самым отъездом насчет какой-то там операции, которую предлагали русские и которая бы меня убила?
Устименко набрал воздуха в легкие: даже это он выболтал, проклятый Уорд! Кто его тянул за язык? Он же сам просил молчать и не вмешивать раненого во все телеграфные запросы!
— О! — поводя носом, сказал Уорд.
— Что-о? — вежливенько осведомился Лайонел. — Я не сообразил сразу, о чем шла речь, а теперь мне стало интересно.
— Операция, сопряженная с огромным риском! — боком глядя на Устименку, произнес Уорд. — Операция почти неосуществимая…
— Да, но если они ее предлагали, вот они, — Невилл кивнул на Володю, значит, мои дела не так уж хороши? Или вы меня считаете круглым идиотом?
Володя вышел.
Этот разговор не имел сейчас к нему никакого отношения.
Пусть на все вопросы отвечает Уорд, пусть отвечает, если может.
Минут через двадцать — не больше — он увидел, как Уорд сел в свой джип и уехал, а вскоре пароходный фельдшер Миленушкин отыскал Устименку и сказал, что «Леонид» ругается и зовет своего доктора.
— Знаете что? — сказал Лайонел, когда Володя вошел в лазарет. — Я вдруг все понял. Не тревожьтесь, док, я не стану вас мучить всей этой подлой историей, она теперь никого не касается, кроме моего дяди Торпентоу и его чиновных докторов, это они за все отвечают, черт с ними, я понял другое, главное…
— Вы напились — вот что я понял! — сердито сказал Володя.
— Немного. Но ведь это теперь не имеет никакого значения. Только не мешайте мне, а то я запутаюсь; да, вот: вся история с моей операцией, которую вам не разрешили сделать, имеет даже философский смысл. Хотите выпить?
— Ну, налейте!
— Философский! Очень глубокий. Я не смогу это выразить, но мы всегда откладываем, не берем на себя ответственность и не решаемся пойти на риск. Это и есть наша традиционная политика. Вы понимаете? Уорд не виноват. Он просто дурак! Кстати, он мне все рассказал, и я теперь понимаю. Он рассказал потому, что он теперь больше не отвечает. Правда, я его немножко припугнул, что попрошусь в ваш госпиталь и вы меня прооперируете, но и на это он имел готовый ответ: вы не можете меня оперировать, потому что мое здоровье принадлежит нации, а нация запретила. Понимаете?
Лайонел засмеялся.
— Оказывается, нация — это мой дядя Торпентоу… Впрочем, хватит об этом. Сейчас я, пожалуй, посплю, а завтра вы меня опять уложите на палубу, ладно, док? Мне хочется увидеть всю эту кутерьму снизу…
— Зачем?
— Затем, что сверху все сражения выглядят сущими пустяками, какой-то безнравственной игрой, но все-таки игрой, а отсюда…
— Я не видел этой вашей игры ни сверху, ни отсюда, — ответил Володя. Но не думаю, чтобы это показалось мне кутерьмой… или игрой!
Невилл, как всегда, выслушав ответ Устименки, ненадолго задумался пережевывал Володин английский язык.
— Вам не хватает легкости в мыслях, док, — сказал он наконец. — Вы все берете слишком всерьез. Так размышлять свойственно англосаксам, а не славянам. И вы обидчивы. Кажется, вы склонны говорить те слова, которые любит мой дядя Торпентоу, например — «эти святые могилы».
— Есть и святые могилы! — буркнул Володя.
— Да, в том случае, если там не покоятся останки надутых себялюбцев, бездарных флотоводцев и самовлюбленных идиотов, вроде моего дяди Торпентоу. Но, как правило, они, именно они лежат в охраняемых законом могилах и в фамильных склепах. А вот моего брата Джонни какой-то сукин сын — танкист Роммеля — так вдавил в песок пустыни своими гусеницами, что его даже не смогли похоронить.
— Ладно, оставим это! — велел Володя.
— Зачем же оставлять? Что же касается моего старшего брата — Гарольда, док, то его прикончили нацисты в Гамбурге летом тридцать восьмого. Он был, знаете ли, разведчиком, и он ненавидел Мюнхен и все такое прочее. Он кричал моему дяде Торпентоу, что нам будет крышка, если мы не найдем настоящий контакт с русскими. И нацистам его выдали англичане. Да, да, не таращите глаза — они играли в бридж, эти двое мослистов, с двумя дипломатами-риббентроповцами и назвали им брата. Не удивляйтесь, французские кагуляры так же поступали, теперь-то мы кое-что хорошо знаем, но не все…
Он помолчал немного, потом добавил:
— Гарольда вообще не нашли. Совсем. А мой дядя Торпентоу — человек осведомленный во все времена — еще тогда сказал: «У таких, как я, слишком много общего с ними. Слишком много!»
— С кем — с ними? — не понял Володя.
— С нацистами, док, только не сердитесь, пожалуйста…
— Вы здорово сердиты на вашего дядю Торпентоу, — сказал Володя.
— Мне наплевать на них на всех! — сонно огрызнулся Невилл. — Мне только не хочется умереть в ближайшие дни. Хоть один стоящий парень должен разводить червей в нашем фамильном склепе, и этим парнем буду я. А завтра напьюсь, чтобы не думать про свою крупнокалиберную пулю…
— Хорошо, напьетесь!
— И меня опять уложат на палубе?
— Как захотите, Лью…
Нажав кнопку, Володя переключил люстру на ночничок.
— Теперь я останусь один? — шепотом спросил англичанин.
— Нет. Я буду ночевать тоже здесь, потому что у меня нет другого места, — соврал Володя. — Я только поем немного.
— Вашей пшенной каши?
— Нашей пшенной каши.
— Но у меня тут целый мешок банок! — свистящим, бешеным шепотом заговорил Невилл. — Это глупо, док! Я не могу ничего есть и особенно консервы. Отнесите в кают-компанию, док, я вас прошу. Ананасы в консервах. И курица. И бекон…
— Вы понимаете, что вы говорите? — тихо спросил Володя.
— Не понимаю! — крикнул ему вслед Лайонел. — Не понимаю, черт бы побрал вашу сумасшедшую гордость!
Володя плотно прикрыл дверь.
Рядом, на соседнем пароходе, заорал, хлопая крыльями, давно помешавшийся в этих широтах петух. Нежно, рассыпчато, хрустальным звоном пробили склянки, и Устименко вновь не разобрал, сколько же это времени и какая пора суток. Впрочем, это было совершенно все равно. Часы у него так и не ходили после тех двух бомб.
В кают-компании тетя Поля подала ему действительно пшенную кашу и какой-то напиток под названием «какао» — бурого цвета, пахнущий шерстью.
— А почему оно «какао»? — поинтересовался Володя.
— Так кок обозначил, — сердясь, ответила тетя Поля. — Ему виднее, Владимир Афанасьевич. Капитан, между прочим, давеча похвалил, сказал, что из древесных опилок лучше нельзя приготовить…
Вошел Петроковский, скинул плащ-клеенку, приподнял крышку пианино и стал подбирать «Синий платочек».
Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч…
Ты говорил мне, что вовек не забудешь
Нежных и ласковых встреч…
— Вовек — не надо! — сказал Володя.
— Не надо так не надо! — покладисто согласился Петроковский и спросил: — И чего это со мной, доктор, прямо психическое: воняет тринитротолуолом и воняет — хоть плачь. Давеча головку чесноку съел — не помогло.
— Плюньте!
— Пройдет?
— Обязательно.
— А от этого лекарство не изобретено?
— Лекарство — конец войне.
— Это — так, — согласился старпом, — это вы точно…
И вновь повернулся к пианино:
Помнишь, при нашей разлуке
Ты принесла мне к реке
С лаской своею прощальной…
— Своею — не надо! — велел Володя.
Отодвинув тарелку, он дописывал Варе: «…Ты во всем права, рыжая, я-то знаю, что не могу без тебя жить, знаю всегда, понимаю, но проклятый характер трудно сломить. Вот и теперь почудилось мне предательство — самое страшное преступление, известное мне на нашей планете. Но это только почудилось: если на то пошло, я гораздо более виноват перед тобою, чем ты в чем-либо! Ты ведь его не любишь, ты не ушла с ним от меня, ты осталась, как тебе почудилось, без меня и махнула на все рукой. Я все понимаю, но не всегда вовремя, вот в чем, дружочек мой, несчастье. И слова застревают у меня в горле. Но ты все про меня знаешь — лучше, чем я сам. Это неважно, что сейчас мы опять с тобой расстанемся, мы найдемся, мы не можем не найтись. И выгони взашей своего красавца, хоть это и глупо, но мне он мучителен, и мысли…»
— Письмо на родину? — спросил Петроковский.
— Ага! — сказал Устименко, надписывая номер своей полевой почты на конверте. — Именно на родину! — И осведомился, не слышно ли чего нового.
— Это вы в смысле конвоев?
— Так точно.
— Об этом деле даже сам господь бог знает приблизительно. Или вовсе ничего не знает. Таков закон конвоев.
— А вы на берег не собираетесь?
— Насчет письма-то? Ящик в порту неподалеку — пять минут ходу.
— Что было на ужин? — спросил Лайонел сонным голосом, когда Устименко, отправив письмо, вошел в лазарет. — Пшенная каша?
— Пшенная каша. И какао! И омары, лангусты, устрицы, креветки и что там у вас еще такое аристократическое? Десерты, да, вот что! И кофе с ликерами. Ну, конечно, фрукты.
— Идите к черту, док! Я лежал и думал знаете о чем? Вот мы придем в порт назначения, в Рейкьявик, что ли? Мы придем, и в вашей кают-компании будет накрыт стол на всех тех идиотов, которые к вам явятся, и будет русская икра, и будет водка, и борщ, и блины, все будет. И вы все будете делать вид, что вам на это наплевать, и будете курить толстые русские с золотом папиросы, а коммодор Грейвс из адмиралтейства будет жрать вашу икру ложкой и намекнет вашему капитану, что неплохо бы прихватить с собой банку, и капитан даст. И икру, и водку, и папиросы…
— Ну, даст! — сказал Устименко.
— Но это же глупо!
— Не знаю, — сказал Володя. — Не понимаю, почему глупо? Давайте-ка спать, Лью, уже поздно…
— Все глупо, док, — с тяжелым вздохом пробормотал Лайонел. — Все бесконечно глупо и грязно. Все отвратительно. И знаете, я ужасно устаю думать. Это открытие, которое я сделал с проклятой вонючкой Уордом, и с моим дядюшкой Торпентоу, и со всем вместе, не дает мне покою. Впрочем, вы хотите спать?
— Да, хочу! — сказал Устименко, чтобы Невилл тоже уснул. Но он и не собирался спать — этот летчик, ему хотелось разговаривать. — Завтра! велел Устименко. — Слышите?
— Тогда уколите меня какой-нибудь гадостью, док, потому что я вас замучаю и сам начну к утру кусаться…
Володя вздохнул и пошел кипятить шприц.
А когда они проснулись, конвой был уже в море.
Приняв холодный, крепко секущий тело душ, Володя поднялся на ходовой мостик к Амираджиби, снял с гака запасной бинокль и ахнул — такое зрелище раскинулось перед ним. Под ярким, светло-голубым северным небом, буквально насколько хватало глаз, шли огромные транспорты и мощные военные корабли конвоя. В небе, серебряные под солнцем и черные с теневой стороны, плыли аэростаты воздушного заграждения, а над ними в прозрачной синеве патрулировали этот огромный плавучий город маленькие, проворные истребители.
— Здорово красиво! — неожиданно для себя вслух произнес Устименко.
— Сфотографировать, взять на память и никогда не возвращаться обратно, — брюзгливым голосом ответил Елисбар Шабанович. — Так выражаются одесситы…
Володя взглянул на него и заметил отеки под его глазами, суровый блеск зрачков и усталую сутуловатость плеч.
— Я не люблю разводить панику, — сердито и негромко заговорил Амираджиби, — но надеюсь, это останется между нами. Мы можем иметь веселый кордебалет, если эти пакостники-линкоры, и «Адмирал Шеер», и «Тирпиц», и «Лютцов», и тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер», и легкие «Кельн» и «Нюрнберг» со всеми их эсминцами и подлодками выскочат на нас. Представляете?
— Нет! — пожав плечами, сказал Володя. Он действительно не представлял себе, как все это может произойти.
— Короче, будет шумно. И у вас найдется работа.
— Я подготовлен.
— Не сомневаюсь! Но здесь бывает труднее, чем на твердой земле.
— Да, разумеется! — кивнул Володя.
— Особая специфика, — продолжал Амираджиби. — Кроме того, у нас нет манеры бросать судно, пока оно на плаву. Наше правило: бороться до последнего. Но раненые должны быть эвакуированы вовремя. И ваш англичанин, этот пятый граф, — тоже. Вы отвечаете за них за всех. Ясно?
— Есть! — сказал Устименко.
Спускаясь на спардек, Володя вдруг подумал, что Амираджиби разыгрывает его и что все это нарочно, но тотчас же отогнал от себя эту мысль. Все вокруг — и пулеметчики «эрликонов», и артиллеристы, и санинструкторы с сумками, и военный комендант судна — в черной флотской форме, так странно выглядевшей на этом, казалось бы, мирном судне, и каски на людях, и собранность, и подтянутая напряженность — все говорило о том, что «обойтись» никак не может, что это война и быть бою!
Но ветер свистал так вольно и мирно, солнце светило так щедро и весело, Лайонел так радовался, что его опять вынесли на этот соленый, щекочущий ноздри воздух, что военврач Устименко решил «до своего часу» ни о чем военном не думать, а просто наслаждаться жизнью в тех масштабах, которые ему отпущены.
— Будем играть? — со своим прелестно-плутовским выражением спросил Невилл.
— Давайте, лейтенант.
— Но вы старайтесь запомнить, док! А то это бессмысленно — я вас никогда не выучу, если вы будете думать о своей девушке. У вас, кстати, есть девушка?
— Нет! — хмуро ответил Устименко.
— Такой старый, и еще нет.
— А у вас?
— Я не успел, док! Я вообще ничего не успел.
Легкая краска залила его лицо: даже говорить пакости этот военный летчик еще не успел научиться.
— Понимаете, док? Я ходил к ним после гонок на гичках, но из этого совершенно ничего не вышло. Они называли меня «подругой» и затолкали мне силой в рот огромную липкую конфету. А потом я напился — вот и все.
Володя улыбался — такой старый и такой мудрый змий рядом с этим летчиком. Улыбался, смотрел на белесые кудряшки, колеблемые ветром, и думал печально: «Если ты полюбишь, дурачок, то узнаешь, какая это мука. Будешь жить с клином, забитым в душу, и делать при этом веселое лицо».
— В молодости я никогда ничего не успевал, — сказал Невилл. — Я всегда опаздывал. Мне не хватало времени, док, понимаете…
И, махнув рукой с перстнем, он едва слышно засвистал. Это и была их «игра», странная игра, придуманная сэром Лайонелом Невиллом.
— Ну? — спросил он погодя.
— Скрябин! — сказал Володя напряженным голосом.
— Док, вы просто тугоухий. Я повторю.
И он опять засвистал тихонечко и даже подпел, чтобы Володя правильно ответил.
— Ей-богу, Скрябин! — повторил Устименко упрямо.
— Очень лестно, а все-таки это Невилл, «опус 9».
— Здорово похоже на Скрябина.
— Вы думаете? Ну, а это?
Володя слушал с серьезным видом.
— Это уже наверняка Скрябин.
Лайонел захохотал счастливым смехом.
— Это наша летчицкая песенка под названием «Коты на крышах»! Довольно неприличная песня. Ничего вы, док, не понимаете в музыке…
Он все еще смеялся, когда это началось. И не он первый заметил кровь, а Устименко. Она была ярко-алой, и ее хлынуло сразу так много, что Володя растерялся. Вдвоем с чубатым матросом, случившимся поблизости, Володя унес носилки с Лайонелом в лазарет. Невилл затих, глаза его были закрыты. Здесь слышнее дышали судовые машины, или это лопасти винта вращались в холодной морской воде? А за перегородкой, отделяющей лазарет от камбуза, кок жалостно выпевал:
И мне не раз
Снились в предутренний час
Кудри в платочке,
Синие точки
Ласковых девичьих глаз…
Кто-кто, а платочек уже завоевал «Александра Пушкина».
— Это опять вторичное кровотечение? — наконец спросил Лайонел. — Да? И сильное?
— Легкое! — солгал Устименко.
— Из меня хлестало, как из зарезанного теленка! — сказал Невилл. Интересно, какое же будет тяжелое…
— Вам бы лучше не болтать.
— Тогда я проживу сто лет?
— Я вас просил не болтать! И нечего так ужасно волноваться, все то, что вы сейчас потеряли, я вам сейчас долью. У меня тут сколько угодно отличной крови.
Пришел Миленушкин, и они занялись переливанием.
— Слушайте, это, действительно, очень просто! — иронически удивился Невилл. — Вроде вечного двигателя.
— Еще проще!
— Значит, теперь меня будут постоянно доливать?
— Да, а в Англии вам извлекут пулю, и вы об этом позабудете!
— Док, — сказал Лайонел, когда процедура переливания кончилась, — а вам не попадет от ваших коммунистов, что вы так возитесь со мной? Я все-таки, знаете, не совсем «свой в доску», хоть один ваш летчик в госпитале, когда мы с ним тихонько выпили, сказал, что я «свой в доску». И еще он посоветовал мне поскорее открыть второй фронт и не задерживаться. Подумать только…
Он запнулся.
— Что подумать?
— Подумать только, что я мог свалить его вот так же где-то над каким-то морем.
— Или он вас.
— Или он меня, это не имеет значения. Важно другое, важно то, что парни, которые начинают что-то соображать, соображают, когда уже поздно…
— В каком смысле поздно?
— В смысле хотя бы гемоглобина. Еще там, в госпитале, Уорд проболтался, а я услышал. Это вы умеете хранить свою проклятую врачебную тайну, а Уорд и на это не способен…
Он покрутил черный перстень на тонком пальце и закрыл глаза.
— Устали?
— Налейте-ка мне виски, вы же проигрались на Скрябине.
Володя налил, но Невилл пить не стал.
— Противно! — сказал он, вздохнув.
Мысли его были где-то далеко.
— Может быть, вы подремлете? — спросил Устименко. Но наверное, как-то неточно, потому что летчик задумался, прежде чем ответить. И наконец спросил:
— Что вы имеете в виду?
Взгляд его был рассеян: наверное, путались мысли. Оказалось, что нет, наоборот, он настойчиво думал об одном и том же.
— Да, да, док, вы меня не собьете, — вернулся он к прежней теме. — Тот парень мог оказаться против меня, если бы нас натравили. Понимаете? Он тоже еще не успел, и оба мы ничего не успели бы, кроме как покончить друг с другом.
Он закрыл глаза, и лицо его — тоненькое лицо страдающей девочки, которая хочет притвориться мальчишкой, — словно погасло. Лицо в оправе из мягких, влажных и сбившихся кудрей.
Не открывая глаз, совсем тихо он предупредил:
— И не мешайте мне говорить, покуда я могу. Или эти вторичные кровотечения такие легкие?.. Мне слишком мало осталось болтать по счислению времени, как в воздухе, когда горючее на исходе. А ваши заправки или доливания — это пустяки. Наверное, в том, что вы доливаете, гемоглобин пожиже…
Он не договорил, улыбнулся чему-то и задремал.
Стараясь не позволять себе думать, Устименко вздохнул и, осторожно завернув кровавые полотенца в бумагу, выбросил их за борт. Только тут, на палубе, он заметил, что хоть караван и двигался прежним ходом, но что-то вокруг изменилось. И не успел он сообразить, что же именно изменилось, как загремели зенитки сначала на военных кораблях конвоя, а потом, почти тотчас же, — на транспортах.
Слева по курсу встала сплошная стена ревущего огня, но, несмотря на этот зелено-розовый, дрожащий поток убивающего света трассирующих пуль, немецкие торпедоносцы, завывая моторами, шли на сближение, не отворачивая и не отваливая в сторону. Они шли низко над водой, стелющимся, приникающим к поверхности моря полетом, дорываясь до дистанции, с которой имело смысл сбросить торпеды, — и вот сбросили в то самое время, когда сзади и справа каравана волнами пошли пикирующие бомбардировщики. А может быть, Володя и не понял и не разобрал сразу толком, кто из них что делал, но именно так он это увидел: в свете полярного, яркого солнечного дня — строй фронта торпедоносцев, пробивающих огненную стену, и бомбардировщики там, наверху, над головами. А потом в реве и клекоте задыхающихся зенитных пушек своего парохода, в несмолкающем грохоте «эрликонов» возле уха он вообще перестал что-либо понимать и оценивать, а только сообразил, что, наверное, ему уже есть дело, и, сорвав с гака шлем, затянул у шеи ремешок и сразу увидел возле себя, возле самого своего лица рябенькую, рыженькую мордочку Миленушкина, всегда робеющего и немножко даже заикающегося от робости.
— Что? — крикнул ему Устименко.
— Порядок! — заорал Миленушкин. — Пока порядок!
Володя махнул рукой и побежал на ходовой мостик. Здесь было попонятнее, но барабанные перепонки, казалось, вот-вот лопнут от рева где-то рядом хлопающих пушек. Амираджиби с мокрым от пота бронзовым лицом стоял возле рулевого, и Устименко слышал, как сигнальщик крикнул капитану почти одновременно, что «справа по корме бомбардировщик противника» и что «пошли бомбы», и как Амираджиби тотчас же велел рулевому: «Право на борт». Рулевой деловито ответил: «Есть право на борт», а бомбы с воем пронеслись где-то совсем неподалеку, и тогда капитан приказал «отводить», и вдруг тут все притихло, хоть носовые пулеметы еще и грохотали.
— Поняли? — сипло спросил Амираджиби и стал откашливаться.
— Это и есть кордебалет? — вспомнил Устименко.
— Нет, доктор дорогой, это всего только танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро». Это немножко войны…
Откашлявшись и ловко закурив на ветру, капитан осведомился:
— Видели, как погиб «Фараон»?
— Нет, не видел.
— Сразу. В одно мгновение. Они, наверное, зазевались, бедняги, бомбардировщик вытряхнул на них две бомбы. Вот корветы снуют — смотрите, надеются еще людей спасти…
Сигнальщик крикнул:
— Вижу сигнал коммодора: приспустить флаги в честь погибшего судна.
— Приспустить флаг! — обернувшись, велел Амираджиби.
И, сняв шлем, вытирая еще подрагивающей рукой белым платком пот войны со лба, заговорил домашним, тихим, усталым голосом:
— Вечная память погибшим! Никогда не забудет вас советский народ! Слава в веках, труженики моря, братья по оружию! Да будет злая пучина вам теплой постелью, орлы боевые, где отдыхаете вы вечным сном…
Было похоже, что он молится, но, внезапно обозлившись, капитан сказал:
— Если бы ваши миноносцы стреляли, как стреляет «Светлый», — главным калибром, то ни один торпедоносец не прорвался бы! Никто этого еще, кстати, не делал, а Родион всем бортом бьет с дистанции семьдесят кабельтовых. Лупит и не подпускает, молодец какой каперанг! А эти раззявили рты!
И он сердито показал, как «эти раззявили рты». Потом хлопнул Устименку по плечу и посоветовал:
— Не надо быть таким серьезным, дорогой доктор! Вспомните, как вы спасли мне жизнь — там, в базовой бане. И сознайтесь теперь — перед лицом смертельной опасности: иголка была ваша?
— Моя! — радостно улыбаясь в лицо этому удивительному человеку, сказал Володя.
— Конечно! Я выследил, где вы одевались. Я давно над этим размышляю.
— Простите, Елисбар Шабанович, — сказал Володя. — Но я боялся, что это вдруг адмирал и меня будут всяко унижать.
— Теперь не будут! — сказал Амираджиби. — Теперь я простил вас, доктор, и если судьба, то мы встретимся под водой друзьями. А теперь идите к вашему англичанину и не оставляйте его по пустякам.
Потом, вспоминая эти часы, дни, ночи, атаки подводных лодок и серии глубинных бомб под сверкающими лучами солнца, вспоминая завывающие, распластанные тени четырехмоторных торпедоносцев, пытающихся прорваться к каравану, американских матросов, которые были подняты на борт «Пушкина» после того, как их «Паола» еще на плаву была расстреляна английским сторожевиком и окончательно добита немецким бомбардировщиком, вспоминая истерические выкрики стюарда «Паолы» о том, что он ясно видит «большой флот» немцев, работал впоследствии над служебным докладом и вспоминая весь этот переход, — Устименко своим крупным почерком написал такой абзац:
«Мои наблюдения свидетельствуют в пользу той точки зрения, что при ином принципиально подходе к вопросам живучести судов наличие пострадавших от охлаждений было бы в десятки раз меньше, — следовательно, исчислялось бы единицами, что, несомненно, доказало бы несостоятельность взгляда санитарной службы флота союзников, к сожалению подтверждающего в корне неправильную точку зрения Британского адмиралтейства о полной невозможности проводки арктических конвоев».
Но этот абзац майор медицинской службы Устименко написал значительно позже, а пока он только наблюдал, работал и раздумывал, еще не имея полностью своего взгляда на проходившие перед ним события.