- Духовный путь Гоголя
- 1. Предисловие
- 2. Детство
- 3. Лицей
- 4. Петербург (1829–1836)
- 5. За границей и в России (1836–1842)
- 6. Снова за границей (1842–1847)
- 7. «Выбранные места из переписки с друзьями»
- 8. Религиозный кризис (1847–1848)
- 9. Духовное просветление (1848–1851)
- 10. Смерть
- 11. Заключение
- Владимир Соловьев. Жизнь и учение
- Предисловие
- 1. Детство и отрочество (1853–1869)
- 2 Студенческие годы. Религиозное обращение (1869–1874)
- 3. «Кризис западной философии» (1874)
- 4 Путешествие в Лондон и Египет (1875–1876)
- 5. Речь «Три силы». «Философские начала цельного знания» (1877)
- 6. Учение о Богочеловечестве и о Софии (1878)
- 7. «Критика отвлеченных начал» (1877–1880)
- 8. Перелом в жизни Соловьева: речь о смертной казни (1881)
- 9. Церковно-общественная работа. Разрыв с славянофилами. Национальный и еврейский вопрос
- 10. Литературные знакомства (К. Леонтьев, Н. Федоров, А. Фет). «Духовные основы жизни» (1882–1884)
- 11. Теократия (1884–1889)
- 12. Борьба за теократию (1889–1891)
- 13. Эротика (1892—1894)
- 14 Полемика с Розановым. Акт 18 февраля 1896 г. Соловьев в девяностые годы (1893—1896)
- 15. Перестройка философской системы (1897—1899)
- 16. Эстетика
- 17. Эсхатология: «Три разговора» и «Повесть об Антихристе» (1899—1900)
- 18. Смерть
- Достоевский. Жизнь и творчество
- Предисловие
- Глава 1. Детство и юность
- Глава 2. «Бедные люди»
- Глава 3. «Двойник». «Господин Прохарчин»
- Глава 4. Произведения 1847 и 1848 годов
- Глава 5. Первый опыт романа: "Неточка Незванова "
- Глава 6. Достоевский революционер
- Глава 7. Крепость и каторга
- Глава 8. Ссылка. Первая женитьба. «Дядюшкин сон». «Село Степанчиково»
- Глава 9. «Записки из мертвого дома»
- Глава 10. «Униженные и оскорбленные»
- Глава 11. Журнал «Время» (1861–1863). «Зимние заметки о летних впечатлениях». Роман с А. Сусловой
- Глава 12. Журнал "Эпоха". "Записки из подполья"
- Глава 13. «Преступление и наказание»
- Глава 14. «Игрок». Вторая женитьба. Жизнь за границей (1866—1868)
- Глава 15. «Идиот»
- Глава 16. Флоренция и Дрезден. «Вечный муж» и «Житие великого грешника»
- Глава 17. Работа над романом «Бесы»
- Глава 18. «Бесы»
- Глава 19. Эпоха «Гражданина». «Дневник писателя» за 1873 год
- Глава 20. «Подросток»
- Глава 21. «Дневник писателя» (1876—1877)
- Глава 22. Последние годы. История создания «Братьев Карамазовых»
- Глава 23. «Братья Карамазовы»
- Глава 24. Пушкинская речь. Смерть
- Заключение
- Приложение
3. Лицей
В 1821 году Гоголь поступает в нежинскую гимназию высших наук и проводит в ней семь лет. Отрочество его — время сложной и глубокой внутренней работы. К сожалению, об этом периоде нам приходится судить только по письмам его к родным, а это — источник недостаточный и недостоверный; недостаточный потому, что Гоголь — замкнутая и скрытная натура и о самом значительном или сообщает намеками, или совсем умалчивает; с матерью он не откровенен; недостоверный потому, что письма Гоголя никогда не отражают точно его душевного состояния. Образ его, преломляясь в переписке, претерпевает двойное искажение: литературной манеры и психологической позы. Гоголь в двадцатые годы зачитывается романтическими журналами, усваивает модную фразеологию и видит себя в образе Рене и Чайльд-Гарольда: он загадочный, одинокий и гонимый светом мечтатель. «Я почитаюсь загадкой для всех; никто не разгадал меня совершенно… — пишет Гоголь матери в 1828 году. — Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом — угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч., в третьем — болтлив и докучлив до чрезвычайности, у иных — умен, у других — глуп».
А вот и обязательные «гонения света»: «Я больше испытал горя и нужды, нежели вы думаете; я нарочно старался у вас всегда, когда бывал дома, показывать рассеянность, своенравие и проч., чтобы вы думали, что я мало обтерся, что мало был прижимаем злом. Но вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, несправедливостей, глупых смешных притязаний, холодного презрения и проч. Все выносил я без упреков, без роптания» (к матери, 1828 г.). Где в этих признаниях кончается литература и начинается действительность? Жизнь и фантазия так переплетены в душе Гоголя, что разделить их невозможно. Юный автор если и обманывает других, то прежде всего обманывая самого себя. Он действительно чувствует себя романтическим героем, хотя, конечно, никакого горя, никаких несправедливостей и презрения не испытал. Правда, товарищи поддразнивали замкнутого, заносчивого и неряшливого юношу, но любили его и добродушно переносили его насмешки и приставания.
«Товарищи его любили, — пишет самый близкий лицейский друг Гоголя А. С. Данилевский, — но называли «таинственный карла». Он относился к товарищам саркастически, любил посмеяться и давал прозвища. Над ним много смеялись, трунили». У Гоголя было два-три приятеля, которые образовывали круг избранников; все остальные были «существователи», и к ним он относился с традиционным романтическим презрением поэта к черни. Еще в Нежине был записан «Ганц Кюхельгартен». Герой этой поэмы — почти автопортрет.
Вотще безумно чернь кричит:
Он тверд средь сих живых обломков,
И только слышит, как шумит
Благословение потомков.
Своему другу Г. И. Высоцкому Гоголь пишет (1827 г.): «Ты знаешь всех наших существователей, всех населивших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия, высокое назначение человека… И между этими существователями я должен пресмыкаться!»
Конечно, противоставление героя толпе — романтический шаблон, но доля реальности есть и здесь. Жители Нежина, действительно, были «мертвыми душами», и живой, восторженный юноша, действительно, страдал от их «земности». Дыша поэтическим воздухом двадцатых годов, с их культом героя — поэта, вождя, пророка, с их индивидуализмом и гражданственностью, Гоголь с детских лет стал мечтать о подвиге, о миссии, о службе людям.
В основе этих мечтаний — страстная жажда самоутверждения. Страх смерти принимает форму страха перед погребением заживо, перед «мертвой» жизнью на «черной квартире неизвестности в мире».
«Как тяжко быть зарыту вместе с созданиями низкой неизвестности в безмолвие мертвое» (Высоцкому, 1827 г.).
«Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом: быть в мире и не означить своего существования — это было для меня ужасно» (П. П. Косяровскому, 1827 г.).
Вера в свое великое призвание, в свою свыше предназначенную миссию возникает у Гоголя под влиянием романтической поэтики, но вовсе этим влиянием не исчерпывается. С лицейской скамьи он был вдохновляем таинственной уверенностью в своем «служении». В чем будет заключаться это служение, представлялось ему очень смутно. В письме к дяде П. П. Косяровскому (1827 г.) он пишет, что решил быть судьей, т. к. видит, что «здесь работы будет более всего, что здесь только он будет истинно полезен человечеству». А через год тому же П. П. Косяровскому сообщает: «Весьма может быть, что попаду в чужие края, что обо мне не будет ни слуху ни духу несколько лет». Данилевский, близкий товарищ Гоголя, вспоминает, что тот одно время собирался в Америку. Однако во втором письме к дяде о юстиции уже не упоминается. Гоголь едет в Петербург, совершенно не представляя себе, чем он будет зарабатывать себе на жизнь. Он уверен, что «хлеб у него будет всегда», и не может не похвастаться перед дядей: «Вы еще не знаете всех моих достоинств. Я знаю кое-какие ремесла: хороший портной, недурно раскрашиваю стены алфрескою живописью, работаю на кухне и много кой-чего уже разумею из поваренного искусства». Гоголь в лицее немного рисовал, но, конечно, ни поваром, ни портным никогда не был. Здесь мы сталкиваемся с очень важной особенностью гоголевской психики: отсутствием чувства реальности, неспособностью отличать правду от вымысла и наклонностью к преувеличению. Строй души его — напряженный, патетический; с ранних лет уже наблюдается та двусмысленность чувств, та недостоверность и темная сложность душевных движений, которые создадут впоследствии загадочный облик автора «Мертвых душ».
Гоголь важно объявляет дяде: «Два года занимался я постоянно изучением прав других народов и естественных, как основных для всех законов; теперь занимаюсь отечественными». А в действительности в лицее читался элементарный курс законоведения, которым Гоголь не интересовался. Но как ни осторожно должны мы относиться к утверждениям Гоголя, его исконная, несокрушимая вера в свое призвание несомненна. До отъезда в Петербург она еще беспредметна, слепа, иррациональна. Поприще будущего служения простирается от кабинета министра юстиции до кухни повара. Но Гоголь верит в себя; эта вера больше, чем романтическое честолюбие и мечтательный идеализм юности; она по природе своей мистична. Стоя на пороге новой жизни, представляя себе «веселую комнатку, окнами на Неву», нежинский лицеист пишет матери слова, звучащие громче и торжественнее всего им доселе писанного: «Испытую свои силы для поднятия труда важного, благородного на пользу отечества, для счастия граждан, для блага жизни себе подобных, и, дотоле нерешительный, неуверенный в себе, я вспыхиваю огнем гордого самосознания… Через год вступлю я в службу государственную».
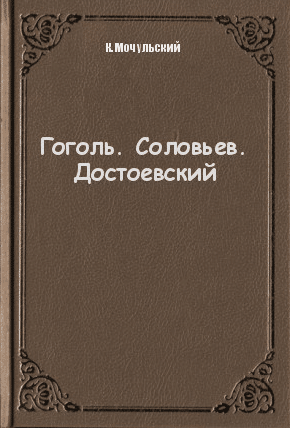
Комментировать