- Предисловие
- И.В. Попов-Пермский. На заре благодати
- Юлий Л. Анкирский гостинник
- Глава I. Гостиница на Анкирской дороге и ее хозяин
- Глава II. Игемон едет!
- Глава III. Мученик
- Глава IV. Гонимые
- Глава V. Пророчество
- Глава VI. Семь дев мучениц
- Глава VII. Языческий праздник
- Глава VIII. Что делал гостинник
- Глава IX. На поисках мощей дорогих страдалиц
- Глава X. Предатель
- Глава XI. Прощанье
- Глава XII. Суд
- Глава XIII. Исповедание епископа
- Глава XIV. Мученическая кончина епископа
- Глава XV. Исполненное завещание
- Глава XVI. К читателям
- И.И. Гребенщиков. Весна идет
- Леонид Денисов. Жизнь и страдание святой преподобномученицы Евдокии
- Ольга Хмелева. Первые христиане. Святая Феврония
- Глава I. Два брата
- Глава II. Один
- Глава III. Похороны
- Глава IV. Похоронный обед
- Глава V. Бой гладиаторов
- Глава VI. У Поликарпа
- Глава VII. Начало бури
- Глава VIII. Валерий Просфор
- Глава IX. В катакомбах
- Глава X. За стенами Рима
- Глава XI. Опять Рим
- Глава XII. Предатель
- Глава XIII. Прощание с Иерией
- Глава XIV. Донос
- Глава XV. Молочный брат
- Глава XVI. В женском монастыре
- Глава XVII. Туча идет...
- Глава XVIII. Венцы мученические
- Эпилог
- Священник Седвин. Икар и Петрония
- Б. Никонов. Пир Диоклетиана
- Н. Смоленский. Крест жизни
- Н. Смоленский. Дивное событие в Пасхальную ночь
…Из всех цветов во вселенной Ты из6рал Се6е одну лилию (3Езд.5:24)
Перед вами сборник книг серии: «Из архива духовных чад репрессированного священника Григория Пономарева (1914-1997 гг.)» — «Лилии полевые. Первые христиане. На заре благодати». Серия отличается от предыдущих сборников тем, что в нее вошли повести и рассказы, собранные духовными чадами отца Григория. Продолжая дело отца Григория, автор сборника собрала архив из 20 тыс. страниц православных рассказов, большинство из которых не переиздавались в России после революции XX века. Основой для данного архива стали первоисточники (названия дореволюционных журналов, типографий, издателей), а также имена писателей и литераторов, на которые ссылался в своих дневниках о. Григорий Пономарев. Ранее редакцией «Звонница» изданы пять сборников: 1. «Лилии полевые», 2. «Лилии полевые. Крестоносцы», 3. «Лилии полевые. Покрывало святой Вероники», 4. «Лилии полевые. Три года жизни в Священном городе», 5. «Лилии полевые. Подвиг», содержание которых наполнили рассказы и поучения из личного архива отца Григория. Все книги получили грифы изд. Совета PПЦ.
B содержание данного сборника легли повести из первых веков христианства русских и зарубежных писателей, перепечатанные из книг и журналов, издававшихся в конце XIX и начале XX вв. в России под грифами «От C.-Пeтep6. Духовного Цензурного Комитета печать дозволяется». Тексты 3аново отредактированы, иллюстрированы авторскими рисунками. К рассказам составлены новые примечания с объяснением малопонятных терминов и слов.
Прот. Григорий Пономарев был репрессирован в 1937 г., осужден на 10 лет лишения свободы по 58-й статье и сослан в сталинские лагеря на Колыму. Вернувшись из лагерей Крайнего Севера, был реабилитирован в 1954 г. и более 40 лет служил в храмах Свердловской и Курганской областей. 25 октября 1997 г. отец Григорий и его супруга Нина Сергеевна, прожившие в любви и согласии 61 год и 2 дня, вместе преставились ко Господу и похоронены в одной могиле возле Свято-Духовского храма пос. Смолино Курганской обл. Книга предназначена для чтения в семейном кругу, а также для учеников и преподавателей православных воскресных школ и гимназий.
Предисловие
В сборник «Лилии полевые. Первые христиане. На заре благодати», вошли повести и рассказы, написанные русскими писателями во второй половине XIX века. Тексты рассказов перепечатаны из дореволюционных книг и журналов, издававшихся в России в конце XIX и начале XX вв. под грифами «От Санкт-Петербургского Духовного Цензурного Комитета печать дозволяется».
Церковно-исторические повести и рассказы этого сборника описывают жизнь первых христиан во времена евангельских событий и апостольского служения учеников Христовых. Внимание составителя книги привлекли сюжеты из древнехристианских времен, повествующие о становлении и укреплении христианства в странах Древней Греции, Рима и Ближнего Востока, находившегося под властью Римской империи в первых веках от Рождества Христова. Эта эпоха осталась в истории человечества как время утверждения христианской веры и, в то же время, — жестоких гонений на христианскую Церковь.
На заре благодати, когда реками лилась кровь первомучеников, утверждалась и крепла Церковь Христова.
Однако, преследование христиан не прекращается и в наше время. Сегодня жестокому гонению, репрессиям и истреблению подвергаются христианские народы, Церковь и священство на Ближнем Востоке, в Африке, на Балканах, и Украине. На тех землях, где проповедовал Иисус и его ученики, развязываются кровавые войны. Но Господь и сегодня призывает нас, так же, как и первых христиан, быть верными Кресту Христову даже до смерти, твердо стоять в вере, хранить заповеди Божии, обличать и сопротивляться сатанинскому злу.
В сборнике «Лилии полевые. Первые христиане. На заре благодати» есть рассказ «Пир Диоклетиана», главный герой которого, христианин Амфилох, обличает языческую элиту словами:
«Гнусный, безбожный Рим — гнездо всякой скверны, зла и насилия; геенна геенн, дышащая пламенем и тленом и заражающая своим нечистым дыханием кроткие и чистые цветы Божией истины, которым определено расцветать на страдание и скорбь, дабы исполнилась чаша долготерпения Господа. Ты — кладезь неслыханных страданий и вопиющего проклятия! Придет день — и свершится над тобою кара Божия за то, что ты был глух к возвещению истины и смеялся над ее откровением. Именем Того, Кто воссиял… над миром и отверз ему глаза и сердце, я проклинаю вас, языческие черви, грызущие гниющий в разврате Рим…» (см. стр. 516).
Эти слова, произнесенные одним из первых христиан Древнего Рима, Господь обращает и к современному миру. Сегодня растленный человек еще более гнусен и, кажется, человечество погружается в абсолютное зло.
Но любящий Господь, так же, как и в первые века христианства, предлагает Своим верным чадам и всем людям выбор — оставаться ли каждому из нас человеком, живущим по евангельским заповедям, или превращаться в свиное стадо из притчи о Гадаринском бесноватом (Лк.8:26-33).
Кажется, давно прошли те времена, когда христиане за свою веру горели на столбах, как живые факелы, когда их заставляли поклоняться языческим богам и отказаться от веры в Иисуса Распятого; когда их тела разрывали клыками кровожадного зверья, когда палачи стальными когтями точили их истерзанную плоть и разбрасывали по земле их обугленные кости… Однако это же самое происходит и сегодня и христиан преследуют и гонят по всему миру. Но падший мир ужасается не дьявольских злодеяний и жестокости сатанинских войн, а стойкости тех, кто остается верен Христу и Его заповедям до самой смерти, кто чтит Матерь Церковь и ее апостольские установления, кто остается человеком по образу и подобию Божию, свидетельствуя миру о Воскресении Христовом. А мы верим, что никогда геенна геенн, дышащая пламенем и тленом, не заразит своим нечистым дыханием кроткие и чистые цветы Божией истины. Аминь!
Елена Ки6ирева,
Издатель, член Союза писателей России.
2023 г.
И.В. Попов-Пермский. На заре благодати
Церковно-историческая повесть из времен проповеди святого апостола Павла в г. Ефесе
I
Эфесский скульптор Димитрий задумчиво прогуливался по своему роскошному перистилю[1], выложенному мелкими мраморными плитками. Это был высокий, полный, представительный мужчина, лет под шестьдесят, с крупными чертами лица. В глазах его светилась твердая воля человека с непреклонным, стойким характером. Сильно изогнутый нос придавал всему лицу оттенок какой-то суровости. Но что красило его — это густые волосы, целой шапкой поднимавшиеся над высоким лбом. Одет он был в пурпурный хитон с золотыми вышивками на подоле. Димитрий, закинув руки за спину, медленно шагал из конца в конец. Глубокая, напряженная дума стояла в его глазах. Рабы тихо и осторожно проходили по перистилю, направляясь в столовую. Оттуда доносился стук мебели и звон посуды. Там царило большое движение.
Главный раб Hилос несколько раз вопросительно выглядывал из столовой на господина. Наконец, он осторожно проговорил:
— Не прикажешь ли подавать на столы? Время прибытия гостей близится.
Димитрий очнулся от своих дум.
— Хорошо. Подавайте. Все ли приготовлено?
— Все, господин.
— И хиосское вино?[2]
— Да!
— Ты известил музыкантов и танцовщиц? Не запоздают они?
— Не беспокойся, господин. Все устроено. И завтра же весь Ефес[3] заговорит, каким обедом ты чествовал своего сына, вернувшегося победителем с Великих Панафиней[4].
Димитрий довольно улыбнулся.
— Да, мой сын заслужил того, чтобы им интересовался весь Ефес.
— И город должен гордиться твоим сыном, о, господин! — вскричал с каким-то энтузиазмом Hилос. — Твой сын — украшение и слава нашего Ефеса. Имя его теперь увековечено.
Раб поклонился и вышел для новых распоряжений, а Димитрий прошел в гинекей[5].
— Жена и дочь одеты? — спросил он у служанки, которая в первой комнате растирала краски для подведения бровей.
— Да, господин.
Димитрий вступил в комнату, обставленную замечательно художественно. Стены украшали лучшие ковры, какие только производила Азия. На столиках из черного и красного дерева красовались мраморные, золотые и серебряные статуи — работы самого хозяина. В одном углу помещался особый бронзовый столик для курения благовоний. Кушетки были покрыты лучшей тканью с затейливыми рисунками. Поражал своей изящной отделкой и массивными размерами светильник с десятью спускающимися на цепочках лампадами. Вдоль одной стены тянулся ряд стульев без спинок, называвшихся дифрами. Видимо, Димитрий не пожалел денег, чтобы обставить как можно комфортабельнее и изысканнее эту комнату, предназначенную для жены Ксанфы и красавицы дочери Ариадны.
При входе Димитрия с низкого дифра быстро поднялась молодая прелестная девушка, только что закончившая свою прическу перед великолепным бронзовым зеркалом, стоявшим на высоком постаменте.
— Взгляни, отец, на мою новую тунику. Хороша?
Не правда ли?
И молодая девушка, отступив шаг назад, выпрямилась во весь свой рост. Она кокетливо склонила голову набок и с вопросительной улыбкой глянула на отца.
Димитрий ласково оглядел дочь.
— Туника великолепна, но ты еще лучше…
Он не без восхищения оглядел стройную фигурку дочери. Ариадне шел восемнадцатый год, и она справедливо могла считаться одной из самых красивых эфесских девушек. Чудные, веселые, лучезарные глаза, оттененные длинными ресницами, нежный румянец на алых щеках, вьющиеся волосы, стройный стан, охваченный золотым поясом, — все это придавало Ариадне какое-то неземное обаяние. Недаром к ней сваталось уже несколько знатных женихов, которым, однако, Димитрий отказывал, ссылаясь на молодость дочери; на самом же деле ему просто не хотелось так скоро расставаться со своей любимой дочерью.
— Ах, отец, ты всегда говоришь преувеличенно о моей красоте. А в данное время я желала бы знать одну правду — идет ли мне эта туника? Ведь сегодня у нас такой торжественный обед и будет много гостей. Каково твое мнение как художника?
— Милое дитя! Клянусь великой Артемидой, туника восхитительна. Все внимание гостей будет обращено на тебя. Но, однако, где же Ксанфа? Куда исчез герой нашего обеда Аристоген?
— Мама и брат в саду. А где Дорион, не знаю.
— Дориона я послал в город. Он скоро вернется. А вот и они.
В комнату вошла худощавая женщина лет сорока пяти, одетая в более скромную тунику. Следом за ней показался красивый, изящный юноша лет двадцати двух, с тонкими правильными чертами лица. Во всей его фигуре чувствовалось благородство, смелость, отвага. Глаза смотрели хотя несколько и самоуверенно, но мягко.
Димитрий справедливо гордился красотой детей. Аристоген, его младший сын, представлял из себя идеал мужской красоты. Греки, ценившие в человеке прежде всего телесную красоту, открыто восхищались Аристогеном. Часто голова его служила скульпторам моделью при формовке разных статуй. На юноше ловко и элегантно сидел пурпуровый хитон, сверх которого был наброшен на спину небольшой плащ-хламида[6], застегнутый у подбородка большой художественной, тонкой работы пуговкой, изображавшей крылатого гения.
Ксанфа грузно опустилась на кушетку.
— К несчастью, я сегодня чувствую себя не особенно хорошо. Ах, как тяжело всегда достаются эти торжественные обеды!
— В таком случае, не лучше ли тебе не выходить из своей комнаты? — предложил Аристоген.
— О нет, нет, — с живостью отозвалась мать, — сегодня у нас такое торжество, и вдруг я буду отсутствовать! Этим я нанесу тебе оскорбление.
— Что ты говоришь, мама! Можешь ли ты нанести мне оскорбление? — вскричал Аристоген.
Во взоре, устремленном на мать, горело так много любви и преданности, что Ксанфа сразу замолчала и с нежной улыбкой взглянула на сына.
— Аристоген, ты, надеюсь, поддержишь меня? — обратился Димитрий к сыну.
— В чем?
— До вашего прихода Ариадна спросила меня, хороша ли ее туника. A нахожу, что она никуда не годится. Ты согласен со мной?
Аристоген удивленно взглянул сначала на отца, потом перевел взор на сестру. Молодая девушка захлопала в ладоши.
— Ну, Аристоген, возлюбленный брат мой, говори! Аристоген стал в позу, поднял руку кверху и театрально заговорил:
— О, если бы сама великая Афродита[7] захотела явиться в образе смертном, то и она не нашла бы лучшей туники, которая сейчас на тебе. И даже тогда нужно было бы позвать Париса[8], чтобы решить, кому отдать яблоко: тебе или же… Афродите.
— Ты можешь поспорить с самим Гомером[9], — польщенная, отвечала Ариадна.
— И с Аполлоном[10], — добавил Димитрий.
Ксанфа только улыбалась, слушая болтовню дорогих лиц.
— Но шутки в сторону, сестра, а эта туника отделана действительно великолепно. Где ее работали?
— Вышивали здесь, в Ефесе, но материя — аркадский виссон[11].
— Отлично сделано, прекрасно! Ты выглядишь в ней настоящей царицей. Если бы ты показалась на великих Панафинеях[12] — я уверен, на тебя было бы обращено всеобщее внимание.
— А как мне хотелось бы побывать на них! — вырвалось у молодой девушки.
— И побываешь, не беспокойся, — утешил ее отец.
— Хотя я живу в Ефесе уже около тридцати лет, но никогда не забываю родных Афин. Ты дочь Афинского гражданина и должна видеть родину твоего отца.
— О, благодарю тебя! Моя горячая мечта — увидеть твою родину, хотя и наш Ефес великолепен. Едва ли я когда-нибудь покину его. Ведь здесь так хорошо. Один храм великой богини Артемиды стоит тысячи дворцов.
В это время послышались шаги, и в комнату быстро вошел молодой мужчина лет тридцати. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы признать в нем старшего сына Димитрия. Он замечательно походил на отца: тот же горбинкой нос, те же крупные черты лица, отдававшие суровой волей. Хорошо сложенная фигура говорила о большой физической силе и выносливости. В красоте он далеко уступал своему младшему брату Аристогену. В этом отношении их никто не счел бы родными братьями.
— Я не опоздал?
— Нет.
— Отлично. Пришлось долго задержаться у негодного цирюльника Кефала. Народу — полная комната. Ну и без ссоры не обошлось. Я чуть было не зашиб насмерть какого-то сирийца, который осмелился дурно отозваться о храме великой Артемиды. На меня насели его товарищи. Мой кулак свихнул негодному челюсть, а другой дуралей от пинка ноги в следующее мгновение уже валялся на полу. Клиенты Кефала, видя мой успех, шумно мне зааплодировали.
— О, ты настоящий Геркулес, это я знаю. Кто хотя раз попробует твоего кулака, тот вряд ли захочет испытать его силу вторично. Вот тебе отправиться бы на Олимпийские игры. A уверен, тебя увенчали бы венком, — произнес Аристоген, с нескрываемым удовольствием оглядывая крепкую, статную фигуру брата.
—Ты хочешь, Аристоген, чтобы я так же прославился, как и ты? — засмеялся Дорион. — Нет, от этого уволь. Я всегда предпочту свою мастерскую. Состязайся в играх ты. Если я стану гоняться за играми и искать славы, то кто же станет работать? У меня на первом плане работа. Только в мастерской я и живу.
— Твоя рассудительность, Дорион, меня радует, — хлопнул сына по плечу Димитрий. — Впрочем, иначе говорить ты и не можешь. Наше ремесло дает нам, сам знаешь, прекрасные барыши. И если ты не будешь относиться к делу с любовью, то кто же после моей смерти станет во главе предприятия? На Аристогена я плохо рассчитываю. И Аристоген хорошо работает, но он еще не настолько опытен, как ты.
— Благодарю тебя, отец, — склонил голову Дорион. Скоро раб доложил о прибытии первых гостей. Обширный перистиль мало-помалу наполнился шумом и говором. Гости, а особенно гостьи, блистали своей одеждой, сшитой и украшенной руками лучших мастеров и мастериц Ефеса.
Среди гостей много было скульпторов и товарищей Димитрия по производству. Здесь был весельчак Трасей, который, кажется, никогда в жизни не делал грустного лица и заражал своим смехом других. Здесь был серьезный вдумчивый Автокль, который ухитрялся вместе с работой в мастерской читать греческих поэтов и философов. Тут присутствовал вечно недовольный, брюзжащий Клитон, который говорил мало и смотрел на все с мрачной, пессимистической точки зрения. Говорят, что это с ним случилось после смерти дочери. Рассказывали, что он сделал большую статую умершей и ежедневно воскурял перед ней фимиам.
Все эти товарищи Димитрия пришли со своими семействами. Димитрий пригласил на обед и своего главного помощника Калликрата, молодого человека атлетического телосложения. Присутствовал городской блюститель порядка Гиеронид, почтенный старец с большой бородой и ловко сидящим на нем гиматионом[13].
—Привет тебе, герой Панафиней! Привет Аристогену, славой покрывшему свое чело! — весело вскричал Трасей, лишь только увидал героя-юношу.
Аристоген не остался в долгу.
— И тебе, знаменитый художник великой богини Артемиды — привет! Пусть слава о тебе дойдет до Геркулесовых столбов[14]. Твое искусство известно и в Киликии, и в Памфилии.
— Пожелай это, друг мой, твоему отцу. Он великий мастер, а я, по сравнению с ним, еще ученик.
— Не унижай себя, мой славный Трасей, — произнес Димитрий, — твои мраморные статуи куда лучше моих. Мне далеко до тебя. Но, однако, друзья мои, прошу в столовую разделить с нами скромный обед. Аристоген, сегодня ты хозяин. Приглашай и занимай гостей. Пусть они не упрекнут тебя в нелюбезности и отсутствии радушия.
Столовая представляла из себя просторную, светлую комнату, посредине которой были поставлены два больших, овальных стола с ложами[15] с трех сторон. Для женщин на другом конце комнаты был раскинут длинный стол. На столах красовались холодные закуски, задачей которых было лишь возбуждение аппетита.
Когда гости вошли в столовую, невольники вымыли у них ноги и побрызгали благовониями. Затем была подана в особых кувшинах вода для умывания рук. После этого Димитрий, как хозяин, сделал возлияние в честь Артемиды Ефесской, и только тогда гости возлегли по местам.
Столовая наполнилась оживленным разговором и смехом. Героем обеда был, конечно, Аристоген. Он возлежал на среднем почетном месте и оживленно передавал свои впечатления о празднике.
— Твой брат — настоящий Аполлон, — шепнула на ухо Ариадне ее бойкая, веселая подруга.
— Поэтому ты и смотришь на него, не сводя глаз? — засмеялась Ариадна.
Гостья слегка покраснела и шутливо ударила Ариадну по руке.
— Нельзя не ценить красоту, но, однако послушаем твоего брата. Вот он начал рассказывать, кажется, о Великих Панафинеях.
И гостья не отрывала своего взгляда от прекрасного лица юноши.
— Никогда наш Ефес не увидит такого торжественного зрелища, как несение покрывала богине Афине! — воскликнул с воодушевлением Аристоген.
— Мой юный друг совсем стал афинянином, — засмеялся Трасей, — а ты забыл наш Артемидин месяц? Разве мы недостаточно торжественно чтим свою богиню?
— Не спорю, мы чтим ее, но обстановка праздника в Афинах, мне кажется, гораздо величественнее и интереснее. Представьте себе такую картину. Медленно идет по земле на колесах священная триера[16]; вместо паруса — покрывало, предназначенное для Афины-Паллады. Ах, что это за великолепная ткань! На ней были изображены разные деяния богини, тут же красовались картины из истории и даже портреты знатнейших горожан.
— Кто же ее ткал? — спросила одна из женщин.
— Ее ткали под наблюдением жрецов молодые девушки, воспитанные в храме Эрехтейон[17]. Повторяю, покрывало — верх искусства. Триеру сопровождали жрецы, граждане Афин и других городов с различными приношениями, метеки[18] с золотой и серебряной утварью, далее следовали колесницы с атлетами и, наконец, народ. У всех праздничная одежда, веселые лица. Оживление необыкновенное. Процессия шла из Керамического квартала и, минуя Эльзион и Акрополь, остановилась против Ареопага. Здесь отвязали покрывало и понесли его до самого Эрехтейона. Нет, надо самим видеть эту процессию, чтобы понять всю ее красоту! Тут сошлось все, чтобы ласкать зрение: и красивые лица, и великолепные одежды, и лошади, и колесницы.
— А ты шел недалеко от триеры? — спросила Ариадна.
— Да, недалеко. A имел на это право, как победитель в беге.
— Друзья мои, вы, вероятно, не все еще видели те амфоры[19], которые получил мой сын? — вставил Димитрий.
— Покажите, покажите. Где они? — посыпались вопросы.
Димитрий дал знак. Рабы быстро скрылись и через минуту внесли стол, на котором красовалось несколько глиняных разрисованных ваз, наполненных маслом из оливковых священных рощ.
Пока гости рассматривали амфоры, Аристоген продолжал:
— Эти амфоры я получил как награду в ночном беге с факелами. Нас бежало двадцать человек, и я пришел первым. Этот бег необыкновенно интересен и составляет самый главный номер праздника.
Пока юноша рассказывал, рабы подали мясо, рыбу и соусы. После этих блюд гостям была вновь предложена вода и полотенце для умывания рук. Другие рабы внесли новые столы с десертами и фруктами. Гости возложили на головы венки из цветов и сделали возлияние Доброму Гению[20].
Заговорили о разных городских новостях: Трасей начал декламировать стихи, Автокль прочел какую-то цитату из Платона[21]. Женщины весело пересмеивались. Серебристый смех Ариадны так и царил в столовой.
Рабы зажгли светильники и обрызгали гостей благоуханиями. Кто-то начал разговор о новом учении, распространявшемся за последнее время в Ефесе.
— A был недавно в училище Тиранна и слушал речь этого Павла из Тарса[22], — проговорил Гиеронид. — Мне, как блюстителю городского порядка, необходимо было познакомиться с этим учением.
Все обернулись к нему.
— И интересная речь? О чем он проповедовал? — заговорили со всех сторон.
— Трудно сразу ответить на ваши вопросы, друзья мои. Несомненно, Павел Тарсянин говорит необыкновенно красноречиво, убедительно и живо. Я выслушал его очень внимательно.
— В чем же заключается его учение?
— Он долго говорил о каком-то Иисусе из Назарета. Доказывал, что Иисус воскрес из мертвых и убеждал принять Его учение.
— Воскрес из мертвых? — вскричал иронически Трасей. — Клянусь нашей Артемидой, это что-то очень необыкновенное. Воскресал ли кто из мертвых? Я, например, очень желал бы, чтобы воскрес Φидий или Пракситель[23]. Тогда я поучился бы у них кое-чему. Но увы, Плутон[24] вряд ли кого выпустит из своих холодных объятий.
— Ты прав, мой любезный Трасей, — отозвался Автокль. — У философов я нигде не читал о воскрешении мертвых.
— Соглашаюсь с вами, друзья мои, что это очень странно, — продолжал Гиеронид, — однако, Павел положительно утверждает, что Иисус, хотя и был убит иудеями, но в третий день воскрес и явился ученикам. Павел даже уверяет, что Иисус явился и ему во время пути в Дамаск. Конечно, это для нас непонятно. Но, несомненно, Павел очень умный и начитанный человек. Говорил в высшей степени горячо.
— И много было народу?
— Полная школа. Павел не имеет недостатка в слушателях. Но думаю, что если кто желает основательно понять его учение, то нужно несколько раз сходить на беседу. А я совершенно не имею времени. Пусть кто-нибудь сделает это вместо меня.
— Я схожу непременно в школу Тиранна, — проговорил любознательный Автокль.
— Не советую, — серьезно заметил Димитрий.
При первом же упоминании имени Павла Тарсянина лицо Димитрия нахмурилось. Между бровями легла глубокая морщина.
— Почему?
— Этот человек — наш враг.
— Враг? Как так?
— Да! Враг и самый страшный. Что он проповедует? Он хочет, чтобы люди не поклонялись великой Артемиде Ефесской[25], хочет, чтобы чтили только его невидимого Бога. А если эта проповедь будет иметь успех, то почитание Артемиды упадет; следовательно, рухнет и наше ремесло. Я и теперь уже замечаю, что за последнее время гораздо меньше сбыт изображений богини. Если это продолжится и далее, то… Но прочь эти мрачные мысли теперь! Об этом мы поговорим в другое время. Сегодня время веселья. Эй, Hилос, распорядись, чтобы давали вино и зови сюда танцовщиц.
Рабы быстро внесли большие серебряные кратеры[26] с вином, разбавленным водой, затем они поставили перед каждым гостем киаф[27] и фиал[28].
— Друзья мои! — приподнялся Димитрий с фиалом хиосского вина. — Пью за процветание нашего искусства. Да погибнет учение этого Павла Тарсянина! Велика наша Артемида Ефесская!
Все вскочили со своих мест и с поднятыми фиалами вскричали:
— Велика Артемида Ефесская! Да здравствует славный Димитрий со своим семейством.
— Да здравствуют и мои славные гости! Φиалы осушивались.
Когда гости снова возлегли, в комнату вошли сирийские танцовщицы и под игру нескольких флейт начали веселый быстрый танец, называвшийся «сикиннида».
Они быстро носились по комнате, изгибались, выделывали разные замысловатые и двусмысленные фигуры, чем привели гостей в неописуемый восторг.
— Клянусь Зевсом, танцы великолепны! — вскричал Трасей, — ты угостил нас, Димитрий, не только хорошим изысканным обедом, но дал удовольствие и зрению, и слуху. Да будет к тебе благосклонна судьба!
После сириянок вышла на середину комнаты одна девушка в короткой тунике. Заиграла флейта. Другая девушка внесла круг, весь утыканный мечами острием вверх, и поставила на пол. Танцовщица под веселые звуки флейты начала грациозно перепрыгивать через мечи.
— Одно неловкое движение — и в царстве Плутона одной женщиной больше, — прошептал Клитон на ухо своему соседу Калликрату.
— Не беспокойся. Эти женщины любят шутить с Плутоном.
— Но прыжки ее смелы. Клянусь всеми богами, она неподражаемо хороша!
Танцовщица приковала своим опасным танцем всеобщее внимание и была награждена шумными аплодисментами. Затем вышли мальчики, которые под аккомпанемент цитр[29] пели разные песни; чтецы мастерски читали выдержки из поэтов.
Обед кончился литературно-музыкальным отделением. Гости пили вино, наслаждались пением и танцами, и, в заключение, занялись игрой, называвшейся «коттаб». Для этого брали чашу с небольшим количеством вина и, размахивая ею под звуки флейты, выплескивали из нее вино в особый бронзовый диск, установленный у стены. Каждый выплескивающий задумывал что-либо и по звуку падающей жидкости делал заключение, исполнится ли его желание или нет. Эта игра была очень распространена среди древних греков. Ни одного пира не обходилось без нее. Особенно увлекались ею в Афинах. Победителям давались дорогие вазы.
Гости разошлись далеко за полночь, горячо поблагодарив хозяев за радушный прием и хорошие угощения. Аристоген долго не мог уснуть: в его ушах все еще продолжали звучать похвалы гостей.
И горделивая улыбка собственного достоинства легла на его губы.
II
Димитрий пользовался самой широкой популярностью, как скульптор, не только среди своих сограждан, но и далеко за пределами Ефеса. Его знали и другие ионийские города, расположенные по побережью Малой Азии. Имя Димитрия было известным даже в Афинах, этом центре культуры и искусства древнего мира. Его мастерская видела в своих стенах знатнейших граждан Ефеса. Несмотря на то, что он был ремесленник, его не избегала и аристократия, потому что Димитрий не жалел денег на угощения друзей. Никто не мог упрекнуть его в отсутствии гостеприимства и радушия. Обширный, роскошно обставленный дом его находился в одной из тихих, нешумных улиц, примыкавших к подножиям гор Корреса и Приона, расположенных от города к югу и востоку. Около дома был разбит небольшой садик, в конце которого находилась мастерская. Это было обширное двухэтажное здание. Внизу шла отливка статуй, барельефов, и производилась, главным образом, вся черная работа. Здесь шумели меха, дымился расплавленный металл, стучали молоты, обдавая работающих тысячами искр.
Верхний этаж был предназначен для продажи изделий. Димитрий выпускал в большом количестве статуэтки, барельефы и талисманы с изображением Артемиды Ефесской. Во время праздника Артемиде эти талисманы и статуэтки расходились в огромном количестве, давая Димитрию хорошие барыши. Кроме Димитрия, выпускали подобные произведения и другие мастера, но значительно хуже качеством. Если отчасти и мог кто поспорить с Димитрием, так это Трасей, имевший довольно обширную мастерскую.
Через несколько дней после обеда, данного в честь Аристогена, Димитрий направился к своему хорошему знакомому, римскому патрицию Титу Лоллию Φабиану. Его небольшая, но изящная вилла находилась на склонах горы Корреса, недалеко от театра. Этот патриций был большой любитель художественных произведений и ценил искусство Димитрия. Он жил прежде в Риме, но после крупных неприятностей с любимцами Цезаря оставил Рим, много путешествовал и, наконец, выбрал местом своего постоянного жительства Ефес. Φабиан был одинок, не любил пышности, хотя и обладал огромным состоянием. Он избегал многочисленности рабов и имел их не более десяти, хотя древние греки и римляне имели по нескольку сот и даже тысяч рабов.
Солнце еще высоко стояло над Ефесским заливом, когда Димитрий подошел к портику[30] Тита Φабиана.
— Дома господин? — спросил он у привратника.
— Да, я сейчас доложу ему.
—Он занят?
— Господин в данное время читает в библиотеке.
— Быть может, я помешаю ему в работе? Но он просил известить его, когда моя статуя будет окончена. Вот я и пришел.
Раб отправился с докладом. Через минуту он вернулся и сказал:
— Господин просит тебя пройти в перистиль[31]. Он сейчас выйдет.
Димитрий прошел в небольшую прихожую и очутился в изящном перистиле. Два ряда колонн поддерживали портики. К одной стороне перистиля примыкали спальня и библиотека хозяина.
Φабиан не заставил себя ждать. Скоро розовая занавесь зашевелилась, отошла в сторону, и в перистиль вошел бодрой походкой Тит Лоллий; живые глаза его изобличали подвижную натуру, бодрую и жизнерадостную. Ему было лет за шестьдесят. Не успел Димитрий вымолвить приветствие, как Φабиан первый заговорил:
— Славному ефесскому художнику привет! Раб сказал, что статуя Дианы[32] готова. Правда ли это? Ты окончил ее?
— Да, моя работа окончена. Я счел долгом сам сказать тебе об этом.
— Благодарю за любезность. Значит, можно на нее взглянуть?
— Я буду рад, если ты посетишь мою мастерскую. Прежде, чем отправиться со статуей в храм Артемиды, я хотел бы узнать твое мнение о работе. Я не хочу дарить богине несовершенное произведение. А твой вкус мне известен. Я верю в него и ценю.
Патриций был польщен.
— Когда же ты намерен отвезти статую?
— Это зависит от тебя, благородный Φабиан.
— Почему?
— Если статуя получит твое одобрение, то я тотчас же отправлюсь в храм. Статуя, повторяю, вполне закончена.
— В таком случае не будем медлить. Я готов сейчас же отправиться к тебе. Меня очень заинтересовала эта статуя. Ведь ты, кажется, долго работал над ней.
— Около полугода.
— Да, срок большой. Горю желанием взглянуть на твое искусство.
Он хлопнул в ладоши. Вошел раб.
— Немедленно подать большие носилки. Поторопитесь.
Раб быстро скрылся.
— Ну, как идет сбыт твоих произведений? Надеюсь, все хорошо? — спросил Φабиан, когда они улеглись на носилках и рабы двинулись в путь.
— За последнее время плохо. Φабиан искренне удивился.
— Почему? Раньше твои статуэтки шли нарасхват.
— Ах, благородный Φабиан! Дело мое пошатнулось. Да и не мое только, но и всех других моих сотоварищей по производству.
— Но какая причина?
Глаза Димитрия недобро блеснули.
— Ты знаешь, патриций, что здесь, в училище Тиранна, года два уже проповедует некто из Тарса?
— Мельком слышал.
— Ну так вот, он и есть причина. Павел проповедует какое-то новое учение, которое совершенно отвергает богов, и в том числе, конечно, и нашу великую Артемиду.
— А ты был в училище Тиранна?
— Да, был.
— И какого же ты мнения о Павле?
— Я вынес одно убеждение: этот человек может разорить меня. Его учением я ничуть не интересуюсь, но я не могу остаться спокойным, когда результаты его учения уже сказываются на моем производстве. Если все ефесяне уверуют в Иисуса, Которого проповедует Павел, тогда потеряет все величие и славу Артемида. И для кого же я тогда стану приготовлять статуэтки и барельефы? Где найти покупателя?
— Да, это учение может действительно грозить тебе разорением. Но, однако, любопытно, чему учит этот Павел? В наше время, впрочем, развелось так много разных религий и суеверий, что, вероятно, это одна из восточных сект. Но мне тебя жаль, а помочь ничем не могу.
— О, я был бы безмерно рад, если бы явилась какая-нибудь возможность удалить отсюда этого человека! — вскричал Димитрий со злобой.
Φабиан задумался.
— Это сделать мудрено. У Павла, очевидно, много приверженцев, которые встанут на его защиту. А для вас совершенно невыгодно затевать бунт. Вы, ефесяне, можете потерять и те политические права, которыми располагаете теперь.
— Да, ты прав. Об этом я уже много думал, — мрачно отозвался Димитрий.
— Я все-таки переговорю с проконсулом. Он мой хороший знакомый. Нельзя ли что-нибудь сделать для тебя. Предварительно нужно познакомиться с этим учением. Нет ли в нем некоторых преступных пунктов, из-за которых можно было бы лишить Павла свободы. Не проповедует ли он, например, неповиновение властям, непочтение к кесарю?
Димитрий нахмурился.
— Этого я не слыхал. Он, главным образом, обещает своим последователям вечное Царство на небе с Иисусом. О земле он мало и говорит: земные интересы ему чужды.
Патриций сделал презрительную гримасу.
— Он говорит о Небесном Царстве? Это что-то очень странное и непонятное. Кого может интересовать такой отвлеченный вопрос? Если Павел проповедует только лишь о небесных благах, то трудно лишить его свободы. Остается тебе одно: просить вашу богиню Артемиду, чтобы она поскорее убрала куда-нибудь этого человека, как врага и разрушителя ее храма. А впрочем, я переговорю с проконсулом и дам тебе ответ на этих же днях.
Когда патриций вошел в мастерскую Димитрия, то невольный возглас восхищения сорвался с его губ при виде статуи. Последняя поражала художественной законченной отделкой. Ничего не нужно было ни убавить, ни прибавить: резец художника сделал все, что только можно было сделать. Фигура была почти натуральной величины и вылита из бронзы.
— Прекрасно! Восхитительно! — твердил Φабиан, не отводя своего восторженного взгляда от богини.
— Находишь, благородный патриций, какие-нибудь недостатки? — спросил Димитрий.
— Никаких! Каждый штрих на месте, каждая складка одежды правдива и верна. Ваш храм Артемиды приобретет лучшее украшение. А скажи мне: во что ты ценишь эту статую? За сколько ты ее продал бы?
— Эту статую я посвятил богине, а потому она не может быть никому продана. Когда тяжело заболела моя Ариадна, я дал слово приготовить статую в храм, если дочь выздоровеет. Дочь выздоровела, и я должен сдержать слово.
— Это я знаю, слышал. Ну, а, однако, во что ты ценишь ее?
Димитрий задумался.
— Мин в пятьсот[33].
— В таком случае делаю тебе заказ на такую же статую. A отправлю ее в Рим. Пусть там посмотрят, какие есть здесь в Ефесе художники.
— С удовольствием исполню твое желание, благородный патриций. Но прошу тебя, будь благосклонен ко мне и переговори с проконсулом относительно Павла. И я сочту долгом поднести тебе такую же статую.
— Обещать наверняка не могу, но еще раз повторяю тебе: охотно переговорю. Разумеется, и за вторую статую я заплачу тебе те же пятьсот мин.
Патриций еще раз внимательно оглядел статую Дианы, еще раз выразил свой восторг, простился и ушел.
— О, боги! Не одну, а пять статуй я дал бы тому человеку, который сумел бы удалить отсюда Павла! Этот человек разорит меня. Не допусти до этого, великая богиня Артемида[34]!
И Димитрий, тяжело вздохнув, задумчиво вернулся в свою мастерскую.
III
Эфес в описываемую нами эпоху был одним из известнейших и знаменитых городов Малой Азии[35] и в истории христианства он сыграл огромную роль. Его в этом отношении считают третьим городом после Иерусалима и Антиохии. Местоположение Ефеса было прекрасное. Расположенный частью на ровной местности по склонам Корреса и Приона, всего в полутора верстах от Икарийского залива, он являлся значительным торговым пунктом не только для Малой Азии, но и всей Греции.
Сюда шли дороги из таких населенных пунктов, как Сарды, Троада, Антиохия и Магнезия. В гавани его постоянно стояли суда со всевозможными товарами из Италии и Греции. Тысячи лебедей украшали собой реку Кайстерь[36], огибающую город с севера. Пение птиц наполняло воздух. Реки и озера кишели рыбой; на рынках можно было найти все наилучшее, что только производили Азия и Восток.
Здесь велась обширная мировая торговля. Художественные произведения из золота, серебра, меди, слоновой кости, всевозможные предметы из дорогих пород деревьев, драгоценные материи, дорогие благовония, вино, елей, хлеб, скот — все это красовалось в изобилии на рынках Ефеса. В виду такого положения, город отличался богатством, роскошью и крайне смешанным населением. Здесь можно было встретить и римлянина, и испанца, и галла, и германца, и грека из Эллады, и еврея, и сирийца, и египтянина, и жителей жаркой Месопотамии и Аравии.
Город имел прекрасный обширный театр, устроенный на склоне Корреса, ристалище[37] для состязания в беге, многочисленные портики и термы[38].
Но что особенно украшало Ефес, что составляло его славу и гордость, это великолепный храм Артемиды Дианы. Расположен он был за городом, к северо-востоку. Путник, подплывая к гавани, мог видеть это дивное сооружение, которое изливало на далекое пространство лучи, подобно звезде. Храм имел в длину 130 метров, в ширину 70 и был окружен ста двадцатью восемью колоннами из Парийского мрамора, вышиной в десять сажен. На его фронтоне[39] и метопах[40] были замечательно-художественные барельефы из мифологии; такие же барельефы и рисунки необыкновенной красоты украшали и основания колонн.
Храм поражал своей обширностью и великолепием. Это было чудо архитектуры, привлекавшее путников со всех сторон мира. Лестница, ведущая на крышу, была, по преданию, сделана из одной виноградной лозы.
Великолепен был наружный вид. Но поражала богатством и внутренность храма. Произведения знаменитых греческих скульпторов: Φидия, Поликтета и Праксителя украшали храм. Крыши поддерживали массивные колонны из яшмы. Колонны были увешаны драгоценными приношениями молящихся. Глаз поражался от обилия золота, серебра, драгоценных камней, разноцветных материй и ковров, украшавших стены и колонны.
На одном конце храма стоял большой жертвенник, за ним висела пурпуровая завеса, скрывавшая собой статую богини Дианы, или, как ее называли в Ефесе, Артемиды. Это не было изящное произведение искусства, способное очаровать зрителя. Артемида Ефесская представляла из себя огромную запеленатую женщину с несколькими чудовищными грудями — символом плодородия и производительной силы. В одной руке она держала трезубец, в другой шар. Этот идол отталкивал своим безобразием и неприличием.
При храме состоял целый штат жрецов «мегабизов», во главе с начальником «эссеном», и жриц дев, называвшихся «мелиссами». У храма были обширные поместья и рыбные ловли, дававшие жреческому персоналу хороший доход. За статуей Артемиды находилась священная комната, куда мог укрыться всякий преступник и где он мог считать себя в безопасности. Жители Ефеса очень чтили свою богиню, как покровительницу города.
Окончив статую Дианы, Димитрий поспешил принести ее в дар храму, согласно своему обещанию. Нужно было также совершить благодарственное жертвоприношение по случаю взятия Аристогеном приза в беге.
Шествие в храм назначено было под вечер, когда спадет жар. С утра начались хлопоты. Димитрий выбрал жертвенных животных, распорядился взять лучшего фимиама и других благовонных смол.
— Аристоген, ты сегодня вступишь в храм, как прославивший себя герой, — обратился к сыну Димитрий.
— Надень свою лучшую одежду, держись с достоинством, и пусть ефесяне увидят, что награда тобой вполне заслужена. Ты сегодня воскуришь фимиам перед богиней. Да будет тебе успех!
— Отец мой, моя слава — твоя. И если я увенчан лаврами, то всецело этому обязан лишь тебе, — скромно проговорил Аристоген.
Димитрий прижал к себе голову юноши.
— Молись великой Артемиде, чтобы она дала тебе счастье, — слегка дрогнувшим голосом произнес он. — Скажу тебе, что наше дело за последнее время пошатнулось, благодаря распространению нового восточного учения. Молись богине, чтобы она не отвратила своего лица от Ефеса. Гибель богини — и наша гибель.
— Я буду молиться, — тихо ответил юноша.
В храм отправилось все семейство, украсив себя лучшей праздничной одеждой. Впереди, на особой колеснице, везли статую, скрытую от любопытных взоров красивым узорчатым покровом. Лошадей вели под уздцы два фригийца* (*древний народ — ред.). За статуей следовал в другой колеснице на двух колесах Аристоген с Калликратом, далее Димитрий с Дорионом. Ксанфа и Ариадна следовали на носилках и, наконец, за ними вели жертвенных животных, убранных цветами и зеленью. Процессия медленно продвигалась по узким улицам, по которым сновали люди всевозможных национальностей.
После нескольких невольных остановок по причине многолюдства, процессия достигла, наконец, храма.
Поднявшись по ступеням, Димитрий с семейством вошел в храм. В нем царила торжественная тишина. Даже жрецы ходили тихо, осторожно, едва прикасаясь к полу своими мягкими сандалиями, точно боясь нарушить покой богини. Следом за Димитрием рабы внесли на особых носилках и статую. Эссен был уже заранее предупрежден и торжественно встретил Димитрия вместе с другими жрецами.
Скульптор сделал приветствие эссену и заговорил:
— Великий Демофон, служитель священнейшей Артемиды! Год тому назад дочь моя Ариадна, которую ты сейчас видишь перед собой, была серьезно больна. A уже отчаялся в ее спасении и думал, что она умрет. В это время я дал обещание поднести в дар богине статую, если дочь моя выздоровеет. И богиня услышала наши родительские мольбы: дочь выздоровела. Теперь я исполняю свое обещание. Вот статуя моей работы для храма великой Артемиды. Сознаюсь, это ничтожный подарок для богини, но прошу тебя: прими его благосклонно.
Он дал знак рукой. Рабы моментально освободили статую от покрова. Среди жрецов пробежал одобрительный шепот. Демофон глазом знатока окинул статую, и в глазах его сверкнул довольный огонек.
— От имени великой Артемиды выражаю тебе благодарность, — отвечал он, — и молю богиню, чтобы она даровала тебе совершенное благополучие.
— Да будет так, — отвечал Димитрий, — а теперь прошу тебя вознести благодарственные молитвы богине о спасении моей дочери. Вот и сын мой Аристоген, удостоившийся награды на великих Панафинеях, тоже желает возблагодарить великую богиню.
— Ваше желание исполнено.
Эссен распорядился ввести жертвенных животных, которых обмыли с известными церемониями. Все подошли к жертвеннику. На него положили сначала маленькую овцу. Бедное животное не сопротивлялось и, связанное по ногам, безмолвно ожидало конца. Ближе всех к жертвеннику встал Аристоген; эссен поместился вместе с прочими жрецами.
За жертвенником на особом алтаре горел священный огонь. Эссен дал знак рукой, и огромная, пурпуровая занавесь медленно отошла в сторону, открывая статую Артемиды. Жутко было смотреть на этого гигантского идола, вооруженного трезубцем. Особенно он мог вселить неописуемый ужас в сумерки, когда лишь слабо вспыхивал на алтаре огонек.
В это самое время из-за статуи вышла главная жрица Xиония с ножом в руке. Аристоген поднял на нее свой взор и на несколько мгновений застыл на месте от восторга и изумления. Он смотрел и не верил своим глазам; ему казалось, что сама богиня красоты Афродита, приняв человеческий образ, явилась сюда во всей своей небесной красоте. Такой красавицы он никогда не видал. Что-то чарующее таилось в ее взоре, от которого можно было забыть на свете решительно все. Статная, высокая, с гордо поднятой головой, с большими, выразительными, великолепными глазами, с распущенными волосами, поверх которых блестела повязка, усыпанная крупными рубинами и аметистами, — она была неописуемо хороша. Сердце юноши невольно замерло.
«Это сама богиня», — промелькнуло у него.
А когда жрица кинула взор на Аристогена, то на щеках ее вдруг вспыхнул яркий румянец. Ресницы слегка дрогнули. Но это продолжалось всего лишь одно мгновение. Xиония овладела собой и твердо подошла к жертвеннику. Следом за ней вышли и другие жрицы.
— Кто ты, юноша? — торжественно обратилась она к Аристогену.
— Я Аристоген, сын скульптора Димитрия.
— Зачем ты пришел в этот храм, к великой богине Артемиде? Что привело тебя сюда?
— Меня привело желание воздать благодарение богине за мою победу на ристалище во время Великих Панафиней.
— Иди и благодари. Вот фимиам. Воскури им перед богиней.
Юноша взял горсть фимиама и бросил его в огонь. Пламя слегка вспыхнуло. К потолку взвились клубы дыма. Жрецы следили за ними, стараясь узнать по ним: угодна ли жертва богине. Вероятно, клубы дали благоприятное показание, потому что Демофон одобрительно кивнул головой. Xиония подняла руки к статуе и громко, слегка взволнованным голосом заговорила:
— О, великая богиня Артемида! Прими милостиво эту благодарственную жертву. Дай приносящим ее счастье, благополучие и избавление от врагов. Пусть не коснется их никакое зло! Да минует их болезнь и скорбь. О, Артемида, мы все смиренно просим тебя о том! И дай им чаще приносить тебе жертвы. Хвала тебе! Хвала, покровительница славного Ефеса!
Затем Аристоген бросил в огонь несколько волос, вырванных у овцы, а Xиония подала эссену нож.
Главный жрец ударил овцу в шею. Кровь обагрила жертвенник и побежала по желобу. Овца вздохнула, вздрогнула и осталась неподвижна. Тогда подошли жрецы, разрезали овцу на части и начали рассматривать внутренности, опять-таки стараясь по их расположению угадать, приятна или нет жертва богине.
Xиония отошла немного в сторону и бросила на Аристогена незаметный, пытливый взгляд.
«Он изящен и красив, как сам Аполлон», — подумала она. Затем, подняв глаза на Артемиду, прошептала:
— Хвала тебе, великая богиня! Теперь я знаю того, кто заставил встрепенуться мое сердце. Ты услышала мою просьбу. Ты не отвергла меня.
Заколоты были и другие животные. Жрецы занялись жареньем мяса, — церемонией, которая считалась священной. Это жаренье производилось в другом помещении храма. После окончания всех церемоний жрецы рассматривали статую, которую принес в жертву Димитрий, и восторгались ее художественной отделкой.
— Да, это будет одно из лучших украшений нашего храма, — говорили они.
И они наметили место, куда поставить статую.
Xиония, прежде чем удалиться из храма, еще раз бросила на Аристогена жгучий взгляд, который он заметил и от которого трепетно забилось его сердце.
«Как она хороша! Сама Афродита едва ли была бы прекраснее, если бы явилась на землю. Как она восхитительна!». Он ушел из храма, унося с собой образ красавицы-жрицы.
IV
— Опять проиграл, Аристоген? Нет, ты сегодня положительно рассеян! Просто не понимаю тебя! Хочешь продолжить игру?
— Хорошо.
— Но только, пожалуйста, будь внимательнее.
— Постараюсь.
Ариадна смешала кости, и партия началась снова[41]. Но Аристоген был, видимо, далек от игры и клал косточки рассеянно. Это не ускользнуло от внимания сестры.
— Не хочу играть больше, — капризно проговорила она, отталкивая кости, — ты намеренно поддаешься мне.
— Ничуть.
— Но, однако, ты проиграл?
— Не все же мне выигрывать. Ты просто становишься опытнее в игре, вот и вся разгадка.
— Это неправда. Ну, скажи мне, Аристоген, почему ты за последнее время стал какой-то задумчивый. Какая причина? Я желала бы узнать.
— Ты ошибаешься, милая сестрица. Мне нет причины быть задумчивым.
— А вот и неправда. Даю слово, что ты меня обманываешь. По глазам вижу, ты что-то скрываешь.
— Еще раз повторяю тебе, сестра, что твои подозрения совершенно напрасны.
Он встал и прошелся по беседке, стараясь подавить охватившее его волнение. Щеки чуть-чуть загорелись румянцем.
— Ну если ты сегодня так несчастлив в кости, то давай играть в мяч. Хорошо? Или ты теперь, как победитель на Панафинеях, считаешь за унижение для себя играть с девчонкой, не правда ли?
— Глупенькая моя! Не говори того, чего не следует.
Кидай мяч.
Молодые люди вышли на аллею и занялись мячом. Они так увлеклись игрой, что не заметили отца, который с грустью наблюдал за ними из-за кустов олеандра.
«Милые мои, вы резвитесь и не подозреваете, что мы находимся, быть может, на краю разорения. Что ожидает вас? Мое время близится к старости, а ваша жизнь еще впереди». Он бросил на детей нежный, печальный взгляд и тихо удалился, не желая прерывать игру.
Ариадна раскраснелась от оживления и бега, волосы ее растрепались, а с уст не сходил веселый, серебристый смех. И Аристогену невольно передалось ее веселье.
— Ну, наконец-то ты играешь, как следует! Рада за тебя… А то ходил такой задумчивый. Лови же мяч! Вот и прозевал! Моя партия… A победила! Эх ты, герой Панафиней!
Ариадна от радости захлопала руками, бросилась на скамью и стала оправлять растрепавшиеся волосы.
— Как ты, сестра, прелестна! — невольно сорвалось у Аристогена при виде оживленного личика девушки.
— И ошибаешься! Ничего во мне хорошего нет. А вот когда мы были в храме Артемиды, ты обратил внимание на главную жрицу, которая задавала тебе вопросы?
— Почти никакого, — с замешательством ответил Аристоген, отворачиваясь от сестры.
— Напрасно. Вот она действительно красавица, а я перед ней настоящая дурнушка. Ах, таких красавиц редко можно найти! Когда ты будешь в следующий раз в храме, то непременно обрати внимание на эту жрицу.
Если бы Ариадна хотя немного угадывала сердечную тайну брата, она не предложила бы ему этого вопроса. Девушка и не подозревала, что образ жрицы днем и ночью преследует Аристогена и не дает ему покоя. Она не знала, какие нравственные пытки переживает брат за последнее время.
— Ты не утомился, Аристоген?
— А что такое?
— Мне хотелось бы еще сыграть партию в мяч.
— Ну, хорошо. Разве можно утомиться в такую ребячью игру? Ты пробеги вот на ристалище круга два или три, тогда еще может быть вопрос об утомлении.
— Держи! — крикнула девушка, бросая мяч.
В это время из-за кустов вышел Дорион и улыбнулся при виде играющих. Ариадна, заметив улыбку, проговорила:
— Чем смеяться, присоединись к нам. Ты из города?
— Да.
— Ну, рассказывай, что там новенького.
— Новенького? Да очень многое…
— А именно?
— Вся агора[42] полна народа.
— Почему? Что случилось?
— О, случилось замечательное событие. Никогда еще наш Ефес не видел ничего подобного.
— Говори скорей, в чем дело? — заинтересовалась молодая девушка, оставив игру.
— Все наши заклинатели и чародеи несут на площадь свои книги и пергаменты, чтобы их сжечь.
— Сжечь? — с изумлением вскричала Ариадна. — Зачем же сжечь? Ведь эти книги имеют большую ценность и по ним произносятся разные заклинания!
— Это правда. Но всему виной Павел из Тарса.
— Павел? Что это за удивительный человек… Непременно надо на него взглянуть. Ну, при чем же он?
— Благодаря учению Павла, люди эти пришли к убеждению, что все их книги заключают в себе одну лишь ложь, обман, и решили поэтому предать их огню.
— Значит, эти люди христиане?
— Вероятно, христиане.
— И много принесли книг?
— Да, порядочно. Впрочем, я на агоре долго не останавливался; узнал лишь, в чем дело, и направился домой. Не стану же я глазеть на этих глупцов с праздными зеваками.
— Какой ты нелюбопытный. А знаете, что, идемте на агору? Это очень интересно. Дорион, голубчик, идем. И ты, Аристоген, надеюсь, от нас не отстанешь?
— Я не пойду, потому что ничего не нахожу там интересного, — отозвался Дорион.
— Милый брат, если ты не находишь, то я нахожу. Пойдем. Нам с тобой будет веселее. Ты такой сильный и, в случае надобности, очистишь для меня дорогу.
Она как кошечка приласкалась к брату, и тот принужден был уступить.
— Ну, хорошо. Идем. С тобой не сладишь, — махнул он рукой.
Ариадна взяла у матери разрешение, набросила на плечи калиптру[43], взяла в руки веер в форме лотоса и в сопровождении братьев вышла из дома. Ввиду наступления вечера на улицах царило большое оживление. Гуляли и сновали вокруг люди всех национальностей. Но было заметно, что большинство направлялось к агоре.
Когда Ариадна с братьями вошла на агору, то увидела здесь сплошное море человеческих голов. Тысячная толпа шумела и гудела на все лады. При помощи братьев, особенно могучего Дориона, молодая девушка протискивалась вперед, почти к самому центру площади. Здесь было расставлено несколько больших деревянных столов. На них лежали рукописи разных объемов и форматов. Два человека сидели около столов и что-то записывали.
— Что же они пишут? — спросила удивленно Ариадна.
Стоявший рядом грек-старичок поспешил удовлетворить любопытство девушки.
— Они высчитывают всю ценность рукописей.
— А интересно, на сколько они сожгут? — желчно заметил Дорион.
Ждать пришлось недолго. Оказалось, что общая стоимость всех рукописей, предназначенных для сожжения, равнялась пятидесяти тысячам драхм[44]. Когда вычисления были окончены, все рукописи сложили на землю и подожгли.
Пламя ярким снопом взвилось кверху и вмиг охватило все рукописи и книги.
Толпа внимательно наблюдала и делилась впечатлениями. Многие выражали сожаление по поводу гибели такого множества рукописей[45].
— Пятьдесят тысяч драхм! Клянусь Артемидой, цифра почтенная! — крикнул кто-то.
— А посмотрите, как быстро горит. Через десять минут ничего не останется! — слышалось в другой стороне.
— Ну, еще бы: пергамент — не камень.
Ариадна с любопытством наблюдала эту необычайную картину. Но внимание ее вдруг было привлечено чьими-то громкими поблизости возгласами.
— Я сам видел этих заклинателей, уверяю тебя, — с жаром говорил один голос.
— Да неужели?
— Не лгать же буду! Этот случай наделал много шума.
— Ты говоришь, что эти заклинатели — сыновья иудейского первосвященника Скевы?
— Да, Скевы. Поразительный случай! Не желал бы я быть на их месте.
Ариадна оглянулась. Недалеко от нее стоял грек и рассказывал что-то своим слушателям, сильно жестикулируя руками. Многие тоже обернулись к нему и внимательно прислушались.
— Ну, дальше, дальше, — заторопил его сосед.
— Чему же ты удивляешься? Да ведь это событие известно всему Ефесу. Неужели ты о нем не слыхал? И если ты не был в то время здесь, то никто в этом не виноват. Дело в следующем: два сына этого Скевы вздумали изгонять злых духов из людей. Они говорили: «Заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует». И знаете, что ответил им однажды бесноватый?
— Что же?
— Он сказал: «Иисуса знаю и Павел мне известен, а вы кто?» После этих слов бесноватый бросился на них, разорвал на них одежды и жестоко их избил. Кое-как они вырвались от него[46]. И вот этот случай произвел большое впечатление на наших заклинателей. Без него мы, быть может, долго бы еще не видали этого костра.
Ариадна, проводившая почти все время в своем гинекее[47], ничего не слыхала об этом событии и была сильно удивлена слышанным. Личность апостола Павла вдруг приобрела для нее недосягаемую высоту и величие. Она почувствовала перед ним почти какое-то благоговение, хотя и не видала его. Но было ясно одно: этот человек далеко не заурядный и имел огромное влияние на человеческие сердца, если все эти заклинатели сознались в своих заблуждениях и порешили даже сжечь свои книги, лишив себя тем дохода.
— Аристоген, ты ничего не слышал о Скеве? — шепнула она брату.
— Не забывай, сестра, что я был в Афинах.
— Ах, прости, я и не сообразила. А ты, Дорион?
— Что такое? — встрепенулся тот.
До сих пор он внимательно наблюдал за сожжением книг, и в глазах его сверкал мрачный огонек.
«Это оскорбление богини, — думал он, — это грозное предостережение и для нас. Не сгорит ли и наше благосостояние так же, как горят эти рукописи?»
Погруженный в свои тревожные соображения, он не услышал ни разговора о Скеве, ни вопроса сестры.
— О чем спрашиваешь ты?
— Ты ничего не слыхал о сынах Скевы, которых избил один бесноватый?
Дорион провел рукой по волосам и нехотя ответил:
— Право, не помню. Как будто слышал. Вероятно, у цирюльника Кефала. Впрочем, меня мало интересуют все эти суеверия. A всегда предпочту им молот и наковальню.
— Это мне хорошо известно, — надула губки молодая девушка.
Рукописи скоро сгорели, и на их месте оказалась лишь куча пепла, свидетельствовавшая о гибели «ефесских письмен». Ни одного сожаления не вырвалось у их владельцев. Напротив, на их лицах Ариадна прочла, скорее, чувство довольства и радости.
— Аристоген, пора обратно.
— Пойдемте.
— Они хотели, было, уже повернуть, как вдруг их внимание привлек какой-то человек, быстро взобравшийся на один из столов.
— Граждане Ефесские, выслушайте меня! — громко вскричал он.
Толпа затихла и устремила на говорившего свои взоры. Это был мужчина лет около сорока с необыкновенно умным, выразительным, энергичным лицом. Глаза его горели огнем вдохновения. Толпа невольно залюбовалась незнакомцем. Пробежал одобрительный шепот.
— Граждане Ефесские, внимайте мне! Ни одно слово лжи не выйдет из уст моих! Настало время спасения. Человечество целые тысячелетия ждало своего Избавителя. И вот, этот Избавитель явился на земле. Язычеству приходит конец. Как сгорели эти рукописи, так же погибнет язычество с его лживыми богами. Верьте Единому Истинному Богу и Спасителю Нашему Иисусу Христу!
— Он христианин, — пронеслось кругом.
— Не Павел ли это? — спросила Ариадна, восхищенная благородной фигурой незнакомца.
— Это Аполлос, — послышались одобрительные восклицания кругом.
— Какой Аполлос?
— Ученик Павла.
— Не верьте своим лживым богам. Разве могут называться богами те статуи, которые выделываются руками человеческими? — продолжал греметь проповедник.
— О, граждане Ефеса! Обратите сердца ваши к Богу Истинному, Богу Вечному и Единому, Творцу всей вселенной. Он создал и нас, и мир. Все от Него. Ему благодарение и слава, и поклонение… Обратитесь к Искупителю и Спасителю мира, Иисусу Христу. И Он даст вам Свое Вечное Царство. В Его Царстве не будет скорбей, болезней и смерти, там будет блаженство вечное. Верьте мне, великий Свет воссиял миру из Иерусалима. Идите к Этому Свету. И не страшна вам будет тьма. Гибнет язычество… Восходит Солнце Правды! Скоро, скоро сокрушатся все ваши боги!.. И да царствует над всеми и во всех Христос! Обратитесь же к Нему, и вы найдете покой душам вашим. Вы найдете смысл и цель жизни на земле.
Аполлос весь горел огнем божественного вдохновения. Голос его звучал громко, отчетливо. Нельзя было не залюбоваться им. Ариадна, затаив дыхание, не сводила с него глаз. Аристоген тоже внимательно слушал проповедника.
«Как он говорит искренно!», — подумал юноша.
Взглянув на Дориона, Аристоген крайне изумился его видом. Брат был смертельно бледен. Лицо его исказилось неуправляемой злобой. Еще мгновение и он кинулся вперед, сжав кулаки.
— Замолчи! Ты хулишь великую богиню Артемиду. Замолчи!.. Или, клянусь Зевсом, тебе придется посчитаться с моим кулаком. Слышишь?
— Ты мне не страшен, — возразил спокойно Аполлос. — За Христа, моего Спасителя и Искупителя, я готов и пострадать.
— Дорион, что ты делаешь? — бросилась молодая девушка к брату. — Опомнись! Пойдем скорее домой.
Ариадна была страшно перепугана выходкой брата, и вся дрожала, как в бурю.
— Граждане ефесские! — продолжал Дорион, не слушая сестры. — Этот человек хулит вашу богиню, которую почитает вся Азия. И неужели мы не заступимся за нее? Неужели позволим оскорблять великую Артемиду!
— Велика Артемида Ефесская! — пронеслось кругом.
— Да царствует Xристос! — повторили за ним христиане.
Поднялся невообразимый шум и смятение. Аполлос, во избежание побоища, быстро соскочил на землю и скрылся среди своих приверженцев. Дорион же вернулся к сестре и брату, крайне озлобленный.
— Надо бы проучить этого проповедника!..
— Милый брат, зачем затевать такую ссору? Ведь дело могло кончиться для тебя очень плохо, — лепетала Ариадна, увлекая брата за руку.
— Но это наш враг. Знаешь ли ты, что «благодаря» этому восточному учению, наше семейное дело на краю гибели и разорения!
— Дорион… — с упреком произнес Аристоген.
— Да, именно на краю гибели. Пусть сестра знает правду. И все «благодаря» этому Павлу. Она не девочка. Надо смело смотреть в глаза опасности, — проворчал Дорион, направляясь вперед.
Аристоген с Ариадной задумчиво шли следом за ним. Когда Дорион ушел немного вперед, Ариадна тихо спросила брата:
— Скажи мне, Аристоген, мы действительно на пути к разорению?
Юноша печально опустил голову.
— Быть может.
— И причина вся в христианах?
— Отец уверяет, что в них. Сбыт наших произведений уменьшился. А в будущем он, вероятно, и еще сократится, потому что христианство распространяется не только в Ефесе, но и по всей Азии. Но ты не бойся. Я молод, трудолюбив, недурно знаю лепку и всегда разделю с тобой последний кусок.
— Милый брат, благодарю тебя, — со слезами на глазах отвечала молодая девушка, тронутая словами юноши.
V
Аристоген был юноша вдумчивый, серьезный, начитанный. Он получил хорошее воспитание и образование. Димитрий не жалел денег и нанимал лучших учителей для Ариадны и младшего сына. Дорион не льнул к науке. То был человек практического ума: он не любил сидеть за пергаментами, предпочитал мастерскую.
Но Аристоген не походил на брата в этом отношении. Он много читал, размышлял и был гораздо образованнее брата; знал хорошо греческих поэтов, философов и писателей. Особенно он ценил и увлекался идеалистической философией Платона. Для него она имела какое-то особенное значение и высоту. Любил он задумываться над вечными, животрепещущими вопросами бытия и в этом отношении склонялся к тем философам, которые признавали дух и бессмертие. Вот почему он живо заинтересовался появлением христианства в Ефесе и пожелал познакомиться с ним ближе. Он не смотрел на это учение, подобно отцу и брату, с точки зрения благополучия, а желал лишь беспристрастно узнать суть учения. Сожжение рукописей и рассказ о сыновьях Скевы побудили его скорее узнать, что такое представляло из себя христианство. Всегда рисовался его воображению вдохновенный Аполлос с поднятыми руками. Конечно, о своих намерениях юноша не сказал ни отцу, ни брату, но открылся сестре, с которой у него были самые задушевные, наилучшие отношения.
— Ты хочешь идти в училище Тиранна и послушать этого Павла? — с удивлением спросила Ариадна.
— Непременно. Я сделаю это на днях.
— А если узнает отец? Ты можешь встретиться с большими неприятностями.
Аристоген пожал плечами.
— Знание для меня всегда дорого. Оно-то и побуждает меня идти в училище Тиранна. Что же тут странного? Вот если Павел сумеет меня убедить в истине своего учения, и я приму его, тогда отец будет иметь основание меня упрекать.
— О, да сохранит тебя от этого сама великая Артемида! — в испуге вскричала девушка.
Аристоген невольно рассмеялся.
— Чем же я тебя огорчил, милая сестрица?
— Как ты спокойно, Аристоген, рассуждаешь о таких вещах! Павел и христиане — заклятые враги отца, и если ты примкнешь к ним, то…
— И я буду враг?
— Ну, конечно.
— А ты сочла бы меня своим врагом?
— Я? О, нет… Ты для меня всегда останешься самым дорогим на свете. Меня не интересует, как ты веришь и во что. Мне только нужно, чтобы ты меня всегда любил.
— Как ты хорошо сказала, милая Ариадна! Он поцеловал сестру в лоб.
— A и не могу ничего дурного говорить о христианах, — продолжала молодая девушка, — быть может, их учение и хорошее. Ведь отец не любит его потому лишь, что они подрывают его ремесло.
— Ты права.
— Ну, вот. А если бы христианство не стояло нам поперек дороги, то весьма возможно, что отец и сам бы одобрил его.
— Совершенно верно. Сначала надо узнать о христианах всю правду, а тогда уже и произносить над ними тот или иной приговор. Вот на этих днях я и узнаю правду.
— И конечно, скажешь мне свои впечатления?
— Разумеется.
— С нетерпением буду ждать.
Аристоген обставил свое посещение училища Тиранна с большими предостережениями. Он заблаговременно Павел справки и узнал, что проповедь начинается с наступлением прохлады, когда все дневные работы бывают уже окончены. Аристоген запасся, на всякий случай, небольшим мечом, имея в виду, что придется возвращаться ночью, набросил на себя скромный, простой гиматион и направился к училищу Тиранна.
Дом этого софиста находился почти в самом центре города и был в два этажа. В верхнем жил сам хозяин, нижний представлял из себя длинную комнату, всю устланную циновками и уставленную рядами низких скамеек. У одной стены помещался стол с высоким креслом. Стены были выбелены, и только на одной, именно за кафедрой, была написана четко, красиво знаменитая фраза Сократа: «Познай самого себя».
Здесь-то и проповедовал апостол Павел более двух лет, после того как был вынужден оставить проповедь в синагоге, вследствие иудейской озлобленности и опасного коварства[48].
Аристоген вошел в прихожую, где его встретил привратник.
— Можно пройти в училище?
— Ты хочешь послушать Павла Тарсянина?
— Да.
— Иди. Вход для всех открыт.
— Проповедь еще не началась?
— Нет. Но Павел уже пришел и находится у моего господина. Еще немного и ты опоздал бы. Поспеши занять место, иначе тебе придется стоять на ногах.
Юноша вошел в комнату и окинул быстрым взглядом собравшихся. Здесь была самая разнообразная публика и по состоянию, и по национальности, но преобладали, главным образом, греки.
Почти все места были заняты и Аристоген не без труда отыскал себе одно сиденье в задних рядах. Собравшиеся громко разговаривали, шумели, спорили. Стоял смешанный гул голосов. Но Аристоген почти не обратил внимания на публику: он с большим нетерпением ожидал того, чьи речи всколыхнули всю Азию и заставили верить в другого, неведомого, невидимого Бога.
Ждать пришлось недолго.
— Идет, идет, — пронеслось кругом.
Гул мгновенно стих. Аристоген быстро обернулся к двери. В комнату вошел человек среднего роста, с небольшой залысиной, не портившей, впрочем, нисколько его лица. Но вид этого человека был необыкновенно привлекателен… Огнем божественной ревности горели его глаза. На лице его отражены были необычное воодушевление и светлая энергия.
Аристоген весь встрепенулся. Его как-то сразу, мгновенно, повлекло к этому человеку. Видимо, ему дано было покорять человеческие сердца. В комнате настала полная тишина; взоры всех были обращены на проповедника. Апостол прошел к кафедре.
— Братие мои возлюбленные! — громко провозгласил он. — Благодать вам и мир от Бога и Господа моего Иисуса Христа. Благодарю Спасителя моего, давшего мне возможность и силу благовествовать вам слово спасения. Горю желанием, чтобы все, здесь собравшиеся, пришли к познанию истины, обратились ко Господу Иисусу Христу и крестились во Имя Его. Приблизилось к нам Царство Небесное. Я возвещаю вам великую радость, которой возрадуется все человечество.
Аристоген с изумлением смотрел на вдохновенного проповедника. Никогда ему не приходилось слышать человека, говорившего так величественно, властно, но в то же время так мягко и задушевно. Что-то непостижимо привлекающее было в его голосе. Юноша весь превратился в слух и внимание. И полилась горячая, вдохновенная проповедь апостола о Христе. Много говорил великий апостол Павел об упадке нравов, о необходимости начать новую жизнь, которая вполне соответствовала бы человеческому достоинству. Но, как начать новую жизнь? Где найти твердые к тому побуждения? Кто возвестит истину, в которую уверовали бы люди: и эллин, и иудей, и варвар, и скиф. Xристос — вот Тот, Который пришел на землю, чтобы возвестить эту истину, Xристос — вот примиритель Бога с людьми, Своей кровью избавивший человечество от векового зла и даровавший Небесное Царство. С этих пор все люди — братья, все — сыны Одного Небесного Отца. Перед ними лежит великая цель.
Апостол говорил увлекательно, живо и наглядно. Речь его лилась непринужденно, непрерывно. Видимо, он весь отдался проповеди, весь ушел в нее. На его щеках играл легкий румянец, лицо одухотворилось, преобразилось, глаза горели с какой-то особой силой, свойственной только человеку, имеющему общение с Богом, имеющему в себе чрезвычайные благодатные дарования.
«Так вот он, этот Павел Тарсянин, знаменитый христианский проповедник!» — думал Аристоген, не сводя глаз с великого апостола.
Два часа проповеди пролетели быстро, незаметно. Хотелось еще слушать этого дивного проповедника, но апостол закончил свою речь.
— Идите с миром, братья! И да будет на вас благословение Господа Иисуса Христа. Молю Бога моего, чтобы слышанное вами запало в ваши сердца и принесло свой плод. Мир вам! — заключил апостол, благословляя собрание.
Все разом зашумели, поднялись и направились к выходу. Кто-то остановил апостола и предложил вопрос.
Великий апостол ласково, приветливо отвечал интересующемуся. Аристоген протиснулся к апостолу.
— Как много ты сказал для меня нового, непонятного! — вырвалось у юноши.
— Для всякого язычника, сын мой, учение мое ново и непонятно, — отвечал ему апостол, — но если ты узнаешь его, познакомишься с ним основательно, то не вернешься уже к своим ложным богам. Ты увидишь тогда, что ходил во тьме, увидишь, в каком находился страшном заблуждении. И я был некогда враг Христа, но милостью Искупителя моего теперь я, хотя и последний, но апостол Его и рад за Спасителя моего потерпеть все.
— Как же ты был враг его? Как же обратился? Ах, если бы мне знать!
— Слушай же. Да, я был враг Христа и гнал церковь Божию. Я — иудей, воспитанный в строгом фарисейском учении, и для меня казалось учение Христа страшным богохульством, оскорблявшим и разрушавшим весь закон Моисея. Я одобрял убиение учеников Христа. Я присутствовал при казни первого христианина Стефана и стерег одежды побивавших этого святого человека[49].
Апостол на секунду замолчал. В глазах его вдруг вспыхнула грусть при воспоминании о том печальном событии, в котором он, по незнанию еще величия христианства, принимал деятельное участие.
— Но, не оставил меня Господь во тьме. Я взял в Иерусалиме письма к Дамасским старейшинам, чтобы и там, в этом отдаленном городе, гнать Церковь Христову. Но Господь не допустил до этого. Недалеко от Дамаска
среди яркого дня вдруг осенил меня великий свет с неба. Я упал и услышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?». Я спросил: «Кто Ты, Господи?». А голос отвечал: «Я — Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна!». «Что же мне делать?» — опять в страхе спросил я. «Иди на улицу прямую, там есть ученик Анания, он скажет, что тебе делать», — был мне ответ. От великого света я потерял зрение, и меня привели в Дамаск. И вот Анания крестил меня, и я прозрел. Да, я прозрел не только телесными очами, но и духовными. Я уверовал в Спасителя и Бога моего, и во славу имени Его тружусь уже не один десяток лет и желаю потрудиться даже до смерти.
Рассказ апостола об обращении произвел потрясающее впечатление на вдумчивого, серьезного Аристогена. По его телу невольно пробежал благоговейный трепет.
«Но, однако, как ново Его учение! — думал Аристоген, возвращаясь домой. — Ничего подобного я раньше не слыхал. Какая великая мысль об искуплении всего человечества! Везде и кругом зло — это истина. Где же его начало и конец? Куда должен стремиться человек? Какое отношение имеет к нам божество? И вот Павел все эти вопросы разрешает так легко и, главное, ясно».
Проповедь апостола сильно поразила Аристогена. Перед ним точно раскрылся новый горизонт, из-за которого занялась новая лучезарная заря, предвещающая восход яркого солнца.
Утром он поделился с сестрой своими впечатлениями.
— Ну, расскажи, что ты слышал? Интересно?
— И интересно, и очень ново.
— Говорил он увлекательно?
— Большего воодушевления нельзя и требовать.
— Что же он проповедовал? Я желаю, чтобы ты рассказал мне, насколько возможно, подробнее.
— С удовольствием удовлетворю твое любопытство, сестра.
И Аристоген передал содержание проповеди, насколько запомнил сам.
— Он говорил, что все люди — братья?
— Да, смысл его учения таков.
— И варвар — брат, и какая-нибудь эфиоплянка мне сестра? — с недоумением переспросила Ариадна.
— Павел утверждает, что во Христе все равны и нет различия.
— Это очень странно.
— Сознаюсь, и для меня мало понятно. Впрочем, по его учению, это, может быть, так и выходит. Если Xристос искупил всех людей, следовательно, все и равны перед Богом. Но несмотря на то, что многое для меня непонятно, я нахожу в учении Павла что-то необыкновенно возвышенное, притягательное. А послушала бы ты, с каким он воодушевлением говорил! Ничего подобного я не видал ранее. Он весь горел огнем вдохновения. Несомненно, он глубоко убежден в истине того, о чем проповедует. И это невольно передается. Все слушали с таким необыкновенным вниманием. Стояла глубокая тишина. Многие, я в том уверен, были уже христиане.
— Ты пойдешь еще?
— Несомненно, пойду. Я решил, насколько возможно, ближе познакомиться с христианством. Ведь теперь так много приверженцев этого учения. И даже есть среди знатных ефесских граждан христиане. Но скажу тебе, как для нас ни кажется странной мысль о примирении Бога с людьми в лице Христа, но мысль эта имеет глубокий философский характер. Она мне нравится. У Платона есть кое-какие намеки на это примирение. А я, сама знаешь, хорошо изучил наших философов и поэтов.
— О, да, да, тебе бы, брат, не в мастерской работать, а открыть училище философии и красноречия, — улыбнулась сестра, нежно оглядывая своего стройного, красивого брата.
VI
Ну, держи лучше! Ты, кажется, совсем разучился работать, гадкий мальчишка!
Калликрат с силой ударил по раскаленной полосе
железа, которую держал прислуживающий мальчик. Брызнули искры. Мальчик невольно отшатнулся.
— Струсил? Эх, какой же из тебя выйдет мастер! Не лучше ли тебе идти домой и пасти гусей? Это дело будет куда веселее и приятнее. Раздувай мех! Живо!
Калликрат был положительно не в духе, и это видели все его товарищи. В такие минуты его оставляли в покое и лишь изредка кто-нибудь по делу обращался к нему с тем или иным кратким вопросом. Но каково было удивление всех служащих, когда они увидали, что главный мастер не день или два, а целые месяцы ходил задумчивый, мрачный.
— Что с тобой, Калликрат? — спросил раз Дорион.
— Ничего, — кратко ответил тот.
— Но ты такой угрюмый. Не случилась ли какая-нибудь у тебя беда?
— Все обстоит хорошо. Не беспокойся за меня, — процедил Калликрат сквозь зубы.
Несмотря на такой ответ, всем было ясно, что с главным мастером случилось какое-то несчастье. Калликрат мало разговаривал, хмурился и весь ушел в свои думы.
— А дело дрянь. Клянусь Артемидой, дрянь. Лопнули мои мечты, — со злобой думал он, стуча молотом. — И надо же было этому Павлу поселиться здесь и проповедовать какое-то новое учение! Могу ли я теперь открывать свою мастерскую, когда и у Димитрия дело трещит по всем швам. Погибло все!..
Грохот стоял в мастерской от его молота. Все видели, как Калликрат угрюм, и молча сторонились его. Кому же хотелось раньше времени отправиться к Плутону?
— Ну, на сегодняшний день довольно! Можете идти по домам, — проговорил хозяин, входя в мастерскую.
Калликрат вытер пот, каплями висевший на его темном от дыма лице.
Он умылся, надел чистый хитон, набросил на плечо темно-синий гиматион и вышел на улицу. Мрачно и задумчиво шагал он, не обращая внимания на сновавший народ. В другое время он зашел бы к общему любимцу цирюльнику Кефалу, с которым всегда можно поболтать, узнать последние новости; пожалуй, завернул бы на агору: много ли там народу, о чем говорят; быть может, сам поспорил бы и, пожалуй, пустил бы в ход свой могучий кулак. Но теперь он был озабочен своей судьбой, и ничто внешнее его не интересовало.
Калликрат миновал главные, шумные улицы и очутился в предместье города, где обыкновенно ютился рабочий люд. Пройдя еще несколько шагов, он остановился против одного небольшого дома. Его приход был замечен. Не успел он стукнуть в дверь, как на пороге появилась молодая, миловидная девушка лет около двадцати, с гладко причесанными волосами. При виде девушки лицо Калликрата несколько прояснело.
— Будь храним богами, мой Калликрат! Но я тобой недовольна, — первая заговорила она.
— Недовольна, моя крошка?
— Ну, конечно. Разве можно от невесты прятаться где-то целую неделю? Как тебе не совестно!
— Прости меня, моя славная Кириена! Но когда я поведаю тебе свои думы, ты, надеюсь, извинишь меня. Твои уважаемые родители дома?
— Отец вышел в город, а мать и брат у себя. Но я очень встревожена твоими словами. Ты хочешь сообщить мне что-то печальное?
— Пожалуй, да.
Молодая девушка слегка побледнела.
— Что случилось, милый Калликрат? — испуганно прошептала она. — Нам угрожает опасность?
— Успокойся, Кириена. Опасность есть, но не для нашей жизни. Сейчас все скажу. Нужно предварительно поздороваться с твоей матерью, а затем выйдем в садик и там побеседуем.
Калликрат вежливо приветствовал свою будущую тещу, которая также упрекнула его в продолжительном отсутствии.
— Не было совершенно времени, достопочтенная Евпраксия. За последнее время мастерская моего хозяина была завалена работой. Времени свободного совершенно не оставалось. Засиживался до глубокой ночи. Заказы были спешные. Тянуть не приходилось.
— Но теперь меньше работы?
— Да, главное уже сделано.
— Нельзя же так работать, мой славный будущий сын. Ты и так что-то заметно осунулся и похудел. Дай себе отдых. Наверное, хозяин отпустит на месяц. Ведь тобой так дорожат.
— Теперь об отпуске и думать нечего. К празднику Артемиды нужно приготовить массу медальонов и статуэток богини. Но не беспокойся, достопочтенная Евпраксия. Мое здоровье не хуже, чем у самого Геркулеса.
— Этому я охотно верю, — улыбнулась старушка. Воспользовавшись первым удобным случаем, Кириена увела жениха в сад.
— Ну, говори скорее, в чем дело? Я желаю знать все. Ничего не скрывай.
Они сели на скамью.
— Я и не хочу скрывать. Дело касается нашего общего интереса.
Он вздохнул.
— Не все строят боги так, как желаешь. А впрочем, быть может, они и бессильны, чтобы изменить нашу судьбу. Тебе известно мое горячее желание уйти от Димитрия и открыть свою мастерскую. Дело свое я хорошо знаю, здоровья хоть отбавляй. Никто и никогда не упрекнул бы меня в небрежности и неаккуратности. Словом, я постоянно мечтал о своей собственной мастерской. И хозяйкой ее желал видеть тебя.
— Это я знаю. Зачем же остановка? — спросила Кириена.
— И не за деньгами. Я скопил достаточно, чтобы открыть свое дело. Но, однако, всякую мечту о мастерской приходится теперь оставить.
— Почему?
— Причина одна: распространение в Ефесе христианства. Уж если дело моего хозяина Димитрия пошатнулось, то что же говорить о моем новом деле? Всему виной Павел. Он проповедует какого-то Нового Бога, не велит чтить нашу великую Артемиду и тем окончательно подорвал наше производство. Вот где наша главная опасность! A весь покой потерял из-за этого Павла. Сна лишился. Он погубил мою мечту. Он разоряет Димитрия и всех нас.
— Неужели же, Калликрат, это учение так распространилось, что граждане начинают забывать нашу покровительницу Артемиду?
— К сожалению, да. Ты, вероятно, не знаешь, как много здесь христиан? А я знаю, слежу за этим делом, потому что тут мой интерес. Но как бы то ни было, а мастерской у меня не будет. В высшей степени неблагоразумно открывать ее в данное время.
Калликрат замолчал. Молодая девушка была огорчена известием жениха. Она тоже свыклась с мыслью, что скоро Калликрат откроет свою мастерскую, будет сам хозяином и станет во главе самостоятельного дела, а она явится его подругой и помощницей… И вдруг такое неожиданное разочарование!
Откуда нельзя было ждать, оттуда и пришла беда. Кириена тоже почувствовала в лице апостола Павла своего врага. И тут же в ее сердце вспыхнула ненависть.
— Но я удивляюсь, Калликрат, почему ему не запретят проповедовать, если он хулит богиню Артемиду?
Калликрат мрачно махнул рукой.
— Потому и не запрещают, что не находят в его словах ничего противного власти. Помимо этого, он римский гражданин, а это много значит. Для меня плохо лишь то, что с распространением его учения уменьшилось наше производство. Вот где главная наша беда! А если бы не это, мне все равно, что бы там он ни проповедовал.
Он встал и прошелся по аллее.
— Ах, как мечтал мой отец о твоей мастерской. Сколько разговоров у нас было! Он, несомненно, будет огорчен; да и мама тоже.
— А ты, Кириена, не унывай. A зарабатываю достаточно и без мастерской, чтобы нам жить безбедно. Надеюсь, твоя любовь не уменьшится от этого.
— Конечно. Разве все наши мечты и желания осуществляются? Не все же розы!
Калликрат печально поник головой.
— Да, ты права, милая, не все розы. Но я и без своей собственной мастерской надеюсь сделать тебя счастливой. Ты веришь мне, моя Кириена?
— Вполне верю. Моя жизнь и сердце принадлежат уже давно тебе одному. И будут принадлежать до самой смерти.
— Благодарю тебя, Кириена. Твой ответ меня радует и утешает.
Он помолчал немного и тихо добавил:
— Но если только благодаря этому Павлу Тарсянину рухнет наше счастье, то…
Он запнулся.
— Что ты хочешь сказать? — тревожно спросила девушка.
Калликрат помолчал немного и отрывисто докончил:
— A убью его… Кириена ахнула.
— Калликрат, что ты хочешь сделать? Ведь ты можешь жестоко поплатиться!..
— А именно?
— Тебя разорвут на части эти христиане.
— Нужно сделать так, чтобы не разорвали. Осторожность всегда должна быть на первом плане. В этом вся суть. Что же касается меня, то я шутя могу отбиться от целого десятка. Но Павел — наш злейший враг. Благодаря ему, тает моя мечта открыть мастерскую. А сколько лет я мечтал о ней, это ты сама хорошо знаешь. День и ночь только и думал, что вот, рано или поздно, но открою свое дело, зарекомендую его, поставлю на хорошую почву. И все рухнуло. И из-за кого же? Из-за Павла. Да разве я могу это ему простить? О, никогда! Клянусь Артемидой, он жестоко поплатится!
Калликрат инстинктивно сжал кулак. В глазах его горел злобный огонек.
— Умоляю тебя, Калликрат, будь осторожен.
— Не беспокойся за меня, я не мальчишка, который действует опрометчиво.
— А если попадешься?
— Никогда.
— Однако, все может случиться…
— Только не со мной.
— Не лучше ли тебе оставить это крайне опасное намерение?
Калликрат после некоторого молчания ответил:
— Слушай, Кириена. Главная причина распространения христианства — это Павел. С каждым днем корни этого учения идут все глубже и шире. Но я знаю, если не будет этого человека, христианство лишится своего главного руководителя и проповедника. И оно, несомненно, ослабнет. А вместе с тем, возрастет по-прежнему уважение и поклонение великой Артемиде, последствием чего явится опять хороший сбыт ее изображений. Значит, тогда можно будет безбоязненно открыть свою мастерскую. О, из-за этого стоит отправить к Плутону целую сотню Павлов. Но ты, однако, Кириена, не бойся, не смущайся, а продолжай свои приготовления к свадьбе. Пусть даже у меня и не будет своей мастерской, но, призываю всех богов в свидетели, я сделаю тебя счастливой.
— Я верю этому, — улыбнулась молодая девушка.
VII
Мысль убить великого апостола Павла глубоко запала в душу Калликрата. Правда, если бы «христианство» не подорвало их производства, то, вероятно, он и не обратил бы на апостола никакого внимания. И так много было в Ефесе разных сект и религий. Но здесь страдали его материальные интересы, и этого Калликрат простить не мог.
«Да, я его отправлю к Плутону. Это будет верный шаг для поднятия нашего дела. A разом кончу тогда с главой этого суеверия», — решил окончательно Калликрат.
Он отправился в училище Тиранна, чтобы взглянуть на апостола и узнать, с кем ему придется иметь дело. Увидев человека небольшого роста, слегка сгорбленного, с лысиной, он даже усмехнулся про себя.
— Таких, как этот Павел, я десять отправлю в преисподнюю за один прием.
Он не стал откладывать задуманного дела.
Однажды поздним вечером Калликрат отправился в ту часть города, где жил апостол, спрятав под своим плащом короткий, широкий кинжал.
Великий апостол жил в еврейском квартале и занимался выделкой палаток[50]. Ефес в древности славился своими палатками и производил их в большом количестве. Вместе с апостолом Павлом трудились другие христиане, между которыми были наиболее известны Акилла с Прискиллой, пришедшие сюда из Коринфа. Здесь, около апостола, сосредоточивалась вся Ефесская церковь, имея его своим ближайшим руководителем и главой.
Апостол трудами рук своих добывал хлеб себе и своим присным, не переставая в то же время проповедовать о Христе. Трогательная и величественная была картина, когда апостол Павел сидел под крытой галереей с работой в руках, как простой ремесленник, а около него, тоже с работой, размещались ученики. И с уст его «текли реки воды живой». То тихо, плавно, то с энергией, с энтузиазмом раздавались его речи среди безмолвных слушателей. Бедная обстановка, простые одежды, отсутствие золота, серебра, пурпура, виссона, благоуханий востока… А между тем, здесь было то, что выше всех сокровищ мира, здесь царила во всей полноте Истина, скрытая от мудрецов древности, здесь было море благодати, откуда черпали и физические и нравственные силы тысячи людей, а теперь продолжают черпать сотни миллионов.
Вот сюда-то, к этому великому месту, и направился Калликрат, сгорая мщением. Спустились уже сумерки, когда главный мастер Димитрия подошел к дому, где жил апостол. Его встретил сотрудник апостола Акилла.
— Могу я видеть учителя Павла Тарсянина? — спросил Калликрат.
— Можешь.
К апостолу приходило так много народу, что Акилле и в голову не пришла мысль о злых намерениях незнакомца.
— Где же он?
— Поднимись по этой лестнице на крышу. Наш великий учитель теперь там отдыхает от дневных трудов.
— Он один?
— Да.
В глазах Калликрата вспыхнул довольный огонек.
«Тем лучше, если один», — подумал он.
Калликрат медленно поднялся по лестнице на крышу. Крыша у большинства восточных домов строилась плоская, где можно было отдохнуть после знойного дня. Крыша эта обносилась перилами. В одном углу часто устраивалась небольшая комната, куда любили уходить молиться[51].
Великий апостол Павел стоял, облокотившись на перила и сосредоточенно смотрел на город, полный порока, преступлений и самых ужасных заблуждений и суеверий. Быть может, перед его умственным взором предносились[52] кресты христианских церквей, которые заблестят в будущем на месте почитания Дианы. Быть может, он своим пророческим оком предвидел все торжество христианства, всю его победу над язычеством, предвидел гибель и сокрушение идолов и радовался великому делу искупления, радовался наступающему царству Господа Иисуса Христа.
— Привет тебе, учитель, — проговорил Калликрат, осторожно приближаясь к апостолу.
Апостол Павел живо обернулся в его сторону.
— И тебе привет, сын мой.
Апостол подошел к нему почти вплотную и пристально посмотрел Калликрату в глаза. И от этих глаз, и от этого спокойного, но в душу проникающего взгляда вдруг какой-то невольный трепет пробежал по телу Калликрата. Ему сразу почудилось, что такой голос не может принадлежать обыкновенному человеку, а лишь великому, высшему. Голос этот проник в самую сокровенную глубину души Калликрата и потряс ее до основания. Казалось, все его существо встрепенулось и содрогнулось от этого голоса.
— Кто он? Hе посланник ли богов? — молнией пронеслось в голове пораженного, ошеломленного мастера. Он стоял несколько секунд неподвижно, молча, точно в столбняке.
— Что тебе надобно от меня, сын мой? A Павел Тарсянин, раб и ученик Господа моего, — опять как-то необыкновенно задушевно, прочувствованно, величественно прозвучал голос апостола.
Калликрат невольно отступил шаг назад. Какая-то невидимая, непостижимая волна окатила его с головы до ног. Что-то божественное прозвучало в самой интонации. Никогда еще не слыхал Калликрат такой удивительной проникновенной гармонии в голосе. Он забыл, для чего пришел, забыл о спрятанном под плащом мече, забыл о своем ужасном намерении умертвить апостола, который разрушал его заветную мечту. Он весь был охвачен новым впечатлением, весь находился под обаянием личного великого первоверховного апостола. Последний ласково положил руку на плечо Калликрата и снова зорко посмотрел ему в глаза. И взор этих очей, полный благодатной силы и святости, был как светлый, блистающий луч, осветивший глубокую тьму.
«А ведь я пришел его убить», — промелькнула у Калликрата мысль.
И ему показалось вдруг, как необыкновенно чудовищно, безумно было это намерение! Он почувствовал, что хотел посягнуть на нечто великое, божественное, святое. Точно какая-то невидимая сила встала между ним и апостолом. И под влиянием этих новых, нахлынувших настроений, Калликрат вдруг тихо проговорил:
— Прости меня, учитель. Я пришел к тебе с дурным намерением. Я хотел тебя убить…
Ни один мускул не дрогнул на лице великого апостола. Оно осталось покойно и по-прежнему сияло таинственной небесной красотой, которую он некогда зрел.
— За что ты меня хотел убить? Какое я тебе сделал зло?
Калликрат провел дрожащей рукой по волосам.
— Не спрашивай меня. Я шел сюда с твердым намерением покончить с тобой. А между тем, я забыл все. Я забыл, что имею при себе меч. Если можешь, — прости меня. Ты какой-то необыкновенный человек… Быть может, ты посланник богов…
Радостью озарилось лицо апостола. В глазах вспыхнул неведомый миру огонек.
— Во имя Господа Иисуса Христа, прощаю, — торжественно проговорил он. — Мой удел на земле — терпеть скорби и гонения за моего Спасителя. Все меня гонят: и иудеи, и язычники. Но я радуюсь и благословляю их. Так заповедал нам Господь.
Апостол подвел Калликрата к перилам, указал на виднеющийся вдали храм Артемиды и сказал:
— Видишь этот храм?
— Да.
— Верь мне, настанет время, и оно недалеко, когда не будете кланяться этой лживой богине. И рассыплется в прах самый храм… Но всей земле пройдет проповедь о Господе. И свет Его учения победит языческую тьму. Увидят люди великий свет, познают одну истину и уверуют в Сына Божия Иисуса Христа. Верь мне: это время приблизилось. Я сам был враг Христа, но теперь считаю за великую честь и милость терпеть за Господа моего всякие скорби и гонения. О, придет великий день Господа! Сокрушатся все лживые боги и настанет царство Господа Иисуса Христа. A вижу этот рассвет… Солнце правды озарит весь мир.
Великий апостол Павел преобразился. Лицо его как-то просветлело, в глазах горел огонь божественной славы и ревности. Его фигура выпрямилась. Это был пророк, говорящий со властью.
И священный трепет пробежал у Калликрата с головы до ног. Он почувствовал ужас. Душа его соприкоснулась с чем-то для него неведомым, непостижимым, сверхъестественным. Апостол показался ему существом иного, высшего мира. И Калликрат невольно, с чувством глубокого смущения и благоговения, опустился на колени перед апостолом.
— Ты велик, — чуть слышно прошептали его губы. Меч упал и звякнул о крышу. Но Калликрат не слышал этого звука. Он был побежден неведомой силой личности апостола.
— Велик не я, но велик Господь мой Иисус Xристос, — расслышал Калликрат ответ на свое замечание.
VIII
Аристоген сделался постоянным посетителем школы Тиранна. Проповеди апостола Павла увлекли его своим глубоким содержанием. Да и воодушевление апостола невольно передавалось ему. Нельзя было равнодушно и хладнокровно слушать те восторженные речи о Христе, которые раздавались в школе.
Слушатели горячо аплодировали апостолу, особенно когда он вступал с кем-нибудь в спор и выходил победителем. Аристоген внимательно вслушивался в эти споры и сам нередко принимал в них деятельное участие. Как юноша любознательный и начитанный, он пожелал ближе познакомиться с христианством и был очень удивлен всей стройной системой христианского миросозерцания. Ему казалось сначала очень странным, что неизвестный пришелец Павел еврейского происхождения проповедует такие великие истины, о каких и понятия не имели самые выдающиеся их мудрецы. Но, вслушавшись в проповедь апостола, он нашел, что христианство как нельзя лучше и правдивее разрешает все великие вопросы, которые составляли непостижимую загадку для философов древнего мира. И Аристогена все более и более влекло в скромные стены дома Тиранна. Своими впечатлениями он делился с сестрой, также интересовавшейся распространением христианства в Ефесе.
— В учении Павла есть много замечательно поразительного и возвышенного. Да, я почти убежден в истинности христианства, — объявил он однажды.
Молодая девушка сидела в своей комнате за разрисовыванием вазы — занятием, которому она уделяла много времени. Она оторвалась на минуту от работы и внимательно посмотрела на брата.
— Ты убежден? — переспросила она.
— О, да, да! Это учение берет на себя великую и смелую задачу совершенно переродить человечество. Оно проповедует полное братство всех народов, оно утверждает, что мы созданы для бессмертия и что последователей его ожидает счастливая вечная жизнь в царстве Христа. Согласись, мысли чрезвычайно широки и заманчивы.
Ариадна задумчиво опустила голову. Ты говоришь, что христианство проповедует о будущей жизни? Как это хорошо! Впрочем, и наши герои будут в Елисейских полях[53].
— Да, только герои. Но что ожидает нас с тобой сестра, это неизвестно. А между тем Павел учит, что добрые христиане, исполняющие известные правила, непременно наследуют вечное царство, которое приготовлено им Христом. Все учение Павла сводится к Христу. Павел утверждает, что Xристос — это Сам Бог, явившийся на земле как Человек. Подумай, сестра, какое удивительное учение: Бог во плоти. Да ведь если так, то какое невольное благоговение перед Христом должен чувствовать каждый христианин! Что за величие заключается в таком учении, которое признает явление Бога на земле! Аристоген встал с сиденья и медленно, но с волнением заходил по комнате.
— Вполне понимаю тебя, брат. Только не мне судить о таких возвышенных предметах. A для этого мало образована.
— Вот в том-то и дело, Ариадна, что тут нет никакой философии, которая доступна только избранным людям. Христианство — для всех людей. Когда я в первый раз шел слушать Павла, то думал, что выслушаю какую-нибудь туманную философскую речь, с разными недомолвками и противоречиями.
— И ты их не нашел? Все ясно?
— Да, таких недомолвок, какие встречаются у наших философов, нет. В христианстве все разрешается просто и, главное, понятно. Каждый необразованный
человек может вполне усвоить христианское учение. И не нужно для этого какого-нибудь философского ума, образования.
— О, это много значит, — заметила Ариадна.
— Еще бы. Простота всегда привлекает.
— Как я желала бы послушать Павла. Ты, кажется, не в шутку стал его почитателем.
— Если ты желаешь его послушать, то, разумеется, это устроить можно.
— Правда? Как же?
— Конечно, только не в училище Тиранна.
— У него на дому?
— Да.
— А это удобно?
— Отчего же нет? У него бывает очень много народа. Он и на дому ведет такие же беседы, как и в училище. Даже скажу тебе: беседы эти имеют гораздо более задушевный характер, чем в школе.
— Ты слышал их, милый брат?
— Да, удалось. Никогда не забудутся эти речи. Ах, сестра, сколько бы я тебе ни говорил, все равно ты едва ли меня поймешь. Чтобы судить о Павле и христианском учении, нужно самой послушать этого замечательного человека. Но скажу тебе откровенно: христианство меня очень и очень увлекает.
— И совершенно напрасно, — раздался резкий голос у дверей.
Молодые люди невольно вздрогнули и оглянулись. На пороге стоял Дорион. Лицо его было хмуро. В глазах сверкал недовольный огонек.
— Ты подслушивал? — весь вспыхнул Аристоген.
— За кого ты меня считаешь? A просто шел сюда и
совершенно случайно услышал твою последнюю фразу. Но меня крайне поражает: где ты мог заинтересоваться христианским учением?
Аристоген первое мгновение смутился. Но тотчас же овладел собой и не счел нужным прибегать ко лжи.
— Ты спрашиваешь, где я познакомился с христианством?
— Да, я желал бы знать.
— Но странного и удивительного тут ничего нет.
— Как так?
— Очень просто. Павел проповедует не в закоулке, не в чьем-нибудь подвале, а в школе Тиранна. Приходи и слушай. Многие знатные граждане нашего города посещают эту школу.
— И делают очень опрометчиво. Да разве мы можем примириться с этой религией рабов, мы, в руках которых и философия, и искусство! Опомнись, Аристоген! Что ты говоришь! A крайне изумляюсь, что ты заинтересован христианством. Да ведь это наши враги! «Благодаря» им, наше личное дело страдает. Ты это и сам отлично понимаешь. Ну я допускаю, что можно для интереса сходить в школу Тиранна и послушать хотя бы раз этого Павла. Но чтобы серьезно заинтересоваться им — никогда! Это для меня дико и непонятно. Надеюсь, что ты оставишь дальнейшие посещения школы. Не правда ли?
— Одно только скажу тебе, Дорион: не препятствуй мне верить в то, во что я уверую! Это тебя не касается. Это мое личное дело.
— Как не касается? — вскричал Дорион. — Ты мой брат и, стало быть, твоя жизнь тесно связана с моей. Поддержи же меня, Ариадна!
Молодая девушка только развела руками.
— Увольте меня от обязанности судьи, тем более здесь такой щекотливый вопрос. Тут я мало понимаю.
— Но почитаешь же ты, наконец, нашу великую богиню Артемиду, благодаря которой ты сидишь в такой богато обставленной комнате? — грубо спросил Дорион.
В глазах его вспыхнул злобный огонек. За Ариадну ответил Аристоген.
— Не повышай голоса, брат, — резко ответил он, — со мной ты можешь говорить так, как говорят варвары, а с сестрой этот тон оставь. Он неуместен. Понимаешь?
Дорион опешил и отступил шаг назад. Молодая девушка, чтобы предупредить зарождающуюся ссору, быстро встала с дифры, подошла к Дориону, положила ему на плечо руку и мягко проговорила:
— Зачем ты волнуешься, милый брат? Разумеется, я чту богиню Артемиду. Для чего этот странный вопрос?
Дорион сразу смягчился под влиянием ласкового голоса сестры. Морщины на лбу разошлись, и лицо потеряло прежнее суровое выражение.
— Прости меня, сестра, — отвечал он, — но я подумал, не заинтересовалась ли и ты этой восточной религией. А ты, Аристоген, стыдись! Ты унижаешь себя тем, что позволяешь себе посещать проповеди этого иудея Павла. A должен сообщить о твоем поведении отцу.
— Дорион, не делай этого! — вскричала девушка.
— Нет, сестра, ради общей пользы и ради самого Аристогена я должен довести до сведения отца это стремление Аристогена к христианству.
Аристоген окинул брата презрительным взглядом.
— Можешь сообщить хотя сейчас же. Но что будет с тобой, когда я твердо заявлю о своей принадлежности к христианству?
Дорион широко открыл глаза от изумления.
— Да ты уже не христианин ли? — в испуге вырвалось у него.
Аристоген молча улыбнулся при виде испуга брата.
— Неужели ты перешел в это новое суеверие? Но этого не может быть! Говори сейчас же всю правду. Ты пошутил? Но такими вещами разве шутят?
Аристоген сделался серьезным. После небольшой паузы он сказал:
— Ты невольно подслушал мою фразу, где я высказался о своем интересе к христианству. Да, христианством я интересуюсь, но я еще не христианин.
Дорион облегченно вздохнул.
«Это какая-то нелепость», — подумал он, выходя из комнаты.
Он не замедлил рассказать отцу содержание беседы с братом. Димитрий пришел в сильное негодование.
— Может ли это быть? Аристоген посещает Павла?
— Спроси сам. Он не откажется от своих слов.
Димитрий решил немедленно объясниться с сыном и вызвал его в сад.
— Аристоген, Дорион передал мне, что ты интересуешься учением Павла. Неужели это правда! Надеюсь, что ты не зайдешь далеко, — начал спокойно Димитрий.
— Скрывать не буду, отец. Учением Павла интересуюсь не я один, но им интересуются и многие ефесские граждане. Достаточно побывать хотя раз в школе Тиранна, чтобы убедиться в этом.
— Но нужно знать меру, сын мой! И ты, как юноша начитанный, образованный, конечно, понял, насколько лживо это учение?
Димитрий зорко посмотрел на сына.
— Отец мой, я недостаточно еще хорошо знаком с этим восточным учением, чтобы решить: ложно ли оно, или истинно.
— Оно ложно! — вскричал Димитрий. — Если ты предпочтешь Христа, следовательно для тебя потеряет всякое значение великая Артемида. О, я не хочу даже этого и говорить. Одна эта мысль есть оскорбление богини. Берегись же! Как бы нам не навлечь ее гнева. И без этого дела наши пошатнулись. Молись лучше усерднее богине, чтобы она внушила тебе забвение к христианству. Безумно было бы подумать, чтобы ты когда-нибудь признал своим учителем Павла, проповеди которого ведут нас к разорению. Да не будет этого! Поклянись же мне сейчас Артемидой, что ты выбросишь из головы всякую мысль о христианах.
Аристоген отрицательно покачал головой.
— Не принуждай меня к этому, отец.
— Почему?
Димитрий весь побагровел.
— Я могу клятву и нарушить, если приду к убеждению, что христианство истинно.
— Опомнись, Аристоген! Ты безумствуешь! Ты думаешь найти истину в этой секте? От тебя ли я это слышу? Берегись гнева богини! И вот тебе мое слово: немедленно порви все отношения с христианами. Забудь о них. Пусть они для тебя с этого времени не существуют. В противном случае между нами все будет окончено. A и мысли не могу допустить, чтобы мой сын сделался христианином. Помни это!
Димитрий круто повернулся и ушел.
IX
Едва ли какая-нибудь ефесская девушка была окружена такой роскошью, как главная жрица Артемиды Xиония. Правда, она помещалась в общем здании, предназначенном для жриц, но комнаты ее поражали богатством и изысканностью отделки. Все, что только могла достать тогдашняя культура — все это было к ее услугам. Самые драгоценные ковры украшали стены и пол; художественной отделки мебель вышла из лучших мастерских Востока. Всюду виделось золото, серебро, мрамор. В кладовой хранились одежды из пурпура, виссона и других дорогих шерстяных материй.
Всем этим гардеробом заведовала любимая рабыня Xионии Асия, родом сириянка. Xиония очень любила эту скромную, простую девушку, дарила ей подарки и выделяла из других рабынь. Асия поэтому была очень привязана к госпоже и ради нее готова была идти на всевозможные жертвы.
Xиония жила при храме Артемиды с самых юных лет. Воспитателем ее был главный жрец Демофон. Когда его спрашивали о родителях Xионии, то он обыкновенно уклонялся от прямого ответа, говоря, что ее родители были люди бедные и после их смерти он взял девочку на воспитание. Демофон относился к воспитаннице с чисто отеческой заботливостью и предупредительностью, окружал ее попечением, богатством. Пользуясь правами верховного жреца, он поставил Xионию, когда она выросла, во главе других жриц и приказал всем подчиняться ей. И молодая девушка, имея в своем распоряжении целый штат рабынь, жила как царица, окруженная богатством и властью. Все ефесяне считали ее красавицей.
И они не ошибались. В ее красоте именно было что-то царственное, неподдельное. Нельзя было не восхищаться ею в те минуты, когда она стояла перед статуей богини с поднятыми руками с золотой диадемой на голове. И шепот изумления пробегал по очарованной толпе. Но Xиония не обращала внимания на молящихся. Ее мысли были где-то выше земли. Она в эти минуты сливалась с богиней, и вся горела огнем вдохновения. Xиония вообще сторонилась людей. Она понимала, что, как жрица, не должна ни на кого обращать особенного внимания; это самое внушал ей постоянно и ее воспитатель Демофон. Он говорил ей, что она посвящена богине Артемиде с детских лет и что поэтому никогда не должна изменять ей, если не желает навлечь на себя гнева богини. И Xиония до самого последнего времени старалась следовать указаниям и советам своего воспитателя, которого любила и к которому была сильно и искренно привязана.
Все шло хорошо до тех пор, пока она не увидала однажды Аристогена. Красавец-юноша сразу привлек ее внимание и очаровал ее своей наружностью. Никогда она еще не видала такого красивого мужского лица и ее девичье сердце невольно, помимо ее воли, встрепенулось.
«Кто он? Откуда? Приезжий или здешний?» — встали у нее неотвязчивые вопросы. Первое время она гнала их от себя, помня, что она жрица и не должна иметь никакой привязанности. Но образ Аристогена ярко, живо, рельефно стоял перед ней. Она не могла отогнать его, она чувствовала, что не в силах сделать этого.
Ее грусть заметила верная, любящая Асия.
— Что с тобой, госпожа моя? Ты за последнее время стала такой задумчивой, — решилась она, наконец, предложить вопросы.
Xиония вскинула на рабыню удивленные глаза и кратко ответила:
— Успокойся, Асия. Это тебе показалось. A всегда счастлива и весела.
Но этот ответ не удовлетворил рабыню, и она напрасно строила разные предположения, доискиваясь до настоящей причины задумчивости главной жрицы.
И вдруг Xиония совершенно неожиданно встретила Аристогена в храме в качестве приносителя жертвы. Мало того: она узнала, что юноша — победитель на Великих Панафинеях и им справедливо могут гордиться все граждане Ефеса. Xионии стоило больших усилий скрыть свое волнение. Но теперь она, по крайней мере, знала, кто был юноша, который первый заставил встрепенуться ее девственное сердце.
X
— Асия, расскажи мне что-нибудь про свою родину. Помнишь ли ее?
Xиония сидела перед своим большим, посеребренным зеркалом, а рабыня делала ей прическу. Опытные руки ловко и осторожно укладывали пряди волос.
— О, госпожа! Что я тебе буду рассказывать про нее? Я едва помню свою родину. Я вывезена была оттуда лет восьми. Родина моя — большой город Иерусалим, тот самый, откуда вышло новое христианское учение.
— И хороший город? Интересный?
— Да. Особенно красив иудейский храм. Много было потрачено на него денег и труда.
— Но я думаю, Асия, что едва ли во всем мире найдется такой великолепный храм, как наш Ефесский! — заметила Xиония.
— Конечно, госпожа, разве можно сравнить наш храм с каким-либо другим! — поспешно согласилась рабыня, примеряя диадему.
— И Ефес, я думаю, едва ли можно сравнить с твоим Иерусалимом, не правда ли?
— В Иерусалиме нет, госпожа, моря, а оно много красит.
— Ну, еще бы. А скажи мне, Асия, ты очень любишь родину? Тоскуешь по ней?
— Ах, госпожа, кто же не любит родины? Что может быть драгоценнее ее?
Xиония задумалась.
— Ты права, Асия. А желала бы ты увидеть ее? Глаза рабыни заволокло слезой.
— Не говори так, госпожа. Кто не желает видеть родину? Но увы, этого мне не суждено: я — рабыня.
— А ты очень хотела бы быть свободной? Асия тяжело вздохнула.
— Это горячее желание каждого раба.
— Хорошо, Асия, будь покойна. A тебе дам свободу.
Только не теперь.
Рабыня горячо поцеловала руку Xионии.
— Какую, госпожа, лучше надеть диадему? A думаю, что с рубинами лучше. Она тебе более идет.
— Ну, надень ее.
Асия возложила на голову госпожи великолепную золотую диадему с крупными рубинами, отошла шага на два и восторженно проговорила:
— О, госпожа! Тебе бы только быть царицей. Как ты хороша! Сама Афродита должна уступить тебе первенство.
Xиония не обратила внимания на эту похвалу и, занятая какой-то своей тайной мыслью, в раздумье проговорила:
— А знаешь, что я тебе скажу, Асия?
— Что, госпожа?
— Ведь Демофон только мой воспитатель. A с малых лет живу здесь, при храме. Но где же моя настоящая родина? Говорят, что мои родители умерли. A верю, конечно, Демофону и не пытаюсь настойчиво расспрашивать его о том. Он неохотно отвечает на мои вопросы. Но когда я уношусь мыслями к прошлому, то как будто мне вспоминается что-то другое. A не знаю, что это, и ничего вспомнить не могу. Пытаюсь, но ничего не выходит. Но чувствую какую-то стену, которая отделяет мое детство от того времени, когда я нашла приют и ласку у Демофона. Прошлое ускользает, исчезает. И напрасно я напрягаю ум. Все какой-то туман, пелена. Но я уверена, в моей жизни есть что-то загадочное. Сердцем чувствую, что есть. Если бы меня привезли на мою родину, то я, быть может, все вспомнила бы. А как я желала бы узнать истину! Ах, как хотела бы. Дорого бы дала. Конечно, Демофон это знает, но он молчит. И как разгадать эту тайну, не знаю. Иногда я хочу как будто что-то вспомнить, но не могу. Даже сделается так горько и досадно…
Рабыня удивилась этому признанию и глубоко задумалась.
— Не знаю, госпожа, что тебе ответить на это. Конечно, Демофон знает твою родину и родителей. Быть может, он когда-нибудь и скажет тебе сам.
— Ах, едва ли я дождусь этого времени. Демофон замкнутый и молчаливый. Носилки готовы? — закончила она, поднимаясь с места и еще раз оглядывая себя в зеркало.
— Да. Рабы ждут.
— Отлично. В таком случае отправимся.
Xиония набросила на себя гиматион, Асия придала ему красивые складки, и они вышли на двор. При виде жрицы рабы слегка склонили головы. Xиония полулегла на носилки. Рядом с ней поместилась Асия и рабы получили приказание идти к дому Димитрия.
Xиония хотела осмотреть фабрику Димитрия. Но крайней мере, это был официальный предлог, на самом же деле ей хотелось еще раз ближе взглянуть на прекрасного Аристогена.
Димитрий накануне был предупрежден о визите жрицы, а потому позаботился встретить ее с подобающей честью. Мастерская и дом были убраны, украшены зеленью и цветами. В перистиле курились благовония. Все надели лучшую одежду.
Но особенно волновался Аристоген. Образ красавицы-жрицы преследовал его и днем, и ночью. Что бы он ни делал, он всюду видел ее с поднятыми к статуе Артемиды руками, видел такой вдохновенной, прекрасной.
Аристоген с некоторых пор жил какой-то двойственной жизнью. С одной стороны, он слушал проповеди апостола Павла и все более и более убеждался в истинности и правоте христианства, с другой — в его воображении неотступно рисовалась Xиония.
«Как она чарующе прекрасна» — была у него одна мысль. Но свою сердечную тайну он не рассказал даже сестре. И к чему было, в самом деле, говорить? Xиония — жрица Артемиды, посвящена ей на всю жизнь, и разве может быть какая-нибудь надежда на взаимность? Не оставит же она алтарь богини для того, чтобы быть его женой? Против этого восстали бы и его отец, и, главным образом, Демофон. Следовательно, оставалось взять себя в руки и постараться забыть жрицу. Но это легко было решить, но не сделать. Красота всегда имеет великое влияние на человеческое сердце, и Аристоген на себе убедился в неоспоримости этого закона. Как он ни старался отогнать от себя образ Xионии, она, как живая, всегда стояла перед ним. И его волнение было поэтому вполне понятно, когда он узнал, что Xиония намерена посетить их мастерскую.
Юноша весь горел от ожидания. Сердце его учащенно билось и трепетало.
— Она будет здесь! A ее увижу! О, счастье! — шептал он, нигде не находя себе места от сердечного трепета.
Наконец, роскошные носилки остановились у портика, и Xиония, сверкая своими драгоценностями, вступила в перистиль. Аристоген был положительно очарован ослепительной красотой молодой девушки. Теперь она стояла перед ним в двух шагах не при совершении церемоний, а в его домашней обстановке. Можно было безбоязненно любоваться ею, не рискуя навлечь на себя подозрения.
Аристоген едва расслышал приветствие отца. И когда тот кончил, он вдруг выступил вперед и громко, отчетливо заговорил:
— О, божественная Xиония, жрица великой богини Артемиды! A не обладаю красноречием Демосфена, язык мой слаб, уста немеют. Но если бы даже собрались все ораторы и поэты Греции, если бы они заговорили языком самого Зевса, то и тогда, я уверен, все их речи не выразили бы и сотой доли твоей красоты. Клянусь всеми богами Олимпа, и сама Афродита далеко не так прекрасна, как ты! Прости меня за это приветствие, но, надеюсь, ты извинишь меня.
Он склонил свою голову и замолчал. Xиония, слегка удивленная и польщенная этими фразами, кинула на Аристогена ласковый взгляд.
— О, юноша! Не превозноси мою красоту. Красота дар богов. И если ты находишь меня прекрасной, то воздай славу Зевсу, — отвечала она.
— Брат мой сказал правду, — тихо проговорила и Ариадна, тоже восхищенная стройной фигурой жрицы.
Димитрий же предложил Xионии сначала осмотреть мастерскую.
— А затем я осмелюсь, великая жрица, просить тебя: будь благосклонна, раздели нашу трапезу, — добавил он.
— Благодарю. Но я не желала бы доставлять вам беспокойство.
— О, разве можно тут говорить о каком-нибудь беспокойстве! Твое посещение нашего дома великая честь.
Xиония направилась в сопровождении мужчин в мастерскую. Ксанфа с дочерью осталась дома, чтобы приготовить все нужное к обеду. Димитрий давал Xионии объяснения. Вставляли фразы и братья.
Аристоген заметил несколько выразительных взглядов, брошенных на него молодой жрицей.
«Неужели она меня выделила из толпы? А вдруг я приобрел бы благоволение в ее глазах?.. О, боги, что тогда было бы со мной?»
Xиония, воспользовавшись тем мгновением, когда Димитрий с Дорионом отошли в угол, чтобы извлечь оттуда какую-то статую, с улыбкой обратилась к Аристогену:
— Ты находишь меня прекрасной и сравниваешь с Афродитой. Но разве тебе не известно, что ты и сам похож на Аполлона?
Юноша весь вспыхнул.
— О, божественная Xиония…
— Да, если я прекрасна, то и ты не менее прекрасен! И она взглянула на Аристогена так красноречиво,
что взор ее прямо говорил: «Разве ты не видишь, что я к тебе благосклонна».
Радостью встрепенулось сердце юноши при этом взгляде. Его точно окатила какая-то теплая, мягкая, нежная волна. Он весь замер под влиянием этого взора и слышал, как стучало его здоровое сердце.
Димитрий заметил смущение сына.
— О чем с тобой говорила Xиония? — спросил он после ее ухода.
— Она сравнила меня с Аполлоном.
— Поздравляю тебя. Ты, видимо, приобрел внимание в глазах ее. Но предупреждаю: ты должен Xионию выкинуть из головы.
— Почему?
— Но весьма простой причине. Она жрица богини и посвящена ей. Ни о каком, поэтому, замужестве не может быть и речи.
— Ну, а если бы мы серьезно полюбили друг друга? Легкое облачко задумчивости легло на высокий лоб
Димитрия.
— Она сумеет победить свое чувство, — ответил он.
— Она прекрасно сознает, что ее воспитатель Демофон не отпустит ее из храма, да и отпустить, строго говоря, не имеет права. Если же ты похитишь Xионию, то навлечешь на себя проклятие Демофона и гнев богини.
— А интересно, отец: как ты отнесся бы к этому моему шагу?
— К похищению жрицы?
— Да.
— Очень неодобрительно. Не в наших расчетах навлекать на себя гнев богини. И, во всяком случае, ты знаешь отлично, что тебе пришлось бы оставить Ефес… Димитрий, задумавшись, замолчал, но продолжил:
— Демофон жестоко отомстит тебе за эту кровную обиду, — продолжал Димитрий. — Будь же благоразумен. Ищи себе жену из своего круга, а Xионию забудь. Эта дева посвящена богине, стало быть, она отрезанный ломоть. Но скажи мне: ты к ней не равнодушен?
— Отец! Разве можно быть равнодушным к такому прекрасному и грациозному созданию? Xиония — воплощенная красота!
— Верю, но советую тебе: преклоняйся перед ней как художник, а не как юноша с горячим сердцем. Будь благоразумен. Не навлекай на свою голову гнев великой Артемиды.
Аристоген понимал, что отец прав. Но разве можно было запретить сердцу любить?
XI
Аристоген вел двойственную жизнь. Он привязывался все более и более к Xионии и нередко бывал в храме Артемиды, чтобы только взглянуть на чудную жрицу. А с другой стороны, его все более убеждала святая истина христианского учения. Душевное его равновесие было нарушено. Влекла его к себе и Xиония, влекло и христианство. Он, пользуясь знакомством с апостолом Павлом, часто бывал у него на дому и беседовал о христианском учении. И какие чудные, величественные были эти беседы! Все забывалось на них. Уходили на второй план и Xиония, и отец, и мать, и сестра. Перед взором юноши сиял в Своей неизреченной славе Искупитель мира Xристос, зовущий всех в Свое вечное, небесное Царство. Представал Он также Аристогену и со скорбным челом, с терновым венцом на голове, израненный, изможденный. И невольно сжималось тоской сердце юноши, когда он размышлял о тех страданиях, какие перенес Иисус Xристос для спасения человечества.
Слушал Аристоген великого апостола и не хотел уходить от него. Так и просидел бы у него целые годы. Кругом безмолвно сидели ученики. Вот Акилла с Прискиллой, вот Аполлос, Тимофей, Гай, Аристарх и другие сотрудники апостола в его проповеди. Чуть слышалось иногда потрескивание фитиля в светильнике. Скромное было общество, но величайшие, от мира сокровенные истины были его достоянием. И чувствовал Аристоген, что правда именно здесь, у этих лиц, что ложно язычество с его многочисленными богами и богинями.
С каждым днем более и более он поддавался неизъяснимому обаянию христианства, все сильнее и сильнее проникался его духом. Но не покидал его и образ Xионии. Однажды ему совершенно случайно удалось видеться с ней в одном из портиков храма. Очень кратка была их беседа, всего состояла она из нескольких фраз, да и то постороннего характера, так как тут находились и Асия, и Ариадна. Но многое говорили их взоры. Тысячами слов иногда нельзя сказать того, что можно прочитать в одном быстром взоре, и они поняли, что соединены узами тайной, крепкой любви.
«О, зачем она жрица! Почему она не дочь Ефесского гражданина?» — часто задавал себе Аристоген мучительный вопрос.
Однажды он решил признаться в своей тайне апостолу Павлу. Апостол внимательно выслушал его, слегка склонив голову.
— Я люблю ее, великий учитель. Что мне делать? В душе я уже христианин и скоро буду им окончательно, но сердце мое не знает покоя.
Апостол положил на его голову руки и ласково, необыкновенно задушевным голосом проговорил:
— Успокойся, сын мой. Верь и надейся на милость Божию. В любви греха нет. Женщина сотворена Богом и дана в помощницы первому человеку. Их союз благословлен Самим Творцом.
— Неужели я могу надеяться? — весь даже встрепенулся Аристоген. — Но она жрица. Ведь я, как христианин, не могу взять ее в жены, да и она отвернется от меня, когда узнает о моем обращении ко Христу.
— Молись Господу об ее обращении. Помолимся и мы, и Бог всякие милости и любовь да даст тебе по прошению твоему.
Апостол благословил юношу. Аристоген упал к его ногам. Сердце его затрепетало. Слова апостола точно оживили его. Он почувствовал сразу облегчение, покой, мир. Он надеялся на лучшее будущее, зная великую силу молитвы церкви.
— Господи, дай мне эту милость, — не раз молился Аристоген, с верой глядя на небо. — Обрати и Xионию. Ты все можешь сделать. Тебе все доступно. Ничего нет невозможного для Тебя. Дай мне это счастье!
В глазах его светилась глубокая вера. Но когда он представлял себе Xионию с воздетыми руками перед статуей Артемиды, сердце его страшно ныло. Ему было горько и обидно. Лживая Артемида для Аристогена давно уже потеряла всякое значение…
XII
Мрачный и унылый стоял в своей кладовой Димитрий. Перед ним лежали большие запасы барельефов и статуэток Артемиды, предназначенных для продажи. Но продажа шла плохо. Вся надежда оставалась теперь на праздник Артемиды, во время которого паломники покупали изображения богини.
— Разорен, я почти разорен, — с отчаянием на душе твердил Димитрий, оглядывая при светильнике свои произведения. Он давно уже ограничил производство, рассчитал чуть ли не половину рабочих. Но это не помогло. Его делу грозил неизбежный крах.
— И все Павел! Он причина моего разорения! Христианство сгубило нас!
Страшная злоба горела у Димитрия на святого апостола. Ненавистью исказилось лицо. Кулаки инстинктивно сжались.
— О, я тебе отомщу! Клянусь Артемидой: ты будешь помнить меня! Дай только дождаться Артемидиных дней! Тебя на клочки разорвут ефесские граждане. О, я должен тебе отомстить.
Страшен был вид в эти мгновения у Димитрия. Если бы он встретился сейчас один на один с апостолом, то, не задумываясь, пустил бы в ход свой меч.
Димитрий еще раз оглядел свой склад, тяжело вздохнул, потушил светильник и вышел во двор.
Ночь была светлая, теплая.
Кротко глядела луна на спящий языческий город. Серой массой приютился за зеленью дом. Как-то мрачно выглядело здание мастерской, особенно нижний этаж, закоптелый, почерневший.
Вот где-то недалеко запела флейта, ударил тамбурин (бубен — ред.), послышались крики. То возвращалась домой процессия жрецов.
Димитрий медленно направился к афинской беседке. Не хотелось еще идти спать. Голова была полна самых тревожных мыслей и предчувствий. Он шел тихо, бесшумно.
Подойдя к беседке, он вдруг остановился перед кустом мимоз. Ему послышался оттуда чей-то голос.
— Кто это? — пронеслось у Димитрия. Он осторожно шагнул вперед.
— Значит, ты теперь счастлив? — спросил женский мелодичный голос.
Димитрий узнал Ариадну.
— Но с кем она в такой поздний час? — встревожился Димитрий.
— О, вполне, дорогая сестра. Теперь я удовлетворен. Ты не поверишь, как я счастлив! Только сейчас я нашел полный покой.
Димитрий облегченно вздохнул.
— О каком покое он говорит? Интересно послушать. Димитрий стоял как вкопанный.
— Следовательно, христианство лучше и выше нашей религии? Ты уверен в этом? — опять спросила Ариадна.
— О да, вполне уверен. И вот тебе доказательство: я христианин.
— А если, милый братец, узнает об этом отец? Ведь он не простит тебе перехода в христианство?
— Xристос и истина для меня выше и дороже всего на свете, — твердо ответил юноша.
Димитрий стоял, точно оглушенный громом. Он отказывался верить слышанному. Оно было для него так нелепо, дико, безумно и так неожиданно.
На него напал столбняк.
«Он христианин?!»
Димитрий чувствовал, как холод пробежал у него с головы до ног.
— Ах, если бы ты знала, Ариадна, как велико христианство, — с увлечением продолжал Аристоген. — При свете его какой ничтожной и жалкой кажется языческая религия с ее бесчисленными богами! Прими христианство, послушай великого апостола Павла, и ты убедишься, что я говорю правду. И я не сразу сделался христианином. Я долго ходил в училище Тиранна, слушал проповеди, читал, изучал. И вот, в конце концов, я убедился в его истине. A христианин и ни за что в мире не отрекусь от него.
Тут Димитрий не выдержал. Как разъяренный зверь одним прыжком он очутился в беседке.
— Ты христианин?! — в исступлении крикнул он с налившимися кровью глазами.
Ариадна при неожиданном появлении отца громко вскричала от испуга и застыла на месте. Аристоген первые мгновения тоже был ошеломлен, но тотчас овладел собой.
— Да, я христианин, — ответил он.
— Повтори, что ты сказал! — дико прохрипел Димитрий.
— Зачем повторять, отец, то, что ты только что выслушал! A христианин.
— Да ты с ума сошел! — бешено затопал ногами Димитрий, — ты окончательно с ума сошел! Ты решился примкнуть к тому учению, которое разоряет нас! Да где твой ум?!
— Отец, богатство меня не прельщает. Я нашел истинный свет и, конечно, не для того, чтобы вернуться снова во тьму. A искренний и убежденный христианин.
— Замолчи!
Он замахнулся на сына кулаком.
— Отец, пощади! — бледная, как мертвец, бросилась между ними Ариадна.
Ни один мускул не дрогнул на лице Аристогена. Юноша стоял неподвижно, готовый принять удар.
Руки Димитрия невольно опустилась при виде этой защитницы.
— Аристоген, дай мне слово сейчас же, что ты оставишь все эти бредни, — сурово, резко обратился он к сыну.
— Не могу, отец. Это выше моих сил.
— Это твое последнее слово?
— Да.
Юноша смело и открыто глядел отцу в глаза.
— Но ты раскаешься в своем упорстве!
— Никогда.
— Я отрекусь от тебя.
— Это дело твое, отец. Ты волен действовать, как хочешь.
— Я прикажу тебе немедленно оставить мой дом.
— Я исполню это. Но еще раз повторяю тебе: от христианства не отрекусь. Я сам сознательно убедился в его превосходстве, в его истине, и ничто в мире не заставит меня взять свои убеждения обратно. Это я говорю решительно и бесповоротно.
— Ничто?
— Да, ничто.
— И ты ходил слушать этого Павла, который хулит нашу великую богиню Артемиду, который своим учением готовит нам полное разорение?!
— Отец мой, я глубоко почитаю апостола Павла, но если ты хочешь осыпать его при мне ругательствами, то позволь мне удалиться. Апостол Павел для меня безмерно выше вашей Артемиды.
— О брат, брат! — ломала Ариадна руки, ожидая катастрофы.
— Вон из моего дома! — дико завопил Димитрий, окончательно пришедший в бешенство. — Я отрекаюсь от тебя! Ты мне не сын. Забудь нас! Иди к своему Павлу, к своим христианам. A убью тебя, если только ты переступишь порог моего дома.
— Да простит тебя Xристос. Будь здорова, милая сестра. Надеюсь, что ты не осудишь меня так строго. Не плачь! Я силен, молод и сумею заработать себе кусок хлеба.
Ариадна бросилась брату на шею и зарыдала.
— Довольно нежностей! — расслышала она голос отца.
Димитрий с силой оторвал ее от брата.
— Долой с глаз моих, недостойный сын! Не сметь прощаться с матерью! Ты этого еще не стоишь!
— Прощай, сестра моя. Передай матери привет. Юноша медленно вышел из беседки. Ариадна, потрясенная этой дикой сценой, в беспамятстве упала бы на пол, если бы ее не поддержал отец.
Димитрий осторожно отнес дочь в комнату, сдал на руки рабынь, а сам вернулся в сад. Его душила злоба. Он почти не помнил себя.
— И все Павел! Всему виной он! О, я жестоко отплачу ему за все, за все…
Он вцепился в свои густые волосы и жестокие проклятия посыпались по адресу великого апостола.
XIII
Грустный и потрясенный разрывом с отцом оставил Аристоген место, где он родился и воспитался. Слезы невольно капали из его прекрасных глаз, и ему стоило больших усилий, чтобы не разрыдаться. Но в то же самое время какое-то предчувствие и ожидание удивительного мира наполнило его душу и смягчило разлуку с любимой матерью и сестрой. Куда теперь идти? Что предпринять? Прежде всего следовало найти себе приют на эту ночь. Аристоген решил направиться к Калликрату. Дом его находился, правда, далеко, по дороге в Магнезию, но расстояние не смутило юношу. Он бодро и смело зашагал вперед. Вот налево на пригорке забелел храм Артемиды, чудный по архитектуре, но безобразный по своему внутреннему содержанию. А сколько лучших годов жизни употребил Аристоген для прославления богини, для выделки ее статуэток, талисманов, барельефов. Целые тысячи таких поделок прошли через его руки.
— Великий Боже! Прости мое прежнее заблуждение! — тяжело вздохнул он, подняв глаза к небу.
Через полчаса ходьбы Аристоген подошел к квартире Калликрата. Нужно было долго и настойчиво стучать, прежде чем подмастерье поднялся со своей постели.
— Эй, кого злые фурии принесли так поздно? — закричал он, озлобленный такой настойчивостью.
— Не сердись, Калликрат. Это я, Аристоген. Если можешь, отопри мне.
Калликрат распахнул дверь и остановился, оторопев от изумления.
— Прости меня, я думал, кто другой. Сейчас зажгу светильник.
— Не нужно, Калликрат. Посмотри, как ярко светит луна. На что еще другой свет.
Калликрат молчал, предоставляя высказаться позднему гостю первому. Он понимал, что такой приход вызван несомненно чем-то необычайным.
— Ты удивляешься, Калликрат, моему приходу?
— Сознаюсь.
— Но ты удивишься еще более… Аристоген не договорил.
— А именно?
— A пришел искать у тебя приюта на эту ночь.
— Приюта? Клянусь всеми богами, я ничего не понимаю. Разве что случилось?
— Да. Домой я больше не вернусь. Мы с отцом разошлись.
— Но что произошло? Какая причина? — крайне изумленный, вскричал Калликрат.
— Не хочу от тебя скрывать. A христианин.
— Христианин?
Калликрат положительно отказывался верить слышанному.
— Ты перешел в христианство? Может ли быть?
— Да, я христианин, дорогой Калликрат. И я нашел в христианском учении великую истину. A глубоко счастлив. Даже разрыв с отцом меня не страшит. Вот жаль только матери и сестры.
— Странно, непостижимо, — бормотал сбитый с толку Калликрат, шагая по комнате.
— Увы, это не для тебя одного покажется странным. Многие сочтут мой поступок диким, сумасшедшим. Но видишь, я покоен. Ты только тогда поймешь меня, когда сам примешь христианство.
— Но как узнал Димитрий? Ты сам признался ему?
— Он подслушал мой разговор с сестрой. Ну, конечно, рассердился и приказал оставить дом. A охотно подчинился ему. Завтра я соображу, что предпринять, а сегодня дай мне приют.
— Моя комната к твоим услугам, господин. Живи, сколько тебе угодно.
— Спасибо тебе, Калликрат.
— Но признаюсь, Аристоген, я все еще не могу прийти в себя от изумления. Если бы мне сказал кто-нибудь другой, что ты христианин, я ни за что не поверил бы. Неужели так высоко и интересно христианство, что ты решил порвать со всеми ради него, обречь себя, быть может, на…
Он запнулся.
— Досказывай, друг мой. Обречь себя на нужду и лишения? Не так ли?
— Вот именно.
— Это я хорошо понимаю и скажу тебе: лишения меня не страшат. A молод, здоров и всегда найду себе кусок хлеба.
— Ты прав, но все-таки быть богатым и очутиться на улице — это, сознаюсь, малоутешительно.
Аристоген чуть-чуть улыбнулся.
— Ничего, как-нибудь проживу. Господь не оставит меня. Все мое прежнее богатство в сравнении с истиной — один пустой звук. Верь мне.
Калликрат только развел руками.
— Может, ты и прав со своей точки зрения. Но, однако, вот постель. Смело располагайся на ней.
— А ты?
— Я отлично усну и на полу.
— Боюсь, я причинил тебе беспокойство.
— О, не думай об этом.
Аристоген улегся на постели, но не скоро ему удалось заснуть. Всевозможные мысли роем лезли в голову.
Исчез сон и с глаз Калликрата.
«А интересно, что это за учение, ради которого можно бросить семью, дом, богатство»? — размышлял он.
И вдруг в его воображении блеснула фигура апостола Павла. Послышался его проникновенный голос. Вспомнилась вся сцена, происшедшая на крыше. И до сих пор он не мог дать себе ясного отчета в том, как опустился тогда перед апостолом на колени. Видимо, апостол обладает каким-то непостижимым влиянием на человеческую душу, если он, Калликрат, вместо того, чтобы убить апостола, упал перед ним на колени.
«Да, это великий человек. Недаром он подчинил себе и Аристогена. Значит, тут что-то кроется», — решил Калликрат.
Наутро Аристоген поблагодарил своего бывшего подчиненного за приют, распрощался с ним и направился к христианам. Апостола Павла он не застал дома, тот ушел в соседний город с проповедью.
Аристогена встретил Акилла. Юношу все искренно полюбили и его приход был встречен с радостью.
— Я вижу на лице твоем грусть, сын мой. Не случилось ли что-нибудь недоброе? — спросил Акилла.
— Да, в моей жизни произошла большая перемена.
— В чем она заключается?
Аристоген рассказал всю историю разрыва с отцом.
Акилла выслушал молча, внимательно.
— Радуйся и веселись, сын мой. Ты пострадал за Христа. И Он тебя не оставит. Вспомни, что сказал наш Спаситель: «Блаженны вы, когда вас будут гнать и всячески злословить за имя Мое. Великая таким людям награда на небесах». Не скорби. Смело иди за Господом.
— О, брат мой во Христе! Я и не скорблю. Я знал и предвидел такой конец. Мне жаль только моей бедной матери. На нее это повлияет очень плохо. Она и так слабого здоровья, а тут еще такой неожиданный удар.
— Предоставь все Господу. Но что же ты намерен теперь предпринять?
— Сам еще не решил. Вероятно, поступлю в какую-нибудь художественную мастерскую. Другого ремесла я не знаю.
Акилла задумался.
— Научись делать палатки. Это и выгодно здесь, в Ефесе, да и более будет соответствовать твоему христианскому званию.
— Почему?
— А вот почему. Как скульптору, тебе придется работать над изображениями богов и богинь. Это великий грех. Согласен со мной?
Юноша на мгновение задумался.
— Да, ты прав. Но смогу ли я научиться делать эти палатки?
— Трудного тут ничего нет. Сам великий апостол Павел трудится над их изготовлением. И будем все работать вместе!
— О, как я был бы счастлив работать у такого великого учителя! — с энтузиазмом вскричал Аристоген.
— Это зависит от тебя. Вот вернется апостол, и ты сам переговори с ним. А пока останься у меня и раздели мою скромную трапезу.
— Благодарю тебя, достопочтенный Акилла, за радушие. Пусть Сам Xристос воздаст тебе в веке будущем. Через несколько дней вернулся апостол Павел. Аристоген рассказал ему о своем изгнании. Апостол обнял его, прослезился и сказал:
— Не смущайся происшедшим, сын мой во Христе. То, что случилось с тобой, произойдет со многими и не теперь только, но и в грядущие века. Все истинные христиане будут гонимы. Отец восстанет на сына и сын на отца, дочь на мать и мать на дочь. Так сказано нашим Спасителем. Этому и надо верить. Ты же трудись, работай и благодари Бога за все. И войдешь в наследие святых. Потерпи… Терпением надо спасать души наши…
Аристоген поклонился апостолу, поцеловал у него руку и остался изучать производство палаток.
XIV
Асия решительно не могла понять причину грусти своей госпожи. Она долго и бесцельно размышляла над этим вопросом и не пришла ни к какому выводу. Но, несомненно, какая-то причина была.
«Уж не понравился ли ей кто-нибудь?» — встало у нее предположение.
Эта мысль показалась ей и правдоподобной, и в то же время ужаснула ее. Асия знала, что молодая жрица, конечно, может полюбить, но, как посвященная богине, она должна отбросить от себя всякую мысль о любви. Она принадлежала всецело одной лишь богине.
«О, если я угадала, то моя госпожа должна очень страдать. Как я желала бы знать всю правду».
Правда скоро разъяснилась, скорее даже, чем думала верная рабыня.
Димитрию был заказан для Xионии роскошный пояс. Сам хозяин долго и усердно занимался его отделкой. Ему хотелось блеснуть изысканностью рисунка, тонкостью украшений. Он желал, чтобы пояс этот сыграл роль рекламы для его приходящего в упадок дела. Работа близилась к концу. Она была бы окончена скорее, если бы не бурная сцена с сыном. Этот инцидент невольно выбил из колеи Димитрия и на несколько дней отвлек его от работы. Xиония посылала несколько раз свою рабыню узнать о ходе работы. Вернувшись в последний раз, Асия сказала:
— Удивительные вещи, госпожа, творятся у нас в славном Ефесе.
— Что такое?
— Ты, быть может, припомнишь, что у Димитрия есть младший сын Аристоген?
— Знаю. Что случилось с ним?
Xиония вся замерла. Сердце тревожно стукнуло.
— Он перешел в христианство, — заявила Асия.
Она и не подозревала, какой страшный удар нанесла этим известием своей госпоже. Если бы Xионии сказали, что сама Артемида покачнулась на своем основании и упала, ей было бы легче, чем выслушать эту краткую фразу. Жрица почувствовала, что в ее сердце точно вонзилась целая сотня стрел.
— Аристоген христианин? Может ли это быть? Верное ли ты получила сведение? Не ошиблась ли? — забросала она рабыню вопросами, вне себя от изумления.
Асия удивленно посмотрела на свою госпожу, и вдруг ее точно осенило. «Не любит ли она его? Не это ли разгадка грусти?» — пронеслось у нее в голове, и она смутилась, опустив глаза в пол.
— Ты не ошиблась ли, Асия? — снова переспросила Xиония.
— Нет, госпожа, я не ошиблась. Мне передали рабыни из их дома. Теперь Аристогена дома нет.
— Где же он?
— Куда-то ушел. Отец приказал ему удалиться из дома.
— О, Артемида! — прошептала Xиония, застыв на месте.
Но, произнеся эти слова, она как будто опомнилась.
— Иди. Оставь меня.
И жрица властно указала на дверь. Асия покорно вышла. Но лишь только служанка скрылась за портьерой, как Xиония обессиленно опустилась на свое ложе. Лицо ее было мертвенно-бледно, губы сжаты. Глаза с тупым отчаянием устремились на одну точку. Молодую жрицу точно поразил удар. Так пробыла она несколько мгновений, но вскоре в исступлении вскочила с места.
— Он христианин? Аристоген перешел в эту секту, которая не признает богиню Артемиду?! О, боги, боги…
Из глаз Xионии скатились две крупные слезинки. Молодое девственное сердце мучительно заныло. Только теперь, с потерей Аристогена, она поняла,
как дорог был ей этот юноша, какое большое место он занимал в ее сердце.
«И неужели конец? И нет возврата к прошлому?»
Она отлично сознавала, что с переходом Аристогена в христианство, между ними встала двойная стена, и безграничное отчаяние овладело девушкой. Вся жизнь вдруг в мгновение ока потеряла для нее свою цель, свой смысл. Все стало пусто, горько, мрачно. Точно кто-то властной рукой поколебал под ее ногами фундамент. Громко захотелось ей закричать о помощи. Но кому? Кто ее услышит? Кто вольет в ее разбитое сердце целебный бальзам? Xиония мутными глазами обвела свою роскошно убранную комнату и почувствовала себя такой одинокой, оставленной, забытой всеми, что положительно ей не хотелось более жить. Разум еще раньше говорил ей, чтобы она выкинула всякую любовь к Аристогену, но сердце громко заявляло о своем праве. И вот теперь этому сердцу нанесена величайшая рана. Заживет ли она? И когда заживет? А если наступит исцеление, то сколько нужно до той поры испытать страданий, тоски?
Весь день ходила молодая девушка, как помешанная. Хотя она и старалась скрыть свое душевное состояние от Демофона, но опытный жрец понял, что с Xионией произошла какая-то перемена. И он решил зорко проследить за ней.
Молодая жрица переживала самые ужасные часы в своей жизни. Все ей до сих пор так улыбалось, все было к ее услугам. И вдруг такой удар! Она никогда больше не увидит Аристогена, да она и не должна его видеть. Он христианин. Он враг великой богини Артемиды, которой она служит с самых юных лет.
Грудь молодой жрицы трепетала от рыданий. Ей хотелось умереть, чтобы забыться навсегда.
Когда солнце скрылось за морем и Ефес утонул в мягком сумраке, Xиония медленно прошла в храм и остановилась перед статуей Артемиды. Как-то необыкновенно страшно рисовалась на фоне полумрака гигантская, безобразная богиня с поднятым трезубцем. Казалось, он готов был сейчас же поразить молодую жрицу за то, что она, посвященная дева, позволила остановить свои взоры на юноше. Слабо вспыхивал огонек на жертвеннике, и чуть заметной струйкой поднимались к потолку благоухания. Большая завеса была спущена и скрывала за собой храм. И в первый раз Xиония как-то тупо, бесчувственно устремила свой взор на богиню.
— О, Артемида! О, великая богиня Ефеса! — зашептала она, опускаясь перед идолом на колени. — Зачем ты позволила моему сердцу полюбить? Ведь ты все знала, ты знала, что я не должна была любить, ты знала, что меня ожидает такое горькое разочарование, такой удар. Зачем ты не сохранила меня от этого? О, Артемида, я многие годы служу тебе. Я с детства воскуряю перед тобою фимиам. Неужели я не достойна твоей милости и снисхождения?
Xиония закрыла лицо руками. Но прекрасным щекам ее медленно потекли слезинки.
— Прости меня, о, великая богиня, за мой ропот. Но ты видишь мое разбитое сердце. Неужели тебе меня не жаль? Зачем мне жизнь? Возьми меня к себе. Дай мне забвение. Пощади меня, твою верную жрицу.
Xиония, вся, отдавшись молитве, не заметила, как угол занавеси чуть дрогнул, отошел в сторону и тихо, беззвучно появился Демофон.
— О, Артемида! Я тебе служила искренно, — продолжали тихо шептать губы жрицы. — Я никого не должна была любить, но я полюбила. Дай же мне забвение. Вырви эту любовь из моего сердца! Сжалься надо мной!
Она пробыла еще несколько секунд в молитвенной позе. И вдруг порывисто, в экстазе вскочила на ноги.
— Богиня! Ты молчишь? Ты, быть может, не имеешь власти меня утешить? — закричала она громко в исступлении. — Ты отняла от меня счастье, и сама спокойно стоишь передо мной? О, я не могу больше жить… Не хочу!
И Xиония, выхватив из-под туники короткий серебряный нож, замахнулась им против своего сердца.
— Остановись, безумная, — раздался позади нее громкий, гневный голос.
И прежде, чем Xиония успела нанести себе удар, сильная рука жреца вырвала от нее нож.
— Xиония, что это значит? Я требую ответа! Демофон был бледен, как полотно. Xиония от неожиданности замерла на месте. Язык ее точно очутился на привязи. Грудь порывисто колыхалась.
— Слышишь, я требую ответа. Что побудило тебя на такой шаг? Говори правду! Здесь говори, у подножия великой богини. Она тебя слушает.
Но напрасно Демофон повторил свой вопрос. Xиония не слышала его, она в глубоком обмороке упала к подножию идола.
— Тут что-то кроется тайное. Надо непременно все разузнать, — пробормотал ошеломленный Демофон и позвал рабынь.
Xионию отнесли в комнату. Но не скоро она очнулась. Слишком сильным было потрясение.
Демофон потребовал строгого ответа у Асии о поведении Xионии.
— Ты ближе всех стоишь к своей госпоже. Говори всю правду; все, что знаешь. Если солжешь, смерть тебе!
Асия рыдала и клялась, что ничего не знает.
— Будет ли госпожа поведывать свои тайны мне, своей рабыне?
Демофон не смог ничего добиться от Асии и решил расспросить Xионию, когда она окончательно успокоится и придет в себя.
Только на другой день он как бы мимоходом сказал жрице:
— Тебе необходимо освежиться, Xиония. После Ефессий[54] я обязательно отправлю тебя помолиться к Аполлону Делосскому.
Xиония молчала. Не все ли равно, куда ей отправиться? Хотя бы к самому Плутону… Интерес к жизни был потерян. На сердце лежал тяжелый камень.
XV
Калликрату не здоровилось, и он ранее обычного оставил мастерскую. Димитрий всегда делал снисхождение своему главному мастеру, лишиться которого было бы большим ущербом для его пошатнувшегося дела. Калликрат вымыл свое потное и пыльное лицо и вышел на улицу. Солнце висело почти над самым горизонтом и мягкими, ласкающими лучами играло на мраморных колоннах храма, на портиках общественных зданий. В виду наступающего вечера на улице было большое оживление. На агоре, около театра, гуляли толпы народа и громко, никем не стесняемые, передавали свои впечатления, спорили, кричали.
Калликрат уныло брел вперед. В его голове теснились самые разнородные мысли. То вставал перед ним Аристоген, перешедший в христианство, то приходили грустные мысли о невозможности открыть свое дело, то рисовалась невеста, вполне разделявшая скорбь жениха.
«Боги! Как превратно строится наша жизнь! Совсем не так, как мы предполагаем и рассчитываем. Жаль… Думал ли я, что Аристоген перейдет в христианство? Думал ли я, что придется отложить нашу свадьбу? Не мечтал ли я, наконец, открыть поскорее свою мастерскую?..» Калликрат посидел у одного портика, где мальчики играли в камешки. Дети резвились, шумели. Их веселье тоскливо отозвалось в сердце Калликрата, и он пошел далее. В голове была какая-то тяжесть, на сердце тоска.
При входе на одну площадь его внимание было привлечено шумом и оживлением. Большая толпа народу с живейшим любопытством за чем-то наблюдала. Калликрат протискался вперед. На площадке шел бой петухов, любимейшая игра у греков. Со всех сторон слышались одобрительные восклицания.
— Я ставлю за Родосского еще пятьдесят драхм, — кричал близ стоявший молодой мужчина с блестящими от волнения глазами.
Он старался не пропустить ни одного движения петуха, на которого ставил.
— Ого… ого… Ну, еще!..
— Так… Ловкий удар…
— Клянусь Артемидой! Твой Родосский проиграет.
Из Танагры возьмет верх.
— Ошибаешься. Посмотри, каким молодцом выглядывает Родосский.
— Э, как они сцепились!
— Еще, еще, бойцы! Дружней!
Подобные восклицания так и царили в толпе, жадно наблюдавшей за исходом битвы.
— Родосский слабеет, — бросил кто-то фразу.
— Да поразит тебя Плутон за такие слова! — был ответ.
— А тебя Бахус! — выкрикнул поклонник божка.
— Смотрите, смотрите: у Танагрского крыло подбито! Проиграл!
— Проиграл… — раздалось кругом.
Еще несколько секунд боя, и Танагрский петух с подбитым крылом кинулся от своего противника. Толпа заволновалась, зашумела. Ставившие за Танагрского выложили деньги выигравшим.
Вывели других петухов.
Эта сцена хотя и развлекла Калликрата, но ненадолго. Когда начался следующий бой, Калликрат оставил толпу. «Не зайти ли к Кефалу? У него всегда найдется кружка хорошего вина», — подумал он. Приняв такое решение, Калликрат быстро зашагал к цирюльнику.
В древности цирюльни были местом сборища. Здесь можно было выслушать самые последние новости, поговорить, поспорить, можно, наконец, выпить вина, поиграть в кости. Цирюльники были ходячими газетами. Они знали все слухи, все сплетни. Кефал был в этом отношении незаменимым человеком, и его цирюльня была всегда полна народа. Так было и теперь. Когда Калликрат вошел, то увидал, что обширная комната сплошь полна самой разнообразной публикой. Одни стриглись, другие стучали костями, третьи горячо спорили.
— Ба, Калликрат! Давненько ты у меня не был! Где изволил пропадать? — весело закричал Кефал, лишь только увидел гостя.
Кефал (что означало «голова»), был невысокого роста, но с очень большой головой, отчего и получил такое имя.
— Где мне пропадать? Все работаю у Димитрия.
— Говорят, ты без ума от его дочки? Кефал весело подмигнул.
— Оставь шутки. Эта птица не про нас.
— Э, рассказывай. Как не полюбить такого геркулеса? Но ты, я вижу, нуждаешься в моих услугах? Садись. Уж, постараюсь.
— Ну хорошо, стриги! А найдется ли у тебя кружка доброго вина?
— О, еще бы! Сколько угодно. Ну, а теперь ты нам рассказывай всю историю о своем молодом хозяине Аристогене.
Кефал вооружился ножницами, бритвой и принялся за свое дело.
— Что же я могу тебе рассказать? Я и сам ничего толком не знаю.
— Не лги. Почему твой молодой хозяин перешел в христианство? Какая цель? Здесь каждый день интересуются этим вопросом.
Ближайшие посетители цирюльника, услышав имя Аристогена, замолчали и вопросительно обернулись к Калликрату.
— Ничего не знаю, — снова мрачно отозвался Калликрат, — разве я поверенный моего господина?
— Знаю, что не поверенный, но очень близкое лицо.
Он мог тебе кое-что сообщить, — не унимался Кефал.
Он был уверен, что Калликрат многое знает, но только не хочет говорить. И ему страшно захотелось вызвать его на откровенность.
— Говорят, Димитрий прогнал сына. Правда это?
— Аристоген не раб, которого можно прогнать, — проворчал Калликрат, — он сам и ушел, зная, что дальнейшая жизнь с отцом не удобна.
— Что же он хочет делать? Поступить куда-нибудь на службу?
— Разумеется, нужно что-нибудь делать. Хлеб даром не дадут.
— Прими его, Кефал, к себе в подмастерье, — ехидно улыбнулся какой-то грек в сильно потертом хитоне. Калликрат сердито сверкнул глазами на неожиданного незнакомца-грека.
— А ты иди пасти свиней, — проговорил он резко.
— Я? — побагровел тот, вставая с табурета.
— Ну да, именно ты. Если мой господин пойдет сюда в подмастерье, то я тебя прогоню пасти свиней. Понял?
— Негодяй! — завизжал тот, сжимая кулаки.
— Я все-таки поумнее тебя.
— Я убью тебя…
— Посмотрим, у кого кулаки сильнее. Эй, не ошибись. Видишь?
И Калликрат сунул к самому носу грека увесистый кулак. Тот невольно отскочил. Все захохотали.
— Ого, Калликрат, да ты готовишь нам интересное зрелище. Ну-ка, начинай!
— Сам ты не христианин ли? — вне себя закричал грек. — Как много развелось их у нас в Ефесе. И все благодаря какому-то Павлу. Ах, он…
Но Калликрат оборвал его.
— Молчать! — закричал он. — Если желаешь драться — выходи, а не смей задевать Павла. Он в тысячу раз умнее тебя.
— Он христианин, граждане! Он оскорбитель богини Артемиды.
— Нет, я пока еще не христианин, но не позволю всякому мерзавцу глумиться над моим господином Аристогеном.
Калликрат кинулся на обидчика и далеко отшвырнул его в сторону. Тот завизжал от ярости и обнажил меч. Калликрат схватил бритву.
— Оставьте ножи! На кулаки! — раздалось кругом. За грека вступились. На Калликрата набросились.
Но и его сторону поддержали и началась общая свалка. Кефал в ужасе прижался к стене.
— О, боги, пропала моя мебель!
Калликрат рассвирепел и начал кидать своих противников, как мячи. Он действовал так ловко и сильно, что многие залюбовались им. Любовался даже и Кефал, на минуту забывший о своих поломанных стульях. Наконец, Калликрат очистил себе дорогу и вышел на улицу. На руках было несколько ссадин. Спина ныла: кто-то ухитрился больно ударить по ней табуретом. Но Калликрат не обратил внимания на эти пустяки. Эта свалка даже скорее развеяла его хандру.
Он скорыми шагами направился к Аристогену, который жил вместе с Акиллой и Прискиллой.
— Рад тебя видеть, Калликрат. Ну, что скажешь хорошего? Как поживаешь? — приветствовал его обрадованный Аристоген.
— У меня к тебе, господин мой, большая просьба, — вместо ответа произнес Калликрат.
— Какая?
— Ты человек умный, начитанный, образованный. И если ты перешел в христианство, то, разумеется, сделал это не без причины. A много думал над этим, видя распространение этого учения. Прошу тебя, познакомь меня с христианами ближе.
— О, как я рад услышать от тебя такую просьбу! — с восторгом отозвался Аристоген, — ты доставил мне сегодня великую радость, мой милый Калликрат. Поверь мне, когда узнаешь христианство, ты не вернешься более к своим ложным богам и Артемиде. Христианство велико. Ему принадлежит все будущее. Как я искренно, горячо желал бы, чтобы ты принял его и был бы мне братом во Христе. Слушай же…
И Аристоген начал говорить об Иисусе Христе.
XVI
Демофон был сильно озадачен поступком Xионии. Весь вечер он медленно ходил взад и вперед по колоннаде храма. Глубокие морщины лежали на его лбу.
«Что случилось с Xионией? Отчего она хотела окончить свою жизнь самоубийством? Какая причина? — теснились у него вопросы. — О, я непременно узнаю это… Не замешался ли тут Эрос[55]?» Вот было бы величайшее для меня несчастье! Сохрани ее, великая Артемида.
Солнце скрылось за морем, а Демофон все еще в задумчивости ходил по портику. Наконец, он остановился, посмотрел вокруг себя и медленно поднялся по лестнице на верх храма.
Какой чудный вид открывался отсюда с площадки! Весь Ефес был как на ладони. Высились горы Коррес и Прион с лепящимися по их склонам домами. Длинной лентой блестел канал, проведенный из залива в город. Высились арки и портики общественных зданий. А там, за городом, сверкало своими нежными полутонами море. В гавани стояли многочисленные суда. Их мачты казались стройным лесом. И невольно залюбовался жрец красотой города, в котором он был таким видным лицом.
Но мысли его опять направились к Xионии.
— Я не успокоюсь до тех пор, пока не разгадаю эту тайну, — твердо сказал он сам себе. Из храма Демофон направился в помещение жриц, куда имел полное право входа.
— Xиония спит? — спросил он у Асии.
— Да. Моя госпожа забылась, — ответила та с глубоким поклоном.
Демофон, сделав рабыне знак, чтобы она молчала, тихо отодвинул занавес и вошел в комнату молодой жрицы. Xиония лежала на своем ложе. Одна рука ее была подложена под щеку, другая свободно спускалась вниз. Демофону показалось, что на закрытых ресницах Xионии дрожали слезинки. Но дыхание ее было спокойное. С какой-то несвойственной Демофону нежностью посмотрел он на спящую девушку. Никто не узнал бы в данный момент Демофона. Он совершенно преобразился. На суровом, холодном лице промелькнула улыбка.
Так может смотреть только горячо любящее родственное сердце.
— Да даст тебе Артемида покой! — прошептали его губы. Еще раз скользнув по лицу спящей девушки ласковым взором, Демофон подавил печальный вздох и вышел из комнаты.
— Неотлучно будь при своей госпоже, — кратко приказал он Асии.
Та молча низко поклонилась. Демофон прошел в храм, бросил на жертвенник горсть лучшего фимиама, встал перед Артемидой на колени и поднял к ней руки.
— О, великая Артемида! Услышь меня, твоего верного служителя, который десятки лет смиренно простирает к тебе свои руки! Избавь Xионию от всякого зла. Дай ей до смерти служить тебе. Ты все знаешь, великая богиня! Ничто от тебя не скрыто. Ты знаешь, кто мне Xиония! Сохрани же ее мне до моей смерти. Молю тебя, услышь меня, славная повелительница Ефеса! Если закралось в сердце ее какое-нибудь горе, исцели ее; если она обратила на кого-нибудь свои взоры, отврати и дай забвение. И если Xиония найдет прежний покой, то я обещаю принести тебе жертву в сто быков!
Демофон низко склонился к подножию Артемиды и поцеловал начертанные на нем таинственные письмена.
XVII
Ксанфа была несказанно убита, поражена обращением сына в христианство, а, главным образом, его уходом из дома. Она, по указанию Калликрата, кинулась к сыну, плакала, рыдала и умоляла о возврате.
— Аристоген, мой милый Аристоген, что ты сделал со мной.., вернись обратно. Откажись от этого учения! Неужели оно так заманчиво и увлекательно? Разве хуже наша богиня Артемида? О, Аристоген, вернись и примирись с отцом, — умоляла она сына.
— Сделать это я не могу, мама, — твердо и решительно отвечал юноша, — христианство есть истина, а разве можно, узнав истину, снова вернуться ко лжи? A люблю тебя, верь этому, но исполнить твое желание не могу. Это выше моих сил.
И никакие мольбы матери делу не помогли. Аристоген скромно жил среди христиан, помогая апостолу Павлу, Акилле и Прискилле в производстве палаток. Но он, конечно, не разорвал отношений ни с матерью, ни с сестрой. Через Калликрата он писал им и получал ответы. Изредка мог Аристоген видеться с сестрой.
Однажды он получил от Ариадны такую записку:
«Милому брату искренний привет! Так как отца весь сегодняшний вечер не будет дома, то, пожалуйста, приди к нам. И мама, и я убедительно просим тебя откликнуться на нашу горячую просьбу. Нам очень хочется тебя видеть. Приди же. Ариадна».
Аристоген решил исполнить просьбу сестры, тем более, что он ни разу не был дома после разрыва с отцом.
— Что скажешь, господин? — спросил Калликрат, вручивший письмо Аристогену.
— Скажи, что приду.
— Сегодня вечером?
— Да. Но только я не хочу, чтобы кто-нибудь знал о моем посещении. Отец выместит злобу на моей матери и сестре.
— Будь покоен. Это беру на себя я. Когда настанет ночь, буду ожидать тебя у сада. A помогу тебе перелезть через стену, и ни один раб не увидит тебя. Только надень простой темный плащ.
— Благодарю тебя, Калликрат, твоей услуги я не забуду. Этим ты доставишь большое утешение моей бедной, измученной матери.
Калликрат поклонился и ушел. Все произошло так, как было условлено. При наступлении темноты Аристоген направился к своему дому и благодаря посредничеству Калликрата незаметно прошел в гинекей. Юношу увидела только одна верная рабыня, на скромность которой можно было вполне рассчитывать.
Ксанфа упала на шею сына. Она покрыла его голову бесчисленными поцелуями и, не сдержавшись, зарыдала от сильного волнения.
— Мой милый Аристоген! Если бы ты знал, как мне грустно и тяжело без тебя! A никогда не успокоюсь. Все мое бедное сердце изболело. Неужели нет никакого возврата к прошлому?
Юноша поцеловал мать и тихо, но твердо ответил:
— Нет! Возврата к ложным богам не будет! Я нашел истину и никогда не изменю ей.
— Ах, Аристоген, я не философ, чтобы разобраться, где истина и где ложь. Я не берусь за это. Быть может, в твоем христианстве много хорошего, не напрасно оно так сильно распространяется. Не буду говорить об этом. Но твой уход растерзал мое сердце. Милый мой Аристоген, как я желаю, чтобы ты снова вернулся к нам! Это мое пламенное желание. Больше я ничего не хочу.
— Зачем ты сокрушаешься и оплакиваешь так горько мой уход? У тебя есть Дорион, у тебя есть такая милая дочь Ариадна…
Ариадна уселась у ног брата и не сводила с него любящего взора. И как много читалось в этих прекрасных, чистых, лучезарных глазах девушки! Она налюбоваться не могла братом. А при его последних словах легкая улыбка скользнула по ее губам.
— Аристоген, я не могу заменить тебя. Ты лучше можешь утешить, успокоить мать. Она все время плачет, и я ничего не могу с ней поделать.
— Я только тогда успокоюсь, когда Аристоген снова вернется в наш дом! — вскричала Ксанфа.
Юноша печально опустил голову.
— Ах, мама, я с удовольствием вернулся бы к вам, но только христианином. А ты сама знаешь, что отец на это не согласится. Я могу лишь время от времени по ночам бывать у вас, подобно вору… Но поверь, мама, и ты, сестра, — те лишения, которые я испытываю сейчас, ничего не стоят и не значат в сравнении с тем сокровищем, каким я владею.
— Каким сокровищем? — удивились женщины.
— Сокровище — это Xристос и Его Божественное учение. О, если бы вы прониклись его высотой, глубиной и величием! Каким грубым показалось бы вам языческое учение! В сравнении со Христом все ваши боги и богини один лишь сор.
— И Артемида? — спросила с робостью Ксанфа.
— Да, и Артемида. Что такое Артемида? Это статуя, сделанная руками человеческими. Разве это бог? Разве эта статуя может иметь какое-нибудь влияние на жизнь человека? Никакого. Нет, есть один Истинный Бог, Творец неба и земли. Один есть Сын Божий, Иисус Xристос, наш Искупитель. Ах, если бы вы знали, какие награды обещает Xристос Своим верным последователям за гробом! А учение Его? Это совершенная истина, против которой нельзя сказать ни одного слова. Как ты назвала бы, мама, человека, который, чтобы спасти твою жизнь, чтобы дать тебе счастье, пошел бы на самую ужасную смерть? Ведь ты назвала бы его своим величайшим благодетелем! Ты поцеловала бы и ноги его? Не правда ли?
— Да, правда. Но найдется ли такой Человек?
— Он уже нашелся. Идите и поклонитесь Иисусу Христу. Он наш величайший Благодетель. Он осыпал нас несказанными благодеяниями. Он отверз нам врата рая. Он даровал нам блаженную вечность за гробом! Как же не преклоняться перед Ним? Как же не благоговеть?
Аристоген воодушевился. Щеки его вспыхнули ярким румянцем. В глазах блеснул огонек искренней веры и любви к Спасителю. Никогда Ксанфа и Ариадна не видели юношу таким оживленным. Точно перед ними сидел кто-то другой, а не их Аристоген. Какая-то особая печать лежала на его благородном лице.
Изумленные женщины молчали.
— Да, наше искупление совершено Господом Иисусом. Все мы были под праведным гневом Божиим, союз с Богом был разорван. И вот этот союз снова восстановлен Христом. Он пострадал за нас. Он принял на себя наши грехи. Теперь только веруй в Него, исполняй Его святые заповеди, и будешь спасен.
— От чего спасен? — спросила Ксанфа.
— От вечного осуждения, вечного мучения. Xристос даровал нам рай. Он не простой человек. Это Сам Бог во плоти.
— Бог во плоти?! — со страхом прошептала Ксанфа.
— Да, именно Бог во плоти. Не захотел Бог совершенно погубить людей и послал в мир Своего Единородного Сына, чтобы мы все спаслись. Разве это не вызывает в вас чувство беспредельной преданности и благоговения к Спасителю?
— Какие ты странные говоришь слова! — растерянно произнесла мать. — Я ничего, сознаюсь, не понимаю.
— Ты права, понять это трудно, а веровать в Иисуса Христа можно и даже должно. Не веровать — значит быть осужденным. Иисус Xристос принес в мир величайшую, радостную весть. И весь языческий мир будет несказанно рад этому. Настанет новое время. Конец ложным богам… Поверьте мне, я говорю правду. И вот вам порукой наш великий апостол Павел. Истину своего учения он доказывает многочисленными чудесами и знамениями. Я думаю, многое и вам известно. Hаконец, есть еще лица, особенно в Палестине, которые видели Самого Господа Иисуса Христа при жизни. Здесь в Ефесе живет один христианин, который видел Христа уже воскресшим, когда Он благоволил явиться сразу пятистам ученикам. Если хотите, я приведу его сюда, и он вам сам подтвердит это событие. Но вы мало слышали о Иисусе Христе, вернее, совсем не слышали, а потому я считаю своим долгом рассказать вам о христианстве все, что знаю сам. Слушайте же. Сначала я познакомлю вас с сотворением мира, историей израильского народа, а затем уже перейду к христианству.
— Ах, расскажи, милый брат. Это так интересно.
— Послушаю и я то учение, которое так тебя увлекло, — согласилась Ксанфа.
У Аристогена было пламенное желание обратить этих дорогих для него людей в христианство, а потому он с жаром, с увлечением начал свою проповедь. Мать и сестра почти не перебивали его. Только изредка, время от времени, предлагали какой-нибудь вопрос в случае своего недоумения. Аристоген изложил вкратце значение пророчеств и приступил было к выяснению личности Искупителя, как вдруг в комнату влетела бледная, перепуганная рабыня.
— Беда! Господин вернулся! Он, кажется, идет сюда. Ксанфа и Ариадна замерли от ужаса.
— Что теперь нам делать? — заломила руки Ксанфа. — Аристоген, спасайся. О, боги, боги, вот несчастье! А он хотел у Трасея пробыть всю ночь.
Бедная женщина совсем потерялась. Она сновала из угла в угол, словно ища выхода.
Аристоген сразу овладел собой.
— Мама, не волнуйся. Я всю вину беру на себя.
— Аристоген, спрячься скорее за одежду! Там отец тебя не увидит, — взмолилась Ариадна, белая как мел.
— О нет, сестра. Мне неприлично трусить и прятаться. Я не слабая женщина.
Послышались уже шаги.
— Он идет, идет… О, боги, — простонала Ксанфа, падая на ложе.
Занавесь распахнулась, на пороге показался Димитрий.
— Дело кончилось скорее, чем я предполагал, — довольным тоном заговорил он.
Димитрий хотел еще что-то сказать, но, увидев бледную, трясущуюся жену, изумленно вскричал:
— Что с тобой, Ксанфа?
Тут он повернул голову и увидел сына. Димитрий побагровел и окаменел на месте. Глаза его точно хотели выскочить из орбит.
— Ты… смел явиться сюда после всего происшедшего?! Он дикими глазами окинул сына.
— Да, отец мой, я сам, по своей собственной воле и желанию явился сюда, чтобы побеседовать с матерью и сестрой, — тихо ответил юноша.
— Я тебе не отец, а ты мне не сын! A проклял тебя! И ты, вероятно, хочешь, чтобы я отправил тебя поскорее в царство Плутона?
Он, вне себя от бешенства, подскочил к сыну, выхватил меч и взмахнул им.
Ариадна бросилась между отцом и братом.
— Остановись, отец! Что ты делаешь! — закричала она, силясь вырвать меч.
— A убью его! Он изменник!
— Убей меня, но не его!
Ксанфа хотела было встать, но как мертвец упала с ложа на пол. Ариадна отвела удар, но кинжал прорезал ее руку. Кровь брызнула и оросила ее тунику.
Аристоген вырвал кинжал из рук отца.
— Милая сестра, ты ранена!
Ариадна слабо улыбнулась, зашаталась и повалилась на руки брата.
— Вот до чего довел тебя твой неразумный гнев. А у христиан первая заповедь — любовь к ближнему…
— Замолчи! Или я задушу тебя своими собственными руками. Уходи!
— Да, я уйду, но нужно сначала оказать сестре помощь. И этого ты мне не запретишь.
Аристоген крикнул рабынь, и рана Ариадны была перевязана. Ксанфу привели в чувство. Увидев сына, она зарыдала:
— Ты жив? Ты не убит?
— Милостью Спасителя моего, я, как видишь, жив и здоров. Но успокойся, мама. Не все же царить тьме. Я уверен, что и ты увидишь свет.
Он горячо поцеловал мать и сестру, крепко прижал их к своей груди и вышел из дома.
XVIII
Бешенство Димитрия было неописуемо.
«Аристоген ворвался в мой дом! Он проповедовал жене и дочери о своей религии! Из-за него ранена Ариадна! О, этого я ему никогда не прощу! И Павел ответит мне головой за сына и дочь!»
Димитрий яростно шагал по перистилю. Рабы избегали показываться ему на глаза. Иначе в минуту гнева можно было навлечь на себя страшную кару.
— О, я отомщу… Месть Павлу… — потрясал Димитрий кулаком.
Он не спал всю ночь, обдумывая план мщения. Утром Димитрий надел хорошую, праздничную тунику, набросил гиматион и направился к храму Артемиды.
Народу было еще мало. Только несколько человек прогуливались около колонн и вели беседы.
— Могу я видеть главного жреца Демофона? — спросил Димитрий у одного служителя.
— Ты хочешь принести жертву?
— Нет, я хотел бы переговорить с ним об одном очень важном деле.
— Великий Демофон в своей комнате. A укажу к нему дорогу.
Служитель провел Димитрия к помещению, которое занимал Демофон, и передал его на руки другого раба.
— Как сказать о тебе?
— Скажи, что художник Димитрий желал бы видеть великого Демофона по своему делу.
Раб ушел с докладом и через минуту уже вернулся обратно.
— Великий жрец готов принять тебя. Следуй за мной.
Димитрий вошел в комнату. Жрец важно стоял у окна в выжидательной позе.
Димитрий низко поклонился.
— Прости меня, великий Демофон, что я осмелился беспокоить тебя, но я имею на это большое основание, — начал Димитрий.
— Я слушаю. В чем дело?
— Я скульптор Димитрий. Жрец кивнул головой.
— Из моей мастерской распространяются по всей Малой Азии изображения, статуэтки и медальоны богини Артемиды.
— Знаю и одобряю. Ты делаешь священное дело. Через твои произведения чтится наша богиня.
— Но ты знаешь, великий Демофон, что с тех пор, как поселился здесь в Ефесе Павел из Тарса… как…
Жрец сделал резкое движение.
— Не говори больше! Довольно. Да не произносится имя этого хулителя богини здесь, в пределах ее храма.
В глазах жреца вспыхнула злоба. Димитрий поклонился и продолжал.
— Негодование твое я вполне разделяю. Но я должен высказаться. Здесь страдают и мои интересы. Да, теперь уже меньше чтут богиню. Христианство делает большие шаги. Кто знает: пройдет еще несколько лет, и христиане разрушат и самый этот храм.
Демофон в ужасе поднял руки кверху.
— Димитрий, что ты говоришь! Ты хулишь богиню.
— И не думаю. Я не менее твоего чту ее и с глубокой скорбью вижу, как все меньше и меньше почитается богиня греками. Для меня плохо уже и то, что я терплю большие убытки. Мой сбыт стал втрое меньше, чем в предыдущие годы. И причина одна — христианство…
Демофон взволнованно заходил по комнате. То, что говорил Димитрий, и его самого заставляло глубоко задумываться. Он ясно видел распространение христианства, а вместе с тем и упадок веры в Артемиду. Страдали и его интересы: количество поклонников в храме уменьшалось.
— Да, Димитрий, ты прав. Благодаря христианству, падает почитание великой богини. Ты не ошибся.
Вся спесь и важность исчезла с лица Демофона. Сознание опасности превратило его в обыкновенного человека.
— Вот я и пришел посоветоваться с тобой, великий Демофон, об этом деле, — продолжал Димитрий. — Нельзя ли что-нибудь придумать? Нужно непременно избавиться от Павла и тем самым уничтожить его учение в самом корне!
Демофон в глубокой задумчивости опустил голову.
— Скажи мне, Димитрий, это правда, что твой сын Аристоген перешел в христианство?
Димитрий мрачно сдвинул брови.
— Да, правда, но он мне более не сын. Демофон пытливо посмотрел ему в глаза.
— Ты отрекся от него?
— Да.
— Хвала тебе, достойный поклонник богини Артемиды! Этим ты доказал ей свою преданность. И я надеюсь, что она будет к тебе милостива. Знай, что Павел — и мой страшный враг. О, я с великим удовольствием приказал бы его умертвить, но это невозможно: у него здесь так много приверженцев. Умертвить немудрено, но что, если из этого выйдет бунт?
— Это правда. Осторожность должна быть на первом плане.
Собеседники на минуту замолчали.
— Нужно дело устроить так, чтобы сам народ восстал на Павла. Понимаешь? Народ, а не мы, — нарушил молчание жрец. — Тогда с нас падет всякое подозрение и ответственность. Народ и будет в ответе. Мне уже пришел на ум один план.
— Какой?
— Скоро будет праздник Артемиды.
— Да.
— Во время такого шумного праздника можно устроить все безнаказанно.
Жрец помолчал немного и резко докончил:
— Поднимем бунт на Павла.
— Бунт?
— Да, что же тебя удивляет? Мне кажется, что во имя богини Артемиды можно прибегнуть ко всему. И я очень рад, если встречу в тебе преданного союзника. Ты мне можешь много помочь.
— О, Демофон, преданнее меня человека ты не встретишь! A сам горю местью и готов на все. Павел отнял у меня сына, подорвал мне дело. Я разорен. Производство мое сокращается. Приказывай мне. Я твой слуга.
В глазах Демофона сверкнул довольный огонек.
— Благодарю тебя, Димитрий, за готовность потрудиться для славы и почитания нашей богини. Поднять восстание — дело крайне ответственное, но мы не должны для общих интересов останавливаться ни перед чем. Это мы сделаем в самый разгар празднеств. У тебя есть подчиненные, есть товарищи. Несомненно, производство страдает у всех вас. Сделайте общий совет и во время праздников возбудите народ против Павла. Время подходящее. Будут праздновать богиню Артемиду, а между тем, мы пустим слухи, что здесь в городе живут ее хулители. Ну, конечно, я со своей стороны тоже приму меры. О, как бы я желал уничтожить этого ненавистного мне человека! Помоги мне в этом ты, сама великая богиня!
Заговорщики начали вырабатывать детали. Говорили долго и осторожно, чтобы кто-нибудь не подслушал.
— Я опасаюсь только одного: как бы в случае сильного возмущения не вмешались римляне. Это может привести к ограничению прав граждан Ефеса, — тревожно заметил Димитрий.
— Честь и достоинство богини Артемиды выше политических прав! — вскричал запальчиво жрец. — Что могут значить эти права в сравнении с почитанием богини! И, наконец, для тебя лично эти права — пустой звук! И при ограничении прав граждан дело может блистательно процветать. А с распространением христианства опустеет храм богини, и, стало быть, твоему производству конец.
— Да не будет этого!
— В таком случае надо действовать, — резко ответил Демофон.
Он пригласил скульптора в храм и подвел его к статуе Артемиды.
— Поклянись мне, Димитрий, что ты будешь верен великой богине!
— Клянусь, — отвечал Димитрий.
— Клянись, что ты будешь ненавидеть христианство, будешь способствовать его падению и уничтожению. Поклянись, что будешь ненавидеть Павла и успокоишься только тогда, когда он будет мертв!
— Клянусь тебе, богиня Артемида, что я исполню все сказанное твоим служителем, — повторил Димитрий, простирая руки к идолу.
— Отныне мы с тобой друзья и союзники, — проговорил Демофон, обнимая Димитрия.
Они воскурили фимиам перед статуей, и Димитрий оставил храм с твердым намерением привести в исполнение данную клятву.
XIX
Хиония переживала тяжелые дни. Она невыносимо страдала и мучилась. Все для нее погибло. Вся жизнь превратилась в какой-то тяжелый, удручающий сон. Любовь, ее первая любовь, невозвратно исчезла, не успев еще и расцвести. Она, как жрица, не должна была ни на кого обращать свои взоры. Но вот она обратила внимание на красоту прекрасного юноши и жестоко поплатилась. Богиня мстит за измену. И встал перед ней, как живой, Аристоген. Вспомнилась их первая встреча. Это было вечером. Она прогуливалась вместе со своей верной Асией недалеко от храма и наслаждалась прохладой. Солнце уже закатилось и его ярко-багровые лучи необыкновенно красиво полились из-за моря. Весь храм приобрел какую-то удивительную воздушность и привлекательность. И вдруг она увидала двух идущих ей навстречу мужчин. Один был рослый, сильный, плечистый. При взгляде же на другого, сердце Xионии невольно вздрогнуло. Ей показалось, что она увидела самого Аполлона в образе человека. Никогда она не видала такого сочетания грации, мужества, красоты. И она, очарованная, невольно остановилась на мгновение.
Дивная гармония зазвучала в ее душе.
Она не утерпела, обернулась, взглянула ему вслед и, величественная в своем блестящем гиматионе, снова медленно продолжала прогулку. С тех пор образ юноши неотвязно стоял перед ее глазами, куда бы она ни шла и что бы ни делала. «Кто же он?» — был ее постоянный вопрос. Она чаще прежнего ходила по портикам и улицам, внимательно вглядываясь в толпу, но все напрасно. Юноши не было. «Он, вероятно, приезжий и уехал из Ефеса», — решила, наконец, она.
И вдруг он явился в храм. Он пришел, как победитель на Великих Афинских Панафинеях[56]. Затрепетало ее молодое сердце. О, как тогда она была счастлива! Она взглянула на него всего несколько раз, но и этого было достаточно, чтобы его образ навсегда запечатлелся в ее сердце, в ее душе. Она почувствовала, что с этого времени кто-то другой вошел совершенно неожиданно и лишил ее покоя. Она увидела теперь, что не принадлежит уже себе вся, целиком, как это было раньше. Сердце ее было ранено, хотя разум и приказывал ей всеми мерами и средствами выбросить из своей головы образ этого юноши. Но решиться на что-либо — еще не значит привести решение в исполнение. Сердце громко заявляло о своем праве. И Xиония, воспользовавшись первым предлогом, отправилась в мастерскую Димитрия.
И вот она снова увидела юношу. Мало того: она даже говорила с ним. Она заметила, с каким восхищением Аристоген смотрел на нее. Но, несомненно, он считал ее недоступной для себя. Ведь она священная дева, служительница самой Артемиды. Мог ли он питать какую-нибудь надежду на взаимность? О, если бы он знал ее тайные мысли, тайные стремления! Тогда он не думал бы, что она от него так далека! А она не могла уснуть в эту ночь… Прекрасный юноша, как живой, стоял перед ней. Напрасно она умоляла о помощи Артемиду, богиня была неумолима, непреклонна и молчалива. С тех пор сердце Xионии постоянно ныло и мучилось.
А вот и еще одно свидание. Оно произошло под портиком. Юноша медленно прогуливался, скрестив руки на груди. Она шла в сопровождении преданной Асии. Радостью озарились их лица, когда они увидели друг друга. Немного было сказано слов, но о многом говорили их глаза… И вдруг такой удар, такое ужасное разочарование! Аристоген — христианин! Аристоген выгнан с позором из дома! Погибли все ее мечты, вся любовь. С этого времени жрица храма великой Артемиды должна… Да, именно должна презирать того, кто стал ей дороже всего на свете. Как же трудна была эта борьба…
Из-за занавески глянула Асия.
— Не нужно ли тебе что-нибудь, госпожа?
— Ничего не нужно. Иди.
Асия долгим, любящим взглядом посмотрела на жрицу и скрылась за занавесью. Xиония сильно желала поведать рабыне свою сердечную тайну, высказаться ей, излить перед ней свою душу, но самолюбие не позволяло решиться на такой шаг. А носиться одной со своим горем было страшно тяжело.
Молодая жрица изнемогала. И не было ни одного человека, которому она могла бы вполне довериться, выплакать свое горе. О Демофоне и думать было нечего. Она не могла пожаловаться на отсутствие внимания с его стороны. Демофон был всегда предупредителен, даже порой добр. Ни в чем ей не было отказа, комфортом пользовалась полным. Все было у ее ног, все к ее услугам. Но несмотря на такое отношение к ней Демофона, Xиония как-то инстинктивно сторонилась его. Точно он причинил ей раньше какое-то зло, точно он имел какое-то роковое влияние на ее судьбу. Но всего более удивляло Xионию молчание Демофона о ее родных. Он уклончиво говорил, что отец ее был мелкий ремесленник, живший в Пергаме, и что он, Демофон, взял ее после смерти родителей на воспитание, когда ей было не более двух лет. Вот и все, что сообщал жрец. Но так ли это? Правду ли он говорил? Не лгал ли? Xиония ясно видела, что Демофон намеренно не хочет сказать ей правду и хранит какую-то тайну. И это сознание всегда тревожило и мучило молодую жрицу. В душе ее иногда начинало слабо звучать что-то давно прошедшее, звенели какие-то непонятные нотки. Но что именно это было, Xиония не могла понять и вспомнить, оно исчезало, как мираж.
Молодая жрица встала со своего ложа и медленно прошлась по комнате. Волосы ее распустились по плечам, и это делало ее каким-то сказочным существом.
Из-за занавески опять глянула Асия, услышав шум шагов своей госпожи.
— Не нужна ли я тебе, госпожа? Xиония остановилась против не.
— Асия, при наступлении ночи мы пойдем прогуляться. Приготовь самые простые плащи, чтобы нас никто не узнал.
Так как подобные прогулки в теплые ночи совершались нередко, то приказание Xионии не было для Асии неожиданностью. Она только спросила:
— Кого из рабов прикажешь взять с собой?
— Никого.
Но Демофон будет недоволен. Прости, госпожа, за это замечание.
— Мне кажется, что я не настолько маленькая, что не могла бы кое-где поступить и по своей воле.
Асия с удивлением посмотрела на госпожу. Таким резким тоном, особенно о Демофоне, Xиония никогда не говорила. Асия поспешно поклонилась и кротко сказала:
— Хорошо, госпожа. Твое приказание для меня священно.
Она повернулась и хотела было уже уйти, но Xиония вдруг остановила ее и долгим пристальным взглядом посмотрела в глаза рабыни.
— Асия, ты никогда не скрывала от меня правды? — с заметным волнением спросила Xиония.
— Что ты хочешь этим сказать, госпожа? — удивленно промолвила рабыня.
— Отвечай на мой вопрос.
— Да, я никогда не лгала.
— И всегда говорила правду?
— Всегда. Призываю Артемиду в свидетели.
— Хорошо. Верю. Тебе двадцать семь лет?
— Да.
— При храме ты живешь десять лет?
— Десять.
— А мне двадцать лет, следовательно, я была десяти лет, когда тебя купил Демофон.
— Да, десяти.
Рабыня терялась в догадках.
— Я вот что хочу этим сказать. В то время, когда ты была куплена и привезена сюда, то не слыхала ли каких-нибудь разговоров среди жрецов о моей родине и моих родителях? Быть может, ты что-нибудь слышала?
— Клянусь тебе, моя госпожа, я ничего не знаю. Не более, чем ты сама. Да и кто мне станет говорить о тебе? A только слышала, что тебя в самых ранних годах привез откуда-то Демофон, поместил при храме, дал рабынь и окружил полным вниманием. Я была куплена для тебя, когда тебе исполнилось десять лет. Но почему эти воспоминания так волнуют тебя, госпожа? Не лучше ли предать забвению все прошедшее? Ты только тревожишь себя. Демофон ничего не скажет, а кроме него никто не знает о твоем прошлом.
— О, чувствую, тут кроется какая-то тайна, — задумчиво проговорила Xиония, — и я не успокоюсь до тех пор, пока она не разъяснится. Ну, хорошо, я верю тебе, Асия. Верю, что если бы ты кое-что знала, то не оставила бы меня в недоумении и смущении.
— Да, госпожа, это-то так…
Настали сумерки, и ночь быстро спустилась над городом. На небе горели яркие звезды. Воздух был чист, прозрачен, и казалось, что небесный свод висит над самыми головами. Xиония любила гулять в это время запросто. Днем все приветствовали ее как главную жрицу, это утомляло ее. Она желала уединения и нередко под простым плащом совершала прогулку, как самая обыкновенная гражданка. Опасности она не боялась. На ее груди висел большой золотой медальон с изображением Артемиды. Стоило ей в критическую минуту распахнуть плащ, как всякий грабитель со страхом отступил бы перед главной жрицей. Подобные случаи действительно и бывали не раз. Впрочем, и Xиония, и Асия были девушки смелые, сильные, и в минуту смертельной опасности отлично смогли бы пустить в ход свои изящные мечи, спрятанные на всякий случай под гиматионом.
При наступлении ночи Xиония набросила на себя темный плащ, какой носят женщины простого класса, и в сопровождении Асии вышла за ограду храма. По улицам ходили еще пешеходы, но движения было уже мало. Ефес успокаивался от своих трудов.
— Куда намерена идти, госпожа? — спросила Асия.
— Пойдем по дороге в Магнезию. Там меньше шума и движения.
— А не будет это опасно?
— Кто посмеет нанести вред мне, жрице богини Артемиды? — высокомерно ответила Xиония.
— Говорят, что там живет много христиан.
— Христиан? Ну, что же, мало ли сброду в Ефесе? Xиония неприятно поморщилась. При имени христиан по ее сердцу провели точно чем-то острым. Ведь и Аристоген христианин! Он разделяет все воззрения этой секты. И Xиония постаралась отогнать от себя всякую мысль о христианах, до того они сделались ей ненавистны после обращения Аристогена.
Xиония запахнулась в плащ и медленно шла вперед, вдыхая полной грудью ароматный весенний воздух. Удивительно хороша была ночь! Как много говорила она чуткой душе! Но грустно было Xионии. Легко ли жить с разбитым сердцем, которое так жаждало любви и встретило такой неожиданный удар! «Великая богиня, прости меня! Я не должна была любить, и ты вполне справедливо наказала меня», — прошептала Xиония, устремляя взор на стоящий вдали храм Артемиды.
Она задумчиво шла по дороге. По сторонам виднелись расположенные в беспорядке дома, большей частью небольшие. Здесь жило много бедного люда, а также греков, ищущих покоя от городского шума.
По пути им попадались и хорошие, обширные загородные дачи богачей, выстроенные в греко-римском стиле. Xиония молчала. Рабыня также не смела нарушать молчание госпожи.
В эту ночь особенно почему-то грустно было молодой жрице. Чувство одиночества до боли сжало ее сердце. Ей показалось, что она совершенно одинока, оставлена всеми. И как захотелось ласки любимого человека, особенно ласки матери. Так и прижалась бы к ней и замерла бы в ее объятиях. Но увы, она лишена этого.
Она никогда не знала, что значит материнская любовь. Вот в этой хижинке, такой маленькой, такой ничтожной, быть может, царит семейное счастье, быть может, мать убаюкивает своего ребенка, а отец с радостью смотрит на эту милую картину, хотя в кармане у него нет ни единой драхмы, а на обед приготовлена только лишь зелень.
Xиония тяжело вздохнула.
— Асия, ты помнишь мать? — спросила она.
Служанка даже вздрогнула. К ее сердцу подкатила теплая волна.
— Да, госпожа.
— Она жива?
Асия подавила вздох.
— Не знаю. Может, и жива. Я ведь рабыня, и мать теперь окончательно потеряна для меня.
— Она ласкала тебя, целовала?
На глазах Асии навернулись слезы.
— О, госпожа, не расспрашивай меня об этом! Сердце мое разрывается от тоски, когда я вспоминаю свою мать! О мать, милая моя мать! Где ты?..
Асия заплакала.
— Не плачь, — мягко сказала ей Xиония, — ты будешь свободна и очень скоро. Порука тебе — богиня Артемида. Я устрою это. И ты еще увидишь свою мать…
— О, тогда я умерла бы от радости, — вскричала Асия и, схватив руку своей госпожи, горячо прильнула к ней губами.
XX
И опять что-то старое, пережитое, прозвучало в душе у молодой жрицы. Вот оно готово сейчас ярко, живо встать перед ней, но опять, как дым, исчезло.
Xиония схватила плащ и порывисто обернула его вокруг себя, точно этим желая сделать протест назойливым мыслям.
— Госпожа, не пора ли повернуть обратно? — робко спросила Асия.
— Ты боишься?
— Осторожностью, госпожа, не следует пренебрегать.
Место здесь глухое. Не благоразумно ли вернуться?
— Будь смелой, Асия. Я верю, богиня не допустит нас до несчастья. Но если ты смущаешься, то пойдем.
Они повернули, было, обратно, как вдруг до их слуха донеслось какое-то пение.
— Где так чудесно поют? — удивилась Асия, оглядываясь вокруг.
Они прислушались. Пение раздалось несколько громче. Оно шло из обширного дома, стоявшего несколько поодаль от дороги.
С Xионией вдруг произошло что-то необыкновенное. Она замерла на месте, и вся превратилась в слух. Кровь ударила в голову, грудь часто и порывисто заколыхалась. Необычное волнение охватило жрицу.
— Асия, где поют? Кажется, в этом доме? — вскричала она.
— Здесь, госпожа, — ответила та, удивившись волнению госпожи.
— Идем туда. Что такое они поют?
Она стремительно побежала к дому и остановилась. Асия последовала за ней. Из дома неслось тихое, торжественное пение. Двери и окна были затворены, но сквозь щели слабо пробивался свет. Очевидно, там было какое-то собрание.
Xиония крепко, до боли сжала пальцы, и вся превратилась в статую. Лицо ее побледнело, сердце сильно стучало и колотилось, точно желая разъяснить висевшую тайну. Но что это за пение? Кто поет? Какое там собрание? Туманные образы минувшего с необыкновенной силой вспыхнули перед ней. О, да, да, она слышала когда-то это пение. Оно знакомо ей. Тогда, в ранней юности, на заре жизни, она слышала его. Но где? Когда? У кого? Не в доме ли родителей? О, неужели это правда? И казалось ей, что вот-вот завеса, скрывавшая от нее детство, упадет и она узнает тайну своего происхождения.
А там, в доме царило стройное, величественное пение… О да, теперь нет сомнения. Именно это пение она слышала когда-то давно, очень давно, быть может, тогда, когда еще училась говорить. Никогда потом она не слыхала его: ни в храме Артемиды, ни во время празднования Ефесий[57], ни в других, частных домах. Глаза ее исполнились слезами. Она, вся трепещущая, прислонилась к стене.
— Асия, ты не знаешь, что поют? Не слыхала ты где-нибудь такое пение? — едва прошептала она.
— Не слыхала, госпожа, — тихо отвечала рабыня, тоже с любопытством прислушиваясь к незнакомому ей пению и изумляясь поведению госпожи.
— Никогда?
— Никогда. Но что тебя волнует, госпожа?
— Ах, ты ничего не знаешь, Асия, а между тем мое сердце готово разорваться на части. Мне кажется, что это самое пение я уже слышала в детстве. Нет, даже не кажется: я теперь уверена в этом. О, я разгадаю эту тайну. Боги, пощадите меня…
Она на мгновение замолчала и стиснула пальцы.
— Ты слышишь, Асия? Ты слышишь?! Оно мне знакомо. Это было где-то далеко-далеко… Ах, что со мною?!
Она схватила себя за голову.
— Вот мне кажется… я даже вижу над собой чье-то лицо… Оно склонилось… Кто же это? Кто?
Рабыня застыла от изумления. Она хотела ответить, но Xиония выпрямилась и решительно сказала:
— И сейчас все узнаю…
Жрица подбежала к двери и сильно стукнула в нее несколько раз.
— Госпожа, что ты делаешь? — вскричала помертвевшая от страха Асия.
— Не бойся. Никто не сделает вреда главной жрице Артемиды. Но я должна узнать, кто поет.
Асия схватилась на всякий случай за рукоятку меча. Пение сразу смолкло. Дверь быстро распахнулась, и на пороге появился мужчина со светильником в руках. Кто стучит? — спросил он.
Xиония смело шагнула в небольшую прихожую, жестом приглашая за собой рабыню.
— Я случайно проходила мимо вашего дома и слышала здесь странное пение. Умоляю тебя, скажи мне, кто вы и что вы поете?
Бледное лицо жрицы и ее крайне взволнованный вид невольно бросились в глаза открывшему дверь.
— А зачем тебе это знать?
— Я понимаю твое недоверие. Но проведи меня в ваше собрание, я все расскажу. Умоляю! Не смущайся.
Мужчина несколько мгновений колебался. Заметив это, Xиония продолжала:
— Неужели вы боитесь двух женщин? Разве мы можем причинить вам какой-нибудь вред? Заклинаю тебя: исполни мою просьбу, и я расскажу, что меня заставило ворваться к вам ночью.
— Хорошо, идите, — проговорил мужчина, раскрывая занавес.
Появление двух молодых незнакомых женщин произвело сильное удивление среди собрания.
— Скажите мне, кто вы такие? Не смущайтесь моим вопросом. Мне необходимо знать это.
Xиония вся дрожала от волнения. Навстречу ей шагнул мужчина с умным выразительным лицом, одетый в простую тунику и синий плащ.
— Почему тебя это интересует?
— Умоляю вас, скажите. Впрочем, постойте: я выскажусь первая. Тогда вы поймете меня. И поймете, почему я постучала в ваш дом.
Она перевела дыхание. Все молчали и напряженно ожидали объяснений.
— Я не помню ни отца, ни матери, но меня воспитал один человек, который окружил меня своими попечениями. Он говорил мне, что мои родители умерли. Но когда я устремляла свой взор к прошлому, я чувствовала, что какой-то туман застилал мою память. Я силилась вспомнить, но ничего не могла сделать. И я в отчаянии плакала. Я чувствовала всей душой, всем сердцем, что мой воспитатель скрывает от меня правду. Сейчас я гуляла со своей рабыней по дороге и случайно услышала ваше пение. И вдруг точно кто-то пелену сорвал с меня: я вспомнила это пение, но не могу… О, скажите же мне, что вы пели и кто вы такие? Теперь вы понимаете, моя просьба не простое любопытство.
Собрание переглянулось.
— И ты уверена, что наше пение тебе знакомо? — спросил высокий мужчина.
— Вполне.
— Уверена, что слыхала его раньше, в дни юности?
— О, да, уверена, вполне уверена.
— Хорошо, я скажу тебе, кто мы. Мы христиане и поклоняемся Господу Иисусу Христу. А пели мы псалом одного нашего святого пророка и царя Давида.
— Христиане?!
Xиония отшатнулась, а на лице ее невольно отразился ужас.
— Да, христиане, — подтвердил тот, — и, очевидно, что в детстве ты была окружена нами.
Xиония схватилась за голову.
— Может ли это быть?!
Мысли ее путались. Голова шла кругом.
Каким же образом она была окружена христианами? И где, в таком случае, ее родина? Кто ее родители? Почему она дальнейшее воспитание получила при храме? Все эти вопросы, как молния, осветили ее голову.
В это самое время к молодой девушке быстро подошла пожилая, с добрым симпатичным лицом женщина, все время приглядывавшаяся к Xионии. Она еще раз пристально, зорко взглянула Xионии в лицо, и вдруг легкая бледность покрыла ее щеки.
— Прошу тебя ответь на мои вопросы. И ради всего, для тебя дорогого и святого, пожалуйста, ничего не скрывай. Я имею очень важные причины спрашивать тебя, — сильно взволнованная, заговорила женщина.
Xиония при взгляде на эту женщину почувствовала какой-то неизъяснимый трепет. Открытое, честное лицо женщины внушало полнейшее доверие. Присутствующие насторожились и молчали. Xиония немного колебалась, но затем сказала:
— Спрашивай. Буду отвечать. Ничего не скрою. Женщина перевела дыхание.
— Ты говоришь, что у тебя есть воспитатель. Кто он? Xиония невольно смутилась. Ведь перед ней находились христиане, злейшие враги их религии и ее воспитателя. Она колебалась, было, секунду, но затем, согласно данному слову, открыто заявила:
— Мой воспитатель главный жрец храма Артемиды.
— Демофон?! — всплеснула женщина руками.
Ее глаза широко раскрылись. Дыхание захватило.
— Да, Демофон. Тебя это изумляет?
— О, неужели, неужели? — простонала женщина. Она на мгновение замолчала, вся подавленная новы-
ми нахлынувшими на нее мыслями.
— А сколько тебе было годов, когда ты попала к нему?
— Демофон молчалив. Но окружающие мне передавали, что мне было около четырех.
— И ты воспитывалась в храме?
— Да.
— Следовательно, ты — жрица Артемиды!
— Да, я главная жрица.
И молодая девушка распахнула плащ.
Поверх ее роскошной туники блеснул золотой медальон на груди. На лице женщины промелькнуло страдание. Присутствовавшие с замиранием сердца следили за разыгравшейся сценой. Все отлично знали, к чему она идет. И каждый думал:
— Неужели мы будем свидетелями чуда?
Женщина поборола свое страшное волнение и снова спросила, обратившись к гостье:
— Как твое имя?
— Xиония…
— Скажи мне, большой палец твоей левой ноги неправильный, да?
— Да… да, — подтвердила изумленная Xиония.
— И на этой же ноге есть след большой от разреза, нанесенного в детстве?
— Есть.
Xиония застыла от изумления. Женщина, предлагавшая вопросы, вся тряслась и походила на мертвеца.
— Эвника, во имя Господа Бога, успокойся, — тихо прикоснулся к ее плечу высокий мужчина, его звали Аполлос.
Но женщина упала на колени, подняла руки к небу, и из груди ее вырвался вопль:
— О, великий Боже! Как мне возблагодарить Тебя? О, дивный Иисус! Ты вернул мне дочь, мое сокровище!
Женщина без чувств повалилась на пол. Xиония окаменела.
— Моя мать? Это моя мать? — дико вскричала молодая девушка, заломив руки. — Как? Почему? Объясните, что это значит?!
Некоторые женщины бросились к Эвнике и старались привести ее в чувство.
Все плакали от умиления.
Аполлос со слезами на глазах обратился к Xионии:
— Ты нашла свою мать. Радуйся и благодари Бога и Господа Иисуса Христа. Эвника потеряла свою дочь лет шестнадцать тому назад. Она с мужем жила в Пергаме, и они были христиане. Но у ее мужа есть брат, жрец Артемиды Демофон. Он был сильно разгневан обращением брата в христианство. И вот в одно время их маленькая дочь исчезла. Подозрение пало на Демофона, но все поиски были безрезультатны. Твоя мать сходила с ума от горя, но потом кротко, по-христиански подчинилась Провидению. Лет пять тому назад умер твой отец, наш возлюбленный брат во Христе. Да, ты не ошиблась. В юности своей ты слыхала наше пение. О, неисповедимые пути Господни! Великий Боже! Прими от нас, недостойных, хвалу за твою великую милость. Братие мои возлюбленные, возблагодарим Господа! — закончил он.
Собрание же, в лице всех присутствующих, опустилось на колени и запело хвалебный гимн.
Невозможно описать то чувство, которое охватило Xионию. Она закачалась и упала бы, если бы ее не поддержала Асия, по лицу которой ручьем лились слезы.
— О, госпожа, о милая госпожа… — только и могла шептать она.
— Моя мать… О, что со мной? Не сон ли? Я христианка… Я нашла свою мать?! Может ли это быть?!
И Xиония почти в беспамятстве бросилась на колени перед матерью.
Рыдания огласили комнату и потонули среди стройного пения христиан.
XXI
Демофон, зорко следивший в последнее время за Xионией, послал утром раба справиться о ее здоровье. Раб вернулся сильно встревоженным, бледным.
— Ну, что?
Тот замялся.
— Что же ты молчишь?
— О, великий Демофон! Рабыни мне сказали, что благородная Xиония ушла еще вечером с Асией и до сих пор домой не возвращалась.
Жрец в свою очередь побледнел.
— Ты не лжешь?
— Могу ли я тебе лгать?!
Демофон набросил на себя гиматион и поспешно направился в помещение Xионии. Рабыни встретили его перепуганные, трясущиеся от страха.
— Где ваша госпожа? — с гневом закричал жрец.
— Не знаем, господин.
— Вы должны знать! Вы на то и приставлены сюда, чтобы неотлучно находиться при госпоже и оберегать ее от опасности. Асия тоже не вернулась?
— Нет, — был ответ.
Демофон прошел в комнату Xионии. Постель была не тронута. Очевидно, молодая девушка ушла, даже не ложившись на ночной отдых.
«Не покончила ли она самоубийством?» — вдруг пронеслось в голове у Демофона.
Он задрожал при одной только этой мысли. «Ведь хотела же она заколоть себя… Быть может, она вздумала привести в исполнение свое намерение…» Демофон был вне себя от ужаса, хотя призвал все свое самообладание, чтобы быть спокойным и сдержанным.
— Вы будете без пощады наказаны, если ваша госпожа сегодня не вернется, — сурово и лаконично объявил он рабыням.
Те подняли плачь, вой.
— Молчать! Идите и молитесь богине, чтобы ваша госпожа вернулась. Иначе горе вам!
Демофон вернулся в свою комнату и с глухим стоном опустился на низкий дифр.
«Где она? Что с ней? Не случилось ли какого-нибудь несчастья? О, Артемида, пощади!»
Он утешал себя мыслью, что Xиония к кому-нибудь зашла, осталась ночевать и что она скоро вернется.
В такой тревоге прошло несколько часов. Все жрецы и жрицы были крайне взволнованы исчезновением Xионии. Рабы храма давно уже были посланы в разные стороны на розыски. Но день подходил к вечеру, а Xионии с рабыней все еще не было. Тогда Демофон отправился к римскому проконсулу с заявлением об исчезновении молодой жрицы. Проконсул энергично взялся за поиски и командировал солдат во все кварталы города, приказав обыскать подозрительные дома на окраинах. Центурион был послан в гавань, чтобы дать соответствующие распоряжения владельцам судов. Осмотрели все корабли, готовящиеся к плаванию, обшарили весь порт, но Xиония как в воду канула.
«Не Амур ли тут замешан? — предположил проконсул. — Если это верно, то, разумеется, тогда и всем богам не найти влюбленную парочку. Но похитить жрицу — это верх смелости. Впрочем, их Артемида вряд ли огорчится потерей Xионии». Скептику-проконсулу было решительно безразлично, если бы похитили и всех жриц. Но Демофон переживал тяжелые дни. Он должен был страдать втайне, в своей душе переживать горе, так как никто не знал, что Xиония была его родная племянница. Он должен оставаться спокойным, хладнокровным, исполнять свои обязанности, между тем как его сердце грызла невыносимая тоска.
— О, великая Артемида, верни мне свет очей моих! — взывал он перед идолом, с молитвой устремляя взор на безобразное изображение богини. — Ты видишь, как она была мне дорога! Я хотел на склоне дней моих видеть в ней утешение, хотел найти опору в старости! Так верни же мне Xионию!
Взывая так к идолу, Демофон забыл, как он сам жестоко и бесчеловечно отомстил своему брату за его переход в христианство, разлучив ребенка с родителями.
«Не похитил ли ее кто-нибудь?» — пришла ему мысль. И он разразился страшными проклятиями по адресу воображаемого похитителя, умоляя богиню покарать злодея самой ужасной казнью.
А та, о которой сокрушался Демофон, была уже далеко от Ефеса. Лишь только прошли первые восторженные моменты свидания с дочерью, когда с обеих сторон было пролито море слез, собрание занялось рассмотрением этого важного события. Все понимали, что Xионию оставлять здесь, в Ефесе, немыслимо, так как со следующего же утра начнутся ее поиски. Не занимай она такого видного положения, дело обстояло бы проще. Но молодая девушка была главная жрица Артемиды и вдобавок племянница Демофона, который, конечно, поставит на ноги всю власть, чтобы только ее отыскать
— Братия мои, дело очень серьезное. Если Xионию найдут у нас, нам грозят большие неприятности. Может даже произойти бунт, — говорил Аполлос.
— Ты прав, — подтвердили все.
— По моему мнению, ей до утра нужно непременно оставить Ефес.
— Я согласна сделать все, что только вы скажете, — отвечала Xиония, — я нашла свою мать, и больше мне теперь ничего не нужно. О, мама, дорогая моя мама!
Они не могли наглядеться одна на другую и сидели, обнявшись. Асия же поместилась у их ног.
После обмена мнений решили отправить их в сопровождении верных людей в Пергам, на родину Xионии.
— И я с вами, — объявила Асия. — Я от своей госпожи не отстану ни на шаг. Ее вера будет моей и ее Бог.
— Благодарю тебя, моя славная Асия, — с чувством обняла и расцеловала рабыню молодая девушка.
Xиония была рада решению собрания. Это давало ей возможность поклониться могиле отца.
Так и сделали. Закипела работа для снаряжения маленького каравана. Достали ослов, навьючили на них провизию и одежду и незадолго до рассвета женщины в сопровождении нескольких вооруженных мужчин оставили Ефес.
Xиония еще раз оглянулась на город и храм. Как много там было проведено лет в служении лживой богине! Но теперь все это осталось позади: старое не вернется. Она родилась христианкой и будет ею. Она нашла свою мать, своих братьев и больше ей теперь ничего не нужно.
И вдруг только сейчас, когда она оставляла город, в уме ее блеснула мысль: «А ведь Аристоген тоже христианин! И теперь никакой стены между ними нет…»
Xиония почувствовала, как стукнуло ее сердце. Она охотно согласилась бы остаться хотя бы на день в Ефесе, лишь бы только увидеть Аристогена и сказать ему громко, радостно: «И я христианка». Но она понимала, что сейчас бегство было необходимо для безопасности ее самой и прочих христиан. Приходилось пока подчиняться обстоятельствам. И Xиония все более и более удалялась от Ефеса, где похоронила свою прошлую жизнь и воскресла для другой.
XXII
Дела Димитрия шли из рук вон плохо. По мере распространения христианства уменьшался и сбыт его произведений. Димитрий принужден был даже сократить расход по дому. Вся его злоба обрушилась, естественно, на апостола Павла и христиан.
— О, я подниму восстание! Я клялся богиней Артемидой и должен сдержать свою клятву. Я освобожу Ефес от этого нового учения и возвеличу нашу покровительницу Артемиду!
Димитрий делал частые совещания со своими товарищами в предполагаемом восстании. Делались соображения. Строились планы. Особенно горячо поддерживал отца Дорион.
— Смерть христианам! — кричал он в порыве воодушевления. — Пора погубить Тарсийского учителя. Иначе все мы пропали! Не надо терять времени… Воспользуемся праздниками!
Горячие речи Дориона приходились по сердцу Трасею, Автоклу и другим художникам. Особенно был доволен своим сыном Димитрий.
Настал праздник в честь Артемиды, продолжавшийся в течение целого месяца. Ефесии праздновались в мае.
Город пришел в необыкновенное движение и оживление. Но улицам Ефеса с криками и музыкой, с бряцанием тамбуринов носились разные вакхические процессии. День и ночь шла одна сплошная оргия, чему способствовали жрецы и жрицы. Распущенность доходила до высшей степени, благодаря огромному количеству пришельцев, собравшихся чуть ли не со всей Малой Азии. Многотысячная толпа наводнила Ефес и внесла в него свою суету и порок. Разные гадатели, снотолкователи, чародеи работали на славу и наживались отлично за счет простодушного, суеверного народа. Всякий шарлатан, кто только желал так или иначе поживиться, поудить рыбу в мутной воде, спешил в Ефес и пожинал в этом городе обильные плоды. В храме беспрерывно шли жертвоприношения. Целая вереница жертвенных животных, украшенных зеленью, ожидала очереди.
Доходы храма раньше всегда были громадные, но теперь они значительно сократились, благодаря распространению христианства. Демофон это сразу заметил.
«Димитрий прав, — мрачно думал он, — гибнет почитание нашей богини. О, Артемида, воздай Тарсийскому учителю за все то зло, какое он причинил тебе. Помоги нам в задуманном деле».
И Димитрий, также как и Демофон, во время праздника, наглядно убедился, что его дело гибнет.
Праздники совершенно не оправдали его надежд. Статуэтки и медальоны шли очень слабо. Запас был сделан большой, но едва ли можно было продать и четвертую его часть, а остальное неизбежно должно было лежать в кладовых. Димитрий приходил в бешенство.
«Довольно ждать. Пора действовать», — решил он. И вот, во время самого разгара празднования, он устроил у себя ночью тайное совещание. Здесь присутствовали и жрецы Артемиды во главе с Демофоном. Было решено завтра же произнести в разных местах города, наиболее шумных, зажигательные речи против христиан и апостола Павла. Около агоры предложили выступить Дориону, а жрецы намерены были бросить вызов около самого храма.
— Друзья мои, вы завтра попросите прийти к моему дому всех ваших служащих, — сказал Димитрий. — Я сам обращусь к ним с небольшой речью. Желательно, чтобы пришло побольше людей. Праздник в самом разгаре, и мы не должны упускать этого момента.
— Смерть христианам! — дико закончил он, поднимая кулак.
— Смерть! Смерть! — раздалось кругом.
— Велика Артемида Ефесская! — эхом повторило все собрание, вскочив на ноги.
Калликрат, присутствовавший на этом собрании, с грустью наблюдал такое проявление фанатизма. Он тревожно думал об Аристогене. «Неужели его в случае возмущения убьют? О, нет, этого не должно быть! Я предупрежу всех…» Калликрат втайне симпатизировал христианам и сам не прочь был, по примеру Аристогена, принять христианство.
Ранним утром, лишь только встало из-за гор солнце, Калликрат быстро направился к Аристогену.
— Господин мой, беги и спасайся! Вам грозит опасность, — прямо заявил он.
— Какая? — встревожился юноша.
— Твой отец хочет сегодня поднять восстание на апостола Павла и христиан.
И Калликрат рассказал о всех планах заговорщиков. Аристоген пришел в ужас за жизнь апостола.
— О, Боже, неужели нам суждено лишиться своего великого учителя и руководителя! — всплеснул он руками. — Не допусти, Господи! Благодарю тебя, Калликрат, за известие. Ты оказал мне великую услугу. A сейчас все расскажу своим братьям.
— Не за что благодарить меня, господин. A сделал лишь то, что должен был сделать. А теперь я пойду и узнаю, в каком положении дело. Если тебе будет угрожать опасность, то смело рассчитывай на меня. Я вполне предан тебе.
— Еще раз благодарю тебя, дорогой Калликрат, — с чувством ответил Аристоген и тотчас же отправился к Акилле и Прискилле с этой печальной новостью.
Христиане серьезно встревожились за судьбу любимого учителя.
«Что делать в случае возмущения? Как поступить? Как спасти апостола?» — вот вопросы, которые были выдвинуты на первую очередь.
— Великий апостол всенепременно должен быть спасен от черни! — с энтузиазмом вскричал Аристоген.
— А если он пожелает сам выйти к народу, чтобы спасти других? — спросил Акилла.
— Мы удержим его! — отвечал Аполлос. — Да, мы силой удержим его от этого шага. Мы ради христианства должны это сделать. И великий апостол простит нас, видя нашу любовь к нему и нашу преданность.
Решили пока ничего не говорить апостолу о готовящемся бунте, чтобы не тревожить его дух. А после этого краткого совещания Аполлос немедленно отправился к блюстителю городского порядка Гиерониду, который был расположен к апостолу Павлу.
— Прости, достопочтенный Гиеронид, что я осмелился явиться к тебе, но побудили меня к этому важные обстоятельства.
— Какие?
— Скоро должен вспыхнуть бунт против нашего учителя, апостола Павла.
— Бунт? Откуда ты узнал? По какому случаю бунт? — встревожился Гиеронид.
Аполлос рассказал вкратце то, что передал ему Калликрат.
— Нельзя ли принять какие-нибудь меры, достопочтенный Гиеронид?
Блюститель порядка взволнованно зашагал по перистилю.
— Да, это нужно предупредить… Бунт — дело для Ефеса серьезное. Римляне спуску не дадут. О, глупец Димитрий! Что он затеял?!
— Душа заговора — он, но много действует и Демофон, — подтвердил Аполлос. — И это вполне понятно.
— За сообщение благодарю. Надо быть наготове. Между тем, пока шли эти переговоры, у дома Димитрия разыгралась такая сцена. Ранним утром к портику собралось несколько сот рабочих, занимавшихся в художественных мастерских выделкой медальонов Артемиды, ее статуэток, барельефов и разных талисманов. Все эти люди были враждебно настроены против христиан, потому что им грозили нищета, лишения и голод. Они пришли сюда по приказу своих хозяев, сами не зная цели их приглашения. Увидев, что собралось достаточное число рабочих, Димитрий оделся тщательнее, красиво набросил на себя гиматион и вышел на портик.
— Привет вам, друзья мои! — мягко и ласково проговорил он.
Димитрий пользовался большой популярностью среди рабочего люда, а потому на его приветствие раздался дружный, громкий ответ:
— И тебе привет, благородный Димитрий!
— Я созвал вас, чтобы сообщить вам печальную новость!
— Какую? — послышались тревожные вопросы со всех сторон.
— Вы, быть может, скоро очутитесь без куска хлеба.
Впереди вас ждет голод.
— Как? Почему?
Толпа замерла и насторожилась.
— Вы добываете себе кусок хлеба выработкой медальонов и изображений богини Артемиды?
— Да, да…
— А вы знаете Тарсийского учителя Павла?
— Да погибнет он! — завопили кругом.
Димитрий сделал знак рукой, чтобы рабочие замолчали, и вкрадчиво заговорил:
— Друзья! Вы знаете, что от этого ремесла зависит ваше состояние. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Азии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой Артемиды ничего не будет значить, и ниспровергнется величие той, которую почитает Азия и вселенная[58].
Эффект от этих слов был поразительный.
— Велика Артемида Ефесская! — как один человек вскричала наэлектризованная речью Димитрия толпа ремесленников.
— А если велика, то поддержите славу ее! — продолжал, в свою очередь, Димитрий. — Не давайте ее на оскорбление. Покажите, что вы чтите ее. Иначе гибель всем вам. Голод. Голод!
— Смерть Павлу! — заорала взбешенная толпа.
— Велика Артемида Ефесская! — ответили в другом месте.
И толпа с криками бросилась по улицам. Димитрий злорадно усмехнулся.
— Теперь посмотрим, чья возьмет, — с сатанинской усмешкой прошептал он.
Димитрий знал, что в это самое время его сын Дорион держит речь на агоре (рыночная площадь — ред.), а другие его товарищи — около гимназиума, около театра. Знал он, что и Демофон не дремлет.
Калликрат, услышав яростные вопли, бегом бросился к Аристогену.
— Спасайтесь! — вскричал он, едва переводя дыхание от быстрого бега.
— Разве опасность надвигается? — побледнел обеспокоенный юноша.
— Да, Димитрий возбудил толпу рабочих. Не медлите ни минуты. Скройте апостола, пока еще есть время.
Христиане кинулись к апостолу Павлу и умоляли его не выходить к народу.
— Учитель! Твоя жизнь дорога для всего мира. Ради Господа и всего христианства, не выходи к народу. Тебя разорвут на части.
Женщины с громким плачем умоляли Павла быть осторожнее.
Апостол же оставался спокоен. Он поднял взор на небо, и губы его тихо прошептали молитву.
— Возлюбленные мои братья и сестры во Христе! Зачем вы так тревожитесь за меня? Оставьте вашу печаль. Если Господу угодно будет сохранить меня для вас, то Он сохранит и помилует. Без Его всесвятой воли и волос с головы нашей не упадет. Укрепитесь и мужайтесь. Да даст вам Господь мужество и мудрость во всем! Он старался утешить плакавших женщин. Аристоген с Калликратом решили не отходить от апостола и в случае надобности защищать его до последней капли крови.
А опасность надвигалась. Ремесленники своими воплями взбудоражили праздничную толпу. Со всех сторон неслись крики в честь богини. Дорион много способствовал мятежу. Его зажигательная речь на агоре была кончена единодушным криком собравшихся:
— Велика Артемида Ефесская!
Толпа бросилась в христианский квартал и первым долгом схватила спутников Павла: Гаия и Аристарха[59].
— На суд их! Ведите в театр! — шумели все. Спутники апостола Павла, думая, что их сейчас растерзают, мысленно помолились, простились со всеми и всецело предали себя в руки Провидения.
— Господи, прости их и нас, — была их горячая молитва.
О захвате Гаия и Аристарха сделалось сейчас же известно христианам и апостолу Павлу. Апостола увели в другое безопасное место.
— Если он сам не пойдет, то я возьму его на руки и отнесу хотя бы на вершину Корреса, — горячо заявил Калликрат.
Но апостол изъявил намерение сейчас же отправиться к народу в театр и силой своего слова остановить возмущение. Беспокоила его и судьба спутников. Но против такого намерения Апостола энергично восстали все ученики[60].
— Умоляем тебя, учитель, не ходи к народу. Тебя могут растерзать. Едва ли тебе удастся спасти Гаия и Аристарха! Пусть их спасет власть, — говорили все ученики.
— Великий учитель, оставь свое намерение; если тебя убьют, мы останемся сиротами. Кто нас будет учить, вести по путям Господним? Нет, мы не пустим тебя! — горячо вскричал Аристоген.
Пока шли эти разговоры, к дому подбежал юноша.
— Здесь Тарсийский учитель? — задыхаясь от быстрого бега, спросил он.
— Здесь, на что он тебе?
— Мне его нужно видеть и передать два слова.
— Ты от кого?
— Меня послал Гиеронид, блюститель порядка. Апостолу доложили о прибывшем. Через минуту юноша стоял уже перед Апостолом.
— Вот я, Павел. Что тебе нужно от меня?
— Гиеронид, блюститель порядка, просит тебя не показываться в театре. Народ очень волнуется, шумит, и тебя могут умертвить. Гиеронид очень просит исполнить его просьбу.
Тем временем явились другие посланные от Асийских начальников с той же просьбой. Эти просьбы и мольбы учеников заставили апостола уступить.
Все отлично понимали, что появление его в театре, среди многотысячной толпы, не только не может подействовать отрезвляющим образом, но, скорее, еще более возбудит и озлобит толпу. А в театре стоял, тем временем, невообразимый шум, гвалт, говор, крики. Многие совершенно не знали цели этого необычайного собрания и спрашивали соседей. Но и соседи не могли дать дельного ответа. Этим обстоятельством хотели воспользоваться заклятые враги апостола — иудеи. Они не могли простить Павлу его, по их мнению, измену Моисееву закону. Они в свое время много и долго спорили о вере с апостолом, когда тот вел беседы в синагоге, по прибытии своем в Ефес. Но апостол, увидев озлобленность и неуступчивость иудеев, перенес свои проповеди в училище Тиранна. Это еще более восстановило против него иудеев, и они затаили против него непримиримую, страшную ненависть, желая при первом же случае отомстить. Увидев возмущение народа против христиан, иудеи решили воспользоваться этим подходящим моментом. Они предложили некоему Александру выступить с речью против апостола и обвинить его в возмущении и богохульстве. Но иудеи потерпели полное поражение. Лишь только народ узнал, что говорит иудей, как шум снова вспыхнул с необыкновенной силой:
— Пусть он замолчит!
— Долой его!
— Вон, вон!
— Да поразит его Зевс! Крики слились в общий рев.
— Велика Артемида Ефесская! — раздалось с верхних ярусов.
— Велика Артемида Ефесская! — подхватили внизу. И весь народ около двух часов, как один человек, кричал эту фразу. Гиеронид с самого начала возмущения был в театре и прилагал все усилия к тому, чтобы водворить спокойствие. Он кидался то к одному, то к другому, то спускался вниз, то снова поднимался вверх, призывая народ к порядку. Но все было напрасно. Нелегко было успокоить взволновавшееся море. И Гиеронид с отчаянием увидел, что все усилия его напрасны.
— О, боги! Римляне могут нас обвинить в возмущении, и тогда пропадем мы! — схватил он себя за голову. А воздух весь дрожал от одного крика тридцатитысячной толпы:
— Велика Артемида Ефесская!
Гиеронид бросился к проконсулу, который был уже осведомлен о происходящем и готовился пойти с солдатами в театр.
— Благородный Октавий, во имя богов, не считай это возмущением. Здесь простая религиозная ненависть к учителю из Тарса.
— Мне до этого нет никакого дела, — холодно объявил римлянин. — Если толпа не замолчит и не разойдется по домам в течение получаса, то мои когорты будут пущены в ход и легкомысленные ефесяне на своих спинах увидят силу меча римского воина. И, конечно, тогда я донесу обо всем в сенат.
— О, не делай этого! Умоляю тебя! Я еще раз попробую успокоить народ. Дай мне только центуриона. A выступлю с ним на арену. Его вид скорее отрезвит разгоряченные головы.
Проконсул согласился с просьбой блюстителя порядка, и Гиеронид, минуту спустя, быстро уже ехал на колеснице к театру в сопровождении центуриона.
А из театра все еще слышался один вопль:
— Велика Артемида Ефесская!
Гиеронид с центурионом быстро вышел на арену и высоко поднял обе руки, центурион встал рядом с ним. Вид римлянина в полном вооружении сразу заставил толпу одуматься. Ефесяне поняли, что в дело вмешалась римская власть, с которой шутить нельзя. И говор быстро стих. В театре настала тишина. Гиеронид, воспользовавшись этим, встал на возвышение и громко заговорил:
— Мужи ефесские! Какой человек не знает, что в городе Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета[61]? Если же в этом нет спора, то надобно нам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемиды не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания, и есть проконсулы: пусть жалуются друг на друга, а если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании; ибо мы находимся в опасности быть обвиненными в возмущении за происшедшее, так как нет никакой причины, которою мы могли бы оправдать такое сборище[62]. Итак, прошу вас, разойдитесь и не волнуйтесь. Это будет гораздо благоразумнее.
Спокойная речь Гиеронида, вид центуриона окончательно отрезвили возбужденную толпу. Все поняли, что зашли слишком далеко и поспешно начали выходить из театра.
— Идите и вы, — кратко обратился Гиеронид к Гаию и Аристарху.
Те поклонились Гиерониду, поблагодарили Бога за свое спасение и, радостные, пошли к христианам.
Возмущение так же быстро улеглось, как быстро и вспыхнуло.
XXIII
В бешенстве вернулся домой Димитрий. Войдя в спальню, он сорвал с себя плащ, разодрал его надвое, швырнул обе половины на пол, и, обессиленный, повалился на ложе.
— Проклятье, все погибло, все пропало! Рухнул план! Он вцепился руками в волосы и замер. Несколько мгновений он оставался недвижимым. Но потом, как раненый зверь, вскочил с места. Лицо исказилось злобой.
Глаза горели огнем ненависти.
— Христианство идет, и мы бессильны! Мы разорены! О, Артемида! Неужели ты не могла защищать себя? Почему ты позволила распространиться этому учению, которое старается истребить самую память о тебе?!
Димитрий вышел в сад, освежил голову в бассейне и поднялся на второй этаж мастерской. Здесь лежали большие запасы товара. Димитрий с болью в сердце оглядел свое добро.
— Кто теперь будет покупать у меня эти статуэтки?
А между тем, тут целое состояние! Я разорен…
Он тяжело вздохнул и провел рукой по волосам. Неудача заговора окончательно ошеломила его. Димитрию казалось, точно под его ногами заколебалась земля, и он потерял устойчивость. Одна мысль, как гвоздь, сидела в голове: «Мы разорены».
И мысль эта охватила его, мучила и не оставляла, придавив, точно камнем. Он понимал, что если целое
народное возмущение не сделало вреда ни Павлу, ни христианам, то тем более бессилен сделать что-либо он один. И безумная ярость душила Димитрия. Самые страшные ругательства сыпались с его губ по адресу святого апостола Павла.
Он окинул взглядом еще раз полки, заставленные статуэтками, посмотрел на огромные сундуки с барельефами и медальонами и спустился в сад.
В беседке отдыхала Ариадна. При виде любимой дочери сердце Димитрия смягчилось. В глазах блеснула нежная искорка. Димитрий чувствовал себя виноватым перед дочерью в нанесении ей хотя и невольной раны. Ариадна потеряла тогда много крови в виду пореза артерии, и все еще не могла вполне оправиться. Между нею и отцом выросла целая стена со времени ухода Аристогена. И Димитрий ясно видел это отчуждение дочери, что его страшно огорчало.
— Как чувствуешь себя, дитя мое? — мягко спросил он, садясь на мраморное сиденье.
— Хорошо, — кратко ответила Ариадна.
— Но, я вижу, лицо твое утомлено и бледно?
— Это пустяки. Уверяю тебя, что моя слабость проходит и скоро я совсем окрепну. Но скажи мне, чем кончилось возмущение?
Димитрий в отчаянии махнул рукой.
— Ничем.
— Как? — радостно вырвалось у молодой девушки. Димитрий подозрительно взглянул на дочь и угрюмо ответил:
— Толпа оказалась стадом баранов. Вместо того, чтобы схватить Павла, народ целых два часа кричал одно: «Велика Артемида Ефесская». А затем явился в сопровождении центуриона Гиеронид и успокоил народ. Вот и все. Граждане разошлись по домам, и Павел остался на свободе. О, как я ненавижу этого человека! — докончил он, скрипнув от злобы зубами.
Ариадна незаметно, но облегченно вздохнула. Теперь ей нечего более тревожиться за судьбу Аристогена: он в безопасности. Она еще хотела что-то спросить у отца о христианах, но предпочла лучше молчать.
Да и сам Димитрий недолго оставался у дочери и скоро ушел. Ариадна после ухода отца откинулась на ложе, заложила руки за голову и глубоко задумалась. Да, она, несомненно, симпатизировала христианам.
Какое у них, оказывается, высокое, чистое учение! Какую великую надежду за гробом обещает христианство своим последователям, надежду вечного покоя и блаженства! А сам Павел! Что за благороднейший, возвышенный человек, который не щадил ни жизни, ни здоровья для распространения своего учения! И как чудесно он сам-то был обращен в христианство!
Ариадна отлично помнила рассказ об этом Аристогена. Да, наконец, разве не удивительно поведение самого брата? Изящный, красивый, умный, начитанный в философах, он порвал с отцом, ушел навсегда из дома, бросил свое выгодное ремесло, начал выделывать палатки. Разве это не чудо? Значит, он убедился в правоте христианства и лживости язычества. А каким огнем воодушевления горели его глаза, когда он проповедовал ей о Христе! На его глазах блестели слезы, когда он говорил о страданиях Спасителя и о Его крестной смерти. Да и она, Ариадна, тогда не удержалась от слез. Было от чего заплакать… «И все это для нас, для нашего спасения!» — вспомнилась ей горячая фраза брата.
О, как она желала бы теперь поговорить с братом, выслушать его ответы на все волновавшие ее вопросы, которые роились в голове! Но болезнь разлучила их, прийти же сюда брату она положительно не советовала, чтобы вновь не разыгралась какая-нибудь трагедия.
— Благородная Ариадна, можно войти к тебе? — послышался за порогом голос Калликрата.
Ариадна даже вздрогнула от неожиданности. Голос пробудил ее от дум.
— Войди, Калликрат. Ну, что нового? Где Аристоген? Что было с ним во время возмущения? Где Павел? — набросилась молодая девушка с вопросами.
— Успокойся, госпожа. И апостол Павел, и брат твой находятся в безопасности. Толпа захватила только Гаия и Аристарха, учеников Апостола, да и они теперь на свободе. Аристоген посылает тебе письмо.
Калликрат вытащил из-под плаща небольшой сверток папируса и с поклоном передал его Ариадне. Молодая девушка с живостью развернула папирус и прочла следующее: «Будь здорова, моя сестра! Не беспокойся за меня. Я здоров и невредим. Если Господь не попустит, то никто не может причинить нам зла. Хочу видеть тебя и переговорить лично обо всем. Привет дорогой матери. Аристоген».
— Милый брат, как ты мне дорог! — прошептала молодая девушка, перечитывая строчки.
— А за тем позволь, госпожа, с тобой проститься.
Больше я не переступлю порог этого дома.
— Как? Почему? — с изумлением вскричала Ариадна, — ты уходишь со службы?
— Да, ухожу.
— Какая причина?
— Не скрою от тебя, госпожа. Я не хочу больше работать над изображением Артемиды. Это против моей совести, потому что я перехожу в христианство.
— В христианство? Вот удивительно! Этого я от тебя не ожидала, — пробормотала Ариадна.
— Почему? — чуть улыбнулся Калликрат.
— Ты так хорошо зарабатывал у отца, был первый мастер и вдруг оставляешь все…
— Если бы, госпожа, мне предложили втрое больше против того, что я зарабатываю, то и тогда я бы не остался. Нельзя работать против совести. A не пропаду. Здоровье есть, руки крепкие. Что еще мне нужно?
— Ну, разумеется. Если мой умный образованный брат перешел в христианство, значит, оно имеет что-то притягательное.
— О да, госпожа. Христианство — великое учение! Я до сих пор блуждал во тьме, и только теперь увидел истинный свет. Искренно хочу, чтобы и ты им просветилась. Прощай.
— Всего хорошего. Отец знает о твоем уходе?
— Нет еще. A сейчас к нему с отказом.
— Ты очень огорчишь отца… Калликрат пожал плечами.
— Что же делать?
— Одну минуту, Калликрат. Прости меня за мое любопытство.
— Спрашивай, госпожа…
— А что скажет твоя невеста?
— Невесте я уже все рассказал. Она так предана мне, что ответила: «Если ты будешь христианином, то и я».
— Рада за тебя, Калликрат, — произнесла с чувством Ариадна.
Калликрат поклонился и вышел из беседки.
— Где хозяин? — спросил Калликрат у первого попавшегося раба.
— У себя в комнате. Ты хочешь видеть его?
— Да.
— Не советую.
— Почему?
— Он в большом гневе.
— Вероятно, потому, что не удалось возмущение?
— Вполне возможно.
— Но он был бы рад, если бы толпа растерзала на куски апостола Павла и христиан, правда?
Раб боязливо оглянулся кругом и ничего не ответил.
Калликрат смело вошел в комнату хозяина.
— Что тебе нужно? — резко спросил тот.
— Я пришел к тебе, Димитрий, сказать, что ухожу от тебя навсегда.
Димитрий даже подпрыгнул на месте и широко вытаращил глаза.
— Почему уходишь? Какая причина?
Димитрий пришел в ужас от потери своего главного мастера и не верил собственным ушам.
— Причина вот какая: я — христианин и не могу делать изображений ложной богини. Прощай!
Он круто повернулся и ушел.
Димитрий окаменел от неожиданности и несколько мгновений стоял, как пришибленный громом. На него напал столбняк.
— О горе! — вырвался у него сдавленный вопль, и Димитрий судорожно вцепился в свои волосы.
XXIV
Хотя возмущение против апостола Павла и улеглось, но христианская община отлично понимала, что оно могло вспыхнуть и снова. Непосредственная опасность миновала, но апостолу все-таки рискованно было оставаться в Ефесе. Жрецы и Димитрий снова хотели натравить народ на апостола, и тогда дело могло окончиться более печально. И апостол Павел решил отправиться в Македонию[63]. Христиане сильно горевали о предстоящей разлуке с великим учителем и руководителем. Апостол утешал их, наставлял и завещал хранить заповеди Господни. Аристоген ни на шаг не отходил от него и спешил насладиться его последними беседами, спешил насмотреться на столь дорогое для него лицо. Шли деятельные приготовления к отъезду. Решено было поспешить с отъездом, чтобы не подвергать драгоценную жизнь апостола опасностям.
Настал день отъезда. В просторной комнате одного дома собрались христиане, чтобы еще раз побеседовать с отъезжавшим великим учителем. Аристоген поместился у ног апостола, рядом с ним сидел Калликрат. Ждали еще некоторых христиан из окрестных селений и городов. Трогательная и величественная была в своей простоте картина этой последней прощальной беседы апостола с живой Ефесской церковью. У мужчин блестели слезы на глазах, а громкий женский плач не переставал раздаваться в комнате. Дверь отворилась и запустила новых посетителей. Христиан прибывало все более и более. Наконец, в комнату вошли еще две женщины, одетые в простую одежду. Аристоген повернул голову к вошедшим и… замер от неожиданности, восторга и изумления. Он хотел подняться, но почувствовал, как ноги отказались ему служить. Сердце затрепетало, в голове пронесся вихрь самых противоположных мыслей. Он не верил глазам. Но ошибиться было невозможно: в комнату вошла Xиония, которую он полюбил и которой грезил, но старался забыть, как жрицу Артемиды.
«О, неужели она христианка? Как это могло случиться?..» Он почувствовал, как его окатила какая-то теплая, ласкающая волна.
Аристоген опомнился и вскочил с места.
— Xиония! Тебя ли я вижу? Что это значит? О, скажи, не сон ли это?
Молодая девушка, увидев Аристогена, побледнела, вскрикнула и превратилась сама в изваяние. Все встали с мест.
— Ты ее знаешь? — спросил кто-то.
Но Аристоген не слышал этого вопроса. Он подбежал к молодой девушке, лицо которой то вспыхивало, то бледнело. На лице ее сияла ничем не передаваемая радость.
— О, Боже! — чуть слышно шептали ее губы.
— Ты христианка? Да? Как это случилось? Когда?
— Да, я христианка, — слабо ответила она.
— О, Господи! Как мне благодарить тебя! — от всего сердца проговорил Аристоген, поднимая глаза и руки к небу.
Но лицу его быстро скатились две слезинки.
— Ты знаком с моей дочерью? — обратилась к нему изумленная этой сценой Эвника.
Аристоген переходил от изумления к изумлению.
— Значит, ты ее мать?
— Да, мать.
— Но как все это произошло? Расскажите мне, — волновался юноша.
— Аристоген, выслушай и будь хладнокровен, — проговорил Акилла, положив ему руку на плечо.
И он вкратце передал замечательную историю обращения Xионии в христианство.
Аристоген жадно ловил каждое слово. И в то же время он не спускал своего восхищенного взора с Xионии. Как много любви горело в этом взоре! Xиония была еще прекраснее, еще восхитительнее, чем прежде. Святая чистота сияла в ее глазах.
— О, милая! О, дорогая! — шептал юноша, слушая рассказ Акиллы.
Когда Акилла окончил, то Аристоген, в свою очередь, обратился к собранию.
— Теперь выслушайте и меня. Я встретил Xионию в первый раз в храме Артемиды, когда приносил богам благодарственную жертву по случаю одержания мною победы на Великих Панафинеях. И с тех пор я не знал покоя. Образ ее постоянно был перед моими глазами…
— Аристоген, — тихо, застенчиво проговорила Xиония, словно пытаясь остановить его взволнованную речь.
— О, не удерживай меня, дорогая Xиония. Пусть все общество дорогих мне христиан знает о моих сердечных страданиях. Выслушай и ты, великий наш учитель, мою исповедь.
И Аристоген, задыхаясь от волнения, рассказал о встречах с Xионией, о своей любви, о своей борьбе.
— Я знал, что между нами стена! Я знал, что Xиония посвящена Артемиде и, следовательно, рассчитывать на взаимность я не имел права. А когда я перешел в христианство, то эта стена еще более возросла. Что могло быть общего между мной и жрицей Артемиды? И я ужасно страдал! И вот счастье! Xиония — христианка! Мог ли я думать когда-либо об этом?! О, Боже! Прими от меня, недостойного, хвалу и благодарение!
Аристоген весь трепетал от присутствия любимой девушки.
— Дивен Господь наш во всех путях Своих, — тихо произнес апостол.
Эвника плакала, с ней плакали и женщины.
— Радость моя! — прошептал Аристоген, не спуская глаз с Xионии.
Молодая девушка вся горела от смущения, радости, счастья. Все происшедшее казалось ей сладким сном. Она боялась проснуться. Сердце ее радостно билось при виде возлюбленного, ради которого она покушалась даже на самоубийство. Она была счастлива теперь, в полном смысле этого слова. Ей давно хотелось съездить в Ефес, посмотреть на великого апостола, послушать его проповеди. А вместе с тем она питала надежду встретить там Аристогена. И вот ее тайное желание осуществилось. Матери она ничего не сказала о своей любви.
— Возлюбленная о Господе дочь моя! — обратился к Xионии апостол Павел, — любишь ли и ты этого юношу и согласна ли быть его женой?
Xиония вне себя от смущения закрыла лицо руками и чуть слышно прошептала:
— Да.
Затем апостол простер руки над Аристогеном и Xионией и сказал:
— Да благословит вас Господь, дети мои! Да укрепит союз ваш и пошлет благодать и милость. Любите друг друга, мои возлюбленные чада! Будьте верны Господу до конца дней ваших. Работайте Ему со страхом и любовью, и Бог всякия любви да воздаст вам в Воскресении. Мир вам.
Он благословил юную чету. Все искренно, горячо радовались. Восторг Аристогена был неописуем. Xиония плакала от счастья, прижавшись к матери. Эвника вытерла слезы, подошла к Аристогену и сказала:
— Береги дочь мою и храни мое ненаглядное сокровище. Я верю в благословение нашего великого апостола и без смущения отдам тебе Xионию, хотя и не знаю тебя. Люби ее.
— О, верь мне, я давно любил твою дочь и даю тебе слово любить ее до самой смерти! Объявляю это перед всем собранием христиан, — горячо ответил Аристоген. Молодых поздравили. Апостол Павел обнял Аристогена и сказал:
— Не забывай за земным счастьем стремления к горнему. О горнем больше помышляй. Мы здесь временные жители. Помни о вечном блаженстве и не забывай, что тернистый туда путь. Жену люби и береги, как немощный сосуд.
Аристоген поклонился и поцеловал руку у апостола.
А несколько времени спустя все общество христиан с громким плачем и рыданием провожало незабвенного апостола в Македонию.
— О, милая, как я счастлив, — вечером этого же дня говорил Аристоген, сжимая руки Xионии и не будучи в силах оторвать своего взора от ее чудного лика.
— Верю, верю, — сквозь слезы улыбалась та.
Было решено после венчания покинуть навсегда Ефес и поселиться в Пергаме. И Эвнику, и Xионию тянуло к родным местам.
XXV
За последнее время Демофон был необыкновенно мрачен и угрюм. Произошло это после таинственного исчезновения племянницы. Все розыски ни к чему не привели. Xиония как в воду канула. И Демофон положительно терял голову в догадках, куда могла исчезнуть его племянница. Он склонялся более к мысли, что ее вместе с Асией убили разбойники, чтобы воспользоваться золотым медальоном, а труп скрыли где-нибудь в земле. Демофон сделался замкнут и малоразговорчив. С Xионией он потерял и последнюю радость в жизни. Только теперь он понял, как она для него была дорога и незаменима. Он часто ходил в ее комнату, подолгу стоял над ее ложем, и горькие думы светились в его глазах. Иногда тихий вздох вылетал из его груди. Но затем Демофон по-прежнему надевал на себя маску холода и суровости, не желая, чтобы кто-нибудь подметил в нем тоску.
Однажды раб подал ему небольшой сверток папируса.
— От кого это?
— Не знаю. Приходил какой-то человек и велел передать тебе.
— Он ушел?
— Да, посланный быстро удалился.
— Ну, иди.
Раб поклонился и вышел.
Демофон развернул папирус, прочел и… страшная бледность покрыла его щеки.
— Не может быть!
Он еще раз прочел. Письмо было такого содержания: «Дядя, не ищи меня. Я христианка и все узнала. Да простит тебе Господь за ту скорбь, которую ты причинил моим бедным родителям и мне. Обратись к Господу. Я искренне этого желаю тебе и молюсь о тебе. Xиония».
Папирус выпал на пол из рук Демофона. На жреца точно обрушилась целая скала.
«Как она узнала?! Кто ей сказал?! Как могло это случиться?» — вихрем пронеслись у него вопросы.
Крепкий Демофон даже задрожал: до того чудовищно было известие. Он схватился за голову.
— Xиония — христианка? Моя племянница христианка?! — дикий вопль вырвался из его груди. Руки затряслись, глаза налились кровью, лицо подергивала судорога. Вид его был ужасен.
— О, проклятье всем…
Он сжал кулаки и поднял их кверху. Простояв несколько секунд в этой позе, он бросился на ложе, и глухие рыдания всколыхнули его грудь. Успокоившись немного, он прошел в храм. Народу почти не было, так как праздники уже миновали. В храме сновали только жрецы, жрицы и рабы. Демофон подошел к статуе Артемиды и молитвенно протянул к ней руки.
— О, великая Артемида! Я всю жизнь посвятил на твое служение, а ты отняла у меня последнюю отраду. Чем я заслужил такое наказание? Ответь мне, о, Артемида! Ты молчишь? Или бессильна ты? Вот я твой раб, стою у твоего подножия и жду ответа. Да, я жду твоего ответа. Неужели ты не могла сохранить для меня мое сокровище, мою племянницу? О, как ты беспощадно жестока ко мне!
Он почти со злобой произнес последнюю фразу, повернулся и вышел из храма. Затем он провел рукой по волосам, точно собираясь с мыслями, и медленно поднялся на крышу храма.
— Все погибло, все пропало! — шептали его губы. Он облокотился на перила. У ног его лежал славный
Ефес во всем своем великолепии. Внизу у храма сновали взад и вперед люди. И почудилось Демофону, что самый храм Артемиды заколебался в своем основании, что статуя Артемиды тоже зашаталась на пьедестале и вот-вот упадет и разобьется вдребезги. А всему виной христианство. И понял Демофон, что откуда-то со стороны идет новая, неведомая ему сила, бороться с которой не под силу не только ему, но и всему языческому миру. С ужасом почувствовал он, что великая власть у этой христианской силы и ничто не удержит ее в своем наступательном движении. Христианство идет.
Павел на свободе, ученики его умножаются. Перешла к ним и ненаглядная его племянница. Глухо, злобно застонал Демофон. Да, он бессилен.
Вот здесь, в Ефесе, уже тысячи людей отвергают Артемиду и считают даже за преступление подойти к ее храму! Это ли не ужас? И ему, представителю язычества, главному жрецу Артемиды, стоит ли после всего этого жить? Не лучше ли умереть теперь, чтобы окончательно не видеть поругания богини?
Демофон глубоко задумался.
— Великий Демофон, тебя поджидают в храме для торжественного жертвоприношения, — раздался позади него тихий голос.
Демофон вздрогнул и оглянулся. Перед ним стоял его главный помощник Алкивиад.
— Слушай, Алкивиад. Посмотри. Ты видишь эту силу, идущую на нас? — спросил с каким-то ужасом в голосе Демофон, махнув рукой вдаль и не слушая своего помощника.
Алкивиад со страхом отшатнулся от него, от главного жреца. Он первое мгновение подумал, не сошел ли Демофон с ума.
— Нет, ничего не вижу, — пробормотал Алкивиад.
— А я вижу. И верь мне: эта сила — христианство. Оттуда, из Иерусалима идет новая сила. Эта сила победит нас, уничтожит. Я вижу ее. Погибнет поколение великой Артемиды. И время это близко. Верь мне, Алкивиад: я говорю правду. И я, верный служитель Артемиды, не хочу доживать до этих дней. Прощай.
И прежде, чем Алкивиад успел что-либо предпринять, Демофон стремительно ринулся с крыши.
Жрец со стоном закрыл лицо руками и вне себя побежал вниз. А там, на каменном помосте, лежало обезображенное тело Демофона с раскинутыми руками и размозженной головой.
Эпилог
Некоторое время спустя, маленькая Ефесская церковь скромно праздновала две свадьбы. Венчался Аристоген с Xионией и Калликрат с Кириеной. Новобрачные были счастливы и веселы. Аристоген после свадьбы уехал с женой и Эвникой в Пергам. Он несколько раз виделся с Ариадной и матерью и уехал, оставив их обращенными в христианство. Он дал слово, ввиду трагической смерти Демофона, вернуться в ближайшем будущем в Ефес.
Калликрат открыл на средства христиан художественную мастерскую, исключив из своих произведений выделку статуэток и богинь.
Под конец жизни пришел ко Христу и Димитрий. Языческая тьма начала рассеиваться. Взошло Солнце Правды. Настало царство благодати. Христианство широкой волной распространилось по всему миру. От храма Артемиды остались только одни развалины, и там, где происходило шумное чествование ложной богини, теперь воют лишь шакалы и бегают голодные звери. Исполинская статуя ниспровержена в прах. Xристос основал новое Царство, которому не будет конца.
Ив. В. Попов-Пермский
Издание В. М. Скворцова, Петроград, 1915 год
Юлий Л. Анкирский гостинник
Повесть на 18 мая (303 г. по Р. X.), по старому стилю
Глава I. Гостиница на Анкирской дороге и ее хозяин
Начало IV века по Р. X.
Внутри Малой Азии, огражденная почти со всех сторон горами, лежит страна Галатия[64]. Со времен святого Павла апостола, основателя Церкви галатийской, писавшего свое послание к ее жителям галатам, тут немало христиан. В верховье реки Сангари, в гористой местности расположен город Анкира. Население города смешанное, есть много язычников, есть и христиане. В последнее время они особенно ютятся в Анкире, потому что тут еще тихо, не доходят сюда грозные указы из Рима с повелением преследовать христиан за веру в распятого Господа Иисуса. Рим, где царствует жестокий Диоклетиан, ярый гонитель христианства, слишком далеко отсюда, да и Галатия — такая незначительная, такая малонаселенная, земледельческая страна. Кто из гордых римлян обратит на нее внимание?
Тихо живут в Анкире христиане. У них кое-где и храмы есть, — маленькие, в глухих местах, куда они сходятся для общего богослужения. Никто из язычников не знает этих богослужений, никто и внимания не обращает на этих тихих молчаливых людей, которые поздним вечером бредут куда-то с заботливым видом, а рано утром уже возвращаются домой, чтобы приняться за обыденные честные труды. Некоторые из них заходят по временам в подгородную гостиницу, что стоит на Анкирской дороге над рекой Сангари, на откосе крутой, высокой горы. Может быть, они там получают вести от родных из далеких городов и сел; там, в этой гостинице Φеодота Анкирского останавливается много проезжих.
Хозяин, пожилой купец с приятным открытым лицом, с поседевшими бородой и курчавыми волосами на голове, ласково принимает путников и отводит их в гостиницу, где они находят все нужное для отдыха, — простой, но сытный обед и чистую постель для ночлега.
Язычники в Анкире говорят, что много золотых монет оборотистый купец Φеодот заручит в год с полюбивших его гостиницу приезжих. Завистливые торговцы из язычников сами не прочь бы устроить гостиницу на Анкирской дороге, да трудно конкурировать с Φеодотом. Он так приучил к себе проезжих, что они, кроме него, никуда не пойдут.
— И что ему за охота так ухаживать за проезжими, ведь он один, как перст, с женой, бездетный. Ну, куда ему копить золото? — болтали завистливые языки.
А Φеодот-гостинник так радушно принимает своих гостей, что они всегда остаются им очень довольны и в другой раз не проедут мимо него, да и знакомым своим порекомендуют заехать в его гостиницу.
Печальный ли кто явится в гостиницу, оттуда выходит с веселым лицом, такой радостный, спокойный. Больного ли путника подведут к гостинице и еле живого снесут к Φеодоту; в отдельную каморку положат — больной, как увидит хозяина доброго, взглянет в карие глаза его, ласковые, приветливые, так и болезнь свою позабудет. Φеодот с участием сердечным положит руку больному на голову, пошевелит устами своими добрыми, призовет имя Иисуса, Господа распятого, а на очах, к небу обращенных, слеза заструится, упадет на щеку пожелтелую, и больной уже сам встает на ноги, обнимает хозяина доброго, руку его целует, как отцу родному, благодарит за излечение: здоров он совсем, боли и слабости у него как не бывало!..
Вот какие чудеса в Φеодотовой гостинице творились. Ведали про них христиане, что часто из других городов, из дальних стран, где было гоненье на христианскую веру, к Φеодоту Анкирскому шли. Его гостиница не только приютом для путников, но и лечебницей дарово́й для болящих была.
В отдельной комнате, что глухими стенами входила в горный утес, собирались изредка некие путники вместе при свете лампад (в комнате не было окон), и тут Φеодот являлся средь них как пастырь-отец средь любимого стада. Эти немногие избранники называли тогда Φеодота епископом и с ним совершали Тайны Святые.
И точно, то был законный епископ Анкиры. Женатый он был, но, по слову апостола Павла, имущий жену, яко не имущий (1Кор.7:29). И проповедовал Φеодот о Христе Спасителе, укрепляя в вере братию, обращая ко Христу язычников и иудеев. А гостиницу эту он нарочно устроил, чтобы отвлечь этим занятием внимание язычников от христиан, чтобы удобнее иметь с ними сношения, свободнее тут поучать вере и надежнее давать покой бегущим от гонителей христианам, по своему епископскому долгу. Сан же свой архипастырский Φеодот тщательно скрывал не только от язычников, но и многие из паствы не знали, что он епископ, принимали его за простого купца. И то делал Φеодот не из-за страха себя лично, а для пользы братий-христиан.
Язычники на христиан простых не обращали внимания, но епископа не потерпели бы, а без епископа церковь была бы сирота.
Пока все мирно в Анкире.
Глава II. Игемон едет!
Но вот пришли тревожные вести: из Рима едет в Анкиру новый начальник, игемон Φеотекн — ненавистник христиан. Говорят, испросил он у кесаря Диоклетиана Галатийскую область, для того чтобы в ней окончательно раздавить христианство, и обещал всех анкирцев к богам обратить.
Один слух о скором приезде нового игемона поверг анкирских христиан в ужас. Богослужение прекращалось, храмы пустели, христиане бежали из городов в пустыню и в горы, по мере того, как вестники от игемона появлялись в городах и селах со страшным объявлением беспощадного гонения на христианство, с повелением разорять христианские церкви и сравнивать их с землей, а всех исповедующих имя Христово в оковах сажать в темницы и подвергать различным мучениям; имущество же их отдавать на разграбление.
Как шквал налетает на мирно плывущий корабль, так на Церковь Христову внезапно ринулись яро язычники. Нападали они на дома христиан, все расхищали; христианских мужей и жен тащили в темницы, а молодых людей и девушек насильно увлекали в притоны…
И малых детей не жалели…
Нельзя достойно описать той скорби, того ужаса, который испытали тогда верующие во Христа. Священники бежали из церквей, оставив их открытыми, но трудно было найти место, чтобы укрыться. Так как все имения христиан были разграблены, то христианам угрожал голод, что лютее всяких мук. Многие из бродивших по пустыне или скрывавшихся в горах и пещерах, не вытерпев голода, сами отдавались в руки язычников, надеясь, что те сжалятся над ними. Уж очень тяжело было беглецам, особенно тем из них, что воспитаны были в довольстве и изобилии. Теперь они принуждены были грызть жесткие пустынные коренья и питаться дикорастущими травами.
Гостинник Φеодот особенно стал деятелен в это время. Не для того, чтобы золото нажить, как думали язычники, он держал свою гостиницу, но чтобы доставлять в ней покой и верное убежище гонимым братьям-христианам. Грозили ли кому из верных узы, муки, — Φеодот скрывал их в потайных каморках своей гостиницы, а ночью тайно выпроваживал в укромные места: в горы, в пещеры. Нуждающимся там в хлебе и в съестных припасах Φеодот доставлял нужное через верных людей из потаенных христиан. Особенно же заботился Φеодот о погребении христианских мучеников, убиваемых в разных местах язычниками: их тела оставлялись на съедение собакам или птицам и диким зверям. Φеодот убирал их тайно от язычников несмотря на то, что за такое дело была постановлена тогда смертная казнь. Взяв тайно тело мученика, Φеодот с честью погребал его.
Никто из язычников не подозревал ни в чем Φеодота, всякий считал его за обыкновенного содержателя гостиницы. А Φеодот был больше, чем когда-либо, покровителем гонимых христиан: кормил голодных, врачевал болезни, убеждал колеблющихся, был наставником веры и благочестия, учителем богоугодной жизни. Он же возбуждал христиан и к мученическому подвигу.
А со стороны посмотреть — дела гостинника шли все шире и шире: он закупал множество всякой провизии, и вся она быстро у него расходилась; он снова все бо́льшие делал запасы. Особенно много скупил он вина и пшеницы, то было еще до приезда игемона.
Между тем, настал день, когда по распоряжению игемона Φеотекна все съестные припасы и напитки на рынках Анкиры (да и всей Галатии) были осквернены окроплением идоложертвенной кровью. И виноградное вино, и пшеница, что христиане покупали на рынках как для обычного своего пропитания, так и (особенно тщательно выбирали они) для совершения бескровной Господу жертвы Святых Тела и Крови, — эти насущные вещи у всех продавцов Галатии, по указу игемона, не могли продаваться иначе, как с примесью идольской жертвы. Изверг игемон имел в виду заставить христиан поневоле (хоть в Причащении Святом) вкусить идольской жертвы, или совсем их лишить возможности причащаться Святых Тела и Крови.
Христиане поняли коварный замысел, и горько им было; они ужаснулись, что их иереи лишены уже возможности совершать Христову Вечерю.
Но Φеодот из сделанных им прежде больших запасов стал раздавать христианам понемногу вина и пшеницы, и тайно, чтобы не узнали язычники. А у себя в гостинице открыл постоянную столовую для христиан — братий анкирских. Как во время потопа только бывшие в ковчеге у Ноя спаслись от погибели, так в это страшное время гонений христиане, анкирские и из других городов и селений галатских, нигде не могли получить пищи и покоя, кроме загородной гостиницы Φеодота Анкирского. Гостиница эта была для них все — и дом гостеприимный, и храм для молитвы, и алтарь для священников, совершающих бескровную Жертву. И множество братий ежедневно сходились к Φеодоту. А язычники думали: «Ну и бойко же торгует Φеодот — сколько за день у него народу перебывает в гостинице!»
Глава III. Мученик
Однажды уведомил кто-то из братий, придя к Φеодоту, о мученической кончине Валента[65], который за веру Христову давно уже был схвачен и ранее содержался в темнице Мидикинской. Там его подвергали всяким пыткам и мукам, а теперь уж он сожжен в селении Малос, и обгорелое тело мученика брошено в реку Галиос, что протекает на восток от Анкиры. От гостиницы до селения Малос 40 стадий, не очень далеко.
Ревностный архипастырь Анкиры отправился тотчас туда. Взял он с собой сверток холста и вместо дорожного посоха заступ[66]. Но не в селение Малос пошел он, а близ Малоса вниз по течению Гали-реки.
Тихо в пустынных полях.
На востоке уже солнце сияет. Тихо проходит по берегу Гали-реки[67] Φеодот, в воду прозрачную зорко глядя. Любовью Христовой горя, ищет он тело святого Валента. Но драгоценных останков там нет и следа! Наверно, течением несет их все дальше и дальше вниз по реке! Взглянул Φеодот тут подальше на текущую по полю реку. И видит он: в поле, близ леса уже, в круглой извилине реки Галиоса сверкают на солнце струи серебристые и точно облачко светлое их осенило у берега тихого, кустами поросшего. Епископ туда поспешает. Доходит до места приметного, раздвигает руками колючие ветви прибрежных кустов и сходит к реке. Солнце прозрачную воду лучами прорезало и осветило песчаное дно. Там на дне, почти что у берега лежит обгорелое тело святого страдальца за веру Христову.
Залился епископ слезами: любовью к страдальцу сердце полно! Сошел он, раздевшись, в воду, вынул святые останки за Христа пострадавшего Валента, обвязал их холстом, что принес он с собой, и бережно спрятал в густые кусты. Затем, надевши одежду свою и заступ свой взявши, поднялся он на горку, поросшую лесом.
Высоко в синем небе качались верхушки зеленых дерев. Спереди лес все гуще и гуще темнел, а позади — внизу под горой — струилась река Галиос по полям изумрудным. Берега обросли тут кустарником частым. А там, над лугами, выше гор синеватых, солнце сияет в облаках золотистых и все заливает, как золотом чистым, светом своим. И тут-то, на горке, лучи пробрались меж деревьев ветвистых и играют на мокрой траве; в каплях росы отражаются радужным цветом. На каждой травинке, на каждом листке бриллиантик сверкает!
О, сколь прекрасны дела Твои, Господи!
И решил Φеодот здесь схоронить мощи святые.
Вырыл он заступом яму глубокую и к ней перенес из кустарника с берега останки страдальца. Помолился тихой молитвой. Со слезами воздал целованье последнее телу Валента, за Христа пострадавшего, и, спустившись в могилу, благоговейно мощи святые взял в руки свои и спустил их в могилу…
— Покойся, мученик Валент, до Светлого дня Воскресенья! За нас, христиан, помолись Господу нашему, ты теперь дерзновенье имеешь к Нему. Прощай, до свидания там, у Христа в Небесах.
Поднялся Φеодот из могилы, и, тело святого землею покрыв, зарыл он могилу. Травой и мхом ее обложил и крестом знаменал он рукой, последнее молвив «прости»! Пошел Φеодот в гущу леса и там отдохнул от труда погребенья, сев на свалившемся дереве. Чужому глазу едва ли приметна могила. Здесь не прохожее место!
Но недолго, однако, отдыхал Φеодот — некогда было, спешил он домой. И пошел он домой лесной тропинкой, что выше в лесу он нашел на горе, далеко от могилы. Часто тропинка теряется в чаще лесной, часто ее совсем уж не видно. Но Φеодот смотрит сквозь ветви верхушек древесных, — где солнце? И по нему он путь направляет в ту сторону, где должна быть большая дорога к Анкире.
Глава IV. Гонимые
На возвратном пути идет Φеодот пустынной дорогой: горы, овраги, кустарник. И вот из гущи древесной выходит толпа. Тощие лица, одежда в пыли, вид их смиренный: то христиане, братья гонимые.
С низким поклоном к нему подошли:
— Благодетель ты всех наших братий, — сказали они Φеодоту, — мы узнали тебя! А для нас что ты сделал, мы вовек не забудем и до смерти своей о спасении души твоей доброй Господу Богу будем молиться!
И от души, со слезами благодарили они Φеодота за его великое доброе дело. Они, христиане, по ревности к Богу, сотворившему небо и землю, разорили языческий храм Артемиды Дианы — этот притон диких оргий язычников. И за это были своей же родней из язычников выданы и в темницу посажены. Предстояли им лютые муки и смерть от игемона. Но Φеодот своими стараньями, просьбами (немало истратил на это и собственных средств) выкупил их из темницы. И вот теперь они на свободе. Кланяясь низко и руку целуя у Φеодота, они его благодарили, как только могли. Добрый епископ рад был, что встретил их всех живыми, свободными. Всех целовал и упрашивал, чтобы они пообедали с ним.
Вскоре вышли они на красивое место. На горке зеленый лужок, весь пестреет цветущими травами. Кругом обросло это место лесными плодовыми деревьями. Над лесом высятся горы высокие в одной стороне, а в другой сквозь деревья виднеется далеко внизу река серебристая. Уселись все на мягкой зеленой муравке. Кругом все цвело. В чистом лазурном, безоблачном небе солнце стояло высоко. Воздух был полон ароматом цветов и душистых растений. Из лесу веяло отрадной прохладой и доносилось милое пенье пташек лесных…
— Прежде чем станем обедать, — сказал Φеодот, — идите вы двое (и он указал на двоих молодых христиан) в селенье ближайшее и позовите оттуда священника к нам, чтобы он благословил нам трапезу. Я, — говорит Φеодот, — привык всегда начинать обед с благословенья священников Божьих.
Посланные пошли. И скоро дошли до селения Малос. Войдя в него, увидали они старца священника. Он шел из церкви от службы часа шестого[68].
Но они не узнали, что это священник, так как кроясь от язычников, священник не имел тогда какого-либо внешнего признака своего звания и одеждой ничем не отличался от простых поселян. Да и храмы помещались или в потайных комнатах частных домов, или же в маленьких хижинах в глубине садов, или в горных пещерах. Священник, видя, что на прохожих бросились с лаем деревенские собаки, отогнал собак, поздоровался с путниками и (должно быть, кроткие, измученные лица их вызвали сразу его полное доверие к ним) спросил их:
— Не христиане ли вы? Если христиане, так пойдемте в мой дом, с любовью о Христе побеседуем.
— Да, — ответили те, — мы точно христиане и ищем здесь единоверцев своих. Старец иерей улыбнулся и подумал про себя: «Ну, Φронтон (так имя его), какие же тебе сны-то вещие снятся!» И рассказал он им вот что:
— В эту ночь я видел во сне двух людей, точь-в-точь похожих на вас, и мне сказали они: мы принесли сюда сокровище для всей этой страны. А так как вы очень походите на этих виденных мною людей, то не покажете ли мне вы сокровище это?
Посланные от Φеодота ответили:
— И правда ведь у нас есть сокровище. Дороже оно всякого клада. Это наш достопочтенный Φеодот Анкирский. Если ты, старец, желаешь видеть его, то и увидишь. Но только сперва укажи нам священника здешнего сельского.
Тогда Φронтон им открылся:
— Это я самый и есть, кого вы ищете, братья. Пойдемте же вместе, приведем человека Божия ко мне в дом.
И пошли все к Φеодоту, на то красивое место, где он отдыхал с христианами.
Глава V. Пророчество
Увидя епископа, священник Φронтон подошел к нему и обнялся с ним и с прочими христианами и просил всех к себе в свой дом деревенский потрапезовать там. Но Φеодот отказался отсюда идти, говоря, что спешит возвратиться в свой город.
— Великий подвиг и путь ко спасению начинается для христиан, — говорил Φеодот, — и я должен послужить братьям в беде и нуждах.
Тут же на травке разложены были хлеб и плоды, и все то съестное, что имелось у Φеодота и братий пустынных в дороге. Старец Φронтон, по просьбе Φеодота, благословил эту трапезу молитвой, и подкрепились братья едой.
После обеда Φеодот с улыбкой приветливой обратился к священнику и говорит:
— Какое это красивое место! Вот тут покоиться святым мощам хорошо!
Священник на это Φеодоту в ответ:
— Ты позаботься, чтобы нам иметь здесь мощи святые.
— Только, отец, постарайся с Божьей помощью построить здесь немедленно молитвенный храм для принятия мощей, и мученика мощи прибудут к тебе уже скоро.
Сказавши эти слова, Φеодот снял перстень с руки у себя и подал Φронтону с такими словами:
— Господь свидетель да будет меж мной и тобой, что скоро сюда мученические мощи прибудут.
То были пророческие слова. Епископ Φеодот предсказал о положении на этом месте своего страдальческого тела. Он уже готовился на подвиг мученический и к кончине дней своих. Простившись с Φронтоном и братьями, Φеодот пошел домой в свою гостиницу.
Но, пришедши к Анкире, он увидел все христианские дома разоренными, а вместо гостиницы его на горе были развалины да мусор, точно после землетрясения.
В Анкире — гоненье.
Глава VI. Семь дев мучениц
Во время гонений особенно трудно было жить в языческих селах и городах одиноким христианским девушкам. Желая сохранить чистоту сердца и ума своего от окружающего их развратного языческого мира, во избежание неприятных и вредных встреч с грубыми нахальными язычниками, эти христианские девушки соединялись, по благословению пастыря, в общежитие в доме какой-либо доброй христианки, под руководством старшей, опытной в вере и благочестивой христианской жизни пожилой девицы-христианки. Жизнь их была монашеская, замкнутая, постоянно в трудах и в молитвах. Единственной усладой было чтение Святого Писания да тихое пенье псалмов.
В Анкире было тоже несколько пожилых уже христианских девиц, которые с юности ранней проводили так свою жизнь под руководством старушки Текусы, тетки родной Φеодота Анкирского, в свою очередь, тоже с малолетства воспитанной в духовной жизни одной опытной старицей-девой, давно уже почившей о Господе.
Текуса под своим христианским надзором растила и обучала когда-то и племянника своего Φеодота, еще в юности осиротевшего и пользовавшегося наставлениями и добрыми советами тетки. Когда же Φеодот сам сделался пастырем, Текуса всю себя посвятила подвижнической жизни и кругом нее собрались девушки, которые, пользуясь ее духовно-материнским попечением, в тишине ее дома вели девственно-чистую богоугодную жизнь. В описываемое время с Текусой жили шесть девиц.
Все они жили в целомудрии и страхе Божьем, храня до старости чистоту сердца и девическую христианскую скромность. Они давно обручили себя Небесному Жениху Христу, Сыну Божию, и предали себя Его Святой воле, молясь днем и ночью.
И вот все эти подвижницы схвачены язычниками и представлены мучителю, как христианки, не признающие богов. Их били и мучили, принуждали жертву принести идолам. Но видя, что нельзя их заставить мучением отречься от распятого Бога, — очень уж они терпеливы и за Христа все муки готовы принять, — свели их язычники в дом разврата. Знали гонители, по внушению врага, что это будет им, чистым и скромным, страшнее страданий, ужаснее смерти.
Тащат язычники бедных девиц в назначенный дом. Со слезами взирая на небо, молятся девы:
— Господи, Иисусе Христе! Тебе, Владыко, известно, что пока в нашей власти было хранить в целости девичество наше. Ты знаешь, как усердно, ради любви к Тебе, мы хранили девство свое и душу и тело блюли до сегодня. А теперь уже тотчас буйные юноши нас окружат, насмеются над нами… Теперь уж Ты Сам, о Владыко, помочь нам, верным рабыням Твоим, поспеши! Сохрани нашу честь, чистоту, как угодно святой Твоей воле! Пришли. И тотчас молодые язычники их окружили. Один из них сразу схватил за плечо старушку Текусу и сорвал с головы ее покрывало. Текуса упала к ногам нечестивца и, рассыпая на плечи седые, как лунь, волоса, умоляла его:
— Не издевайся, о юноша, ты надо мной, не бесчести старуху! Вспомни мать твою, ведь она такая же старая и волосы седы, как у меня, если жива. А если уже умерла, то вспомни умершую и ради нее, которая тебя питала, любила, учила, за тебя сердцем болела, ради твоей матери не делай зла никому из нас! Тебя наградит за это Владыка наш Xристос, на Которого мы твердо надеемся. Эти слова святой Текусы, сказанные ее старческим кротким голосом со слезами, так тронули собравшихся в притоне юношей, что ни один из них не решился издеваться над почтенными христианками. Совесть у них пробудилась, и со слезами на глазах молодые язычники покинули дурной дом, не сделав зла никому из девиц.
Услышав о таком неудачном для него результате его гадкой затеи, Φеотекн игемон велел девам быть жрицами богини Артемиды и каждое лето справлять стародавний обычай обмывания идолов в ближнем озере.
Глава VII. Языческий праздник
Вот скоро настал и день омовенья. Торжество пребольшое. Идолов сняли жрецы с обычного места в храме. Поставили каждого идола на особую убранную цветами колесницу. А впереди всех этих колесниц, тоже цветами украшенных, на них по одной посажены христианские девы-страдалицы, одежды их сброшены. Связаны руки, в седых волосах трава и цветы (как жертву, их разукрасили). Тела их покрыты кровавыми ранами, еще не зажившими от недавних страданий.
И теперь на позор всей толпы выставлялись девы. Чернь, бежавшая глазеть на церемонию, глядя на новое зрелище, вопила, хохотала, глумилась.
Вот идут музыканты с трубами, с кимвалами. Вот целый хор женщин с непокрытой головой, с цветами в распущенных косах. Поют песни в честь идолов. За ними народ в опьянелом восторге с свирелями, гуслями, цитрами[69] и другими в руках инструментами, припрыгивая, приплясывая, топоча ногами в бурном порыве разгула. Земля содрогается от этой грохочущей, свистящей, скачущей, ревущей толпы. А вот и сам игемон Φеотекн идет, окруженный народом. Средь этой бесноватой толпы он кажется самим сатаной.
Все обращают внимание на передние колесницы с христианскими девами. Одни заливаются смехом нахальным, другие дивятся в душе их терпению. А иные, видя их раны, увечья от пыток жестоких, от слез удержаться не могут, от жалости в сердце к бедным страдалицам девам.
Глава VIII. Что делал гостинник
Феодот, увидев разоренье гостиницы, вернулся назад, на лесную тропу, и направился к горам, к тому месту, где, пробираясь через теснину, шумел горный поток. Место дикое, все заросшее сплошным кустарником. Тут, недалеко, ближе к реке, скрывалась в густой заросли ветхая хижина христианина Φеохарида. Это был пожилой бедный рыбак. Он с женой поселился в этой глуши уже давно и сторожил христианскую церковь святых праотцев Авраама, Исаака и Иакова. Церковь была недалеко отсюда за лесом, ближе к Анкире.
Когда Φеодот пришел к рыбаку, он нашел в его хижине несколько братий, тоже бежавших из города. Они рассказали Φеодоту о мучениях семи дев и о предстоящем языческом празднике. Жена Φеохарида ходила в Анкиру и передала им некоторые слухи об участи дев.
Вот наступил праздник омовения идолов. Жена рыбака с утра ушла к озеру, чтобы разузнать поподробней о девах, и, если возможно, то все проследить до конца.
В этот день Φеодот был сильно печален. Он очень боялся, как бы по естественной слабости своей женской природы не изнемогли бы страдалицы девы в подвиге, не отчаялись бы в надежде на Спасителя Господа. Как бы не уступили они силе язычников, не сделали бы вида, что омывают идолов, тем изменив Христу Богу. И молился за них Φеодот Господу Иисусу прилежно, чтобы Он Сам, Всемогущий, укрепил их в страданиях. Он затворился в хижине со своим родственником Полихронием и с некоторыми христианами.
Павши ниц, молились они все от первого часа до шестого (с 7-го часа утра до 12-ти дня), до тех самых пор, пока, наконец, возвратилась жена Φеохарида с известием, что святые мученицы уже потоплены в озере.
Только тут поднял Φеодот голову и на коленях, со слезами воздевая к небу руки, сказал:
— Благодарю Тебя, Владыко, что услышал Меня, — не оставил тщетными слезы мои!
— Где же потоплены мощи их? Близко ли к берегу или на середине озера, в самой глуби? — обратился он к женщине.
— Я, — говорила она, — вместе с другими женами стояла в народе, поблизости к девам, все видела. И слышала, как сам игемон ласково так уговаривал их, чтобы они послужили идолам в их омовеньи, и даже награды обещал он им дать. Но ничего от дев не добился. Только святая Текуса укоряла его, пристыжала. А жрецы Артемиды и Афины-богини одежды им белые и венки из цветов подавали, чтобы они нарядились в них для идольской службы. Но девы святые те одежды с венками, бросивши наземь, измяли ногами. Тогда уже игемон велел навязать всем им по большому тяжелому камню на шею и, посадивши в ладью, отплыть на середину и в озеро сбросить. Они и потоплены в озере, стадиях в двух от этого берега.
Выслушав это, святой Φеодот до вечера советовался с Полихронием и Φеохаридом, какими бы средствами тела святых мучениц вынуть из озера, чтобы предать их честно земле, по обычному христианскому чину.
Уже солнце садилось, как пришел к ним один молодой христианин, Гликерий, и известил, что игемон поставил при озере воинскую стражу, — стеречь, чтобы христиане не вынули тела святых дев из воды.
Опечалился сильно вестью такой святой Φеодот.
— Как достать теперь мощи святые? И стража поставлена, подойти нельзя к озеру и в лодке рыбацкой доплыть до середины; и камни жерновые, что привязаны к шеям утопленных, так тяжелы, что нужны колеса, чтобы вывезти мощи одни за одними на берег озера…
Вечером, как уже стало темнеть, вышел святой Φеодот один к ближней церкви Святых Праотец. Глядит, — она загорожена, язычники это уже сделали, чтобы нельзя христианам туда было войти. Повергшись на землю перед церковью, долго молился епископ. Потом, вставши, пошел к церкви Святых Отец и ту тоже нашел загороженной. И перед нею ниц он повергся с молитвой горячей, слезной. Тихо, пустынно было кругом. Только звезды мерцали в синей глуби небес…
А он все молился. Но вот вдруг до слуха его долетели какие-то крики, людские голоса послышались близко. Уж не погоня ли? И поспешил Φеодот возвратиться в Φеохаридову хижину. Лег он уснуть, но едва задремал, является ему в сонном видении его замученная тетка, Текуса святая, и говорит с кротким упреком таким:
— Φеодот, мое чадо! Ты спишь, о нас не заботишься; не помнишь того, как юного тебя я учила с любовью, больше родителей твоих наставляя тебя в добродетели! Когда жива я была, ты никогда не оказывал мне невнимания, но как родную мать почитал. А теперь, по смерти моей, ты меня и забыл, хотя должен ты до конца послужить мне. Не оставляй, умоляю тебя, не оставляй
наших тел в пищу рыбам в воде! Постарайся скорее вынуть их со дна озера. Ведь и ты через два дня войдешь сам в подвиг мученика. Встань же сейчас, иди к озеру… Да берегись предателя!
И святая Текуса отошла от него.
Φеодот тотчас проснулся и рассказал о видении братьям. И все обратились ко Господу со слезной молитвой, чтобы помог он достать тела святых мучениц.
Размышляя о слышанном в сонном видении, епископ задумался: что бы означали последние слова «берегись предателя»? Но вскоре же все объяснилось.
Утро настало и юного Гликерия с Φеохаридом послали получше узнать о поставленной страже. Надеялись, что воины по случаю праздника Артемиды-богини ушли уже со стражи. Но вот возвратились братья с озера и известили печально: «На месте стража по-прежнему».
Весь тот день проведен был в молитве, в посте. Вот и ночь наступила: они ничего не поели и вышли из хижины к озеру, взявши с собой остро отточенный серп, чтобы было чем срезать веревки с потопленных тел.
Глава IX. На поисках мощей дорогих страдалиц
Ночь была темная. Ни луны, ни звезд не было видно на небе черном почти от туч, его заволокших.
Накрапывал дождик.
Долго шли путники, по памяти держа направление к озеру. Идут и не видят, что кругом них, и есть ли дорога. Идут, рукой держась друг за друга. Долго идут. Вот что-то попалось под ногу, вот что-то хрустнуло… На что-то наткнулся ногой Полихроний, как будто бы камень круглый какой от ноги его откатился. Кто-то нагнулся во тьме и ощупал:
— Что это?
— Череп…
Тут только поняли путники, куда они забрели! То было поле, где обычно казнили преступников, осужденных на смерть за разбой и убийство. Это место было ужасно. Ни один смельчак не пошел бы этим полем после заката, когда уже стемнеет: много здесь трупов казненных, погребенью не преданных, много голов валялось отсеченных. Кое-где воткнуты колья высокие и на них торчат головы мертвые… Повсюду рассыпаны кости давно уж казненных, что горные звери, шакалы, уже обглодали… И вот через это-то страшное место пришлось пробираться во тьме Φеодоту с друзьями! Страх объял путников, ноги дрожали…
Вдруг голос раздался во мраке:
— Φеодот! Иди смело!
Но еще больше от этого голоса они устрашились. И каждый из путников перекрестился. И видят они: на востоке блеснуло и Крест засиял в облаках перед ними. От него далеко, как огонь, световые лучи исходили.
При видении чудном святого Креста страх христиан сменился о Господе радостью. Пали они на колени и поклонились Святому Кресту. И к озеру дальше направились в путь, освещенный лучами Креста.
Крест скрылся, и снова окутал их мрак. Пошел сильный дождь. Нод ногами была страшная грязь. Как по болоту шли путники, с трудом таща ноги по липкой и скользкой грязи. Измучились все. Остановились, уставши, и помолились, чтобы Господь им помощь послал. И вот по молитве явилась в воздухе тут перед ними горящая ярко лампада и осветила дорогу.
И идут навстречу два мужа почтенные, седобородые, в ярко-белых одеждах, и говорят Φеодоту:
— Радуйся! Господь Иисус Xристос вписал имя твое в лике мучеников. Он услышал молитву твою, что приносил ты Ему со слезами об отыскании тел страдалиц, невест Его. Мы из сонма отец, которым ты так усердно молился в прошедшую ночь. И послал нас Господь Иисус на помощь тебе. Когда придешь к озеру, увидишь мученика святого Сосандра[70] в полных доспехах воинских. Он устрашит и прогонит воинскую стражу из озера. Но не должно бы тебе, Φеодот, брать с собою предателя.
При этих словах святые стали невидимы. Лампада же в воздухе, светя на дорогу, плыла впереди. И христиане за ней пошли. И опять Φеодот никак не поймет, кто бы с ним мог быть предателем?
Вся братия, следуя за светлой лампадой, чудесно явившейся им, дошли, наконец, и до берега озера.
Дождь, между прочим, все лил, молния ярко сверкала, гром грохотал поминутно. Ветер пронизывал насквозь мокрый до нитки хитон[71]. Воины долго, невзирая на бурю и дождь проливной, крепились, поста своего не кидали. Строг был игемон, боялись уйти. Вот ослепила их молния, гром грянул над самой головой, — воины здесь, и ни с места. Но вот среди тьмы, над озером бурным огненный свет появился…
Шарахнулись в ужасе воины робкой толпой и быстро бежали далеко-далеко, покинув свой пост.
Что же устрашило язычников храбрых?
Над озером темным, как бы огнем освещенный, сияя весь светом чудесным, по воздуху несся всадник высокий, красивый и юный, в полных доспехах римлян благородных. Горели, как жар, все доспехи его. Шлем сиял, как огонь, латы блестели. В левой руке он держал у груди щит воинский с Крестом лучезарным, а в правой — копье устремлял перед собой далеко вперед. И грозно он мчался прямо на стражу.
Так, устрашив стерегущих, снова невидимым стал чудотворец, из мира иного на помощь к собратьям пришедший по воле Господней.
Вихрь поднялся. При блеске огненных молний, почти непрерывном, видят Φеодот и дружина его: волны от берега хлынули с силой далеко, на те берега, и дно осушилось; а там, на середине, видны тела дев, христианок-страдалиц. Подошли христиане по озерному дну к телам святых мучениц, серпом веревки порезали с них, отделив их от камней тяжелых, и, подвезя колесницу, которую стража оставила тут же на берегу озера, на ней повезли мощи святые к церкви Святых Праотец. И здесь погребенье, как подобает, свершили, помянув поименно: Текусу, Александру, Φаину (она же Полактия), Клавдию, Евфрасию, Матрону и Иулию (звалась еще Афанасией) — дев-мучениц. И запомнили день их кончины — мая 18-й день (31 мая по новому стилю — ред.).
Глава X. Предатель
Назавтра весь город уже знал, что из озера вынуты мощи. Вне себя был игемон от ярости.
Жрецы и другие язычники, как только завидят где христиан, тотчас влекут их на пытки. Когда уже многие так были схвачены и пыткой жесткой как зверем растерзаны, узнал об этом святой Φеодот. Как только услышал, тотчас же хотел он пойти и отдаться на лютую смерть. Но друзья-христиане не пустили его.
А Полихроний, одевшись в чужие одежды простых поселян, пошел поскорее в Анкиру на рынок, чтобы там разузнать все подробней. Но не успел дойти он до Анкиры, как его уже схватили и увлекли на двор игемонский. Там пытку жестокую снес Полихроний. Но, как увидел он, весь окровавленный, меч, занесенный над шеей своей, услышал угрозу, что смерть ему тотчас, если не скажет, где мощи лежат и кто взял их, от страха затрясшись, все рассказал: «Φеодот-де гостинник похитил тела, положил на колеса и в церковь отвез хоронить».
— Где эта церковь? Где могила? — показывай нам! И Полихроний повел их к пустынной Святых Праотец церкви и там показал, где схоронены девы святые. Беснуясь от ярости, язычники тотчас разрыли могилу, а мощи… сожгли. Затем разбежались — разыскивать того, кто посмел украсть мощи.
Φеодот лишь к вечеру узнал о погоне. И только теперь он все понял. Его сродник и друг Полихроний и есть тот предатель, о котором святые, явившись, сказали ему!
Имея твердую решимость пойти на мученический подвиг, епископ братьям сказал:
— Молитесь, братья, за меня Христу и Богу моему, да удостоит Он меня венца нетленного в царствии Своем!
И встали все с ним на колени. Всю ночь молились. И вот какую епископ вслух всем молитву произнес:
«Господи Иисусе Христе, надежда тех, кто потерял уж всякую надежду!
Дай мне совершить Тебе во славу мученический подвиг, прими Ты кровь мою, готовую пролиться за Тебя, Христе мой, как жертву любви, Тебе приносимую за всех моих братий, что терпят все беды за имя Твое! Облегчи их страдания, утиши эту бурю гонений, чтобы все верующие в Тебя жили в покое и мире!»
Глава XI. Прощанье
Рано поутру святой Φеодот собрался в Анкиру сам себя отдавать на муки и смерть. О! Какой тут поднялся плач безутешный и вопль, и рыдание! Братья, залившись слезами и руки свои протянув к Φеодоту, ему говорили, рыдая:
— Будь спасен, Φеодот, — солнце церкви любимое, светлое! Перенесши страдания и беды, ты наследником будешь света небесного; тебя примут к себе лики ангелов светлые и увидишь ты славу Духа Святого и одесную Отца сидящего Агнца Христа. Эти блага тебе уж готовит за подвиг Спаситель наш Бог. Но нам, остающимся в бурном море сей жизни земной, средь соблазнов, гонений и бед, твой уход принесет горький плач и рыданье! Плача, христиане подходили к Φеодоту, и он обнимал каждого из них и целовал последним прощальным поцелуем. И завещал святой Φеодот всей братии: если удастся взять от язычников тайно его убиенное тело, то пусть передадут его священнику селения Малос — Φронтону. Он принесет перстень, который дал ему Φеодот.
Затем епископ, оградив все свое тело крестным знамением, безбоязненно вышел из хижины и скорыми шагами пошел по дороге к Анкире.
Лишь начались городские постройки, навстречу ему двое старейшин попались знакомых (по торговым делам как с гостинником были знакомы). Желая оказать ему дружеское участие, они говорят ему:
— Беги скорей из Анкиры. Ведь жрецы Артемиды клевещут игемону, будто ты не велишь христианам кланяться нашим богам, называя их бесчувственным камнем и деревом. И много там еще на тебя наговоров. А Полихроний показывает, что это ты украл тела семи потопленных девушек. Скройся скорее, Φеодот, пока еще время. Ведь было бы безумием с твоей стороны самому отдаваться на муки.
Φеодот отвечал им:
— Если вы мне друзья и хотите мне дружбу свою оказать, то не мешайте идти мне в назначенный путь, а лучше пойдите вы в суд и скажите судьям: «Φеодот, на кого и жрецы, и народ донесли, стоит тут у дверей».
С этими словами Φеодот спешными шагами пошел к суду.
Глава XII. Суд
Став посредине суда, Φеодот с улыбкой кроткой стал рассматривать различные орудия пытки, мучений.
Там стояла раскаленная докрасна печь, кипели котлы со смолой и двигались страшно с острыми зубьями два колеса… и много еще разных мучилищ. На все эти ужасы смотрел Φеодот без страха, без смущения в душе, но стоял веселый и спокойный.
Игемон, взглянув на него, говорит:
— Φеодот! Ты не подвергнешься ни одной из этих мук, полагающихся здесь, если одумаешься и принесешь жертву богам. Ты будешь свободен от всех обвинений, на тебя возводимых всем городом и всеми жрецами, и нам будешь друг и царю приятный подданный. И почтешься от него честью, только отрекись от Иисуса, Которого распял в Иудее до нас живший Пилат. Раздумай же осмотрительно; по-видимому, ты разумный человек, а разумный все делает с рассуждением и рассмотрением. Отрекись же от безумия. Да и других-то христиан тоже от этого отговори. И будешь обладать всем городом, так как тебя поставят жрецом Аполлона, — славного бога, являющего людям великую милость, излечивающего недуги врачебным искусством. Ты будешь и прочих жрецов посвящать в великие саны и будешь судей призывать к милосердию, ты будешь послания к царю посылать о народных нуждах, к тебе вместе с почестями польются богатства и потомство твое будет в почете из роду в род. И если захочешь сейчас же имений, то тотчас получишь их от меня.
При этих словах игемона послышался голос из народа. Кто-то упрашивал Φеодота и советовал ему принять от игемона обещаемый дар.
Глава XIII. Исповедание епископа
Вот что сказал христианский епископ в ответ на льстивую речь язычника-игемона:
— Во-первых, прошу благодати у Господа моего Христа Иисуса, Которого ты унижаешь, игемон, считая простым человеком. Прошу у Него благодати помочь мне раскрыть заблуждение ваше, доказать вам всю ложность ваших богов и исповедать в кратких словах таинство Его воплощенья и чудеса Господни поведать. Мне должно, игемон, пред всеми вами засвидетельствовать веру мою и словом, и делом. О деяниях ваших богов и говорить-то бы стыдно, но, чтобы вас устыдить, скажу хоть немного: тот, которого вы называете Дием, в которого верите, как в величайшего бога, Дий этот так жил зазорно, что справедливо признать его виновником всякого зла и распутства. Орфей, ваш поэт, повествует, что Дий своего родного отца Сатурна убил, мать свою Рею взял себе в жены, ее дочь Персефону тоже взял в жены, в жены взял и Юнону, это сестру-то родную свою! Такие же деяния беззаконные творили и прочие боги — хвалимый ваш Аполлон… И Марс, и Вулкан… Ведь ныне закон казнит поступающих так. Вы же злодеями хвалитесь, как чем-то высоким, почтенья достойным. Отцеубийцам, прелюбодеям, злодеям лихим не стыдитесь вы поклоняться! И ваши поэты похвальные песни слагают деяниям их отвратительным! Какая противоположность всему этому жизнь и чудеса Господа нашего Иисуса Христа, безгрешного, чистого! Его воплощенье было предсказано пророками древними, за несколько веков предрекшими: «В последние годы Бог придет с неба к людям, и будет жить с ними, как человек, творя чудеса, исцеляя больных, сподобляя людей Небесного Царствия». О воплощении Его, так же, как и о вольном страдании и смерти за нас, о Его воскресении из мертвых те же пророки все предсказали подробно. Его воплощение засвидетельствовано мудрецами халдейскими и волхвами персидскими, которые узнали о Рождестве Его по явившейся тогда чудной звезде и пошли к Нему из стран далеких и, дары принесши, поклонились Ему, как Богу единому! Есть свидетели и Его Божественного Воскресения из мертвых. Это воины римские, бывшие на страже у гроба Его. Они пришли в Иерусалим и известили архиереев о Его Воскресении. А чудеса Господни, которые творил Иисус во время земной жизни Своей! Во-первых, претворил Он воду в вино. Пятью хлебами и двумя рыбами напитал Он 5000 народа в пустыне. Больных исцелял одним словом Своим. По морю бурному, как посуху, ходил! Огненная стихия повиновалась власти Его. Слепорожденному Он дал зрение, хромых делал скороходящими. Его повелением мертвые вставали. Лазарь, мертвец четверодневный, словом Его воскрешен и возвращен к земной жизни. Эти славные и дивные чудеса явно доказывают, что Xристос Иисус Господь наш есть Бог истинный и всесильный, а не простой человек между людьми. Нока епископ так свидетельствовал о Христе, все множество язычников заволновалось, забушевало, точно море в сильную бурю зашумело, заревело. Жрецы рвали на себе волосы, раздирали одежды свои, разрывали на части венки с головы. Народ же дико кричал, заявляя гневно игемону:
— Зачем богохульнику этому, достойному смерти, ты так много и дерзко даешь говорить?! Зачем не мучишь сейчас же его, не казнишь его смертью жестокой?
Тут игемон, предавшись гневу, велит воинам сорвать с Φеодота одежды его, нагого повесить на дыбу[72] и строгать все тело его когтями железными. И сам вскочил от ярости, своими руками хотел мучить его.
Раздавались яростные крики, вопили глашатаи; народ, разъяренный, как зверь, волновался в гневе и злобе; слуги готовились мучить Христова раба, хватая поспешно орудия мучений. То ад был со всем своим сонмом злобных духов. Только сам мученик с миром в душе был тверд и спокоен, точно не против него поднялся весь тот ужас, вся буря той злобы! Он висел, обнаженный, на дыбе и железные когти беспощадно терзали его, кровь лилась ручьями, а лицо его светилось радостью. Он улыбался, точно не его так жестоко терзали…
А все потому, что Господь помогал Своему страстотерпцу! Так всесильна Его благодать!
Долго мучили епископа, переменяясь в очередь слуги. Одни уставали, другие принимали от рук их орудия и мучили снова. Но не одолели мучители страдальца Христова. Казалось, что страдал он в чужом, а не в своем живом теле, потому что во время мучений весь ум устремил он к Господу Богу.
Φеотекн велел полить истекающее кровью тело едким уксусом с солью и затем опалять ребра зажженными факелами. Обжигаемый мученик, ощутив запах гари от обожженного тела, отвернулся. Φеотекн, увидя это, тотчас подошел к Φеодоту и сказал:
— Где теперь, Φеодот, дерзость речей твоих? Вижу теперь, что муки тебя побеждают. Право, если бы ты богов не хулил и поклонился бы их силе, не пришлось бы тебе так страдать. Не советовал ли я тебе, человеку низкого происхождения, гостиннику, не противиться повеленью царя, власть имеющего над кровью твоей?
Но мученик ответил ему:
— Не воображай, игемон, будто муки меня победили потому только, что увидел, как я отвернулся от запаха горелого тела, огнем обожженного, а лучше повели слугам твоим поприлежней исполнять твое повеленье. Я вижу, что они как-то слабо, лениво делают дело. Ты придумай какую-нибудь новую, более лютую муку, чтобы познать тебе силу великую укрепляющего меня Господа Иисуса распятого. Его помощью я тверд, а тебя, как жалкого пленника дьявола и царя твоего, презираю!
За этот ответ дерзновенный велел Φеотекн бить его в уста и зубы ему сокрушить. Святой же епископ, и это биенье спокойно терпя, так сказал Φеотекну:
— Если даже язык мой отрежешь, успеха тебе никакого не будет. Господь Иисус меня и немого услышит.
Измучились все палачи, терзая святого.
Приказал Φеотекн снять с дыбы страдальца и, затворивши в темницу, стеречь до другого мучения.
Повели Φеодота через весь город в темницу.
Он, по всему телу израненный, самыми этими язвами показывал всем свою победу над мучителем и над дьяволом. Множество народа сбегалось смотреть на него, как на невиданное зрелище, а он все говорил о силе Христа Иисуса.
— Смотрите, как чудесна, как всесильна сила Христа Бога моего и Владыки! Смотрите, как Он страдающим за Него дает крепость не чувствовать от ран телесной боли и немощную плоть делает нечувствительной к ожогам, и людей низкого звания делает настолько смелыми и твердыми, что они и царские повеления, и княжеские запрещения ставят ни во что, если они противны закону Христову. Господь наш подает Свою благодать как простолюдинам, так, равно, и знатным, и рабам, и варварам, и эллинам, верующим в Него!
И снова, указывая на глубокие язвы свои, говорит:
— Вот какую жертву должно приносить Христу Богу нашему. То есть терпение. Он Сам первый за каждого из нас пострадал. Тоже терпел!
Так громко беседуя с народом, дошел священномученик Φеодот до темницы, где и прикован был в узах к стене.
Глава XIV. Мученическая кончина епископа
Прошло 16 дней. Но приказу игемона на городской главной площади поставлен высокий помост. Привели Φеодота из темницы и вывели на помост, где уже собрались судьи. Φеотекн подозвал к себе мученика.
— Подойди сюда ближе, Φеодот, — так начал игемон. — Надеюсь, что довольно наказан ты прежними муками. Теперь уж оставил свою прежнюю гордость и стал уж получше? Право, бессмысленно такие мучения на себя навлекать. А мы не желали мучить тебя. Ну хоть теперь-то брось упорство свое, познай владык наших, всесильных богов. И за это удостоишься дары получить ты от нас, которые мы тебе обещали и прежде и теперь обещаем, если только богам ты поклонишься. Если же нет, то сейчас же увидишь для тебя уж готовый огонь, отточенный меч и звериные пасти, готовые тебя растерзать.
Святой Φеодот так ответил мучителю:
— Какое орудие можешь ты, Φеотекн, выдумать, чтобы мог ты им победить укрепляющую меня силу Господа моего Христа Иисуса? Хоть и прежних много язв на теле моем, как ты видишь, но сделай опять испытание, тверд ли я в вере моей, употреби, какое хочешь мучение над плотью моей и увидишь, что при помощи Божьей все я стерплю.
И снова игемон велел на дыбу повесить святого и снова когтями железными рвать тело его, поновляя прежние язвы. Святой при мучении лишь имя Христово вслух исповедал. Снявши с дыбы, его стали волочить по острым, накаленным в печке черепьям. И, снова повесив, строгали опять до того, что все тело казалось одной сплошной кровавой язвой. Только язык цел оставался, славил он Бога; мучителя же Φеотекна со слугами его называл немощными. Наконец, уже не зная, как больше и мучить святого, игемон изрек приговор:
— Φеодота, защитника веры Галилейской, врага богов наших, царским повелениям противлявшегося и меня, игемона, поносившего, власть наша повелевает мечом усекнуть, а тело огнем сжечь, чтобы не было погребено христианами.
И повели Φеодота на казнь за город, в поле. Много народу следовало за ним, что хотели смотреть на кончину его. Дошедши до смертного поля, стал он молиться:
— Господи Иисусе Христе! Творец неба и земли, не оставляющий уповающих на Тебя! Благодарю Тебя, что удостаиваешь меня быть гражданином небесным и участником Твоего Царствия. Воздаю хвалу Тебе, что дал Ты мне победить змия и стереть главу его. Молю Тебя, дай рабам Твоим верным облегчение от теперешней скорби. Пусть кончится на мне гонение на Церковь Твою от язычников! Дай мир Церкви Твоей, избавь ее от мучительства дьявола! Аминь.
Затем, обратясь к народу и видя в них плачущих братий, епископ сказал им последнее слово:
— Не плачьте обо мне, мои братья, а лучше прославьте Господа нашего Иисуса Христа, давшего мне свершить подвиг и победить врага. Я же буду на небе молиться за вас Господу Богу.
С этим последним уже в жизни сей словом священномученик Φеодот Анкирский склонил честную свою главу под меч. Усекновение его и праведная кончина о Господе вспоминается 7 июня (по ст. стилю — ред.).
Слуги игемона набрали дров и хвороста в ближнем лесу и устроили большой костер; положили на него тело мученика и главу его и, накидав сверху сена и еще сухих ветвей, хотели сжечь, по велению мучителя.
Но пока воины устраивали костер, поднялся ураган. Народ разбежался. Небо быстро покрывалось облаками кроваво-бурого цвета от освещения лучами уже скрывающегося в тучу багрового солнца, вскоре, впрочем, потонувшего в черной туче.
Мрачно стало и в поле, и в небе. Молнии часто прорезывали небо на всем пространстве. По полю прыгали огненные шары и кружились вокруг костра с телом мученика. Страшно было подойти к костру, и воины не решились его поджечь, но, по приказу игемона, остались поблизости караулить костер до утра.
Пошел дождь, гроза продолжалась. Первой заботой воинов было устроить себе помещение сносное, насколько это было возможно, так как дождь лил все сильней и сильней. Они принялись поскорее рубить небольшие деревца, ветвей набирать, и устроили наскоро шалаш, в который и скрылись от дождя проливного.
Когда дождь перестал и небо прояснилось, было уже время заботы об ужине. Воины, набрав в лесу под большими деревьями посуше хворосту, принесли его к шалашу и огонь развели. Стали ужин готовить.
— Но, чу… В лесу, по дороге лесной, слышится шорох, валежник хрустит.
Кто там?
— Тяжелое что-то упало в лесу на дороге. Воины быстро вскочили и к лесу бегут…
Глава XV. Исполненное завещание
По устроению Божию вечером поздно, как дождь перестал, старец Φронтон из Малоса, навьючив осла старым вином виноградным, отправился в город, чтобы на утро на рынке продать. Он, как простой земледелец, имел виноградник и сам делал вино: тем и кормился с семьей. Заря догорает. Тихо тащится тяжело навьюченный осел по пустынной лесистой дороге; тихо бредет за ним старец-хозяин, погоняет легонько рукою его. На пальце Φронтона перстень блестит. Тот самый перстень, что дал ему после обеда с друзьями гонимыми, в беседе таинственной сам Φеодот из Анкиры.
Φронтон не знал ничего о гонении в Анкире, ни про гибель гостиницы, ни о судьбе Φеодота. Когда он приблизился к полю, где в костре, закрытые хворостом, лежали останки святого епископа, осел вдруг споткнулся об корявые корни деревьев, что тянулись, как сказочный змей, через дорогу, и упал с тяжелой ношей своей прямо на землю. Воины, увидя, в чем дело, побежали к Φронтону на помощь — осла поднимать. Куда ты, странный человек, на ночь глядя?! Сверни с дороги, ночуй с нами… И скоту-то здесь пажить хорошая!
Зашел к ним священник ночевать. Тело мученика лежало в хворосте в поле, его не было видно Φронтону. Против него у опушки лесной был шалаш и перед ним разведенный огонь. На огне варилась кашица. Воины пригласили Φронтона поесть. А он, взявши у них кувшин, наполнил его вином и подал им пить. Они, пробуя вино, хвалили его:
— Вино-то какое хорошее, крепкое; а дух-то какой!
— Хорошо очень выдержано, — говорит один воин, знаток по винной-то части. — Сколько лет ты держал его в погребе?
— Да лет пять-то стояло, — ответил Φронтон.
Они попивали вино и, не зная, что Φронтон христианин, священник, болтали с ним откровенно, без всякой опаски. Рассказали ему все, что приключилось в последние дни: как потоплены были семь дев христианских за то, что не хотели послужить богам в омовении, как гостинник Φеодот ночью тела их из озера вынул и предал погребению; как он сам, в то время как розыски шли, на суд грозный явился и на пытку сам себя отдал, и как мужественно терпел лютые раны, точно был медный или железный какой.
— А вот тут, — указали они на костер, — лежит его обезглавленный труп. Его тут казнили. А теперь мы его стережем, по наказу игемона. А завтра велено сжечь. Сожгли бы и сегодня, да буря с дождем помешала.
Слушает старец рассказ их ужасный и благодарит внутренне Бога, что дал Он узнать о страдании и о кончине Φеодота святого, Его архипастыря. И обдумывает, как бы тайно увезти честные мощи его. И вновь наполнил Φронтон опорожненный кувшин своим вином виноградным и воинам подал, приветливо молвив:
— Пейте, служивые, сколько хотите.
И сильно они напились и крепко заснули.
Тогда старец встал осторожно, пошел тихо к костру… Сняв верхние ветви и сено, мощи святые открыл и целовал их со слезами. Сняв перстень с руки своей, он надел его святому на перст, говоря:
— Святой священномученик Φеодот! Исполни то, что ты обещал мне!
И положил Φронтон мощи епископа с головой отсеченной на осла своего, и, крепко обвязав драгоценную ношу, осла он пустил в обратный путь одного к селению Малос. Осел пошагал по дороге лесной и скоро исчез в темноте. Между тем, поскорее священник опять наложил кучей хворост и сено, как было. Как будто там в хворосте, как и прежде, лежало тело страдальца.
К шалашу возвратясь потихоньку, лег старичок. Воины спали по-прежнему крепко. Рано поутру, лишь заря занялась, встал винодел из Малоса и пошел за ослом, чтобы навьючить вином и уйти на рынок анкирский. Так сказал он воинам. Вдруг он вернулся и начал тужить по осле:
— Убежал, убежал мой осел! Или украли его темной ночью! Горе какое! Как быть мне, не знаю.
И воины, с участием к беде, головой покачали и даже поахали. А сами взглянули на костер: все ли цело? Но, не заметив никакой перемены, успокоились. Хотелось им спать: в голове-то шумело.
Священник Φронтон, оставив вино в шалаше, пошел сам искать пропавшего осла. Назад он уже не возвратился в шалаш. Он спешно ушел восвояси.
Осел же под охраной Ангела Божия, пришел на то место, где когда-то святой Φеодот обедал с Φронтоном и хвалил красоту луговины лесной, говорил, что удобно тут покоиться святым мощам, и велел Φронтону построить здесь храм и ждать туда скоро мощей мученических. На этом-то самом месте и остался осел с телом святого Φеодота замученного, до тех пор, пока не пришел и хозяин его. Созвавши братий, Φронтон похоронил тело мученика и со временем устроил здесь храм в честь священномученика Φеодота Анкирского и во славу Господа Иисуса Христа.
Глава XVI. К читателям
О том, что написано в повести этой о святом Φеодоте, Анкирском гостиннике, а также и о семи девах-мученицах, рассказ нам оставил некто Hил, христианин, знавший лично Φеодота Анкирского и свою любовь и почитание к его святой памяти пожелавший передать и потомству. О том же, что Φеодот был епископ Галатийской Анкиры, упомянуто в Минеях церковных и в святцах[73]. Окинем теперь быстрым взглядом эту христианскую жизнь. Рос святой Φеодот сиротой у тетки, монахини праведной, в христианском ученье святом. Весь ум и способности, и труды, и заботы, и материальные средства свои он отдавал, по завету Христову, на служение братьям. Он заботился о пропитании братий голодных, но питая их тело, главную заботу имел о душах их. Учил их епископ истинной вере; Святыми Тайнами в церкви питал их; научал добродетельной жизни; утешал скорбящих, утверждал робеющих; молился об усопших, воздавал честь замученным за Христа; сам своими руками их погребал смиренно, с любовью, с молитвой. И все это делал епископ самоотверженно, себя не жалея даже до смерти!
Какая же крепкая вера в Христа! Какая твердая уверенность в истине!
Видя, что для отыскания его язычники мучат схваченных братий, он тотчас же сам отдается на муку.
Его прощальная молитва о братьях:
«Прими, Господь, кровь мою, как жертву любви, Тебе приносимую за всех моих братий. Облегчи их страдания, утиши эту бурю гонений, чтобы верующие в Тебя жили в покое и мире!..»
И другая его, уже предсмертная молитва: «…Да кончится на мне гонение на Церковь. Я буду на небе молиться за вас!»
Что это, как не молитвы истинного пастыря доброго, жизнь свою за овец полагающего!
Что это, как не самоотверженная любовь по завету
Христа, сказавшего ученикам Своим: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих!»
А святые семь мучениц?!
Домашнее тихое воспитание в христианской чистоте мысли и сердца, в чистоте души и тела; невидная миру трудовая подвижническая жизнь; скромность девическая, отвращение от всего дурного, порочного; твердость в убеждениях, постоянство в молитве, терпение в страданиях, стойкость в решении умереть за Христа!
И это спокойствие до смерти мучительной!
Вся жизнь их есть вера в иную, нездешнюю жизнь: жизнь там, в Небесах, у страдавшего некогда и по смерти воскресшего в славе Христа. Все их труды, все страдания и подвиги, все это дела их любви к Нему, Непорочному, ими любимому их Жениху!
А любовь христиан не только к живым, а и к мертвым их братьям, с которой они их тела бездыханные, изъязвленные, покрытые кровью, за Христа пролиту́ю, целовали, обливали слезами, рискуя собой; из огня, из воды доставали с усердием и погребали у храмов святых! Ведь это есть вера! Несомненная вера, что живы страдальцы, что они у Христа, сказавшего некогда: «Где Я буду, тут будет и слуга Мой». Он Сам, страдавший на Кресте, Сам, мертвым бывший, Сам воскресший и всех страдальцев жизни сей, умерших с верой в Него, Христа, и в жизнь иную, которую Он даст, Он воскресит их!
Поэтому:
Что все страдания земные? Несправедливости людские? Врагов неправедная злоба
И беззаконный суд судей?
Что смерть в безвестности и мраке?
Все это лишь ничто в сравненье с той наградой, Какую даст Xристос за нашу веру и любовь!
Да! С верой в бессмертную жизнь там, на небе, у Бога во веки веков, с верой в Воскресение Христа, Свою жизнь за грешных людей положившего в страданиях крестных, — только с этой верой твердо можно здесь, на земле, верить в истину, в силу добра, в победу над ложью и злом; можно братий любить, презирая страдания свои и всякие беды, и самую смерть; и любить, и страдать, как страдали святые анкирцы.
Помолись же за нас, о, святой Φеодот, архипастырь Анкиры! И вы помолитесь, святые анкирянки-девы, чтобы и теперь христиане хранили больше всяких сокровищ веру в Воскресшего, веру в Жизнь Вечную, имели бы любовь меж собой и уповали бы: «Жив на Небе воскресший Xристос! Он — наша жизнь и наш путь к Вечной Жизни, к блаженству! Аминь!»
Юлий Л.
Журнал «Отдых христианина», №5-6, 1909 г.
И.И. Гребенщиков. Весна идет
«Вот зима уже прошла; дождь миновал, перестал».
«Цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей» (Песн.2:11-12).
«Новая жизнь! Воскресение из мертвых! Экая славная минута!» Ф. М. Достоевский.
I
Ух! Какая суровая, снежная, вьюжная зима! Куда ни кинешь глазом, всюду высокие сугробы, которые день ото дня растут, наметаемые тоскливо и пронзительно воющими буранами. В глубокой ложбине, между больших гор, с одной стороны, и холмов, с другой, тянется в необозримую даль какая-то узкая и длинная равнина. Поперек ее, наискось от города, лежащего на горе, и к селению, расположенному среди холмов на другой стороне, тянется ряд обсыпанных снегом зеленых елочек. По краям равнины там и сям зияют и чернеют четырехугольные ямы, около которых нет-нет да и закопошатся люди с какими-то сетями. Но редко даже и люди-то появляются… Шутка ли, такой мороз; вон сколько валяется мертвых галок и ворон. Сеть замерзнет, пока ее вытащишь! Ах, вот что: это, стало быть, река! Кто бы узнал в этой обледенелой, засыпанной снегом, утонувшей в лощине узкой и длинной дороге мощную красавицу-реку, весело и гордо мчавшую по своим быстрым, говорливым волнам ряд пестреющих флагами и звенящих песнями судов, которые она, как в зеркале, отражала в быстрой волне своей, куда гляделись и белая сельская церковь, и красивые дачные постройки, и бедные избы мужиков, и звенящие косами темные луга, и, оглушенные звонкими соловьиными песнями, темные и задумчивые вековые леса!
Грустно смотреть на скованную тяжелым сном быструю реку — красоту и жизнь всей окружающей местности — в то время, когда над нею висит серое, унылое, беспросветное небо; бежит, завывая в лощине, холодный ветер, бедные елки словно зябнут и стараются закутаться белым пушистым снегом, который перед собою с какою-то словно насмешливою упорностью гонит сердитый ветер, как-то злорадно хохочущий вдали; грустно, робко и тоскливо качают они своими зелеными вершинами, словно укоряя, будто жалуясь.
Не веселее глядеть на мертвую реку и тогда, когда на холодном, ясном, спокойном небе блестит яркое солнце, словно тоже какое-то холодное, равнодушное, безучастное. Снег слепит глаза своею белизною; иней на елках блестит и переливается в капризной игре, как дорогие камни. Но еще упорнее, еще неотвязчивее, еще томительнее давит мысль о том, что здесь царство смерти, а самая надежда на расцвет новой жизни, на свет и тепло представляется заманчивой, неосуществимой, больной грезой, и рассказы о красавице реке, ласкающей весне и знойном лете, шелесте трав, благоухании цветов и соловьиных песнях кажутся детскою сказкою, рассказанной на сон благодушной ворчуньей-баловницей няней!
* * *
Hе только в Иерихоне и на далекое пространство вокруг него, но и в самом Иерусалиме, пожалуй, не найдется человека, который не знал бы «начальника мытарей»[74] Закхея!
Знают его и отцы семейств, как самого грозного, неумолимого и безжалостного кредитора; ни лестью, ни хитростью, ни мольбами не отвернешься от его высказываемых ледяным тоном и каким-то скрипучим голосом требований. Да и не только он один таков; не уступают ему в этом и находящиеся у него в зависимости остальные мытари. Уж на что добрый, жалостливый и отзывчивый человек был, например, назаретский мытарь Матфей[75], а и он не мог делать каких-либо льгот и послаблений при взыскании недоимок.
«Знаете нашего Закхея, — говорил он, как-то стыдливо опуская свои умные, честные глаза, своим задушевным голосом. — Что я могу сделать?»
И тот, которому он говорил, уже ничего не возражал.
«Еще бы не знать, что за человек этот Закхей. Да полно, уж человек ли он?» И бедняк только грустно покачивал головою, словно сожалея, что такой милый и душевный человек, как Матфей, занимается делом, позорным в глазах всякого истово богобоязненного иудея! Знают Закхея и матери семейств как виновника дурного расположения духа — если не полного отчаяния — их мужей; как причину исчезновения: одни — драгоценных подвесок, серег и браслетов, другие — необходимых предметов самой незатейливой домашней рухляди; как виновника бедности, истомленности и худосочия их детишек, тщетно пытающихся высосать побольше молока из засохшей от лишений, работ и горя материнской груди!
Да и детишки чуть ли не в пеленках знают уже старшину мытарей. Еще бы, когда его именем утишают их крики и капризы: «Вот отдам тебя Закхею!». И пугливо затихает маленький шалун. «Закхей, Закхей, возьми-ка ее!» — и крошка-капризница скорее возвращает надутые, было, губки в первоначальное естественное положение и старается поскорее сморгнуть с век набежавшую, было, крупную слезинку детской досадливой обиды.
Да, все, все решительно знают, что за человек такой
— старый Закхей! И не мудрено, что стоит показаться на улице его маленькой, высохшей, но вертлявой и ловкой, богато одетой фигурке, как мужское население с подобострастием, с низкими поклонами и с лестью спешит ему навстречу, осведомляется о его здоровье, желает ему всего лучшего. Но не обращает ни малейшего внимания Закхей ни на униженные поклоны, ни на заискивающие речи. О, он прекрасно знает настоящую их цену!
Быстрым, почти юношеским шагом идет он по улице, обыкновенно в сопровождении которого-нибудь из младших мытарей, своих подручных или даже двоих-троих римских воинов. Кутаясь в свой дорогой пурпурный плащ, он зорко и пытливо, не то, как рысь, не то, как коршун, выглядывает по сторонам, не видать ли где недоимщика, неисправного плательщика, отданных ему на откуп налогов. Горе такому! Напрасно бедняк старается поскорее спрятаться в свою убогую хижину. Эта попытка его — при зоркости Закхея — просто детски наивна, смешна и нелепа: она напоминает старания страуса спрятаться от охотника, засунув голову под собственное крыло. Посох неумолимого мытаря уже стучит в стену его убогого домика — выходи, мол! Делать нечего — надо являться перед грозные, сердитые взоры сборщика податей. Упорство ни к чему иному не приведет, как только к появлению римских солдат. А это, пожалуй, еще «получше» Закхея будет: этот хоть, как-никак, все же единоплеменник, отпрыск Израиля, хоть вредный и дурной; а те язычники — хуже самарян: на них благочестивому иудею и смотреть-то зазорно, а не то, что вступать с ними в какие-либо сношения.
Иначе смотрят на Закхея обездоленные матери семейств, на которых обиженные мужья вымещают, как водится, свой бессильный гнев и гнетущие скорбь и злобу. Им нечего бояться! Делая угрожающие жесты рукою, не занятою сидящим у иссохшей груди ребенком, они громко, со слезами какой-то рабской злобы и бесконечного отчаяния, призывают весь гнев Божий, все кары неба на голову злодея Закхея. Суровым, почти пророческим пафосом дышат их гневные речи, зовущие проклятия неба на потомство Закхея до седьмого колена!
Иначе относится к Закхею шумливая, крикливая, резвая, подросшая уже детвора. Появление этой маленькой, сухой, быстро идущей, словно катящейся, фигурки веселит ее. Звонкий детский смех так и прокатывается из одного конца улицы до другого, когда вслед за важным начальником мытарей начнет выступать какой-нибудь карапуз, придав своей шаловливой рожице комично-величавое выражение, или когда какой-нибудь черномазый голыш высунет ему перед самым носом язык и тут же словно сквозь землю провалится. И отцы, и матери видят это, порою, но делают вид, что не замечают: хоть этим, да отомстить проклятому ненавистному пауку! Правда, он от этого становится еще злее, еще беспощаднее к родителям резвого шалуна. Но не все ли равно? Разве он менее требователен и более снисходителен к тем, чьи дети не дразнят и не обижают его, или к тем, у кого вовсе нет детей? Ничуть! Значит, все равно…
Большому оскорбление этого важного римского откупщика даром с рук не сойдет, а с маленького что возьмешь? Иной раз старшие нарочно подучат детвору, вложат в невинные и наивные уста ребятишек злое, уничтожающее слово по адресу бессердечного мытаря и злорадно, тишком, усмехаются, видя, как «старую гиену» коробит это звучащее, как бьющий хлыст, оскорбительное, язвительное и ругательное слово! Пусть хоть этим помучается и потерзается ненасытный коршун Закхей!
Было время, когда Закхей был другим человеком. Только давно это было, едва ли кто помнит, да и он сам, конечно, забыл!
Была у него и жена, и трое детей: две красавицы — в жену — дочери, и сын, такой же тщедушный и маленький, как и он сам, но еще более милый и дорогой родительскому сердцу, чем возбуждавшие всеобщее восхищение черноокие Рахиль и Есфирь. Злая, страшная, непонятная смерть, валом ва́лящая народ, в один день унесла обеих красавиц.
Вся любовь, вся гордость, вся надежда сосредоточились на сыне. Но маленький и тщедушный, в отца, Вениамин не отличался его железным здоровьем и выносливостью: выкупавшись в знойный день в холодных водах Иордана, юноша получил жесточайшую, изнурительную, смертельную в восточном климате лихорадку и скоро последовал за своими сестрами. Вслед за детьми, изнуренная тоскою и горем и измученная дурным обращением мужа, ставшего со дня смерти своего любимца нестерпимо сварливым, резким и раздражительным, ушла «в путь всея земли» и бедная жена Закхея…
Одиноким остался несчастный старик. Думать о новой семье было уже поздно. Ожесточило, окаменело и затвердело гордое, непокладистое сердце его. Умерло бы в нем совсем сердце, если бы не шевелилась, не дышала, не горела там единственная, ужасная и всесильная страсть, давшая цель и значение всей последующей, ни для кого, в сущности, не нужной жизни и пылкой кипучей деятельности старого мытаря. Эта страсть — нажива, богатство… Золото, золото, золото без конца.
Уже и смолоду было в нем это стремление к наживе. Появилась семья, а с нею желание обеспечить любимых, близких и дорогих людей. Склонность, почти природная, усилилась, хотя и умерялась интересами родного очага, любовью к семье. Теперь же ей не осталось соперницы, и сам Закхей превратился в какой-то ходячий мешок, гибельный для иных, благодетельный наружно (впрочем, для других), но для всех одинаково сухой, холодный и равнодушный.
Hе довольствуясь тем, что забрал в свои цепкие руки всю округу, так что все остальные мытари были, в сущности, его приказчиками и доверенными, Закхей занялся и ростовщичеством. Так как это ремесло, если только его можно назвать этим почетным, как наименование честного и полезного труда, названием, было категорически запрещено в законе Моисеевом и в глазах каждого иудея являлось до омерзительности гнусным, то Закхей, истинный все же законник, если и проделывал хитрые залоговые и кредитные операции между своими соплеменниками, то не иначе, как «под сурдинкою», под хитрой и искусной маскировкой. Да, в сущности, и не надо было бы этого делать совсем, если бы не развившаяся до болезненности жадность не заставляла!
Среди богатой римской молодежи, преимущественно военной, полной жажды жить как можно веселее и роскошнее, с нетерпением дожидающейся смерти родных, которая, как назло, медлила предоставить в их (более умное и полезное, как они твердо были уверены) распоряжение залежавшиеся богатства, у Закхея был вечный посев и такая же беспрестанная жатва.
Операции в кругу этой «золотой» и «позолоченной» молодежи еще более развращали и огрубляли уже и без того цинично ко всему относившееся и окаменевшее сердце старого мытаря. Да и не одной этой молодежи нужен был ростовщик, у которого всегда водились деньги. Нужен он был и властной знати. Надо купить какое-нибудь неслыханной цены ожерелье, пустить пыль в глаза обедом, которому мог бы позавидовать сам Лукулл[76]; проехать в праздник на золотой колеснице, убранной цветами; отбить из-под носа у другого красавицу-невольницу; лихо проскакать на горячем, как огонь, вороном арабском коне, — иди к старому скряге Закхею!
И таких клиентов ростовщик принимал не менее охотно, чем молодежь. Ибо, если молодежь эта, распаленная жаждою наслаждений и надеждою на близкое наследство, давала безумные долговые обязательства и несла в заклад драгоценности за седьмую часть их стоимости, в смутном и по большей части напрасном расчете на их выкуп, то римские сановники, входя в долговые обязательства с Закхеем, невольно становились от него в зависимое положение и как бы уступали ему значительную часть своей, граничащей с деспотизмом, власти.
Таким образом, обе страсти, столь свойственные старости (корыстолюбие и властолюбие), особенно царившие в закосневшем сердце Закхея, получали полное удовлетворение. Но не счастьем это удовлетворение населяло его душу, а каким-то торжествующим злорадством.
— Победители вселенной! Завоеватели мира! Угнетатели народа, Богом избранного! — иногда глухо шептали его сухие, тонкие губы, по которым пробегала и змеилась полная яду улыбка. — Для чего все ваши победы, завоевания, угнетения, если вы побеждены, завоеваны и угнетены моим золотом! Для него, золота (значит, для меня), все ваши победы и завоевания! Я ваш настоящий победитель и властелин, а не вы — мои, как вы надменно и глупо думаете…
И чем злее, завистливее и презрительнее были взоры, бросаемые на него с притворно ласковых и доброжелательных лиц, чем нервнее и мучительнее передергивались гордые губы, на которые рвалось слово, полное желчи, гнева и оскорбления, но которые должны были произносить льстивые или даже — о, позор! — умоляющие слова, тем больше наполняло душу Закхея сознание какой-то давно задуманной, но лишь теперь осуществившейся мести. А то презрительное к людям отношение, несправедливость которого смутно чувствовалась, казалось, получало полное оправдание!
Дом у Закхея был, конечно, «полная чаша». Чего-чего там только не было: и великолепные ковры, и дорогие сосуды, и изделия из слоновой кости, и чаши из хрусталя, ценившиеся тогда не только на вес золота, но и дороже его. Все то, впрочем, стояло без всякого употребления и давно было покрыто пылью, а дорогие ковры и ткани съедены были бы молью, если бы над чистотой и охраной этих вещей не трудилась, не покладаючи рук и не открывая глаз, старческая чета, муж и жена — Аггей и Анна, дальние родственники Закхея по жене.
Старый мытарь, как ему иногда казалось и как он говорил всем, и особенно тем, кто решался попрекнуть его за жестокость и не сострадательность, «приютил» бедную чету. На самом же деле трудно было найти более верных слуг, как эти безмездные «тунеядцы»: так в глаза и за глаза честил их строгий хозяин-родственник. Простые и наивные старички искренне, от всей глубины души считали Закхея своим благодетелем и из кожи лезли, храня и отстаивая его добро, хотя порой и не по душе их, кроткой и отзывчивой, были им бесчеловечные и жестокие его поступки.
Жилось им, положим, очень несладко. Hе говоря уже про постоянные попреки в дармоедстве, брань, толчки, даже, наконец, побои. Более или менее сытный кусок доставался им лишь тогда, когда хозяин их, любивший все делать для виду (для чего, при всей его скаредности, носил дорогую одежду), задавал римской и еврейской знати роскошный обед. Но в присутствии этих людей Закхей стыдился своей убогой родни, игравшей роль рабов, и сытный обильный кусок не был ей не только сладок, но и чуть в горло шел! В остальное же время Закхей от жадности и сам порою недоедал и всегда зорко смотрел, чтобы «тунеядцы» его не объели! В безупречной честности их и в рабской или, вернее сказать, собачьей преданности их он был вполне уверен, почему и считал забитую им чету, в глубине души, или глупцами от рождения, или выжившими из ума от старости…
II
Теплом вдруг повеяло, стало и светлее. Солнце подольше стало оставаться на подернутом легкою синевою небе, словно внимательно и вдумчиво присматриваться начало к тому, что под ним делается. Снег как-то осел, сделался таким тусклым, серым; на него набежала ломкая и резкая, как стекло, корка. Потемнела, словно загрустила, дорога, перебегавшая реку. Окаймлявшие края ее елочки также поникли, иглы их пожелтели, выпрямились и начали осыпаться. Края прорубей стали оттаивать, и они из четырехугольных стали превращаться в овальные.
Послышались средь мертвой равнины и звуки. На солнышке, с каждым днем все чаще и чаще появлявшемся на небосклоне и делавшем свою в одно и то же время созидательную и разрушительную работу, зачирикали и запрыгали задорные крикливые воробьи; по почерневшим тропинкам начали бродить, хитро склонив голову, важные и глупые галки. Около прорубей больше и чаще шевелились люди; голоса их были слышнее, громче и, вместе с тем, будто бы довольнее и приветливее. Появилась резвая, веселая, неугомонная толпа детворы с санками, коньками, ледянками, и по целым часам над спящею еще в оковах зимнего сна рекою висел в воздухе беззаботный детский гомон, шум и смех, и стеной стоял шаловливый и задорный их крик.
* * *
В один из первых ярких весенних дней, около полудня, Закхей вышел из Иерихона и направился к расположенному недалеко, среди темных, густо разросшихся сикомор[77], селению.
Было уже очень тепло, но казалось, что старому мытарю зябнется: так нервно кутался он в свой дорогой красный плащ, поводя и пожимая, словно от холода, своими узкими и сутулыми плечами. Длинный посох его из дорогого дерева глухо и резко черкал по придорожным каменьям, пугая резвых ящериц, выбежавших, было, на солнце погреться и оживиться после невыносимо долго тянувшейся для них зимы. От удара посоха старика о камни они живо ускользали под камни, сверкая своею блестящей чешуей. С криком шарахались вверх от резкого стука посоха и придорожные птицы; только полет их был не так быстр и словно шаловлив, как бег резвушек ящериц, а какой-то серьезный, будто деловой… Ну, точь-в-точь должники страшного Закхея и их детишки: первые при его появлении старались скрыться от его глаз, но (не бегать же им было бы!) ускоряли только шаги, стараясь не потерять своей серьезности и деловитости; вторые, прыгая и скача, заливаясь звонким смехом и, строя гримасы, рассыпались, как горох, вытряхнутый из мешка, в разные стороны при первом покушении Закхея привести в действие свой грозный и тяжелый посох.
Кругом цвела, пела, дышала жгучая южная весна. Оживала даже и окружавшая Иерихон суровая, скудная, по сравнению с остальной Иудейской землей, природа. Но что до всего этого было старому мытарю! Разве звонкий, резкий, немолчный крик цикад приятнее звучит для уха, нежели мешок полновесной золотой монеты с изображением сурового и задумчивого лица Кесаря. Разве блеск спинок юрких ящериц может сравниться с сиянием алмазов, топазов, яхонтов? Неужели тихое, мелодичное журчание пробивающегося сквозь придорожные камни ручейка может заменить так ласкающий слух шелест дорогих шелковых аравийских и персидских тканей? Все это пустяки и вздор, не заслуживающие внимания серьезного мало-мальски человека!
И он шел, стуча по каменной дороге тяжелыми сандалиями, привязанными дорогими ремнями, и черкая[78] по камням посохом, и злобно ворчал на себя. Его разозлили при выходе из Иерихона полуголые черномазые мальчишки, и теперь он завидовал только одному, что он не пророк Елисей и проклятия его не настолько действительны, чтобы появились внезапно медведицы и растерзали озорников-оскорбителей, как это было с негодниками, обидевшими своими насмешками великого пророка[79].
— Закхей! Закхей! — громким криком прервал кто-то его злобные размышления.
Голос был такой призывный, словно ласковый, даже, пожалуй, нежный, так что Закхей даже изумился, кто это его так мог звать.
Приложив руку к глазам, он посмотрел в сторону от дороги, откуда слышался зовущий голос, и увидел высокую человеческую фигуру, которая, заметив, что старик смотрит на нее, начала делать призывные жесты обеими руками.
Под гревшим с синего неба солнцем даль сверкала и сияла так, что глазам было больно, и Закхей опять не мог рассмотреть зовущего.
«Ну его! — подумал он, — что ему надо? Уж не сумасшедший ли какой, или, Боже сохрани, не прокаженный ли?
И Закхей быстрее зашагал, было, далее.
— Закхей, Закхей! — послышался опять голос. Мытарь остановился: ему показалось в голосе кричавшего что-то знакомое.
«Кто бы это такой? — подумал он. — Экий, однако, глазастый: за какое расстояние увидел. А вот я, хоть убей, не вижу его лица!
— Закхей, да ведь это я, Матфей! — крикнула фигура. — Иди сюда!
— Ах, это Матфей! — встрепенулся Закхей и быстро направился в сторону к двум-трем черневшимся хижинкам, около которых стоял человек, звавший его.
«Матфей, бывший мытарь, помощник мой. Славный, славный человек. Честен, правда, был до глупости! Ну, да мне это и на руку было… И все бросил… Привязался к этому новому Пророку и бродит за Ним. А какая дорога-то перед ним к богатству и почестям открывалась! Ведь уже не молоденький, кажется».
Такие мысли пробегали в голове Закхея, когда он подходил к бывшему своему подручному.
«Но почему же он сам не идет ко мне?» — мелькнуло в голове старика, вечно подозревавшего всех людей в коварстве и злых умыслах.
— Иди сам сюда! — крикнул он, опять приостанавливаясь.
— Hе могу! — крикнул Матфей.
«Почему?» — хотел было спросить Закхей: подозрительность его еще не улеглась.
— Да иди же, иди! Что ты словно боишься чего-то? — повторил бывший мытарь.
«Уж не намек ли?» — подумал он в то же время. Дело в том, что, когда Матфей, будучи призван Христом, принес Закхею все бывшие у него на отчете деньги, то решительно отказался взять ту прибыль, которая причиталась на его долю. Когда же Закхей, который, нужно отдать в этом справедливость, всегда старался хорошо и добросовестно вознаграждать труд своих подчиненных, в надежде, конечно, на большее рвение их в будущем, стал настаивать на получении Матфеем следуемого ему вознаграждения, то чудак велел отдать его на храм или же раздать беднякам. Ни того, ни другого Закхей не исполнил. Не то, что он хотел утаить эти деньги — вором Закхей никогда не был, — но отдать их «тунеядцам», какими он считал всех бедняков, он находил глупостью. Хотел внести их в Корвану[80], да и тут жадность взяла свое: подвернулся выгодный заемщик, и напало раздумье на Закхея, не лучше ли отдать эти деньги в рост, все-таки храму больше достанется. Он так и сделал. Но заемщик оказался неаккуратным, даже проценты не всегда платил, хотя, конечно, долг за ним не пропадет! Hе таковский человек был Закхей, чтобы у него за кем-то пропали денежки! Но все же ему было неловко перед Матфеем; правда, чудак он, добряк, да вдруг спросит. Поди, вывертывайся, лги, красней! Нехорошо…
— Чего же ты, в самом деле, словно прирос к земле и подойти не хочешь, — заворчал Закхей, по обыкновению, не доходя шагов десяти до Матфея.
— Да у меня тут больной!
— Боль-но-о-й? — протянул старый мытарь и отступил шаг назад.
— Да не бойся! У него горячка, бредит, — поминутно просит пить. Вот я и боюсь далеко отойти… Хотя, впрочем, немного успокоился. Вот я и вышел подышать свежим воздухом!
Говоривший был коренастый, скорее, высокого, чем среднего роста, пожилой уже мужчина, с большим умным лбом, казавшимся еще больше от широкой лысины; короткими темно-русыми вьющимися волосами и небольшой, но окладистой и густой темно-русой бородой; серые глаза его дышали умом, кротостью и приветливостью.
— Кто же этот больной, родственник твой, что ли?
— Нет!
— Так кто же?
— Да я и сам не знаю — кто!
— Как это… и сам не знаешь? — удивился Закхей. Действительно, этот добряк и чудак, должно быть,
совсем рехнулся!
— Самарянин какой-то! — с конфузливой, словно извиняющейся улыбкой отвечал Матфей.
— Самар…
Но у Закхея и язык не повиновался, чтобы выговорить это ненавистное всякому правоверному иудею слово. Он словно окаменел от изумления и едва нашел в себе силы отступить пять-шесть шагов от Матфея, к которому подошел, было, совсем близко. Чуть не осквернился, было, об этого нечестивца, так дерзко, нахально и кощунственно ругающегося над святым Заветом отцов и прадедов!
— Ты ли это, Матфей? — наконец, обрел он в себе дар слова. — Ты, такой знаток Писания, законов и пророков… И ты…
— Подожди, — прервал Матфей, — кажется, мой больной очнулся!
И с этими словами он быстро исчез, согнувшись чуть не вдвое в низкой двери бедной хижины.
«Бежать, бежать! Подальше бежать от этого проклятого, оскверненного человека. С ним и сам погибнешь! Вот до чего доводит учение этого Галилейского выходца», — было первой мыслью Закхея, по уходе бывшего, на поле корысти и наживы, его соратника.
Но усталость, волнение и все усиливающийся зной сделали свое дело. Закхей невольно присел на заросший
мхом камень, лежащий шагах в семи от домика, где был больной. «Но уж зато задам же я ему нагоняй. Такой ученый, умный человек, знающий Писание не хуже Анны и Каиафы, — а уж эти ли не доки в Законе Божием! — и вдруг слушает бредни какого-то Сына назаретского плотника!» — утешил себя старик в невольной своей слабости и податливости телесным немощам…
— Так это тебя твой Галилеянин учит ниспровергать закон и пророков?! — загремел старый мытарь, когда Матфей снова появился на пороге.
Он гневно стукнул посохом о камень, старческая голова его как-то точно заходила из стороны в сторону; редкая бородка затряслась. В загоревшихся, как уголь, глазках старика под суровыми, словно ощетинившимися бровями, вспыхнул огонь неукротимой злобы фанатичной ненависти.
— Это Он разоряет закон Божий? — прохрипел он в заключение сдавленным голосом.
Вдруг Матфей, глядевший на своего бывшего начальника с видом какого-то кроткого сожаления, повернулся и исчез опять в хижине.
— Да будет проклята до седьмого колена эта самарянская собака! — невольно вскрикнул старик. — Мало того, что ревностный и честный иудей оскверняется соприкосновением с ней, а из-за этого пса он отвращает слух свой от мудрого старческого наставительного слова. Старый ревнитель Закона просто в бешенство готов был впасть. Но в это время вышел Матфей с каким-то свитком в руках.
— Слушай, Закхей! — сказал он, развертывая свиток, и в голосе его было столько торжественной и в то же время спокойной и неодолимой власти, что Закхей как-то невольно и неожиданно для самого себя повиновался; напряг свой слух и впился глазами в лицо стоявшего около него Матфея, даже отодвинуться подальше от него позабыл.
— «Не думайте, — читал бывший мытарь, — что Я пришел разорить Закон и пророков; не разорить Я пришел, но исполнить!»
— Что-о-о? — не поверил своим ушам Закхей и даже невольно привскочил на камне.
До того прочитанные слова отвечали на негодующий его вопрос!
— Чьи это слова? — повторил Закхей. — Кто это говорит?
— Это Его слова, — отвечал Матфей. — Это Он говорит!
— Ну, а насчет самарянина? — не зная, что сказать,
проговорил Закхей. — Что он говорит насчет самарянина? — повторил он.
— Этого я не записал…
— Как? Ты записываешь учение и дела Этого Галилеянина?!
— Да, запи…
— Матфей, ты ли это? Ты, который ранее, кроме слов пророков и учителей наших, ничего не писал?!
— Да, не писал… Но теперь записываю Его слова и дела, ибо Этот больше пророков!
Закхей хотел разразиться неслыханным проклятием, но Матфей, свернув пергамент и, сев недалеко от него прямо на землю, так просто и задушевно спросил его:
«Хочешь я расскажу тебе про другого самарянина, про которого говорил Он?», — что старый мытарь машинально, словно загипнотизированный, молча кивнул головою.
Притча ему понравилась. Как и большинство восточных людей, он очень любил этот род иносказания и мог, не сердясь, под видом притчи выслушать про самого себя самую нелестную правду, проглотить довольно горькое лекарство.
— Ну, и что же? — сказал он, когда Матфей наконец замолчал. — Это и все?
— Все… Сказано: «Иди и ты поступай так же!»[81] Закхей саркастически, не без натяжки, впрочем, и
не без притворства рассмеялся.
— Так тот законник и сделал? — сквозь смех проговорил он.
— Я не знаю! Но я обязан был поступить так. Слова эти не к одному законнику, конечно, относились, но ко всем, кто эту притчу слушал.
— Сомневаюсь… — недоверчиво протянул Закхей.
— Напрасно! Надо увидеть Его, слышать Его голос, внять Его призыву, и тотчас же пойдешь за Ним хоть на смерть, сделаешь все, что велит Он, хоть бы тебе угрожала потеря всего…
— Потеря всего… — уж совсем недоверчиво протянул Закхей.
«Это хорошо, пожалуй, какому-нибудь голышу, а вот такому богачу, как он, еще подумать, да подумать надо, что предпочесть, — смерть или разорение».
Но он не высказал этой мысли вслух.
Как ни странно, восторженное благоговение Матфея заразило и старого мытаря и в душе его, вместо презрительной ненависти и глухой злобы к новоявленному Учителю, зародились и начали расти невольное внимание и безотчетное сочувствие.
А Матфей встал опять, развернул пергамент и, сделав Закхею прежний властный жест, приглашавший его к усиленной внимательности и слуху, начал читать, с вдохновенным, торжественным, точно пророческим, голосом:
— «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфей, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним»[82]
«Неужели в голосе, в призыве этого нового Пророка (Закхей впервые, мысленно, впрочем, назвал так Иисуса Христа), столько непреоборимой силы, столько непобедимой власти! — думал старый мытарь. — Ведь не глупый мальчик, не пылкий юноша Матфей, а между тем…»
— «И когда Иисус возлежал в доме, — продолжал точно возглашать первый евангелист, — многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его».
«Мытари и грешники… Грешники и мытари, — словно ровня, точно братья… — тоскливо заныло в сердце старого мытаря. — И это пишет правдивый, честный и задушевный Матфей, сам бывший мытарь?!»
— «Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
Закхей превратился в олицетворенное внимание…
— «Иисус же, услышав это, сказал им: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите научитесь, что значит: «милости хочу, а не жертвы»[83]?»
«Значит, правду сказал Матфей, что Он не нарушает закон и пророков, если ссылается на слова боговдохновенного Осии!» — мелькнуло в голове старика.
— «Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию»[84].
Чем-то радостным, светлым, теплым так и хлынуло в душу старого мытаря. В омертвевшее сердце влилась струя жизни. Каким-то чудотворным духом пахнуло. Воскресла какая-то смутная, неясная, но твердая, словно упорная, надежда.
Старик сидел, словно окаменевший; чертивший землю посох застыл в его руке; полуоткрытые губы замерли; глаза, в которых заблестело восторженное недоумение, так и приковались к благоговейному, точно строгим сделавшемуся лицу апостола.
Кругом стояла мертвая тишина — птицы не реяли и не кричали; примолкнули насекомые; перестали шуршать по каменьям ящерицы. Раскаленное полуденное небо бездонной голубой чашей опрокинулось над пустыней, где теперь не слышалось ни звука, кроме голоса чтеца. Словно сама неодушевленная природа внимала исходившим из уст евангелиста «глаголам вечной жизни» наравне с человеком, только что бывшим, кажется, бездушнее и глуше серых камней и чахлой, жесткой растительности пустыни.
А Матфей все читал и читал. И о том, почему ученики Христовы теперь не постятся, как «сыны чертога брачного», но придут дни, — и голос чтеца зазвучал тоской и скорбью, — когда отнимется у них Жених, и они будут поститься; и о заплате, приставленной к верхней одежде, и о молодом вине, вливаемом в мехи старые…
Видно было, что давно все эти слова вложены в сердце бывшего мытаря; что наизусть их он знает; что все-таки один вид этих чудных слов Жизни, написанных мертвою тростью на бездушной бумаге вдохновляет и заставляет сильнее биться его пылкое, горячо верующее и любящее сердце…
Так мы по нескольку раз перечитываем письмо далекого, милого, незаменимого друга, хотя каждую строку, каждое слово, букву каждую знаем наизусть, видим с закрытыми глазами!
III
Блеснуло с словно внезапно посиневшего неба яркое мартовское солнышко. Все заблестело, просияло, точно улыбнулось. Снег совсем потемнел. Зачернели и проруби. Воробьи запрыгали, зачирикали и засуетились, как сумасшедшие. По оврагам запели и зажурчали звонкие ручьи. Зеленая верба начала опушаться белыми мягкими «барашками».
Через реку давно уже ездить перестали; только смельчаки переходят ее. Не видно и рыбаков у прорубей, из которых уже выступила вода. Не слыхать и звонкой, шумной детворы на самом льду; если иной шалун и сорванец и отбежит из удальства подальше от берега, то, постучавши сапожками по льду, чтобы перед стоящими на берегу сверстниками похвалиться храбростью, летит во весь опор назад, боясь получить от родителей или старших чувствительное возмездие за свою непрошенную, не по достоинству ценимую отвагу. Только около зазимовавших судов порой появится кучка людей; все они с серьезными лицами о чем-то заботливо рассуждают, то и дело посматривая на реку; речи их тихи и сдержанны: словно они боятся, что река подслушает и расскажет их тайны. А река вся посинела до темноты, местами вздулась…
Вдруг, словно из огромного орудия выстрелили, — с треском лопнул не выдержавший солнечных лучей и напора воды ледяной покров; лопнул, и тут же разорвался на тысячи кусков. И к далекому синему морю побежали быстрые льдины: толкая одна другую, напирая одна на другую, словно обогнать стараясь друг друга. Ни дать, ни взять толпа резвых мальчуганов, бегущих следом за полком солдат, впереди которого гремит оглушающая музыка или заливаются лихие певцы. И здесь, на реке, гул стукающегося и ломающегося льда сливается с победоносным «красным» пасхальным трезвоном и шумным, праздничным гулом веселой народной толпы.
* * *
— Где Он? Где Он? — суетился в толпе народа, теснившегося по главной улице Иерихона, маленький человечек, в котором нетрудно было узнать Закхея. Но все же нельзя было не обратить внимания на происшедшую в старом мытаре значительную перемену.
Еще бы: сколько времени пытался он увидеть назаретского Учителя — и все напрасно: через постоянно теснившуюся около Пророка (Закхей давно уже называл Иисуса Христа этим именем) толпу он не мог протиснуться — не хватало старческих сил; издали нечего было и рассчитывать увидеть Его: не позволял на редкость маленький рост. К Матфею бы обратиться, но он как-то навстречу не попадается, а добраться до него в толпе — то же самое, что подойти и к Христу, за Которым он почти всегда, как и другие Его ученики, идет…
Прибегнуть разве к помощи римских военачальников или к содействию имеющих влияние иудейских властей? Но Закхей в отношении римлян смутно сознавал, что такой прием, как подкрепление римскими солдатами, весьма пригодный в других случаях и даже излюбленный старым мытарем в большинстве его действий по сбору пошлин, здесь невозможен, постыден, неуместен до кощунственности. К иудеям же, власть имущим, приступить с такого рода просьбою казалось прямо невозможным. Очень уж зло посмеялись бы эти сановники над таким странным и, по мнению их, даже нелепым желанием.
— И ты не из Галилеи ли? — самое большое и самое, пожалуй, снисходительное мог бы он услышать от них[85].
И вот он бегал в толпе, точнее сказать, по «опушке» ее. Слабым локтям Закхея не удавалось пробить себе в этой живой, густой, тесно движущейся массе хотя бы небольшую, но достаточную для тщедушного его тельца лазейку.
Толпа, шедшая за Христом, различно относилась к попыткам Закхея. Одни, добивавшиеся сами увидеть величайшего Учителя, только этой работой и были заняты: до других им и дела не было. Другие, даже в ожидании взора Премирной Любви и бесконечного Всепрощения, не покинувшие своей ненависти и вражды, старались нарочно «оттереть» Закхея подальше, чтобы хотя этим «насолить вампиру!». Третьи, наконец, между которыми преобладали солидные фарисеи и богатые саддукеи, ходившие за Христом исключительно с целью «уловить Его в слове», прямо смеялись в лицо Закхею, что, мол, «старикашка-то, должно быть, совсем свихнулся; бросил все дела и, как любопытная женщина, во что бы то ни стало, не щадя старческих боков своих, хочет увидеть Этого Галилеянина: добро бы было, на что глядеть, чем любоваться, а то сын безвестного плотника, да и то из Назарета, откуда уж ничего путного не жди!»[86]
— Слушай, Закхей! — сказал на этот раз один из фарисеев, явно притворно серьезным тоном и придал своей хитрой физиономии какую-то особенную торжественность и важность, даже таинственность. — Я тебе скажу, как Его увидать!
— Как? Как? — торопливо заговорил Закхей почти шепотом; таинственность фарисея невольно заразила его, — и он замер в ожидании ответа.
Желание увидеть Спасителя было в нем настолько велико, что ни иронии в вопросе старого лицемера, ни насмешливого выражения хитро прищуренных его глаз Закхей и не заметил, несмотря на собственную хитрость и пронырливость. Спутники фарисея — тоже лицемеры образцовые — сделали притворно изумленные лица, едва сдерживая смех, так как ожидали от своего сотоварища убийственной, ядовитой насмешки, которая «в лоск положит»[87] сумасбродного старика…
— Видишь, вон там — высокая смоковница?
— Вижу, вижу! Ну?
— Так чего же еще тебе? — саркастически улыбнулся фарисей, поощряемый уже не сдерживаемыми и такими же злыми улыбками своих товарищей, очевидно, понявших уже соль задуманной шутки.
Закхей смутно тоже что-то начал понимать, но все же с некоторым недоумением продолжал глядеть в лицо говорившего.
— Не соображаешь? Не понимаешь? — иронически тянул, между тем, лицемер, наслаждаясь своим торжеством, вызвавшим у его собратьев нескрываемый восторг.
— Да ты влезь на смо… — раздельно, учительным тоном начал, было, неуместный шутник. Но шутка так и остановилась на губах…
Закхей быстро повернулся и бегом направился к видневшейся недалеко от города смоковнице.
Это было уже из рук вон — совсем не до смеху!
Как бы там ни презренна была в глазах ревнителя закона Моисеева профессия Закхея, но, во-первых, он при помощи золота держал до известной, конечно, степени, в руках угнетателей народа Божия (богатым людям не чувствительно, разумеется, было, как эта Закхеева держава отзывалась на бедных их соплеменниках), а во-вторых, ведь это же был преданный Закону, верный и богобоязненный иудей…
«Что же далее-то будет — и подумать страшно», — грустно потупились седые ученые головы, словно стараясь скрыть пылавшую в глазах злобу под строгими нахмуренными бровями. А Закхей, между тем, свернул уже с большой дороги и, запыхавшись от усталости, вызванной непривычкою к бегу, уже шагом направился к смоковнице, стоявшей недалеко от дороги.
«Как же только я влезу?» — тоскливо мелькнуло в его голове, когда он, подойдя поближе к дереву, увидел, что самые низкие ветви все же выше его; если бы даже и руки поднять над головою и подпрыгнуть, так и то не достанешь, пожалуй. Да, притом, чтобы подтянуться на руках, нужна сила, а где она?
Но эта мысль живо выскочила из его головы, когда навстречу ему поднялась сидевшая под деревом, ранее им не замеченная, но хорошо знакомая фигура.
— Матфей! — не веря своим глазам, воскликнул старый мытарь.
Вставший улыбнулся доброю, ясною улыбкою. Да, это был, несомненно, он — Матфей…
— Этот подсадить поможет, — что-то с неотразимою уверенностью будто крикнуло в забившемся вдруг радостью сердце Закхея.
И как древле недостойный Саул неожиданно очутился «во пророцех»[88], так и теперь стало вдруг пророком растаявшее под животворными лучами пришедшего в мир Света совсем было оледеневшее сердце старого скряги и человеконенавистника. Много, много — и не сосчитать — народа вошло в Царство Божие через будущего Благовестителя, шедшего теперь навстречу Закхею.
Действительно, не поспел Закхей, путаясь в словах и сбиваясь, прибегая более к жестам, передать ему своей просьбы, как уже, словно ребенок, очутился на сильных руках апостола. Мгновение — и правая нога его очутилась на плече Матфея, а левая на плече другого, внезапно появившегося, словно из-под земли выросшего, человека. Еще момент, и Закхей, в котором уцелела еще обезьянья почти ловкость юных лет, уже крепко и плотно сидел на толстой и надежной ветви, держась левою рукою за ствол дерева.
— Hе упадешь? — крикнул Матфей. — Удобно? Видно? Закхей уже не отвечал: уж очень рад был. Еще бы!
Все превосходно видно! Медленно движущаяся толпа уже недалеко, а его самого в густой вершине смоковницы никто, конечно, не заметит. И он весь обратился в зрение и какое-то трепетное ожидание… Какой-то шорох позади Закхея только вывел его из созерцательного настроения: это Матфей бросил ему красный его плащ, свалившийся при карабкании на дерево. Закхей глазами лишь повел на этот повисший на ветках кусок дорогой материи, но и руки не протянул к нему, словно вперившись глазами в бывшую уже близко толпу.
— Мы уходим, Закхей! — донесся до него голос Матфея.
— Куда? — встрепенулся тот.
Он знал, конечно, куда, но ему точно невежливым показалось не сказать, хотя что-либо, своему благодетелю: поблагодарить его он как-то не догадался, что, впрочем, часто и со всеми нами бывает, когда нам окажут внезапно такую услугу, на которую мы и не смели, и права не имели надеяться.
Матфей, как и следовало ожидать, махнул рукою по направлению к толпе.
— А это кто с тобою? — спросил Закхей, увидав рядом с ним второго своего благодетеля, — помощника апостола при подсаживании его на дерево.
— А это, помнишь, тот мой больной… Он теперь выздоровел почти, — спохватился Матфей, словно извиняясь за товарища.
«Самар…», — инстинктивно как-то мелькнуло, было, в голове заядлого иудея. Но — о, чудо! — он даже испугался своей мысли и быстрее, чем она успела принять свою обычную и привычную форму, подавил ее и невольно благодарным и соболезнующим взором посмотрел на худого, как щепка, высокого, с черными жесткими волосами и желтовато-бледным, словно измученным лицом, человека, стоявшего с Матфеем.
Самарянин поднял голову кверху и улыбнулся; улыбнулся и Закхей и благодарно кивнул ему головою.
«Удивительный человек этот Матфей, — думал Закхей, глядя вслед удалявшемуся апостолу и его спутнику. — И сам хороший человек, чудный, и того, кто около него побудет, таким же сделает. Ведь вот этот… «самарянин», — хотел было подумать Закхей, но словно не мог, — слабый, не оправившийся от болезни, а тоже подсадил; последние силы напряг, вероятно, бедный!»
«Недаром же он, — точно с завистью подумал опять о Матфее старик-иудей, — принимал Его в своем доме!» (Мк.2:15.) Стал пророком и ум Закхея — ум, уже просветленный немерцающим Светом, ранее скованный заботами о наживе, изворотливости и обманах. Многие, о как многие из учеников святого апостола стали не только лучшими людьми, но солью земли, светом мира. А сколько из них, будучи прежде и сами слабы и немощны, помогли войти в Царствие Божие тому, кто «нудился и употреблял усилие» для его достижения, но без посторонней благодатной помощи сделать этого не мог…[89] Между тем, голова толпы уже поравнялась со смоковницею. Закхею на мгновение словно жутко стало, или же стыдно, неловко: право, при его летах и положении лазить по деревьям, как мальчик!
Но это было именно мгновение…
Он увидел, наконец, Его! И чудное дело! Уж как, кажется, слабы были старческие глаза, но Закхей ясно видел Этого, с каким-то царственно-величавым смирением шедшего среди толпы обыкновенных людей Человека. Мало того, Закхею показалось даже — о, невероятие! — что напряженный взгляд его встретился со взором Божественного Учителя!..
И вдруг… Закхей даже вздрогнул и чуть не свалился с дерева: хорошо, что вовремя ухватился за ствол смоковницы и другою рукою: Учитель, остановясь на дороге против смоковницы, пошел прямо к ней…
Народ, шедший впереди Христа и не ожидавший этого, продолжал свой путь и, таким образом, толпа около Господа немного поредела, так что Закхей уже вполне ясно увидел Его.
И Закхей так и застыл, прижавшись к дереву и стараясь, чтобы его не увидали. Впрочем, пусть смотрят — лишь бы Он не увидел его, Закхея, такого грешника и преступника, да еще осуждавшего и хулившего Его Самого. Неиспытанный ни разу в жизни благоговейный страх кольнул старого мытаря в сердце…
А через доли секунды вернулось к нему, наконец, сознание происходившего перед ним: «Он так любит беседовать с учениками и народом под деревьями: вероятно, сядет здесь: кстати, тут и камень, который только что оставили Матфей и самарянин. Вот, послушаю… Только бы не увидали!»
И Закхей, стараясь не зашуметь ветвями, замер… Вдруг он почувствовал, что Тот его видит!
Какое ощущение в этот миг наполнило душу Закхея, не мог бы рассказать ни он сам, ни кто-либо из смертных: казалось только ему тогда, что, продлись это чувство еще несколько мгновений, и сердце его разорвется. Hе доходя шагов пяти до смоковницы, остановился Божественный Учитель…
Остановилось и сердце у старого мытаря. Но вот оно, будто бы умершее уже совсем, вдруг воскресло, точно вспорхнуло, затрепетало, как никогда: до обострившегося до крайней степени слуха мытаря донесся кроткий, тихий и ласковый, словно предрассветный ветерок, но только полный несказанной, неземной мелодии голос:
— Закхей! Сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме.[90]
Xристос повернулся и пошел прежним путем… Каким образом Закхей не разбился, слезая с дерева,
и как очутился на нем дорогой его плащ, он, конечно, и сам не сказал бы. Правда, смутно чувствовал он, давно
не видавший не только любви или ласки, но и простого сочувствия или сожаления, что его словно сняли чьи-то дружественные руки, и они же с нежностью окутали плащом его хилые плечи. И он теперь бежал к своему дому, видневшемуся по тому направлению, по которому шел и Xристос: окруженный купою[91] пальм, дом Закхея на далекое расстояние бросался в глаза среди пустынного почти пейзажа… Неиспытанная им никогда, нездешняя какая-то радость, невыразимое упоение, восторг, словно неземной, — не только окрыляли его при беге, придавая ему быстроту юноши, но и потом, во все время приема Гостя, сделали его совсем не тем Закхеем, который несколько часов тому назад вышел из дома с сердитым ворчанием на Аггея и Анну.
О, нет! Это не тот, не старый Закхей! Разве из уст старого скряги, бесчеловечного в ненависти к ближнему, немилосердного Закхея можно было бы слышать такую поистине для старшины мытарей «чудовищную» речь: «Господи! Половину имения моего я отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо…[92]?
Стал бы разве прежний Закхей падать в прах пред презираемым им галилеянином — нарушителем закона и пророков, стал бы разве ловить руки поднимавшего его назарянина, как утопающий хватается за руки спасающего его? Были бы разве у старого Закхея такие восторженные, полные веры, надежды и любви глаза, которыми бы он так и приковался к полному бесконечного милосердия и всепрощения Лику Того, Кто поднимал его и говорил:
— Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и «спасти погибшее».
Да мыслимо ли, наконец, чтобы старый Закхей допустил в свой, похожий на дворец дом эту бедную толпу, вторгшуюся, вместе с богатыми и знатными знакомыми Закхея, в пышные его палаты? Можно ли допустить, чтобы ревностный и богатый иудей улыбнулся ласковою, ободряющею улыбкою, робко поместившемуся в конце стола и припавшему иссохшими губами к кубку смешанного с водою вина самарянину, да еще бедному и полубольному?
И обновленный Закхей сидел теперь против Учителя и Господа и земли под собою не слышал от сознания того счастья и радости, что его дом посетил Сам Небесный Гость.
Он взглянул на Матфея. Тот ответил ему сочувственным взглядом. Точь-в-точь это же самое и тому ведь пришлось испытать. И его так же неожиданно позвал Учитель; и он так же беспрекословно и беззаветно пошел; и дом его Он так же удостоил посещением; и трапезу его так же вкушал. Даже и речи фарисеев были те же самые, что они говорили в доме Матфея: и теперь они, не привыкши стесняться где-либо, по своему учительскому авторитету, почти вслух говорили при хозяине, осуждая Христа за то, что Он зашел к человеку, заведомо грешному. Закхею и в голову не приходило спросить, кто их пригласил к столу, и предложить им удалиться, если им здесь не нравится.
Непонятная ему самому сдержанность и терпение овладели этим крутым и своенравным человеком, который прежде никому бы у себя в доме не позволил сказать того, что ему не нравилось. Напротив, на хитрого фарисея, посоветовавшего ему залезть на смоковницу, он смотрел даже с благодарностью: хорошо надоумил! А тот еще более злился и еще более брюзжал, и шипел и против лжепророков, и против выживших из ума стариков, к которым, однако, из лишней, должно быть, скромности, не причислял самого себя…
Но в общем Закхей не обращал должного, как казалось фарисеям, внимания на этих почетных гостей; он весь был погружен в благоговейное созерцание сидевшего перед ним Чудного Гостя! «Все, как у Матфея тогда, — тоскливо пробегало в его мозгу, — только почему же сегодня, у меня, ничего не скажет такого, что тогда у него говорил?!» А Спаситель мира сидел — светлый, ясный, кроткий… Грустью, нездешней грустью — не то по далекому безупречному небу, не то по этой грешной земле — дышали чудные Его очи.
И вдруг Он улыбнулся, заметив восторг одной маленькой девочки, которой Аггей передал взятое им с большого блюда румяное, сочное яблоко.
Xристос повернул к Закхею Свой кроткий, благостный Лик. «Видишь ли, как много можно и ничтожным предметом доставить людям радости, хотя временно усладить их участь, облегчить их горькую долю», — говорил Его взор, говорил безмолвно, без слов. Но Божественный голос как-то сам собою звучал и отдавался в душе Закхея, просветлевшей и возрожденной, сильнее громов небесных. Но тут, словно в награду за такую великую любовь, за столь трепетное благоговение, тихо пронесся кроткий, но во все существо человека проникающий голос Спасителя.
— Некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться…
Закхей весь был благоговейный слух, восторженное внимание… Только раз чуть-чуть отвлекся: это когда увидал, что Анна, раздав все плоды, бывшие на одном из серебряных блюд, протянула и самое блюдо бледной, худой, бедно одетой женщине, которая держала ребенка на руках, тогда как два мальчика робко жались по обеим ее сторонам, цепляясь хилыми ручонками за ее платье… Протянула, да и перепугалась и робко взглянула на Закхея: не слишком ли, мол? Закхей сделал ей троекратный сочувственно-ободряющий кивок.
«Так, так именно, добрая, честная, верная женщина», — говорил этот жест.
У Закхея на сердце что-то словно пело: это отдавалась божественная мелодия: «Хорошо, добрый раб! за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов (Лк.19:17).
IV
Вместо зимней узкой поперечной дороги, темной, изрытой и грязноватой, протянулась под горой другая дорога — широкая, светлая, голубая, как раскинувшееся над нею небо, и протянулась в необозримую в оба конца даль. Тихо, сдержанно, но как-то настойчиво журчат ее светлые, кристальные струи. Плавно качают они на себе бесконечную вереницу всевозможных судов, начиная со щеголя-красавца гигантского парохода и кончая утлой убогой лодочкой, на которой только одному человеку и впору поместиться. Важно, словно грудь вперед, выпятив паруса, медленно, будто нехотя плывут «расшивы»[93] и «беляны»[94]; еще медленнее скользят плоты, прижимаясь, порою, к берегам, чтобы дать дорогу силачу-пароходу, влекущему за собой вереницу барж…
Вся полна звуками ожившей природы «кормилица-река». Высоко в небе пронзительно кричит коршун; ниже щебечут ласточки; тучами выпархивают стрижи из своих устроенных в высоком песчаном берегу гнезд-норок; черкая крылом по самой глади реки, реют белогрудые чайки.
«Все мелкое птаство[95] летает кругом, ликуючи в тысячу глоток[96], а вечером, когда все пернатое царство угомонится, в прибрежных кустах звонко рыдают соловьи (авт.)… Голосам этим вторит иной гул — шум трудовой жизни населяющего берега «кормилицы-реки» люда и орудий тяжелого его труда. Слышится резкая команда судовщиков и плотовщиков. Стонет заунывная песня бурлацкая. Раздирают слух пронзительные пароходные свистки. Визжит ворот, на который наматывают невод; скрипит колесо рычага, подающего груз; глухо охает «баба», которою вбивают сваи. А вечером гремит над берегами звонкая песня хороводная, раскатывается веселый здоровый смех, гудит земля от ухарской, залихватской пляски; слышится треньканье задорной балалайки…
Весеннее чудное утро…
Какие-то особенные, необычные звуки гремят и раскатываются над неподвижной гладью реки, отражающей в своих струях, как в зеркале, какие-то блестящие, чуть-чуть шевелящиеся при нежном дуновении весеннего свежего ветерка знамена. К синему небу бежит струйка дыма, тоже какого-то особенного, не черного, удушливого, что поднимается из пароходных труб, и не серого, клубящегося дыма костров, разложенных бурлаками, а сизого, легкого, как весеннее облачко, и, притом, ароматного.
Вон, кто-то, спустясь к самой реке, зачерпывает ее холодную еще струю каким-то особенным сосудом, вроде широкой чаши. А немного погодя, человек, тоже необычный, с длинными, лежащими по плечам волосами, в белой, сверкающей на солнце одежде, кропит этой водой и празднично разодетую толпу, и светлые знамена, и пристань, и пароход, и лодки, и баржи…
Хор торжественно гремит…
Несколько этих освященных капель снова возвращаются в лоно родимой реки. И они передают ей услышанное ими там, наверху, ласковое, дружеское и теплое пожелание: «С Богом, в счастливый путь!»
И «кормилица-река», мча по своим волнам богатство и благосостояние целого огромного края, несется далеко-далеко к синему, глубокому, таинственному, словно безбрежному морю.
* * *
Та же народная толпа, только несравненно более той, что шла по улицам Иерихона, не движется, а катится живо, быстро, словно весело. Это впечатление веселья придают пальмовые ветви, которые находятся в руках почти у каждого и которыми идущие время от времени машут. Самая дорога сухая, темная, каменистая, повеселела: свежесрезанные пальмовые ветви, которые несут целыми охапками, засыпали ее. Те, у кого нет ветвей, снимают с себя верхнюю одежду, и цветная, иногда богатая, материя покрывает часть дороги, на которую не попало и не достало свежей яркой зелени.
Словно пышное создание природы и искусное изделие человеческих рук в состязание вступили: кто из них лучше, кто счастливее, кто достойнее, наконец, чтобы по нему прошел беленький ослик, на котором сидит Тот, Кого сдержать не могла бы и целая вселенная!
Ослик, покрытый разноцветными материями, никем не понукаемый и не подбодряемый, идет тихими короткими шажками, понурив свою мордочку, с серьезным выражением, словно понимая, Кого он несет. Порой он перебирает ушами и пугливо косится в стороны, когда народный шум, гудящий, как морской прибой в бурную ночь осеннюю, вдруг переходит в какой-то торжествующий гимн, которому, кажется, вторит и вся окружающая природа — и птицы в безоблачном небе, и пестрые цветы в сочной траве, и угрюмые седые скалы по краям дороги. И к самому небу летит и вздымается торжествующее, грохочущее, громоподобное: «Осанна!»
Около Христа теснятся апостолы. И двенадцать первоизбранных, и многие из семидесяти, избранных впоследствии. Большинство из них без плащей, по точному завету своего Учителя — не брать с собой в путь двух одежд — или же по бедности, или, наконец, потому что сняли плащи, чтобы покрыть ослика или же подостлать их по пути Господу. У всех их лица веселы. У иных — прямо, как у детей.
Тайна Царствия Божия еще не вполне ими открыта и им кажется, что вот, наконец, настал воочию тот желанный день, в который прошение молитвы Господней: «Да приидет Царствие Твое!» — окажется излишним… И в умах даже самых осторожных и мало доверчивых из них невольно витала мысль, получившая свое словесное выражение лишь через 57 дней после описываемого события: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилево» (Деян.1:6 — авт.).
Идущий здесь же такой знаток пророков, как Матфей, придает этим их надеждам или, скорее, грезам и мечтам, характер полной уверенности, указывая на слова Захарии: «Ликуй от радости, ∂щерь Сиона, торжествуй, ∂щерь Иерусалима! Cе Царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на молодом осле, сын подъяремной (Захар.9:9 — авт.).
Один Иуда идет, словно нехотя, мрачный, злой, чем-то недовольный; темные тени пробегают по его и без того темному лицу, и оно порою конвульсивно морщится.
Матфей, который кончил уже свои разъяснения пророков и стал, было, расспрашивать своих двоих товарищей, где они взяли ослика и охотно ли отпустил его хозяин, и кто он именно, почувствовал, что кто-то тянет его за рукав. Он оглянулся и только по красному дорогому плащу узнал бывшего своего начальника — до того лицо Закхея было восторженно, вдохновенно! Они пошли вместе, оба радуясь: Матфей — тому, что рядом с учениками Христовыми — будто в среде их — идет один из бывших злейших Его врагов, злейших не силою и местью, но упорным ослеплением, заядлым фанатизмом; а Закхей — тому, что удостоился счастья сопровождать кроткого Царя Сионского при торжественном шествии Его в избранный Самим Богом город. И он восторженно махал пальмовой ветвью и кричал, задыхаясь от обуявшего и переполнившего его почти неземного восторга:
— Осанна Сыну Давидову!
— Осанна, осанна в вышних! Осанна! — гремела народная толпа.
Сзади — как и в Иерихоне — шли фарисеи.
— Видите ли, — корили они друг друга, — что не успеваете ничего? Весь мир идет за Ним[97].
Двое-трое из них, раздраженные придирками своих же товарищей, пробились сквозь толпу и приблизились к Самому Христу. Тогда сперва замолчали ученики, ожидая, какое еще новое словесное зло замышляют против их Учителя эти люди, вечно сгорающие нетерпением делать Ему всевозможные неприятности и уловить Его хотя бы на каком-либо слове. Замолчал несколько и народ, взяв пример с учеников и шедших с ними других людей.
«Учитель, запрети ученикам Своим!» — словно крикнули фарисеи в упор Христу.
— Сказываю вам, — послышался тихий и кроткий Господень голос, — что если они умолкнут, то камни возопиют.
Еще более громовое и торжествующее: «Осанна» покрыло речь Спасителя. Фарисеи отошли сконфуженные, словно испуганные. А «Осанна!» все растет и растет, словно растаптывает и давит мстительную и низкую злобу врагов Христовых.
Но вот и Елеонская гора, откуда открылся чудный вид на царственный город Давидов, раскинувшийся внизу как на ладони…
Ослик вдруг остановился…
Закхей подбежал поближе поглядеть, что такое случилось. Увидев, что ослик остановился как раз на том месте, где ничего не было постлано и где также не было и зелени набросано, Закхей подумал, уж не задержался ли ослик из-за упрямства, так свойственного этому животному, увидев под своими ногами вместо мягких материй и свежей зелени голый и твердый камень; поэтому он сейчас снял с себя дорогой свой плащ и разостлал его по земле. Стали делать то же и другие. Опять посыпались зеленые ветви. Но ослик — ни с места. Толпа тоже остановилась, поволновалась немного и замолкла.
Что же это значит?
Закхей употребил все свои в этот миг выросшие силы и очутился рядом с Христом…
То, что увидел он, заставило болезненно заныть и сжаться его сердце… Да и не одного его!..
Xристос, сидя на ослике, плакал…
— О, если бы ты, — услышал Закхей Его слова, дышавшие невыразимою грустью, несказанною печалью, безмерною жалостью, — хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это скрыто ныне от глаз твоих! Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду. И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего[98].
Сказав это, Xристос ласково тронул ослика за голову, и тот послушно пошел прямо по роскошному плащу Закхея. Плащ подняли, но Закхей махнул только рукой, и дорогой плащ в мгновение ока разорвали на несколько частей, — дорогой для них потому, что по нему проехал Божественный Учитель; для других потому, что они сроду не держали в руках такой роскошной материи. Бывший мытарь как-то тупо даже глядел на это растерзание его верхней одежды; ему безразлично было, из любви ли к Учителю, для сохранения благоговейной памяти о Нем или из зависти, жадности и корысти разорвана дорогая и редкая по ценности ткань. Он только чувствовал всем сердцем своим, что он охотно, без малейшего колебания отдал бы самого себя на растерзание, только бы не видеть этих слез Христовых, не слышать грозного, беспощадного и неумолимого его пророчества.
Матфей долго смотрел на своего потерянного, было, и вновь обретенного друга, стоявшего неподвижно; фигура его в одном белом хитоне напоминала превратившуюся в белый соляной столб жену Лотову.
«Вот и нет дорогого красного плаща», — думал апостол, и в голове его, полной пророческими писаниями и святыми изречениями невольно роились грозные и вместе с тем утешительные слова ветхозаветного пророка: «Перестаньте делать зло; научитесь делать добро; ищите правды… Тогда придите, и… если будут грехи ваши, как багряное, как снег, убелю; если будут красны, как пурпур, как волну, убелю»[99]
Он подошел к Закхею и взял его за руку. Тот очнулся от своего горького и тяжелого раздумья и, как ребенок с нянькой, пошел со своим бывшим помощником, а ныне наставником и руководителем. Скоро они вмешались в толпу — восточную, крикливую, резкую толпу, живущую впечатлениями минуты, с резкими переходами в настроения ее. Это та самая толпа, которая сегодня восклицала: «Осанна», через три дня будет не менее громко, но только злее или, вернее сказать, звероподобнее кричать: «Распни Его!..»
И апостол, и бывший начальник мытарей шли тихо, оба в глубокой задумчивости. Перед умственным взором апостола словно раздернулась завеса будущего, уже приподнятая перед ним словами Спасителя, которые он, по обыкновению, записал, сказанные Им в Галилее перед этим приходом Его в Иерусалим. Значит, вот куда Он идет… и на что… Апостол даже зажмурился от одного воображения того, что предстояло его Учителю.
По лицу Закхея катились слезы, но оно было такое ясное и просветленное, что нельзя было бы сказать, горькие это слезы или отрадные, слезы скорби или радости, отчаяния или надежды, — он и сам этого не знал.
Знал только, что все сердце его полно любовью к тому человечеству, ради спасения которого явился Тот, Кто через несколько дней будет провозглашен торжествующим язычеством как Человек (ср. Ин.19:5 — ред.).
И бывший начальник, ставший теперь учеником, и бывший подчиненный, сделавшийся теперь учителем, по слову Христову о «первых и последних», «младших и старших» — шли вместе, тихо напутствуя Спасителя мира на «вольную страсть» не громовым: «Осанна!», но кротким, как Он Сам, и смиренным, как Он Сам, но таким же полным любви: «Благословен Грядущий во имя Господне!»
Иван Гребенщиков
Ж. «Отдых христианина», № 1-2-3, 1905 г.
Леонид Денисов. Жизнь и страдание святой преподобномученицы Евдокии
(Память 1 марта)
Предисловие
Жизнь преподобной Евдокии представляет нам живой и назидательный пример животворного действия Божия на душу, омраченную грехом, как казалось, в высшей степени. Но что, быть может, именно «казалось» окружающим Евдокию людям, знавшим и видевшим ее среди роскоши и блеска праздничной обстановки, в ложном свете ее двусмысленных отношений к юным и старым богачам и вельможам, — того, очевидно, не было в действительности.
В глубине ее души, испорченной презренным родом ее жизни, скрывались неведомые ее посетителям, таинственные, как сокровища на дне моря, жемчужины пламенной веры и чистой любви к Богу, которые ярко засияли, едва в тайники погибавшей души проник луч света Христа, просвещающего всякого человека, грядущего в мир… И вот недавняя великая грешница подвигами любви и неусыпными бдениями, постами и молитвами достигла великой святости. Она, душа которой казалась умершею, стала сама воскрешать мертвых!.. Из бездны пороков вознеслась она на доступную людям высоту духовного совершенства, вместив в себя, в меру возраста души своей, полноту Христову. Та, которая для многих была ближайшею причиной духовной смерти, для многих стала путеводительницей ко спасению!
Владыка потерянную овцу обрел и приобщил к Своему избранному стаду; оскверненную грязью житейской драхму омыл и приложил к вечным сокровищам своим; грешницу, ставшую закосневшей и бесчувственной от привычки ко греху, оживил могучею жизнью и окрылил несомненной надеждой…
Сосуд нечистоты наполнился светлой чистотою; тинный поток превратился в благоуханный источник, напоивший много жаждущих животворною водою; смрад сгнившего колодца преобразился в алавастр с драгоценным миром. Погасавшая свеча стала лучезарным светильником, елей которого умягчил много жестоких и черствых сердец!..
Итак, братия и сестры о Господе Иисусе, читая жизнеописание преподобномученицы Евдокии, умилимся духом, проникнемся сокрушением сердечным, и, ревнуя преподобной, позаботимся остающиеся нам дни жизни нашей, промелькнувшей в суете земных интересов, мыслей и желаний, провести благочестиво, угождая Богу по мере сил наших!
Составил Леонид Денисов
Москва, 12 августа 1900 г.
Жизнь и страдание святой преподобномученицы Евдокии[100]
В царствование императора Траяна, в Илиополе[101], который находился в Келесирии, жила девушка, именем Евдокия, самарянка по происхождению и вере и язычница по образу жизни. Прельщая многих своей необычной красотою, она являлась служительницей диавола, искусным и коварным орудием его, уловляя своих поклонников, как сетью, и беспощадно увлекая их к гибели. Нечистотой плотской собирая богатства окрестных стран, она была усердной, старательной приобретательницей земных сокровищ.
Так необыкновенна была красота лица ее, что ни один художник не мог изобразить ее подобие. Слава проходила повсюду о Евдокии, и много благородных юношей из разных городов и царей из иных стран сходились в Илиополь как бы для различных дел, в сущности же для того, чтобы видеть ее и насладиться ее красотой. И она собрала греховной жизнью огромное богатство.
Так долгое время собирая золото, Евдокия омертвела душой и окаменела сердцем. Закоснение ее было так велико, что никакая сила, кроме божественной, не могла уврачевать душевную болезнь этой грешницы.
Но Творец милосердный захотел обновить Свое создание, и та, которая принесла иным душевную смерть, для многих стала путеводительницей ко спасению.
Однажды благочестивый инок по имени Герман возвращался из своего путешествия через Илиополь в монастырь, в котором жил. Вечером он пришел в дом Евдокии к ее слуге-христианину, с которым был знаком. Тот отвел Герману комнату, где хранились благовония.
Эта комната помещалась рядом со спальней Евдокии. Уснув немного, инок встал по своему обычаю ночью и стал молиться. После совершения своего правила, он сел и, вынув из плаща книгу, начал читать. Он читал о страшном суде Божием и о том, как праведные просветятся, подобно солнцу в Царствии Небесном, а грешные пойдут в огонь неугасимый — огонь, где неослабно горько и без конца будут мучиться вовеки.
Евдокия в ту ночь была одна, затворившись в своей спальне, которую разделяла нетолстая стена от комнаты ароматов, где ночевал инок, упражняясь в молитве и чтении. Но вот инок стал читать псалмы, потом Евангелие, и Евдокия тотчас проснулась и слушала чтение до конца. Она молча и неподвижно лежала на своей роскошной постели. Ей было слышно каждое слово читающего инока, и оно, как удар молнии, падало на ее до сих пор сухое, безучастное сердце. Вся отдавшись вниманию, грешница слушала чтение и не могла заснуть до утра.
Ужас охватил ее сердце, когда сознание грехов в первый раз коснулось его. Евдокия затрепетала, вспоминая и думая о множестве грехов, о страшном суде Божием и о нестерпимой муке грешников.
День встал во всем своем великолепии, но Евдокия чувствовала внутри себя неуправляемое и неподвластное ей недовольство и досаду. Она велела своей рабыне прислать к ней домоправителя. Тот немедленно пришел, и Евдокия спросила его:
— Кто нынче ночью читал в комнате за стеной моей спальни?
Слуга испугался и несколько минут не мог ничего говорить. Евдокия ждала ответа, вопросительно и тревожно глядя на него.
— Прости меня, госпожа, — собравшись с духом, проговорил он растерянно. — Вчера пришел ко мне вечером знакомый старик, он возвращался издалека к себе домой. И я предложил ему для отдыха эту комнату, так как теперь в доме нет другой свободной. Но я не знал, что он будет читать ночью и обеспокоит тебя. Если прикажешь, я сейчас скажу ему, чтобы он удалился из дома.
— Нет, — задумчиво произнесла Евдокия, — не говори ему ничего, а приведи его сюда, ко мне.
Домоправитель в недоумении вышел и скоро возвратился вместе с Германом.
— Кто ты и откуда? — осыпала вопросами стоявшего пред ней старца Евдокия. — Какая твоя вера и жизнь? Скажи мне всю истину, умоляю тебя. Я слышала ночью твое чтение и сильно смущаюсь мыслью, потому что я узнала что-то страшное, удивительное и доселе неслыханное мною. И если правда то, что согрешающие будут преданы огню, то кто же может спастись? Я владею богатством, которому нет меры. И вот одно более всего меня смущает и устрашает… Это то, что читал ты в своей книге: «Горе богатым». Оно грозит им вечным и неугасимым огнем… Я никогда не читала таких слов в наших книгах и поэтому смутилась, услыхав новое и неожиданное для меня пророчество.
— Есть ли у тебя муж, госпожа? — спросил Герман.
— И откуда приходит к тебе изобильное богатство, о котором ты говоришь?
Гордая Евдокия поколебалась на минуту, но потом высокомерно сказала:
— Мужа законного нет у меня, но от многих мужей ко мне собралось богатство.
Презрительная улыбка, как трепетная тень, дрожала на ее прекрасных устах. Сознание своей силы, своей могучей красоты отражалось гордыми порывами на ее чудном лице. Далеко еще было от этой женщины истинное раскаяние…
Герман понял ее внутреннее состояние и молчал. Гордость и негодование поднялись в душе грешницы, вера в себя и сознание своей правоты как враги ринулись на пробуждающуюся совесть, закрывая блестящей завесой самообольщения возникающее чувство своей преступности.
«Вздор, бред, глупость, — быстро проносились мысли в голове Евдокии. — И что мне за дело до какого-то старика с его нелепыми книгами… И что это со мной? Право, смешно и забавно!»
Евдокия хотела прогнать старца, но сердце ее переполнилось сознанием своего достоинства, и она только громко и беззаботно засмеялась… И вдруг страх выразился в ее больших глазах и спугнул веселую улыбку… В первый раз тоска захватила ее, доселе неведомая ее находившемуся в оцепенении сердцу. Она остановила беспокойный взор на лице старца и сказала:
— Если богатые после смерти будут осуждены на тяжкую и вечную муку, то какая мне польза от моего безмерного богатства?
— Скажи мне, — отвечал Герман, — неложную истину, потому что Xристос мой, Которому я служу, истинен и не ложен, — хочешь ли ты быть спасена без богатства и жить в веселии и радости в бесконечные века или с богатством своим гореть в вечном огне?
— Лучше мне без богатства получить вечную жизнь, — грустно вздохнула Евдокия, — чем навсегда погибнуть с богатством. Но я удивляюсь, зачем так будет казнен богатый после смерти? Разве Бог ваш возгорается к богатым какою-то неумолимою ненавистью?
— Нет, — возразил Герман, — не отвращается Бог от богатых и не запрещает им быть богатыми, но Он ненавидит неправедное приобретение богатства и трату его на исполнение греховных пожеланий. Но кто праведно приобретает богатство и приобретенное расточает добродетельно, тот безгрешен и праведен перед Богом. Кто же собирает богатство хищением, грабительством, неправдой или каким-либо злым и греховным делом и хранит его, не жалея нищих, не подавая просящим, не одевая нагих, не насыщая алчущих, тому без милости будет адская мука.
— Мое богатство тебе кажется неправедным? — насмешливо спросила Евдокия, в которой опять заговорил неправедный гнев.
Оскорбленное достоинство снова поднималось в ней и вызывало на борьбу все, что шло против него…
— Воистину, оно неправедно и больше всякого греха, и неугодно Богу.
— Почему так? — медленно проговорила она. — Я одела многих нагих, многих алчущих накормила до сытости, а иных немного утешила и золотом. Как же ты называешь богатство злом?
— Выслушай меня внимательно, госпожа, — отвечал Герман. — Никто, войдя в баню мыться, не станет погружать свое тело в грязную воду, но где видит чистую воду, туда входит и моется. Как можно очиститься некоторыми милосердными делами от смрадной греховной скверны, произвольно мараясь в ней и презирая милосердие Божие? Это скопище скверных дел — как вода потопа, которая со стремительной силой несет тебя в пропасть, исполненную дымом и смрадом и горящую вечным пламенем гнева Божия.
Евдокия сидела неподвижно в своем дорогом кресле, откинувшись на его резную спинку. Ни один нерв не дрогнул в лице ее, глаза равнодушно смотрели через голову Германа, а руки небрежно лежали на коленях, по которым величаво расходились складки златотканой туники. Самообладание сковывало все существо ее, придавая ей безмолвный вид строгой дивной статуи. Она слишком высоко ставила себя, чтобы мысль об оскорблении могла уязвить ее, а на старца смотрела как на убежденного в своих идеях человека, ведь не напрасно считали ее поклонники женщиной, обладающей разносторонним пониманием. Сознание своих грехов только один раз ночью охватило ее, и снова все стушевалось и исчезло. Но в глубине ее избалованного, взлелеянного сердца, которое было упитано воскуряемым пред ней фимиамом лести и мужских восхищений, — там колола ее обида.
А речь Германа лилась, как кипучий поток.
— Богатства, которыми ты владеешь, — говорил он, — мерзостны великому Владыке и вечному Судии, потому что они прежде Суда осуждены, как собранные обольщениями блуда. Это богатство не принесет тебе пользы, даже если маленькую часть из него подаешь ты
иногда немногим убогим. Воздаяние за немногую добродетель губит безмерное множество злых деяний, — как большой смрад пересиливает малое благоухание. Ты до тех пор не сможешь получить благодать, пока добровольно будешь пребывать в нечистоте. Ты не сподобишься милосердия Божия, если не отвергнешь прежде наполняющий тебя греховный смрад, не омоешься покаянием и не очистишь, и не украсишь себя праведными делами. Как ходящий по терниям босыми ногами ранит их острыми шипами, из которых, если и вынет некоторые шипы, однако, большая часть их останутся в теле и будут болезненно мучить его, так и тебе мало пользы принесет иногда подаваемая маленькая милостыня нищему, которою как будто желаешь уничтожить грех, когда греховное терние остается внутри твоей совести на мучение твое. Прогневанный тобою Бог, страшный и праведный Мститель, грозит тебе вечными и нестерпимыми муками, уготованными не кающимся. Если хочешь послушать меня, можешь спастись от ожидающих тебя мук и получить вечную радость.
Лицо Евдокии побледнело и стало похожим на лилии, которые возвышались в красной вазе, помещавшейся на бронзовом пьедестале. Сердце ее как-то ослабело, словно упало, и она почувствовала себя бессильной.
Вставало, возникало что-то новое, свежее и доброе там в глубине ее души, но что это было, она и сама не понимала и не знала того. Возрождение ли то было к новой жизни или противление перед ней?
Вот и сейчас вдруг что-то светлое, отрадное, радостное прошло по сокровенным изгибам ее сердца, и словно ожидая и надеясь увидеть то новое и неведомое, но все еще сомневаясь и не доверяя, она сказала Герману:
— Умоляю тебя, посиди немного у меня, расскажи мне подробно о тех делах, которыми можно сподобиться Божией милости, чтобы и я, совершая их, могла правым употреблением богатства получить спасение. Ты сказал, что Бог любит добродетельную раздачу богатства. Мне же ничто не препятствует уменьшить немного домашних вещей для выкупа себя от тех мук, которые в день Суда примут все, ненавидимые Богом, как ты говоришь о том, читая свои книги.
Евдокия остановилась на минуту, ее глаза загорелись горделивой насмешкой. У меня много рабов, и я их, обремененных золотом и драгоценными вещами, поведу за тобой к твоему Богу, — иронически проговорила она, — если по твоему ходатайству Он соизволит принять это приношение мое и дать мне за него спасение.
— Не представляй Бога по нравам человеческим, — строго сказал Герман, будто не замечая ее тона. — Ему не нужны земные вещи, драгоценные для человека. Он сотворил все богатства во вселенной. Он несравненно богаче всех царей земных, но добровольно обнищал, чтобы приобрести нас и той скорбной нищетой купить нам вечное спасение.
Герман с состраданием взглянул на неверующую грешницу и продолжил свои странные речи:
— Те богатства, которые имеешь, раздай немощным и убогим. Они приятны Богу, и кто даст им что-нибудь, это Бог вменяет данным Себе, и за маловременное розданное нищим имение воздает небесными, никогда не оскудевающими сокровищами. Так и ты сделай, дочь, и приступи к святой и спасительной купели крещения, в которой омоешься от всех греховных скверн, и потом будешь чиста и непорочна, возрождена благодатью Святого Духа и получишь блаженное наследство, в котором насладишься нетленным, вечным светом. В этом свете нет ни тьмы, ни ночи, никакой болезни и печали. Ты будешь агница святая, пасомая на пажитях небесных Иисусом Христом, Спасителем нашим. Одно скажу тебе, дочь: если хочешь быть спасена, сделай то, что я советую тебе, и блаженна будешь вовеки.
— Если бы не проникли в мой ум слова, которые ты читал в прошедшую ночь, я не позвала бы тебя сюда. Возьми от меня сколько хочешь золота и пробудь здесь несколько дней. Научи меня христианской вере и наставь на добродетель. И я раздам богатства мои и все как надо устрою и пойду за тобой, куда ты пойдешь.
— Мне не надо золота, — ответил Герман, — довольно для меня надежды твоего спасения. Можно промедлить мне здесь несколько дней в надежде взыскать погибшую овцу и привести ее в ограду Христову. Хотя я и спешил в обитель мою, однако пробуду здесь несколько дней для твоего обращения к Богу, а ты сделай все, что я скажу. Позови одного из христианских священников, который живет здесь в Илиополе, чтобы он научил тебя по чину церковному и освятил крещением. Крещение — начало и основание спасения, а за ним все прочие дела богослужения пойдут одно за другим.
После этих слов Евдокия призвала домоправителя и велела ему тотчас идти в церковь христианскую и позвать оттуда священника, умолив его, чтобы он пришел к нуждающемуся в нем, и приказала не называть своего имени, чтобы он не узнал, кто его требует и для чего.
Посланный поспешил исполнить приказание Евдокии, и священник пришел скоро. Увидя священника, Евдокия поклонилась ему до земли.
— Умоляю тебя, господин, — сказала она ему, — побеседуй со мной и открой мне все о вашей вере, хочу и я быть христианкой.
Священник удивился словам ее, а Евдокия, словно находя отраду в обличении себя, поведала ему:
— Я была супруга всему миру. Но зачем, не скажу тебе одним словом. Истина в том, что я — море многих зол. И когда я услыхала, что грешники, если не покаются и не сделаются христианами, то будут мучиться в вечном огне, я решила стать христианкой.
— Если ты была морем грехов, — отвечал священник, — будь теперь пристанищем спасения. Если была смущаема многими ветрами, войди теперь в тихую пристань. И если отдавала себя шумным волнам, ищи теперь утренней росы, сходящей с неба. И если утомлена долгой бурею, ищи теперь Доброго Кормчего, Который безопасно приведет тебя к Своей пристани, где сокровища правды. И постарайся быть наследницей находящихся там благ. Богатство же земное раздай нуждающимся и освободи себя от горести греховной, от тьмы и огня неугасимого, ожидающего тебя, если не покаешься.
Пробуждающееся сердце Евдокии дрогнуло, и слезы показались из глаз ее.
— Нет грешникам милости у Бога вашего? — спросила она.
— Кающимся грешникам, — отвечал священник, — после принятия знамения веры, то есть Крещения Святого, Господь прощает все грехи прежней жизни в неверии. Тем же, кто пребывает в грехах и не думает о покаянии, нет прощения, и такие будут мучимы без помилования.
— Скажи мне, отец, — проговорила Евдокия, — что на небе есть лучше и дороже того, что находится на земле? Ведь у нас много сокровищ, что же большее их находится на небе?
— Если не отвлечешь мысли от прелести мира этого, — отвечал он ей, — и не презришь временной сладости, не можешь приблизиться к пониманию вечной жизни и узнать о существующих в ней неизреченной сладости и несказанного богатства. Если хочешь получить их, оставь гордость и забудь веселие этой жизни и не вспоминай о наслаждениях мира этого.
— Нет, я не полюблю, — отвечала Евдокия, — что-либо временное и скоро погибающее больше бессмертной и блаженной жизни.
— Но вот чего я ищу… — горячо продолжала она.
— Скажи мне: приняв христианскую веру, могу ли я иметь верную и несомненную надежду на то, что приду к той бессмертной, как ты ее называешь, жизни? И какой ты дашь мне знак, который бы уверил меня, что все то, о чем говоришь ты, действительно так существует? И по чему узнаю я о прощении грехов моих от Бога вашего? Вдруг, если я раздам нуждающимся богатство мое, как ты мне советуешь, и расточу имение мое, которое может на много лет моей жизни изобильно давать мне все блага и удовлетворять меня с избытком и покоить во всяком веселии, если я самовольно лишу себя всего этого, — то вдруг после не получу обещанного тобою. О, кто тогда будет несчастнее меня, если не останется у меня ни одного прибежища в моем последнем бедствии? Люди, которые были угнетены злом, сделанным им мною, если тогда стану в нищете моей просить их помощи, возгнушавшись мною, отвергнут меня. Поэтому я печальна и смущаюсь, что не знаю о будущем. Передо мной встает неизвестность; она мучит и пугает меня.
— Я требую, — продолжала Евдокия, — уверения и подтверждения в том, что ты мне великодушно обещаешь, говоря о милосердии и благоутробии Бога вашего, охотно прощающего грехи кающимся. Если я воистину совершенно узнаю о том, то начну смело расточать все мое и пойду туда, куда зовешь меня, и послужу Тому Единому Богу во все дни жизни моей. И как я для многих была образом беззакония, так буду для них же образом покаяния. Не удивляйся сомнению моему.
— Не смущайся, — сказал священник. — Волнуясь непостоянной мыслью, Евдокия, не допускай рассеиваться свой ум. То, что смущает тебя, есть обман виновника зла и ненавистника твоего спасения — диавола. Этот злобный дух, когда увидел тебя пробудившейся на служение Христу, тотчас полные сомнений мысли и суетный страх восстановил в сердце твоем, чтобы рассыпать в прах тот спасительный замысел. Надеясь устрашить тебя правым путем, он захотел крепче утвердить тебя в греховной жизни, чтобы тебя, жалкую и связанную страстной привязанностью к миру и порабощенную ему, вовлечь в смерть и гибель. Это дело его коварства, это его единственное старание, чтобы отвращать человека от доброго пути, вести его к развращению и собирать к своей вечной муке друзей и сообщников неугасимого огня. А что касается благости и неизреченной милости и человеколюбия Бога нашего, о которых ты слышала и желаешь верно знать и убедиться в них, то ты достигнешь этого.
— Бог наш готов еще издали встретить кающихся, — продолжал христианский пастырь, — и принять их в Свои распростертые отеческие объятия и, простив все грехи их, даровать им вечную жизнь. Узнай о том, Евдокия, и рассеются, как болотные испарения, сомнения твои, а неизвестность, как лживый, мрачный призрак, совьется, поползет, словно зимою дым, и исчезнет навсегда. А свет, один свет весны озарит и проникнет всю тебя. Свет правды, действительности восстанет пред тобою. Тогда не будет места сомнениям. Солнце, вечное солнце, враг сновидений, разрушитель призраков, покажет тебе истину. Ты узнаешь то, что желаешь; ты увидишь и уверишься. Но чтобы Господь открыл тебе желаемое, молись всем умом и сердцем, молись Ему об этом, желай этого. Молись и желай. Вознеси ум свой от земли горé, оставь временную заботу и думай о вечной жизни.
— Для этого нужна трезвенная и смиренная молитва, — с глубоким участием говорил священник, — тогда с душою примиряется Бог и в ней возсиявает божественный свет, открывающий истину, и ею человек совершенно узнает, что такое суета маловременного мира этого, и что есть век будущий, как вредны утехи жизни этой и как благ Бог и безмерно милосердие Его. Сними с себя свои многоценные одежды и оденься в плохие, и, затворясь в отдельной комнате твоего дома, пробудь так семь дней, вспоминая грехи твои, и со слезами исповедуя их Богу, Создателю твоему. Постись и молись, чтобы благоволил Господь наш Иисус Xристос просветить тебя. И Он наставит тебя, что́ ты должна совершать богоугодное Ему. Верь мне, что ты не напрасно сделаешь это. Милосерд и без меры благоутробен Владыка наш и готовность имеет встречать Своей благостью старающихся обратиться к Нему. Он всегда радуется покаянию грешника.
Евдокия согласилась исполнить совет священника, и, собираясь уходить, подойдя к двери, он сказал ей утешительные, пророческие слова:
— Xристос Бог, оправдавший мытаря и помиловавший грешницу, плакавшую у ног Его, и тебя оправдает и помилует, и сделает имя твое славным на всей земле.
По уходе христианского священника Евдокия, не отлагая своего обращения к Богу, тотчас призвала одну из рабынь и сказала ей:
— Если кто из желающих меня видеть придет ко мне, — смотри, пусть никто не узнает, что я дома. Говорите все вы, что я уехала в свое дальнее имение и промедлю там немалое время ради моих дел. Скажи, с угрозой, привратнику, чтобы никого не пускал в дом. Оставьте суету и уборку в доме и не вносите сюда ко мне приготовляемый каждый день обед. Затворите на дворе большие ворота и не отпирайте их до тех пор, пока я скажу. И устройте все так, как будто меня нет дома.
Отдав приказание своей любимой рабыне, она отпустила ее. Рабыня, которая обожала госпожу свою, поспешила строго исполнить приказание Евдокии, но недоумевая о том, что это сталось с ее госпожой.
— Умоляю тебя, — спросила Евдокия Германа, который все время был здесь, — скажи мне откровенно: для чего вы, монахи, живете в пустынных местах, оставляя общественную жизнь, в которой такая отрада? Разве вы находите в пустынях особенную сладость?
— Нет, дочь, — отвечал Герман, — никто из нас в пустынях не находит такой сладости, о которой ты говоришь. Мы оставляем города и сладость мира и убегаем в пустыни единственно для того, чтобы бежать суетной кичливости и умертвить плотские страсти, умертвить их голодом, жаждою, трудами, одеждами, представляющими рубище, и лишением всего необходимого. Мы уходим в пустыню, чтобы удалиться от удобных для греха мест. Живущему в городе легче впасть в грех: то побеждаемому естественною немощью, то прельщаемому от дьявола, то от созерцания прекрасных лиц и от слушания блудных слов. Оттуда родятся нечистые помыслы и оскверняют душу. Оскверненная же душа имеет для себя затворенный вход в Небесное Царство до тех пор, пока очистится покаянием. Света вечного и истинной радости, и неложной сладости престол — на небе, и в нем нет мрака, печали, горести и злых дел. Вот видишь, почему мы уходим в пустыню! Чтобы сохранить себя от греха в последующие дни нашей жизни, прежние же наши грехи очистить суровостью пустынного пребывания и так сделать себе свободным вход к вечному блаженству. Об этом все старание и попечение наше, чтобы тела наши сохранить неоскверненными от нечистых дел, ум соблюсти неповрежденным дурными и злыми помыслами, чтобы в стройной гармонии, ясности и незлобии текли мысли его. Мы стараемся быть чуждыми всякой злобы и лукавства, лицемерия, ропота, клеветы, зависти, ярости и гнева — и так будем подобны ангелам, как возвестил нам Своими святыми устами Xристос в Евангелии.
— А богатство, — горячо продолжал Герман, — ничем не может помочь любителю своему, который ненасытно собирает его; оно само по себе, не употребляемое на добрые дела, а сберегаемое и хранимое бесполезно для него, но подобно мертвецу, неподвижно лежащему во гробе. Если мы хотим получить прощение грехов наших, то постараемся в прочее время нашей жизни идти путем заповедей Господних, проходя стезею правды и истины. Растерзаем, как одежду, сердца наши жалостью за совершение грехов и будем непрестанно взывать к Богу. Так мы сотрем греховный смрад, о котором говорит Давид: «Смердят, гноятся раны мои от безумия моего».
Евдокия внимала словам наставника, а он продолжал:
— Сними свою прекрасную одежду, облекись же в простую, приступи к покаянию благими делами и сей на земле множество слез, чтобы пожинать на небе радость и веселие вечное. Угаси плачем печь грехов твоих, чтобы сподобиться утешения от Господа и войти в радость праведных. Плачь о беззакониях твоих, которые дьявол усладил в сердце твоем, и Ангел, ходатай спасения, приблизится к тебе.
— Иссуши смрадную тину тления, в которой удерживал тебя деятель всякого зла. И будь с этих пор, — вдохновенно говорил Герман, — участницей райского наслаждения. Принеси печаль тому, кто тебя обременил грехами. Прилежно поработай Богу, и, как пчела, будь доброй делательницей, от многих святых дел собирая правду.
Эти слова Германа проникли в сердце Евдокии, и сокрушение о грехах своих коснулось ее. Она упала к ногам его, говоря со слезами:
— Умоляю тебя, докончи дело, которое ты начал, и представь меня чистой Богу твоему. Hе отними живописующей руки от приготовленной доски до тех пор, когда во мне совершенно изобразишь Христа.
— Оставайся, Евдокия, в страхе Господнем и затворись в комнате твоей, молись к Нему непрестанно со слезами и Он совершит то, что ты не будешь сомневаться в милости Его. Благ и милосерд Господь наш Иисус Xристос и скоро явит Тебе милость Свою и не замедлит утешить тебя благодатью Своею.
Герман помолился Богу и, перекрестив Евдокию знамением креста, затворил ее в спальне. Уходя, он обещал ей пробыть для нее семь дней в Илиополе.
Оставшись одна, Евдокия стала молиться, но не могла молиться так, как хотела, и молитва ее прерывалась и исчезала от нее. Наступила ночь, и ей, запертой в одиночестве в своей комнате, слышался какой-то непонятный шепот, чудился шелест шелковых занавесей на ложе, где-то в раскрашенных углах, за гирляндами цветов, безостановочно пробирался шорох…
Казалось, кто-то вздыхал, и, как дуновение ветерка, трепетали нежные звуки лобзаний…
Воспоминания и разнообразные мысли и чувства до того наполнили Евдокию, нахлынули на нее, охватили ее, что она много раз хотела бросить все и выйти из спальни. Она порывалась уйти, но что-то удерживало ее, и она снова, хотя и бесплодно, начинала молиться. Она хотела начать новую жизнь, но вся ее прежняя вставала в этом чертоге, где прошли ее дни. Самое похождение Евдокии в этой комнате так не согласовывалось с ее новым состоянием, которое она старалась удерживать…
Долго Евдокия не могла произнести ни одного слова молитв, но вот она стала молиться, не останавливаясь, и прилагала все усилия, чтобы забыть обо всех и обо всем.
Сначала ей было тяжело, несносно, она обращалась к неведомому ей Богу без всякого чувства, все мысли ее были на земле, только один язык, и то неохотно, лепетал слова молитвы.
Но Евдокия принуждала себя и вот, прежде слабо, бессердечно, холодно, а потом усерднее, горячее, она начала молиться со вниманием и усердием.
Тяжесть спала; мысли, воспоминания и чувства, окутанные сладострастием, словно скрылись от нее. Евдокии стало легко, хорошо, она почувствовала какой-то чудный жар в сердце и словно вся оторвалась от земли. Только теперь она по-настоящему молилась, в первый раз в своей грешной жизни…
Через семь дней пришел блаженный Герман и, отворив двери, велел выйти Евдокии. Лицо ее было бледно, а изнеженное выхоленное тело исхудало, взор же был полон кротости и смирения…
Евдокия изменилась, и образ ее сильно различался с ее прежним гордым видом.
— Сядь, дочь моя, — сказал ей Герман, беря ее осторожно за руку.
Затем, помолясь Богу, сел рядом с ней.
— Скажи мне, — стал спрашивать Герман, — что ты думала в эти семь дней? Что видела? Что открыто было тебе? И как ты это понимала?
— Я все расскажу тебе, — отвечала Евдокия.
— Прошло семь дней, — продолжала она. — В прошедшую ночь, когда я молилась и опускалась крестообразно на пол, а слезы сокрушения о грехах моих лились из глаз, вдруг озарил меня свет, сильнее солнечных лучей… Я подумала, что взошло солнце, и встала. Поднявшись, я увидала светлого и странного юношу, которого одежды были белее снега. Тот, взяв меня за правую руку, поднял на воздух, и, поставив меня на облако, повел к небу. Там был великий и чудный свет, и видела я бесчисленное множество белоризцев. Они радовались и улыбались друг другу, и веселились неизреченно. Увидев меня, идущую к ним, они встречали меня пением и радостно целовали, как сестру свою. Когда же, окруженная и сопровождаемая ими, я хотела войти в волны света, несравненно превосходящего солнечные лучи, внезапно явился в воздухе некто, страшен образом, черный, как мрак или уголь и смола. Казалось, это страшилище превосходило всякую черноту и тьму. Он, глядя на меня страшным, яростным взором и скрежеща зубами, бесстыдно устремился ко мне, стараясь исхитить меня из руки водящего. Он закричал так сильно, что весь воздух наполнился голосом его. «И эту ли хочешь ввести в Царство Небесное! — говорил он, крича. — Зачем я, оставаясь на земле, напрасно гублю свой труд? Вот эта всю землю осквернила блудными делами и многим людям принесла вред мерзостью греха. Всю хитрость, которой владею, и все мои силы я сосредоточил в ней одной: нашел ей сластолюбцев, самых богатых и благороднейших званием, и числом многочисленных. Они за любовь ее истощили свои богатства, а я собрал ей такое множество золота и серебра, какое и в царских сокровищницах едва находится. Я гордился, что она в руках моих, как победоносное знамя и непобедимое орудие, которым торжествовал над людьми, отпадающими от Бога и увлекаемыми в мои сети. Теперь же так сильно враждуешь против меня, Архистратиг сил Божиих, что повергаешь меня к ногам ее для попрания? Hе довольно ли для твоего гнева тех отмщений, которые ты каждый день увеличиваешь на меня? Но и эту мою усердную работу, так дорого купленную, захотел отнять у меня? Нет ничего уже на земле моего, неотъемлемого, и я боюсь, что ты отнимешь у меня всех грешников и принесешь их Богу, как достойных, и включишь в наследники Царства Небесного. О, напрасная забота моя! О, бесплодный труд! Зачем объявляешь мне такую лютую войну? Оставь ярость и ослабь немного мои цепи, которыми я связан, тогда увидишь, как во мгновение ока я истреблю с земли весь человеческий род и не оставлю его потомства. Я свергнут с неба за одно малейшее неповиновение, а ты великих грешников, дерзнувших оскорбить Бога и много лет тяжко Его прогневляющих, вводишь в Небесное Царство. Если так ты хочешь, то собери в один час со всей земли погибших в грехах людей, закосневших в преступлениях, и всех их приведи к Богу. Я же скроюсь во тьме, и погружусь в бездну уготованных мною вечных мук».
Евдокия на минуту остановилась, как бы испугавшись своих собственных воспоминаний, и опять с волнением продолжила:
— И много со злобой и ненавистью говорил и гневно кричал этот черный страшный дух, а водящий меня грозно глядел на него; взглядывая же на меня, с любовью улыбался. И послышался голос из области света: «Так угодно Богу, чтобы грешники, принявшие покаяние, взяты были на лоно Авраама». И опять голос к водившему меня: «Тебе говорю, Михаил, хранитель Завета Моего, отведи ее туда, откуда взял, чтобы совершила подвиг свой. Я с нею буду во все дни жизни ее». И он тотчас поставил меня в спальне моей. «Мир тебе, раба Божия Евдокия, мужайся и крепись, благодать Божия теперь с тобою и всегда будет на всяком месте». Я приняла смелость от слов его и спросила: «Кто ты, скажи мне, чтобы я поняла, как веровать истинному Богу и получить жизнь?». «Я вождь ангелов Божиих, — отвечал он, — и мне принадлежит попечение о кающихся грешниках, чтобы принимать их и вводить в блаженную и бесконечную жизнь». Сказав это, он знаменовал меня крестным знамением, а я поклонилась ему до земли и, когда поднялась, он отошел на небо.
— Теперь уверься, дочь, — сказал ей Герман, — и не сомневайся, что есть на небе Бог истинный, Который готов принимать кающихся в грехах своих и вводить их в Свой вечный свет, где царствует, окруженный Ангелами служителями царства Своего, которых видела ты в небесном свете. Ты видела славу Господа Христа и узнала, как скоро Он прощает грехи и дает благодать Свою желающим примириться с Ним.
— Я верую, — отвечала Евдокия, — что есть Бог, и нет иного, кроме Него, спасающего грешных, Которого небесные врата видела я, осияваемые неописанным светом и исполненные неизреченной красоты…
— Заботься теперь о том, — прервал Герман, — чтобы плод покаяния твоего, положенный на весах, перетянул грехи прежней твоей жизни. Забудь гордость и юность твою, и Xристос забудет грехи твои. Возьми на себя благое и легкое иго животворного покаяния и с тех пор будешь свободна от греха…
— Я пойду в монастырь свой, — проговорил Герман, — но возвращусь к тебе, если захочет Господь. А ты живи некоторое время в молитве и исповедании грехов своих и заботься о принятии Святого Крещения. Я же скоро возвращусь к тебе, усматривая полезное для твоей жизни, сколько подаст Господь помощь Святого Духа.
После этого Герман, поручив Евдокию Богу, ушел в путь свой. А Евдокия, получив желаемое, узнав и уверившись в существовании блаженной, вечной жизни, вся отдалась подвигам.
Когда Герман удалился, Евдокия пробыла несколько дней в посте, питаясь лишь хлебом, елеем и водой, ночью и днем молясь со слезами. Затем она отправилась к епископу Илиопольскому, от которого приняла Святое Крещение. Спустя несколько дней, она написала послание к епископу, исчисляя подробно свое богатство и прося взять его у нее ради Христа для раздачи бедным. Епископ прочел обращенное к нему послание и, призвав Евдокию, спросил ее:
— Ты ли писала эту хартию ко мне, грешному? Евдокия ответила:
— Я писала эту бумагу и умоляю твою святость: прикажи церковному эконому взять присланное мною и раздать мои богатства нищим и убогим, сиротам и вдовам, как сами знаете, потому что я поняла, что эти богатства мои неправедны, так как собраны посредством греховного дела.
Епископ Φеодот, видя доброе намерение Евдокии, веру и любовь ее к Богу, прозрел духом будущую жизнь мученицы и сказал:
— Молись обо мне, сестра о Господе, возненавидевшая нечистую, плотскую любовь и возлюбившая чистоту. Отринув распутную жизнь, ты стала подражать целомудрию девы; суету мира продала для приобретения небесной жемчужины. Недолго прожила ты в греховном обольщении и покаянием исходатайствовала нескончаемую и вечную жизнь в горних обителях, смерть имела пред глазами и приобрела бессмертие. Многих вовлекла ты в погибель, а теперь многих оживотворишь о Христе. Из тьмы заблуждений придя в свет веры, ты стала достойна называться агницею Христовой по имени твоему Евдокия, что значит благоволение. Благоволил Господь о тебе, пренебрегшей сластолюбивыми людьми и возлюбившей чин ангельский. Молись обо мне, раба Божия, и помяни меня в Царстве Небесном.
Побеседовав с Евдокией, епископ сказал диакону:
— Призови ко мне строителя церковной гостиницы. Когда тот пришел, епископ сказал ему:
— Я знаю тебя за благочестивого и богобоязненного человека, прилагающего попечение о многих душах. По- этому я вручаю тебе эту рабу Божию, желающую преуспеяния духовного, чтобы ты позаботился о ее спасении и ее имущество через руки нищих направил к Богу.
Пресвитер, взяв Евдокию, пошел с нею в дом ее. Она же призвала своих управляющих, которые представили ей и пресвитеру вверенные им ее сокровища.
В числе этих сокровищ было много золота в слитках и монетах, драгоценных камней, сундуков с шелковыми, льняными и парчовыми одеждами, затканными золотом и украшенными драгоценными камнями, несметное количество редких индийских благовоний, серебра, шелковых тканей и дорогих ковров.
Кроме этого, Евдокия владела значительным недвижимым имуществом в виде земель, имений, дач, из которых собиралось плодов на громадную сумму. Все эти богатства Евдокия вручила пресвитеру, бывшему церковным экономом. Затем она призвала своих рабов и рабынь, раздала им всю обстановку своего дома, оделила их золотом и, облобызавшись, отпустила их на волю.
— Я освобождаю вас, — сказала она, — от кратковременного рабства; вы же, если желаете, старайтесь освободиться от рабства темным духам. Вы можете освободиться от этого рабства, если послушаете меня и прибегнете ко Христу, истинному Богу, Который дарует вам вечную свободу, какую имеют чада Божии, и впишет вас в число Своих воинов.
Обратившись потом к пресвитеру, она сказала:
— Теперь уже тебе надлежит заботиться о всем, врученном тебе, и устраивать, как хочешь. Я же ищу ищущего меня Владыки.
Пресвитер, удивляясь силе ее покаяния и ее великой любви к Богу, сказал:
— Блаженна ты, Евдокия, что через этот поступок стала достойна быть причисленною к девам чертога Христова. Ты узнала время прихода Жениха и поняла путь, которым следует идти к брачному чертогу. Всячески постаралась ты, чтобы не остаться вне чертога: елеем наполнила светильник свой, и тьма не окружит тебя. Успешно иди путем добродетели, и Бог поможет тебе. Обо мне же помолись, достойная быть в лике святых!
В это время вернулся Герман, который, узнав, что она отдала Богу свое имущество, взял ее и привел в женский монастырь, находившийся в той же пустыни, где и монастырь, в котором жил он сам.
В его киновии было семьдесят братий.
В пустынном же женском монастыре было тридцать инокинь, в числе их и Евдокия, которая, приняв иночество, стала упражняться в иноческих трудах и подвигах. Спустя тринадцать месяцев преставилась игуменья этого монастыря, Xаритина, под руководством которой Евдокия изучила Псалтирь и уразумела Священное Писание при благодатной помощи Святого Духа. Сестры, зная это, и видя, что Евдокия превзошла всех их трудами постническими, избрали ее игуменией над собою.
Бог не замедлил дать свидетельство о ее достоинстве и утвердить избрание чудесным знамением.
Один юноша из прежних ее почитателей, по имени Φилострат, вспомнив свою прежнюю сердечную привязанность к Евдокии и воспламенившись страстным стремлением к ней, стал думать, нельзя ли будет ее вернуть к прежнему образу жизни. Многократно размышляя об этом, он прибег к такому коварству. Облекшись в иноческое одеяние и взяв с собою золота, сколько мог нести, он пошел пешком к монастырю, в котором спасалась Евдокия, твердо надеясь привести в исполнение свое намерение. Когда он постучался в ворота, привратница через оконце спросила его, что ему нужно. Он сказал:
— Я — грешник и пришел просить вашей молитвы и благословения.
Привратница возразила на это:
— Мужчинам не дозволен доступ сюда. Но недалеко есть монастырь преподобного Германа; иди туда, там сподобишься молитвы и благословения, а здесь не стой и не докучай нам, так как войти сюда тебе нельзя.
Φилострат, не возражая более, пошел в мужской монастырь. Он встретил Германа сидящим при входе и читающим книгу и смиренно поклонился ему до земли.
Герман, сотворив молитву и благословив Φилострата, сказал:
— Сядь, брат мой, и скажи, из какого ты монастыря. Φилострат отвечал:
— Я был один у родителей моих и после их смерти, которая приключилась недавно, я не захотел жениться, но решил служить Богу в иночестве и облекся в иноческие одежды, намереваясь отыскать потом и место, и наставника, от которого мог бы поучиться иноческому житию. Услыхав о твоей святости, честной отец, я предпринял долгий путь сюда, желая припасть к твоим стопам и умолить тебя, чтобы ты принял в монастырь меня, приходящего принести покаяние в прежних грехах.
При этих словах отче Герман, внимательно глядя на него и видя пыл страсти в его глазах, ответил:
— На великий труд ты хочешь посягнуть, сын мой, и я не уверен, будет ли это тебе по силам. Мы, старцы, и то едва можем сопротивляться дьявольским ухищрениям. Что же будет с тобою, если ты в цвете юности, в годах, когда пламя страсти жжет сильнее?
— А разве нет, отче, примеров добродетельной жизни в столь же юных летах, как мои? А ваша Евдокия, о которой я много слышал, разве не была молода, разве не жила среди наслаждений и вот прибегла к вашему руководству и пребывает в иночестве, победив свою плоть? Я не умолчу, отче, и того, что ее примером я был более всего побужден и хочу подражать ей. Я думаю о том, как она была молода, красива, богата, среди каких наслаждений провела первое время своей жизни, и как потом, внезапно от чего-то переменившись, пошла служить Христу путем тесным и скорбным. Она, женщина, сумела все презреть и истребить желания свои ради любви ко Христу. Отчего же ты, отче, сомневаешься относительно меня, мужчины? Если бы я мог хоть однажды увидеть ее! Я надеюсь из беседы с ней почерпнуть столько усердия к Богу и сил на подвиг, что мне будет достаточно их, чтобы победить и заставить исчезнуть все искушения диавольские во всю жизнь мою.
Герман, слыша его слова, поверил его лжи, как истине, подумал, что он на самом деле хочет служить Богу, и ответил Φилострату:
— Мы не воспрепятствуем тебе, сын мой, видеть Евдокию и слышать от нее полезное слово, так как ты по ее примеру хочешь вступить на путь добродетели.
Призвав пожилого монаха, на обязанности которого лежало относить ладан в женский монастырь, игумен Герман сказал ему:
— Когда пойдешь в женский монастырь, возьми с собой этого брата, чтобы он увидел рабу Божию Евдокию, потому что он хочет стяжать пользу из ее назидания и подражать богоугодной жизни ее.
Через несколько дней старец-монах собрался идти в женский монастырь и взял с собой Φилострата, как ему было приказано игуменом. Φилострат, проникнув в женский монастырь в иноческой одежде и увидев невесту Христову Евдокию, удивлялся ее смирению, нищете и умерщвлению плоти. Он видел, что лицо ее бледно, очи опущены вниз, уста безмолвны, одежды плохи, ложе — рогожа, постланная на земле и прикрытая жестким рубищем. Найдя время, удобное для беседы, Φилострат начал тихо говорить ей:
— Что такое я вижу, Евдокия? Кто тебя, жившую в палатах, подобных царским, обладавшую столькими богатствами, такою роскошью обстановки, проводившую все дни в беспрерывной радости, обманул и увел в эту пещеру? Кто лишил тебя блеска столицы, где все оказывали почет тебе, появлявшейся на улицах в великолепных одеждах, удивлялись красоте твоей и осыпали тебя похвалами? Какой обманщик привлек тебя от такой завидной доли к этой нищете, бедности, к жизни, полной лишения и недостатков? Ныне весь Илиополь ищет тебя, все жаждут видеть тебя. Самые стены прекрасного дворца твоего рыдают без тебя…
— Я послан к тебе, — продолжал безумный, — как выразитель всенародного желания, чтобы от имени всех умолить тебя вернуться в город и утешить всеобщую скорбь о тебе твоим возвращением. Послушайся меня и последуй за мною; выйдя из этого бедного жилища, уйди от голода, грязных одежд, жесткого ложа и вступи снова в прежний твой дворец, приди к прежним радостям, к былым наслаждениям, которыми еще недавно ты пользовалась в изобилии. Если ты и потеряла свое богатство, отдав его напрасно чужим, все готовы вновь обогатить тебя тотчас же. Зачем ты медлишь и колеблешься? Зачем, когда все расположены к тебе и желают тебе добра, ты сама становишься врагом и тираном своим? Hе стыдно ли тебе скрывать во мраке иноческой жизни такую красоту лица? Hе пустота ли это: портить постоянным плачем и ненужными слезами твои глаза, сияющие подобно солнечным лучам? Какая тебе польза в том, чтобы прекрасное, юное тело морить голодом, жаждою и другими жестокостями? Где твои благовонные ароматы, которыми ты, проходя по городу, заставляла благоухать воздух? И после этих благоуханий ты добровольно избрала смрад жизни отверженных! Кому последуешь ты, впавши в такое заблуждение? Какая пустая надежда отдалила тебя от обладания столькими благами? Кто из богачей бросает свое богатство и ни за что отдает его другим, как сделала это ты? Но мы знаем, где находятся отвергнутые тобою богатства, мы можем легко взять их назад и возвратить в твое владение, только вернись к нам в город, Евдокия! Я захватил с собою золота, которого достанет на дорогу; все же остальное, кинутое тобою, мы отыщем, прибыв в Илиополь…
С гневом смотрела на него святая, пока он говорил это. Наконец, не стерпев его лукавых советов, сказала:
— Бог отмщения да запретит тебе! Господь наш Иисус Xристос, праведный Судия, раба которого я, недостойная, да не попустит вернуться тебе, пришедшему сюда со злым умыслом.
Сказав это, она дунула в лицо ему, и ложный инок тотчас упал перед нею замертво на землю. Сестры, глядя издали на их беседу, не могли расслышать ее слов. Но видя человека, упавшего у ног Евдокии от ее дуновения и лежащего трупом, они испугались. Сначала они удивлялись этому чуду, в котором чувствовали присутствие силы Божией; затем начали бояться, как бы не узнали об этом миряне и судьи и не стали бы производить следствия, как об убийстве, и не сожгли бы монастырь, потому что эллины, будучи идолопоклонниками, ненавидели христиан и монастыри. Они стали совещаться, что им делать, так как сами не осмеливались спрашивать об этом Евдокию. Одна из них сказала:
— Сегодня не будем ничего говорить, потому что теперь вечер. Ночью помолимся Богу, чтобы Он открыл нам причину смерти этого инока и наставил нас, как нам поступить.
В полночь, когда должно было начаться обычное пение полунощницы, Господь явился Евдокии в сонном видении и сказал:
— Встань, Евдокия, и прославь Бога твоего! Преклонив колена, помолись Мне недалеко от мертвого тела искусителя твоего, и Я повелю ему стать живым. Он воскреснет силою Моею и узнает, кто Я, в Кого ты веруешь. Ты же в изобилии будешь иметь благодать Мою.
Пробудившись от сна, Евдокия помолилась Владыке Христу и воскресила мертвого. Φилострат, встав от смерти, как от сна, и познав истинного Бога, милосердия Которого он сподобился, упал к ногам Евдокии со словами:
— Умоляю тебя, блаженная Евдокия, истинная раба истинного Бога, прости меня, кающегося, за то, что я опечалил тебя лукавыми словами моими. Теперь я познал, какому благому и сильному Богу ты служишь.
— Вернись к себе с миром, — отвечала Евдокия. — Hе забудь благодеяний Божиих, явленных на тебе, и не отступай от познанного тобою правого пути веры, иметь которую ты обещаешься моему Богу.
Тогдашний местный властитель был Аврелиан вассал Римского императора; перед ним оклеветали Евдокию. Некоторые из начальствующих лиц написали донос на нее царю, клевеща, будто она унесла с собою в какое-то пустынное место свои несметные богатства. Они умоляли дать им военный отряд, чтобы найти беглянку и вернуть ее в город, а золото взять в государственную казну, потому что она пристала к вере галилейской, исповедующей какого-то Христа, и нанесла бесчестие богам, которым поклоняются и цари.
Аврелиан, узнав о золоте, будто бы унесенном Евдокией, согласился на их просьбу и, тотчас призвав комита[102], приказал ему взять отряд и пойти взять Евдокию с золотом и представить ему. Комит взял с собою три сотни солдат, пошел в пустыню, где находился монастырь, в котором жила Евдокия. Когда они были еще в дороге, Господь явился Евдокии в сонном видении и сказал:
— Гнев царя возгорелся против тебя. Однако, не бойся, Я всегда с тобою.
Приблизившись с отрядом к женскому монастырю и увидев его стены, комит остановился в ожидании ночи, потому что день уже склонился к вечеру, и стал приводить в порядок войско, намереваясь ночью неожиданно напасть на монастырь со всех сторон.
Наступила ночь, и они уже хотели устремиться к монастырским стенам, но всемогущая сила Божия в продолжение целой ночи препятствовала им подойти к обители. Когда настал день, они увидели монастырские стены, но опять не смогли дойти до них. Так три дня и три ночи они стояли безуспешно в виду монастыря. И вдруг внезапно страшная и огромная змея напала на них. Тогда они, побросав оружие, бежали от страха. Но, убегая от змеи, они не избежали смертельной опасности. Одни из них сразу упали и умерли, другие же, еле живые, лежали по дороге и находились близ смерти. Один лишь комит с тремя воинами невредимым возвратился к царю. Царь, разгневавшись на гибель войска и обозвав волшебницею Евдокию, созвал своих вельмож на совет, желая отомстить за поражение посланного им отряда.
Сын Аврелиана вызвался сам пойти с большим отрядом, сравнять с землею монастырь и привести с собою Евдокию. По общему решению совета, сын местного властителя Аврелиана на другой же день выступил с войском против монастыря Евдокии.
При наступлении вечера он решил остановиться и переночевать в поместье отца своего, которое понравилось ему красотою местоположения. Но случилось непредвиденное. Соскакивая быстро с коня, он ударился ногою о камень, сильно поранил ногу и на руках воинов был снесен на постель. В полночь боль увеличилась и вскоре он умер, а войско вернулось к властителю с трупом его сына. Властитель же при виде неожиданно умершего сына упал в обморок.
Весь город сошелся к царскому дворцу, и поднялся общий плач, потому что народ жалел умершего юношу и его умирающего от жалости отца. Среди толпы народной находился в ту пору и Φилострат. Подойдя к придворным, он сказал им, что Евдокия — раба Божия, и никто не может принести ей вред, потому что сила небесная охраняет ее. И если царь желает видеть своего сына живым, пусть лучше пошлет к ней с честью просьбу, чтобы она умолила своего Бога оживотворить мертвого.
— Я сам, — говорил Φилострат, — на себе испытал силу ее молитвы и Божие милосердие.
Царь, услышав эти слова и придя немного в себя, узнал подробнее от самого Φилострата о бывшем с ним происшествии, поверил его рассказу и тотчас послал к Евдокии своего трибуна Вавилу со смиренным и просительным письмом. Евдокия, получивши со смирением царское послание, сказала:
— Зачем ко мне, убогой и грешной, царь пишет послание?
Трибун просил преподобную отпустить его к царю с ответом от нее.
Тогда Евдокия, собрав сестер, обратилась к ним:
— Сестры и матери, что посоветуете мне сделать относительно того, что пишет царь?
Они же единогласно воскликнули:
— Благодать Святого Духа наставляет: пиши царю, что Богу угодно.
Преподобная Евдокия, помолившись, написала:
«Я, грешная, не знаю, зачем ты, державный, соизволил прислать мне грамоту твою. Я, окаянная, вся полна грехами. Обличаемая совестью за мои беззакония, я не имею дерзновения ко Христу Богу для молитвы о тебе, чтобы Он сжалился над тобою и возвратил сына твоего к жизни. Но я надеюсь на несомненную благость и силу Господа моего и верю, что ты всем сердцем уверуешь в истинного Бога, воскрешающего мертвых, и возымеешь твердую надежду на Него. И тогда Он явит на тебе и на сыне твоем Свою великую милость, ибо нельзя человеку призвать святое и страшное имя Его и о чем-либо молить Его, раньше не уверовав в Него чистою душою. Итак, если всею душою уверуешь, ты увидишь великую силу бессмертного Бога, удостоишься Его милосердия и насладишься благодеяниями Его».
Написавши и запечатлевши хартию тремя крестными знамениями, Евдокия вручила ее трибуну и отпустила его. Возвратившись к царю, трибун[103] Вавила положил послание Евдокии на грудь умершего, призвав громко имя Христово. Мертвец тотчас ощутил прилив жизненных сил, открыл глаза и заговорил, встав, как от сна, живым и здоровым.
И возгласил во всеуслышание царь Аврелиан:
— Велик Бог христианки Евдокии! Истинен и праведен Бог христианский! Праведно к Тебе прибегают многие и благочестно поступают верующие в Тебя, Господь христиан. Прими меня, идущего к Тебе, потому что я верую во Имя Твое святое и исповедую, что Ты один — истинный Бог, святой и благословенный вовеки!
Уверовав во Христа Бога, царь Аврелиан был крещен епископом Илиопольским вместе со своей женой, воскресшим сыном и дочерью Геласией. Он раздал много милостыни нищим и убогим, послал много золота преподобной Евдокии на построение храма, велел выстроить город на том месте, близ которого жила преподобная Евдокия, и часто писал ей, прося ее святых молитв.
Через несколько времени царь Аврелиан и его жена скончались. Сын его был поставлен во диакона, но по кончине же епископа Илиопольского был посвящен во епископа родному городу. Сестра его, Геласия, презирая суету мира и удаляясь от брака, чтобы предаться на служение Богу, тайно ушла в монастырь преподобной Евдокии и там жила до самой кончины своей, усердно служа и благоугождая Богу.
Спустя несколько лет городом Илиополем правил игемон Диоген, ревнитель ложных богов и пламенный приверженец их, преследовавший тех, которые отказывались поклоняться идолам. Он хотел жениться на Геласии, на что был согласен и отец ее Аврелиан, когда еще был язычником. Просветившись святым крещением, он не захотел отдавать свою дочь в жены неверному, если он не захочет стать христианином. По кончине Аврелиана Геласия, как было выше сказано, скрылась, но никто не знал, куда именно. Лишь глухой слух указывал, как на место ее пребывания, на монастырь Евдокии.
Диоген послал пятьдесят воинов схватить Евдокию, как христианку, и привести на допрос. Когда они были в дороге, Господь явился ночью Евдокии и сказал:
— Евдокия, трезвись и мужественно стой в вере, потому что пришло время исповедать тебе имя Мое и прославить славу Мою. Уготовался тебе подвиг, которым ты пойдешь. Вскоре нападут на тебя люди, страшные, как звери; но ты не смущайся и не ужасайся, потому что с тобою буду Я, твой ближайший спутник и крепкий помощник во всех твоих подвигах и трудах.
Едва кончилось видение, воины ночью перелезли через монастырскую стену. Узнав об этом, преподобная Евдокия вышла к ним и спросила их:
— Что вам здесь нужно? Кого вы ищете?
Воины же взяли ее и стали спрашивать о Евдокии.
Тогда преподобная Евдокия сказала им:
— Я отдам вам Евдокию сейчас, только немного подождите.
Придя в церковь и взойдя во святой алтарь, она открыла ковчег с животворящими Христовыми тайнами и, взяв частицу этой святыни, скрыла на своей груди. Выйдя потом к воинам, она сказала:
— Я — Евдокия. Возьмите меня и ведите к пославшему вас.
Они, взявши ее, повели с собой.
Ночь была безлунная и темная. И ангел Господень шел впереди святой Евдокии, в виде светлого, прекрасного юноши, освещая ей путь. Воины не видели его, видела его одна Евдокия. Они хотели было посадить Евдокию на мула, но она отказалась, сказавши:
— Кто на колесницах, кто на конях, я же, уповая на Христа Бога моего, дойду с радостью пешком.
Когда они достигли города Илиополя, игемон Диоген приказал запереть Евдокию в темнице на два дня. На третий день, призвав тюремного сторожа, он спросил последнего:
— Не давал ли кто пищи или питья этой злой и ненавистной волшебнице?
Сторож с клятвою отвечал:
— Никто не давал ей ни пищи, ни питья. Но я подсмотрел и увидел, как она, простершись ниц на земле, поклонялась, как думаю, Богу своему.
Игемон сказал ему:
— Завтра утром я призову ее к допросу и суду, а теперь я занят другими делами.
На четвертый день игемон Диоген сел на судилище и велел привести Евдокию. Видя ее смиренный вид, плохую одежду, поникшую голову, он велел слугам открыть лицо ее. И тотчас лицо Евдокии засветилось, как молния. Диоген ужаснулся и долго молчал, удивляясь неизреченной красоте лица ее и благолепию его, озаряемого божественной благодатью. Затем, обратясь к своим, игемон сказал:
— Клянусь богом солнца, что не подобает предавать смерти такую солнцезарную красоту, и что делать, не знаю.
— Ослепительная внешность ее, — сказал один из вельмож, — это дело волшебства, а не естественная, природная красота.
— Скажи нам прежде имя твое, род и опиши свою жизнь, — попросил игемон.
Она перекрестилась и сказала:
— Я называюсь Евдокия. О роде же моем и какой я жизни, нет надобности спрашивать. Одно нужно знать обо мне, что я — христианка. Прошу тебя, игемон, не проводи напрасно времени за праздными словами, но делай со мной скорее то, что вы привыкли производить над христианами, — мучай, как тебе угодно, предай смерти, я же уповаю на Христа, истинного Бога.
— Скажи нам, — опять спросил Диоген, — зачем, оставив город, ушла ты в пустынные места и унесла с собою народное богатство, обманом уничтожив общественные сокровища?
— Зачем я оставила город, скажу одним словом, — отвечала Евдокия. — Я была свободна, и что захотела, то и сделала. О золоте же кто меня обличит? Разве я чужое взяла?
После долгого прения Евдокия оставалась неизменной в вере и непобедимой в славе своего Господа.
Тогда игемон велел повесить ее на дереве и четырем воинам бить беспощадно. Воины, взяв Евдокию, обнажили плечи ее до пояса, и, когда обнажали, упала часть Пречистого и Животворящего Тела Христова, которую она взяла с собой, выходя из монастыря.
Слуги подняли эту часть с земли, не зная, что это такое, и принесли игемону. Тот протянул руку, желая взять, и тотчас эта часть Пречистого Тела Владыки превратилась в огонь. Она стала пламенем, которое окружило мучителей и сожгло их, а левое плечо игемона оказалось все опаленным. Он упал на землю и стал просить о помощи бога-солнца, обещая казнить Евдокию.
Во время его слов упал на него огонь, как молния, и опалил его тело, подобно головне. Страх и ужас охватил народ. Воин, уверовавший во Христа, просил Евдокию молить Христа Бога о возвращении к жизни игемона Диогена. Воин снял святую с дерева и освободил ее.
Мученица преклонила колени и долго молилась… Потом она встала и громко сказала:
— Господи Иисусе Христе, знающий тайны людей, утвердивший небо словом и все премудро сотворивший, вели, чтобы Твоей всесильною и всемогущею волею ожили все, сожженные огнем, посланным от Тебя. Пусть многие, которые веруют, утвердятся в святой вере, а неверующие обратятся к тебе, Богу вечному, и прославится пресвятое Имя Твое во веки веков.
Затем она подошла к мертвым и, беря каждого за руку, говорила:
— Во Имя Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, встань и будь здоров, как и прежде.
И так, по одному, как бы пробуждая от сна, Евдокия оживила всех силою Христовой.
Все с удивлением и ужасом глядели на то несказанное чудо. Один из воинов увидел Ангела, стоящего возле Евдокии. Ангел Божий как бы беседовал с ней и утешал, покрывая ее обнаженные плечи полотном белее мела. Воин подошел к преподобной и просил простить его.
— Пусть благодать обращения ко Христу придет на тебя, и, если хочешь быть спасен, то дальше убегай от прежнего неверия.
В это время к комиту Диодору пришла весть, что жена его Φирмина угорела в бане и умерла. Евдокия, по просьбе игемона Диогена, пошла к умершей Φирмине.
Когда они шли с народом, умершую несли на носилках. Евдокия велела остановиться носильщикам. Слезы залили просветленные глаза ее, она взяла за руку Φирмину и громко помолилась Богу. И встала Φирмина, а весь народ, словно одними устами, воскликнул:
— Велик Бог Евдокии, истинен и праведен Бог христианский!
Диодор, жена его и весь дом их приняли святое крещение. Также и из народа многие, и Диоген игемон крещен со всем домом своим. И он прожил до кончины своей во святой вере неизменно.
После этого преподобная Евдокия, по просьбе Диодора, жила в доме его, уча слову Божию новопросвещенных христиан.
В винограднике, расположенном недалеко от дома, в котором находилась святая, однажды работал мальчик по имени Зинон. Утомившись, он уснул в полдень, и ядовитая змея ужалила его, и он умер. Он был единственный сын матери, и она была безутешна.
— Пойдем, — сказала Евдокия Диодору, — утешим плачущую вдову и ты увидишь милосердие Бога нашего. Придя, они нашли мальчика опухшим и почерневшим от змеиного яда. Евдокия велела Диодору помолиться и воскресить мертвого. Он отказывался, сознавая свою греховность и недостоинство.
— Бог скоро подает просимое кающимся, — сказала ему Евдокия. — Призови Господа, и Он сотворит с нами великую милость.
Тогда Диодор стал со слезами громко молиться Богу, и после молитвы мертвый тотчас встал, чернота сошла с тела его, опухоль опала, и он стал здоров и крепок.
Многие, видевшие это, пошли к епископу Илиополя и вместе с женами и детьми приняли Святое Крещение. А Евдокия возвратилась в монастырь и жила в иноческих трудах. Иногда приходила она в город, утверждала верных, а неверных приводила ко Христу.
По смерти же игемона Диогена был прислан на место его другой, по имени Викентий, враг христиан. Тот, слыша о Евдокии, послал воинов отсечь голову ее.
И так святая Евдокия скончалась от меча 1 марта 152 года по Рождестве Христовом, в царствование римского императора Антонина, после 56-летних иноческих подвигов.
Преподобномученице Евдокии тропарь и кондак
Tропарь, гл. 8-й
Правостию умною, душу твою привязавши в любовь Христову, тленных и красных и временных забытием претекла еси, яко Слова ученица: пощением страсти первее умертвивши, страдальчески второе врага посрамила еси. Тем Xристос сугубых венца сподоби тя, славная Евдокие, преподобная страстотерпице; моли Христа Бога, спастися душам нашим.
Кондак, гл. 4-й
В страдании твоем добре подвизавшися, и по смерти нас освящаеши чудес излиянии, всехвальная, верою прибегающих в божественную церковь твою, и торжествующе молим тя, преподобная мученице Евдокие: да избавимся недуг душевных, и чудес благодать почерпнем.
Ольга Хмелева. Первые христиане. Святая Феврония
Рассказ из первых веков христианства
Глава I. Два брата
Часу в пятом утра одного из майских дней 302 года по Р. X. по улицам Рима несколько человек рабов быстро несли довольно скромные носилки.
Город начинал просыпаться и оживать еще до восхода солнца. На улицах было уже людно и шумно. Разносчики, еще до рассвета пришедшие из бедных и грязных кварталов, лежавших за Тибром (река в Италии), выкрикивали серные спички, вареный горох и горячую требуху; фокусники показывали ручных змей; погонщики мулов кричали и перебранивались. Под тенью домов, верхние этажи которых часто выступали значительно вперед нижних и образовывали над улицей нечто вроде навеса, плелись утомленные пешеходы или бойко и тяжело шагали солдаты. По временам с грохотом проносилась пароконная колесница.
Задыхавшиеся и облитые потом рабы остановились у большого дома, глядевшего на улицу лишь несколькими маленькими, узкими и высоко от земли прорезанными оконцами. Две высокие колонны поддерживали фронтон[104] над огромной массивной дверью. На ступенях, перед нею, сидел раб-привратник. Это был уже совсем дряхлый старик, неспособный ни к какой иной работе. Вокруг него, тихо переговариваясь, стояла кучка рабов.
Старик еще издали завидел носилки, испуганно-почтительно встал и отпер дверь дома. Занавеска носилок распахнулась и из-за нее, не торопясь, появилась мощная и величаво-суровая фигура знатного сановника Селина Феликса. Не отвечая на поклоны рабов, он медленно вошел в перистиль[105]. Его обдало прохладой высокого полутемного коридора, заключенного в толстых каменных стенах. По обеим сторонам виднелись двери в жилые помещения прислуги, а в промежутках между ними выступали из полумрака белые фигуры статуй.
Один из стоявших здесь рабов принял от Селина тогу[106]. Старый вельможа остался в одной тунике[107] с длинными рукавами до кистей рук. Селин Феликс быстро вошел в спальню к своему умирающему брату. На дороге встретил его Лисимах, племянник Селина и сын Анеима Феликса.
— Доброго утра, Лисимах, — проговорил Селин. — Ну, что отец?
— Не хорошо ему, дядя. Два врача всю ночь не отходили от него. Я был вместе с ними и на лицах их видел, что они и сами не знают, что делать. Но он в памяти, тверд и спокоен, как всегда. Как хорошо, что ты приехал! Он ждет тебя, и даже ночью несколько раз вспоминал о тебе.
Селин молча кивнул головой и пошел за племянником. Стоявший у входа в спальню хозяина раб осторожно и ловко приподнял перед ними тяжелый ковер, заменявший дверь в спальню.
Старый богач, оптимат[108] Анеим Феликс лежал на простой деревянной койке, прикрытый шерстяным одеялом. Больной лежал лицом к двери и, хмурясь от страдания, бесцельно смотрел в пространство. Несмотря на смертельную бледность и худобу Анеима, сходство между двумя братьями было поразительное.
Поодаль от кровати, у стола с десятками склянок и амфор, стояли врач и двое рабов.
Когда вошли Селин и Лисимах, лицо Анеима заметно просветлело.
— Доброго утра, брат! — сказал Селин. — Как ты провел ночь?
— Совсем не спал! — ответил больной.
— Страдал?
— Не так страдал, как думал и ждал тебя, — ответил Анеим и вдруг, обратясь к сыну, прибавил:
— А ты ведь еще не окончил с клиентами? Ступай, окончи и отпусти их, а потом поди к сенатору Просфору,
передай ему мой привет и останься там, пока не настанет пора идти в бани.
Лисимах тоскливо взглянул на больного отца и покорно вышел.
— Да и вы уйдите, я позову, а теперь я хочу поговорить с братом, — приказал Анеим врачу и рабам.
— Сядь поближе, брат. A хочу говорить с тобой, и речь моя будет не короткая.
Селин поставил один из стульев у кровати и сел. Несколько минут Анеим молчал, собираясь с мыслями.
— Сегодня ночью я понял, наконец, что мне уже не встать, — начал он, — и нет ни латинских, ни греческих, ни варварских слов, чтобы передать тебе ужас и горе, которые терзают мое сердце!
— Ты боишься смерти? — удивленно спросил Селин. — Разве может она страшить человека, который с юности играл с нею на поле битвы, а в зрелом возрасте храбро вводил ей в пасть целые легионы. Или старость…
— Да, то было прежде! А именно теперь я боюсь и ненавижу ее! — ответил больной, оживляясь. — Я хочу жить и действовать. Я всю жизнь с болью в сердце всматривался во все ужасы, которые происходили в Риме, слушал, размышлял, учился и, наконец, созрел. Я понял его раны, мог бы врачевать их и ждал лишь… И вдруг — смерть! Таких, как я, уже немного! Те, которые есть, не хотят или не могут понять, в чем главная язва! Разнузданная чернь, своевольное войско, развратные оптиматы, неверие в богов, грабеж провинций и озлобление покоренных, которые своими восстаниями обратили всю историю Рима в беспрерывную войну то на одном, то на другом конце мира…
Больной задыхался от непосильного волнения.
— Все это верно, брат, — заговорил Селин, воспользовавшись его остановкой, — но теперь снова возрождаются надежды. Диоклетиан[109]…
— Что такое Диоклетиан!? — подхватил Анеим с новым порывом. — Да, он из лучших людей, умен, честен, мечтает о возрождении великого Рима под управлением единодержавия! Но что может один, хотя бы и хороший правитель, когда все остальное в стране заражено и губит ее своей собственной гнилостью!? Разве у нас не было Тита[110], Траяна[111], Адриана[112], всех Антонинов[113]? А что они сделали? Для такого великого дела нужны люди! Сотни, тысячи, миллионы единомыслящих людей! Какие вожди были у христиан! Их били, резали, жгли, а они все-таки есть, и всегда будут! Вот что значит крепкая вера и единомыслие, даже и тогда, когда люди связаны хотя бы и гнуснейшими помыслами! А разве мысль о великом владычном Риме ничтожнее их учения об ином дивном мире, которого никто никогда не видел?! Но Рим извратился, и ему нужны люди, которые возродили бы его! Я был из таких! Так не царства теней я боюсь, а тоскую об утраченной возможности действовать, оплакиваю в себе одного из последних горячих поклонников наших богов, одного из преданнейших слуг славного Рима!
Он опять изнемог и тяжело опустил голову на подушку.
— Да, твоя правда, — сумрачно заговорил Селин, — прежних римлян уже нет. А если и есть, то мало.
— Да едва ли когда-нибудь они и будут, — опять приподнялся Анеим. — Разве к тому оно идет? Откуда им взяться? Разве так воспитываем мы своих сыновей? Где прежняя римская семья, где юноша рос между почтенной матроной-матерью, рассказывавшей ему священные предания славной старины, и тружеником воином-отцом, воспитавшим в нем истинного мужа? Как уберечь их от всюду проникающей язвы греческих умников, христианских проповедников и соблазнов растлевающей роскоши? Я сам оставляю Риму такого сына, и это-то и отравляет последние часы моей жизни.
— Что?.. Лисимах? — вздрагивая, вскричал Селин. — Весь Рим знает его за прекрасного юношу!
— И Рим не ошибается! В нем много прекрасного, — горячо заговорил Анеим, — но… Вот видишь ли, брат, для того, чтобы ты меня понял, я должен открыть тебе тайну, которую, как позор, скрывал от всего мира, даже от тебя, моего брата, друга и единомышленника! Ты ведь помнишь жену мою, мать Лисимаха? Я много, много был виноват перед нею, а вот теперь-то, в самый час моей кончины, настало ее жестокое отмщение! Я от природы суров и всегда ставил Рим, его дела и войны первой целью моей жизни. Когда я женился, это не изменилось. Я то читал, то был в походах, то работал над государственными делами, а моя жена оставалась всегда в одиночестве, окруженная рабынями. Сначала это тяготило ее, и она жаловалась мне, но потом как бы покорилась своей участи, сама старалась оставаться дома, разлюбила пиры, зрелища и наряды. Я даже радовался этому и причины перемены видел в сыне. Ему было с год от роду, когда это случилось. Кормилица из рабынь попалась хорошая, здоровая, опрятная и честная. Моя Вицирия не расставалась с сыном и почти не выходила из его покоев. За всю жизнь, до самой ее смерти, я не имел причины сделать ей хотя бы ничтожное замечание. И только тогда, когда врачи сказали мне, что для нее уже нет спасения от смерти, что Парка[114] уже занесла свой нож над нитью ее жизни, я сразу понял, до чего дорога́ мне эта неизменно кроткая и любящая красавица-жена, до чего сжилось с нею мое суровое сердце. Я бродил вокруг ее ложа, как безумный. И вот, однажды ночью она тихо подозвала меня, велела выйти всем рабыням и, заливаясь слезами, призналась, что через год после рождения сына сделалась христианкой!
— Значит, и Лисимах… — вскричал Селин с испугом.
— Нет, — перебил его Анеим с невыразимой печалью, покачивая своей седой головою, — дослушай меня до конца. Жена призналась мне, что моя всегдашняя суровость, любовь, вера в старые порядки и глубокое презрение к христианам отнимали у нее всякую смелость открыто заговорить со мною раньше; что ради страха перед моим гневом против сына она скрыла и от него свое учение. И надо было видеть и слышать, как она терзалась и каялась в этом, как проклинала себя, что ради страха земного лишила и меня, и сына, и себя какого-то вечного блаженства. Опять скажу тебе, что нет на человеческом языке слов, чтобы высказать всю свою тогдашнюю муку душевную. Я так любил ее, я так верил ей! Даже в ту самую ночь я вошел в ее покои с таким неизобразимым чувством нежности и горя. А она обманула, опозорила меня. Она, моя жена, Вицирия Феликс — христианка! После той ночи она прожила еще двое суток, но для меня ее не стало с самой минуты ее признания. Я, шатаясь, встал с ее ложа, куда присел было, чтобы выслушать, и едва нашел силы спросить у ней, христианин ли Лисимах. Я ждал ответа, как ждет поверженный на землю гладиатор смертного удара от врага. «Нет», — ответила она так тихо, что я едва уловил моим напряженным слухом этот шепот. Я, не оглядываясь, вышел и весь остаток ночи просидел в саду над фонтаном. Страшные мысли бродили у меня в голове! К чему было жить? Разлука, стократ худшая, чем сама смерть, с любимой женой, и… позор! Она — христианка! Однако к утру дух мой прояснился. Я вспомнил, что у меня есть сын и Рим, и решился затаить в душе позор и горе, и жить для них. Необходимо было прежде всего скрыть свое отчуждение от жены, — я не хотел более ее видеть! Я позвал врачей, сказал им, что важные государственные дела отзывают меня из Рима, и велел скрыть от жены мой отъезд, а от домашних ее близкую кончину, уехал в город, где в то время жил соправитель императора, Максимиан[115]…
Анеим остановил свою речь, чтобы немного передохнуть, и снова продолжил:
— Через три дня за мною прилетел гонец. Жена скончалась. Я возвратился в Рим и схоронил ее со всем почетом, подобающим матроне нашего дома. Сын и врачи говорили мне, что она тосковала, звала меня, молила окружающих позвать к ней христианского иерея, но они не посмели впустить его в мой дом. На это я сказал, что то был или бред, или безумие от страха смерти, что христиане известные колдуны, и Вицирия, вероятно, надеялась, что они спасут ее хотя бы волшебством, и вообще запретил повторять этот вздор.
Анеим замолк и долго сидел на кровати, спустя голову на грудь. Глубоко взволнованный Селин тоже молчал. Да и чем можно было бы утешить несчастного, умирающего старика, пораженного и разбитого в самых дорогих человеческих чувствах!
— Да! Тебе так и следовало поступить! — наконец выговорил Селин.
— Иначе я тогда не мог! — просто ответил брат. — Но перед смертью, когда от человека еще на земле отступает уже многое земное, такая ночь, как моя сегодняшняя, научает многому. Тогда только, может быть, впервые в жизни можно говорить, не стыдясь ни чувств, ни вины своей, так как я теперь говорю с тобою, брат. Еще вчера я во всем винил жену, а сегодня скажу тебе: я сам виноват перед нею! Она была слишком одинока, от того и христианский яд овладел ею скорее и глубже! И вот теперь, стоя уже у дверей смерти, я боюсь, что в моей семье может повториться то же самое и опять по той же причине. Мой Лисимах останется один!
— А разве он склонен?.. — спросил было Селин.
— О, нет! От этого горя еще пощадили мою старую голову всемогущие боги! — с живостью перебил его Анеим. — Но все-таки я не спокоен. В нем много странного. После кончины матери я часто и подолгу беседовал с ним и убедился, что она честно сохранила от него свою постыдную тайну, но все-таки главного строя своих пониманий утаить она не могла и в речах его проскальзывают иногда странные мысли. Один раз он спросил меня: отчего боги перестали являться на земле и представляют людям верить в себя только за то и потому, что в храмах стоят их каменные истуканы? В другой раз, когда мы рассуждали о рабах и я привел ему мудрое правило Катона[116], что раб должен только работать или спать, он рассмеялся и спросил, где же та незримая разница между рабом и господином, по которой один должен работать больше вьючного скота и голодать, а другой только пользоваться его работой и наслаждаться. И прибавил, что есть рабы и образованные, и умнее римских граждан; есть между ними даже бывшие цари и воеводы. Ясно, что молодой ум бродит и переживает опасную пору. Чтобы его не совратили, ему нужен твердый руководитель. Я умираю, брат, и во всем Риме не знаю человека, которому так спокойно вручил бы судьбу сына, как тебе! Hе откажи мне. Сам помысли: он носит одно имя с тобою, и сами предки наши вознегодуют на нас, если и с ним случится то же, что и с матерью.
— Призываю всемогущих богов в свидетели и клянусь ду́хами предков, что стану блюсти Лисимаха, как собственного сына! — торжественно вставая со стула, проговорил Селин.
— Благодарю, брат, — сказал больной, — но это еще не все! Моя ненависть к христианам, отравившим мне счастье всей жизни, опозорившим меня, грозящим разрушением всему строю римской жизни и всюду проводящим отраву своего лжеучения, не должна умереть со мной! Кровь и огонь им! Клянись, что при первой возможности ты станешь мстить им за меня! Рано или поздно на них должно быть воздвигнуто гонение! Галерий[117] давно ненавидит их, Максимиан также. Все дело за Диоклетианом, который видит в них какую-то силу. Но, когда он приедет в Рим или ты встретишься с ним в ином месте, заговори с ним смело. Ты знаешь его властолюбие, укажи ему на их учение о равенстве и братстве всех людей и на то, чем оно грозит даже власти императоров, если к нему примкнут чернь и рабы! Случись это, и восстание гладиаторов под предводительством Спартака покажется Риму детской забавой! Тогда вечный город, владыка мира, погиб!
— Ты знаешь, брат, что я давно держусь одной с тобой мыслью, о дружбе нашей нечего и упоминать. Значит, сам поймешь, насколько я готов на эту месть и ради тебя, и ради Рима! — сказал Селин.
Больной крепко пожал руку своего младшего брата, который был несколько моложе его и который уважал в нем человека с обширным умом и непоколебимой волей, да и как главу своей фамилии. Лицо его заметно просветлело. Он опустился на подушку и продолжал, уже гораздо спокойнее:
— Hе думал я, что смерть уже так близка! Однако, с самой кончины жены меня страшило будущее одиночество Лисимаха среди всех нынешних соблазнов и с семенами мыслей, заброшенных в него безумием матери. На тебя, брат, я всегда рассчитывал, но былому влиянию женщины нужно было противопоставить женщину же. Нынешняя молодежь боится брака; страшит этих распущенных кутил священный долг отца и мужа! Чтобы его исполнить честно, нужна душевная сила, а у них вся сила существа их заключается в желудках, которые по привычке могут переваривать такое количество пищи и вина, от которого умер бы каждый нормальный человек. Лисимах мой не таков, но и в нем я не замечал наклонности к браку, об этом он никогда не думал. Я попробовал вводить его в женское общество, и с удивлением заметил, что он и с женщинами разговаривает так же спокойно, задумчиво и просто, как и с товарищами-юношами. Ты знаешь Иерию, вдову сына консула Публия? Ведь что за личность! Олицетворение красоты, ума и огня. На нее с восторгом смотрит целый Рим, — от безбородого юноши до старика ученого. Мы с ней друзья. У ней бывают припадки нестерпимой тоски, и тогда она приходит ко мне, как к другу, за опорой. Я попросил ее расшевелить моего чудака Лисимаха, но и она скоро с досадой призналась мне, что этот юноша так занят своими книгами и философией, что оторвать его мысль от них может разве одна смерть. Тогда я решился сам заняться браком сына и через этот брак ввести его в семью, которая поддержала бы в нем мои мысли и цели. Выбор мой пал на сенатора Просфора. Он не богат, хотя и живет роскошно. Но он делает это с целью поддержать сына своего Валерия в обществе самой блестящей римской молодежи, а через то ввести его потом в свиту Диоклетиана, который любит окружать себя такими юношами. Просфор хитер и жаден до почестей, но верен богам и также готов на многое ради величия Рима. Это доставило ему и благоволение императора. Дочь его, Φульвия — истинная древняя римлянка, гордая, пылкая красавица, мужественная и твердая. Я ввел к ним в дом Лисимаха и заметил, что он был поражен ею. Это не был восторг влюбленного юноши, но какое-то увлечение сильной натурой. Он часто подолгу засматривался на нее и заслушивался ее пылкими речами. Я заговорил с ним серьезно о браке с Φульвией, и когда он возразил мне, что любви к ней не чувствует, а что она скорее удивляет и ослепляет, а отчасти даже отталкивает его своей жесткой энергией, я прямо и твердо объявил ему, что лучшей девушки для него нет в Риме и что я приказываю ему жениться на ней. Лисимах уродился не в меня, в него перелилась вся кротость и покорность матери. Ни разу в жизни я не слышал от него ни малейшего возражения. Так покорился он и на этот раз. Я говорил с Просфором и он с радостью принял мое предложение. Теперь Лисимах каждый день бывает у Φульвии, часто беседует с Просфором и Валерием и, не застигни меня болезнь, в следующем месяце я ввел бы Φульвию в наш дом хозяйкой. Прошу тебя, брат, как только окончится необходимое время после моего погребения, озаботься ускорить этот брак.
Последняя речь Анеима, видимо, встревожила Селина, но возражать умирающему было бы жестоко, тем более что Просфор уже знал его планы, и старики обменялись обещаниями. Селин отвернулся, чтобы скрыть выражение своего лица и повторил, что во всем станет следовать воле брата. Беседа продолжалась еще довольно долго, но больной был, видимо, утомлен, по временам заставлял подолгу ждать ответа, иногда забывался и, наконец, задремал.
Было около полудня, когда Селин вышел от брата. Лисимах возвратился и занял его место у постели отца. Улицы к тому времени уже пустели, и, когда носилки старого оптимата остановились у его дома, в городе воцарилась такая тишина, какой не бывает в современных нам городах даже в самую глухую полночь. Солнце заливало город яркими жгучими лучами света, двухмиллионное население Рима перебывало в банях и съело свой второй завтрак; лавки, храмы и дома заперлись и на улицах не осталось ни души. Наступил час сиесты (послеобеденный сон — ред.) — час общего отдыха.
Глава II. Один
Через два дня на фронтоне дома Анеима Φеликса появился зловещий кипарисовый куст. Это было знаком, что хозяин скончался и посторонний не должен входить, чтобы не оскверниться.
Пусто и неприятно казалось Лисимаху в родительском доме. Безучастно бродил он по комнатам, пытался убить тоску чтением любимых книг или гимнастикой в одной из комнат бани, но ничто не могло заглушить гнетущего горя. Только шесть лет прошло со смерти матери, теперь не стало и отца, и он один в мире, в котором любит всех, но уже ни в ком не встретит ни той беспредельной нежности, с которой любила его мать, ни той суровой, но постоянной и зоркой заботливости, с которой относился к нему отец.
Дядя… Но разве может суровый, одинокий старик, погруженный в государственные дела, понять потребности несколько мечтательного юноши. Φульвия, да, она чудная девушка, она будущая жена его, много счастья обещает ему брак с ней, но сколько в ней гордости, пылкости, нежелания глубоко вдуматься в каждую вещь и уже потом произнести свое суждение! Возможна ли с ней, хотя бы в будущем, одна из тех тихих, задушевных бесед, какие вел он с матерью? Юноша-сын, возвращаясь из школы ритора[118], часто и подолгу беседовал с нею о только что слышанном от учителя, или с детской невинностью рассказывал ей о том, кому достались розги в классе, или о том, что поссорились двое, а иногда несколько товарищей. Она всегда выслушивала его с живым участием, затем начинала разбирать рассказанное, — и сколько беспредельной доброты и миролюбия было в ее речах! Даже тогда, когда он говорил ей о несносных и не всегда благовидных шалостях Валерия Просфора или о совсем уже бесчестных поступках своего друга, она умела отнестись к ним с таким всепрощением, хотя и осуждала сам поступок, что Лисимах всегда выходил от нее просветленный и примиренный.
Да, она, видимо, хотела, чтобы он любил и мир, и человека; и он любил их, но тем сильнее чувствовал свое одиночество среди богатого, такого холодного и себялюбивого, общества. Размышляя о матери, он бессознательно забрел в ее комнату и вдруг вспомнил, что с самого дня ее кончины отец ни разу не заглядывал сюда, да и сам он попал в нее с тех пор чуть ли не в первый раз. Все было здесь так же, как при ней: просто до бедности и опрятно до изящества. Стены без фресок и лепной работы, стулья и столы из простого дерева, нигде ни одной статуэтки или безделушки, и только в темном углу на маленьком столике, покрытом белою скатертью, стоял роскошный, литой, серебряный ларец с дивной резьбой, изображавшей цветы и виноградные кисти. Лисимаха заинтересовало, что могла хранить там мать. Он вспомнил, что и во время своей предсмертной болезни она часто требовала, чтобы этот ларец ставили на ночь возле ее кровати, но ни при ком никогда его не открывала. Он подошел и раскрыл крышку. В ларце лежало несколько свитков, тщательно обернутых в пергамент, на котором четко и красиво было выведено заглавие: «Евангелие».
— Благая весть! — перевел он с греческого и развернул свиток, интересуясь содержанием сочинения.
Текст был написан на прекрасном финикийском папирусе в десять дюймов (дюйм — 2,54 см., — ред.) ширины, почерк переписчика знакомый. Перед ним вдруг воскресла одна из сцен его детства. Они шли с матерью по улице, охраняемые рабами. Вдруг где-то впереди заслышался злобный крик, за ним стон и рыдания. Вицирия бессознательно схватила сына за руку и прибавила шагу. Скоро они очутились перед лавкой продавца рабов. Купец держал на веревке исхудалого, слабого старика и нещадно бил его ременной плетью. Несчастный старец с почтенным благообразным лицом корчился и извивался от нестерпимой боли и, наконец, упал на землю.
— Упрямься еще, лукавая собака! — яростно кричал купец, беспощадно дергая веревку. — Что же, я затем и купил тебя, чтобы даром набивать твои гнусные потроха хорошим хлебом? Ну, шевелись! В дорогу!
— Да что на него смотреть? — прибавил он, обращаясь к стоявшему возле него человеку, — бери за веревку и тащи! Надоест ему пахать землю носом, — встанет и пойдет!
Раб-фригиец, пришедший покупать старика, что-то сказал двум дюжим рабам-германцам, и те дружно ухватились, было, за веревку.
— Молю тебя! — закричал старик, — оставь меня в Риме! Какой я земледелец или землекоп! А здесь, в Риме, я отработаю.
Германцы двинулись и потащили его.
— Стойте! — вдруг вскрикнула Вицирия и велела своему рабу подозвать купца и покупателя, переговорила с ними и пошла домой.
Старика тотчас же спустили с веревки, и он, рыдая то ли от боли, то ли от благодарности, поплелся за ними. Оказалось, что он был родом грек и человек образованный. Когда он попал в плен, а потом в рабство, его купил один из богатейших книгопродавцов Рима, и много лет он прослужил у него переписчиком. Однажды он встретил на улице свою дочь. Она была тоже в рабстве, замужем за рабом и имела уже троих детей. Эти малютки и дочь стали отрадой разбитой жизни старика. Каждую свободную минуту он проводил с ними и почти не тяготился своей труженической жизнью. Но горе и годы брали свое, — зрение слабело, рука дрожала, а римские переписчики-рабы должны были писать для своих владык-книгопродавцов так же быстро, как наши стенографы[119]. В рукописях старика Иоанна стали появляться ошибки и неточности. Хозяин, чтобы не портить репутацию фирмы и не кормить лишнего рта, продал его за ничтожную цену. Между тем управляющий фамилией рустика[120] одного из богачей уморил на тяжелой работе несколько человек и, боясь ответственности перед господином, хотел заменить их другими, а так как старики были дешевле молодых, то Иоанн был для него находкой. Расставаясь с Римом, несчастный шел на тяжкую, непривычную работу и покидал навсегда все, что было дорого его измученному старческому сердцу.
Вицирия его купила и тем спасла его. С тех пор он стал принадлежать к фамилии урбана, то есть к штату городских рабов оптимата Анеима Феликса и, по приказанию госпожи, занимался перепискою книг — как для городской библиотеки, так и для той, которая хранилась на вилле. Здесь его не погоняли, не торопили, и, вдохновленный глубокой благодарностью, труженик вел свое дело четко, изящно, превосходно. Он же был и первым учителем Лисимаха в искусстве письма.
Ученик узнал почерк всегда кроткого, веселого и ласкового учителя и в душе его шевельнулось чувство умиления. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас… (Мф.11:28 — ред.), — прочел он на случайно развернувшейся странице.
Только что роившиеся в голове воспоминания о матери, утомление и горе последних бессонных ночей, сознание присутствия в доме таинственной и страшной смерти, — все это вместе породило в душе Лисимаха какую-то особую чуткость и впечатлительность, а благой призыв неизвестного автора приковал внимание и каким-то успокоительным бальзамом отозвался в сердце. Не отрывая взора от раскрытой страницы, он дошел до ближайшего стула у окна, сел и стал читать об Иисусе! Какое сходство с речами матери! Как странно звучало все, здесь сказанное, для сына сурового Анеима Феликса — для юноши, ум которого был преисполнен учением стоиков[121], циников[122], эпикурейцев[123], неоплатоников[124] и хитросплетениями софистов[125] и риторов[126].
Лисимах, вопреки вкусам тогдашней римской молодежи, любил уединение, много читал и размышлял, часто посещал места, где философы и риторы говорили речи и поучали своих последователей. Словом, юноша отличался тем пытливым складом ума, который вечно стремился в погоню за истиной. Но никогда, даже от матери и Иоанна, Лисимах не слыхал ничего столь ясного, поэтического и возвышенного, как слова этой таинственной книги!
Он перестал читать только тогда, когда в комнате окончательно стемнело и сквозь высокое и узкое оконце прорывался лишь полусвет коротких южных сумерек.
Лисимах свернул свиток, подошел к ларцу и стал выбирать оттуда остальные… На самом дне резко, определенными чертами блестел в полумраке гладкий, серебряный крест. «Неужели мать была христианка и читала эти странные книги не только из женского любопытства?! — мелькнуло у него в голове. — Позор!»
Он схватил крест, зажал в руке, положил свитки обратно в ларец и быстро вышел. Иоанн был еще жив, хотя и совершенно ослеп, и можно было допытаться правды у него! Он позвал раба-смотрителя и велел привести старика к себе в комнату, но тот ответил, что слепой отправился к дочери на всю ночь…
Тяжело прошла и эта ночь для Лисимаха под гнетом неразрешимых сомнений, тревог и воспоминаний.
Глава III. Похороны
На другой день, с трех часов утра, на улицах Рима расхаживал глашатай и громко повторял:
— Гражданин, воин и магистрат[127] Анеим Феликс скончался. Если кто хочет проводить Анеима, то час настанет после сиесты. Его сегодня вынесут из дома!
И действительно, как только Рим пробудился после своего полуденного отдыха, из дома Анеима потянулась длинная процессия. Впереди выступали трубачи, барабанщики и флейтщики, наигрывая печальный, душу раздирающий мотив; за ними толпились и искусственно рыдали, и причитали наемные плакальщицы; но следом за ними, как бы для смягчения слишком потрясающего впечатления, шли актеры, распевали выборочные места из поэм, острили и шутили. Ближе к носилкам умершего несли его собственные трофеи, а дальше уже толпились родственники, друзья, знакомые, рабы. Все были в трауре, то есть мужчины с покрытыми головами, а женщины без покрывал, что в другое время считалось бы верхом неприличия.
Медленно двигавшаяся процессия дошла до форума[128] и остановилась. Тело Анеима поставили перед рострой[129]; носилки, на которых оно лежало, окружили масками и статуями предков, и трофеями. Жрец прочел установленные гимны. Кругом все смолкло. К праху тихо подошел Лисимах. Сначала несмело и волнуясь, потом все более и более воодушевляясь, произнес он надгробное похвальное слово отцу. Он говорил о его уме, непоколебимой воле и неустанных трудах на пользу и славу Рима, о его семейных добродетелях как мужа и отца. В конце речи звучный голос юноши дрогнул, на прекрасных, глубоких глазах сверкнули слезы. Многие женщины плакали, остальные были искренне печальны и сочувственно, с глубокой жалостью смотрели на осиротевшего юношу.
После речи Лисимаха процессия снова двинулась в путь. Скоро она очутилась за городом, на дороге, по обеим сторонам которой тянулся ряд самых разнообразных мавзолеев, от простых колонн с шаром и бюстом на вершине до довольно больших храмов. Тихо протянулась она и мимо мавзолея Φеликсов и остановилась только близ кладбищенской стены, где был уже готов костер. Либитинарии[130] положили на него тело, рабы стали подносить господам своим венки, цветы и гирлянды, и те, прощаясь с усопшим, осыпали ими костер. Самые близкие друзья и родственники лили туда же благовонные масла.
— Мужайся и исполни долг свой! — сурово сказал Селин Лисимаху, который в каком-то отупении отчаянно смотрел, как жрец окропил прах священною водой и последний спустился с костра.
Старик Поликарп подал Лисимаху зажженный факел и надернул закрывавший голову плащ еще больше на лицо. Лисимах подошел к костру, но не выдержал, бросил на него факел, зарыдал и отбежал в сторону. Плакальщицы завыли с удвоенным усердием, флейтщики вторили им печальным, медленным мотивом. Едва заметные при свете солнца струйки и языки огня, сначала как бы крадучись, начали облизывать поленья костра, затем соединились и охватили его дружным пламенем, в котором исчезло и тело усопшего. Кругом повалил густой, то смрадный, то ароматический, дым. Лисимах стоял поодаль и рыдал безутешно.
Глава IV. Похоронный обед
Погруженный в свою глубокую печаль, Лисимах и не заметил, как к нему подошла Иерия и тихо проговорила:
— Да, понимаю я тебя. Столько силы, ума и любви к тебе переселилось теперь в царство теней! Но ты все-таки еще не один, благородный Лисимах, и если дружба женщины может тебя утешить, я предлагаю тебе свою.
— Благодарю благородную Иерию за то, что она поспешила исполнить мои обязанности! — прозвучал позади их холодный и насмешливый голос Φульвии. — Но для будущей жены печаль мужа священна, она не должна даже дерзнуть видеть его слабость, а тем меньше может взять на себя то, что должна сделать его собственная сила и мужество. Только поэтому я и не подошла к тебе, Лисимах, хотя и видела, что ты предаешься горести как женщина, и сердце мое сжималось от жалости.
Юноша не заметил ядовитой насмешки этих слов.
— Есть печали, которых нечего стыдиться даже воину, — ответил он просто. — Я любил отца, а теперь он отнят у меня навеки и никакие жертвы, никакие подвиги не возвратят мне его любви и жизни. А тебя, благородная Иерия, я горячо благодарю за доброе слово, которое ты сказала мне в самую горестную минуту моей жизни. Простите меня, если я оставлю вас и пойду взглянуть, приготовили ли место для урны с прахом моего отца в нашем мавзолее.
Он наклонил свою покрытую плащом голову, красиво подобрал складки тоги и пошел к фамильной усыпальнице Φеликсов. Очутившись один в полутемном пространстве склепа, Лисимах уже не сдерживался. Он подошел к урне с прахом матери, прислонился к холодному полированному камню и долго плакал навзрыд.
— Полно горевать, юный господин, — проговорил за ним тихий старческий голос. — Беспредельно благ Господь! Сказано: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Я успокою вас! Отец твой трудился всю жизнь, а за последние годы у него было на душе тяжелое горе. Страдал же он по заблуждению, а не по злобе. Пути Господни неисповедимы! Кто знает, не зачтет ли Он того земного горя в искупление и не поселит ли отлетевший дух отца твоего в лучшем мире, где нет ни болезней, ни печалей.
Лисимах вздрогнул.
Это были опять те же слова, которые однажды уже поразили и успокоили его страждущую душу!
Перед ним стоял слепой Поликарп. Он пришел в последний раз поклониться праху того, кого считал своим благодетелем.
— Ты христианин, Поликарп! — вскричал юноша. — Я читал одну из переписанных тобою книг. Она называется «Евангелие». Там много, много странного! Я искал тебя, чтобы ты объяснил мне, но тебя не было. Сегодня вечером после похоронного обеда не уходи из дома, я хочу поговорить с тобою.
— Благ и милостив Господь и пути Его неисповедимы, — повторил старик, — и, может быть, через ничтожного и недостойного раба Своего Он приготовит новый светильник веры для церкви Своей. Хорошо, господин, я буду ждать тебя, а теперь иди, костер отца твоего уже потух.
Когда Лисимах возвратился, огня действительно уже не было. Либитинарии, с благословения жреца, собирали пепел и смешивали его с вином, потом отжали и высушили его в куске ткани и положили в великолепную художественной работы урну. Лисимах сам отнес ее в сопровождении друзей и родных в склеп и, при рыданиях плакальщиц, поставил в заранее приготовленную нишу. После этого все присутствовавшие еще раз простились с прахом и вышли из усыпальницы.
Селин и Лисимах подходили к знатнейшим из присутствовавших на похоронах и приглашали их отпраздновать тризну по умершем Анеиме в его дом.
— А боем гладиаторов ты нас угостишь, благородный Селин? — как-то уж чересчур развязно и весело спросил молодой красавец и повеса Валерий Просфор.
— Мой брат был воин и богатый человек, и на похоронах ничто не может быть упущено! — холодно ответил Селин и отвернулся.
Между тем обряд погребения был окончен. Рабы с носилками, один за другим, подходили к господам, усаживали их и быстро уносили по направлению к городу. Все, бывшие на похоронах, собрались в доме умершего Анеима. Давно не было в нем такого многочисленного и блестящего собрания. Огромные столы ломились под тяжестью драгоценной золотой и серебряной посуды, канделябр, курильниц и амфор художественной работы. Десятки рабов стройно, ловко и беззвучно исполняли свое дело. В столовой играли музыканты.
Сенатор Просфор, Φульвия и Валерий с затаенной радостью поглядывали на великолепие, которое считали как бы уже своею собственностью, но сам законный обладатель его был грустен и рассеян.
В душе Лисимаха было пусто, холодно и больно. Он чувствовал, что все собравшиеся здесь люди чужды и далеки от него, а между тем наболевшее сердце так неотступно требовало возможности высказаться, услышать ободряющее слово дружбы и утешения, а из головы не выходила мысль о предстоящей беседе с Поликарпом. Его непреодолимо влекло к странным мыслям, которые он прочел в одном из свитков покойной матери и которые слышал от старого раба-учителя, и в то же время он никак не мог отделаться от отвращения, почти ужаса, который внушало ему все, что носило таинственное имя христианина.
В то время христиане в римском мире жили уже довольно открыто, имели свои храмы, своих епископов, но никто из много учившегося и читавшего общества не давал себе труда вникнуть в суть и глубину этого учения. Крест, этот символ позорнейшей казни, и смутные слухи о каком-то казненном иудейском маге внушали к нему отвращение и продолжали служить исходным пунктом всевозможных сказок и обвинений против христианской общины, несмотря ни на что продолжавшей свое тихое, но неустанное развитие среди шума и блеска вечного города.
«Что же это за люди, о которых говорится столько ужасного и к которым, тем не менее, принадлежала его кроткая, умная мать, и в книгах которых говорится только о любви и всепрощении?» — беспрестанно спрашивал себя Лисимах. Речи гостей, льстиво и ласково обращенные к юному богачу, отвлекали его от волновавших его мыслей и были для него истинной мукой. Он отвечал им то слишком коротко и сухо, то вовсе невпопад, сознавал это и еще больше терялся от этого сознания.
Наступил уже вечер, когда гости, выпившие достаточное количество старого фалернского[131] и вдоволь наговорившись и наслушавшись застольных речей, без которых не обходилось ни одно римское пиршество, вспомнили о гладиаторах. Селин Феликс заметил рассеянность племянника и сам подал знак рабу-управителю.
— Да… — важно говорил между тем седой начальник преторианцев[132], возлежавший на пурпурном ложе у левого угла стола, что считалось особым почетом. — Да, для Рима опять настает блестящая пора. Все внешние враги усмирены. Персы, багоуды[133], египтяне, — все снова преклонились пред непобедимым орлом римских легионов. Границы государства определены и обозначены надежными крепостями. Значит, соправителям или, по крайней мере, самому солнцеподобному цезарю Диоклетиану не для чего уже жить по окраинам, и он, хоть на время, возвратится в древнюю столицу. Снова начнутся в Риме прежние увеселения.
— А богоподобный и лучезарный Диоклетиан, друг и любимец римских богов, умеет чествовать своих небесных покровителей, умеет воевать, умеет и пировать! — подхватил великий жрец, старец с длинной седой бородой и задумчивыми черными глазами. — Сегодня утром я получил письмо из Антиохии (соврем. Турция) от жреца бога Зевса. Великий Диоклетиан достойным себя образом отпраздновал водворение мира в государстве. В Антиохии происходило олимпийское торжество. Сам повелитель наш явился перед народом в виде Зевса-громовержца в венце из золота и драгоценных камней, в белых сандалиях и белой тунике, с драгоценным эбеновым жезлом[134] в руках. Только тога на нем была не белая, как у бога, а пурпурная. Да так оно и подобает. Зевс — бог, а Диоклетиан — и бог и царь!
«А что же по-твоему больше?» — чуть не спросил Лисимах, по которому пробежала дрожь отвращения при этой льстивой речи человека, на обязанности которого, прежде всего, лежало охранять достоинство богов.
— Народ и жрецы приносили ему жертвы, — продолжал жрец, — а затем происходили игры, беспримерно роскошные и великолепные.
— Ах, как жаль, что это было не в Риме! — вскричала Φульвия. — Пора бы лучезарному повелителю осветить и нас своим присутствием.
— Всему свое время, госпожа Φульвия. Премудрые боги правят и вселенной, и душою своего избранника и друга по своему усмотрению, но не упускают ничего. Да вот тебе живой пример. До самых этих пор наш священный цезарь почему-то щадил безобразную и опасную секту христиан. Немало говорил ему о ней и доблестный Август Галерий и мать его, и даже жрецы, с которыми он всегда советуется, но он все еще отстаивал их. И вот только теперь, на Антиохийском празднике, прозрел он истину. Христиане не признают его не только богом, но даже отказались повиноваться ему, как цезарю. Когда они увидели его в одежде Зевса, то в толпе послышались насмешки, а солдаты-христиане открыто говорили, что не хотят больше служить ему.
«Ужасно! Ужасно! Неслыханная дерзость! Это какие-то бесоодержимые! На такое дело может решиться только колдун, который не боится ни тюрьмы, ни мук, потому что все отведет от себя нечестивыми волхвованиями! — наперерыв заговорили пораженные гости, напряженно слушавшие рассказ жреца. — Ну, что же цезарь[135]?»
— Да, мера терпения богов и лучезарного и богоподобного Диоклетиана переполнилась, — ответил жрец. — Он в тот же вечер издал эдикт (указ — ред.), которым повелевается все храмы христиан и книги их предать огню; всех, находящихся на государственной службе христиан прогнать; для христиан-рабов преградить всякую возможность к освобождению, а всех христиан вообще лишить покровительства законов. Таким образом, после усмирения врагов внешних, богоподобный цезарь решился обратить свою карающую десницу и на врага внутреннего, который и опасен, и отвратителен!
— Но что делают христиане отвратительного и вредного? — спросила Иерия.
— Как, благородная Иерия, разве тебе мало уже того, что я сказал тебе? — с упреком и ловко подделанным ужасом вскричал великий жрец. — Они не признают наших богов! И даже богоравного Диоклетиана отказались чествовать поклонением и жертвами! Они проповедуют равенство раба, господина и цезаря, а это грозит разрушением государству! На своих омерзительных богослужениях они пьют свежую человеческую кровь, которую выпускают из невинных младенцев! Они завлекают в свои сети легковерных богачей, обирают их и делают нищими, а сами проживают их деньги в постыдной праздности. Наконец, они знаются с нечистыми духами, которых вызывают из недр преисподней и силою которых делают вещи, недоступные даже величайшим магам Египта. Разве мало таких ужасов благородные римляне видели во времена гонений, воздвигнутых на христиан Hероном[136], Декием Траяном[137] и другими императорами!
— Да, и это совершенно верно! — подхватил один из гостей, — вот что рассказывал мне мой дед…
И, один за другим, полились рассказы, один нелепее и неправдоподобнее другого. Горячая вера христиан, их терпение, выносливость, добродушие, восторженность и пыл, который может внушить только истина, — все перетолковывалось и обращалось в какой-то хаос рассказов о никем не понятых и невозможных сношениях со злобными и лукавыми духами преисподней. Рассказчики, видимо, старались перещеголять друг друга в неправдоподобии и ужасах. Женщины слушали их, затаив дыхание, и холодная дрожь ужаса и отвращения пробегала по всему собранию.
Но внимательнее и напряженнее всех слушал Лисимах. Прочитанная им часть Евангелия шла вразрез со всем, что говорилось о христианах. Xристос учил любви, самоотречению, готовности платить добром за зло. Но откуда же возникли все эти толки и обвинения, которые произносятся со слов очевидцев и с такой уверенностью? Или последователи не поняли Учителя и извратили Его высокое учение в какой-то безобразный и возмутительный культ, полный изуверства? Голова юноши горела от безысходного брожения мыслей и догадок. Он едва сдерживал желание пойти и сейчас же потребовать объяснений от Поликарпа. Но его сковывали, с одной стороны, приличия, обязывавшие хозяина дома не покидать гостей, с другой, — опасение выдать, что престарелый и кроткий учитель его принадлежит к ненавистной для всех секте.
Лисимах еле скрыл свое волнение и продолжал сидеть и слушать речи воодушевившихся вином и ненавистью к бедным христианам гостей.
Глава V. Бой гладиаторов
Вошел домоправитель и доложил, что в атриуме[138] ждут гладиаторы. Мужчины поднялись со своих лож, женщины встали с кресел и шумною толпою пошли завершать вечер бесчеловечной забавой, — созерцать, как беспощадно и искусно убивают друг друга ни в чем не повинные люди.
В том самом атриуме, где некогда уединенно проводила время кроткая и задумчивая мать Лисимаха, ярко горели тысячи свечей в канделябрах, шумно лились речи распаленных вином мужчин и заинтересованных предстоящим кровавым зрелищем женщин. Перед несколькими нишами, из которых мрачно смотрели статуи умерших предков, стояло восемнадцать человек гладиаторов. Все они были в масках, чтобы во время предстоящих страданий не оскорбить зрителей выражением боли и горя на лице. На девяти из них были голубые короткие штаны, на остальных девяти — зеленые. Это обозначало лагери противников. Ноги и стан были обнажены, на левой руке щит, в правой меч. Несмотря на то, что лица были скрыты, по ловкости движений, мужественному развитию мускулов и цвету волос нетрудно было догадаться, что все это были люди, пережившие лучшую пору развития жизненных сил. Но никому из присутствующих не пришло в голову, что у каждого из них есть сердце, обливающееся кровью при мысли о покинутой на далекой родине семье, есть мечта о свободе, потребность жить и право наслаждаться и светом солнца, и пением птицы, и прохладою ночи, и лаской любимого человека.
Римляне не признавали в своих пленниках человека, — для них это были «существа», самой природой предназначенные или работать на них безустанно, или безропотно погибать для их кровавой потехи.
— В чьей школе купил ты таких молодцов, благородный Лисимах? — спросил начальник преторианцев.
— Признаюсь тебе, я позабыл распорядиться этим, — ответил юноша. — Купил их дядя.
— Они из школы консула, — сказал Селин, не дожидаясь повторения вопроса. — У него теперь лучшая школа в Риме, и он получает с нее огромные доходы. Его агенты вечно толпятся на коронной (sub corona) распродаже пленных рабов и шныряют по всем фамильным угодиям наших землевладельцев, чтобы скупить все, что увидят лучшего, красивого и сильного из этого товара. Да и учителей он достал превосходных!
— Да и надо отдать справедливость благородному консулу, он доставил тебе товар просто замечательный! — вмешалась Φульвия. — Вон, взгляни на того, который стоит первый со стороны зеленых. Ведь это истинный Пентафл[139]! Что за мускулы! Что за могучая стройность ноги! Какая грудь! Настоящий Антиной[140]! Это, наверное, грек или вифинец[141]. Германцы бывают сильнее, но они всегда шире костью.
— О! Да ты знаток, прекрасная Φульвия! — весело вскричал Люций. — Ты истинная римлянка благородной крови!
— Да, я не пропускаю ни одного зрелища! — гордо ответила девушка. — Кроме того, у нас в поместье есть своя небольшая школа гладиаторов, и я от скуки часто ходила смотреть на их упражнения.
Лисимах невольно взглянул на гладиатора, о котором говорила его нареченная невеста. То был красавец огромного роста, стройный, гибкий и сильный, как Антиной. Он как-то торжественно-печально взглянул на темное звездное небо, видневшееся сквозь четвероугольник имплювиума[142], перекрестился и крепко пожал руку стоявшему возле него товарищу. Прекрасные, черные глаза смотрели из-под маски печально, серьезно, но кротко.
«И этот — христианин! — сверкнуло в голове Лисимаха. — Верно, есть на родине семья, жена, дети! А вот сейчас он должен умереть. И как он просто и спокойно относится к смерти! Так сумел бы держать себя разве древний Муций Сцевола[143], а у нашего брата, современного римлянина, не хватило бы на это силы духа! Какой красавец! Какая радужная судьба могла бы выпасть ему на долю, а теперь — тьма, ужас, царство Прозерпины[144]!» У Лисимаха начинала кружиться голова. С детства привык он и к положению рабов, и к гладиаторам, и кровавым зрелищам цирков, но с некоторых пор весь этот привычный мир стал казаться ему не тем, чем бы ему следовало быть: беспрестанно зарождались в его уме вопросы, не находившие ответа, клокотали в груди чувства, которых он не сумел бы объяснить, и он томился в безысходной тоске и бесплодной борьбе мыслей, а в эту минуту один из этих вопросов принимал весьма рельефный, осязательный, кровавый оборот. Было мгновение, когда он готов был броситься между гладиаторами, растолкать их и громко крикнуть жестоким зрителям:
«Оставьте, уйдите! Где у вас право терзать и убивать себе подобных ради минутной забавы?»
Но взор его вдруг обратился на величавую и суровую фигуру дяди, так напоминающую покойного отца Лисимаха — Анеима. Возле него гордо и холодно, глядя на борьбу, сидела Φульвия, за ними стояли Люций и Валерий со своими насмешливыми лицами и острыми языками. И они, и все гости жадно следили за зрелищем боя, и Лисимаху вдруг стало страшно вооружить против себя все это собрание. Его пугал и гнев дяди, и насмешки Люция и Валерия, и холодная язвительность Φульвии, и ропот негодования гостей, который бы неминуемо вызвала его выходка. Страх, застенчивость и слабость взяли верх над благородным порывом. С минуту он еще смотрел на борьбу, видел, как пал красавец-гладиатор, тяжело вздохнул и, почти шатаясь, побрел в один из боковых покоев, расположенных вокруг атриума. Там было темно и только сквозь окно врывался бледный луч луны. Лисимах прислонился головой к свинцовому переплету и долго, с мучительным вопросом в душе и взоре, смотрел в беспредельную глубь темного неба.
— Нет, я положительно состарилась! — вдруг заговорил возле него мягкий голос Иерии. — С некоторых пор весь мир начинается мне казаться наизнанку! И трудно, и стыдно признаться, чего я только не делала, чтобы создать себе хотя один час веселья, но мною окончательно овладела та пустая тоска, от которой иногда избавлял меня твой отец своей мудрой беседой! Вот и теперь я ушла даже от зрелища боя: он навел на меня грусть и ужас. Но что с тобою, благородный Лисимах? Как ты бледен…
— Я думал о том, где наше право убивать этих людей ради потехи? — негромко ответил юноша, медленно отрываясь от тяжелого раздумья. — Неужели боги только для того и создали их, дали им способность мыслить, чувствовать, желать и страдать, чтобы такое сложное и прекрасное творение, как человек, мгновенно погибал для забавы своего же ближнего! Здесь есть какая-то странная и ужасная ошибка!
— Да, мы странный народ! — подхватила Иерия. — Губим человека и дорожим его подобием, — статуями.
— Но ведь статуи изображают или богов, или великих предков, — как-то вяло возразил Лисимах. — А другие из них, хоть и не столь священного значения, но стоили труда художника…
— А как ты думаешь, разве вырастить и обучить такого великана-гладиатора не стоило труда его матери? — произнесла Иерия, опускаясь на стоявшее у окна кресло. — Что же касается богов, в этом я могу признаться только тебе, благородный Лисимах, — для меня давно уже утратила свое божественное значение и эта вечно юная старушка Венера[145], и бурливый, но бестолковый Марс[146], и вороватый Гермес[147]. Мне часто хочется склонить и вылить свою душу перед чем-нибудь великим,
всесильным и благим, чему бы я могла смело и покорно вверить себя и свои скорби. Но наши боги… Нет, мне нужен бог повыше их!
Она нервно засмеялась, точно ей было тяжело выговорить это признание и в то же время хотелось смягчить шуткой эту странность.
— То, до чего дошли великие умы путем логики, достигнуто женщиной, силою ее чувства! — задумчиво, но ласково проговорил Лисимах. — Hе этим ли способом и раскрывается истина? В свою очередь, признаюсь тебе, прекрасная Иерия, что и меня волнуют те же вопросы, терзает то же брожение. И мы не первые с тобою останавливаемся на мысли о существовании единого Бога-Творца, по мысли Которого явилась и зиждется вселенная. Великие философы Платон[148] и Сократ[149]…
— Да, знаю! — перебила его Иерия. — Но вот видишь ли, благородный Лисимах, я женщина со слабым разумом и слабым же воображением. Мне недостаточно только предчувствовать, чуять существование такого бога, мне нужна более осязательная форма, я хочу знать свойства божества, перед которым я стану преклоняться.
— Свойства… — задумчиво повторил Лисимах и тихо сел у ног Иерии. — Мне кажется, что такое божество должно заключать в себе все добродетели и доблести наших богов и ни одного из их пороков. А что боги наши порочны…
— Об этом не стал бы говорить ни один благоразумный римлянин. И в особенности в теперешнее время! — резко перебила его Φульвия, стройная фигура которой вдруг появилась в освещенной амбразуре двери, от которой она отвела ковровую занавеску.
— Бой окончен, прекрасная Иерия, и следы его убраны, — продолжала она, — так что теперь мы можем выйти из тьмы и уединения, которые так любезно разделял с тобою благородный Лисимах. Любвеобильное сердце не будет поражено непосильным для тебя зрелищем крови. А гости твои собираются по домам, благородный Лисимах, и всюду ищут хозяина, чтобы проститься с ним и поблагодарить его за все его внимание.
Каждое слово этой девушки было замаскированной обидой. Лисимах тяжело вздохнул, но встал, не возражая ни слова.
— Какая легкая жизнь предстоит тебе, благородный Лисимах, с такой женой, как прекрасная Φульвия! — в свою очередь съязвила Иерия. — Она сумеет уследить за каждым твоим шагом и не допустить твою волю освободить тебя от какой-либо из твоих обязанностей!
— Да, слишком большая воля никого до добра не доводит! — подхватила с усмешкой Φульвия. — Особенно это заметно на женщинах. Когда у них нет мужа, руководителя в исполнении обязанностей, они совершенно теряются, делают от скуки ряд глупостей и становятся посмешищем для всех благоразумных людей… Иерия не успела ответить на дерзко направленную против нее речь Φульвии, потому что они вошли уже в атриум, и гости, прощаясь между собою и с Лисимахом, окружили их широким кольцом. Φульвия уехала с отцом, следом за ними вышли великий жрец и начальник преторианцев.
— Да! Хорошая вещь эти гладиаторские игры! — говорил старый воин. — Они одни да хорошее фалернское вино только и способны заставить скорее биться сердце и шире дышать грудь!
— Скоро насмотримся и не на такие! — подхватил великий жрец. — Мне пишут из Антиохии, что повелитель собирается сюда, в Рим. Это, разумеется, поведет за собою ряд торжеств, а в то же время можно будет подогреть его ненависть против нечестивых христиан. Они доставят славный материал для забав в цирк!
— Едва ли решится повелитель открыть на них гонение вроде Нероновского, — возразил преторианец. — Они, говорят, хорошие плательщики податей, а наша казна в деньгах нуждается.
— О, ты не знаешь характера Диоклетиана! — вскричал великий жрец. — Он никогда не простит сопротивления! Этот человек не задумался над тем, что Галерий ему родственник и почти ровня во власти, а когда тот проиграл первое дело с персами, заставил его всенародно идти пешком за своей колесницей, как последнего солдата! Hе простит он и христиан!
— Да, по всему видно, что мы живем перед началом великих внутренних переворотов! — согласился старый воин. — Прости, великий друг богов! Спокойной ночи!
Старые сановники пожали друг другу руки, уселись в носилки и при криках рабов, расчищающих дорогу, отправились по домам. Вскоре из дома Φеликсов последними вышли Валерий и Люций.
— Что за теленок этот Лисимах! — вскричал Валерий. — Заметил ты, что он сегодня точно пьяный, и если бы его беспрестанно не останавливала Φульвия, он наделал бы массу глупостей!
— Дивлюсь, что ты заметил только это! — сказал Люций. — А я тебе скажу, что кроткий сей сиротка глаз не спускал с Иерии, да и прекрасная вдова чувствует особенное удовольствие утешать его. Смотри, Валерий, не разлетелись бы ваши надежды в прах!
— Ну уж этому не бывать! Hе такая женщина Φульвия, чтобы выпускать жирную добычу из рук! — вскричал Валерий.
Он выпил слишком много вина и потому сам не заметил всего цинизма своих слов.
— Hе захочет она его выпустить, так его у нее вырвут! — как-то неопределенно, но твердо проговорил Валерий.
— Увидим! — ответил Люций. — Я сегодня заметил еще кое-что. Но ты теперь пьян и разговаривать с тобой об этом я не буду. Ты куда? Домой?
— Да ты уж сам не пьян ли, что, кажется, принимаешь меня за Φульвию? — раздражительно ответил Валерий. — Она девушка и должна ложиться рано, а я пойду играть! Сегодня собираются у Лукреция. Дай мне тысячу сестерций[150] на счастье, или пойдем играть вместе.
— Я зайду к Лукрецию только для того, чтобы дать тебе денег и взять расписку, а сам играть не стану. Мне нужно поговорить с отцом, — сказал Люций.
Продолжая разговаривать, они свернули за угол улицы и скоро исчезли во тьме.
Глава VI. У Поликарпа
По уходе гостей Лисимах не мог дождаться, пока слуги разойдутся на покой. Ему нетерпеливо хотелось видеть Поликарпа. Он вышел в сад и через один из боковых входов взобрался во второй деревянный этаж дома, где у римлян обыкновенно помещалась прислуга. Старик был в своей крошечной конурке, но не один. На его узком и жестком ложе лежал израненный, залитый кровью гладиатор. Поликарп, сидя возле него, держал таз с водою, осторожно, ощупью, обмывал его раны и тихо беседовал с больным, который был крайне слаб, но в памяти. Небольшой масляный светильник неровным, мерцающим светом озарял и убогую обстановку, и маститую голову старца, и мертвенно бледное красивое лицо гладиатора, и его могучую грудь, посреди которой зияла широкая рана.
— Поликарп, — тихо проговорил Лисимах, — я хочу говорить с тобой.
— Слышу голос господина моего, — ответил старик, — и должен повиноваться ему. Но как покинуть мне несчастного брата? Он изойдет кровью и отойдет в лучший мир без покаяния.
— А кто это и где он получил рану? — спросил Лисимах, входя и притворяя за собой двери, чтобы разговор их не слышали ходившие мимо рабы и рабыни, которые уже с удивлением поглядывали на господина, в такое позднее время пришедшего в помещение прислуги. — Это один из гладиаторов, которые с час тому назад забавляли своею смертью знатных гостей твоих, господин, — с горечью ответил старик. Его почли за мертвого и выбросили на улицу, чтобы потом отвезти его за город вместе с другими трупами; но я был во дворе, услышал его стон и попросил некоторых братий из христиан принести его сюда. Теперь все ушли исполнять его обязанности после пира, а я остался при нем. Ночью же, по окончании трудов своих, братья снова придут сюда, перевяжут страждущего, кто-нибудь из них сходит за пресвитером и тот уврачует душу его покаянием, святой беседой и святым таинством причащения.
— А разве, кроме тебя, между моими рабами есть еще христиане? — спросил Лисимах.
— Есть, господин, и число их возрастает почти ежедневно, — ответил старик и лицо его как бы озарилось лучом радости.
— Послушай, Поликарп, как смеешь ты вносить в дом мой отраву этого учения? — проговорил Лисимах уже гневно. — Что сказал бы на это отец мой? Как осмеливаешься ты сам явно признаваться, что принадлежишь к постыдной иудейской секте христиан?
— Грехом и позором почел бы отрицать это, господин мой! — кротко ответил старик. — Никто из нас не стыдится своей веры, а с радостью и гордостью исповедует имя Господа нашего Иисуса Христа.
— Это того иудейского мага, которого распяли на кресте при Пилате Понтийском? — упрямо, разыгрывая полное неведение и презрение, допрашивал Лисимах.
— Господин, чем послужила бы Богу человеческая наука? Разве Творцу не известны все тайны Его творения? Иисус не был магом. Он был Бог и творил чудеса, потому что только Создатель предвечных законов может изменять их. Он погиб на кресте, это правда, но…
Старик остановился, потому что из груди больного вырвался тяжелый стон, на губах показалась кровавая пена.
— Боже, Господи, прими в руки дух мой и прекрати мои страдания, телесные и душевные! — невнятно взмолился он, возводя потускневшие глаза к небу.
— Я сейчас пришлю к нему врача, лечившего моего отца, и рабыню для ухода, — сказал Лисимах. — Он христианин?
— Да, господин.
— Ну, так назначь ему сам сиделку из ваших. А что сталось с остальными гладиаторами? Я не видел конца игр. Он проговорил это, опуская глаза. Его тяготил бесстрастный взор слепого старца.
— Двое из них помилованы твоими гостями за дикую удаль и силу, они германцы. Остальные все перебиты и тела их теперь, вероятно, уже вывезены за город.
— Так я иду за врачом, а ты, когда он придет, вели кому-нибудь проводить тебя в покой моей матери, — приказал Лисимах и тихо, стараясь быть незамеченным, возвратился к себе.
Он позвал к себе врача, поручил ему не щадить ни трудов, ни издержек для спасения раненого гладиатора и прошел в комнату матери.
Четверть часа спустя туда же вошел и Поликарп. Старик низко поклонился юному господину и почтительно остановился у дверей.
— Я хочу говорить с тобой не как господин с рабом, Поликарп, но как любящий ученик с учителем, — проговорил Лисимах кротко. — Скажи, как ты, хороший, умный человек и уже не легкомысленный юноша, а старец, убеленный сединами, решился увлечься учением, от которого с отвращением сторонятся все благомыслящие люди? Слов нет, в той вашей книге, которую я нашел у матери, есть много прекрасного, но все остальное, что о вас известно, порождает ужас! Вы богохульники, колдуны и даже кровопийцы!
— Господин… — начал было Поликарп, с невозмутимой кротостью.
— Нет, дослушай меня до конца! — горячо перебил его Лисимах. — Hе пытайся подкупить меня прекрасными и благозвучными словами, за которыми все-таки кроется та же постыдная мерзость. Без причины не станет говорить весь мир.
И он с увлечением, горячась и волнуясь, точно стараясь переубедить самого себя, повторил все, что слышал о христианах и от отца, и от других, и даже в этот вечер в триклиниуме[151], и закончил вестью о том, что Диоклетиан решил поднять новое гонение, перед которым затрепещет и погибнет христианство.
Поликарп выслушал и это с прежним спокойствием.
— Гонения не устрашат нас, господин, — проговорил он. — Блажен тот, кто не соблазнится и пострадает имени Господня ради! Братья наши спокойно и радостно умирали при Нероне, Траяне и других гонителях. То же будет и теперь.
— Что же, вы все хотите умирать на крестах в подражание вашему распятому Учителю, в память Которого пьете кровь неповинных младенцев? — раздраженно спросил Лисимах, сознавая, что невозмутимое спокойствие Поликарпа приобретает на его душу все больше и больше влияния, и сердясь и ужасаясь этого обаяния.
— Нет, господин. То, что живо, умирать не хочет. Но истина имеет одно великое и ничему другому не сродное свойство: тот, кто раз узнал ее, тот уже не может отречься от нее ни ради других благ и радостей мира, ни ради всех ужасов пытки и смерти! «Все, что ложно, пройдет и исчезнет», — говорит один из великих учителей наших. Таковы ваши боги, и недалеко то время, когда о них станут вспоминать, как об одном из странных заблуждений человечества. Вера же во Христа и жизнь по заповедям Его есть истина и принесена на землю Самим Сыном Божиим, Господом Иисусом Христом! И пусть гонят, жгут, топят, терзают и убивают христиан, — истинная вера не исчезнет с лица земли, а лишь станет более открытой и быстрее охватит все человечество! A уже говорил тебе, что Xристос был не маг, не ученый, а Бог! И дивлюсь, как можешь ты, уже заглянувший в священные страницы Евангелия, повторять клеветы, распространяемые врагами христианства! Кому и чем может быть вредна религия, в основе которой лежит заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всяким помышлением твоим, а ближнего своего, как самого себя»? И вот в этой заповеди и заключается главное учение христиан и главное правило их отношения ко всем людям, — как язычникам, так и христианам. Вы говорите, что мы пьем кровь младенцев, но разве есть младенцы, которых можно резать, не причиняя им боли, не лишая их блага жизни?! Никто из нас не пожелал бы этого для себя, оттого и не сделает ближнему своему. Вы говорите, что мы не признаем ни господ, ни рабов, ни кесарей. Неправда! Мы признаем только равенство всех перед Судом Божиим, а не на земле. Любить ближнего и чтить Бога можно и сидя на троне, и исполняя тяжелейший труд раба. А этого мы только и требуем от человека, кто бы он ни был.
— Да огляди собственное хозяйство твое, благородный Лисимах. — продолжал Поликарп. — Твои рабы Эпиктет, Астион, Афанасий, Сира, Φеодосия, — все они христиане, и разве есть у тебя рабы, более преданные, более честные и трудолюбивые? Признаем и чтим мы и цезаря. Он царь наш, но не бог! Сам Сын Божий заповедал нам: «Воздайте Богу — Божие, а кесарю — кесарево!» (ср. Мф.22:21 — ред.). Так мы и поступаем. Но Диоклетиан захотел, чтобы люди поклонялись ему, как богу, и чтили статуи его. Это противно истине, противно заповедям Евангелия, и христиан не подвинет на это никакое гонение! Говорили тебе гости твои, что мы обираем богачей. Никогда и ни о чем не просим мы их, но сами они, просветясь Светом истинным и возлюбив ближнего, как самого себя, принимаются за дела благотворительности, а эти дела составляют такую возвышенную, ничем не отравимую радость, что ради продления и повторения ее они не щадят ни богатств, ни трудов своих: выкупают угнетенных рабов, призирают[152] больных и убогих, воспитывают сирот.
Ненадолго прервавшись, Поликарп вскоре продолжил свой монолог:
— У нас бывают свои собрания. Туда одинаково приходит и раб, и знатный господин. Общество верующих во Христа называем мы Церковью, а Церковь должна прежде всего исполнять заповедь Главы своей, а Он сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою и утешу вас» (ср. Мф.11:28 — ред.). Оттого каждый брат наш, приходя в собрание, высказывает все свои скорби, затруднения и сомнения, и Церковь слушает его с великим соболезнованием и тотчас принимается за посильную помощь несчастному. Между нами нет и не может быть ни злобы, ни зависти; для нас все земное: и богатства, и почести, и самое тело наше, — есть не что иное, как временное, внешнее орудие для действий души, вся будущность и настоящая жизнь которой принадлежит не здешнему, а иному, лучшему миру. Мы бережем тело наше для того, чтобы всегда быть готовыми и сильными, на пользу ближнему нашему; если нам и нужны богатства, то лишь для того, чтобы удовлетворить мучительным нуждам неимущих. Да и как же могло бы оно быть иначе! Собери все богатства мира, облекись в одежды из чистого золота и драгоценных камней, — и люди станут преклоняться пред тобою и в то же время изо всех сил стараться лишить тебя сокровищ твоих. И если удастся им это, то поклонение и дружба их исчезнут, и ты останешься наг и отвержен перед ними, пуст и ничтожен перед собой, ибо достоинства твои были не в тебе, а в богатстве твоем. Апостол наш говорил: «Вера без дел мертва есть!» (ср. Иак.2:17 — ред.). И эти-то дела веры и благотворительности и составляют истинное сокровище наше. Богатство может исчезнуть, а доброе дело, тобою сделанное, никогда! Разорись ты, впади в убожество, стой наг и нищ перед людьми и Богом, — сделанное тобою хорошее дело от тебя не отнимется. Оно тронуло сердца людей и осталось в воспоминании, оно известно Богу и открывает тебе стезю к достижению иной, вечно блаженной жизни! Вот тебе, господин, в кратких словах вся суть учения нашего. Оно просто и скромно, как может быть проста только истина. Теперь суди, справедливы ли клеветы, на нас возводимые.
Лисимах сидел молча, крепко сжимая голову руками. Он уже не волновался, не возмущался; ужас и отвращение к христианам заменились в нем чувством восторга перед лучезарной простотой и истинностью таинственного учения.
Он затих, успокоился и весь отдался обаянию речи Поликарпа. Но вдруг в голове его промелькнула мысль о предстоящем гонении и по телу пробежала холодная дрожь ужаса. — А много вас, Поликарп? — спросил он негромко.
— Много, господин, и число наше с каждым днем возрастает! — ответил старец. — Теперь уже нет уголка в римском государстве и нет звания, в котором не славилось бы пресвятое имя Христа.
— Сколько ужасов, сколько крови предстоит вам! — вскричал Лисимах. — Нужно предупредить ваших!
— Да, тяжкое наступает время! — вздохнул старик. — Но мы все-таки будем ждать его с надеждой и упованием. Пострадавшим за Христа достанется в уделе Царствие Божие с Его вечным блаженством, а оставшиеся с большей уверенностью станут проповедовать его. Завтра я схожу к одному из пресвитеров, но думаю, что они уже предупреждены. Все наши общины, рассеянные повсюду, живут между собою в искренней дружбе и непрестанном общении. В самой свите Диоклетиана есть наши христиане и, вероятно, как только он заговорил о гонении, они сообщили об этом пресвитерам и диаконам ближайших общин, а те поспешили разослать вестников дальше.
Долго еще беседовал престарелый учитель с юным учеником своим. Лисимах жадно расспрашивал, а старик отвечал ему с умилением глубокой веры и красноречием истины.
— Hе думай, что я пытаюсь обратить и увлечь тебя, господин, — закончил Поликарп. — Твой ум слишком расшатан и извращен изучением софизмов[153] ваших философов, для того чтобы сразу и быстро проникнуться простотой истины. Кроме того, не дерзну я один взять на себя великое дело твоего обращения. Если ты дашь мне слово, что не станешь предателем, я введу тебя в нашу общину до того времени, когда ты сам выразишь желание креститься. Привыкни к нам, вникни в правила и обычаи нашей жизни, тогда и суди, и решай сам.
— Что я не буду предателем, об этом нечего и говорить! — вскричал Лисимах. — А после беседы с тобою, вся душа моя стремится к кротким, любящим и угнетенным христианам и к вашему великому Богу! Когда же поведешь ты меня к своим друзьям?
— Hе могу ответить тебе теперь определенно, — сказал Поликарп, — но завтра увижусь с кем следует и извещу тебя. А теперь доброй ночи, господин.
Он низко поклонился и ощупью вышел. Слепой Поликарп знал этот дом столько лет, что мог ходить по нему без провожатого.
Луна исчезла, и Рим начинал снова оживляться после недолгого сна, когда Лисимах осторожно, чтобы не разбудить рабов, прошел в свои покои и раскинулся на ложе, но не за тем, чтобы спать: пробужденная и пораженная мысль его лихорадочно продолжала свою работу.
Глава VII. Начало бури
На другой день борьба в уме Лисимаха между множеством философских систем, на изучение которых он посвятил лучшие годы, и новым, поразительно простым и в душу проникающим учением отверженных
Римской империей христиан, все не могла смолкнуть и утихнуть. Он долго пробыл в библиотеке, которую с любовью и знанием собирали отец, мать и старый Поликарп. Но чтение уже не удовлетворяло его, утомленный мозг отказывался действовать.
«Нет, верно, за болезнью отца и за этим сватовством я разучился соображать, — подумал он, с каким-то отчаянием безысходности укладывая на место свитки. Нужно сходить на форум, заглянуть в книжные лавки и послушать ораторов. Может быть, чужая мысль увлечет и расшевелит и мою. Hе могу я поверить, чтобы весь римский мир со всеми мудрецами, стекающимися в него со всей вселенной, мог заблуждаться столько веков подряд, и лишь эта горсть всеми презираемых людей носила в себе зерно истины! Где-нибудь да есть возражения — сильные, неотразимые возражения против того, что говорил мне сегодня ночью мой старик. Если я их не находил, значит, я молод и мало знаю, да, кажется, и теряю голову… Нужно искать…».
Как только Рим ожил после своего полуденного отдыха, Лисимах завернулся в тогу и вышел из дома.
Солнце пекло нестерпимо, но привычный к нему народ снова оживленно сновал взад и вперед по узким улицам. Невдалеке от своего дома Лисимах встретил Поликарпа. Старик тихо брел под тенью зданий. Седая голова его была понурена и во всей медленно двигающейся фигуре сказывалось нечто грустное, торжественно-печальное. Так ходят люди, только что совершившие печальный обряд погребения над дорогим сердцу человеком. Лисимаху бросилась в глаза эта старческая фигура и ее странное выражение среди веселой, пестрой, залитой ярким солнцем толпы. Он подошел к нему.
— А! Это ты, господин, — слегка оживившись, заговорил старик. — Рад, что встретил тебя, потому что со вчерашнего разговора нашего многое изменилось. Стаду Христову грозит гонение еще скорее, чем мы ожидали. Сегодня вечером соберутся верховные начальники наши обсудить, что делать. Я допущен на этот совет и просил позволения привести и тебя с собою. Сначала братья не соглашались. Говорят, мы уже окружены шпионами. Император в ослеплении своем издал эдикт[154], чтобы священные книги наши были сожжены; братья наши не допускаются в должности, рабы-христиане лишены надежды на свободу, а все мы поставлены вне защиты закона. Имущество наше у нас отнимается и раздается доносчикам. Алчность подвигает многих на предательство. Но я поклялся за тебя, господин. Кроме того, между рабами твоими много христиан, и ты можешь быть их покровителем. Братья согласились. Прав ли я был, говоря это, господин?
— Прав! Прав! Тысячу раз прав, мой честный учитель! — горячо вскричал юноша. — Но неужели это правда? Неужели предстоит опять гонение?
— Пути Господни неисповедимы, господин мой! — печально отвечал старик. — Никто не ждал этого от Диоклетиана, но теперь бедам нашим не предвидится ни пределов, ни конца! Враги наши не знают нас, зато и ненавидят сильнее. Скоро опять запылают костры и польются реки крови не хуже Нероновских.
— Но разве эдикт уже обнародован? Я иду на форум и, верно, увижу его, да также и услышу, что говорят о вас, — сказал Лисимах.
— Иди, господин. Но где я найду тебя вечером?
— Приходи в книжную лавку братьев Аттиков. Я проведу день в банях Каракаллы[155], а к вечеру приду купить некоторые вещи.
— Хорошо, господин. Да нам и пора расстаться. Нас могут заметить и услышать.
Старик побрел дальше, а взволнованный юноша быстро зашагал по направлению к главной части города.
Лисимах прошел прямо в базилику[156], примыкавшую к сенату. В этот день там было особенно людно и оживленно. Все старались собственными глазами прочесть строгий эдикт Диоклетиана против христиан, имя которых беспрестанно было у всех на устах с прибавлением самых обидных прозвищ, самых неправдоподобных обвинений и рассказов.
Благодаря обширному знакомству и общему расположению, Лисимаху удалось наконец выбрать из всего этого хаоса болтовни и злобы достоверное одно, что после двух пожаров, бывших во дворце Диоклетиана в Hикомидии, ему доказали, что причиной их были христиане, которые поджигали дворец из ненависти к нему. При этом сообщили ему и всю опасность, в которую ставит себя государство, допускающее в недрах своих секту, которая не признает ни императора, ни аристократов, ни господ, ни рабов. Диоклетиан, все еще несколько колебавшийся, открыл преследование, но не кровавое, а, так сказать, гражданское. Прочтя вывешенный на стене эдикт, Лисимах убедился, что все, что говорил ему раб-учитель, была правда.
На душе его было тоскливо, мысль мучительно бродила, в сердце шевелились одновременно чувство жалости и сочувствия к христианам и непреодолимое недоверие к ним. Печальный, как вестник горя, стоял он, прислонясь к одной из колонн базилики, и задумчиво смотрел на темно-синий купол неба, нависший над Капитолием[157]. Он не заметил, как у ступеней остановились несколько человек рабов-носильщиков, и из богатых носилок грациозно вышла роскошно одетая Иерия. Она тотчас же узнала молодого человека и подошла к нему.
— О чем размышляет юный философ? — спросила она шутливо.
— Признаюсь, я, кажется, ни о чем не думал, а просто о чем-то страдал, — ответил Лисимах, встрепенувшись и здороваясь с нею.
— И это счастливый жених! — продолжала она слегка насмешливо, хотя в прекрасных глазах ее мелькнуло глубокое сочувствие.
— Hе шути над моим будущим браком, благородная Иерия! — с укором заметил молодой человек. — Тебе, другу моего отца, я могу сказать правду: я женюсь на Φульвии не так, как женятся другие, я просто исполняю волю отца. Любви у меня к ней нет, но я буду ей хорошим, честным мужем. Признаюсь, меня даже пугает ее горячий характер и крайность мнений…
— Я бы назвала это злостью, — проговорила Иерия, но тотчас же спохватилась. — Прости меня, то было необдуманное слово, мне не следовало говорить тебе о Φульвии, но относительно ее семьи я считаю себя вправе быть совершенно откровенной! Лисимах, берегись брата Φульвии — Валерия, а в особенности его друга, этого грека Люция с его лисьим лицом.
Лисимах удивленно глянул ей в глаза.
— Разве они враги мне? — спросил он. — Мы с детства играли и учились вместе, я ничего не сделал им дурного, и они до сих пор мои приятели, хотя между нами и мало общего. Они эпикурейцы и по школе, и по жизни, а я, — он горько улыбнулся, — кажется, стоик.
— Ах, ты — чистый человек! — вскричала Иерия и на лице ее вместо насмешки сказалась безграничная нежность. — Я, женщина и баловень, как меня называют, должна учить тебя понимать людей. Так знай же, что люди ненавидят и вредят не за одно зло. Для злых добро часто еще тягостнее зла, они готовы мстить за него потому, что оно своей чистотой давит их черные души. А еще есть на свете гадкое чувство, которое называется завистью. И Валерий завидует твоему богатству, а Люций твоей знатности и невесте. Оба готовы погубить тебя.
— Благодарю тебя за урок, благородная Иерия, — радостно и почти покровительственно улыбнулся Лисимах, — но если бы даже и допустить все это, что, в сущности, тебе просто показалось, то погубить меня все-таки не так легко.
— Да, было не так легко прежде, а теперь времена наступают иные! Посмотри-ка… — она указала на эдикт Диоклетиана, — один удачно сделанный донос, и…
Лисимах взглянул по направлению ее жеста и почему-то сильно побледнел.
— Да, пророчат новую пору Нероновских гонений, — проговорил он как-то хрипло.
— Странные и страшные люди эти христиане! — задумчиво сказала Иерия. — Говорят, они выходили на казнь, как на торжество, а страдания переносили чуть ли не с радостью. А знаешь что? Мне думается, что страдать и умирать за что-нибудь — действительно великая, в самом деле, радость! Только пусть бы люди или боги выдумали что-нибудь действительно великое, а то у нас теперь такая все плоскость и скука, и сами мы такие жалкие! Боги у нас смешные, а мы — сытые и пустые. Hе за эпикуреизм же умирать, в самом деле; скорее умрешь от него. А душа просит чего-нибудь высокого и пространного, как небо, чистого и твердого, как сталь!
Она задумчиво смотрела на площадь и на оживлявшую ее толпу. Между тем к крыльцу базилики поднесли еще одни носилки и из них вышел Селин Феликс. Он узнал племянника и медленно направился к нему. Иерия не любила черствого старика, у которого не было широты взгляда покойного Анеима, и поспешила отойти.
— Да, и это великое где-то есть в мире! — говорил вслед ей Лисимах, — иначе зачем же и мы, и все наше существование? Нужно искать…
— А покуда не сыщешь, — перебила она, отходя, — помни мой совет: берегись Валерия и Люция, а лучше всего — постарайся отдалиться от этой семьи. До свидания.
Она быстро отошла и заговорила с одной из проходивших мимо аристократок.
Между тем Селин подошел к племяннику.
— Очень рад, что встретил тебя случайно, — сказал он, — это избавляет меня от труда идти к тебе или посылать за тобою. Сегодня утром у меня был сенатор Просфор. Ты знаешь, что цель этого человека — блестящая будущность детей. Замужество Φульвии с тобою — одно из осуществлений его гордых мечтаний, но вместе с ним он хочет связать и второе. Отец твой был когда-то военачальником у Диоклетиана и император, всегда сохранявший к нему самые дружеские чувства, узнав о его смерти, верно не откажет оказать милость его единственному сыну. Императора ждут сюда недели через три. Просфор хочет, чтобы свадьба ваша состоялась во время его пребывания здесь, и чтобы ты в виде милости просил Диоклетиана посетить в этот день твой свадебный пир. Это даст Просфору случай представить императору Валерия. Торжество же обручения следует сделать через неделю. В иное время это было бы нехорошо, так как отец твой умер слишком недавно. Но, во-первых, он сам говорил мне о твоем браке с Φульвией, как о деле для него желательном, а во-вторых, нужно спешить, так как Диоклетиан долго здесь не пробудет, Рим он не любит. Поэтому я дал за тебя слово — ускорить свадьбу.
Лисимах вздрогнул. Он не любил Φульвию, даже слегка боялся ее. Кроме того, ему припомнились слова Иерии, и он, несмотря на всю природную мягкость своего характера, решился возразить дяде.
— Но я не хотел спешить, дядя, — заговорил он. — Семья Просфор мне не по душе… Я согласился на этот брак по воле отца. Я и не отказываюсь, но хотел бы повременить. Надо сойтись, попривыкнуть…
— Так что ж? Ты хотел бы войти в эту семью, раздражив ее отказом в первой же и такой важной для нее просьбе? Ведь так или иначе, этой свадьбы тебе не миновать, благородный римлянин от раз данного слова не отказывается! А что касается твоих чувств, то теперь говорить о них уже поздно, ведь ты не женщина и должен царить над ними. Перестань быть ребенком, ставь дело и пользу впереди всего, — прибавил Селин и строго глянул в глаза племяннику. — Послушай меня, обдумай все хорошенько и, я надеюсь, что ты не позволишь себе отменить мною данного слова!
— Хорошо, я подумаю, — вяло ответил Лисимах.
— А теперь я спешу в сенат. Там обсуждают устройство встречи и приема императора, — сказал Селин.
И старик бодро и величаво зашагал по направлению к зданию сената.
— О, боги! Что за дни! — мучительно вздохнул Лисимах. — Что ни встреча, что ни разговор, все нож в сердце!
Ему стало страшно встретить еще кого-нибудь из родных или знакомых, и он спешно пошел к баням Каракаллы, надеясь скрыться в библиотеке.
Глава VIII. Валерий Просфор
В библиотеке было людно и шумно.
Несколько почтенных людей, окруженных молодежью, громко толковали о новом эдикте Диоклетиана и о христианах. Лисимах обрадовался и стал было прислушиваться, но удалось ему это ненадолго. Когда он проходил по двору, то издали увидал Валерия, который занимался гимнастикой. Молодой Просфор был один, без Люция, и в выражении лица его сказывалась не то досада, не то тревога. Он тоже заметил Лисимаха и издали поклонился ему, потом быстро оделся и пошел за ним в библиотеку.
— А! Вот где ты, юный старец, — ласково проговорил он. — Люди приходят сюда мыться и забавляться, а он и в банях скрывается!
— Да, хотелось послушать философов. А ты мылся?
— Сначала мылся, а потом делал с горя гимнастику. Хорошо тебе, право, жениться, Лисимах! Всегда спокоен и свободен! Ты думаешь и мне не хотелось бы учиться и жить в том возвышенном мире мысли, где и человек понемногу начинает чувствовать себя божеством? Но какая философия полезет в мозг, который вечно терзают разные унизительные помыслы! Поневоле бродишь, как негодяй, и убиваешь время как попало.
Свою жалобу он произнес так искренне печально, что Лисимаху стало жаль его.
— Но что же гнетет тебя, Валерий? — спросил он с участием.
— Что? Да все: и обстоятельства, и люди, и я сам! — ответил Валерий раздражительно. — Знаешь, Лисимах, мне больно… Мне хочется высказаться! Я слишком долго таился от всех. А Люций! О! Он хоть мне и товарищ, но он хитрый, себе на уме, и он-то и гнетет меня хуже и больше всех! Он хочет сделать меня своим рабом. Ведь только благодаря мне его пускают в кружки золотой римской молодежи! И ты думаешь, дешево мне обходится эта дружба? Все надо мной трунят и смеются.
Валерий горячился все больше, и чуть не плакал.
— Так зачем же ты не разойдешься с ним? — несколько озадаченно спросил Лисимах.
— Вот в этом-то и дело! — вскричал раздраженно Валерий. — У молодого человека нашего круга мало ли издержек?! Одни кости чего стоят!
— Ты играешь, Валерий? — тревожно и участливо спросил Лисимах.
— Играешь… — почти презрительно передразнил Валерий. — А кто же из наших не играет? Разве они способны сидеть, как ты, по целым дням за книгой? У нас играют даже рабы! Ну, одним словом, я задолжал Люцию и с тех пор стал его рабом. На днях я не хотел исполнить его просьбы, и он пригрозил мне оглаской и даже иском. Если б все узнали наши отношения, я был бы опозорен! Чтобы отделаться от него, я захотел выиграть как можно больше; пошел вчера вечером и играл, как бешеный. Кончилось тем, что я проиграл десять тысяч сестерций и заплатить их мне было нечем. Я обещал, что достану их и принесу сегодня вечером, и пришел сюда, чтобы повидаться с одним отпущенником-ростовщиком, ‒ пусть он сдерет с меня самые страшные проценты, лишь бы спас. Но его сегодня здесь нет. Я посылал рабов искать его, — говорят, он уехал за город! Теперь не знаю, что и делать! Просто готов бежать и броситься в Тибр, только бы не обращаться к Люцию!
Валерий был в истинном отчаянии.
— Послушай, Лисимах, ведь ты, говорят, ужасно богат, спаси меня! — выговорил он со слезами на глазах.
— С величайшей радостью! — искренне вскричал Лисимах. — Я сейчас же напишу нашему домашнему казначею, чтобы он выдал тебе пятнадцать тысяч сестерций. Поди с этой запиской и ты получишь деньги.
— Благодарю, благодарю тебя, благородный товарищ, — заговорил Валерий, уже сияя радостью. — Только вот одно… Мне не хотелось бы ходить самому к тебе в дом за деньгами. Люций такой хитрец, шпион, пролаза. Он непременно узнает об этом и изведет меня. Hе говори ему, что дал мне денег и, если можно, принеси их сам вечером куда-нибудь в уединенное место, я буду ждать тебя. Игроки собираются поздно, и я поспею прийти к Лукрецию вовремя.
— Хорошо, я сделаю и это, и сейчас же пойду домой за деньгами. Жди меня около восьми часов вечера на форуме у ростры. Я принесу деньги туда.
Молодые люди расстались, крайне довольные друг другом. Валерий сознавал себя спасенным, а добродушному Лисимаху было как бы отрадно услышать от этого вечно циничного и насмешливого юноши хотя бы одно искреннее слово.
Валерий весело шел домой в сопровождении раба, несшего за ним банные принадлежности, когда на повороте одной улицы он столкнулся с Люцием.
— Откуда, друг? — спросил тот.
— Из бани, — уклончиво отвечал Валерий.
— Разве у тебя дома нет бани? — подозрительно настаивал Люций.
— Баня у меня дома есть, а я захотел пойти в термы Каракаллы и пошел, и это никого не касается.
— А-а-а! В термах Каракаллы бывают разные благодетельные и полезные люди! — вскричал Люций язвительно, лукаво улыбаясь. — Кстати, сегодня утром я встретил Петрония. Он рассказал мне, что ты вчера делал чудеса храбрости у Лукреция и завершил тем, что проиграл десять тысяч сестерций, которые и обещал уплатить сегодня.
— Ну так что же, и проиграл, и заплачу!
— Но как же ты это сделаешь? Где достанешь?
— Это тоже никого не касается! А теперь пусти меня, я хочу идти домой!
Валерий довольно бесцеремонно отодвинул Люция с дороги и прошел мимо него, даже не простившись.
«Ого! Начинаешь оперяться! — размышлял несколько озадаченный Люций. — Верно, нашел новый источник! Однако, где и какой? Необходимо узнать! Если незначительный и временный, он все-таки останется в моих руках, но если иной — он сможет оплатить свои расписки мне, и тогда я останусь ни при чем!»
Люций долго бродил по улицам, сосредоточенно размышляя, как бы удержать Валерия в своей власти и, наконец, решил тайно, но неотступно следить за ним до тех пор, пока не узнает, откуда у него берутся деньги.
Вечером, в начале восьмого часа, из дома сенатора Просфора вышла небольшая стройная фигура, закутанная в тогу, и быстро исчезла в темноте. Почти в то же время из-за колонны противоположного дома беззвучно выскользнула другая мужская тень и осторожно последовала за первой.
Дойдя до форума, Валерий свернул в сторону ростры и остановился. Следовавший за ним Люций сделал большой обход и притаился за выступом колонны. Оба терпеливо ждали. Через несколько минут со стороны храма Януса[158] показались две другие темные тени. Одна шла бодро и смело, другая, несколько согбенная, как бы ощупывала дорогу палкой, бывшей у ней в руках.
— Валерий! — тихо, но внятно окликнул Лисимах.
— Здесь… — ответил так же тихо Валерий. — Ну что, принес?
— Да. Hе опасайся этого человека. Это мой раб, он пришел помочь мне передать тебе деньги, они отсчитаны золотом.
— Благодарю, Лисимах! — говорил Валерий, принимая небольшие кожаные мешки от молодого человека и от старого раба. — Боюсь, чтобы нас не застали, да и там меня ждут…
Он даже не попрощался с Лисимахом и быстро зашагал прочь.
— Поспешим, господин, — говорил старый Поликарп, — братья давно уже в сборе. Нам нельзя терять ни минуты! Сегодня в городе пронесся слух, что в Hикомидии сгорел дворец императора и в этом обвиняют нас, христиан. Значит, нам грозит эдикт еще грознее первого, вышедшего за то, что наши не захотели поклоняться императору, как богу. Может быть, нам еще в сегодняшнюю ночь удастся сделать что-нибудь в пользу и спасение некоторых!
— Да и я слышал сегодня на форуме нечто подобное, — сказал взволнованно Лисимах, — только за массой бестолковой болтовни не мог разобрать, что это относилось ко второму, ожидаемому эдикту. Пойдем же скорее. Обопрись на мою руку, Поликарп, и называй мне улицы. Ужасно темно.
— О, господин, для меня давно настала беспросветная тьма, ведь я слепой, но я каждый день бываю в катакомбах. А опора такого юноши, как ты, для меня честь и счастье!
Весьма противоположные чувства волновали в это время душу подслушивавшего Люция. Сначала, когда он увидел, что деньги Валерию дает Лисимах, он испугался и рассердился. Молодой Феликс был так богат, что мог без малейшего ущерба для своего состояния выкупить все расписки Валерия, и тот мог навсегда освободиться от Люция.
Чтобы дать Валерию отойти и потом уже издали следить за ним, он стоял на своем месте, когда услышал слова Поликарпа. Это была для него истинная находка. Если придется упустить Валерия, то можно будет погубить Лисимаха, открыть вход в катакомбы, отличиться перед императором. Одним словом, теперь Φульвия, протекция ее отца и ее знатная родня, — все его!
Вместо того, чтобы следить за Валерием, он так же осторожно стал издали красться за Лисимахом и слепым Поликарпом.
Глава IX. В катакомбах
Старик и юноша быстро пробирались по темным улицам и, наконец, очутились почти за городом. Роскошные дома заменились жалкими лачужками, и лишь кое-где виднелись роскошные сады и дома богатых купцов или любивших тишину аристократов. По улицам, там и сям, спешили в том же направлении другие темные фигуры. Некоторые шли по двое и по трое, но все хранили глубочайшее молчание. Наконец, Лисимах и Поликарп остановились перед дверью одной из лачуг.
— Отсюда есть ближайший ход, — тихо проговорил Поликарп. — Здесь живет брат-каменолом, и он сделал ход в подземелье через свой дом для слабых, больных и престарелых братьев нашей общины. Я стар и слеп, и имею доступ.
Он тихо постучался. Изнутри кто-то подошел к двери.
— Мир вам! — произнес Поликарп.
— Аминь! — отвечал голос, и дверь отворилась. Мелькнувший из двери луч света снова исчез.
Люций оказался в местности, совершенно ему не знакомой. Дорого дал бы он, чтобы узнать ее и чем-нибудь заметить эту дверь. Но об этом нечего было и думать, и он, злобно размышляя о своих коварных планах, побрел в город, путаясь и ошибаясь улицами.
Между тем, Поликарп и Лисимах очутились в доме брата-каменолома. Тот узнал старика, почтительно приветствовал его, тот час же зажег три факела, открыл люк в дощатом полу, и все трое осторожно спустились по узенькой лестнице в катакомбы.
Долго шли Лисимах и его спутники по узким коридорам. В конце одного из них им стали, там и сям, попадаться женщины, мужчины и даже дети, также вооруженные факелами. Они стояли небольшими группами и тихо молились или плакали у гробов родных, или вполголоса беседовали между собою. На всех лицах лежала печать какой-то торжественной грусти и решимости.
Наконец, откуда-то издали послышалось стройное, протяжное пение, а скоро и совсем ясно раздались слова трогательно-печального гимна, в котором все-таки звучала радостная и светлая надежда.
«Приидите, возрадуемся, что познали Господа, воспоем Бога, Спасителя нашего! Он прибежище наше и сила, Помощник в горестях и утешение!..» — звучали стройные голоса под сводами обширной круглой залы, вход в которую неожиданно открылся за поворотом коридора.
— Общая молитва кончается, — проговорил Поликарп, осеняясь крестным знамением. — Сейчас я представлю тебя епископу и всему совету наших пресвитеров, господин.
Высокий и худой старец-епископ благословил паству широким крестом, низко поклонился всем присутствующим и сел на стоявшую у стены каменную скамью. Все присутствующие ответили ему удвоено низким поклоном и также сели. Только старик Поликарп и Лисимах остались стоять.
— Братья о Христе, приветствую вас! — заговорил слепой. — Вот перед вами юноша, мой господин, о котором я говорил вам. Он слышал о нас и от заблуждающихся единоверцев своих, и от меня, недостойного слуги Господня, и пожелал познакомиться с нами.
— А если он предатель?
— А если он — наш, то пусть примет святое крещение и соединится с нами неразрывными узами братства о Христе! — заговорили многие.
— Братья, — сказал епископ, — Церковь наша никого не неволит. Вера не приходит к человеку сразу. Пусть поживет между нами, узнает и нас, и догматы нашей веры, тогда сам и решит. А что до предательства, то к чему бы послужило оно ему и каким большим несчастьем могло бы оно угрожать людям, подобно нам, лишенным даже права существования? Кроме того, нам известно, что мать его была христианка и за него поручается Поликарп.
— Что привело тебя к нам, юноша? — спросил его один из священников.
— Жажда истины, — ответил Лисимах. — Откройте мне ее, и я стану не только братом, а слугою каждого из вас.
— Садись же и будь другом и братом нашим, — сказал епископ, — а познание истины придет через беседы с братом Поликарпом и чтение творений святых отцов, а в особенности Евангелия. Если когда-либо захочешь утвердиться в вере через принятие святого крещения, то всегда, даже во время гонения, ты найдешь священника, который совершит над тобою священный и таинственный обряд этот.
— Однако, время идет, — перебил он сам себя, — время идет и все приближает к нам пору несчастья и крови. Я собрал вас, братья, чтобы известить вас о том, чего не знают еще даже правители Рима. Любовь и усердие братьев наших опережают императорских гонцов. После того, что братья наши не захотели чествовать в лице нечестивого Диоклетиана его богов, он написал свой первый эдикт против христиан. Затем загорелся дворец его в Hикомидии; в этом, хотя и ошибочно, увидели дело мести братьев наших. Диоклетиан поверил этому и издал второй эдикт, который сегодня утром будет вывешен на стенах Рима: им повелевается схватить и бросить в темницу всех наших священников. Нет сомнения, что скоро последует и третий, который упадет уже прямо на головы всей паствы кровью и казнями.
— Так что ж, пострадаем за Христа! Hе дадим порадоваться нечестивому! — раздались энергичные голоса, в которых слышалось как бы вдохновение свыше.
— Приветствую силу духа и веры вашей, братья, — снова заговорил епископ. — Но к чему было бы преднамеренно вызывать пролитие крови невинной и погибель людей, из которых каждый любит и любим, каждый приносит свою долю пользы. Муки и смерть вырвут многих из среды нашей и без воли нашей. Поэтому молю вас, братья, спасайтесь, бегите из Рима в эту же ночь. Достояния вашего с собой не берите, а священные книги и сосуды скройте здесь. Когда пройдет гроза, каждый найдет их в своем месте.
— Бежать всем одновременно значило бы только обратить на себя еще больше внимание, — заметил один из священников. — Да и куда скрыться? Ведь нас много.
— Пусть до рассвета бегут одни священники, а там постепенно, один за другим, денно и нощно станут уходить и остальные, — предложил кто-то из мирян.
— Нет, не подобает пастве оставаться без пастыря, — твердо возразил один из священников. — Пусть уйдет стадо, тогда свободен и пастырь. Я стану скрываться в Риме, руководить и помогать своим до тех пор, пока или все будут в безопасности, или я сам попаду в руки нечестивых. Тогда, значит, Господу угодно удостоить меня мученического венца.
— Нам, дьяконам, по самой должности нашей нельзя оставлять братьев в нужде, горести и смятении! — энергично заговорил молодой и красивый римлянин, со сверкающими глазами слушавший слова священника.
Совещание продолжалось еще долго. Благоразумие епископа должно было бороться с рвением и самоотречением остальных. Лишь некоторые из присутствующих, более слабые духом, сидели молча, опустив на грудь тревожные, побледневшие лица. Но никто не упрекал их, никто не относился к ним с презрением. Древние, истинные христиане, постигшие всю глубину учения Христа, не знали презрения. Слабость и заблуждение были для них болезнью, достойной сострадания, болезнью, которую должны были врачевать более сильные и разумные. Между тем христиане, толпившиеся у нескольких входов в ротонду и слышавшие происходившее там совещание, разнесли весть о грозящей беде и необходимости побега по всем катакомбам. Послышались тихие рыдания над милыми могилами, которые предстояло покинуть, слова братского прощания между живыми. Но временам слышались речи беспредельной покорности воле Божией и утешения.
Глаза Лисимаха несколько привыкли к царившей вокруг полутьме, и он с удивлением узнавал во многих присутствующих знатных аристократов и известных в Риме ученых. Все они сидели рядом или стоя дружески беседовали с рабами. Некоторые женщины-аристократки нежно обнимали рабынь и прощались с ними со слезами, как с сестрами. Многие принесли с собою мешки с золотыми деньгами и драгоценностями и или сами разделяли их между неимущими членами братства, или передавали диаконам и диаконисам, на обязанности которых лежало пещись о бедных, больных, старых и сирых.
Между тем совещавшиеся порешили, что каждый диакон и священники станут наблюдать за осторожной и правильной очередью бегства в своей пастве, отпуская слабодушных или обремененных семьями раньше, и снабжая неимущих средствами, а сами будут скрываться в Риме, пока остальные не окажутся в безопасности, или пока у самих их хватит твердости духа на такой подвиг.
— А ты, отче, что станешь делать с собою? — спросил один из пресвитеров, обращаясь к епископу.
— Останусь здесь и стану, по обязанности своей, руководить вами и укреплять вас в вере, — просто ответил старец.
— Но ведь ты человек в Риме известный, тебя схватят первого! — в ужасе возражали ему остальные. — Разве возможно оставить паству без главы в годину опасности и гонения?! Разве, скрывшись из Рима, ты не можешь руководить нами через своих посланников? Разве мученический венец тебе дороже нас? Да и не будет ли подвиг отречения от мученичества ради блага церкви выше перед Господом, чем само мученичество?
Несмотря на все возражения епископа, многие бросились к ногам его и умоляли спастись бегством. Старец был тронут, покорился и обещал скрыться. После этого стали обсуждать, куда бежать христианам. Присутствующие богачи и аристократы, презирая опасность, грозившую им самим, самоотверженно предлагали свою помощь и покровительство. Молодое и доброе сердце Лисимаха сильно билось в груди его. Таинственно-торжественная обстановка, полумрак, слышавшиеся издали рыдания одних, вдохновленные верой и мужеством речи других, наконец, эта беспредельная, самоотверженная любовь к ближнему вдохновили и его сердце любовью и жалостью.
— Братья, — заговорил он скромно и волнуясь, — между вами я чужой и неизвестный вам пришелец. Многие из вас даже усомнились в моей искренности, но я скажу вам только правду. Душа моя вся ваша, только ум мой, мало знающий вашего Бога, колеблется и, пока не пройдет это колебание, я не решусь принять вашего крещения. Но люди, столь добрые, твердые и мужественные, не могут не вызвать любви в моем сердце.
— Позволь мне, почтенный старец, проявить эту любовь, чем возмогу, — продолжал он, обращаясь к епископу. — Завтра через Поликарпа я перешлю диаконам денег на переселение неимущих. Я же могу доставить им и убежище. У меня есть земли близ Альп. Сами горы представляют уже возможность скрыться, а кроме того, оттуда легко перебраться в Галлию[159], находящуюся под правлением благодушного и разумного Констанция Xлора[160], в провинциях которого, вероятно, не будет гонений. Все знают, что отец оставил мне огромное богатство. С завтрашнего же дня я стану говорить в Риме, что хочу построить себе новую виллу у плодоносного подножия Альп и с этой целью скупаю рабов. В то же время я сам поеду в свои земли. Вы же направляйтесь туда под названием моих рабов. Там я или скрою вас, или переправлю в Галлию.
— «Hе всякий глаголющий мне «Господи! Господи!» внидет в Царствие небесное, но творящий волю Отца моего, Который на небесах!» — торжественно и умиленно проговорил епископ. — Приветствую тебя, благородный юноша! Не нуди мозга своего, но береги клад сердца твоего! А Господь, в неисповедимых путях Своих, не преминет просветить твою мысль светом вечной истины.
Остальные начальники и члены общины приняли предложение Лисимаха с живейшей благодарностью и стали обсуждать подробности его исполнения. Но Лисимах не хотел останавливаться на своем предложении. Он упросил епископа обстричь бороду, пробрить в его роскошных сединах плешь, одеться рабом и встретиться с ним завтра днем где-нибудь в предместье. Это даст ему возможность провести его в свой городской дом и выдать домашним за вновь купленного раба, а потом самому отвезти его в свои загородные поместья.
Наконец, совещание было окончено.
— В последний раз встретились мы сегодня здесь, братья! — торжественно и печально произнес епископ.
— Господь ведает, когда мы встретимся здесь еще раз. Завершим же последнее свидание наше общей братской молитвой о даровании нам твердости, терпения и глубины веры!
Когда прощание было окончено, по коридорам катакомб снова замелькали отдельные, одинокие огненные точки, а в ротонде[161], перед образом Христа, остался только один старец-епископ, с беспредельной скорбью молившийся за тех, кто мог спастись, и за тех, кому предстояло в муках и позоре земном удостоиться вечного блаженства, и даже за врагов своих, которые «не ведают бо, что творят».
Глава X. За стенами Рима
Прошло три дня после посещения Лисимахом катакомб. За это время он успел выхлопотать себе билет на проезд на почтовых, приказал уложить некоторые вещи и на четвертый день еще до рассвета выехал из Рима в удобном двухколесном, крытом экипаже, какой обыкновенно отпускался на почтовых станциях для путешествующих аристократов. Престарелый епископ ехал вместе с ним, а сзади, во второй повозке, в которой обыкновенно перевозились вещи, сидело еще трое из престарелых рабов-христиан и начинавший поправляться израненный гладиатор.
Старый Поликарп оставался в Риме, чтобы быть наготове оказать помощь тем, кто в ней будет нуждаться. Широко и свободно вздохнули и Лисимах, и епископ, когда очутились за городом и на них пахнуло свежестью и ароматом садов. Возле двух или трех загородных аустерий[162], стояли печальные толпы рабов и рабынь с женами и детьми. Многие громко плакали и ударяли себя в отчаянии в грудь.
— И эти все будут обязаны счастьем и жизнью тебе, молодой господин! — растроганно проговорил епископ, тотчас узнавший членов своей паствы.
Это простое замечание наполнило сердце Лисимаха невыразимой радостью и готовностью сделать для несчастных еще больше.
На станциях, пока переменяли лошадей, епископ прислуживал Лисимаху, как последний раб, и не только не тяготился этим, а исполнял каждое дело с искренней простотой и смирением.
Добравшись до своих земель, Лисимах тотчас же усердно принялся за хозяйство.
Когда Лисимах осматривал хозяйство, его поразило количество исполосованных темно-багровыми рубцами и даже кровавыми подтеками спин между рабами. Он спросил управляющего, что это значит, и из ответа и объяснений его убедился, что он человек от природы злой, жестокий и еще более огрубевший за многие годы своей хозяйственно-палаческой профессии. Разговоры старца епископа, который скоро сошелся с угнетенными рабами, окончательно утвердили его в намерении сменить управляющего. Кроме того, он мог быть для него опасен в исполнении его плана относительно христиан.
Для того, чтобы выяснить все дела этого человека, Лисимах стал входить во все подробности быта рабов и пришел в ужас. Они работали вечно голодные, за бессилие подвергались жесточайшим мукам и умирали от истощения! Все это было обыкновенным явлением в римском мире, но Лисимах тотчас же принялся за улучшения, а управляющего отправил в Рим, чтобы там он выжидал его дальнейших приказаний.
Кротость и всегдашняя готовность помочь обремененному или страждущему скоро расположили рабов к епископу, гладиатору и другим приехавшим из Рима рабам-христианам, и они исподволь начали свой труд проповеди и обращения местных рабов в христианство.
Лисимах знал, что времени у него мало, а потому работал день и ночь, почти не давая себе права подолгу беседовать с епископом, что доставляло ему истинное наслаждение. С раннего утра он уезжал в горы, чтобы найти убежище для христиан, которые были уже недалеко. Наконец, стали прибывать партии христиан из Рима, они приносили тревожные, ужасные вести. Диоклетиан издал третий эдикт, которым подтверждались два первые, и, кроме того, было открыто уже настоящее, кровавое гонение против христиан. Кто мог бежать, бежал, но находилось много и таких, которые с необузданной отвагой сами выступали перед палачами и гордо обличали язычество. Диаконы и священники, презирая собственную опасность, едва успевали сдерживать рвение одних, утешать и руководить бегством других.
С невыразимой жалостью и в то же время с радостным чувством смотрел Лисимах на эти толпы несчастных, спасенных, или, по крайне мере, временно укрытых от мук и смерти по его воле. В селении рабов они пробыли недолго, но скоро перешли в горы, к каменоломням, где и расположились табором, пока устроят бараки или приспособят для жилья некоторые окрестные пещеры. Лисимах приказал не нудить вновь прибывших работой, а некоторым, наиболее смышленым и смелым, тайно посоветовал уходить все дальше и дальше в горы, чтобы приискать пути и убежища для остальных на случай опасности.
Печально-трогательное зрелище представляли эти люди, ради веры во Христа покинувшие все радости земные, по вечерам, когда, расположившись вокруг костров и глядя в темно-синее звездное небо, они распевали во славу Бога псалмы, поддерживавшие в них надежду и силу духа.
Особенным расположением Лисимаха пользовался между ними один юноша. Его не знал никто из христиан, он пристал к ним уже далеко от Рима, умоляя именем Бога принять его, так как и он христианин, узнавший истины веры от одного раба, с которым служил у жестокого господина, ненавидящего «постыдную секту галилеян». Сами гонимые христиане приняли его и, хотя многих удивляло, что он знает о вере их лишь сбивчивые и часто даже неверные вещи, они объясняли это тем, что он и молод, и слишком недолго пробыл под руководством своего, может быть, тоже не совсем сведущего наставника. Звали его Платоном и он всех поражал страстностью молитвы, увлечением, с которым пел гимны, и старанием узнать все, что касалось прошедшего и будущего христианства. Он принял горячее участие и в разведках путей, которые делались в горах; и нельзя было без восхищения смотреть, с какой ловкостью и самопожертвованием перескакивал он через опаснейшие трещины или вступал в таинственные и темные пещеры.
Лисимаха особенно привлекало к нему одиночество, замечательная красота бледного лица и какая-то странная манера при разговоре опускать глаза к земле, что ему казалось признаком смирения и скромности. Он часто брал Платона с собою в горы, не скрывал от него своих распоряжений и даже допускал в советы, которые держали между собой епископ и старшие члены вновь образовавшейся общины. Однажды Лисимах хотел даже послать его гонцом в Рим, и юноша обрадовался, но епископ отговорил Лисимаха, находя, что для такого опасного дела нужен человек более опытный и благоразумный. Мало-помалу приальпийское владение Лисимаха приняло вид колонии счастливых и спокойных людей, усердно трудившихся на общее благо или на пользу господина, основавшего их счастье. Сам молодой хозяин с наслаждением отдавался этой жизни, полной здоровой деятельности и любви, но в одно утро явился гонец из Рима и привез ему письмо от дяди.
«Сенатор Селин Φеликс племяннику и другу своему Лисимаху Φеликсу шлет привет! — писал старик. — При отъезде своем ты говорил мне, что пробудешь в отлучке только десять дней, теперь же их прошло уже пятнадцать, и я нашел нужным известить тебя, что Просфоры крайне встревожены твоим отсутствием. Тем более, что и императора ждут сюда не позже двух недель, и обручение твое должно произойти до его приезда, а свадьба уже — при нем. Приезжай немедленно».
Грустно было Лисимаху отрываться от дела, которое уже завладело всей душой его, но он понимал необходимость отъезда, даже ради этого же дела, и покорился.
Глава XI. Опять Рим
Лисимах возвращался обратно в Рим опять на почтовых, но на этот раз путешествие было уже гораздо труднее. Все дороги были загромождены всевозможными предметами, которые свозили в столицу для встречи императора. Тут были редкие звери, гладиаторы, драгоценные ткани, лошади, вина, фрукты, птицы, рыба, — все, что производят или хранят силы природы. Тотчас после приезда Лисимах побывал у дяди и довольно твердо отстоял свой план строиться в деревне, но зато охотно согласился, чтобы обручение его произошло в тот день, который назначат Селин и сенатор Просфор. Φульвия встретила его снова насмешками и холодной язвительностью. Она очень много говорила и о предстоящем приезде императора, и о возможности Лисимаха отличиться, приблизиться к Диоклетиану, и о своем намерении затмить своим великим гением весь двор.
Валерий увел его к себе и с прежней лукавой приязнью избалованного ребенка рассказывал ему о своих кутежах, попойках, забавах, выигрышах и проигрышах; он также не преминул и пожаловаться на «хитрого негодяя», грека Люция, который всячески продолжал «лезть» к нему и не выпускает его из своих «лап».
Сенатор Просфор много толковал о городских приготовлениях и затратах, о дороговизне жизни, о том, что и он, как один из видных подданных Диоклетиана, принужден был пожертвовать значительную сумму на устройство встречи, что и расстроило несколько его расчеты. Он закончил тем, что попросил будущего зятя ссудить ему тысяч двадцать сестерций на предстоящие расходы. Лисимах с искренним доброжелательством дал записку на имя своего городского казначея.
От Просфоров он прошел на форум, думая снова послушать философов, но с ужасом и злобой бежал оттуда. Вокруг базилик толпилось целое море праздных зевак, а из-под сводов и колоннад неслись стоны, рыдания и крики. То пытали христиан!
Философы переселились в библиотеки и бани. Лисимах забрел было туда, но какой вялой, пустой, ничтожной болтовней показались ему их речи после только что испытанной им полной, живой и благотворной деятельности жизни! Единственную отраду его составлял в это скучное время старик Поликарп. Слепец и в страшное время гонения не прекращал сношений со своими единоверцами; помогая им советом и делом, он часто рисковал своей собственной безопасностью, приносил Лисимаху то торжественно-печальные, то трогательные вести. Сношения с приальпийскими беглецами поддерживались также постоянно через гонцов, которыми Лисимах постоянно разменивался со своим управляющим, которым назначил не кого иного, как епископа.
Однажды старец с прискорбием известил его, что Платон пошел с партией разведчиков в горы, отстал от них и с тех пор не возвращался… В общине считали, что он погиб в какой-нибудь пропасти.
«Счастливец! — подумал Лисимах, — погиб ради других во имя своего Бога, в Которого верил без колебаний и сомнений. А я?»
Стараясь убить скуку и гнетущий разлад между тем, что происходило в душе и тем, что приходилось слушать и делать, он как-то забрел в храм Юпитера. Нод величавыми сводами царили полумрак и прохлада. Рабочие, приготовлявшие под руководством жрецов разные приспособления и украшения для предстоящих торжеств и жертвоприношений, разошлись на отдых и вокруг было совершенно тихо. Долго, с мучительным вопросом смотрел Лисимах на величавую, колоссальную статую бога, но царь богов и громовержец сидел на своем троне с истинным безмолвием истукана. Лисимах, с досадой на себя, отворотился и хотел уже уйти, как из-за одной из колонн появилась стройная и изящная фигура Иерии.
Они обрадовались друг другу.
— Что ты здесь делала, Иерия? — спросил Лисимах. — Или избалованной поклонением красавице прискучили поклонники, и она просит защиты от них у бога-громовержца?
— Нет, не то, — ответила молодая женщина. — Душа моя пуста, Лисимах, и я приходила сюда искать силы и пищи душевной.
— Ну и что же? Нашла? — спросил он.
— Hе спрашивай! Разве может внушить веру, почтение, страх и доверие проказник-старикашка, которого люди почему-то изобразили в виде бога?! Полно, Лисимах, не смейся надо мною, пойми, что эта пустота для меня нестерпимее болезни и смерти! Лучше скажи мне, философ, неужели все живут так, и почему они до сих пор не перемерли от этой истомы?
— Нет, не все, — возразил он, и, не называя ни христиан, ни себя, не вдаваясь в подробности своего собственного опыта, он набросал ей картину жизни ради ближнего, освещенную вечным сочувствием, общей целью и трудом.
Это увлекло Иерию, а ее увлечение как бы окрылило и его душу. Они долго проговорили в храме и расстались только перед вечером.
«Вот эта была бы мне истинной подругой, — думал Лисимах, печально пробираясь по шумным улицам домой. — А Φульвия… Для нее вся цель в том, чтобы задавить кого-то ценностью никому не нужных украшений!»
Глава XII. Предатель
Был вечер. Рим готовился к торжественной встрече Диоклетиана. Улицы кишели народом. Лисимах шел домой из дворца Просфора от невесты. Вдруг среди толпы он увидал Люция, который шел впереди него с бедно одетым юношей, фигура которого показалась Лисимаху знакомой. Сам не отдавая себе отчета, он прибавил шагу, нагнал их и узнал бледнолицего Платона, которого приютили укрывшиеся на его вилле христиане.
— Платон! — вскричал он. — Как ты попал сюда?
Юноша оглянулся, инстинктивно бросился было в сторону, но тотчас овладел собою и, хотя и с побледневшим лицом, подошел в Лисимаху. Люций стоял перед ним тоже с не совсем спокойным лицом.
— А! Так вы знакомы! — вскричал он с едва заметным поддельным удивлением.
— Да. Благородный и великодушный Лисимах Φеликс оказал мне однажды великую милость и услугу, — вскричал, все более и более оправляясь, Платон.
— Но зачем ты в Риме? — спросил Лисимах.
«Теперь здесь опасно!» — чуть-чуть не прибавил он, но удержался из-за присутствия Люция.
— Мне дали знать, что между рабами этого господина есть одна моя родственница, и я пришел умолять его… — заговорил Платон спешно. Люций с удовольствием и почти восторгом вскинул на него глаза. «Верно, она христианка, он любит ее и пришел спасти!» — подумал ничего не замечавший Лисимах.
— А-а-а… Хорошо! Так это дело ваше, и я оставлю вас, — сказал он громко. — Но если тебе окажется нужна моя помощь, Платон, обратись ко мне смело. Я жду тебя у себя дома через час.
Лисимах поклонился обоим и ушел.
Люций же и Платон, подсмеиваясь над доверчивостью Лисимаха, зашли в кабачок.
Сидя за кружкой вина, Платон подробно и обстоятельно рассказал Люцию все, что происходило на вилле Лисимаха: о том, что делал он сам, о каменоломнях, об убежищах в горах, о намерении христиан бежать во владения Констанция Xлора и, наконец, передал ему даже довольно длинный список имен наиболее видных и богатых тайных исповедников нового учения в Риме.
Люций внимательно перечитал его и, с довольной улыбкой пряча в карман, сказал:
— Хорошо! Тут есть лица интересные! А тебе, Платон, я обещаю не только свободу, а даже со временем и знатность и силу. Дай только мне добиться своей цели! Останься теперь в Риме, не упускай из виду Лисимаха, да не гнушайся и другими. Ты принес оттуда рекомендательное письмо к здешним христианам?
— Нет, я пытался было вырваться оттуда под видом посланника доброй воли, но мне ответили, что я молод. Тогда я бежал тайно. Но это ничего не значит, имя Христа Спасителя и епископа откроет мне здесь и двери, и сердце любого христианского дома.
— Отлично! Работай. А пока на здешние издержки возьми вот это, — сказал Люций, подавая Платону кожаный мешочек с золотом.
— Благодарю, господин! — ответил тот, низко кланяясь.
Люций заплатил за вино, и они вместе вышли из аустерии. Платон попросил Люция, на случай вопроса Лисимаха, сказать, что отец его не согласен отпустить на волю или продать ту рабыню, о которой он просил. Люций обещал, и они расстались.
«Во что бы то ни стало я привлеку на себя внимание императора. А там донос даст мне огромные богатства, усердие, знатность, — и то и другое добудет мне Φульвия, а там… Кто знает! Рим и корона уже привыкли быть игрушкой».
Между тем Платон дошел до дома Лисимаха и его тотчас провели к молодому человеку в библиотеку.
Хитрый шпион рассказал ему целую печально-трогательную историю своей несуществующей родственницы, которая попала в руки гадкого и злого старика, отца Люция, который отказался продать ее, даже несмотря на предстательство сына. Лисимах, как мог, утешил его, обещал и сам принять участие в этом деле, затем перешел к расспросам о том, что делалось на вилле.
Платон с искусно подделанным увлечением и умилением рассказал ему, что беглецы все прибывают, что новый управляющий виллой искусно распределяет христиан, снабжает пищей и отправляет в горы. В горах дело идет тоже успешно: найдено несколько пещер, в которых заранее заготавливают топливо и припасы. Некоторые смельчаки продолжают, не щадя себя, разыскивать путь, по которому могли бы пробраться в безопасные места женщины и дети.
Лисимах слушал его со счастливым, разгоревшимся от волнения лицом. В воображении его рисовалась мирная, хоть и тоскующая о братьях, но преисполненная надежд колония вдохновленных верою людей, расположившаяся бивуаком вокруг костров в прекрасной долине у подножия величавых гор; ему даже слышались звуки вечернего молитвенного пения и виднелись бледные, вдохновленные лица, обращенные к звездному небу.
— Завтра император въезжает в Рим, — сказал он, — и дядя и отец моей невесты непременно требуют, чтобы я был на то время здесь. Зато через несколько дней я буду свободен и сам опять поеду в деревню, тогда дело спасения пойдет еще успешнее. Кроме того, я и сам приму там святое крещение, если меня его удостоят.
— О, мой господин! Ты достоин его гораздо более нас всех! — вскричал Платон. — Но поразмысли, время ли теперь?
— Да, я решился, — ответил Лисимах, — теперь не колеблется разум мой! Я присутствовал уже при казни многих христиан и воочию видел, что дать такую силу душевную может только один единственный Бог Xристос-Спаситель. А что до времени, то мне думается, что такие дела времени ни имеют.
— Истинны слова твои, господин, — почтительно и кротко возразил Платон, — но ты знаешь, что на вилле твоей я нередко удостаивался присутствовать при беседах епископа и знаю, что он думает об этом иначе. Теперь грустное дело мое в Риме кончено, спасти мою родственницу от стыда и страданий мне не удалось, и я хочу завтра же возвратиться к братьям нашим. Богомерзкие игры заблудших меня не интересуют, а там я могу быть полезен разыскивающим путь в горах. Hе захочешь ли ты, господин, послать со мною письмо епископу? Я стану беречь его, как зеницу ока.
— Благодарю тебя, — сказал Лисимах, — я напишу сейчас же императору, а ты пока отдохни на этом ложе.
Он отошел к столу и стал что-то сосредоточенно писать, а Платон с радостным видом лежал на роскошном ложе.
«Пиши, пиши! — думал он. — Ты сам пишешь свой смертный приговор и из тебя выйдет отличное жаркое! Дешево твое письмо я Люцию не продам!»
Глава XIII. Прощание с Иерией
С приездом императора Рим зажил какой-то новой лихорадочной жизнью. На христиан же было открыто кровавое гонение. На площадях и на углах улиц и в базиликах стояли статуи Диоклетиана и других римских богов. Жрецы и императорские чиновники с помощью воинов заставляли всех и каждого преклоняться перед ними и приносить им жертвы. Многие, устрашенные огнем, бичом и пытками христиане покорялись, но большинство спокойно, гордо и радостно шло на муки и казнь. Некоторые, которых никто даже и не подозревал в христианстве, сами выступали из толпы и обличали судей в жестокости, несправедливости, а римских богов в том, что они никогда не существовали. Толпа смотрела на них тогда с озлоблением, но чаще с восторгом и затем разносила молву об их мужестве и вдохновенных речах. Рим стал каким-то горнилом, в котором кипели и бушевали все человеческие страсти, слабости, пороки, сила и добродетели. Одни хотели возвыситься, другие — разбогатеть, третьи под влиянием христианских подвигов углублялись в себя, тайно беседовали с бывшими еще на свободе пресвитерами и вполне отдавались работе мысли и душевного очищения.
Лисимах был в числе последних, но Рим со всем своим шумом, блеском, кострами и казнями становился для него положительно нестерпимым. Он несколько раз порывался уехать в деревню, но дядя и Просфор настаивали, чтобы он сначала выждал случая представиться императору. Люций своей хитростью сумел удивить и тронуть Диоклетиана покорностью, преданностью и находчивостью, и стал его любимцем. Селин непременно хотел поместить туда же своего племянника и очень рассчитывал на свое свидание с императором.
Однажды Лисимах уныло брел по улице, мечтая о возможности выбраться из ненавистного ему города. Вдруг его окликнул веселый женский голос. Он оглянулся и увидел Иерию. Она сидела в носилках с несколькими свертками. Рабы держали и несли еще множество пакетов.
— Как я рада, что встретила тебя, Лисимах, — вскричала она, — а то мне уже думалось, что придется уехать из Рима, не попрощавшись с тобою!
Она встала из носилок, обмахивая платком свое разгоревшееся лицо.
— Как жарко! — продолжала она. — Я целое утро путешествовала по лавкам. Когда уезжаешь далеко и надолго из Рима, приходится запасаться всем на свете.
— А ты уезжаешь? — спросил Лисимах.
— Да. Тоска и скука стали для меня еще невыносимее среди этого оживления. Рим становится нестерпим! И эти костры! Эти казни! Я решилась уехать.
— Значит, ты и на моей свадьбе не будешь? — спросил Лисимах грустно.
— Нет! — ответила она как-то порывисто, и побледнела. — Прощай, Лисимах, и в своем счастии вспоминай иногда одинокую и бесприютную Иерию, которая сама не знает, что делать с собою. — В голосе ее дрожали слезы.
— Прощай, прекрасная и благородная Иерия, — ответил он с участием. — В тебе я теряю одного из самых дорогих друзей своих в Риме.
— Прощай! Иди своей дорогой, Лисимах, а я еще раз заверну в храм Юпитера и попробую умолить огромного каменного бога, чтобы он, если может, согрел и наполнил чем-нибудь пустоту и холод моей души.
Она старалась шутить и смеяться, но в прекрасных черных глазах ее стояли непокорные слезы.
Глава XIV. Донос
Темная ночь царила над Римом. Всюду было тихо. Hе спалось лишь Диоклетиану. Больное, утомленное тело ныло, на душе смутным бременем лежала масса забот, а картина юности, как бы в противоположность, казалась такой легкой, беззаботной, лучезарной… Сердце ныло жалостью и горем. За один год прежней молодой жизни великий «владыка мира», кровожадный и властолюбивый Диоклетиан, отдал бы все свое величие и славу, которые отравлялись заботами, трудами и опасениями текущего времени….
С полчаса лежал император, с невыразимой, мучительной тоской глядя в глаза приступающей старости, своему бессилию, болезням и всей нищете блеска и величия мира сего. Были мгновения, когда он готов был разрыдаться. Это показалось ему унизительным! Чтобы овладеть собой и убежать от мрачных, неотвязных мыслей, он решился позвать дежурного телохранителя. Беззаботная болтовня молодежи всегда действовала на него освежительно. На тихий оклик императора мгновенно поднялся огромного роста силач-евнух, всегда спавший на полу у дверей его опочивальни.
— Позови дежурного телохранителя, — приказал Диоклетиан.
Евнух исчез, а через минуту явился Люций. Он не только не тяготился своей новой службой и никогда не избегал ее, а, напротив, всячески приискивал возможность, как можно чаще оставаться при императоре. Хитрый грек уже изучил характер Диоклетиана и в разговорах с ним выражал юношескую беззаботность и бескорыстие относительно собственных дел, беспредельный восторг и безграничную преданность императору и непримиримую, пылкую ненависть ко всему, что тому не нравилось.
— А! Это ты, Люций! — приветливо встретил его император, когда тот, едва переступая и почти не дыша, стал пробираться по ковру опочивальни. — Hе спится мне. Пожалей старика, поболтай со мною. Уступи мне часы твоего юношеского сна.
— О, царь богоравный! — вскричал Люций. — Что такое сон для человека, готового с радостью и гордостью пожертвовать каждой каплей своей крови!? И разве одно сознание, что служишь тебе, что живешь в твоем лучезарном присутствии, не обращает ночь в ясный день, не удесятеряет в человеке все его телесные и духовные силы?!
— Да, я замечаю, что ты остаешься при мне особенно часто и охотно. Мои сорванцы-рабы, добравшись до ваших здешних удовольствий, не прочь хоть на год кругом подменить себя тобою, благо ты не отказываешься, ласково сказал Диоклетиан. — А весело живется теперь в Риме вашему брату, молодежи?
— Как тебе ответить, государь? Да, весело для того, кого занимают бега, пиры, кости, веселое общество; опасно для того, кто может увлекаться всем этим без меры, — отвечал Люций. — Но, по-моему, даже эти увлечения не так опасны, как иные. Юноша, закутивший, вреден только себе, да разве еще ростовщикам, которые давали ему деньги за бесстыдные проценты и ничего с него не получают. Но нынешний Рим полон еще и таких соблазнов, которые обращают человека во врага своего отечества и всего, что носит название человека.
— Это что же? Многоразличные хитросплетения философов? Я ведь солдат и этих вещей мало знаю.
— Нет, государь. Философия, софисты, разные иноземные культы, разумеется, приносят свою долю вреда, но есть нечто еще опасней! Это — христианство! Эти живые поклонники какого-то иудейского мага лишили Рим уже многих доблестных сынов, а меня — лучшего друга детства…
Свет от светильника падал прямо на лицо Люция. Император видел, что он говорит с увлечением, но на последних словах вдруг как бы осекся, встревожился и смутился.
— Что же, он казнен? — спросил Диоклетиан.
— Нет, государь. Он на свободе, но моя дружба не вынесла такого испытания. С тех пор, как я знаю в нем врага отечества, я не могу дружелюбно протянуть ему руку. Мы разошлись, хотя я и люблю его по-прежнему.
— Назови мне его, — приказал император…
— Государь, — ответил Люций, бледнея, — я раб твой и готов с радостью пролить за тебя последнюю каплю своей крови, но я не доносчик, да еще на человека, дружбу которого оплакиваю.
— А если я дам тебе мое царское слово, что не только не погублю его, но еще постараюсь спасти, услать подальше из Рима?
— Тогда, государь, я паду к ногам твоим и омою их слезами умиления и благодарности!
— Ну, говори же.
— Это Лисимах Φеликс, сын сенатора Анеима Φеликса и племянник того самого Селина Φеликса, которого ты так милостиво встретил сегодня.
Диоклетиан тревожно поднялся на локти и начал расспрашивать. Люций, искусно разыгрывая горе и опасение, постепенно рассказал ему все, что узнал от Платона, и, наконец, передал императору письмо Лисимаха к епископу, в которое как бы случайно попал и список имен лучших и богатейших людей в Риме, тайно исповедовавших христианство. Диоклетиан пробежал глазами письмо, затем начал читать и список. Бледное лицо его покрылось багровыми пятнами.
— И этот!.. И эта!.. — восклицал он по временам.
Люций стоял, опустив голову и разыгрывая трепещущего и нечаянно совершившего преступление доброго человека, но сам все время исподлобья следил за лицом Диоклетиана.
«Погиб теленок! — радостно думал Люций. — Теперь Φульвия моя!»
— Хорошо! — медленно и мрачно проговорил император. — Тебе известно, что все богатства этих людей должны принадлежать по праву тебе?
— Государь, лучезарный, богоравный повелитель! — вскричал Люций. — Я богат и не нуждаюсь ни в чем в мире, кроме твоей милости. Я ненавижу христиан, как врагов, твоих и Рима. Я указал тебе на них лишь потому, что…
— Все равно, закон должен быть исполнен, — сухо отрезал Диоклетиан. — Завтра же назначу следствие. Ступай, юноша, ты оказал мне услугу, но твоя сегодняшняя беседа не доставила мне развлечения.
Люций вышел с далеко не спокойным духом.
* * *
Весь остаток ночи Диоклетиан провел в тяжелых думах. Сила христиан, громкие имена и огромные богатства их собратий по вере сильно тревожили его. Мысль же о Лисимахе была истинной болью в сердце. То был сын друга, спасшего его жизнь! Погубить его значило отплатить отцу черной неблагодарностью. Спасти — значило спасти христианина, а это возмущало всю его душу! И он в безысходной, тяжкой борьбе до утра прометался на своем широком ложе.
Солнце еще не встало над Римом, когда Селин Φеликс получил повеление немедленно явиться во дворец с племянником Лисимахом. Такое внимание императора сильно польстило старику, он весело собрался, заехал за Лисимахом и вместе с ним вошел в приемную залу Диоклетиана. Перс-церемониймейстер сказал ему, что император желает принять его сначала в своих покоях одного, а затем пойдет в аудиенц-залу, и тогда начнется обычный прием.
Когда Селин вошел, Диоклетиан сидел в кресле, бледный и мрачный. В руке у него было письмо.
— Ты знаешь, кто это писал? — спросил Диоклетиан, подавая ему письмо.
Селин с первого взгляда узнал почерк Лисимаха, прочитал письмо, то мертвея, то бледнея, и зашатался, как пьяный.
— Государь!.. — заговорил он, было, но продолжать не хватило силы.
— Тебе известно это? — грустно и сумрачно спросил Диоклетиан.
— Да разразит меня всемогущий Юпитер, я даже не подозревал ничего! — вскричал Селин. — Но, государь, ведь он так молод, его можно еще образумить… Пощади его! Подумай, ведь он последняя отрасль славного рода, оказавшего Риму много услуг!
— Сказать, что этот юноша сын Анеима, значит сказать, что я, несмотря на весь гнев свой, не захочу погубить его. Но и кроме этого у меня есть причины пощадить его, — сказал Диоклетиан задумчиво. — Ты говоришь, его можно образумить? Редко бывает это с христианами! В их зловредном учении есть нечто такое пронзительно-ядовитое, что проникает и захватывает душу раз и навсегда! Однако, попробуем. Его нужно прежде всего отдалить от людей, которые посвятили его в тайны христианского учения. Я поставлю его во главе войска и пошлю куда-нибудь далеко от Рима, но для того, чтобы он не распространял опасной заразы и там, с ним пойдешь и ты. Но помни, Селин! Сегодня я отплачиваю покойному Анеиму, твоему брату, свой долг жизни в лице его сына. Если это не спасет его, я отнесусь к нему уже не как друг и должник его отца, а как правитель Рима, у которого, может быть, нет врагов, опаснее христиан!
— Я сам первый и предам и казню его тогда, даю тебе в этом слово римлянина! — твердо проговорил Селин. — Ты знаешь, государь, что значит для меня Рим, и что я смотрю на христиан одинаково с тобою.
— Верю тебе, старый товарищ! — сказал Диоклетиан. — Юноша здесь? Позови его сюда. Но ни теперь, ни позже нам не следует говорить ему, что мы знаем о его заблуждении.
— Благодарю тебя, государь! — вскричал Селин, крепко пожимая и целуя руку Диоклетиана.
Он вышел и через минуту возвратился с Лисимахом, который совершил все установленные обряды поклонения богу-императору. Диоклетиан смотрел на него мрачно и вместе с тем грустно. Прекрасная фигура и благородное лицо юноши произвели на него чрезвычайно приятное впечатление. Ему стало жаль его, и в то же время его душил гнев при мысли, что такое прекрасное дитя Рима могло встать в сонме врагов его.
— Я был другом отца твоего, Лисимах, — заговорил император медленно, и густые брови его нахмурились, а голубые глаза потемнели. — Анеим Φеликс был храбрый воин и мудрый муж в совете. Дивлюсь, что и ты до сих пор не последовал примеру отца и не стал полезным слугой Рима. Я хочу почтить в тебе отца, которому верил безусловно, и поставлю тебя во главе войска, которое мне нужно послать в Пальмиру (город Сирии). Готовься принять должность и вскоре отправиться в путь.
«Уехать? Оставить начатое дело? Покинуть несчастных христиан на произвол судьбы?» Все эти мысли с быстротой электрической искры пролетели в голове Лисимаха. Он побледнел, однако овладел собою и попытался защищаться.
— Благодарю богоравного повелителя и за отца, и за себя! — заговорил он. — Но какой же я военачальник, когда не был солдатом и никогда не занимался военным делом?
— Я это знаю и для наставления твоего пошлю с тобою дядю, — ответил император.
— Государь, я должен жениться на дочери сенатора Просфора. Дозволь отложить отъезд мой хоть до тех пор, пока мы отпразднуем свадебный пир!
Лисимах ухватился за это, как за последний якорь спасения. Ему хотелось успеть хотя бы предупредить бывших у него на вилле христиан.
— Пальмира отсюда не близко, — возразил Диоклетиан, уже начиная поддаваться одной из тех вспышек гнева, при которых часто делал самые жестокие распоряжения, — а жизнь воина преисполнена опасностей. Воину никогда не следует вступать в брак до похода. Это значило бы только наводнять родину молодыми вдовами и сиротами. Иди в поход, возвращайся прославившись, тогда и женись. А теперь идите домой и ждите моих распоряжений.
Он знал себя и, чувствуя приступ гнева, боялся, что погубит человека, которого обещал спасти, а потому спешил отослать его.
Селин и Лисимах откланялись и вышли. У юноши кружилась голова от ужаса и горя.
— Ты пойдешь домой? — спросил Селин негромко.
— Да, дядя. А тебя прошу сходить к Просфору и объявить ему волю императора. Мне тяжело сделать это самому. Я приду к ним проститься перед самым отъездом.
Он спешил домой, чтобы написать епископу и известить его о своем отъезде, бессилии и, может быть, грозящей опасности. Отослать это печальное послание можно было с кем-нибудь из беднейших римских христиан, на которых шпионы и преследователи обращали меньше внимания. Лисимах силился овладеть своим волнением и сосредоточить все свои умственные способности, находчивость и изобретательность на том, чтобы доставить гонимым братьям как можно больше средств и безопасности. Едва закончив письмо, он один, без раба, прошел в самую отдаленную, беднейшую часть города за Тибром, где еще жило несколько знакомых христиан. Один юноша охотно взялся тотчас же отправиться к подножию Альп. Возвратившись домой, он пытался было сделать кое-какие распоряжения по поводу своего отъезда, но в голове было иное, — выходила какая-то путаница. Наконец, он не выдержал и сказал домоправителю:
— Прости меня, Никомед, я так разбит. Ты часто снаряжал в дорогу отца моего, сделай и для меня то же. Домоправитель печально и сочувственно взглянул в бледное лицо своего молодого господина и вышел, но через несколько минут возвратился, видимо взволнованный.
— Из дворца прибыл гонец с бумагами к тебе от императора и желает тебя видеть, господин. Он ждет в триклинии[163].
Лисимах встал и вышел к послу с безучастным отчаянием. Худшего он не мог ждать уже ничего.
Это был Люций.
— Поздравляю с царской милостью, благородный Лисимах! — заговорил он с язвительной улыбкой. — Вот что значит благородное происхождение и заслуги доблестного отца! Ты сразу назначен военачальником и получаешь поручение по делу, которое император принимает теперь ближе всего к сердцу! Вот, указ.
— Благодарю за поздравление, Люций, — искренне ответил Лисимах, — но ведь мне эти почести не к лицу и не по сердцу!
— Понимаю, счастливый жених! Богиня Φортуна[164] — женщина, а женщина всегда несколько бестолкова. Она послала тебе и счастливую любовь, и воинские почести в одно и то же время, а это не совсем удобно! Ну, что ж? Будь мужчиной и исправь женскую глупость, — распредели все по времени: сначала слава мужа, а потом радости супруга. Φульвия любит тебя столько же, как и ты ее, она дождется тебя и встретит с восхищением.
На этот раз даже чистый и незлобивый Лисимах понял злую насмешку. Он не любил Φульвию и ухаживал за ней только по воле отца и дяди. Чтобы не ссориться с товарищем на прощание, он, как бы не слыша слов Люция, сломал печать указа, развернул указ и начал читать его.
Диоклетиан отдавал под его команду два легиона и приказывал вести их в Пальмиру для преследования христиан. Лисимах не дочитал до конца и с криком ярости и отчаяния упал на ближайшее ложе.
— Что? Поход назначен длинный или любвеобильному сердцу жаль крови этих нечестивых?! — с хохотом вскричал Люций. — Ничего. Ведь ты родовитый сын Рима и естественный враг его врагов! Гряди и прославься! Однако, мне пора во дворец. Оставляю тебя с твоим беспримерным счастьем.
Глава XV. Молочный брат
Лисимах бросился лицом в подушки ложа и пролежал так около часу.
Hаступила уже ночь и в доме царила мертвенная тишина. Вдруг послышались спешные тяжелые шаги и в триклиний вошел молодой легионер. То был молочный брат Лисимаха, Прим, — сын той самой кормилицы, которая обратила в христианство его мать. Анеим, отец Лисимаха, ничего не подозревая, всегда покровительствовал ему и открыл ему хорошую военную дорогу. Прим слышал от матери, что слабая Вицирия не осмелилась посвятить сына в правила истинного учения, а потому, хотя искренно любил Лисимаха, но встречался с ним редко и никогда не заговаривал о делах веры. На этот раз он вошел к нему смело, озабоченно, даже тревожно. Увидя, что Лисимах лежит ничком в подушки, он приостановился, но потом тронул его за плечо и тихо назвал по имени.
Лисимах медленно поднял голову и взглянул на него.
— Ты слышал? Ты знаешь? — заговорил Прим, волнуясь. — Наш легион назначен в Пальмиру для преследования христиан, и ты будешь нашим начальником! Приказано собраться в ночь, а выступить завтра вечером. Что это значит, Лисимах? Неужели ты изменил нашим братьям? Ведь я знаю, что с недавних пор ты начал посещать наши собрания, спас епископа и несколько сотен наших, а теперь… Заклинаю тебя памятью наших матерей, которые обе были христианками, скажи мне, что это значит? Ты изменил своей вере. Подумай, сколько крови, сколько муки!..
— Hе знаю! Hе знаю! — вскричал Лисимах. — Никому и ничего я не изменял! Сам я не крестился только потому, что не успел. По вере и любви я — христианин! Но надо мною тяготеет какое-то проклятие! Долго я не мог найти мира душевного, а когда нашел его, должен сам, своими же собственными руками разрушать все то, что стало мне дороже жалкой земной жизни!
— Да нет! — снова вскричал он, быстро вскакивая на ноги и начиная широко и энергично шагать взад и вперед. — Я не поеду! Я завтра же утром явлюсь Диоклетиану и прямо скажу ему, что он не бог и не царь, а безумный, злой старик, который в своем затмении и жестокости убивает лучший цвет человечества, всю его надежду на счастье на земле и на вечное спасение в небе. Пусть меня казнят, пусть истязают! Разве та пытка душевная, которую я переживаю в своем бессилии, не во сто крат мучительнее тех испытаний, которые могут продлевать надо мною его палачи в течение нескольких часов или даже дней? Это не будет даже подвигом! Я просто хочу спасти самого себя от ада в душе и не смею даже помыслить о благословении всеблагого Господа Иисуса.
— Приветствую тебя и поклоняюсь тебе, честный брат! — вскричал Прим. — Ты уже теперь святой мученик! Когда нам объявили указ Диоклетиана и назвали тебя, как начальника гонения, я не усомнился в тебе! Сын твоей матери не может быть извергом, сын твоего отца никогда не стал бы шпионом. Но в легионе нашем, как и везде, тебе я могу смело сказать это, много христиан и они стали с ненавистью повторять твое имя и клясть тебя, как предателя! Тогда я решился, дождавшись ночи, повидаться с тобою. Дядя твой уже в казармах, но я убежал, а теперь пойду обратно и успокою братию. Hе должно оставлять человека и на минуту в грехе, даже невольном.
— Hе для чего! — ответил Лисимах. — Завтра, когда меня из дворца потащат на позорную казнь, они узнают истину и без твоего уверения! Ведь я сказал тебе, что не стану во главе ваших легионов и не пойду в Пальмиру, а здесь же, даже не крещеный, без надежды на святой мученический венец, пострадаю во имя Христа.
— Пути Господни неисповедимы, Лисимах, и не нам изменять их по своему произволу, — торжественно проговорил молодой легионер. — У каждого из пекущихся о славе имени Христова есть свой жребий, своя воля. Одни, более слабые, бегут перед лицом гонения, и во все стороны разносят Его святое учение; другие, более сильные, переносят страшнейшие пытки, вдохновенно славя имя Бога, и своим примером подкрепляют души слабых и увлекают нечестивых. Несомненно, что есть и иные назначения, в которых Бог должен торжествовать над происками дьявола, и твоя теперешняя доля — одна из таковых! Если в Пальмиру поедет один Селин, а там много и христиан и христианских монастырей, ты знаешь его энергию и суровость, — он наделает там бездну зла, прольет моря крови! Но если во главе войска преследователей станешь ты, то можешь значительно смягчить все это дело. Ты сейчас сказал, что готов пожертвовать славе Христовой не только жизнью, но и тем, что дороже ее. А разве еще большим ты не пожертвовал бы? Тяжело и позорно мученичество телесное, но разве мука душевная не стократ тяжелее и доблестнее? Припомни решимость епископа пострадать и затем его великодушное отречение от мученического венца ради блага паствы!
В начале речи Прима Лисимах продолжал бесцельно и порывисто шагать по триклинию, почти не слушая его, но по мере того, как он говорил, юный военачальник становился внимательнее, движения его делались медленнее, и конец речи он дослушивал уже с полным вниманием.
— Ну, хорошо! — вскричал он. — Будь по-твоему! Я принимаю на себя служение, которое возлагает на меня любовь к братии! Я вынесу пытку душевную в уверенности, что не минет меня и телесная. Ты знаешь зоркость и беспощадность Селина и жестокость Диоклетиана. Когда мое дело откроется, меня не спасут ни родство с Селином, ни дружба моего отца с императором! Благодарю тебя, Прим, и за себя и от имени моей матери! Лучше сделать, если можно, два дела, чем одно!
Он крепко обнял Прима. Молодые люди пробеседовали еще с час, затем Прим поспешил в казармы, а Лисимах уже спокойно стал собираться в путь.
Глава XVI. В женском монастыре
Невдалеке от пальмировской границы, близ сирийского городка Сикаполь, укромно приютился женский монастырь, основанный благочестивой женой по имени Платонида. Во время гонения христиан, воздвигнутого Диоклетианом, в нем было уже пятьдесят человек сестер. Сама Платонида скончалась, но передала правление обителью другу и помощнице своей Вриенне, женщине глубоко верующей и унаследовавшей от своих римских предков твердость характера.
Большая часть времени монахинь проходила в молитвах и чтении Священного Писания. Потребности их были самые скудные, а потому даже и хозяйственные работы монастыря отнимали у них не много времени. Кроме того, в Сикаполе было много знатных христианок, которые своими пожертвованиями отводили от молящихся сестер всякие житейские нужды.
В обыкновенные дни в монастырь не допускался никто из мирян, и лишь в пятницу, на время богослужения, имели в него доступ женщины-христианки из окрестностей, и стекалось их обыкновенно очень много. Кроме святости места и стройного пения монахинь их привлекало в монастырский храм поразительно вдохновенное и звучное чтение Святого Писания, слышавшееся из особого, завешенного от посторонних взоров места. Несколько раз приступали мирянки к матери Вриенне с вопросами о том, кто читает таким, в душу проникающим голосом, и просили показать им вдохновенную инокиню, которой и сами они были обязаны многими часами возвышенного душевного настроения. Но величавая мать-игуменья всегда отделывалась или уклончивыми ответами, или прямым отказом, однако обаяние таинственной чтицы от этого только возрастало, а молва о ней разносилась все дальше и дальше.
* * *
В Сикаполе между другими богатыми и знатными аристократами жил и престарелый отец Иерии, занимавший в Пальмире и римской части Ассирии высокую должность. И он, и жена его были язычники, но уже от природы — люди добрые и скромные. Главную привязанность их в жизни составляла красавица-дочь, и приезд ее из Рима был для стариков истинным праздником. Но вскоре и эта радость была омрачена печальным состоянием Иерии. Она не скрывала, да и не могла бы скрыть, что ее гнетет тоска и безысходная пустота жизни, в которой все окружающее кажется ей так мелко, ничтожно, недолговечно… Она не жаловалась, но из веселой, остроумной, избалованной красавицы обратилась в вялую, тоскующую, ко всему равнодушную женщину. Родители попробовали было развлекать ее подарками и пирами, но что могли доставить скромные провинциальные средства женщине, участвовавшей в роскошных пирах Рима! Однажды мать заговорила с ней даже о вторичном замужестве, о радостях материнства, но Иерия горько улыбнулась и махнула рукой.
— Не суди теперешних людей по моему отцу, мама! — ответила она. — В Риме нет больше таких браков, как ваш. Люди женятся не по любви, а из-за денег, и расходятся с женами тоже из-за пустяков. Для женщины же быть оставленной — позорно! Ты говоришь о детях. Да, счастливы матери, имеющие хороших детей! Но что хорошего может быть воспитано ныне?
Однажды, в пятницу утром, к ним зашла одна из знакомых матери, веселая, кроткая и добродушная молодая женщина, христианка по вере. Иерия слушала ее веселые речи с затаенной завистью, и в то же время, и у самой у нее как будто отлегло от сердца, так что, когда та встала, чтобы проститься, она просила ее не покидать их и посидеть еще немного.
— Душой бы рада и благодарю вас за ласку, но остаться все-таки не могу! — ответила молодая женщина. — Сегодня пятница, единственный день, когда впускают в монастырь Вриенны, а там для меня кладезь, из которого я черпаю и кротость, и бодрость духа.
— А разве ты христианка? — спросила Иерия с удивлением.
— Да, христианка.
— Ведь нынче это смертельно опасно. Диоклетиан воздвиг кровавое гонение против христиан.
— Мы знаем это, и скорбим и радуемся за наших братьев, хотя и пострадавших, но удостоившихся славных венцов мученических, пресвятого имени Христова ради. Кроме того, мы надеемся, что гонение не достигнет наших пределов.
— Едва ли! Говорят, император сильно возмущен самоуправством и дерзостью христиан.
— Hе дерзостью их, а клеветами, на них распространенными по наущению духа тьмы! — горячо возразила молодая женщина. — Но если гонение и достигнет сюда, так что ж такого? И прежде могли бы они доказать гонителям, что имя Господне не может угаснуть средь творений Его! Но они хотят из слепой злобы продолжать лить кровь невинных! Пусть продолжают, мы бессильны, да и не захотим противиться им; но и между нами найдутся такие, которые сумеют посмеяться над их бессилием, и среди самых ужасных мучений могут умереть, славя имя единого Бога Творца и Искупителя! Я первая пошла бы на этот подвиг с неизмеримой радостью, лишь бы Господь сподобил меня этого счастья!
«Какое воодушевление! Сколько жизни, сколько силы душевной! Ее не грызет тоска и пустота!» — думала Иерия, глядя на прекрасное, разгоревшееся лицо молодой христианки.
— Послушай, возьми меня с собой в монастырь, — сказала она громко. — Меня туда впустят?
— Церковь христианская открывает свои материнские объятия всем, прибегающим к ней, — ответила молодая женщина. — Пойдем.
Иерия встала с ложа, на котором тоскливо лежала с самого утра, и с давно не бывалой живостью собралась в путь. От Сикаполя до монастыря Вриенны было верст пять (верста — русская мера длины, равная 1, 06 км. — ред.). Все время пути молодые женщины беседовали между собой, не умолкая. Иерия расспрашивала, а новая подруга отвечала, силясь разбить те предубеждения, которые заронили в душу Иерии ложные римские слухи.
Когда они вошли в храм, служба уже началась. Множество женщин-мирянок стояло у входа и горячо молилось, широко и степенно возлагая на себя крестное знамение. Несколько далее, впереди их, виделись фигуры монахинь.
Здесь все поражало Иерию: и простота, никогда не виданная богатой римлянкой, привыкшей к переизбытку роскоши и в храмах, и даже в частных жилищах, и смысл молитвенных слов, а в особенности кроткое, задумчивое, сосредоточенное выражение лиц присутствующих, лишь временами переходившее в светлый восторг или глубокое умиление.
Но вот за темной занавесью, бывшей в правой стороне церкви, вспыхнул слабый свет. Все встрепенулись и стихли. Из-за занавески послышался звучный голос. Он говорил о любви, самоотречении и всепрощении, говорил о скорбях и невзгодах земной жизни, об утешении и силе, ниспосылаемой свыше, о Боге — Творце и Искупителе, о Его неизреченной благости и вечной лучезарной и беспечальной жизни, которую Он уготовал за гробом достойным поклонникам и чадам Своим.
Все существо ее обратилось в слух и мысль. Так вот где истинный смысл жизни! Так вот чего недоставало ее измученной душе! Да разве то, что было до сих пор, было жизнью? Нет, то был мрак, пустота и холод, смерть, хотя в теле и текла горячая кровь. Но теперь воскресение возможно, путь найден!
Чудный, вдохновенный голос за занавесью смолк, огонь потух, в храме становилось темно, — служба окончилась. Мирянки крестились и тихо выходили. Монахини уже исчезли через боковой ход. Одна Иерия все еще неподвижно стояла у колонны.
— Поспешим в город! Становится темно, и родители твои станут о тебе тревожиться, — проговорил возле нее голос ее новой подруги.
— Благодарю тебя! — негромко сказала Иерия, взяла ее руку и поцеловала.
Молодая женщина угадала, что произошло в душе красавицы-римлянки. Она обняла ее, и обе они молча прослезились.
Дорогой Иерия настойчиво расспрашивала о том, кто читал за занавесью, но ей могли ответить только, что это одна из молодых монахинь, именем Феврония, и что ее никто никогда не видел.
Придя домой, Иерия едва перекинулась несколькими словами с отцом и матерью, тотчас же заперлась в своем покое и отдалась течению так внезапно нахлынувших на нее мыслей.
И этих-то людей обвиняют в возмущениях, ненависти и убийствах! О, люди! Ей вспомнился Лисимах.
О, если бы он знал, если бы он был сегодня вместе с нею… Как наполнило бы это учение его высокую душу. Он стал бы еще прекраснее. А как ясно и тихо стало ей теперь на сердце. Прежней тоски и пустоты нет и следа. Хочется жить, действовать, любить и молиться Творцу, создавшему такую прекрасную жизнь! Если это переживает она, едва услышавшая это учение, то каково же людям, уже давно живущим в его правилах? Оттого таким светлым покоем и сияет лицо ее новой подруги, оттого таким глубоким вдохновением и звучал голос. Ей неудержимо захотелось снова в монастырь, снова слушать слова христианского учения и вымолить свидание и беседу с той, которая была так сильно проникнута им. Избалованная и своевольная Иерия не умела и не хотела обуздывать своих желаний. Была уже поздняя ночь, но она разбудила рабыню и приказала ей, чтобы несколько человек рабов приготовились проводить ее за город. Девушка взглянула на нее с безграничным удивлением, но молча повиновалась.
Ночная тьма и пустые улицы, неверно и мрачно освещаемые факелами рабов, навеяли на молодую женщину иное настроение. Она продолжала думать все о том же, но теперь ей пришли на память прежние бесплодно пережитые годы. Душой овладели скорбь и раскаяние, к глазам подступили слезы.
Когда странное ночное шествие остановилось у монастыря, Иерия готова была разрыдаться. Один из ее рабов хотел постучать в ворота монастыря, но госпожа отвела его рукой, постучалась сама и приблизила лицо к небольшой задвинутой форточке, прорезанной в одной из досок ворот.
— Кто там? — послышался слегка дрогнувший страхом старческий, тихий голос.
— Истерзанная душа, молящаяся о братской помощи и спасении именем Иисуса! — ответила Иерия.
Форточка медленно открылась и в ее квадрате показалось лицо престарелой сестры-привратницы. Увидав рабов и факелы, она хотела было захлопнуть дверцу и убежать, но при взгляде на роскошные одежды Иерии, на которых там и сям при свете факелов сверкало золото и драгоценные камни, и глядя на ее бледное, скорбное лицо, она остановилась.
— Что угодно, госпожа моя? — спросила старушка.
— Сжалься надо мною, святая старица, душа моя в тревоге и печали! Впусти меня в обитель вашу и скажи матери Вриенне, что я умоляю ее именем вашего Бога выслушать меня.
— Подожди лучше у ворот, — ответила старушка, — мать Вриенна теперь на молитве, но ради горести твоей я прерву ее, доложу о тебе и поступлю с тобой, как она прикажет.
Минут через десять она возвратилась и сказала, что Вриенна согласилась принять скорбящую.
— Если я через час не выйду к вам, возвратитесь в город и скажите родителям моим, где я, — приказала Иерия рабам. — Я буду у них завтра.
Сестра-привратница проводила ее в келью Вриенны.
Мать Вриенна сидела у окна и задумчиво смотрела на звездное небо. При входе Иерии она быстро встала.
— Приветствую тебя, госпожа моя! — проговорила Вриенна. — Но что привело тебя в такую пору в нашу убогую обитель?
— Скорбь и боль безысходные! О, выслушай меня, блаженная мати! Уврачуй мою душу! — вскричала Иерия, заливаясь слезами и опускаясь перед нею на колени.
Вриенна тихо наклонилась, обвила рукою стан Иерии, подняла ее и усадила рядом с собой.
— Ты утратила кого-нибудь из милых сердцу, госпожа? — спросила она негромко.
— Нет, скорбь моя не житейская, — ответила молодая женщина. — Я богата, здорова, все дорогие мне люди живы и благоденствуют, но…
То рыдая, то как бы замирая в сосредоточенном созерцании прошедшего, Иерия рассказала Вриенне всю свою жизнь и поведала о сознании пустоты и нищеты всего, что составляло ее жизнь: свои попытки спастись от тоски увеселениями, катаньями, поездками, даже гаданиями; наконец, рассказала о своем приезде в Сикаполь и нравственном потрясении в сегодняшний вечер в монастыре, и особенно во время чтения Февронии. Она молила престарелую игуменью просветить ее в правилах веры и успокоить душу ее в святой и мирной обители их, обещая отдать ей все свое огромное богатство.
Вриенна выслушала ее с серьезным участием.
— Жив Господь, сестра моя, и Он призывает тебя в стадо чад Своих! — сказала она. — Но душа человеческая слаба, а искушения дьявольские сильны и многоразличны. Поэтому нельзя возлагать всех упований своих на первое, хотя бы и хорошее побуждение сердца. В добродетели, как и в науке, потребно упражнение. Живи у родителей своих и посещай нас; мы станем молиться о тебе, наставлять и поддерживать советами. Ты говоришь, что готова отдать нам все свои богатства. К чему они нам, дочь моя! Мы собираем богатства не здешние, и каждому воздастся по заслугам его. А в мире, среди которого ты живешь, гораздо больше страждущих и неимущих, чем между нами. Ищи же их и благотвори. Наши дьяконы и дьякониссы с радостью станут помогать тебе. И вот, когда через некоторое время такой жизни желание твое отречься от мира все еще не остынет, приходи и поселись с нами.
— Да, но я хочу достигнуть того же восторга и вдохновения, каким звучал сегодня голос Февронии! Это, должно быть, значит еще при жизни носить рай в душе, а в мирской жизни это невозможно! — возразила Иерия.
— Для Бога и имени Его все возможно, госпожа, — поправила ее Вриенна, — но я, судя по человечеству, не смею утаить от тебя, что состояние духа и познания Февронии достигнуты необычным путем. Нас здесь пятьдесят, а никто не удостоился этой благодати, хотя и все мы непрестанно и усердно стремимся к ней.
— Расскажи мне о ней, матушка!
— Вижу усердие твое и не откажу в желании твоем, госпожа, хотя всегда неохотно рассказываю посторонним об этом возлюбленном и пресветлом чаде моем…
И, немного помолчав, Вриенна продолжила:
— У меня был брат, воин. Во время войны он получил тяжкие увечья, не мог возвратиться в Рим и остался здесь. Родители наши уже умерли, я была одинока и жила с невесткой. Замужество не прельщало меня. При вести о положении брата, я решилась вместе с женой его переселиться сюда. Здесь удостоилась я свидеться с блаженной Платонидой, которая была основательницей нашей обители. Меня прельстила тишина и святость монастырской жизни, и я постриглась. Между тем, у брата моего родилась дочь и умерла жена. Он вскоре последовал за женою, и маленькая Феврония осталась сиротой. С благословения игумении, блаженной памяти Платониды, я на два года оставила ее у кормилицы в одной христианской семье, а затем взяла к себе. С тех пор ни один мирской помысел не коснулся ее мыслей; она не только никогда не видела ни одного мужчины, но и ни одной женщины-мирянки, ни одного светского одеяния! Она вся принадлежала Богу и святым Его, — читала и переписывала священные книги, занималась рукоделием и молилась. По мере того, как она росла, возрастали и вера, и любовь ее. Когда в ней сказался дивный дар вдохновенного чтения, извлекавшего слезы умиления у самых суровых из сестер наших, я не осмелилась лишить даров ее всю паству нашу и разрешила ей читать в храме, но не иначе как скрывшись за занавесью. И вот ее-то и слышала ты сегодня, госпожа моя.
— О, как хотелось бы мне видеть и слышать ее! — вскричала Иерия. — Вся душа моя стремится к этому невиданно чистому на земле уже небесному существу! Hе откажи мне в этой милости, мать Вриенна. Я чувствую, что никто так скоро не сделает меня соучастницей мира христианского и дочерью Бога истинного, как боговдохновенная Феврония. Даю тебе клятву: ни одним словом не смутить ее чистых помыслов; я стану только спрашивать и слушать!
Вриенна долго сидела, упорно и сосредоточенно размышляя.
— Несправедливо было бы лишить ее плодов начатого дела. Она начала твое обращение, пусть же и окончит его, — сказала она, наконец.
И затем продолжила, глядя на Иерию:
— Хорошо, госпожа, ты сегодня же увидишь Февронию, но, прошу тебя, не в этом одеянии, которое могло бы смутить ее девический дух. Hе погнушайся надеть мои монашеские одежды, а я скрою от нее, что ты мирянка, и выдам тебя за странствующую сестру одного из римских монастырей. Угодно тебе это?
— О, с радостью! — вскричала Иерия, принимаясь быстро и небрежно срывать с себя драгоценные украшения и бросать их на стол.
Вриенна молча подала ей монашескую одежду, позвала помощницу Φомаиду и приказала провести Иерию к Февронии под именем Серафимы, странствующей сестры одного из римских монастырей.
Когда они вошли в крошечную келью с маленьким оконцем почти под самым потолком, молодая девушка молилась. Она тотчас же поднялась с колен и обернулась к вошедшим, но на лице ее было все еще выражение восторженного умиления. Большие прекрасные глаза блестели, дивно очерченные губы раскраснелись, черные, как смоль, волосы густыми прядями сбегали почти до колен, слегка оттеняя поразительно белый лоб несколькими капризными короткими кудрями.
Иерия чуть не вскрикнула от восхищения перед этой почти сверхъестественной красотой.
— Мать Вриенна приветствует тебя, дочь моя, — сказала Φомаида, — и молит приютить эту странствующую сестру. Если пожелаешь, потрудись усладить слух ее чтением Священного Писания.
— Радостно покорюсь воле матери моей, — ответила девушка своим поразительно звучным голосом.
— Приди, сестра моя, и располагай мною. Я рада служить тебе, — прибавила она, приветливо обращаясь к Иерии.
Когда ушла Φомаида, женщины сели на ложе, состоявшее из неширокой голой доски, и между ними скоро завязалась оживленная беседа. Иерия, часто забывая свою роль, ставила вопросы, которые прямо обличали ее полное невежество в христианском учении, но Феврония, хотя и была удивлена этим, отвечала на все вопросы ее с такой умилительной простотой, увлечением и красноречием, что Иерия все глубже и глубже проникалась верой, благоговением и раскаянием.
По временам Феврония брала с полки один из свитков, прочитывала избранные места из сочинений отцов церкви и объясняла их… Иерия же слушала, дивясь ее красоте, уму, простоте и кротости Февронии.
Солнце стояло уже довольно высоко, когда Вриенна вызвала Иерию из кельи Февронии и уговорила ее идти домой. Φомаида в тот же день призналась молодой девушке, что Иерия не монахиня, а язычница и знатная женщина, желающая креститься. Феврония сначала несколько озадачилась, но затем стала относиться к Иерии еще сочувственнее. Скоро между ними установились самые задушенные отношения.
Увлечение Иерии христианским учением не могло не отразиться и на ее родителях. Возвращаясь из монастыря, она передавала им все, что там слышала и познала там, и убеждала их со всем пылом, на который была способна ее натура, принять святое крещение. Беседы свои она вела открыто, не стесняясь присутствия рабов и рабынь, так что, наконец, в тот день, когда старики объявили о своей решимости креститься, все слуги их, несмотря на мрачные слухи, все чаще доносившиеся с запада, тоже просили удостоить их святого крещения.
Глава XVII. Туча идет…
Вести о казнях и гонениях христиан становились действительно все ужаснее.
Селин со своей ратью, обратившейся в палачей, медленно подвигался по Пальмире и всюду ознаменовывал свой путь ужасающими жестокостями. Повсюду пылали костры, скрипели колеса, свистели в воздухе ремни бичей, и земля обливалась реками христианской крови. Мрачного гонителя приводила в ярость непобедимая стойкость христиан. Лисимах и Прим пускались на опаснейшие поступки для спасения своих единоверцев, но спасти всех было все-таки невозможно.
Наконец, рать палачей приблизилась и к Сикаполю. В городе поднялось смятение. Иерия поспешила в монастырь Вриенны известить ее о приближающейся опасности. Монахини перепугались и бросились к Вриенне, которая в то время была очень озабочена болезнью Февронии. Девушка была так слаба, что лежала в келье своей тетки и воспитательницы, с поразительным терпением перенося страдания.
— Мать Вриенна, — кричали сестры, — мучители уже приближаются к городу! Нечестивый зверь Селин пришел и в наши пределы.
— Что же вы хотите делать? — спросила Вриенна спокойно.
— Веди нас! Бежим! — отвечали тревожные, плачущие голоса.
— Враг не пришел еще, а вы собираетесь уже бежать! Никто еще не требовал от вас подвига, а вы уже от него отказываетесь! — с укоризной ответила Вриенна. — Я не бегу, а с весельем и покорностью буду ждать, чтобы Господь удостоил меня венца мученического! Xристос пострадал за нас, пострадаем же и мы во Имя Его. А теперь помолимся, чтобы Он ниспослал нам силу духа перенести спасительные мучения.
Спокойствие игуменьи и молитва возвратили в души монахинь долю бодрости. Но тем не менее в эту ночь в монастыре никто не спал, некоторые плакали и молились, другие только беседовали между собою.
— Нет! Это не дело, сестры! — вдруг громко заговорила одна из сестер по имени Иерия. — Все бегут от мучителей, а мы одни должны ждать лютой казни! Чем мы лучше или хуже остальной христианской братии?! Вриенна говорит так только потому, что для нее дороже всех Феврония. Она и сама убежала бы, да куда побежишь с больной, которая не в силах подняться на ноги. Утром я пойду к ней и уговорю ее отпустить нас!
Между сестрами поднялись споры, но наутро Иерия, с общего согласия, сама пришла к Вриенне и сказала ей:
— Прикажи нам бежать, мать Вриенна! Никто из нас не считает себя лучше и сильнее епископа, пресвитеров и всего причта церковного, а они уже все бежали. Подумай и то, что между нами есть и молодые, и престарелые, которым уже не под силу будет вынести мучения, и они могут, поддаваясь боли, отступить от Христа и дать восторжествовать дьяволу и его работникам-палачам. Что выиграют тогда и души наши, и самое христианство? За сестру Февронию тоже не опасайся, мы возьмем ее с собой и спрячем в безопасное место.
— Жив Xристос Бог мой! Ему посвятила я и душу, и тело свое, и не уйду отсюда, чтобы спастись от мучителей! — громко и твердо возразила Феврония, приподнимая голову с подушки.
Вриенна стояла, печально опустив голову на грудь, и размышляла.
— Видишь, до чего ты довела сестер! — обратилась она к Иерии. — Ты совратила их с пути спасения! Но и я не стану удерживать вас силой. Каждый ответит перед Господом за дела свои! Бегите, ступайте, куда знаете!
Монахини стали со слезами прощаться с Вриенной, Февронией и Φомаидой, которая так же не захотела расстаться со своей старой подругой и с девушкой, к которой привязалась, как к родной дочери. Когда к Февронии подошла сестра Прокла (молоденькая монахиня, ее подруга), больная тихо сказала ей:
— Hе беги, Прокла, подожди! Я не доживу до казни, а нашим старушкам будет не под силу похоронить меня. Нас найдут теперь не скоро, если все разбегутся.
— Хорошо, сестра, я останусь, — ответила Прокла. Через час монастырь опустел. Молодые девушки остались в комнате игуменьи, а Вриенна и Φомаида то уныло бродили по пустынным кельям, то заходили к больной, то молились и рыдали в церкви.
К вечеру приехала римская гостья Иерия и известила, что Селин Просфор уже вступил в город и остановился в претории[165]. Вместе с тем объявила, что и она, и ее родители также не намерены бежать, а станут спокойно ждать участи, которую пошлет им Господь.
Вриенна и Φомаида радостно приветствовали ее решимость, а Феврония светло и любовно глянула ей в глаза и крепко пожала ее руку.
Расставаясь, все четверо простились друг с другом со слезами, как перед смертью, обещая встретиться в ином, лучшем мире.
Едва успела Иерия выехать из ворот монастыря, за нею мелькнула и другая, высокая, статная женская фигура и исчезла в темноте. Это убегала последняя надежда Февронии — Прокла.
Час спустя, Вриенна и Φомаида тихо вошли в келью больной и оставались возле ее ложа. Феврония не спала и встретила их дружелюбной улыбкой. Старушки осторожно заговорили о возможности предстоящих мучений, укрепляя Февронию надеждой на вечную жизнь и приводя примеры из истории прежних гонений.
Между тем, Иерия, возвратясь в город, узнала от отца, что во главе гонителей, вместе с Селином стоит и племянник его, Лисимах Феликс. Эта весть поразила ее, как громом. Лисимах, благороднейший и чистейший из всех римлян, — гонитель кротких христиан? Ей захотелось непременно увидеть его: переубедить, спасти. Hедолго думая, она написала ему письмо и послала одного из рабов в преторию. Лисимах тотчас же явился на ее зов. Но когда он вошел, Иерия не узнала его. Это был уже не тот цветущий, прекрасный юноша, которого она полгода назад оставила в Риме. Он похудел до того, что казался скелетом, едва прикрытым кожей. Глаза молодого красавца глубоко ввалились в орбиты и приняли тусклый, безжизненный, страдальческий оттенок, движения отличались какой-то мучительной медлительностью, голова понуро висела. Это был, скорее, труп, движимый какой-то тайной внутренней силой, чем молодой юноша, наполненный жизненной красотой и энергией.
При виде Иерии он не обрадовался, а только как-то нестерпимо горько улыбнулся.
— Лисимах, — проговорила она тихим, дрогнувшим голосом, — что с тобой, и какое ты место занимаешь?!
— Ты хочешь упрекать меня, благородная Иерия? Упрекай, но знай, что уже ничто в мире не увеличит моих страданий! Это — естественное последствие моей трусости и душевной слабости. Я не посмел сказать Диоклетиану, что я христианин (хотя и не успел креститься), а он, в виде милости, поставил меня во главе гонений. Я хотел возмутиться и отказаться от этой пытки, но мне доказали, что мое согласие будет жертвой во Имя Христа и любви к ближнему. Я взялся переносить эту жертву, вовсе не размыслив, будет ли она мне по силам. И вот теперь я — разбитый, полуживой человек, выше головы утонувший в крови неповинных. Имя мое стало страшилищем для тех, кого я люблю, за кого страдаю!
— Так ты христианин, Лисимах?! — вскричала Иерия.
— Позволь же мне облобызать тебя, брат во Христе!
Неожиданная и давно забытая человеческая ласка размягчила сердце несчастного, он припал к плечу Иерии и зарыдал как ребенок. И так далеко за полночь просидели вместе старые друзья.
Лисимах рассказал ей о событиях своей жизни со времени их разлуки в Риме, а она утешала и успокаивала его изболевшуюся душу. Так же Иерия сообщила о бегстве из города почти всех христиан, причем оказалось, что он сам присылал к ним тайного гонца с предупреждением о предстоящей опасности. Далее она рассказала и о монастыре Вриенны и умоляла Лисимаха спасти прекрасную Февронию и ее престарелую воспитательницу. Между тем Селин, едва наскоро устроившись в претории, допросил явившихся к нему шпионов и хотел тотчас же послать Лисимаха в монастырь, но так как его не было дома, недолго подождал его, а затем решился послать туда вместо него Прима, который к тому времени получил уже чин комита[166].
Глава XVIII. Венцы мученические
Над землею радостно всходило солнце. Вся природа ликовала утренним пробуждением.
В монастырском саду весело пели птицы, а Вриенна и Φомаида все сидели у постели больной Февронии, утешали и укрепляли ее.
Вдруг по пустынным ходам монастыря раздались тяжелые шаги воинов и бряцание оружия.
— Настало время наше! — торжественно и спокойно произнесла Вриенна. — Господи, да будет воля Твоя.
Все трое набожно перекрестились.
Вриенна сама отперла дверь из кельи в коридор.
В амбразуре мгновенно, как из-под земли, вырос воин-колосс.
— А, старая колдунья, ты сама еще и выбегаешь к нам! — загремел он. — Знаем мы ваше желание поразить нас бесстрашием. Вот сейчас старая голова твоя соскочит с плеч!
Он выхватил меч и уже занес его над головой несчастной, когда на руке его мгновенно повисла Феврония.
— Убей лучше меня, а не ее! — взмолилась она.
Воин взглянул в это лицо поразительной красоты девушки и отшатнулся в удивлении.
В эту минуту в келью вошел Прим.
— Мы присланы сюда осмотреть их обитель, а не убивать беззащитных старух без суда! — крикнул он воину. — Ступай вон!
Солдат, вполголоса ругаясь, вышел.
— А где же остальные ваши сестры? — спросил Прим.
— От страха разбежались в разные стороны, господин, — ответила монахиня Φомаида.
— О, зачем не бежали вы? — вскричал Прим. — Бегите сегодня же, я не оставлю стражи.
Он быстро вышел, осмотрел другие кельи и увел солдат обратно в город, доложив Селину, что монахини разбежались. Вриенна, Φомаида и Феврония снова остались в мучительной неизвестности, но ни одной из них не пришло в голову бежать.
Между тем Прим, возвратясь в город, застал в претории Лисимаха. Они переглянулись и отошли в сторону.
— Ну, что? — спросил Лисимах.
— Большинство разбежались, — ответил Прим. — Но остались игуменья, ее помощница и одна девушка. О, господин, что за лицо у этого создания! Ни в Риме и нигде, даже на статуях, я не видал подобной красоты!
— Эту девушку зовут Февронией, — сказал Лисимах. — Я хочу спасти ее.
— А ты как знаешь ее? — вскричал Прим.
— Это все равно, но я спасу ее! — твердо повторил Лисимах.
Разговаривая, они не заметили, что один воин, ненавидевший их обоих за быстрое возвышение Прима, подошел довольно близко и слышал все, что было ими сказано. Они продолжали еще свой разговор, а тот пошел к Селину. Старик давно уже подозревал Лисимаха в тайных сношениях с христианами, но все щадил его и ограничивался только тем, что зорко следил за ним и часто разрушал его планы. Так и на этот раз. Он тотчас же послал к монастырю стражу, а одному из своих доверенных рабов велел сходить туда же, увидеть Февронию и прийти доложить ему, действительно ли она так хороша.
Раб возвратился и донес ему, что в жизни своей он не видел никого, подобного ей по красоте.
Селин поверил доносу воина. Его опасения за племянника стали еще тревожнее, и он решился ускорить казнь Февронии. По его приказанию по городу побежали глашатаи, приглашая весь народ собраться на площади, чтобы наблюдать за казнью «мерзкой» христианки. Между тем на площади уже выставили статуи Диоклетиана и Юпитера, приготовили помост и орудия пытки. Вынесли и судейские кресла. Их было два. Одним из главных мучений Лисимаха было то, что дядя непременно требовал, чтобы он присутствовал при всех казнях. Это не было простой и бесцельной жестокостью со стороны Селина, напротив, он по-своему глубоко любил племянника и надеялся этой тяжкой школой закалить его характер. Ночь прошла в монастыре тихо, Феврония или дремала, или молилась. Измученные бессонницей и горем старушки Вриенна и Φомаида по временам погружались в тревожное забытье, но тотчас же вздрагивали, просыпались и начинали или молиться, или вести утешительные беседы со своей любимицей. Наутро явились воины Селина. Свирепые лица их, громкие, грубые голоса не смутили Февронию. Она встретила их спокойно, сама встала и помогла надеть на себя тяжелые цепи и вериги. Вриенна, не выдержав душевной муки, бросилась на колени перед начальником воинов и молила его лучше убить ее или отвести на казнь вместо Февронии.
— Перестань болтать вздор, старуха, — ответил тот. — Идите!
— Дайте мне хоть проститься с нею! — взмолилась Вриенна. — Пойми, господин, что она для меня дороже дочери!
— Ну, это можно, да только скорей! Он махнул воинам рукой, и те равнодушно отошли в сторону.
— Феврония, детище мое дорогое, любимое! — заговорила Вриенна, с невыразимой нежностью обнимая девушку. — Ступай и пострадай, прекрасное, блаженное дитя, а я стану здесь молиться, чтобы Господь подкрепил тебя, и буду торжествовать, когда услышу весть о твоей блаженной, доблестной кончине!
— Честная мать, не тревожься за меня, — ответила Феврония, пытаясь обнять старушку своей рукой, окованной тяжелыми наручниками.
Но тяжелая цепь зазвенела и своей тяжестью помешала ей…
— Ни муки, которые сколько бы ни продолжались, ни прелести жизни, которых я не знаю, да и знать не хочу, не могут отвратить моего взора от того блаженства, которое составляло цель всей моей жизни. Чем более лютыми будут муки, тем ближе и вернее будет цель. Прекрасное лицо девушки было спокойно и светло.
Казалось, она готовилась не на казнь, а в какое-то священное путешествие. С глубоким чувством поцеловала она руку Вриенны, а та, рыдая, осенила ее широким крестным знамением.
Так же спокойно, просто и задушевно Феврония простилась и с Φомаидой.
— Ты будешь на площади не одна, дитя! — прошептала старушка. — Я переоденусь в мирское платье и буду там вместе с Иерией.
— Ну, скорее вы там! — крикнул начальник воинов.
— Я готова, господин, — ответила Феврония и сама подошла к ним.
Воины окружили и повели ее на судилище, а Вриенна и Φомаида долго следили за ними глазами и, рыдая, посылали благословения на голову юной мученицы.
На возвышении у судейских кресел появились фигуры Селина и Лисимаха, окруженные воинской свитой. Народ стих. Селин был бледнее и мрачнее обыкновенного; глубоко впавшие глаза его не то со злобой, не то с состраданием бродили по толпе. Лисимах был как-то мертвенно спокоен, но это не был покой довольного человека, а — состояние существа, отупевшего от страданий. Он подошел к своему креслу, равнодушно оглядел площадь и сел, опустив голову на грудь.
— Ведут! Ведут… — лихорадочно пробежало по толпе. Затем послышались восклицания горя, жалости и, одновременно, восторга.
Среди грубых фигур воинов, Феврония, одетая в белое, с роскошными волнами чудных вьющихся по плечам волос, была еще прекраснее, еще менее принадлежала земле, еще более казалась райским ангелом, слетевшим в юдоль плача, печали и злобы, чтобы разделить с обездоленными братьями тяготы их существования. Она шла медленно, но твердо. Цепи, сковывающие ее хрупкое тело, зловеще побрякивали при каждом движении. Остановившись перед судьями, она подняла свои прекрасные глаза к небу и перекрестилась. Ржавые цепи опять неприятно зазвучали. В толпе послышались рыдания.
Селин порывисто откашлялся и что-то тихо сказал Лисимаху. Тот вздрогнул, с заметным ужасом отшатнулся, но тотчас овладел собою.
«Страдает эта невинная жертва… Буду продолжать мои мучения и я!..» — подумал Лисимах.
— Скажи нам, девушка, — вяло и глухо заговорил он, — как тебя зовут, и кто ты — раба или свободная?
— Я раба, — ответила Феврония спокойно и твердо.
— Чья же раба ты? — продолжал Лисимах, как бы повторяя старый, давно опротивевший урок и тупо глядя в землю.
— Я раба единого истинного Бога, создавшего меня и всю вселенную, и Сына Его, Господа Иисуса Христа, Спасителя мира! — проговорила девушка с убеждением.
— А как тебя зовут?
— Я — христианка.
— Но нам нужно знать, как зовут тебя.
— Я уже сказала тебе, господин, что я христианка, для того чтобы облегчить тебе решение моей участи, а имя мое, какое бы оно ни было, не изменит ее. Но если тебе все-таки угодно знать его, меня зовут Феврония, — ответила девушка с достоинством.
«Знает, что ее ждут муки, и все-таки так отвечает! Ах, если бы таковы были римлянки!» — думал Селин.
— Феврония, — заговорил он громко, тоном кроткого увещевания, — пока я не видел тебя, я считал тебя недостойной даже говорить со мною. Но ум и красота твоя вселили в мое сердце столько жалости, что я не только говорю с тобою, я молю тебя: отрекись от своего постыдного лжеучения, возвратись к служению нашим богам, избавь меня от мучительной обязанности подвергать тебя ужаснейшим пыткам. Подумай, дитя, сейчас ждут тебя огонь и железо, позор и истязания, но если ты покоришься мне, я возьму тебя в Рим. Сам император будет приветствовать тебя, как свою любимейшую дочь. Мы найдем в мужья тебе прекрасного юношу, такого же, как сидящий возле меня племянник мой Лисимах. Если хочешь, даже его самого. Для тебя я разрушу все лежащие на нас с ним обещания другой благородной девушке. Подумай, решись, и окружат тебя почет, богатство и радости матери и супруги…
Старик говорил долго, убедительно, красноречиво. Девушка слушала его внимательно, спокойно. Во все речи его на устах ее играла грустная улыбка, точно ей было беспредельно жаль его. Когда он замолчал, она подняла на него свои большие, печальные и серьезные глаза.
— От глубины души моей благодарю тебя, господин, за твое участие и старание спасти меня, — сказала она. — Но рассуди сам, будет ли то, что ты предлагаешь мне, спасением и истинным счастьем? Почет, супружеские и материнские радости, — все это длится лишь столько, сколько живет человек на земле, да и то омрачается разными печалями. А после смерти грешную душу ждут мрак и муки, которые будут длиться не несколько часов, а веки вечные. Итак, рассуди сам, какую ничтожную цену можешь ты предложить мне взамен того вечного, ничем не омраченного и беспредельного блаженства, которое уготовал на небе Господь наш Иисус Xристос для душ раскаявшихся, чистых и верующих в Него.
— И ты в это веришь? — спросил Селин мрачно.
— Верую, господин! И никакие прельщения, угрозы и казни не могут убить в душе моей этой веры! — торжественно и твердо проговорила Феврония.
— Хорошо… Я продлю твои муки, я сделаю их настолько ужасными, что ты поймешь, от чего ты отказалась! — вскричал Селин. — Ты отвергла роскошь и почет, узнай же, что такое позор и рубище!
Он махнул рукою. Палачи бросились на девушку и, не снимая с нее цепей, грубо сорвали с нее одежду. Она стояла перед толпой бледная, но спокойная, лишь по временам поднимая прекрасные глаза к небу. Толпа замерла, Лисимах закрыл лицо руками. Несколько минут спустя, палач набросил на плечи мученицы отвратительное, мокрое и зловонное рубище… Она вздрогнула от отвращения, но продолжала молчать.
Селин смотрел на нее с возрастающей яростью.
— О, бесстыдное отродье христиан! — загремел он. — Ты даже не краснеешь от своего позора. Так я заставлю тебя покраснеть ручьями собственной крови!
— Господин, я уже сказала тебе, что ни угрозы, ни пытки не заставят меня отречься от веры Господа Иисуса Христа! — кротко ответила Феврония.
— А вот увидим! Огня, когти! — крикнул в ярости Селин.
В привычных руках палачей прекрасное, слабое тело мгновенно поднялось и повисло в воздухе. Под него пододвинули огромную жаровню, пламя на которой поддерживалось маслом. Четверо воинов схватили железные когти и принялись строгать ими кожу мученицы.
Кровь брызнула, и ручьями, шипя, потекла на жаровню. Тело святой мученицы затрепетало от нестерпимой муки, но она твердым голосом произнесла:
— Благодарю тебя, Xристос Бог мой. Ты Сам страдал на Кресте и меня удостоил пострадать имени Твоего ради!
Толпа застонала. Послышались рыдания и ропот.
Пытка продолжалась несколько минут. Сначала по телу Февронии пробегал еще трепет, затем оно еще раз рванулось в сторону и повисло неподвижно. Палачи подумали, что она скончалась и опустили ее на землю, но святая тотчас же открыла глаза.
— Неужели ты и теперь не отречешься от вашего лжеучения? — спросил, нагибаясь к ней, Селин.
Это было уже не тело юной красавицы, а бесформенная масса истерзанной человеческой плоти.
Только бледное, страдающее лицо мученицы сияло неземным светом.
— Славлю имя Христа Бога моего и не отрекусь от него вовек! — громко воскликнула прекрасная Феврония, напрягая все силы своего красивого, звучного голоса. В этот миг ей вспомнилась Вриенна, и ее возглас стал чем-то вроде привета и благодарности старой воспитательнице.
— Повесить ее за руки на дерево и строгать висящую! — крикнул Селин.
Палачи принялись за свое дело, но когда в воздухе вместо прелестного девического тела повисла окровавленная бесформенная масса, народ завыл от горя и сострадания! На площади поднялся такой шум, что стоящие вокруг Селина сановники стали убеждать его прекратить нечеловеческую пытку.
— Здешние люди не римляне! — говорили они ему. — Они не привыкли так беспрекословно подчиняться воле деспотов. Может произойти восстание.
Но вдруг толпа сама собой стихла, как бы по волшебству. На небольшом помосте появилась прекрасная фигура римлянки Иерии. В эту минуту она была поистине величава. Красивое лицо ее дышало негодованием.
Она прямо и смело подошла к Селину.
— О, жестокий, безумный старик! — заговорила она громко. — Разве тебе недостаточно еще того зла, которое ты уже причинил этому ни в чем неповинному ребенку? Разве ты и в самом деле орудие ада, а не сын женщины, что в каменном сердце твоем нет ни жалости, ни справедливости, ни даже ума в старой твоей голове? Не этими ли жестокостями хочешь ты привязать души людей к тем глупым истуканам, которых считаешь за богов? Будь в них хоть не великий дух, подобающий Богу, а простая душа смертного, они давно ринулись бы на тебя при виде твоей жестокости к бедному, истерзанному ребенку. Но вот, они стоят смирно и безучастно, как наковальня, на которой дробят кости мучеников! Знай, безумный, злой, кровожадный старик, если бессильны твои боги, то есть на небе иной правосудный, великий и всемогущий Бог, Бог истинный, христианский, Который обрушит на твою голову все проклятия, которыми преисполнены сердца всех, видевших твою безумную жестокость!
По площади пробежал ропот восторга и крики одобрения толпы.
— Схватить эту безумную! — проговорил Селин, едва переводя дух от злобы.
— Тебе мало растерзать одну женщину, хочешь принести в жертву своим достойным богам еще другую, благородный римлянин? — презрительно и спокойно спросила Иерия. — Что же, я готова. Берите!
Но воины и сановники стали снова убеждать Селина, что арест такой знатной, богатой и всеми любимой женщины непременно вызовет восстание в народе. Суровый старик вынужден был уступить, но не хотел оставить смелый поступок Иерии безнаказанным.
— Иди домой, благородная Иерия, — сказал он, — но знай, что своим вмешательством ты принесла много вреда этой девушке. Из-за твоих слов я утрою ее муки и сделаю все, чтобы отвратить ее сердце от Бога, Которого ты славишь.
Лисимах мгновенно оживился. Он быстро поднял голову и с восторгом, почтением и завистью низко поклонился Иерии. Она кивнула ему головой и сошла с помоста к толпе, почтительно и восторженно расступившейся перед нею. Между тем Селин приказал снять страдалицу Февронию с дерева, отнести ее в темницу и там передать на попечение врача. Площадь опустела. Некоторые пошли было за воинами, несшими несчастную мученицу, но стража разогнала их. Селин заперся у себя в опочивальне и долго, тревожно шагал взад и вперед.
Лисимах сидел в претории и то сосредоточенно размышлял о чем-то, то тихо рыдал. В сумерки пришел к нему Прим. Они долго беседовали шепотом.
— Да, я спасу ее! — вскричал наконец Лисимах громко. — Больше выносить ее мук я не в силах! О, как завидовал я сегодня Иерии, когда она гордо и открыто восстала против истязаний девушки! Но возложенное на меня служение держит меня, как в оковах! Сходи к Иерии, скажи, чтобы к ночи она приготовила носилки и несколько человек носильщиков. Мы вместе войдем в тюрьму и унесем Февронию куда-нибудь в христианский дом или даже далеко за город. А завтра… Ты не знаешь, где дядя?
— Он у себя. С ним сидит старший жрец, — сказал Прим. — Hе люблю я этого старика! Опять он натолкнет Селина на страшные жестокости. Однако, прощай, я пойду к Иерии. В числе носильщиков буду и я. Мы встретимся на углу, у сада отца Иерии.
— Хорошо. До свидания, — сказал Лисимах.
Настала ночь. Взволнованный город мало-помалу стих, улицы опустели. Настала бархатная непроницаемая темень южных ночей. У сада отца Иерии слышался тихий шепот, шаги двух или трех осторожно подходивших к воротам сада людей, затем топот нескольких тяжело нагруженных и быстро идущих человек. Таинственное шествие направилось к воротам городской тюрьмы.
У ворот темницы стоял на страже воин.
— Пропусти нас! — повелительно раздался молодой мужской голос.
Воин узнал Лисимаха и беспрекословно отпер.
— Прим, — сказал Лисимах, останавливаясь во дворе, — останься с носильщиками здесь. Я выйду за тобой, когда будет время.
Сторожа уже знали молодого римского начальника и хотя удивлялись, видя вместе с ним женщину, но пропустили их без задержек.
— Осторожней, Лисимах! Селин разъярен и может погубить тебя! — уговаривала его Иерия.
— Чем он скорее это сделает, тем быстрее спасет меня, — отвечал юноша и смело шел вперед, открыто раздавая приказания.
Когда отворилась дверь в темницу Февронии, мученица, лежа на жестком одре, была в забытьи. Мрачные сырые стены, там и сям поросшие плесенью, слабо освещались светильником, оставленным на столе.
При звуке шагов, Феврония открыла глаза и явно обрадовалась приходу Иерии. Потом с удивлением взглянула на Лисимаха.
— Дитя мое, моя святая учительница, святая мученица! — вскричала Иерия горячо. — Преклоняюсь перед тобою! Но ты уже довольно доказала всю силу, всю святость твоего духа и перед людьми, и перед Богом. Довольно позора и муки! Мы пришли спасти тебя! Мы скроем тебя в безопасное место, и ты будешь жить среди нас, всегда высокочтимая и оберегаемая, как зеница ока. Все тело страдалицы было обвязано бинтами, вытянутые на дыбе руки неподвижно лежали вдоль тела. Только прекрасное, бледное, но все же вдохновенное лицо было по-прежнему выразительно.
Она с укором взглянула на Иерию.
— И это ты, сестра моя, говоришь мне? — сказала она слабым голосом. — Чем разнится то, что ты теперь предлагаешь мне, от слов гонителя? Опять та же человеческая слава, то же телесное спокойствие! Разве ты не знаешь, что с младенчества все это не имело цены для меня, что с детских лет моей единственной целью было жертвенное служение Господу Иисусу!
— Но ты уже послужила Ему! — вскричал Лисимах.
— Вижу, что ты еще не христианин, господин мой, — ответила Феврония, медленно переводя на него глаза, — иначе ты не упустил бы из виду второй и, может быть, главнейшей половины христианского учения. Первую составляет служение Богу, вторую — служение ближнему. И что, если я соглашусь бежать, спастись, разве завтра, когда истина откроется, многие из братии нашей не соблазнятся, не усомнятся во мне? Разве поймут тогда вдохновляющую и укрепляющую силу Господню видевшие меня язычники? Если я соглашусь с вами, лучшая часть моего служения останется не исполненной! Молю же вас, не нарушайте моей решимости! Я жду конца с радостью.
Лисимах и Иерия рыдали.
— О, блаженная, кроткая, святая мученица! — заговорила молодая женщина. — В первый раз в жизни уста твои произнесли несправедливое слово, да и то по неведению. Позволь же мне сказать истину. Юноша этот, хотя еще и язычник и имеет вид гонителя, но по душе он давно христианин и несет на себе тяжелейшую часть христианского служения.
И она рассказала святой Февронии положение Лисимаха и всю тяжесть и опасность, которую он принял на себя ради спасения многих христиан. Девушка слушала ее с ласковой, умиленной улыбкой.
— Больше я не могу переживать подобных душевных мук! — воскликнул Лисимах. — И если Господь не хочет принять меня иным путем, то я сам наложу на себя руки!
— Воздержись от безумных слов, брат мой! — остановила его Феврония. — Господь посылает нам испытания, но никогда они не превышают наших сил. Так или иначе испытания твои окончатся, когда ты до конца претерпишь то, что будет достаточно для твоего вечного спасения. Тогда настанет для тебя и освобождение.
Феврония явно изнемогала. Лисимах и Иерия пытались еще раз убедить ее бежать, но она только слабо покачала головой и закрыла глаза. Они со слезами помолились у ее изголовья и тихо вышли.
Таинственная процессия исчезла из тюрьмы так же беззвучно, как и вошла в нее. А Лисимах и Иерия, после тайного свидания с мученицей, окрепли душой.Селин провел почти всю ночь в беседе со жрецом, убеждавшим его не отдавать на поругание христианам древних богов Рима и удвоить пытки Февронии, чтобы так или иначе отомстить Иерии, каждую беду которой можно будет объяснить карой разгневанных богов.
Едва ушел от него жрец, явился воин-шпион, враг Лисимаха, и донес Селину, что племянник его только что вернулся из тюрьмы, откуда, видимо, хотел освободить христианскую узницу.
Горе, злоба и сознание бессилия племянника, которого он считал до сих пор превыше и сильнее всех в мире, душили старика. Он услал воина и до утра метался в своей опочивальне, как разъяренный лев в клетке. С появлением дневного света он несколько успокоился. Им овладела решимость сделать последнюю, отчаянную попытку и обратить казнь Февронии в нечто небывало ужасное, один рассказ о чем приводил бы в трепет всех ныне существующих и будущих христиан.
С восходом солнца он был уже на площади. Воины привели из темницы Февронию, и мрачный Селин доказал, что действительно хотел навести ужас на всех окружающих. Перо человеческое отказывается описывать все муки, которые вынесла мученица! Ее жгли, строгали, один за другим выдергивали зубы, отрубали по частям члены!!! Последней казнью было отсечение головы, но и за минуту перед этим ударом она тихо и радостно славила Бога. Лисимаха во время казни не было, но он явился тотчас же после нее, приказал поставить к святому телу стражу, чтобы верующие в своем рвении не разобрали отсеченных членов мученицы, и поручил Иерии вместе с Вриенной и Φомаидой похоронить Февронию в том монастыре, где она подвязалась служить Господу Иисусу.
Едва возвратился Селин в преторию, как к нему явился гонец от императора. Старик с подобающим почетом принял тяжелый пакет и вскрыл его. То был подробный отчет следствия над делом Лисимаха на вилле, сообщение о том, что часть скрывавшихся там христиан схвачена и казнена, и приказание подвергнуть той же участи и Лисимаха. Селин побледнел, зашатался, как пьяный, и прошел к себе. Трудно передать, что пережил этот человек, сознавая, что все, что он считал незыблемым, рушилось в прах; все, что он любил, на что возлагал лучшие надежды будущего, должно было погибнуть! Но слуга Рима и императора взял в нем верх над страждущим человеком. Он собственноручно написал приказ об аресте Лисимаха, хотя не указал настоящей причины его ареста; только упомянул об измене и оскорблении величия императора. Это было тоже одним из приемов против христиан.
Он не успел еще закончить чтение указа, как вошел Лисимах.
— Читай, — сказал дядя, дрожащей рукой подавая ему указ Диоклетиана.
Лисимах быстро пробежал указ глазами.
— О! Ты уже умолила за меня, святая мученица! — вскричал он, и лицо его просветлело выражением глубокой радости. — Ты сама же и предсказала мне мое освобождение!
Давно не видел Селин юношу таким воодушевленным. Он подумал, что Лисимах помешался.
— Разве ты не понимаешь, что дело идет о твоей позорной казни? — спросил он его.
— Понимаю, дядя, и именно об этом говорю. Человек, прежде всего, имеет душу, а потом уже бывает римлянином, воином и Феликсом (фамилия рода — ред.). Душа же может найти успокоение лишь в чистой, самоотверженной, любящей вере Христовой. По душе я давно христианин, а по делам, ради братьев во Христе, носил личину гонителя.
— Прочь! Вон отсюда! — закричал Селин, спеша избавиться от вида этого юноши, перед которым он боялся зарыдать от жалости и нежности.
Вбежала стража. Лисимах без сопротивления отдался ей в руки… А несчастный Селин, старый, могучий столп древнего Рима, провел еще одну мучительно-тоскливую ночь. И накрыли его минуты такого отчаяния, что он бился своей старой головой о стены и о холодные мраморные столы опочивальни…
Наутро, на том самом помосте, где погибла Феврония, не видно было уже орудий пытки, а стояла одна плаха. По городу же разнесся слух, что будут казнить одного из римских гонителей.
Площадь была залита народом. Пришла и Иерия, которую не покидало мрачное предчувствие. С нею было множество женщин. Они тихо перешептывались и что-то горестно рассказывали окружающим.
На одиноком судейском кресле появился Селин.
За эту ночь он постарел на десятки лет и едва передвигал ноги. Окружающая его свита поглядывала на него с тревогой и затаенным состраданием.
Привели Лисимаха. Он был без шлема, без лат, в белой просторной тунике. Неожиданно, изможденный от последних волнений, Лисимах словно сбросил с себя растерянность и вялость. Из понурого, потерянного военачальника, свидетеля расправ над братьями христианами, он превратился в могучего, сильного воина, как будто напитался невидимой силой. В каждом движении его сказывалась небывалая энергия, красивое лицо светилось радостью и ожиданием чего-то несказанно прекрасного.
Пока читали указ императора, он отыскал глазами в толпе Иерию и приветливо поклонился ей. Она ответила ему тем же и горько заплакала. Читавший указ чиновник замолк. Палачи двинулись было к Лисимаху, но он повелительным жестом руки остановил их и оглядел всю площадь.
— Братья, — проговорил он, низко кланяясь во все четыре стороны, — настал мой смертный час, и я радуюсь, что он дает мне право открыть вам истину и попросить прощения за обман. По душе я — христианин, и только ради спасения гонимых взялся за дело гонителя. Это было и главным грехом, и главным бичом моей жизни. Я не служил ни Богу, ни идолу, за то и умираю, не крещенный, осмеливаясь только произносить и славословить имя Бога Христа! Братья язычники, простите меня, а я, недостойный, стану молиться, чтобы Господь просветил вас светом Евангельской истины! Братья христиане, простите меня и молитесь, чтобы Господь Иисус в Своей беспредельной благодати помиловал мою грешную и измученную душу! Кончину мою предрекла мне вчера святая великомученица Феврония. Ее предстательству и поручаю дух мой!..
— Дядя и друг отца моего! — продолжал Лисимах. — Благодарю тебя из глубины души моей за все то, что ты для меня сделал. Прости, что я не смог исполнить надежд, которые ты возлагал на меня в своем затмении, и не тоскуй обо мне. Я знаю, что ты любил меня… Но я умираю счастливым! С надеждой…
— Делайте свое дело, — прибавил он, обращаясь к палачам, перекрестился и опустил голову на плаху.
Селин с широко раскрытыми глазами, в видимом припадке безумия встал со своего места. Волосы его поднялись дыбом, губы исказились и напрасно силились произнести какие-то слова. Стоявший к нему спиной палач не видел фигуры его и высоко взмахнул секирой.
— Жив Господь Иисус Xристос, Царь и Спаситель мира! — громко и восторженно крикнул Лисимах, и прекрасная голова его покатилась к ногам Селина.
Суровый старик задрожал всем телом и, сделав над собой нечеловеческое усилие, высоко поднял руки над головой и, глядя в небо, громко и внятно крикнул:
— Великий Бог истинный, Бог христианский, Бог Февронии отомстит за кровь неповинную!
Он зашатался, судорожно ухватился за грудь и замертво упал возле головы Лисимаха.
На площади произошло великое смятение, и едва удалось успокоить и разослать по домам потрясенный народ. Прим, Иерия, Вриенна и Φомаида взяли тела дяди и племянника и с христианским братолюбием похоронили на монастырском кладбище.
Со смертью гонителя прекратилось гонение в Сикаполе. Прим, оставшийся во главе отряда, прямо объявил, что не желает более служить императору-кровопийце и уйдет в пустыню. Большинство воинов последовало его примеру, а горожане крестились почти поголовно.
Возвратившись из бегства, епископ воздвиг на месте казни Февронии храм ее имени. Иерия горячо оплакивала кончину Лисимаха и поступила в монастырь Вриенны, куда снова сошлись все разбежавшиеся от неминуемой погибели сестры. Отрекаясь от мира, молодая красавица-римлянка отдала обители все свои богатства и стала одной из самых доблестных сестер.
Эпилог
В Сикаполе было уже все тихо и спокойно. После мучительной кончины Февронии христианская община пополнилась новыми христианами и вновь зажила в братской любви и усердной проповеди имени Христова.
Рим же продолжал утопать в потоках невинной крови. Люций так же служил при Диоклетиане и промышлял шпионством. Богатство его росло с каждым днем, и он все смелее преследовал свою цель — жениться на Φульвии, дочери сенатора Просфора.
Гордая язычница, узнав о «позорной» кончине Лисимаха, нимало не сожалела о нем, а напротив, смотрела на запрет императора повенчаться с ним как на своего рода счастье. С этих пор, она стала больше ценить неизменное внимание Люция, который быстро возвышался в римском мире.
Но однажды он снова стал пугать Валерия его расписками. Тот, в огорчении, пошел и рассказал сестре о постыдном ремесле Люция. Φульвия сильно побледнела и промолчала, но как только в комнату вошел Люций, она гордо встала со своего места и презрительно сказала ему:
— Благородная римлянка не может иметь ничего общего с предателем и шпионом. Это — ремесло рабов и отпущенников! Ступай отсюда!
Взбешенный Люций начал действовать через расписки Валерия, но Φульвия спокойно продала все свои наряды и драгоценности, убедила отца сделать то же самое и, уплатив все долги брата, прекратила все сношения своей семьи с гнусным шпионом. Цена блеска Люция навела ее на многие здравые мысли, и она гордо несла свою голову среди охватившей семью нужды.
Между тем, наступил 305 год.
Диоклетиан продолжал болеть и наконец в мае отказался от престола.
Преследования христиан прекратились.
С отъездом императора пал и весь блеск положения Люция. Утомленные долгими, кровавыми зрелищами римляне не могли простить ему, что он был одной из причин гонений христиан, и он, измученный всеобщим презрением, уехал в одну из своих вилл, поселился там в одиночестве и, в конце концов, помешался.
Бедность и примирение Рима с христианами свели Φульвию с некоторыми из членов христианской общины. Новизна, искренность и несвойственная ей кротость их учения сначала поразили ее, а затем окончательно завладели ее страждущей душой, и не прошло и года, как некогда блистательная и несокрушимо гордая Φульвия стала одной из самых строгих, выносливых и кротких сестер одного из христианских монастырей.
Наступил и достопамятный в истории христианства 312 год. Император Константин перед битвой с Максенцием увидел на небе огненный крест с надписью: «Сим победишь!» В день битвы крест и имя Иисуса были изображены на императорском знамени. Константин одержал победу и с того дня некогда бывший орудием позорной казни крест стал символом мира и благоденствия на земле и райского блаженства на небе.
Ольга Хмелева
Журнал «Отдых христианина», июль, сентябрь, октябрь, декабрь, 1902 г.
Священник Седвин. Икар и Петрония
— Боже, какая громадная толпа! Ради Бога, батюшка, не пытайся пробраться сквозь нее, ты слишком стар и слаб, мой дорогой. Толпа тебя раздавит.
— К тому же, что ты можешь сделать, учитель! Видишь вон там золотую полосу, блистающую как раз у подножия закрытой статуи? Это императорские телохранители. Значит, Нерон[167] здесь. И даже если бы тебе удалось пробраться сквозь толпу, то все же ты пришел бы слишком поздно, чтобы помешать им. Пошли лучше уж меня, наставник, если ты все еще находишь, что необходимо противиться открытию статуи. Господь сохранит меня и поможет мне вернуться обратно к вам целым и невредимым.
— Нет, дочь моя! Нет, Hиреус! Hе отговаривайте меня, я должен идти. Сколько еще времени буду я допускать этого лжеучителя, этого проклятого Богом человека, этого антихриста, который торжественно произносит свою ложь перед римским народом?!
— Hе ходи, батюшка. Ты знаешь, что император угрожал лишить тебя жизни, а Симон-волхв замышляет убить тебя, и если ты умрешь, то на ком останется здесь церковь? Кто станет заботиться обо мне?
Разговаривавшие стояли в нише одного из двух мостов, перекинутых через Тибр[168], ведших к небольшому островку, чудесно разукрашенному строениями, храмами и статуями. Широкий белый пролет арки был запружен густой толпой, стремившейся к островку, где, как заметил раньше Hиреус, солнце горело на сверкающих касках и блестящих копьях императорских телохранителей, столпившихся вокруг закрытой статуи, возвышавшейся над всеми прочими статуями, стоявшими вокруг нее.
Говорившие были никто иные, как апостол Петр, которого дочь его Петрония и жених ее Hиреус старались отговорить от попытки пробраться сквозь густую толпу и явиться перед императором.
Каждая жилка старческого сердца апостола трепетала негодованием: император собирался открыть статую, поставленную в честь старинного врага Петра, Симона-волхва, разоблаченного им несколько лет тому назад в Самарии[169].
Обманщик, благодаря своим лже-чудесам, вошел в большую милость у Нерона, умело льстил помешанному императору, заискивал у жены его Поппеи, и, подражая бреду и экстазу восточных магов, предрек им обоим бессмертие. Симон стал поклоняемым божеством, кумиром, и говорили, что сам император страшился необычайной силы, который тот якобы обладал. Симон выдавал себя за воплощенное божество, пришедшее искупить человеческий род. Он объявил учение христиан ложным и, подбивая императора преследовать и заключать в темницы христиан, вызвал Петра проявить всенародно свое могущество. Апостол отказался, Симон же выставил его отказ признанием его поражения и ничтожества. Легко себе представить, как раздражающе подействовал подобный поступок на человека, чья пламенная горячность засвидетельствована даже на страницах Нового Завета.
Когда известие об открытии статуи достигло его ушей, Петр решился попытаться обличить, наконец, идолопоклонство двора и, по возможности, разоблачить плутовство и обман волхва. И теперь, после долгого пути из гостиницы, находившейся в предместье, где жил апостол, он достиг Сестинского (в ориг. тексте — ред.) моста; но возбужденная, движущаяся толпа народа явилась довольно трудно преоборимым препятствием.
— Позволь мне пойти, — спросил молодой человек, закутываясь в плащ и готовясь тронуться в путь.
Говоривший был красивый грек, высокий, стройный, крепкий, с черной курчавой головой.
— Отпусти меня, учитель, и я постараюсь сделать все, что в моих силах, даже если статуя окажется уже открыта.
Несколько мгновений Петр, закрыв глаза рукой, колебался.
— Да, ступай, — с глубоким вздохом произнес он наконец. — Моя пора почти уже прошла. Приходится передавать часть работы в более молодые руки учеников. Ступай и да будет Господь с тобой!
И апостол простер руки над склонившимся юношей.
Hиреус молча поклонился, сбежал по ступенькам на дорогу, но тотчас же вернулся.
— Никто не может знать, — произнес он, взяв руку Петронии, — как все кончится. Но если… Если я не вернусь, дорогая, да будет Господь с тобою, да сохранит и помилует Он тебя, пока… Пока… мы не встретимся с тобою «там».
Hиреус нагнулся, поцеловал крошечную руку невесты и побежал прочь прямо в толпу. Девушка пристально смотрела ему вслед, губы ее быстро шевелились, шепча молитву. Ужасная мысль! «Что, если он не вернется обратно! Император прикажет схватить его, и его убьют мгновенно! Что останется ей от счастья в жизни!»
И из глубины души девушка воссылала безмолвную молитву ко престолу Всевышнего о спасении жениха.
Сколько подобных молитв было произнесено в течение 300 лет гонения, последовавшего по смерти Христа! Молитвы, которые во многих случаях казались не услышанными, но, долго спустя, они получили ответ лучше, чем кто-либо мог ожидать.
— Скажи, дитя мое, замечаешь ли ты какое-нибудь движение в толпе? Как ты думаешь, добрался Hиреус до статуи?
Петрония наклонилась через перила моста.
— Нет, батюшка, — ответила она.
— Hе слышишь труб глашатаев? Как будто бы трубят… Да? Слушай!.. Толпа приветствует императора… Он говорит речь… Я вижу блеск драгоценных каменьев на его плаще… Он стоит у подножия статуи… Он берется за покрывало… И… оно сдернуто…
Взрыв громких рукоплесканий пробежал по всей толпе, когда великолепная статуя была открыта. Стоявшие вблизи могли прочесть богохульную надпись: Simoni sansto, Deo fraio… (примерн. перев. с латинск.: «Молитесь святому богу Симону») и при мысли об этом апостол в ужасе поднял руки к небу. Рукоплескание продолжалось и Симон-кудесник, бывший в колеснице самого Нерона, раскланивался с толпой и, склоняясь, поцеловал императорскую руку; в это самое мгновение Hиреус прорвался сквозь толпу телохранителей.
Там, вдалеке, на мосту Петрония заметила легкое волнение посреди сверкающих шлемов и, поняв причину, прижала руку к сердцу, опираясь на отца.
Но ее жених, хотя и думал о ней, все же не колебался, и, вырвавшись от солдат, пытавшихся удержать его, побежал к подножию статуи.
— Во имя Христа умоляю вас прекратить позорное идолопоклонство! Вот чего достоин этот лживый образ антихриста. Скоро рухнет он со своего гордого пьедестала в тину Тибра посреди своих же безумных низкопоклонников…
С этими словами юноша наклонился, схватил пригоршню жидкой грязи и бросил ее в статую.
Больше ему ничего не удалось сделать, солдаты бросились на него и оттащили прочь.
Полуиспуганный Нерон поднялся с колесницы. Он всегда опасался убийства.
— Тащите его прочь, тащите его прочь, — кричал он пронзительным, дрожащим голосом. — Это заговор, они хотят убить меня. Гоните прочь толпу.
Поппея, уже привыкшая к полупомешанным порывам мужа, взяла его за руку, стараясь успокоить. Но Нерона нельзя было успокоить.
— Нет, нет, — продолжал он. — Они готовы прорваться сквозь охрану. О, Симон, Симон, защити меня своею властью!
— Hе бойся, государь, — тихо произнес последний. Они не тронут тебя, пока я здесь. Я не допущу злу прикоснуться к тебе, пока ты так милостив ко мне.
— А все же лучше поедем домой, — произнес Нерон, как робкий мальчик.
И сейчас же солдаты отодвинули толпу от устроенных загородок и попытались проложить путь посреди дороги. Народ отхлынул назад под давлением рукояток копий и стальных кулаков мускулистых солдат. Словно ветер, притягивающий к земле колосья, волной пробегает по ниве, от края до края, так и их движение сообщилось и тем, что стояли на мосту.
Теснота и давка еще больше возросли, когда стража, войдя на мост, принялась прокладывать дорогу, вопреки крикам раненых и сбитых с ног зрителей.
Толпу охватил внезапный ужас, многие не могли даже сказать, что такое случилось, но из уст в уста с быстротою молнии пронеслось:
— Нерон режет народ.
В одно мгновение вся громада повернулась и безумно ринулась в город. Петр и его дочь были захвачены волной и разъединены — апостола увлекли в город, а его дочь, после минутной борьбы, была прижата к перилам моста и, лишившись чувств, упала на землю.
Толпа прошла. Стражники и императорский экипаж, равнодушные к бесчувственным телам пострадавших в смятении, проследовали во дворец; за ними следом прошли знать и придворные со своими рабами.
Симон попросил у императора разрешения выйти из колесницы под предлогом, что ему необходимо «посоветоваться со своим богом» у подножия новой статуи, и теперь он шел вместе со знатным юношей Φлаккусом, сыном городского префекта. Они тоже не обращали внимание на людей, лежавших на дороге, но, когда проходили мимо Петронии, она попыталась подняться на ноги, пойти за ними, и раньше, чем она вновь упала, Φлаккус успел заметить ее поразительную красоту. В одно мгновение он очутился возле нее и опустился на колени.
— Клянусь статуей Венеры, какая красавица! — воскликнул он. — Кому это вздумалось привести такую хрупкую девушку в толпу, да еще в такой день, как сегодня! Симон взглянул и вздрогнул: он узнал дочь Петра.
Мрачная улыбка появилась на его бледном, чисто выбритом лице. Злая мысль мелькнула в его уме.
— Это дочь того галилеянина Петра, здешнего представителя учения христиан. Оставь ее, по крайней мере будет меньше одной христианкой.
— Клянусь богами, нет! — возмущено возразил юноша. — Она слишком прекрасна, чтобы так ее покинуть. Эй, рабы, подать сюда носилки. Пока она не придет в себя, она останется у меня.
Улыбка волхва стала еще насмешливей и ядовитее. Когда же рабы принесли носилки и Φлаккус заботливо уложил в них бесчувственную девушку, он только пожал плечами.
— Где живет Петр? — спросил Φлаккус, час спустя, когда Петрония пришла в себя и лежала, все еще ошеломленная, в атриуме его дома.
Симон сказал адрес и с полускрытой улыбкой заметил, что вряд ли стоит отсылать девушку домой. Молодой человек быстро поднялся с места, сурово произнеся:
— Ценю ваше замечание по его заслугам, но только я не такой негодяй, как вы думаете!
— Полно, полно, мой друг, — мягко возразил Симон, ты не понял меня. Я хотел сказать, что, быть может, было бы лучше, пока она совсем не оправится, попросту известить отца, что она в хороших руках, но не…
— Я прекрасно понимаю.
Ответ был до того холоден, что Симон счел лучшим, спустя две-три минуты, попрощаться и уйти. Но на улице он дал полную волю своим мыслям.
«Я твердо уверен, что это начало моего мщения», — решил он в заключении.
Тем временем Φлаккус приказал своим рабам отнести девушку обратно домой и сам пешком сопровождал носилки.
Петр, пораженный и обрадованный возвращением дочери, от всего сердца поблагодарил молодого патриция за его покровительство и заботу.
— Она действительно нуждается в покровительстве, — сказал молодой человек. — Едва ли мне нужно говорить, что ваше здешнее помещение представляет весьма плохую защиту.
— Господь защитит Своих детей! — благоговейно возразил Петр.
У молодого человека вырвалось нетерпеливое движение, и он произнес:
— Ты, конечно, не думаешь, что я соглашусь с тобой. Я не противник вашей новой веры, как например, Нерон, но только я не могу понять вашего необычайного верования в распятого Назарянина, Которого вы почитаете Богом.
— Он доказал, что Он Бог, воскреснув из мертвых, оттого-то мы и можем проповедовать Его Евангелие.
— Теперь я не могу остаться слушать тебя, — сказал Φлаккус, — я обедаю с императором, но позволь мне прийти в другой раз и послушать тебя. Я должен сказать тебе… Но верь мне, хотя я и римлянин и живу в век растления, мне искренне нравится твоя дочь. Это совершеннейшая правда. Никто, увидавший ее красоту и чистоту, светящуюся на ее лице, не может оставаться равнодушным. Старик, отдай ее мне в жены и, клянусь, я всю жизнь буду жить лишь для того, чтобы заботиться о ней, любить ее и сделать ее счастливой. Быть может, мои речи слишком неожиданные, но оттого не менее искренни.
Петр посмотрел на юношу, стоявшего в его бледно освещенной комнате, и какое-то внутреннее чувство подсказало ему, что это был совсем иной молодой человек, чем вся остальная бесчестная, знатная римская молодежь.
— Мой сын, — ласково произнес он, посмотрев на него пытливым взглядом… — я верю и благодарю тебя, но не могу исполнить твоей просьбы, не сделав несправедливости по отношению к Hиреусу.
— А, это тот горячий юноша, что был захвачен сегодня после полудня? Он в тюрьме и вряд ли…
— Да сохранит его Господь! Но я могу заключить с тобою следующее условие. Употреби все свое влияние, освободи Hиреуса и я разрешу тебе сказать Петронии то, что ты сказал мне сейчас. Она еще не обручена с Hиреусом и если дочь пожелает выйти за тебя замуж, я не откажу в согласии.
— Но она не…
— Это все, что я могу сделать, сын мой. Я уже сказал тебе, Hиреус несколько времени тому назад просил руки Петронии, но она не соглашалась выйти за него в такие смутные времена. Она свободна изменить свое намерение. Больше я ничего не могу обещать, но верю, что ты поступишь так же честно, как поступил и сегодня.
Φлаккус поклонился.
— Хорошо, — сказал он, — я постараюсь, как смогу, освободить Hиреуса и завоевать любовь твоей дочери. Прощай.
Молодой человек спустился по бесконечно длинной гостиничной лестнице и отправился во дворец, где Нерон устраивал пир, более пышный, чем всегда, в честь такого знаменательного дня.
Симон, всегда предпочитавший оставаться трезвым посреди всеобщего опьянения, направился к тому месту, где сидел Φлаккус, погруженный в глубокую задумчивость. Он решил, что будет гораздо разумнее помириться с юным вельможей.
— Φлаккус, — заговорил волхв, — если ты все еще считаешь, что я оскорбил тебя сегодня, то прими мои извинения. Поверь, это случайно, не умышленно. Я и не подумал, что моя речь может иметь двоякий смысл. У меня и в уме не было ничего обидного.
Φлаккус с чисто юношеским доверием схватил протянутую руку.
— Я был глуп, что подумал так, — сказал он, и тут же рассказал все происшедшее между ним и апостолом. Симон скрыл охвативший его восторг и любезно предложил помочь освободить Hиреуса.
В тот же самый вечер волхв заперся с Тигилином, самым злым и преступным сообщником Нерона. Эта кровожадная пара составила заговор, который, казалось, и освобождал узника, но в то же время был ужасным мщением старинному врагу Симона, апостолу Петру.
Прошла неделя, в течение которой Φлаккус часто приходил слушать проповеди Петра, и, благодаря этому, видел прекрасную Петронию.
Он обещал сделать все, что в его силах, и надеялся скоро получить прощение императора для Hиреуса. Наконец, однажды утром он бурей влетел в комнату апостола, с письмом Нерона в руках, восклицая что Нерон милостиво согласился простить узника в этот самый день.
Петр раскрыл послание.
Это был приказ явиться во дворец, где у него будет благоприятный случай — случай, которого апостол так долго ждал: проповедовать Пославшего его и взять с собой одного из своих братьев-христиан.
— Что такое будет сегодня во дворце? — спросил Петр.
— Обычное пиршество, но будет еще и представление: полет Икара.
— Что это такое? — спросил Петр.
Он был простым галилейским крестьянином и не имел никакого понятия о таких вещах.
— Представление, — отвечал Φлаккус, улыбаясь неведению апостола. — Рассказывают, что Икар сделал крылья и пытался полететь. Сегодня же Симон-волхв клянется, что Икар в действительности полетит, поднимаемый вверх силой его могущества.
Глаза апостола загорелись и он вздрогнул, жгучая жажда борьбы волной пробежала по его старческим жилам.
— Господь обратит его силу в ничто, — сказал он. — Ты увидишь!
В то время, как они шли ко дворцу, Тигилин в подземной темнице разговаривал с Hиреусом, стонавшем, лежа на сырой соломе. Всю ночь его мучили и пытали, и теперь, когда его мучитель наклонился над ним, он страшно страдал.
— Императору угодно отпустить тебя на свободу, — говорил Тигилин. — Разве у тебя нет слов, чтобы поблагодарить его?
— Я благодарю его, — прерывисто произнес узник. — Но для чего! Вы искалечили меня на всю жизнь, смерть была бы лучшим исходом из таких страданий, которые я испытываю теперь. Посмотри сюда… И он поднял искалеченную, окровавленную руку.
Тигилин мрачно улыбнулся.
— И как дальнейшее доказательство его прощения, я должен пригласить тебя пожаловать на его пиршество, конечно, в ряды прислужников. Рабам поручено перевязать твои раны и дать лекарство, которое вылечит тебя. Нерон желает, чтобы ты принял участие в увеселении пира. Ты будешь изображать Икара и в последней сцене будешь главным актером. Ты полетишь, мой друг. У нас необыкновенная машина для завершения полного впечатления… Да он не слышит меня!
Это была правда! Несчастный Hиреус потерял сознание от страданий. Тигилин толкнул ногой его бесчувственное тело и приказал перенести его из темницы в жилище рабов.
* * *
Пиршество кончилось: многие из гостей были в состоянии полнейшего опьянения; танцовщицы рассыпались по всей зале, от роз и курений воздух стал невыносимо душен и тяжел.
В конце зала служители усердно убирали и приготавливали сцену для представления.
Возле императора сидел Симон и острым быстрым взглядом следил за всеми и за всем; неподалеку от него помещался и Φлаккус, ничего не подозревавший о чудовищном замысле, план его был известен лишь Нерону, Тигилину и Симону.
Вот на сцену вышли рабы и актеры, и в ту же минуту с противоположного конца залы ввели Петра. Апостол сразу направился к императорскому столу. При его приближении Нерон приподнялся и сел.
— Мы были весьма не расположены к вам, — произнес он со странным глупым смехом, — но сегодня нам угодно простить вам с Hиреусом вашу прошлую грубость. Наш дорогой Симон приглашает тебя соревноваться с ним в магии, при помощи которой он вызовет полет Икара.
Апостол поклонился, но ничего не отвечал.
— Если тебе удастся помешать мне, — сказал Симон, — то в награду получишь свободу Hиреуса.
— Будь в Риме правосудие, то он был бы уже давно освобожден, — возразил Петр. — Но чего мы можем ожидать, когда при императорском дворе находят себе пристанище подобные враги Господа! Как бы то ни было, все-таки ваша злоба обратится в ничто.
Началось представление. Ни к чему рассказывать подробности зрелища. Достаточно сказать, что в последней сцене Икар, изображаемый беззащитным Hиреусом, приведенным почти в бессознательное положение, благодаря нарочно данному для этого снадобью, был прикреплен к механическому блоку, а Симон приступил к заклинаньям. Он знал, что полет не удастся.
Но вот Икар поднялся к сияющему кругу, изображавшему солнце. Петр, не подозревавший, отчего зависел кажущийся полет, бросился к сцене, заклиная демонов, поддерживавших летевшего человека, удалиться во имя Сына Божия.
Симон дал знак рабам, стоявшим позади сцены. Послышался громкий крик человека, подвешенного теперь под самым потолком залы. Колыбелька, державшая его, перевернулась и со страшным шумом он упал к ногам апостола.
Торжествующее восклицание Петра перешло в горестный крик, когда он, нагнувшись к телу несчастного, узнал Hиреуса. Симон вполне был удовлетворен. В то время император протянул ему кубок со словами:
— Выпей, друг Симон! Что ж, доволен?
— Более чем доволен, — отвечал Симон. — Посмотри, какое мщение могло бы быть лучше?
И он указал на коленопреклоненного Петра, державшего в своих объятиях умирающего Hиреуса.
Симон не слыхал слов, слетевших с бескровных губ несчастного страдальца.
— Учитель! Учитель, не печалься. Со вчерашней ночи я все просил Бога освободить меня от страданий. Видишь, Бог услышал. Демонов тут не было, меня опрокинули рабы. Передай Петронии мой прощальный привет… Легкий трепет пробежал по его телу, голова откинулась назад и все было кончено.
Петр поднялся на ноги, устремив благоговейный, горестный взгляд на его искаженное лицо.
— «Мне отмщение и я воздам» (ср. Рим.12:19 — ред.), — сказал Господь и Он воздаст! — воскликнул Петр и указал на Симона.
И слова апостола произнесены были с такою силою, что волхв невольно отпрянул назад.
Φлаккус, приведенный в ужас такой предательской смертью, не выдержал, вскочил и громко воскликнул в порыве гнева и негодования:
— Я не могу больше оставаться здесь и быть соучастником гнусного убийства.
Но Петр остановил его и попросил помочь унести его друга. Благородный юноша, не обращая внимания на насмешки и смех, пронесшийся за столами, помог поднять тело мученика и унести прочь.
Дверь закрылась. В собрании наступило молчание и вдруг громадный круг шутовского солнца потух, исчез из вида, и всех пирующих охватила невольная дрожь. Один за другим разошлись они, понимая, что это недобрый знак. Так с этого вечера влияние Симона-волхва во дворце резко пошатнулось. Вскоре, чтобы возвратить свое колдовское влияние на императора и на его придворных, он решился прибегнуть к новому опыту полета, но этот опыт окончился для него катастрофой. Взлетев с помощью колдовской силы на крыльях Икара, он был посрамлен молитвой апостола Петра и упал с большой высоты, переломав себе ноги и руки, а вскоре бесславно умер.
* * *
Когда совершено было смиренное погребение останков Hиреуса, Φлаккус решил завоевать сердце Петронии. Напрасно молодая девушка говорила ему, что сердце ее погребено вместе с мучеником-христианином, он ничего не слушал и, наконец, проходя однажды со своими солдатами по городу, сделал последнюю попытку.
Но Петрония не стала его и слушать.
В порыве страсти Φлаккус пригрозил взять ее силой.
— Так вот как ты ухаживаешь за мной, — произнесла девушка и в голосе ее прозвучала легкая насмешка.
— В шлеме, при копьях, с отрядом солдат у моих дверей! Выслушай же меня. Если ты в самом деле хочешь, чтобы я стала твоей женой, вопреки моим уверениям, что я никогда не смогу дать тебе любви, погребенной в могиле Hиреуса, тогда дай мне три дня, я проведу их в посте и молитве, потом приди ко мне, как жених к невесте, и если на то будет воля Бога, я выйду за тебя.
Φлаккусу показалось, что в ее словах было что-то неискреннее, но он отвечал ей с гордыней римлянина, что все будет исполнено согласно ее желанию, и он просит прощения, если сказал лишнее в порыве любви. Затем, поцеловав ее ручку, с видимым почтением и благоговением он вышел и приказал солдатам уйти.
Когда шум шагов стражников замер в отдалении, Петр заключил дочь в объятия, но та не плакала. Через минуту она высвободилась с тихим вздохом.
— Что же, выйдешь за него замуж? — спросил апостол Петр.
— Через три дня увидишь, батюшка, — ответила молодая девушка. — Позволь мне провести их с моей молочной сестрой.
Три дня прожила Петрония, говорит предание, в уединенном домике с Φеликулой, дочерью своей кормилицы, проводя все время в молчании, молитве, не притрагиваясь ни к пище, ни к питью.
На третий день ее причастили и после принятия Святых Тайн она попросила оставить ее одну.
Через час вернулась ее молочная сестра, желая уговорить Петронию нарушить свое уединение, но застала ее уже мертвой в постели.
Пришел и Φлаккус с певцами за своей невестой, но им пришлось сопровождать ее не в храм, а в могилу, на Φлавианское кладбище…
Cвященник Cедвин
Б. Никонов. Пир Диоклетиана
Легенда
I
Это было в дни жестокого гонения на христиан, в царствование кесаря Диоклетиана[170].
Владыка «Рима и мира» давал в своем дворце пир в честь знатнейших из своих приспешников. Все, что только можно было придумать по части еды и всевозможных наслаждений, было собрано на этом пиру. Самое необузданное воображение нашего времени не может представить себе и десятой доли этих своеобразных и роскошных наслаждений, о которых так жестоко отзывается Тацит[171] в своей бичующей и страшной истории Рима эпохи последних кесарей.
Было уже поздно. Многочисленные пылающие лампы и факелы бросали ярый колеблющийся свет на розовый нумидийский мрамор[172] стен и на белые колонны. Белые статуи богов, в которых уже никто не верил, и знаменитых кесарей, прославившихся чудовищными преступлениями, казалось, ожили и двигались в этом неровном испуганном свете. В обширном зале стоял густой приторный запах дорогих благоуханий, пряных кушаний и бесчисленных, цветов, усыпанных золотою пудрою. Цветы покрывали столы, мраморный чудно-красивый пол и пышные пурпурные ложа и сыпались с потолка из огромной золоченой сети, протянутой высоко над пирующими.
Черные и белые невольники — нумидийцы[173], греки, парфяне[174], сирийцы, славяне — бегали взад и вперед, принося все новые и новые блюда и громадные кратеры[175] с вином. Тут были и рыбы в меду, и дикие кабаны, приправленные пряными соусами, и соловьиные языки под укропом, и особые кушанья, вызывавшие жажду, и другие, производившие тошноту и быстро очищавшие желудок, делая его способным к новым наслаждениям едой. Целые горы редких фруктов отливали всеми цветами радуги в серебряных и золотых вазах.
Пирующие были упоены и пресыщены. Они желали новых наслаждений, но уже не вмещали ничего.
Воины и сенаторы сняли свои пурпурные тоги, расстегнули цветные туники и бессильно лежали пред пышными столами.
Женщины полуобнажились и с блуждающими улыбками нехотя пили густое смирнское[176] вино, пурпурное, как человеческая кровь, и разжигавшее в крови страсть. Кесарь подал знак, и в залу вошли музыканты, танцовщики и танцовщицы — красивые и страстные сирийские плясуньи, одетые в дачные, нисколько не скрывавшие их тела, хитоны. Раздались дикие звуки цитр[177], кифар[178], и в промежутках между столами понеслись в диких плясках мужчины и женщины, сверкая цветными одеяниями и золотыми украшениями.
Словно вихрь красок и нагих тел охватил всю пиршественную залу и грозил унести отсюда куда-то в бездонное небытие и сенаторов, и полупьяных знатных женщин, и самого кесаря. Но для пресыщенных пирующих даже этот безумный и страстный танец корибантов[179] показался чем-то пресным, надоедливым и скучным. Тогда кесарь приказал впустить фокусников и мимов[180].
Появились волшебники, глотавшие огонь, превращавшие чаши с вином в голубей и мгновенно превращавшие розовый бутон в распустившийся пышный цветок. Но гости глядели на эти чудеса со скучающим видом. Они видали все это десятки раз, раньше.
— Это годится только для забавы детей, — проворчал один из царедворцев.
— Да и то самых маленьких и, притом, из провинции, — добавил другой пирующий. — Наши дети и не улыбнутся на такие глупости.
— Они глотают огонь, — промолвил, насмешливо улыбаясь, кесарь Диоклетиан, — а я глотаю огонь скуки от этого зрелища. Неужели нельзя придумать ничего поновее.
Фокусники испуганно удалились.
На середину зала выступил главный мим, знаменитый актер и подражатель животным и людям Амфилох и обратился к кесарю:
— О, солнце мира и свет вселенной! Hе гневайся и озари небесной улыбкой подвластных тебе жалких и ничтожных червей. Дозволь одному из них показать тебе и твоим гостям особенное и небывалое и никем еще не виданное зрелище, старательно подготовленное с большими лишениями и даже опасностями.
Кесарь улыбнулся.
— Покажи, — промолвил он.
II
Амфилох низким поклоном поблагодарил кесаря.
— Быть может, ты, свет мира, рассердишься на меня за неприличный сюжет, — промолвил он. — Я хочу изобразить людей, одно упоминание о которых способно вызвать в тебе справедливый гнев и отвращение. Я знаю, что о них совершенно непристойно говорить на твоем пиру, где должна царствовать только легкая и светлая радость. Но я подметил в этих ненавистных и презренных людях смешные черты, а смех — дитя богов. Он очищает и облагораживает пошлое и мерзостное и делает его восприемлемым для благородного чувства. То, что смешно, доступно и терпимо даже в самом высшем кругу. Смех ведь тоже солнце мира: он отгоняет от нас фурий[181].
— Ты, пожалуй, прав, — заметил Диоклетиан. — Мы все, и я в том числе, любим смешное. Но что это за люди, о которых ты говоришь?
— Не гневайся, о, кесарь! Это — христиане. Среди гостей произошло неуловимое движение.
— Однако, это чересчур смело с его стороны, — промолвил старик сенатор. — Он может оступиться на этом скользком сюжете.
Собеседник сенатора пожал плечами.
— Если это смешно и ново и не задевает ничьей личности, то почему же бояться этого?! Мы жаждем нового и неизведанного, а что касается непристойности, то в наше время понятие о непристойном и неприличном сделалось слишком упругим. В него играют, как в мяч.
Кесарь кивнул головою.
— Я разрешаю тебе касаться этого сюжета, — промолвил он Амфилоху, — но с одним условием: чтобы твое представление было ново и необычно.
Амфилох распростерся ниц.
— О, кесарь! — воскликнул он. — Я и мои сотрудники только к тому и стремимся!
Он поднялся, подозвал и представил кесарю и гостям своих сотоварищей.
— Уже много времени мы подготовляли это зрелище, — произнес он. — Происхождение же его, если вам угодно это выслушать, таково: однажды я был застигнут бурей в окрестностях города. Тщетно ища убежища, я обратил внимание на выкопанную в углу каменоломни яму. Это оказалось входом в пещеру, весьма глубокую и обширную, и я воспользовался этим неожиданным убежищем. Вскоре я убедился, что там, в пещере, были люди и кроме меня. И, притом, много людей. Они тихо беседовали друг с другом, не видя меня. Они показались мне ворами или заговорщиками, и мне стало жутко оказаться в таком дурном обществе. Но я помыслил о том, чтобы почерпнуть из знакомства с ними интересные для моей профессии черты, и стал следить за их действиями и слушать их речи. Они зажгли тусклые светочи и густой толпой, в которой я заметил и стариков, и женщин, и детей, и даже твоих, о, кесарь, воинов, отправились в другую, еще более обширную пещеру. Там они стали петь и совершать странные н смешные обряды. И я понял, что передо мною презренные и преследуемые сектанты — христиане. Я сразу подметил и открыл в их деяниях смешное. И все то, что показалось мне забавным и занимательным, я запечатлел в своей памяти. Я записал их моления и речи и заучил их обряды. И всему этому я потом обучил моих товарищей, и с твоего разрешения, о, кесарь, мы сейчас представим эти смешные и еще никем не виданные обряды. Я могу поручиться своей головой, что до сих пор никому не удавалось видеть того, что удалось случайно увидеть мне.
— Ты находчив и ловок, — промолвил кесарь.
Гости изъявляли удовольствие ловкости Амфилоха и приготовились смотреть неслыханное зрелище.
В зале наступила тишина, и только тихий шелест падающих цветов да робкие шаги прислуживавших невольников нарушали ее. И невольно казалось, что кто-то неведомый вошел в праздничную залу и прислушивается к тому, что здесь говорится и делается.
III
Амфилох и его товарищи облеклись в длинные, сшитые из простой и грубой материи одежды и взяли в руки зажженные светильники. Амфилох взошел на заранее устроенное возвышение и, воздев руки к небу, стал с шутовскими ужимками произносить нараспев какие-то слова, похожие, как показалось присутствующим, на жреческие заклинания. Остальные комедианты образовали как бы хор и гнусаво, тоже с шутовскими ухватками, подтягивали ему. Гостям и самому кесарю все это показалось не очень забавным. Они ожидали более интересного, но они пока еще не протестовали, выжидая, что будет далее.
Но вот «главный жрец» (так уже прозвали Амфилоха зрители) обернулся лицом к хору и зрителям и стал произносить проповедь.
Он говорил теперь на понятном присутствующим римском языке. Шутовские интонации исчезли: он, по-видимому, совершенно вошел в роль. Он говорил о том, что все люди суть братья друг другу, и что надо любить даже врагов, ибо так учил Распятый. Далее он увещевал своих возлюбленных сестер и братьев терпеливо сносить гонения врагов Христа и твердо верить в торжество возвещенной Христом истины.
— Кесарь, однако, очень снисходителен, — шептались удивленные зрители. — Это неслыханная смелость — повторять пред его лицом все те противозаконные речи, которые произносятся в тайных собраниях этих врагов государства…
— Да, если он начнет так же громить Рим и хулить кесаря, как это делают эти подонки общества, то Амфилоху несдобровать… Да разумнее было бы и нам уйти незаметно отсюда. Но кесарь не высказывал ни нетерпения, ни раздражения. Он внимательно слушал хулительные для его власти и славы речи и, казалось, весь ушел в это зрелище.
Амфилох, между тем, все более и более вдохновлялся и входил в роль.
Резким движением он вдруг простер руки вверх и, словно охваченный восторгом, весь горя внутренним огнем, воскликнул:
— И вот, братия, я вижу разверзшиеся небеса и Голубя, парящего над нами. О, радость нам, верующим. Господь наш удостоил нас знамения Своей любви.
— Прекрасно, — воскликнул Диоклетиан. — Ты превосходный актер, Амфилох.
И, следуя примеру кесаря, гости, одобренные его милостивым отношением к рискованному представлению
и смелому комедианту, стали наперерыв восхвалять искусство и ловкость Амфилоха. Полупьяные сенаторы и воины восклицали: «Хвала Амфилоху». Знатные женщины смеялись от восторга, блестя глазами и аплодируя презренному миму, с которым они ни за что не решились бы даже разговаривать и в ином месте сделали бы вид, что не замечают его присутствия.
Амфилох как бы застыл в своей восторженной позе с воздетыми руками. И вдруг лицо его исказилось, и он подался назад всем корпусом, как это бывает с внезапно испугавшимися людьми.
В зале раздался дружный хохот, приветствовавший эту новую выходку комедианта.
— Господи! Царь Небесный! — воскликнул Амфилох как бы вне себя. — Ты воистину являешь Себя нам. Глаза мои внезапно прозрели. Я вижу Тебя воочию. Ты, одетый светом, Голубь мира, Ты, свет истины и пламя любви! Дух Твой сошел на меня, и спали с меня пелены тления, и я вижу славу Твою и исповедую Тебя!
Новый взрыв смеха раздался среди пирующих, но Амфилох не замечал ни смеха, ни бурных похвал своему актерскому искусству. Весь, сияя внутренним светом, он упал на колени и восторженно и умиленно вперил взор туда, где ему, как это явствовало из его восклицаний, представилось видение.
— Амфилох, ты не сошел ли с ума? — воскликнул со смехом кесарь. — Общение с христианами, видно, в самом деле, не доводит до добра.
Амфилох поднялся и, протянув вверх правую руку, обратился к присутствующим:
— Вы, жалкие и безумные слепцы! Для забавы и смеха вы собрались здесь, но вот идет Царь преследуемых и презираемых, угнетенных н страдающих, рабов и нищих — и вы будете сметены пред Ним, как жалкий прах соломы. И город ваш, и царство бесстыдной роскоши, разврата и безбожия пройдут, как сон, — и воздвигнется на месте этом новое царство и новые алтари во имя Бога любви, мира и правды. И как терзают в ваших постыдных игрищах дикие звери того, кто верует в Бога любви, так и память о вас будет растерзана не знающим сожаления беспристрастным временем.
— Однако, он начинает говорить дерзости, — пробормотал сенатор. — Все эти мимы и актеры таковы. Стоит только немного снизойти к ним, как они сейчас же зазнаются. Презренные наглые люди.
Кесарь все еще терпеливо слушал смелую и неслыханную в этих стенах речь мима, но в глазах его уже стали проблескивать мрачные огни.
IV
— Гнусный, безбожный Рим, гнездо всякой скверны, зла и насилия, геенна геенн, дышащая пламенем и тленом и заражающая своим нечистым дыханием кроткие и чистые цветы Божией истины, которым определено расцветать на страдание и скорбь, дабы исполнилась чаша долготерпения Господа! Ты — кладезь неслыханных страданий и вопиющего проклятия! Придет день — и свершится над тобою кара Божия за то, что ты был глух к возвещению истины и смеялся над ее откровением. Именем Того, Кто воссиял сейчас над головою презренного шута и отверз ему глаза и сердце, я проклинаю вас, языческие черви, грызущие гниющий в разврате Рим…
Среди гостей поднялся глухой ропот и постепенно переходил в громкий гул негодования.
— Он перешел всякую меру дозволенного!.. Он пьян!.. Он сошел с ума! — раздавались отовсюду глухие голоса.
— Невозможно допускать подобную точность в художественном изображении, — говорили другие, более спокойные гости. — Этот дурак зарвался в своем вдохновении. Он совершенно позабыл, где он находится. Надо остановить его.
— И тебя, кесарь, отметает от Своего лица Тот, Кто восседает на престоле небес, — продолжал Амфилох.
Но кесарь поднялся, грозный, как туча:
— Довольно! — воскликнул он.
Все замолкло в зале, как замолкает природа после удара грома. Но Амфилох не замолк даже и теперь.
— Нет, кесарь, это я тебе скажу «довольно», — произнес он. — Довольно невинной крови. Довольно бесстыдных гонений и злых игралищ в цирках! Знай, что над каждым из замученных тобою сияет то же знамение, которое зажглось ныне надо мною. И из каждой капли крови, пролитой по твоему повелению, вырастают небесные лилии новой веры. И каждое слово, свидетельствующее о Распятом, отнимает у тебя слуг и создает слуг Господу. И умножатся они, как песок морской после прилива. И камни стен дворца твоего откликнутся на благовестие новой веры, если я воззову к ним!..
И к ужасу присутствующих, откуда-то сверху и снизу и с боков раздались глухие, как бы исходящие из стен, голоса:
— Мы свидетельствуем о Распятом…
— Мы свидетельствуем о Распятом…
И все рабы, находившиеся в зале и не отрывавшие глаз от Амфилоха, внезапно упали на колени и восклицали:
— Мы слуги Распятого. Мы христиане.
А вслед за ними упали на колени корибанты и сирийские танцовщицы, и били себя в грудь, и разрывали свои пестрые и соблазнительно бесстыдные одежды, и со слезами и рыданиями восклицали:
— И мы христиане. И мы слуги Господа. Кесарь на минуту задумался и потом спросил:
— Это представление? Или нет? Амфилох и его товарищи ответили:
— Это провозглашение истины. Мы были слепы, но у нас открылись глаза и сердца.
— Проклятые шуты, — воскликнул Диоклетиан. — Вы воспользовались вашим занятием и званием, чтобы внести заразу преследуемого мною сектантства в самый мой дворец.
Амфилох ответил на это:
— Мы уже не шуты. Мы слуги Господа.
V
Когда-то в старые годы в Вавилоне, на пиру у царя Валтасара[182], появилась таинственная рука и начертала на стене огненные слова. Такие же огненные слова горели теперь в сердцах многих людей, собравшихся по собственному желанию или по обязанности на пиру у одного из последних римских кесарей. Эти слова были как бы выжжены у них в сердце и открывали им нечто новое, властно звавшее к новой жизни и новым верованиям.
Эти обновленные люди еще молчали и не свидетельствовали о своем обновлении, как засвидетельствовали мимы и рабы. Но все происходившее сейчас пред их глазами, приняло совсем особый вид и значение. Пышные цветы пиршественного убранства потускнели и увяли.
Знатные пурпуроносцы[183] превратились в ничтожества. Величавый и грозный кесарь сделался похож на простого торговца невольниками, разжиревшего на своем позорном ремесле. От вин, кушаний и кадильниц несло смрадом. И чуялось разрушение и тление всего, что за минуту пред тем казалось верхом красоты, роскоши и изящества.
На розовых мраморных стенах и на драгоценном цветном полу, казалось, выступали кровавые пятна. И все кругом говорило ясным языком: «Мене, текел, упарсин» (ср. Дан.5:25 — ред. См. примеч. выше).
Во внезапно наступившей тишине послышались мерные шаги воинов. Воины ритмично отбивали шаг за шагом, приближаясь к Амфилоху и другим христианам, чтобы взять их и отвести в темницу. И тем, кто уже чувствовал в своем сердце огненные слова новой веры, казалось, что это звучат шаги язычества, навсегда уходящего во тьму веков.
В зал вошли новые невольники и внесли чаши со свежим вином и новые кушанья. Пир продолжался. Факелы по-прежнему бросали неровный красноватый свет на бело-розовые стены и красивые статуи богов и кесарей. Но прежнего оживления уже не было. Некто неведомый незримо стоял среди пирующих и со скорбным укором взирал на них.
А за стеною все еще звучали мерные шаги и слышались полузаглушаемые восклицания:
— Xристос, мы идем свидетельствовать о Тебе!
И казалось, что это звучат шаги христианства, идущего возвестить «Риму и миру» о торжестве Нового Завета. Казалось, что и воины идут туда же, к той же цели, куда идут и ведомые ими шуты, танцовщицы и рабы.
И издали, вместе со звуками стихавших в отдалении мерных шагов, доносились и их мужественные голоса:
— Xристос, мы идем свидетельствовать о Тебе!
Б. Никонов
Н. Смоленский. Крест жизни
В мрачном сыром подземелье, куда свет едва проникает сквозь узкое оконце, томится в плену Кахетинская царица Кетевань[184]. Неприглядно выглядит ее жилище: зеленая плесень покрывает стены; жесткая лежанка, убогий стул и стол у оконца — вот и все убранство темницы.
Кетевань сидит у окна.
Перед ней раскрыто Евангелие. Царица еще не стара; жгучие глаза ее сияют, как яркие звезды; строгие прекрасные черты лица говорят о былой красоте…
Но десять лет плена изменили царицу!..
Грустным взором окидывает царица Кетевань свою темницу, вспоминаются ей лучшие годы, иные. Как все изменилось! Прошлое чредой проносится в ее голове… Враг напал на страну, мужа царицы убили, сына взяли в плен, из всей семьи спаслась одна она… Но вот она, юная, слабая, идет спасать свою страну, свой народ. Остатки разбитого войска стекаются к ней, народ идет под ее знамена… Вот она мчится на статном коне перед своим войском, ведет его к победам. Господь помогает правому делу. Враг побежден, в бегстве он ищет спасения. Счастливая, гордая восходит Кетевань на царский престол.
Мудро правит своим народом благочестивая и добрая царица.
Быстро летят год за годом, быстро проходят дни счастья… Снова свирепый враг идет на Кахетию.
Пришел… и победил… Дотла опустошили персы завоеванную страну; жителей — одних избили, другие — искали спасения в бегстве. Сама царица была взята в плен, с двумя младшими внуками; ее отвезли в Персию. И вот царица в плену десять долгих лет! Сколько мук, сколько страданий перенесла она за эти долгие годы. Первое время она жила во дворце, ее окружали почетом и роскошью; шах Персидский умолял Кетевань стать его женой, отречься от Христа, принять магометанство.
Царица наотрез отказалась. Тогда начались мучения: убили внуков Кетевани, ее заключили в подземелье.
Слезы текут по исхудалым щекам царицы.
«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною! — шепчет царица слова Спасителя. — Боже, не оставь меня, укрепи, помоги донести до конца посланный Тобой тяжелый крест…»
Да, она до конца донесет крест свой, выпьет до дна чашу страданий. Она уже обрекла себя на погибель: еще сегодня приходили посланные от шаха склонить ее согласиться на его просьбы, и угрожали, что, в случае отказа, ее подвергнут пытке и казнят… И царица нашла в себе мужество отказом ответить посланным.
— Скажите шаху, — гордо сказала она, — что никто не прельстит меня и не заставит отречься от моего Спасителя Христа… Смерти жду давно и жажду ее, как освобождения.
— Так готовься к ней, — отвечал один из пришедших, — завтра же тебя казнят!
Ночь давно уже спустилась на землю. Всюду мрак и тишина, все спит. Лишь в темнице царицы Кетевань едва мерцает слабый огонек. То царица молится, усердно припадая к земле. Тяжелые стоны и вздохи вырываются из ее груди, слезы текут по щекам, уста шепчут молитву.
«Господи, Боже всемилостивый, не оставь меня. В страшный час мучений помоги мне, дай силы их перенести… Спаси меня, прими в царствие Твое… Hе оставь народ мой, моего сына, дозволь мне смертью искупить грехи их… Hе оставь их Своею помощью…»
Всю ночь молится царица. Уже брезжится рассвет. Вот и утро. Слабые лучи света проникли в подземелье. За дверями темницы раздается лязг оружия. Входят стражники.
— Еще не поздно, опомнись, — говорит царице начальник стражи.
— Я готова умереть за имя Христа! — твердо произносит Кетевань, но силы оставляют ее, и она без чувств падает на землю….
Через два дня в глухую полночь три христианина тайком похоронили обагренное кровью тело Кахетинской царицы, мученицы Кетевань, среди страшных пыток предавшей свою душу Христу.
Н. Смоленский. Дивное событие в Пасхальную ночь
Семейное предание из времен Св. Тихона Задонского
В 40-ка верстах от Воронежа есть село Малая Приваловка, окруженное и поныне густым лесом и болотами. А сто лет тому назад эти места представляли собою такую трущобу, где в изобилии водились дикие звери. В половине XVIII века в Малой Приваловке священником был отец Михаил Прокофьевич Кузьмин.
Это был пастырь по призванию.
Отец его был воеводой в Задонском, а братья служили на светской службе в Москве. Но отец Михаил избрал жребий тяжелый в сей жизни в то суровое время — жребий служения в священном сане.
Жители села Малой Приваловки были крепостными какой-то княгини И., женщины жестокой и своенравной, весьма притеснявшей своих крепостных. Около Приваловки существовало даже мрачное подземелье; туда на цепи и в колодки сажали людей за проступки, а часто даже совершенно невинных.
Отец Михаил был ревностным пастырем. Службу совершал истово и с великим благоговением, говорил проповеди, помогал бедным, лично обходил несчастных и утешал их в страданиях. В частной жизни отец Михаил был добрым семьянином, великим постником и подвижником. Добрый пастырь, отец Михаил не мог равнодушно сносить притеснений со стороны помещицы своих прихожан; он часто ее увещевал быть милосерднее к своим подчиненным, но эти убеждения успеха не имели.
Княгиня не любила отца Михаила. Для совершения различных требоисправлений она имела у себя в доме особого священника, отца Егора.
Весна была в полном разгаре, половодье сильное, нигде ни проходу, ни проезду… Наступила Пасха.
В храме села Малая Приваловка торжественно служил отец Михаил. Кончалась радостная служба и батюшка прямо из храма, в светлых ризах и с крестом в руках, отправился в лес, где в мрачном подземелье, несмотря на Великий Праздник, содержались в цепях и колодках, холодные и голодные, узники княгини…
Отец Михаил, подойдя к дверям темницы, громко возгласил с верою: «Xристос Воскресе!» И совершилось дивное дело: двери подземелья сами отворились, цепи и колодки спали с узников, которые припали к ногам своего избавителя и со слезами обнимали его ноги…
Но здесь начались испытания служителя Божия.
Знатная и влиятельная помещица обвинила отца Михаила в возмущении крестьян и, по распоряжению властей, отец Михаил был закован и отправлен этапным порядком в город Воронеж для допроса… Много испытал отец Михаил бедствий во время путешествия по грязи, в тряской телеге, а еще более в ожидании строгого суда.
Узнали о судьбе своего избавителя освобожденные им узники и, в свою очередь, поспешили в Воронеж. И снова совершилось удивительное событие: несмотря на половодье, бездорожье и другие опасности, эти люди в один день достигли города Воронежа, хотя он отстоял от их села на 40 верст.
В это время епископом Воронежским был святитель Тихон. Помещица была уже у него и передала все дело в ложном виде.
Но вот к святителю является толпа людей, оборванных, измученных, с цепями и колодками, и, припадая к ногам святителя, они рассказывают нечто поразительное о своем пастыре отце Михаиле…
— Да как же вы сами-то сюда добрались? — спросил преосвященный Тихон. — Ведь ныне растопление (наводнение, распутица — ред.)?
Здесь только вспомнили несчастные узники, как почти по водам не шли, а бежали они на защиту праведного своего пастыря, и на ногах и одежде их были следы болотной травы…
Праведный святитель оправдал отца Михаила, но под давлением властей перевел батюшку в другой приход — село Шукавку Воронежской области.
Княгиня вскоре поняла свою несправедливость к отцу Михаилу и ездила к нему с подарками мириться, но, кажется, нрава своего не исправила…
Однажды ее крепостной кузнец нанес ей 18 ран ножом и через 3 дня княгиня скончалась, впрочем, по милосердию Божию, — пособорованная и причащенная Святых Христовых Таин.
Н. Cмоленский
[1] Перистиль — центральная часть дома с колоннами и открытым верхом.
[2] Хиосское вино у древних греков считалось самым дорогим. Ведро его стоило на наши деньги 7 р. 50 к., тогда как фракийское всего ценилось в 15 к. ведро — примечание 1904 года.
[3] Эфес — античный город в турецком Эгейском регионе 6лиз современного города Сельчук (западное по6ережье Турции); город Артемиды.
[4] Панафинеями назывались праздники в честь 6огини Афины и справлялись в июле через каждые четыре года. Панафинеи праздновались в г. Афины).
[5] Гинекей — женская половина дома.
[6] Хламида — греческий плащ из шерстяной ткани, мантия, накидка.
[7] Афродита — в греческой мифологии 6огиня красоты и лю6ви.
[8] Парис — юноша, который (по древнегр. мифол.), вы6ирая между 6огинями, вручил золотое я6локо Афродите, а она за это помогла ему выкрасть Елену, жену спартанского царя, что стало причиной Троянской войны.
[9] Гомер — древнегреческий поэт, автор эпических поэм «Илиада» и «Одиссея».
[10] Аполлон — в греческой мифологии 6ог красоты и поэзии.
[11] Виссон — тончайшая ткань, белая или золотистая.
[12] Панафинеи — в Древней Греции праздник в честь богини Афины.
[13] Гиматион — широкий, продолговатый плащ.
[14] Геркулесовыми стол6ами назывался Ги6ралтарский пролив (между южной оконечностью Пиринейского п-ва и северо-зап. по6ережья Африки).
[15] Древние греки и римляне во время обеда и завтрака не сидели, но возлежали. Обычай этот впоследствии был усвоен и евреями.
[16] Триера — лодка.
[17] Храм Эрехтейон — один из главных храмов Древних Афин, построен в 421-406 гг. до н.э., расположен на северной стороне Акрополя.
[18] Метек — вольноотпущенник.
[19] Амфора — сосуд для масла.
[20] По древнегреч. мифологии, дух-хранитель дома или местности, преданный человеку — peд.
[21] Платон — греческий философ.
[23] Φидий и Пракситель — знаменитые греческие скульпторы; первый жил в 5 веке до Р.Х., второй в 4.
[24] Плутон — по древнегреч. мифологии, бог подземного царства.
[25] По древнегреч. мифологии, одна из богинь планеты, обладающая знаниями о мироустройстве, богиня охоты, покровительница природы…
[26] Греки не употребляли чистое вино, а всегда разбавленное водой. Рабы заранее, смотря по крепости вина, разбавляли его в кратерах. Кратер — выпуклый, с широким отверстием сосуд для вина.
[27] Киаф — ковш для черпания вина из кратера.
[28] Фиал — чаша без ручек, из которой пили вино.
[29] Цитра — струнный щипковый музыкальный инструмент.
[30] Портик — крытая галерея с колоннами, прилегающая к зданию.
[31] Перистиль — открытое пространство, двор, сад или площадь, круженное с четырех сторон колоннадой.
[32] Диана (в древнегреч. мифологии — Артемида) — богиня охоты, плодородия, позднее богиня Луны.
[33] Мина — на деньги в исчислении 1904 г. это около 25 ру6лей. Цена на монету 25 ру6лей 1896 года (на 10 мая 2019 г.) составляла 78 Э98 ру6. То есть, на наши деньги в исчислении 2019 года, пятьсот мин составляет около 40 млн. руб. — peд.
[34] Артемида — богиня луны, охоты и плодородия в древнегреческой мифологии, дочь Зевса, сестра Аполлона. Культ 6огини Артемиды перешел из греческой культуры в римскую. У римлян она отождествлялась с 6огиней Дианой. Храм Артемиды, построенный в Эфесе, считался одним из семи чудес света, его строили около 200 лет, затем сожгли и позднее восстановили по указу Александра Македонского. Сейчас он в руинах.
[35] Современная локация: Турция, к западу от города Сельчук, основное население — греки. Основан в X веке до н. э.
[36] Каистр, совр. — ред.
[37] Ристалище — площадь для конных и рыцарских состязаний — ред
[38] Термы — античные 6ани.
[39] Φронтон — треугольник, о6разуемый двумя скатами крыши.
[40] Метоп — место над колоннами.
[41] Кости — игра, подобная домино; греки очень любили эту игру.
[42] Агора — о6щественная площадь, где со6ирались греки. У римлян — форум.
[43] Калиптра — верхний плащ для выхода.
[44] Драхма — от 25 до 30 копеек, по пересчету примерно на 1900 г. — ред.
[45] В Ефесе широко процветало волшебство, чародейство, разные суеверия и гадания. На венце, поясах и ногах Артемиды 6ыли начертаны загадочные, магические формулы, которым придавалось огромное значение. Для о6ъяснения их и появились знаменитые «ефесские письмена» — выгодная статья дохода для разных шарлатанов. Но впоследствии эти чародеи, о6ратившись в христианство под влиянием проповеди св. апостола Павла, пу6лично сожгли все свои колдовские книги (Деян.19:18-20).
[47] Гинекей (существ. мужского рода) в Древней Греции — женские покои в доме, занимавшие его заднюю часть или второй этаж — ред.
[52] Представлялись воображению.
[53] Древние греки рай представляли в виде Елисейских полей. Но доступ 6ыл туда только лишь для героев, людей, прославивших се6я 6еспримерными подвигами.
[54] Ефессии — дни праздника в честь Артемиды Эфесской.
[55] Эрос — по древнегреческой мифологии, 6ог лю6ви.
[56] Великие Афинские Панафинеи — древнейший греческий праздник в честь 6огини Афины, восходящий к доисторическому времени, проходил один раз в четыре года (примерно с 13 в. до н.э.). В программу входил главный о6ряд — шествие к акрополю, жертвоприношение (гекатом6а), надевание нового пеплоса (покрывала) на статую 6огини Афины, а также состязания певцов-рапсодов и музыкальные, гимнастические, конные состязания. По6едители награждались венками из «священной» оливы и амфорами с маслом.
[57] Ефесии — празднества, посвященные Артемиде. В это время деревянное изо6ражение 6огини, по народному сказанию сошедшее с не6а, выставлялось в храме для всео6щего поклонения. В течение месяца Ефес 6ыл переполнен народом, стекавшимся из всех окружающих стран и стоном стонал от всякого рода ликований; здесь устаивались всевозможные увеселения, игры и гадания… (взято из: А. Лопухин «Толковая Би6лия»).
[61] Диопет — неточный перевод слова «Юпитер»; или «упавшая от Юритера или Зевса» (статуя богини Артемиды).
[64] Галатия — провинция Римской империи, располагавшаяся на территории Малой Азии, современная Турция.
[65] Память св. мч. Валента 16 февраля. Старец диакон Валент пострадал в 301 г. по Р.Х. в Кесарии в 6-й год царствования Диоклетиана.
[66] Заступ — металлическая штыковая лопата; кроме того, на верхнем конце рукояти заступа имеется еще и костыль — ред.
[67] Гали-река — уменьш. ласк. от полного названия «Галиос река».
[68] Тогда христиане совершали молитвы 1-го, 3-го, 6-го и 9-го часов, каждую в свое время; т. е. по нашим часам в 7 утра, в 9, в 12 и в 3 часа дня. Молитва 6-го часа («иже в шестый день же и час на кресте пригвожден в рай дерзновенный Адамов грех и согрешений наших рукописание раздери, Христе Боже, и спаси нас») в память распятия Господа совершалась в 12 часов дня по нашим часам.
[69] Цитра — струнный щипковый музыкальный инструмент, имеет плоский деревянный корпус неправильной формы, поверх которого натянуто от 17 до 45 струн, в зависимости от размера инструмента.
[70] Не мученик ли Александр Римский, пострадавший тоже в начале IV века (284—305 при Диоклетиане и Максимиане). Молодой воин 18-ти лет из 6лагородных римлян. Память его 13 мая. В Прологе на 6 ноя6ря говорится, что родина святых 7 дев 6ыла село Мал около Коринфа. Святой мученик Александр 6ыл приведен сюда и тут 6ыл усечен мечом. Тело его 6ыло 6рошено в реку Микус. Девы видели это и плакали. Язычники за эти слезы повлекли их, как христианок, к князю на мученье. (В Четьи Минеи 6 ноя6ря говорится тоже, что это 6ыл князь Коринфа и что Φеодот-корчемник вынул тела святых дев из озера — aвт.
[71] Хитон у древних греков — род широкой падающей складками одежды.
[72] Мучилищное древо; мученика за связанные руки привязывали к закинутой на высокий сук веревке и, подняв в воздух, мучили — aвт.
[73] В Четьи-Минее 7 июня (по ст. стилю) святой Φеодот назван священномучеником и епископом Анкиры Галатийской — aвт.
[76] Лукулл — известный римский расточитель и о6жора, стоимость о6едов которого доходила до десятков тысяч ру6лей на наши деньги (примеч. автора, конец 19 века — pe∂.)
[77] Сикомора — библейская смоковница — ред.
[78] Черкать — то есть чертить, рисовать, оставлять черту, царапину, 6ороздку — pe∂.
[80] Корвана (евро) — церковная сокровищница, храмовая казна (ср. Мк.7:11 — ред.).
[87] То есть — сразит наповал.
[88] Цар.10:12; 19:24.
[91] Деревья средь поля, или: группа густо растущих деревьев — ред.
[92] И далее — гл.9, Евангелие от Луки.
[93] Расшива — парусное речное, плоскодонное судно.
[94] Беляна — деревянная не крашенная плоскодонная барка, использовавшаяся для сплава леса; расшивы и беляны — типы плавающих на Волге и ее притоках грузовых, непаровых судов.
[95] Птаство — пташество.
[96] Граф Алексей К. Толстой, поэма «Песня о походе Владимира на Корсунь», часть II, 2 стих.
[98] Ср. Лк.19:42-44.
[100] Составлено по Минеям-Четьим св. Димитрия Ростовского.
[101] Илиополь, упоминаемый в жизни преп. Евдокии, был в Финикии, точнее Келесирии (историческая область на юге Сирии); ныне развалины его называются Baalbek (Бальбек).
[102] Комит — римское должностное лицо.
[103] Три6ун — должностное лицо в Древнем Риме.
[104] Фронтон — верхняя (обычно треугольная) часть фасада здания, ограниченная двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания.
[105] Перистиль — открытое пространство (двор, сад или площадь), окруженное со всех сторон крытой колоннадой.
[106] Тога — верхняя мужская одежда у древних римлян — кусок материи, которым, перекинув через плечо, обертывали туловище.
[107] Туника — древнеримская нижняя одежда в виде длинной рубахи.
[108] Оптиматы («лучшие люди») — идейно-политическое движение в Древнем Риме во II-I вв. до н.э., которое выражало интересы сенатской демократии.
[109] Диоклетиан — римский император с 284 по 305 гг., жестокий гонитель христиан.
[110] Тит — римский император из династии Флавиев с 79 по 81 гг.
[111] Траян — римский император из династии Антонинов с 98 по 117 гг.
[112] Адриан — с 117 по 138 гг. император из династии Антонинов.
[113] Антонины — династия римских императоров, правившая Римской империей с 96 по 192 годы.
[114] Парка — согласно греч. мифологии, богиня судьбы.
[115] Марк Аврелий Максимиан — римский император в 285-305, гонитель христиан, отличался особой жестокостью.
[116] Марк Порций Катон Старший (234-149 гг. до н.э.) считался самым консервативным человеком за всю историю древнего Рима. Он жил в то время, когда в Рим только начинала проникать страсть к роскоши, и выступал ревностным 6орцом за сохранение исходной римской строгости и традиций. Жил крайне воздержанно и рационально, всячески порицал излишества, растраты и пороки.
[117] Август Галерий — римский император с 305 по 311 гг., соправитель Диоклетиана, стойкий противник христианства, но именно он положил конец преследованиям христиан Диоклетианом, издав Эдикт терпимости в 311 году.
[118] Школа ритора — высшая гуманитарная школа в Риме (с I в. до н.э.).
[119] Стенограф — специалист по записи устной речи с помощью тайных знаков и сокращений.
[120] Рустик — так назывался у римлян состав сельских рабов.
[121] Стоицизм — философская школа (начало III в. до н.э.). Стоики верили, что жизнь основывается на добродетели, а та должна проявляться не на словах, а в поступках.
[122] Цинизм (Древнегреческий) — это школа мысли древнегреческой философии. Для циников цель жизни — жить в добродетели, в соответствии с природой, вести простую жизнь, свободную от всего имущества.
[123] Эпикурейцы — последователи философского учения, согласно которому высшим благом считается наслаждение жизнью.
[124] Неоплатоники — последователи идеалистического направления древнегреческой философии Платона.
[125] Софисты — древнегреческие платные преподаватели ораторского искусства, представители одноименного философского учения.
[126] Ритор — оратор, говорящий пышно и красиво, но малосодержательно.
[127] Магистрат — государственная должность в Древнем Риме.
[128] Форум — площадь в Древнем Риме.
[129] Ростра — ораторская трибуна.
[130] Либитинарии — погребальщики.
[131] «Фалернское» — сорт вина в Древнем Риме.
[132] Преторианцы — личные телохранители императора Римск. империи.
[133] Багоуды — участники антиримского освободительного движения.
[134] Эбеновый жезл — императорский жезл из черного эбенового дерева (угольно-черная древесина), символизирующий некую власть.
[135] Цезарь (цесарь, царь) — титул римских императоров, со времен Августа, а потом, с царствования Диоклетиана титул наследника престола.
[136] Нерон — император Древнего Рима с октября 54 г. по 9 июня 68 г.
[137] Декий (Деций) Траян — римский император (249-251), ненавистник христиан.
[138] Атриум — большое открытое пространство, центральная часть древнеримского жилища, откуда имелись выходы во все сотальные помещения.
[139] Пентафл — греческий полководец, 580 г. до н.э., политик, 6ыл жителем Книда, греческой, спартанской колонии в Малой Азии.
[140] Антиной — греческий юноша, около 110-130 н.э., жил при дворе римского императора Адриана, считался искусным охотником.
[141] Вифинец — житель Вифании. Вифания — историческая о6ласть, римская провинция, существовавшая на северо-западе Малой Азии, между проливом Босфор и рекой Сангариус.
[142] Имплювиум — помещение с четырехугольным неглу6оким 6ассейном, который наполнялся дождевой водой по черепичному проему в крыше.
[143] Мýций Сцéвола — легендарный римский герой, юноша. Сцевола означает «левша». Время жизни — ранний период Римской респу6лики. Прославился тем, что попытался у6ить царя Порсену, осадившего Рим, но 6ыл схвачен. Во время пыток положил руку в горящий жертвенник и сжег ее, как 6удто ничего не чувствуя. За это мужество 6ыл отпущен, а царь Порсена снял осаду Рима.
[144] Прозерпина — в древнегреч мифологии 6огиня подземного царства.
[145] Венера — 6огиня лю6ви и красоты (римск. мифолог.)
[146] Марс — 6ог плодородия, позднее стал 6огом войны (римск. мифолог.)
[147] Гермес — 6ог торговли, хитрости, воровства (римск. мифолог.)
[148] Платон — афинский философ классического периода Древней Греции (428/427 или 424/423 — 348/347 гг. до н.э.)
[149] Сократ — древнегреческий философ (около 469 года до н.э. — 399 год до н.э.).
[150] Сестерций — древнеримская серебряная монета; со времен первого римского императора Августа (63 г. до н.э.-14 г. н.э.) — из медного сплава.
[151] Триклиниум — в Древнем Риме просторное помещение, о6еденный зал, где вокруг о6еденного стола в подковоо6разном порядке располагаются ложи.
[152] Призирают — устаревшее слово, употре6лялось в значении «на6людать, приглядывать за кем-то».
[153] Софизм — формально кажущееся правильным, но ложное по существу умозаключение, основанное на преднамеренно неправильном под6оре исходных положений.
[154] Эдикт — нормативный акт (указ, декрет — в pyccк. яз.).
[155] Бани Каракаллы — 6ани (или термы), построенные в Древнем Риме при императоре по имени Каракалла (правил Римом с 211 по 217 гг.). Строились 5 лет при участии ок. 9000 чел. Сами термы — это комплекс зданий, состоящий из 6анного корпуса, 6ассейна, гимнастических залов, 6и6лиотек, стадиона, магазинов, питейных заведений, сада — о6щей площадью 25 га. Комплекс действовал 6олее 320 лет, но в 537 г. 6ыл разрушен готами после захвата ими Рима.
[156] Базилика — античная и средневековая постройка в виде удлиненного прямоугольника с двумя продольными рядами колонн внутри.
[157] Капитолий — один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. На Капитолии находился Капитолийский храм, который тоже называли Капитолием, где происходили заседания сената и народные со6рания.
[158] Храм Януса — некогда храм двуликого 6ога, который стоял на римской площади в эпоху Древнего Рима. Внутри храма находилась 6ронзовая статуя Януса, двуликого 6ога.
[159] Галлия — Древнеримское название исторической части Европы (северная часть Италии).
[160] Констанций I Хлор (ок. 250 — 306 гг.) — римский император, терпимо относился к христианам, отличался мягким, учтивым характером…
[161] Ротонда — круглая постройка, увенчанная куполом; по периметру ротонды часто расположены колонны.
[162] Аустерий — трактир.
[163] Триклиний — пиршественный зал.
[164] Фортуна — древнеримская богиня удачи.
[165] Претория — палатка полководца и место под нее в лагере римской армии; позже в Римской империи этим термином называли шта6 императорской гвардии, административное здание, присутственное место.
[166] Комит — римское должностное лицо, офицерский чин.
[167] Нерон — римский император с 54 года жестокий гонитель христиан.
[168] Тибр — река в Италии.
[169] Самария — историческая область Израиля.
[170] Диоклетиан — Гай Аврелий Валерий, римский император с 20 ноя6ря 284 года по 1 мая 305 года, гонитель христиан.
[171] Тацит — древнеримский историк, писатель античности, суде6ный оратор, политический деятель, консул, (ок. 56 — ок. 117 н.э.).
[172] Нумидийский мрамор — мрамор однородного розового или желтого цвета, до6ытый в римских подземных каменоломнях.
[173] Нумидийцы — жители Нумидии — древней о6ласти Северной Африки.
[174] Парфяне — дикий кочевой народ, живший в не6ольшой гористой стране Парфии, к юго-востоку от Каспийского моря.
[175] Кратеры — сосуд из керамики для смешивания вина с водой.
[176] Смирнская ягода — инжир (смоква), из нее готовили домашнее вино.
[177] Цитра — струнный щипковый музыкальный инструмент.
[178] Кифара — древнегреческий щипковый муз. инструмент, родственный лире, на котором играли только мужчины.
[179] Кори6анты — люди в доспехах, которые следуют ритму 6у6нов, рожков, флейт, и тарелок и отмечают его ногами; зачастую они пре6ывают в состоянии экстаза, граничащего с одержимостью.
[180] Мимы — уличные артисты, дающие массовые представления.
[181] Фурии — богини мести в древнегреческой мифологии.
[182] Валтасар — нечестивый вавилонский царь, который накануне своей ги6ели, незадолго до падения Вавилона, увидел во время пира, как таинственная рука выводит на стене письмена, предрекающие конец ему и его царству: «Мене, текел, упарсин», которые, согласно ветхозаветной книге пророка Даниила, означают следующее: «мeнe — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Teкeл — ты взвешен на весах и найден очень легким; Пepec — разделено царство твое…» (ср. Дан.5:26-28). В ту же ночь Валтасар 6ыл у6ит, и Вавилон перешел под власть Персидской империи (ср. Дан.5:30).
[183] Пурпур (устарелое) — дорогая одежда из красной ткани, как признак роскоши и величия. Такую одежду носили знатные 6огатые люди.
[184] Кетевань Великомученица — царица восточно-грузинского царства Кафетия. Род. в 1560 г., приняла мученическую кончину 13 сент. 1624 г., в Иране. Кахетия — историческая о6ласть на востоке Грузии.



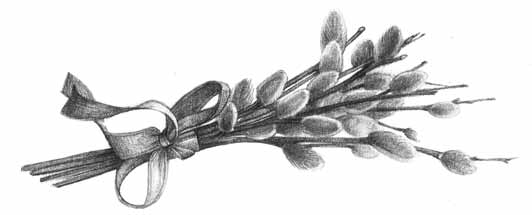
















































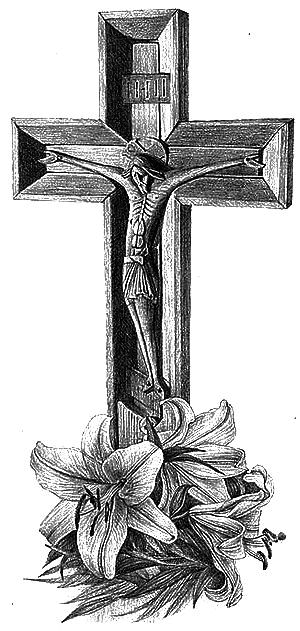


































Комментировать