Предисловие
Эта краткая книга вмещает в себя множество запоминающихся образов и проходит три сюжетных измерения, но ее повествовательная полнота воспринимается разом, как при взгляде на житийную икону. «Свет Христов просвещает всех» через личность подвижника, которому икона посвящена, и окружавший его мир страстей стягивается к нему, в четырехугольник иконной поверхности. Так и вокруг о. Павла в «Отчизне неизвестной» собираются лица, картины, явления темные и светлые, вместе пронизываемые тихим Светом.
В изображении священника о. Павла отсутствуют героические черты; перед нами — человек кроткий в своей слабости и скорее «кабинетного склада», смолоду мечтающий о «письменных трудах» — «о беспредельном в тесном деле жизненных рамок», в монашеском затворе. Но судьба решает иначе — застенчивый выпускник Духовной Академии влюбляется, венчается и становится священником, сталкиваясь при этом с необходимостью компромисса, испытывая зловещую раздвоенность: «…вдруг гаснет лампада от взмаха ее руки — он сейчас же снова зажигает фитиль, она тянет его к себе за рукав, еще одно неловкое движение — снова гаснет огонек…». Но это — лишь счастливое начало испытаний. О. Павел, раскрывшийся на пастырском поприще как талантливый проповедник, горячий служитель Христов, в послереволюционные годы оказывается на разных общественных полюсах со своей женой, теперь педагогом-антирелигиозником. И когда о. Павла постигает участь многих священнослужителей тех лет, он ощущает это — «озарением мысли» — с благодарностью: «Вот она, развязка». Незадолго до ареста прихожане преподносят ему крест, «сияющий аметистами», вдохновляющий о. Павла на проповедь о сладости страдания. Подарок приходится перекрестком на его жизнь, разделяя и соединяя семейную историю о. Павла, полную конфликтов, и предстоящую ему тюрьму, ссылку, откуда уже не вернуться. Драгоценный крест на груди проповедника — и все прибавляющая страдания повседневность, где проповедничество непредставимо — не один ли и тот же это крест?
Итак, вначале — ученый богослов, затем — проповедник и в конце — просто «батюшка», больной, обессиленный, лишенный возможности служить. Но священ его духовный сан, и столь велико упование и смирение о. Павла, что образ батюшки живителен для всех, приходящих ему на помощь. Это и случайно увидевшая его торговка Авдотья, для которой он «кормилец желанненький», и осужденный за убийство сокамерник Василий, и попутчик-пьяница Анисим, и раскулаченный крестьянин Евграф Захаров, в глухом сибирском селе дающий кров ссыльному священнику, чтобы вскоре принять его предсмертную исповедь. Последним духовным чадом о. Павла становится сосланный за общение с сектантами молодой Федор Укоров, совершающий по отношению к батюшке подвиг любви и сыновней преданности. Но особенное внимание уделено в повести духовной дочери и племяннице о. Павла Але, ищущей его по сибирским тюрьмам, с детской горячностью, рвущейся за ним в ссылку — узнающей в нем «Другого Человека» …
Портреты действующих лиц повести отчасти даны лишь наброском, они — скорее типологические, чем психологические. Но эти быстрые уверенные зарисовки, пусть и порождая иногда ощущение пропуска, в большинство своем видятся литературно достоверными, и им чужда схематичность. Повесть неизменно показывает живых — не осуждая и не обеляя, не преследуя целей исторического обличительства и идеологической персонификации сил зла, скажем, в лице конвоира или следователя «органов». Задача книги иная: напомнить современнику, стоящему на пороге 1000-летия Крещения Руси, о непрерываемости действия веры, о смирении и стойкости пастырей в годы гонений, о неистребимости любви в душах простых смертных. Еще о том, что «отчизна неизвестная», куда зван каждый, раскрывается в осознании ее. И сквозь наст Сибири, где о. Павлу даруется «скорое освобождение» задолго до конца его двадцатипятилетнего срока, проступает кора «истинной земли Ханаанской».
Евгений Хорват
Там, за далью непогоды
Есть блаженная страна —
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.
Часть I
Ясным осенним утренником, немного ранее семи часов, когда по канавам ярко блестела посеребренная инеем полынь, к Иркутску подошел длинный товарный состав с прицепленными к нему двумя арестантскими вагонами. Шел он от Ленинграда всего двенадцать суток, нигде, кроме Омска, долго не стоял, и нигде с пересыльными тюрьмами не сливался. Все прибывавшие ссылались в Восточный распределитель для отправки в дальние села Сибирского края. Арестантов перекликнули, пересчитали, выстроили парами и повели через понтонный Ангарский мост по низовьям города на Ушаковку.
Этапом шел «сбор дружины всяческой» — две женщины из Вологды, злостные спекулянтки, два растратчика, несколько налетчиков, еще четверо: трое женщин и мужчина с судимостью за крупные кражи. Немного отставал на ходу полный бухгалтер с тяжелой одышкой. Ему мешало не по сезону теплое пальто, и он тащил его почти волоком, спустив чуть не на локти всю тяжесть скунсового воротника. Позади всех шел болезненного вида юноша с серовато-бледными губами, видимо, давний арестант. В паре с ним, замыкая шествие высокой заметной фигурой и еле поспевая за быстрым ходом этапа, шел единственный политический ссыльный — академик священник. Сильно сгорбясь и задыхаясь, он нес небольшой чемоданчик в одной и продуктовый узелок в другой руке. Сибирский утренник раздражал его грудь, давно отвыкшую от далеких прогулок и воздуха. В поезде он мечтал об обязательном переходе по городу от вокзала в тюрьму. За полтора года заключения он отвык от уличного шума, а его глаза как бы вновь поражала беспредельность небес. В вагоне ему казалось — вот он выйдет на улицу, вот он крепко станет на твердую почву после двенадцати суточных поездных толчков — и все пройдет. Не будет спертого воздуха и духоты… Сразу исчезнут частые стеснения в груди, головокружения. Но когда он вышел дрожащими, не своими ногами на вокзальный задворок, откуда их направляли к мосту, то ощутил необычайную слабость, а за нею тяжесть в руках и ногах, как от выпитого вина. В голове кружило и шумело. Странная неустойчивость тела встревожила его. Дойдет или упадет? Сказать что-либо о своем состоянии он даже и не мыслил и шел с одной только мыслью: «Надо, надо дойти!».
Сибирь встретила новых гостей своей дивной стороной, чудесным погожим утром. Солнце всплыло над городом, заблестели крыши, окна. Золотом вспыхнула водная гладь Ангары. Над проходящими раскинулся небосвод таких васильковых оттенков, какие свойственны крымской весне либо байкальской осени. Незнакомая никому, неизведанная Сибирь на миг ласково улыбнулась отчизной. На гористой окраине города осенние деревья желтели янтарными фонариками. Вот и Ангарский мост, ослепила, запенилась, закипела Ангара прозрачно-зеленоватой влагой. Надо бы такую реку оковать броней, запереть чешуями и сводами чугунных перил, а тут через нее доверчиво пролегали обычные деревянные сваи, да низковатые перила прерывались опасными пролетами. Глазам открывалось каменистое, обманчиво близкое дно — глубиной до девяти–двенадцати сажен.
Проходя мост, все вдруг подбодрились, заговорили. Влага ли ангарская сочеталась с воздухом в живительном вздохе, желанная ли свобода коснулась утесненной груди — но вдруг впереди кто-то засмеялся, мальчишка-налетчик солдату в ухо: «Дядька, давай покурим!», на что тот фыркнул: «Я те покурю!» и, обращаясь к задним, кто отставал, тоном фельдфебеля старого:
— На что загляделись? Реки не видали? Марш!
Идти по набережной становилось знойно, белая пыль забивала носы. Утро сразу перешло в жару. Везде мелькала пробужденная жизнь города. Женщина громыхнула железным болтом, раскрывая ставни. Утонченному слуху, давно отвыкшему от жизненных шумов, было чудесно услышать скрип нового коромысла — шли к водокачной будке. Двое мальчишек, прильнув к стеклу окна, глядели на этап. И все новинки жизни, сибирская раздольная река, синее небо, пенье петухов, золото осенней листвы — все, как близкая свобода, встретило прибывших, а с ними и едва поспевавшего священника.
Год и шесть месяцев то одиночного, то общего заключения сделали свое дело. Он ослаб, постарел и обвял, но в психике своей не помутился. Наоборот, все воспринимал утонченно, глубинно. Он даже привык объективно проверять себя в нормальности своих ощущений, но тут свежая струя жизни, такая могучая и яркая, подействовала на него как бы отравой. Так бывает с голодающими, если дать им много пищи. Потоки утреннего воздуха, Ангара с ее кипеньем и грохотом набегающей, как в море, волны широкая немощеная улица, ставни, лай собак, шум струи в водокачной будке, все разнообразие этих блюд, простых для обывателя, лакомых и вредных для заключенного, чуть не свалило его с ног. Поднимаясь в гору, к Ушаковскому перевалу, он сильно задохнулся и тронул своим узелком руку соседа. «Устал, батька? — спросил тот и шепнул сбоку почти ласково: — Тише пойдем, ну их…» Их пара пошла медленней — передний конвойный заметить не мог, но второй, что шел сбоку, сразу закричал на них: «Не отставать!».
«Машинка, братец ты мой, у всех портится, — шептал на ходу бледный арестант. — Я, небось, как отсидел с полгодика в исправдоме, так чуть не подох. Руки трясутся, слабые, коленки тоже, что у нервной барыни. А ведь женку шел убивать — стальной!»
— Как же вы ее… за что же?
— За мужика, за что же? Не блуди. Размахнулся и ахнул колуном. Не пикнула. Ментом! А подумать, за что жизнь сгубил? Губы мазала, брови брила, чисто клоун. Вот и сгубил себя, за барахло, за рыночную ветошку.
Не однажды за месяцы заключения слышал священник подобные речи и до сих пор не мог привыкнуть ни к нравам, ни к языку окружавшей его среды. Одно понимал: все это люди жалкие, отверженные, это его братья по страданию и общей доле, им всем, как и ему, скорбно, душно, тесно, но установить между ними и собой жизненную спаянность он не мог и мучил себя упреками за свое неумение и за создание своей отдаленности. Он вел себя со всеми просто и миролюбиво, но люди, с которыми сдружила его жизнь, не понимали таких тихих и обходительных речей. Тогда он еще сильнее мучился оторванностью от общего уровня. В нем всегда жил дар умного и тонкого проповедника, но сейчас он был далек от мысли о каком-либо проповедничестве. Там, в той жизни, которая свернулась перед ним в узкий свиток и исчезла внезапно и бурно… в большом соборе… при стечении единомыслящих людей, да, это — другое дело, здесь же ему казались малыми самые высокие слова, тут действовала сама жизнь возмездия и покаяния.
По дороге в Сибирь он познакомился со всеми их делами. Знал про каждого — кто он был и за что идет с ним, но не упреки вызывали в нем бесхитростные сообщения о кражах, убийствах, растратах. Он только болезновал, что с этими людьми, так же как и он обреченными на ссылку и одиночество сибирской зимы, у него нет общего языка, нет обмена мыслей, нет такого всем понятного запаса слов, благодаря которым им совместно стало бы легче дышать…
— Поп, подгоняй! Живо! — крикнул конвойный.
День все разгорался. Давно растаял хрустальный утренник. Сильно припекало на открытых местах. Этап прошел мимо новых построек из крепкого теса. Солнечной зыбью переливалось в оконцах, становилось жарко… Спустившись по горушке вниз, вступили на Ушаковский мост через мелководную Ушаковку с ее плоскими берегами. Открылся новый горизонт — окраина города. Ее окаймила цепь холмов, сказочно синяя, почти сливавшаяся с небом. На этой васильковых оттенков выси золотом сияли сентябрьские тополя… По мосту постоянно грохотали телеги и подводы — то грузовик бубнил железными полосами, то накренялся воз с сеном. Странное ощущение овладело ученым батюшкой: его глаза, отвыкшие от обилия дневного света, и его мысли, куда-то глубоко ушедшие внутрь него, снова впитывали и принимали реальное, но оно казалось не явью, а сном, призраком, небылицей… И глаза, и мысли просыпались не сразу. Просыпаясь, по-новому впитывали в себя новую жизнь. В начале пути, переходя Ангарский мост, ему еще не так ясно предстала свобода, он ни о чем не мыслил, кроме отяжелевшего тела и трудных ног, но здесь, несмотря на часовой прогон, ему захотелось как можно скорее желанного конца — воли. Здесь бы сесть на плоском лужку, пусть кругом смотрят на его крупную смешную фигуру — вот там, вдали, купаются дети… И застыть… И привыкнуть. А то — хмель какой- то, жуткий и волнующий.
В тюрьме не было так страшно, а тут наступил острый момент: тюремная дрема, болезнь и мрак боролись с великой реальностью жизни: грузовиками, мостом, скрипом телег. А надо всем — горизонт континентального неба с янтарно-желтыми деревьями на голубом просторе… И громко перекликались петухи на перевале у строек. Ныряли дети, летели брызги. Он где-то видел такие картины, он где-то, в каком-то прошлом сне, пил из этих ярких источников. Потом наплыл мрак. Потом смерть отошла, погрозив и дав отсрочку. И снова — жизнь, какая-то новая, неожиданно отданная. Странная в своей неоформленности, стихийная и могучая для его подорванных сил. К ней надо приспособиться, приглядеться. Ее новые формы и содержание почти то же, что хмельной напиток. Осторожно, не сразу, мелкий глоток — и хватит пока…
Мост задрожал и затрясся. Вооруженные люди на громоздкой машине, кобуры, винтовки… Вкрадчиво шелестя, пролетел военный автомобиль и скрылся за двухэтажным зданием. Оно стояло на открытом месте, глядя прямо на мост многочисленными окнами в клетках железных решеток. Это и была тюрьма, домзак, или, иначе говоря, изолятор Восточно-Сибирского распределителя.
Этап уже сошел с моста, будка часового была недалеко, как внезапно давно неслыханный звук проник в сознание: звонил соборный колокол, последний из неупраздненного еще храма.
«Это ранняя, — подумалось ему, — наверное, к Достойно?».
Удивительно, как достиг этот планомерный негустой звон до пастырского слуха, он не опоздал ни на минуту, а перед самым входом в последнее заключение пропел ему радость близкой воли. Под колокольный звон этап подошел, к тюрьме и остановился перед главным входом. Люди переминали ноги, ожидая распределения на посты.
Самое трудное была невозможность опустить на землю узелок и чемодан, и как раз около двери не хватило больше никаких сил. Наконец пересмотр документов окончился. Прибывших отвели за первую и вторую решетчатые двери и поставили у стенки в глубине темного коридора… Началась перекличка по фамилиям с обозначением поста, куда направлялся арестант. О священнике переговаривались, недоумевали, куда его назначить, неуголовника? Все уже ушли, он один ждал назначения, смахивая рукой пыль с подрясника. «Куда бы деть попа? На втором — набито до отказу. На двенадцатый — коек нету… Нары все заняты». Решили — на двенадцатый. Там еще двое политических…
В темном коридоре отошли картины блестящего осеннего дня. Привычный уж для зрения сводчатый потолок. Двое служащих несли на длинных палках ведра с кипятком — утренний чай. Все поникло, сузилось, стало как в прежнем домзаке — в России…
Настало мгновение отдыха. Чемоданы, узлы, сундучки свалены с плеч, погружены на скамейки, люди расположились около своих поклаж. Вдруг свисток, похожий на свирепое жужжание гигантского жука.
— В баню!
Их снова выстроили, выдав по куску мыла, кто имел, захватил с собой смену белья — узкие коридоры острога позади, выход на задворки изоляторских построек, где весело клевали землю два молодых петуха. Обогнули кирпичную кладку, тут стоял забрызганный ушаковской грязью черный воронок. Оттуда по кряжистому склону мимо досок, бочек, кирпичей, по узкой улочке восточного типа. Снова город? Знойно, пыльно, еле двигаются одеревеневшие ноги… Дошли до торговых бань, открытых с семи утра, у входа дети грызли кедровые орешки, а полуслепой старик продавал полынные веники. Были там еще три торговки с корзинами черемуховых ягод, одна из них посторонилась, пропуская этап, и внезапно увидела священника. Ее лицо задрожало, покраснело, на глазах выступили слезы. И живо, вытянув из кармана передника рубль, совала ему, пока никто не видел, и в жалости своей шептала: «Кормилец желанненький, возьми, помяни грешную Авдотью, помяни…».
Не взять — обидеть, взять? — рядом, сзади конвойный — лицо батюшки выражало скорбь, недоумение, улыбаясь, он благодарил и тут же отвел глаза от женщины… И даже подался плечом в сторону, чтобы только не взять. Рубль этот взял бледный, что убил жену. Ловко взял, через спину священника, — и сразу их впустили в баню.
Пост 12, камера 124
Солнечная осень проникла и сюда в виде светлых пылевых столбов, и темное помещение с нарами, одна над другой, слегка освещаясь из окон, казалось еще непригляднее. Несмотря на общее положение всех тюрем — еженедельную баню — чистоты не прибавлялось. Правда, заключенные каждое утро по очереди мыли полы. Но сразу же грязнился и оплевывался вымытый щербатый камень со старыми выбоинами царских времен. Всякий почти старался что-либо добавить к общему хаосу. То харкнут сверху на самую середину пола, то придавят ногой папироску, покуда часовой не глянет в очко. В штукатурке старых стен дружными семейками роились клопы, их постоянно вышпаривали кипятком, исчезали, появлялись снова. С ликвидацией платяных вшей дело обстояло короче и действеннее — санобработка с одного, много с двух раз.
В дороге много смеялись над ученым батюшкой, который с болезненным содроганием относился к щелканью пальцев то того, то другого арестанта. «Ничего, батя! — смеялся бледный убийца девчонки. — Ты для начала одну прищелкни, блондинку с серой спинкой, не то и тебя зажрут». Но и дорога прошла, и вши ликвидированы, а вот сейчас, на посту № 12, новое страдание — постоянный разговор. От него никуда нельзя было спрятаться, ни утром, ни днем, ни даже ночью, когда болтовня поднималась как-то внезапно, по мере чьей-то бессонницы, или стука, или, как это бывало в России, после вызова на ночной допрос. Люди говорили почти все и все… И во всем была неразбериха. Если бы людям и пришло в голову, то какое им дело до того, что кто-то больной, мучится через пытку слушанья ненужных словоизвержений? Но разговаривая, эти люди топили в них все — и страх, и грусть, и укоры совести, и ночную скуку, и неизвестность приговора — и мало ли еще что…
Темы возникали всякие — и анекдоты, и происшествие. Домашнее житье вспомнилось. Говорили о доме, об оставленных ребятах. Зачастую бахвалились теми поступками, в которых обвинялись. В Иркутске же, словно бес вселился, вся компания дружно несла похабщину. Рыночные остроты и частушки срывались то и дело в темноту ночей. По вечерам до полной слепоты играли в засаленные картишки. Вспоминали баб, матерно поругиваясь. Делились всякими интимностями, наклоняя друг к другу багровые лица. Только один бухгалтер, «бывший человек», как интеллигент, держался поближе к священнику, чем к остальным, и то, стараясь не изъявлять особого сочувствия, а так, по мере надобности, кидая ему только необходимые слова.
Кое-какое разнообразие жизни, как оттяжку от мути и лени, внес своим приходом китайский доктор. Его привезли на двенадцатый пост к концу второго дня по прибытии ленинградцев в Иркутск и, несмотря на всякое утеснение камеры, утеснили еще, поставив ему койку, и веселый желтолицый человечек занял временную площадь. Он ходил в мягких туфлях, совершенно спокойно относясь к окружающему. Но когда в камеру входил солдат с чайником, китайский доктор оживлялся, улыбаясь, еще более суживал в щелочки косые глаза и спрашивал: «Передача наш скороа? Шамай надо…» Его привезли с предыдущим этапом из томской пересыльной тюрьмы. Двенадцать лет он исправно пользовал больных травками и сплоховал: открыл торговлишку кое-чем, чего не хватало подчас в аптеках. Тут к его обвинению случилась еще смерть ребенка, которого он лечил настойкой конского щавеля от диспепсии, и его засадили как спекулянта-торговца и бесправного медработника. В Иркутске у него была родня, и он жадно ждал передачи, в первый же вторник ему принесли сырого петуха, десяток неваренных яиц, плиточного чаю и пол буханки пшеничного хлеба. Курятину он поел жадно, сырьем, разрезая птицу перочинным ножом, кое-где помогая разрывать руками, яйца тоже проглатывал сырыми, чай же заварил крепко первым принесенным кипятком в оловянную чашку.
Дежурный, что принес передачу на пост, заинтересовался китайским сыроедством и, допуская некоторую фамильярность с заключенными, спросил священника:
— Что же это, по ихней вере надо сырого петуха жрать?
Тихим голосом, прерывистым от постоянной за последнее время одышки, батюшка объяснил, что у каждого народа свои вкусы и свое понятие о еде, о нуждах организма, что, пожалуй, к религии это нимало не относится. А вот некоторое из того, что едим мы, покажется китайцу, пожалуй, диким, неприятным.
Китаец, видимо, понял батюшкины слова, он закивал, заулыбался, отрываясь от обеда:
— Твоя-моя, тебе — шамай невкусно. Твоя-моя.
Бледный, что ссылался за убийство жены, ярче всех грустил о свободе. В этом остроге им воспользовались как смышленым, грамотным и расторопным — его поставили на пост передач. Ему был смысл взяться за такое дело: кое-кто и подаст ему самому и сунет что… а ведь как это дорого. Здесь у него ни родных, ни знакомых. Сам пережив и переживая заключение, он живо сочувствовал всем. Он был не пришлый, не здешний, а свой брат, и потому все бабы в платках, все мужчины и подростки, пришедшие с передачами, были ему свои. Он разговаривал со всеми наносно грубовато, но люди сразу угадывали сочувственного, своего. Не прошло и полчаса вторичной передачи, как у него уже были два соленых огурца, яйцо и кусок омуля на пшеничном пироге. Весь провиант он отнес по правилу за решетку, заявив — «мое». Надо было ловко маскировать внимание к заключенным и к их родне — иначе снимут с поста, и — шабаш, сиди на пайке.
— Это кому, Мокееву? — грубовато забирал он корзину. — Чего ревешь? Не помрет Мокеев. В больнице недурно. Кто следующий? На пятый? Завтра придешь. На пятый сегодня приему нет. Осадите, граждане… Так нельзя. Перво-наперво пропустим, кто законно принес, не бузи. А там, гляди, и ты свою сдашь. Помаленьку…
Бабы причитали: «Милостивец…».
Тюрьма за год побелила губы и щеки «милостивца», что год назад, в ярости, зарубил бабенку. Не вязалось это ни с внешностью, ни с несколько утомленным, размеренным голосом. Со дня первого его появления на передачах стали звать его «бледный».
Ученому батюшке, вопреки всем несообразностям подобных мыслей, все грезился на первых порах пребывания в домзаке приезд сюда жены. Ему все слышались за дверью ее быстрые шаги, ее речь, ее пленительная знакомая улыбка. Но тут же, осознав всю призрачность и шаткость миража, он разбивал молитвою помыслы земные и потому нетвердые.
Город Братск — через Тулун и Братск в дальнее село Усть-Вихорево, так поставили его в известность о точке прикрепления. «Братский острог» — так назывался крошечный кружок на географической карте, в излучине Ангары. Дореволюционной Сибирью, какой-то темной беззвездной далью прозвучало слово «острог». В Братске Ангара оканчивает судоходство. Пристань… Весна… Жена может приехать только весной. Тут его познания о новом пути обрывались сами собой, незнакомая Сибирь страшила больное сердце пространствами и годами. Все становилось гадательным, как в тумане, и только резало седую воду Ангары колесо парохода.
Большой ученый, человек книги и философских трудов, теперь он учился мечтать. Иначе как мечтами нельзя было назвать мелькающие одна за другой мысли. Они приходили бессменно вместо книг и проповедей, занимая мозг. Мигали мелочи тюремной жизни. Он удивлялся им, но не пренебрегал. Наоборот, воспринимал мельчайшие до боли тонко и глубинно. Раньше жизнь отлагалась в сознании большими аккордами. Готовые анализы вливались в него сразу. Одно гармоничное и целое улавливалось им. Теперь не то, но лучшее и новейшее. Он раздвинет стены и посмотрит на просторы за ними. Непостижимо вметываются в его сознание мельчайшие штрихи и подробности скрытой, потаенной жизни. Вот-вот развернется она и осияет его…
Кто-то принес кому-то с передачей букетик астр — лиловых, розовых… Ему кажется, что с ними в камере исчез запах карболки, перебивающий испарения человеческих тел. Перед ним знакомый приют осеннего сада. Там, в России. Закат угас над рекой. Легли вечерние, сырые тени. Вот идет к нему навстречу кто-то, кутаясь в платок. В руке — лейка, на клумбах — астры. Ближе, ближе к нему легкий ход знакомой фигуры. Она уже не в саду, она в камере, от нее веет свежестью осенней клумбы, на груди у нее лиловая большая с бутоном астра, дрожат знакомые ямочки на щеках, лейка брошена, руки протянуты к нему — «жена»!
Это были одни состояния… Другие, более жизненные и реальные, повели с ним дружбу с первых дней заключения. Эти первые дни были днями лучших надежд. Конечно, его испытание должно скоро кончиться. Недоразумение, ошибка. До него дошел черед по вере и по сану, и только… Питаясь надеждой о скором освобождении, он мысленно полюбил служить в своем большом храме. То видел себя в алтаре, то стоял с крестом на амвоне, то шел давать молитву. Он так сроднился со своим храмом, что и не мыслил никогда быть от него вдали. В нем служить, всякий день приносить Жертву и, наконец, лежать там в гробу, с Евангелием в руках — иначе он не мыслил.
Но дни отлетали дальше и дальше от того дня, в который его увели из дома. Вот прошла Троица, всех Святых. Замелькали чередой все летние праздники. Просыпаясь в камере, он среди ночи высчитывал, когда же на Илью-пророка, либо на первый Спас будет он чередным? И вдруг, со слезами упрекая себя в гордости, нетерпении, лживых мечтах, начинал молить о кресте и смирении.
Он был приклеен к большому делу, как духовник старика обвиняемого, и он, которого не могли сломить камера, одиночество, скука, делался больным после допросов, после неверия к его словам, где его трактовали как вредного, лживого, недостойного человека. После ряда дознаний сего мысленного горизонта исчезали ежедневные стояния в храме, в виде мистических вхождений туда. Окончилось и составление им проповедей. Голова опустела, как у поэта, уставшего от творческих наитий — и в камеру к нему пришли иные гости.
То были сети золотых, тончайших воспоминаний о годах учительства, золотой сетью забрасывались они в его одиночку, уловляя мысль в свои весенние прозрачные тенета. Как живая вставала перед ним жена — и особенно ярко вспыхивал в его памяти тот момент, когда, отрешаясь от своей заветной цели, он к ней одной протянул свои руки.
Есть на свете любовь, отличная от всех известных видов любви, когда любят и не видят краев своего чувства и не измеряют его глубины, и не хотят и не жаждут своего, а черпают из неиссякаемого источника вечной любви Живую воду и орошают цельбоносной влагой все кругом, близрастущие сухие травы, пыльные дороги, глухие тропинки, вялые кусты. Вдохновение такой любви, не знающей границ и мер, идет из другого ручья, неизмеримо большего и неусыхающего, в своем вечном неусыхании — непостижимого. Журчит поток, струит прозрачные воды, веками утоляет жажду человечества. Кто нашел на своем пути золотистый отводок всемирного потока, кто припал к нему жадными устами, тот вовек пьет из него чудесную влагу. Питается его душа, крепнет тело, дух парит к небу, окрыляются надежды, светлеет разум. Сам же тот человек делается сосудом живой воды, к нему идут, пьют, оживают… и в свою очередь утоляют жажду других.
Всю свою жизнь, от самого детства, с момента высшего вдохновительного сознания, которое у иных в раннем возрасте бывает сильнее, чем когда бы то ни было, пил сначала отрок, потом юноша Павел из чудесной жилы неиссякаемого ручья. Восьмилетним ребенком подговорил он сестру идти на богомолье — рассказы няни об Афоне и Иерусалиме пали на чуткую душу. Ранним утром оба малыша, Паша и Маша, исчезли из дома. Их нашли только на другое утро, усталых, голодных в избушке лесника. Родительское счастье находки было так велико, что о наказании не могло быть и речи. Лесник привел их к себе с проселка, что вился у самого леса, измученных, жалобно спрашивающих: «Дяденька, где тут дорога на Киев?» Верст пятнадцать прошли от родного дома, а ночь провели на опушке леса. О происшествии говорили, его вспоминали как «случай детства», но, как по уговору, в религиозной семье никто над ним не смеялся. Мало того, за Павлом стали бережно наблюдать. Мальчик рос в чуткой, духовно одаренной семье, и, по его позднейшим словам: «Я не мог быть не таким», определялась вся его сущность. Ему не препятствовали ни в чем, а только пеклись с особым тщанием дать ему благоразумное направление в постигаемом, удалить от него раннюю мечтательность и неразумное рвение к подвигам выше сил. Смирным и кротким Павел был в детстве. Родители, однако, боялись дать миру фанатика и обуженного, одностороннего человека, поэтому образование Павла было полным, разнообразным, книги окружали его, но не бессистемное, а под тайным строгим надзором педагога-отца. Мальчик учился хорошо, хоть и казался порой рассеянным и задумчивым. Окончил гимназию одним из первых учеников, надо было двигаться дальше, поднялись разговоры об университете — каково же было удивление отца, когда сын сказал ему: «Ваша воля, папа, для меня все равно, что воля Божия, но если вы интересуетесь моим желанием, то вот оно: иночество…».
Однако и послушался отца, был зачислен в университет, который и кончил с дипломом первой степени по историко-филологическому факультету. Его оставили при университете на три года при кафедре философии для подготовки к профессорскому званию. Казалось, что он подчинился определенному пути, но сразу же заявил своим: «Теперь — в Академию!». Родные не проронили ни слова. Он был уже самостоятельным человеком, кроме того, они надеялись на годы учения как на оттяжку принять монашество, а в глубине своих простых, любящих сердец смотрели на каждую религиозную и благонравную девицу как на будущую пару для своего одаренного сына.
Духовная Академия была так же блестяще окончена им в следующий год после первой революции — со званием магистранта богословия. Дорога к высшим ступеням духовного образования широко открылась перед ним. В том же году осенью его пригласили в Петербургский женский педагогический институт читать частный урок по истории русской религиозно-философской мысли, и сразу же за этим назначением он был утвержден штатным законоучителем Предтеченской воскресной школы, а в следующем 1907 году допущен к преподаванию закона Божия в женской гимназии, на первое время — без принятия священного сана. Его душа соглашалась с таким постановлением. Он не торопился принимать священство. Он лелеял другую мечту, которую, будучи студентом первого курса, доверил митрополиту Антонию — и получил на нее полное одобрение и благословение.
Так потекли его дни. После окончания Академии прошло еще два года. Философ-богослов проснулся и созревал в нем. Его манили научные труды, тишина рабочей комнаты и возможность писать о беспредельном в тесном пределе жизненных рамок. Подвиг и путь его любимого и, как он верил, духовного покровителя епископа Феофана становился все ближе и ближе. Он уже грезил о своей Выше, ради которой рад был затвору. Он воочию видел лучи утреннего солнца, просвечивающиеся в тесную келью монаха, он слышал колокольный звон, и ему так хотелось работать во славу Божию и ради любви духовной к тому миру, который он оставлял навсегда, чтобы теснее его принять и о нем молиться. Он видел себя, подобно затворнику епископу, пишущим и творящим. Наконец-то вышла в свет первая его маленькая книжечка «Мистика Симеона Богослова» и в тесном кругу студенчества Духовной Академии заговорили о ней.
Ему приходилось в эти учительские годы много трудиться и на курсах, и в гимназии, и там, и тут, и, хотя он добросовестно отдавался своему делу, но то высшее вдохновение, которому он посвящал свои досуги, охватывало его с головы до ног, учительство брало силы, но не наполняло всего. Придя с уроков, отдохнув слегка и подкрепив себя пищей, садился за свои письменные труды и с вечера до зари сидел над бумагой, а утром возвращался к реальной жизни голодный, счастливый, и когда, опаздывая к первому уроку, наскоро в учительской выпивал кружку чаю с куском булки, как вкусна казалась ему эта булка! Словно никогда не ел ничего лучшего.
Он взял себе за правило — молитвенно подходить к началу литературных трудов и неукоснительно исполнял свои начинания в маленьком, но ежедневном правиле. Плоды сказались тотчас же, бунтарские силы необузданного вдохновения подчинялись спокойному духу истинного художника. Сначала мозг его утомлялся, холодели конечности, и все это производило после часов труда некоторое рассеяние мысли. Теперь он учился писать спокойно. Мысли выявлялись одна за другой, но они не наскакивали одна на другую в хаосе и спешке, а ложились на бумагу ясными оформленными строками. Стало меньше лишних пояснения и помарок, и к весне, с окончанием гимназических экзаменов, он надеялся засесть за новый, большой труд. А по его окончании, думалось ему, коль Бог поможет, ликвидировать учительское место и принять монашество с главной целью — уйти в затвор и заняться духовным писательством.
Он стоял уже на перегибе жизни в ту, лучшую для него и более понятную ему сторону, но он все еще медлил со своим уходом из мира. В той гимназии, где он преподавал, шли выпускные экзамены, и они подходили к концу. Он ассистировал по Закону и истории. Робкий и застенчивый от природы, неминуемо сталкивался он на лестнице или в коридоре с веселой толпой учениц, чувствуя на себе их взгляды. Он проходил или даже пробегал мимо, наклонив вперед голову, и нередко слышал за собой их затаенный смех. Невольное смущение не оставляло его и в тот вечер, когда он, в числе других приглашенных педагогов, переступил порог украшенного актового зала. Он вошел сюда с определенной мыслью: «Я уступаю сегодня, но это будет в первый и последний раз!». С таким настроением появился он в дверях знакомого здания. Но, Боже, как все здесь нарядно и необычно! Вместо знакомых классов — уютные гостиные с мягкой мебелью и коврами. Пол в зале натерт до подобия ледяного катка. Его встречают разрумяненные лица учениц. Но разве для него все это? Балы, концерты — приличны ли ему теперь смех и кокетство? Он не хулил ни молодости, ни ее даров, но уже со всей своей цельностью отдавался тому узкому пути, на который вступил в свои тридцать два года. Затем, как будущий затворник, который никогда не услышит женского смеха, не увидит румянец девичьих щек, он считал все подобное вредным и лишним для себя. На что ему это, если осенью затворится за ним крышка желанного гроба и он уйдет из мира чувств, страстей и желаний? «Даже единый раз полученное впечатление, — мыслил он, — отображается в мозговых клетках и живет в них до конца, до гробовой темноты. Так зачем же мозгу и сердцу, отдаваемым во власть и действие Святого Духа, хранить в себе иных спутников, кроме тех, которым он отдает себя на всю жизнь?». Он не видел в гимназической вечеринке ничего греховного, но в то же время считал уже лишним и отрезанным от своего бытия все то, что происходило вокруг. Полезнее и слаще было бы сегодня, не теряя даром драгоценного времени и половины ночи, списать несколько страниц из творений Василия Великого, а затем стать на правило, тем более, что завтра наступал праздник.
Между тем гимназическая зала все более наполнялась и оживлялась, выпускные ученицы и девочки второклассницы входили со своими отцами, матерями и братьями, иных сопровождали и товарищи братьев, гимназисты старших классов, моряки, кадеты. Аромат ландышевых и сиреневых духов носился в воздухе. От кружевных платочков, шарфиков, нарядных туфелек, от всех этих молодых лиц, блестящих глаз и ровных проборов веяло весеннею зарею. Просвет между двумя окнами заполнялся массивным портретом царицы в золоченой овальной раме, в костюме русской боярыни с жемчужными серьгами, с белым тюлем кокошника. На одном из окон забыли опустить штору — майская ночь глядела сюда, мерцая высокой звездочкой на небесной сини. Вошла начальница гимназии в синем платье, с пышной грудью, увенчанной орденами, некоторые педагоги привстали поздороваться, издали поклонился и он, а затем стал подыскивать себе укромное местечко, где бы его не так замечали и где его соседями были бы подходящие, степенные (так, казалось ему, нужно было) люди. Но гимназический священник, в своей нарядной шелковой рясе, паче чаяния уселся в переднем ряду стульев, расставленных для концерта, по бокам поместились его дочери. Каким спасением для робкого учителя явилась белая печка, широкая, с большим выступом в залу. Он забрался сейчас же в самый угол, рядом стояло еще два стула, вскоре их занял господин в судейском мундире с юной дочерью. До начала концерта они разговаривали вполголоса, и молодая девушка все время сдерживала затаенный смех, вот-вот он выпрыгнет наружу и покатится по зале. Бедному учителю казалось, что в лице хохотушки-блондинки вся зала смеется над ним. Но девушка веселилась по-простому, от души, здоровая, молодая… радость жизни наполняла ее, без тени смущения или кокетства она сразу же вступила в разговор со своим застенчивым учителем, рассказала ему, что ждет свою подругу Бодалеву, что обе они курсистки третьего курса, что им обеим по девятнадцати лет, что они с нею мечтают после окончания курсов никогда не разлучаться и служить вместе, и снова зазвенел колокольчик смеха, казалось бы беспричинного, но такого понятного всем, кто смотрел на нее.
Начался концерт. Первым номером прошло, как водится, хоровое пение. «Ходим мы к Арагве светлой каждый вечер за водой…» — пели юные голоса, и от знакомой мелодии ему стало молодо и светло и как-то пленительно-грустно. Вдруг зал зашумел, все захлопали, он очнулся. Хору долго и протяжно аплодировали. Потом вышли три его ученицы, выпускные гимназистки, и спели «Распятие». Его мысли, смущенные «Арагвой» и ее вибрирующими восточно-пленительными звуками, сразу приняли другое направление. За «Распятием» последовал нежный полудетский сопранчик, четко и чистенько пропевший «На солнце темный лес зардел», ему тоже хорошо похлопали. Дальше шло чтение «Думы» Шевченко, «К няне» Пушкина. Затем снова пение — дуэт «Не искушай». Пение дуэта снова повлекло его чувства и мысли, настроенные на мирный и высокий лад, в область какого-то грустящего хаоса, чего-то призрачного и неполного. Пение струилось по залу, как невидимый для глаз туман, и томило душу смутной и нежной тревогой. Оказалось, что в своей уютной тишине за кафельной печью он был плохо защищен от собственного, новорожденного, щемящего и жаждущего чувства тоски. Такое настроение ему было несвойственно. Оно налетало на него от разнообразного сочетания звуков, тут была целая гамма настроений, весь этот мир звуков и слов, выражавших то скорбь, то раздумье, то томление и надежду земли, кем-то оставленной, копошившейся в своих страстях, воззваниях и пленениях, но все же прекрасной и неизведанной земли; все вместе взятое стеснило его сердце мучительной и до сих пор незнаемой им тревогой. Окончился концерт. В зале все разом зашумело, задвигалось, молодежь мигом разнесла по местам стулья. Педагоги и многие из выпускниц отправились по классам пить чай. Не узнать классов! Они превращены со вчерашнего дня в уютные гостиные с палевыми и голубыми абажурами, диванчиками, столиками, пуфами. Но в зале было не до чая и угощений — молодежь готовилась танцевать. Тапер перебирал клавиши, повсюду раздавался смех, говор, веселые пререкания… И, наконец, поплыли в вальсе первые пары. Настала решительная минута. Гимназический законоучитель встал — он не танцует, надо идти домой, в свою хижину, чего еще ждать?
Вдруг до его слуха донесся вопрос господина в судейском мундире, обращенный к хохотушке-дочке:
— Посмотри, Катюша, посмотри-ка, ты не знаешь, кто эта красавица, в голубом, прямо с картины Маковского?
Катюша никогда не беднела смехом, и тут она так раскатилась своими колокольчиками-бубенчиками, что смутила папашу.
— Ты, папа, неисправим! Красивые женщины и мой папаша! Ну так и быть, познакомлю вас!
— Катюша, я ведь только спросил, — виновато оправдывался судейский папаша.
— Ты спросил — я отвечаю. Это вот и есть моя подруга Нина Бодалева. Та, что окончила экстерном, а теперь со мной в институте. Нина! — во все горло крикнула весельчак-девочка. — К нам, к нам!
Бодалева шла на зов, пересекая залу. Переднею расступились ряды танцующих педагогов, гимназисток и курсисток, пропуская ее на другую сторону зала, а сидевшие и стоявшие у стен устремляли на нее восхищенные взгляды. Трудно описывать красоту. Чехов в своем рассказе «Красавицы» лишь намеком творит образ одной из чаровниц мира — армяночка Маша заронила в сердце актера какую-то необычайную печаль, сродни тоске от пребывания в знойной, пыльной степи. Бодалева же пленяла всех, рождая не печаль, а восхищение от победного вида русской лебедки. Ей бы разбросать по плечам русую косу, что закручена сейчас тяжелым узлом на затылке, ей бы на голову кокошник с жемчугом и подвесками, да не такой узкий и субтильный, как у царицы на портрете, а настоящую пику с закрутком и блеском позумента, с бусинками, что спускаются до соболиных бровей и шелковых ресниц, слегка затеняя блеск и смех васильковых глаз. Да нет, к чему тут даже русский наряд? Она хороша во всех нарядах, наденьте на такую красотку суровую сорочку до пят, да голубой, либо малиновый платок на голову, или просто разметайте волнистую косу по лебединой шее и покатым плечам, такой внешности не требуется ни ухищрений туалета, ни искусственной завивки волос. Краска здорового и нежного румянца опахнула щеки, губы улыбались, чуть заметно появлялась и исчезала ямочка на щеке, голубее ее голубого платья нежили глаза. Катюша сейчас же познакомила с ней ее восхищенного отца, тот наклонился к ее руке, отчего девушка вспыхнула вся и стала еще краше.
— Ты отчего не танцуешь? — весело обратилась она к Катюше.
— Кавалеров у меня нет! — простодушно ответила та и залилась смехом.
— Так я тебе сейчас найду. Или от своих отбавлю. Кого бы тебе? А вот подле тебя кавалер, Павел Петрович! Вы не танцуете?
Бедный учитель готов был исчезнуть, испариться от смущения. Ему было трудно поднять глаза. Ведь в классах гимназии, равно как и на курсах, везде смеялись над его застенчивостью, бойкие ученицы старались его рассердить, вывести из себя — и однажды добились своего. Он вспыхнул, загорелся гневом и, встав, пошел к двери. Но тут же обернулся к классу и с полными слез глазами тихо и внятно произнес: «Как вам не стыдно унижать человека! Чтобы это было в последний раз!».
В классе стало тихо, а вслед за тем девочки сказали чуть ли не хором: «Мы больше не будем, простите нас!».
Тут не класс, а только одна курсистка Бодалева стояла перед ним, и летняя зарница метнулась ему в глаза.
— Я не танцую.
— Вальс? Просто — вальс? Как это так — не танцуете?
Он настаивал, что не танцует. Бодалева тянула его к Кате, та со смеху упала головой на его плечо, Катин отец добродушно советовал начать именно с вальса, около них сгруппировались педагоги, ученицы, и, наконец, Катя вытащила своего неловкого кавалера на середину зала. Только бы не упасть! Он едва поспевал неопытными ногами за быстрым и плавным движением танца, земля под ним вертелась, кто-то кричал: «Браво, Павел Петрович!». Его имя и отчество уязвили слух — конец, он снова у печки, и не его дама — Катя — сидит на стуле, а его самого кто-то усадил, или, вернее, сбросил на стул. Снова Бодалева, она не смеется — спасибо ей! — а, наоборот, очень серьезно говорит ему: «Видите, все благополучно… Первые шаги всегда трудны. Вы отдохните, а потом мы с вами и Катей пойдем в пустой класс и покажем вам некоторые самые простые «па».
— Нет, нет! Прошу вас… я никогда… я не танцую…
Все же он не миновал пустого класса, где пахло мелом и пылью, куда накануне из-за вечеринки втащили глобусы, карты и доски. Сейчас это был склад гимназического инвентаря со всех гостиных. Класс тускло освещал маленький газовый рожок. Тут налицо были все таблицы, знакомые ему по классам, куда он входил на урок, флора Австралии, всевозможные человеческие расы, охотники в Альпийских горах. Одна из таблиц знакомила детей из года в год со «смерчами в пустыне». Тонкие и толстые песчаные столбы гневными титанами шли на одного путника, что забился в самый угол картины, к ногам своего верблюда. Вокруг зловещей окраской и сизо-черными тучами наползало небо. Смерч непонятных еще и неосознанных туч охватил душу учителя так внезапно, как нашел бы на одинокого путника в Сахаре его песчаный брат. Катю позвали в залу. Она выпорхнула из класса, оставив наедине свою подругу и неопытного танцора, но урок танцев у них оборвался сразу. Оказалось, Бодалева не лишена была чуткости и серьезности, чтобы не заметить, как далека от бального зала настроенность ее знакомого педагога. Да, она давно его знает, несмотря на то, что в их классе он не преподавал Закона, к тому же она поступила экстерном во второй, а сейчас, на курсах, она давно слушает его чтение по истории русской религиозно-философской мысли. Правду сказать, что она не очень-то задумывается над высокими вопросами, но его чтение ей нравится, у нее составлен конспект некоторых лекций, но он-то сам ее не знает, не замечал… Во-первых, потому, что по гимназии она не была его ученицей, во-вторых… во-вторых, потому что он никогда… почему это так? не смотрит на учениц. Да, то есть, он смотрит, но как-то не пристально, думая о другом… А то и совсем иной раз не поднимает глаз. Почему? Ведь это нехорошо? Значит, у человека есть что-то на совести… Так она думает о тех, кто не смотрит на людей открыто и весело. «Ох, простите! — вдруг сорвалось у нее в каком-то порыве. — Я такая смелая, что говорю это вам, вы не обиделись?» — добавила Нина искренне, и он весь вспыхнул и сразу поднял на нее свои глаза. «У него на совести? Что-то на совести? О, нет, она ошибается. Вот смотрите, вот мои глаза, есть ли у меня что плохое на совести?».
Теперь оба смотрели друг на друга, впиваясь взглядом в общую дрожь зрачков, пока она первая не прервала таинственного и смелого общения.
— Ну, хорошо, ну верю, что нет на совести… ну верю, у вас такие… — она затруднялась в точном определении, — такие глаза, будто в них светленькие уголечки… от них не спрятаться, с виду — вы тихоня, робкий, а как посмотрели прямо, ну будто угольки сияют из темной печки, зимой…
Он тихонько отводил и, наконец, с трудом отвел глаза от ее взгляда… А почему, задала она вопрос, почему он выбрал такой предмет дня преподавания — богословие? Ведь он по профессии, как она слышала, филолог? Почему не словесность? Почему не история?
Он застенчиво чуть повел плечом — любимый его жест при всяком смущении.
— Видите ли… знаете ли… ведь я, собственно говоря, магистрант богословия, я недавно из Академии…
Так вот что! А она-то, она! Будто и не слыхала об Академии… Даже неловко перед ним! Или забыла, или из виду упустила… так чуждо для нее звучит «магистрант богословия» … Это что-то большое и серьезное… И она потупила глаза и сидела тихо, как в присутствии начальницы, или инспектора, или в обществе отца Федора.
— Ну, и что же, ну и что же с вами будет дальше? — вдруг, прервав молчание, понеслась ее скороговорочная быстрая речь. Этот быстрый темп слов, одна из ее особенностей, не совсем увязывался с плавными движениями и поступью русской красотки-лебедушки. Она указывала на большое внутреннее горение, на впечатлительность души и на какие-то стремительные движения сердца. Так, по крайней мере, объяснил он себе живое, волнующее и трепетное вспыхивание слов.
— Что же со мной будет дальше? А дальше… — он улыбнулся и, снова смутившись, начал тереть рукою колено, но сразу заставил себя поднять глаза и посмотреть на нее — прямо в лицо.
Она смотрела на него пристально и проникновенно, как бы желая узнать все о нем, она смотрела на него всем очарованием глаз, пышных ресниц, сводами бровей, трепетанием ямочки на щеке, — он почти коснулся ее покатого плеча, скромно и высоко задернутого шифоном голубого платья, они сидели так близко за партой младшего класса…
— Если так, — как бы с трудом, уже отведя от него глаза, говорила она, — то почему же вы не пошли по духовной части, а учительствуете?
Да, это был вопрос по существу… Он всколыхнул его сознание, он пробудил его к действительности. Она права — зачем он здесь до сей поры, до этой узенькой парты? И он, хоть снова глядел на нее, но произнес решительно и твердо: «Скоро уйду. Учительствовать не буду; вот на днях у ректора Лавры решится моя участь. Так, около Тихвинской или немного позже… в черное духовенство…».
Что-то внезапно, подобно летней молнии, которая вот-вот разрешится крупным дождем и сильным ударом грома, отсветилось в глазах Нины.
— В монахи? Вы? Какой ужас!
И вслед за тем они оба рассмеялись таким детским задушевным смехом, который сразу убил между ними всякую неловкость и застенчивость, причем он, конечно, смеялся не над своей заветной мечтой, но над ее наивным, неосмысленным ужасом… Нину скоро позвала в залу Катя, выкликнув ее из коридора. Ее спутник остался сидеть как прикованный за двумя черными досками на лишней, углом выдвинутой парте. Он не ждал, что она снова придет в пустой класс, сюда никто не заходил, все танцевали. Она выпорхнула отсюда, как чудесная птичка, но его самого словно кто-то связал. Зачем он здесь сидит? Глупое положение? Встать и идти домой. Ведь его никто не ищет и не знает, он всюду незаметная фигура, если не преподает в классе. Но он сидел и сидел… Мало того, что сидел как прикованный, — он против воли загадал: «Если она придет сюда снова, то… Что же будет, если она придет?» — резко оборвал он самого себя и высвободился из тисков тесной парты, встал, но дверь распахнулась, и Нина, задыхаясь от мазурки, вбежала в класс… Он стоял перед ней в полутьме как один из смерчей на картине «Самум в пустыне».
— Вы разве все еще здесь? — ее голос звучал как бы растерянно: он еще здесь, в пустом классе, почему? — Я не тут ли обронила серебряный карандаш?..
Они долго искали карандаш под досками и скамейкой, но он оказался у нее в кармане. И снова, как сговорившись, уселись за доской. В коридоре слышалось: «Бодалева? Где ты? Бодалева!..».
— Молчите! — шепнула она ему. — Пусть поищут. Обожаю прятаться. Люблю, чтоб искали.
Только к концу вечеринки, когда в зале погасли огни и не засыпающую белую ночь сменила заря, Нина вышла к танцующим, чтобы загладить последней мазуркой свое отсутствие.
Ее собеседник, придя домой, не ложился. Сразу сел за книгу. Двор уже просыпался, по лестницам и асфальту стучали шаги. Вскоре донесся первый удар колокола к ранней обедне — воскресение.
В его комнате было все, как вчера, книга с закладкой лежала на том же листе, приглашая его продолжать оборванное чтение. Продолжить! Легко сказать… Вникнуть в Творения Василия Великого, когда в голове туман, сумбур — взрывы самых различных, доселе не посещавших его мыслей… Еще только несколько часов назад тихим иноком сидел он здесь над книгой, а сейчас? Что это, Господи, налетело в душу? Свыше ли посылается, с левой ли стороны? — мучился он, сжав руками свой высокий лоб. Наконец, измученный, бессильный, приник к углу, где стоял высокий столик, приспособленный под аналой, с четками, большой псалтырью и восковой свечой в подсвечнике. Помолясь, стал спокойнее, лег на полчаса, но проспал и раннюю, и позднюю, до самого прихода из церкви матери и сестры.
— Что с тобой, Павлуша, жив ли ты? — постучали к нему.
— Жив? Повеселился на балу гимназическом в кои-то веки… Ну и слава Богу! — от души сказала мать.
Но не «слава Богу» внедрилось в обеспокоенной душе Павла. Голос, внешность Нины, очарование ее скороговорочной речи с этого дня следовали за каждым его шагом. В один вечер он узнал ее ближе, казалось ему, чем за несколько лет всестороннего изучения. Искренняя, как ребенок, лишенная присущего хорошеньким девушкам кокетства — все в ней было так светло, так невинно, так правдиво, нет, эта не солжет, не обманет. Сгоряча причинить боль, рассердиться, вспыхнуть — возможно, но не ложь, не лукавство… Каким бы другом стала она ему, если бы… А Бог? — оборвал он себя. Где же Бог? Сколько лет у него прошло уже в таинственном и верном общении с Вечным Духом. Где же оно? Он поискал его в себе, но странно… Все, что наполняло его жизнь, все, что занимало душу, — все исчезло и заменилось присутствием Нины и мыслями о ней. Везде она и только она. Вот он снова сидит с ней в пустом классе, не спуская с нее глаз, и в ней — вся радость, восторги земли, ближайшая, чудесная цель бытия. А она сидит рядом с ним на узенькой парте, теребит в руках серебряный карандашик и рассказывает ему — что? Да свою коротенькую восемнадцатилетнюю повесть: детские шалости. Уроки. Игры в большом саду у подруги. Тема по русской словесности на экзамене. Как боялись за нее мать и бабушка, когда она в 1905 году, нацепив на грудь красную ленточку, шла по улицам Васильевского острова с подругами. «Вихри враждебные веют над нами…», а они все шли вперед и вперед, пока не разогнала молодое шествие конная полиция… Деспотичный отец не посмотрел на то, что она уже подросток, запер ее на хлеб и на воду после того, как она, усталая, взволнованная и плачущая вернулась домой… Из-за этого происшествия она почувствовала себя чужой в семье, она уже не могла звать к себе некоторых подруг. Вот и все, кажется? И он принял ее повесть, как иерей впервые принимает первую исповедь. Он впитал ее в себя, он схоронил ее на всю жизнь в своем обширном, от многого уже отрешенном сознании. Он всегда будет помнить и помнил, как, прощаясь с ним в тот вечер, она сказала ему: «Я кажусь вам болтушкой? Но верьте, что никому, никогда, ни разу я… только вам… Почему это так?». На это он ничего не мог ответить, смотрел на нее растерянно, и как он сам себе признавался, глупо, и смущенный, потрясенный, вышел за ней из пустого класса.
Приближался большой праздник, он решил говеть и успокоился на мысли о Таинстве. Всю неделю подготовлялся с основной мыслью в сердце: «Путь мой уясни передо мной!» Прежний мир сошел на душу. Всю обедню он простоял за колонной храма, вместе с двумя говельщиками, двинулся к алтарю, и когда случайно поднял глаза — за три-четыре человека перед ним подходила к причастию Бодалева, еще краше, чем была на балу, в белом шелковом шарфике вокруг шеи, с жемчужными сережками в розовых ушах. Он так и замер, плотно скрестив на груди руки.
«Самум в пустыне» продолжался недолго, и он недолго жил в смущении и борении чувств. Во время летних каникул между ним и Ниной все стало ясно, выявилась одна дорога жизни: с ней вместе, и только с ней.
Но он сам сознавал себя слишком тесно, от младенчества связанным с иным путем. От него он сейчас отходил. Ни любовь, ни их встречи, ни счастливые глаза Нины, что несли радость, не могли погасить в нем памяти о иных радостях и состояниях духа. Он снова и снова взывал к прежнему, но тщетно, те радости потускнели, казались недействительными, призрачными, гасли, как угасает лампадка от бурного ветра из раскрытого окна… Что же спасало от гибели? Что заставляло лампадку его духа трепетно мигать, но не гаснуть окончательно?
Новый звук родился внутри. Уж не славословие прежней хвалы, уж не дерзновение просьб, не горячие слезы благодарности, нет! Днем и ночью этот звук тревожил его, подобно гамсуновскому колоколу — словами грозными и печальными — «я женился и потому не могу прийти» … «имей мя — отреченна». Но ему, как прежде, принадлежали одному тихие ночи. Ими снова устанавливался прежний распорядок жизни. Рассеянные и вышедшие из рамок чувства углублялись, собирались воедино и летели снова ввысь. И, наконец, в одно августовское утро он встал с кровати спокойный, уверенный в необходимости своего решения, почти веселый. Прочитав утреннее правило, он направился к ректору Лавры. Разговор с ним он все оттягивал не только из-за страха перед монашеским обличительным словом, но из-за своей раздвоенности и сумятицы мыслей. Как явиться к епископу таким, каким он стал — влюбленным, тоскующим, теряющим под ногами почву? Как понятны стали ему слова: «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает!». Ну, хорошо, ну, он скажет: «Прости, Владыко, я переизбрал дорогу жизни» … Строгий епископ проберет его, как следует, упрекнув его теми же словами, что слышатся ему теперь повсюду. Но ведь дело не только в выговоре и обличении… Раздвоенность, муки от неисполненного обета, сомнения, до сей поры отравляющие ему жизнь и радость любви, не отстанут от него и выйдут с ним за лаврские ворота.
Еще несколько томительных минут — он утешен и успокоен. Будто невидимой ласковой рукой с него сняты все колебания и угрызения совести. Он у Владыки-ректора. Келейник отпущен. Тихо лучится лампада у строгих ликов Нерукотворенного Спаса, старинного Де Иисуса… Святитель Николай благостно смотрит на них, сияя высокой митрой… А преподобный Серафим — тончайшая ручная монашеская работа — он как живой распростерт на камне, молится за грешный мир, отражая великим своим столпничеством вражескую силу. И елочки, и камень, и небо, и сам Батюшко вышиты мелким бисером. Дрожит, проливая блестки-лучи на чудесный узор, маленький стаканчик граненой лампадки на едва видимых подвесках филигранного серебра.
В этой-то благодатной комнате еще так недавно первогодник-студент изрек перед тем же иеромонахом свое заветное желание… и оно было принято из уст в уста, из сердца в сердце. Снова он на коленях перед своим духовным наставником в сокровенной беседе, взволнованный до слез, честный и прямой, по-ребячески — лепечущий, по-взрослому — сам на себя негодующий…
И сразу — легко… отвален большой камень. Отеческая рука легла на его голову, слегка провела по волосам: «Что же тут смущаться, чадо? Господь знает тебя. Он благословил свадьбу в Кане Галилейской, дал Свою радость брачующимся по Слову Своему. А ты не отходишь, токмо приходишь к Нему через сие. Сан иерея, о чем ты помыслил, — великое дело. Кто знает, был бы по тебе монашеский путь? Не упал бы ты вниз, не нарушил бы строжайших обетов? Не поспешил ли давеча с таким решением, не зная жизни и ее соблазнов? Встреча с хорошей девушкой послана тебе во утверждение, а не в сокрушение веры… Но вот что помни, брате! Единое на потребу: стань иереем не по букве, не по внешнему виду, а во внутреннем человеке своем — дабы ни жена, ни плотское начало, ни какая иная тварь не могла разлучить с Возлюбившим тебя до смерти крестной…».
Отнимая от склоненной головы свою старческую руку, ректор добавил на прощание:
— С миром иди. Принимай брак и сан. Будь иерей добрый, скромный, послушный, молитвенный, всем слуга, духом нищий, милосердный, миротворный. И будешь всегда монах! А станешь таким иереем по силе возможности, Господь вернет тебе все, чего лишаешься, вступая в брак. Разумею — иночество. Даст Он тебе и затвор, и пустыню, и подвиг постный, только верь, что мы — живем ли, отходим ли — всегда Божьи, что нам соизволяет ко благу. Так ли, иначе ли, а мы вечно странники-иноки. Путники в страну Ханаанскую… в отчизну нашу верную, нам обетованную… Иди с миром!
Он не шел, он летел к своей невесте, как на крыльях. Куда ушли сокрушенные слова «имей мя отреченна». Разве он отрешается? Никогда! Мир хлынул в душу живым потоком, дозволенный, благословенный Божий мир, радостный, улыбчивый — и он принял его, смеясь и плача от счастья.
Нина ждала его, сама открыла двери, но встревожилась от его взволнованного, торжественного вида. Она отчасти уже научилась улавливать настроения своего жениха и, хотя не осиливала всей его сложной борьбы, но страдала подчас искренне, видя, как он скрывает нечто мучительное от ее пытливых взглядов.
— Вот что, Нина! Я тебя огорчу, опечалю, но должен открыть свое решение, — она взглянула на него и побледнела даже — так необычайно твердо звучал его голос. — Монах я, как видишь, оказался негодный, но оставить духовный путь никак не могу. Я долго мучился, думая о твоей судьбе… вообще о тебе. Это свыше, Нина, это помимо наших догадок и соображений — как нам быть и кем нам быть. Решение нахлынуло на меня сразу и сразу же освободило от многих мук. Ты знаешь, я начисто решил уйти от учительства. Нина, родная, подумай, у тебя еще есть время отказаться от меня, встретиться с другим человеком, выйти замуж по взаимной склонности. Я тебя собой не тесню, не неволю. Но вот мое решение: иначе как с саном священника я не приму супружества. Вот — я сказал все. Думай и решай, как знаешь. Безумно люблю тебя, но соединиться браком могу только при таком условии…
Она, казалось, не спешила с ответом, только смотрела на него, не двигаясь ни одним членом. В ее глазах не было и тени неудовольствия или порицания, но матово-белый лоб поднялся, суровая морщинка на минуту состарила лицо, пробежав между бровями. Долго молчала, все ниже наклоняя голову, и вдруг — разом повернулась и убежала в свою комнату из гостиной, где они сидели. Весь он наполнился жал остью, трепетом, ожиданием. Сколько боли он ей уже дал! Не встреться она с ним, с таким некрасивым, обособленным от запросов мира человеком, какого счастья с другим была бы она достойна! Тот, другой, дал бы ей все, по ее желанию, красоте, склонностям. Он же звал ее быть не только свидетелем, но и спутником той области жизни, которая в данный момент едва ли была для нее понятна и ясна во всем объеме. С малых лет призванный свыше на служение иному миру, рано уяснивший себе близость и сущность вещей иного порядка, уже отходивший за черту самоотречения, он соединялся браком с кем? С молодой, красивой девушкой, слушательницей Женских курсов, своей ученицей… Правда, она — религиозна и никогда не стала бы смеяться над его святыней, но ведь для нее только что открылся мир влекущих и манящих страстей, ее звала жизнь всеми звонкими, нестройными весенними голосами. Подобно щебетанью птиц в майской зелени звенели и переливались они.
Дверь в ее комнату осталась полуоткрытой. Сюда он не входил еще ни разу и робко постучался. Ответа не последовало. Он перешагнул порог — где же Нина? В первый момент он растерялся, но вскоре заметил, что занавеска, под которой висели платья, колышется под чьими-то движениями. «Нина!». Плачущий голос сейчас же ответил сердито: «Что тебе?». Он ли сделал шаг к занавеске? Сама ли занавеска отдернулась? Что случилось в один миг? Под его ладонью темно-русые шелковистые пряди волос, под его дыханьем горячая влажная щека. Никогда, ни разу еще не посмел он так тесно и стихийно обнять ее. Полилися слезы. Первый раз за время их знакомства она, такая ясная, самолюбивая, всегда веселая, плакала перед ним беспомощными слезами. «Нина!». Ведь это ж были его слезы и его трудности, которые он ей передавал с первых дней. Они долго стояли в своем неожиданно-негаданном соединении, внезапно она отодвинулась и выскользнула из кольца его рук. «Ты святой, ты святой — я не могу. Ты слишком хороший. Я плохая, обыкновенная, я только люблю тебя, как умею, и больше ничего…».
— Но, родная, пойми! — ведь это именно то, что надо… Большего никто не мог бы желать. Какой я там святой? Ушел из монахов. Решаю жениться…
Она уже вытирала последние слезы, хитро глядела на него, на губах расцветала улыбка.
— Бородка у тебя, как у монаха. Глаза у тебя, как у монаха. Светленькие, в печке угольки… А я?
Он снова обнял и притянул ее к себе.
— А ты? Ты моя красавица… Ты — радость! Все мое… Но, дитя родное, мы болтаем пустяки, а не договоримся до самого главного. Ты со мной или уходишь? Скажи резко, определенно, порань меня до крови, но чтоб я знал. Ничего я от тебя не жду, не требую никакой святости, никакой ломки, ничего. Будь Ниной. Цвети цветком, пой птичкой, сияй звездочкой. И живи со мной, освещая мои дни…
Все же она мучительно о чем-то думала, сдвигая брови. И вдруг — целый залп сомнений… Она не умеет и не может стать в его жизни «матушкой, попадьей». Она хочет окончить курсы. Она любит детей и не боится педагогического пути. А потом — ну, пусть он сочтет ее легкомысленной, но это условие надо оговорить… Как же быть с театром? Она так любит театр, оперу, драму… А балет? Неужели он никогда не пойдет с ней в театр или в гости, а все дома и дома? И всюду она будет сидеть одна, не с ним, а с чужими… Ведь он же не пойдет с ней в своей… в этом своем новом одеянии? А вдруг ему дадут приход в селе, и они уедут в деревню? Она совсем не умеет быть долго в деревне, особенно осенью, когда начнутся дожди. И потом деревенское хозяйство — соленье, варенье… Она вообще не хозяйка, а маму тоже нельзя брать в село, она привыкла к городу… Он сейчас же, слово за словом, начал разбивать ее смущения. Никуда они из города не уедут. Он пойдет к тому же ректору, подаст заявление, попросит митрополита — и останется в городе. Ему дадут и здесь, в Петербурге, небольшой храм. Она будет учиться дальше, как хотела, и окончит курсы. Раз и навсегда он дает ей свое обещание полной, неограниченной свободы ее личности. Никогда, ни при каких обстоятельствах жизни он не позволит себе насилия над ее путями. Он никогда не будет давить на то или иное решение. Он одного хочет — чтобы она стала его юностью и отрадой. Сам же для себя он жаждет одного — принять сан иерея, всю свою жизнь до конца отдать подвигу священства, но своих тягот духовных он не возлагает ни на чьи плечи. Он сам понесет с Божьей помощью свой труд. Если она сама захочет и привлечется к его жизни, то будет ему во всем помощницей и спутницей. Не захочет — будет идти одна, да разве он ляжет камнем преткновения на ее дороге!
Так открылись они друг другу. Нина просияла. Какой чудесный ее Павлик! Всюду будет с ней ходить, в театр — наденет светское платье, в деревню они не поедут. Курсы она окончит через год. А как скромна его просьба: в случае праздников — не тревожить его выходами в мир. Тогда она поедет в гости или в театр одна, или с подругой… Словом, большая чем была ясность вошла в их отношения и все затем пошло как по писанному: огласка, сватовство, обручение… подарки, родня… и, наконец, брак, после которого через несколько дней в алтаре послышался торжественный «Аксиос», и он был рукоположен в диаконы, а затем в священники, с назначением на штатное место при маленькой Иверской церкви института. И если эти неизбежные моменты хлопот, многолюдства и грядущей брачной жизни поставили его волю в известные рамки, то не развертывала ли большие мощные крылья за плечами сама любовь?
Потом… вспомнил он в бессонные ночи своего заточения… моменты счастья сменялись целыми периодами нестроения и какой-то беспокоящей тоски… Отчего? Теперь сама жизнь подводила строгие итоги — он не страшился их. Хватало времени анализировать и вспоминать. Мысль прежде всего взметывалась к светлым дням и впечатлениям, где не было никаких «но». Но разве в браке исключены неровности? Не делает ли ссора — слаще примирение? Ведь были же такие миги, когда мир господствовал во взаимном общении. Разве Нина не являлась в его жизни радостью, залетной пташкой краткого земного счастья? Ведь он прожил с ней почти двадцать лет своего иерейства. Зачем же этот щемящий вопрос: «Был ли он счастлив с ней?». И как на него отвечать? Если счастье — покой, он никогда не был покоен.
Если счастье — согласный дуэт двух голосов, то их голоса то и дело разобщались.
И, наконец, если счастье — единение на всю жизнь, то и он, и она оставались одинокими…
Но если счастье — опьянение, хмель, восторг, — да, он был с ней счастлив.
И если счастье — только моменты взаимного общения, то миги эти были пережиты. Иллюзорные и прекрасные, они посещали их. И в краткие минуты таких посещений он радовался и солнцу, и весне, и золотой осени, и ее нарядному новому платью, и тому, что она рядом с ним.
Набеги радости сменялись тревогой, и сначала она касалась главным образом жены. Счастлива ли была с ним Нина?
Она жила в постоянной занятости, но по-другому, чем он. Она жила своим трудом и вдохновением от своего труда; он жил в сфере своей деятельности, в вынужденном, но принятом душой, многолюдстве пастырского пути и настолько поглощался им, что иной раз даже пугался, вспомнив о жене — где же и что же Нина? Тут надо было как-то оторваться от людей и спешить к ней, но оторваться, что ни год, становилось трудней. Уязвлял ее голос: что же ты? Где ты был?..
Она была заботлива к нему, в ее заботе сказывалась не только жена, но и мать — в ней жило материнство, так как Бог не дал им детей. Во время его болезни она отстраняла от него все раздражающее и мешающее ему и, сколь возможно, берегла его занятые домашние часы.
Тогда к чему же такие вопросы теперь, при конце жизненного пути, истязуют душу, почему же болезненно отыскивает он рукой рано лысеющую голову, думая о ней.
Сестрой-женой она ему не стала… Да, но он не мог от нее и ждать много, раз сам пригласил ее в свою жизнь певчей пташкой, или цветком, украшающим его дни. Именно таким чудесным цветком она и расцвела. Где бы ни появлялась молодая пара, Нина завоевывала все симпатии, а он стоял в тени. Был даже рад этому. Особенно в первое время совместной жизни он мучительски воспринимал своих новых родных и знакомых. Слишком честно отрекался он в прошлом от суеты, чтобы спокойно подчиниться новому образу жизни. Понемногу привык, осознал свое новое положение в миру, с молодой супругой. Но полностью принять такую долю ив ней чувствовать себя счастливым и довольным — не мог. Точно кто-то заставлял его быть иным, не тем, кем ему надлежало быть, и он шел как завороженный по тому зову, что исходил от нее, но его сокровенный внутренний человек не давал согласия на такой исход.
Незабвенным осветилось в памяти первое время. Как дети — и он становился ребенком в свои тридцать два года — то поднимут возню и шум, вот она уронила стул, схватила подушку и качает ее как ребенка, а он умиляется от ее материнских движений. Вдруг гаснет лампада от взмаха ее руки — он сейчас же снова зажигает фитиль, она тянет его к себе за рукав, еще одно неловкое движение — снова гаснет огонек. «Пусти меня, Нина, нехорошо!» Он пытается снова зажечь, но розовая, горячая щека касается его щеки, мягко нежит его ухо волнистый шелк ее волос — рука падает; можно ли забыть то время, чудную их весну?
Но в памяти его остается и иное. Вьюжный, снежный январь третьего года их совместной жизни. Она садится к окну со своими тетрадями и замирает, как мышонок. Теперь никто и ему не помешает отойти от ее бытия в свою глубину. Перед ним — Добротолюбие, и он целиком уходит в тот мир, в котором привык жить с детства: «В пустыне Нижнего Египта безмолвствовал авва Иосиф… Однажды посетил его авва Лот и сказал ему: «Авва! По мере сил моих я исполняю малое молитвенное правило, соблюдаю умеренный пост. Стараюсь наблюдать чистоту, не принимая греховных помыслов…».
Старец стал на молитву, и простер руки к нему, и персты его сделались подобными десяти огненным свечам. И сказал он авве Лоту: «Если хочешь — будь весь огнем».
Иерей Павел читал, и сердце прежнего инока горело в нем подобно десяти огненным свечам аввы Иосифа. Все уходило от него, кроме чудесной священной были. Бесшумно принимал передний угол комнаты высокую фигуру человека, отходящего к божнице. Он становится на колени, читая молитвы перед отходом ко сну, слезы капали из глаз на новенький подрясник, долго ли, коротко ли продолжалось это, знала одна только Нина. Он помнит, как внезапно ее рыдания огласили комнату. Он оборачивается — тетради разметались по полу, она, свернувшись в кресле клубком, горько плачет. Он подходит испуганно, недоумевая — что случилось? Что с ней? Ее голос дрожал в слезах и негодовании: «Ты меня забыл!».
* * *
Яснее, чем когда-либо, понимал он теперь, какое переживалось им в жизни большое, теперь уже отходящее в небытие, полузадушенное чувство. Он любил ее не только супружеской, но особенной, отличной от общего понимания любовью нежного отца ко взрослой дочери, да и годами лет на четырнадцать она была моложе его. Он не мог бы сказать, что годы совместной жизни со своенравной красавицей женой не дали ему терния на пути, но все же почти двадцать лет они прожили вместе. Приходилось уступать. Раньше он снисходил к этим уступкам, почти не вменял их себе в вину, но сейчас всякий компромиссный шаг больно уязвлял совесть. Воскресение… Ложа у знакомых… Два места. Их зовут. «Я не пойду без тебя», — говорит она ему. «Я не пойду без него», — отвечает по телефону и знакомым. «Воскресение!» Пусть это Чайковский, Глинка, Рубинштейн, но он бывший инок в своей внутренней жизни, а теперь иерей… Какая музыка может восполнить сегодня, после совершенной им литургии, его душу? Но он идет. Она молода, она хочет «всюду с ним», ее обещание не нарушать праздника — забыто. Он переодевается и идет с ней в театр… Итак — уступка. Сначала — в малом, потом — во многом, наконец — во всем, во всем…
Годы шли. После маленького храма при Институте — большой приход. Он, уже митрофорный, служит там штатным протоиереем. Он понемножку полнеет, страдает одышкой. Он — любимый пастырь. К нему стягиваются все — юноши, дети, старики. У него много духовных детей, и одной из них является родная племянница Аля, дочь сестры Маши, той самой сестры, с которой он когда-то ребенком уходил на богомолье.
В ближайшие годы после Октябрьского переворота церковь переживала особое время расцвета и подъема. Казалось, что она расширялась и созидалась на долгие годы мира и духовного роста. Никто не думал о ближайшей перемене. Забила ключом приходская жизнь. С одной стороны, организовывались братства, с другой — являлись талантливые проповедники, привлекавшие массы религиозного и ищущего смысла и цели жизни народа. Детские елки, собрания по домам, доклады и диспуты так и рождались в удивительном этом периоде. Казалось, что кто-то развязал все узлы и освободил от уз религиозную мысль. Лучшие имена профессоров-богословов заблестели на вновь открытых курсах. Западные и протестантские общины не отставали. Везде цвела свобода религиозного слова, свобода собраний, братств, общинной жизни…
В семье протоиерея Павла стало тоже радостно и открыто. Молодежь собиралась по четвергам для совместного чтения «Добротолюбия», для разбора творений епископа Феофана и докладов. И когда он возглавлял собрание, Нине казалось, что она снова его ученица, что они снова с ним стоят на площадке гимназической лестницы. Постепенно она стала прислушиваться и даже отчасти присоединяться к молодежным собраниям, однажды даже написала доклад, он оказался одним из лучших…
— Возьми, Нина, шефство над Алечкой! Она рвется к неосмысленным подвигам! — шутил над племянницей отец Павел. Алечка не была расположена к шуткам, даже дядиным, дядю своего она обожала.
— Причем подвиги? — темные брови девочки сдвигались.
— Я про то говорю, что надо или все, или ничего! Или иди до конца, или стой на месте!
Все замолчали тогда за столом, и только он, прежний Павел, сознавая глубинную чистоту и рвение Али, задумчиво сказал в ее сторону:
— Верно, Алечка…
В те годы он никак не мог подумать, что она, его ненаглядная Нина, несколько лет спустя так же легко сможет войти в антирелигиозное течение, как легко входила в доклады о Феофане и Симеоне… Но это случилось, и так же свободно, и с той же активностью, с которой в первые годы брака она составляла проповеди вместе с мужем, вскоре она начала писать статейки в журнал, редактировала вместе с двумя педагогами новую хрестоматию, в один момент организовала у себя в школе уголок «Безбожника», держа себя перед детьми новым, воинствующим против Творца человеком.
Теперь у Нины свой круг знакомых, у него — свой. Четверговые собрания молодежи отменены — нельзя. Нина не ходит в храм, где служит он — нельзя. И муж не стал показываться с ней вместе, даже в светской одежде — нельзя. Все тверже и строже ставили ей в школе на вид его протоиерейство. А школа делалась для нее все роднее, с ее новым укладом и новыми людьми. Все туманнее становился свет лампады, та лучистость прежних лет, первого времени брака, когда она со своим ненаглядным, новым «батюшкой» составляла проповеди для воскресной школы. Он вспоминает оттиски маленьких серых эскизных экземпляров. Это печатается его «Мистика Симеона Нов. Богослова». Он — в печати? Он — одно целое с незаметным, незнакомым для мира рядом священников-философов, писателей, поэтов. Ходко пошли серенькие экземпляры по рукам религиозной молодежи. А он тайно и много пишет по ночам, в то время, когда Нина спит, отдыхая от своих занятий с учениками.
Как же, однако, начался между ними последний разлад? Им не дано было детей, и не он ли сам насадил в ней любовь к ученикам и к детям?! «Перенести свою материнскую заботу о малых сих» на детей своей родины, на будущих людей, на новую смену. Не он ли сам внушал ей такие взгляды? Он верил, что для этих детей, воспитанных в безбожии, откроются иные пути Богопознания, мудрейшие и особые: жизнь невидимая, но сущая будет проясняться перед ними в намеках и знаках, сопоставлениях причин и следствий, течением самой, казалось бы, реальной и видимой жизни.
Примиренчество мужа раздражало Нину. Она всем доказывала веско и убедительно, горячась и даже раздражаясь, что школа не может и не должна быть иною… «Что значат слова «мы подчиняемся духу времени!»? Что значит «мы идем ко многому иным подходом»? Какой такой «иной» ты видишь подход? Что в тебе за «тайнодействие» против очевидностей? — так волновалась Нина, когда они, оба усталые, наконец-то могли остаться наедине. — Для тебя новая школа какой-то новый крест, проблема, которую ты должен как-то терпеть, как-то иначе понимать, чем она есть на самом деле. Для меня же школа наших дней — это жизненная правда, иного пути для ребят после революции быть не может, другие пути устарели». «Даже вечный Бог? — защищался он. — Творец всего мира тоже устарел?» Она и пыталась отвечать, но какое-то новое, для нее непонятное волнение мешало ей. И, наконец, освободясь от смущения, вскочила разом, прошлась по комнате:
— Теперь, Павел, творим мы! Теперь — наша очередь творить и созидать… Мы создадим новый мир, прекрасный — для всего человечества, его примут все, он разобьет рутину, закостенелость, узость…
— Значит, ты… отходишь? Если не принимаешь Его помощи? Как понять тебя, Нина?
— Я не знаю, как себя понять, сейчас — может быть, это и верно, отхожу, но ты, ты — передовой человек, философ, и ты не можешь уяснить законов динамического движения всего мира…
Он горько усмехнулся.
— Все, что ты хочешь, но не называй меня «передовым». Теперь я — изгой, отщепенец от общества и прежде всего — я священник. Мне даже странно, что ты так волнуешься от моего мнения. Тебе творить эту новую жизнь, не мне. Я ни на йоту не намерен отойти от своего пути и от веры в действие Промысла. Я вполне понимаю, что ты можешь принять такую линию против своего внутреннего убеждения, в силу обстоятельств, в силу законного порядка в той же школе… но, воля твоя! Верить в то, что ты начисто отрекаешься и вместе с Петром произносишь: «Не ведаю Сего Человека» — нет! Верить в это не могу. Я знаю твое сердце… Я надеюсь, что оно подскажет тебе, где шатко и валко, где правда и кривда.
Гладил ее по мягким, волнистым густым волосам с еле заметными в них серебряными нитями.
— Вот уж подлинно ты, как Нафанаил, в котором нет лукавства!
Жизнь ломалась, требовала жертв. Шел очередной вопрос о выселении духовенства из квартир. Священники в первую очередь оказались глубоко пораженными в своих правах. Чем виноваты их жены, принимающие легко и сразу же то, что так неприемлемо для них? Он по-прежнему сильно, но еще и гораздо глубже, и болезненнее любил ее. Ценил ее бесхитростность и прямоту. Извиняя ее резкость и запальчивость, видел только чистое сердце. Верил, наконец, что она по-прежнему любила его, продолжала любить. Но рясы он никогда не решился бы снять самовольно. Никогда не отказался бы от сана. Даже если б закрылся тот собор, в котором он служил, подобно многим церквам, уже окончившим свое существование. Все же он решился и пошел потихоньку от нее в загс. До этого шага передумал о многом… как хорошо будет ей освободиться от его смешной и нежелательной для современного общества фигуры. Свободная — пусть идет, куда хочет… С кем хочет… Он никогда никого не стеснял, тем более — ее.
В загсе молоденькая девушка, сидевшая за столом разводов, спросила его о причине. По-детски смешон был вопрос, обращенный к пожилому, внимательно смотревшему на нее человеку. И совсем просто, по-детски отвечал он ей:
— Жена у меня молода, педагог. Ей надо жить и работать. Я не хочу мешать ей ни видом своим, ни профессией.
Справка о разводе пришла скоро, положена на ее стол.
Вот она вернулась с уроков. Сначала протест. Даже слезы.
— Что ты наделал?! Зачем? Я не упрекала тебя никогда. Кто тебя просил? Как все это глупо!
Но после краткого, вполне спокойного и такого веского его объяснения она поняла, как он прав по отношению к ней, как необходим был такой решительный шаг, и стала солидарно с ним мыслить. Что тут, в самом деле, плохого? Во-первых, их соединила девятнадцать лет назад церковь, не загс. Затем, все жены священников, которым надо работать в школах, разводятся со своими мужьями. Общественно она должна стать совсем свободной от его жизни, наконец, сейчас у нее нет никаких противоречий с тем, что он надумал сделать. Он только поставил точку к тому, о чем она часто думала неосознанно, о чем не смела сознаться. К концу дня справка о разводе была принята ими обоими добродушно и анекдотически. Жизнь пошла, будто ничего не случилось…
* * *
Всенощная отошла. Он вернулся домой и, не спеша сняв шубу в прихожей, вошел в комнату. Бывало, она ждала его в субботу с горячим чаем. Ее еще нет. Он идет на кухню и сам разжигает примус. Когда готов кипяток, снова по коридору к себе. Сидя за столом, глядит в свой передний пустой угол. Еще так недавно тут освещался лампадой старинный киот резной работы, блекло принимая отсвет огонька. Все иконы вынесены отсюда в комнату его матери, частью — в кухню, частью — спрятаны в сундук. Сюда ходят пионерки с тетрадями, здесь ее навещают сослуживцы. Естественный ход событий! Ведь она с ним разведена теперь!
Домой приехала поздно, с последним трамваем. Вбежала в комнату прежней девочкой, румяная от мороза, веселая как в минувшие дни, готовая шутить, смеяться…
— Где мой разведенный, брошенный муж?
Встал, улыбаясь, отложил книгу, которую читал. Это был Дамаскин, об ангелах. Да, он только что остановился на главе об ангелах… «суть духи легкие, стремительные, со способностью от Бога перелетать великое расстояние, они не всеведущи, но, обладая некоторой ограниченностью познания, они в сие же время имеют дар повиновения и любви к Своему Творцу…» — только что прочитал он.
— Где мой муж дорогой, мое сокровище? Скучал? Как я соскучилась по тебе, так долго тянулось заседание…
Какой же это развод? Кто кого обманул и перехитрил в такие минуты? Не стоит ли он снова учителем в штатском платье на гимназической лестнице, не ждет ли ее, свою невесту?
Момент, один лишь момент какого-то тесного, мелькнувшего взаимообщения и нежности, а затем по-прежнему — чаще и чаще — один. Придет от всенощной, обедни, либо от своих треб. Сядет один, подпирая голову руками, и думает одно и то же: «Она сама по себе, а мой путь сам по себе… Разъединены… Млеющий призрак былого счастья, человеческого счастья — отойди от меня. Сгинь… Твори, Боже, волю Твою, единственно Твою…».
Любовь… Может быть, она и существует, теплится, то пропадая, то вспыхивая прежним огнем, но вот — его книги! Сколько их у него! Сколько памяти от дорогих лиц. Как он любит свои книги, в них особая жизнь, говорящая и всесоздающая, ведомая ему одному. Вот Дамаскин, вот Златоуст, а вот и тяжелые, темной кожи переплеты «Добротолюбия». Близок ему Тихон Задонский, своим очень старинным языком заставляющий трепетать обновленные сердца. А великий писатель петровской эпохи Святитель Дмитрий? В строгом порядке расположены по полкам Четьи-Минеи. Кое-где воткнуты или грудками приложены к большим маститым трудам религиозной мысли маленькие с наивными рисунками, крупной и мелкой печати брошюры и книжечки. То описание лесистой пустыньки, то рассказы о чудесах св. Николая и архистратига Михаила, то сокращенное житие преп. Сергия… и все эти маленькие книжечки-рассказики прочитаны им, ведомы ему… без них нельзя. Они как чудесный бордюр из ароматных фиалок, окаймивших клумбу из великолепных штамбовых роз. И, наконец, его первые учителя — Симеон Богослов и затворник Феофан. Последнего он особенно чтит и ценит за его яркий и доступный всем язык, за близость к жизни, за любовь к малейшему созданию. Какое реяние к Горнему! Какие парящие крылья!
Теперь вся библиотека вынесена в коридор, под холст. За каждой книгой, что понадобится, он идет через ряд квартирантских сундуков к нише, задернутой холстом, и с маленькой восковой свечечкой ищет книгу. А затем забота, чтобы не забыть ее в комнате и снова вынести в коридор. А если она, как несколько дней тому назад, найдет книгу и раздражится на его неаккуратность, — снова забота — не смутиться духом, а с сознанием своей оплошности в непорочном мире — вынести ее снова под холст. Ведь ей теперь надо писать новые книги, другого духа, ее только сердят эти когда-то близкие томики и брошюры.
Теперь она часто работает даже по ночам и, случается, внезапно нервно говорит мужу:
— Послушай, Павел, помоги мне… Друг ты мне или нет?
Он старается отойти, извиняется тем, что не в курсе дела.
— Проредактировать мне, расставить знаки препинания — и то не можешь? Ведь всегда помогал? А теперь? Что я — бесчестное дело творю? Краду? Убиваю? Я работаю для просвещения молодежи… Я не виновата, что мой муж не разделяет моих трудов… Я не думала, что он станет узок…
Да, несомненно, она, как тот ученик, в котором не было ни тени лукавства. Господь видит таких под смоковницей. И он встает и садится проверять и корректировать ее общий с двумя педагогами труд, новую хрестоматию. Голова к голове работают они вместе, как в дни былые над его проповедническими тетрадями.
Болезненно он дотрагивался сейчас, в своем заточении, до самых последних годов той жизни, от которой был стихийно оторван. Годы эти не прошли даром, а заставили его много перестрадать и углубиться в свой мир. Несмотря на загсовскую бумагу, его жене ставили на вид, что она скрывает свое сожительство со священником. Нина Васильевна занимала место народного педагога — все глаза обращены на нее. Теперь уж она не только не возмущалась против развода, как в первую минуту, — она скрывала мужа от посторонних глаз, как преступника. Что ни вечер — к ней приходили ученики и педагоги. При первом же звонке он поднимался и проходил в кухню. До него то и дело доносился смех и молодые голоса. Он, который так любил молодежь, лишился прав общения с нею. Его пониманию было несвойственно точно делить людей на плохих и хороших, верующих и неверующих, потому что, так говорил он, веруют все, но у многих не выявляется еще, во что верить? В кого? Как? Он только знал, что ему нельзя там сидеть и вступать с ними в разговор, даже самый примитивный, безотносительный. Он называл себя жене «твое чудище в рясе», могло ли такое «чудище», которым стращали, появиться среди этих враждебно настроенных подростков? И он сидел в полутьме при высоко повешенной, слабой лампочке, с книгой или проповедью в руке; а иной раз дремал в ожидании, когда уйдут. Такие изгнания в кухню стали делом привычным. Раз квартирантка из смежной с кухней комнаты заметила, что батюшка дремлет над книгой, и зазвала его к себе. Ребенок спал, разметавшись на кроватке. В чужой комнате на него пахнуло уютом и любовью семейного очага. Мать быстро приготовила чай, угостила батюшку печеньем. Что-то внутри быстро отогрелось — ему стало все как-то впору. Молодая вдова говорила о своей жизни доверчиво, исповедно. В этой небольшой комнатушке он увидел уголок настоящей жизни, теперь уже недоступной ему. Простая женщина хранила бодро и безбоязненно свой мирок, горела лампадка, мальчик спал под осенением креста и икон. Одиночество пастыря исчезло, сменилось теплом и лаской. Но с тех самых дней чаще и чаще начал думать он о своей разводной бумажке с Ниной и придавать ей особое значение. Предчувствие какого-то грядущего бедствия не оставляло его. «Что я — суеверная баба что ли? Что я тогда сделал справкой о разводе? Что я мог прибавить или отбавить от нашей общей чаши? Ничего!».
После смерти родителей у протоиерея Павла осталось мало родни — только сестра Мария, с которой он когда-то пытался уйти на богомолье; она рано овдовела и жила с единственной дочкой Александрой, той самой Алечкой, которая мечтала о подвигах и писала доклады о Феофане, когда можно было собираться на квартире у дяди. Был еще брат немного моложе о. Павла, Арсений, глазной врач. Ох, уж мне этот Арсений! — вздыхал бывало Павел. Арсений всю жизнь свою балагурил, шутил, как заправский шут, однако же, врачевал в области, был религиозен, направлен на высокий лад, как и все в их семье, но абсолютно не семеен и не способен ни к какому простому жизненному делу. Есть специальность, есть знание по части глаз — и ладно. А дома можно пить из одной чашки с котом, не мыть ежедневно посуду, вытирать нос неподрубленной тряпочкой и с великим трудом собираться в баню. Женщины любили Арсения за шутовство и острый язык. Многим из них он внушал жалость, простиравшуюся до решимости жить с таким чудаком. Но долго он почему-то не оставался в семейном положении — опять заживет холостяком, появляясь на горизонте семьи о. Павла, чтобы несколько раз у него пообедать и стрельнуть деньжонок и исчезнуть вновь. Нина его недолюбливала. Павел по-братнему любил и жалел Арсения. Кроме того, высоко настроенный ум его пытался объяснить поведение чудака брата юродством. Самые простые, даже мелкие дела, которые всякий средний человек доводит до конца, у Арсения оставались недоделанными и брошенными, хотя он и посягал на них в первую минуту.
— Арсений, нельзя же знать только «глаз» и ничего больше! — возмущался Павел. На это Арсений ткнет себя пальцем в грудь и произнесет известный текст: «Светильник для тела есть око».
Что касается до Алечки, Машиной дочери, то она выросла в тесном единении с о. Павлом и его женой — и жили близко, и о. Павел с Ниной, не имея детей, привязались к ней, как к дочке.
Але было восемнадцать лет, она училась в техникуме, а в свободные часы ходила в церковь или писала в своих тетрадках-дневниках. С одного конца записывалась лекция, с другого — свое собственное, причем начальный лист тетради окаймлялся узорчиком из звезд, квадратиков, цветов, посреди ставилось заглавие, например: «Знание и Вера», «В чем же Смысл жизни» и т. д. И Аля с головой уходила в самоанализ. «Я тогда кончу дневник, когда меня не станет!» — так говорила она матери, с которой была отчасти откровенна, но всегда искренна. Как и во многих дневниках, первые строки спрашивали: «Что такое я представляю из себя нынче?», и далее следовали несколько горделивые мысли о своем одиночестве и отчуждении от людей, от которых она ничего не ждет и никому не вверяется… В дальнейшем шло глубже и проще: «…хочу выявить правду и послужить ей. Я люблю всех и хотела бы всем сделать много добра». И, наконец, в одной из тетрадей, озаглавленной «О моей духовной жизни», Аля писала: «Я стала верить сознательно. Господи, скажи мне путь в онь же пойду, яко к Тебе взях душу мою!».
Аля горячо любила свою мать, слушалась ее во всем, но свою полную откровенность она отдавала только дяде. Она обожала его той особой привязанностью молодой и чистой души, которая не ведала еще страсти и не испытала ее мучительства и страдания. Эта любовь, родившись в ее сознательных одиннадцать, уже вполне церковных лет, никогда ее не оставляла, а как бы взяв за руку, везде, где только можно, отводила от земной горечи, направляя все лучшее, что в ней было, к еще более лучшему и высокому. Счастливое духовное дитя богато одаренного пастыря, она не знала иных исповедей, как только у аналоя, где он предстоял. В ее душе не оставалось ни одной заминки, ни одной царапинки, которая не была бы открыта перед ним, «ее батюшкой». Он знал всю «внутреннюю» Алю так хорошо и видел ее так основательно и ясно, как увидел когда-то, на один момент и на всю жизнь, — свою Нину, когда она в пустом классе рассказывала ему всю свою молодую повесть, и он, очарованный открытостью и простотой, сказал себе самому: «Подлинно Нафанаил, в котором нет лукавства».
Однако ж Аля не была Ниной. В ней рано проявилось стремление к духовному, и жизнь не манила ее своими обещаниями и горизонтами, как Нину. С самых ранних лет дядины книги и его склонности стали и ее книгами, и склонностями, и она устремилась к овладению «Отчизной неизвестной». О. Павлу не стоило больших трудов направлять такую душу и развивать ее богатые возможности. Но при всей своей высоте образа мышления девушка обладала излишней горячностью, почти эмоциональностью — такие же свойства владели ее покойным отцом. То ей приходило на ум все раздать и куда-то стремглав уйти ото всех людей и знакомых, то она начинала урезывать себя в самом необходимом, так как ей это казалось важным… Закрытие церквей и обителей не дало ей возможности раннего иночества, да и ее дядя мудро сдерживал ее первые порывы, направляя девушку по среднему пути.
Субботняя всенощная второй недели Великого поста только что окончилась. Аля пробралась к аналою, за которым о. Павел только что начал исповедь. Говельщики столпились у левого клироса. Он стоял чинно и строго в своей траурной епитрахили, с серебряными крестами, со склоненной головой. Алечке, как и прочим, сказал: «Пожалуйте».
Аля подошла и начала шептать. Белый беретик девушки касался его уха.
— Да что же ты находишь в этом ужасного? Расскажи.
Все ниже голова священника над Евангелием, все горячее Алины слова.
— Но что, девочка, что же ты находишь худого в таком благоразумном шаге? Зачем обвинять нас этом вынужденном разводе? Благодаря происшедшему тетя Нина свободна от нареканий. Я, я сам это сделал и не раскаиваюсь.
— Ты это сделал, батюшка, и, делая это, взял на душу грех… Но я же не имею права… Прости меня…
— Говори, все говори… Мы с тобой сейчас перед Богом, Аля.
— Ты забыл, дядя, что соединил Господь, того человек да не разлучает.
Он даже улыбнулся.
— Да чем же мы-то разлучены с ней! О Боже мой! Мы по-прежнему… — Он даже смутился. Опущены глаза, углы рта… — Мы по-прежнему с ней вместе.
— Родной мой, родной батюшка! Как же ты не понимаешь, ты! Ты! Что один малейший намек на разъединение в браке или в чем ином, ну что-либо маленькое, касательно только человеческого закона или формальности, не может пройти мимо, скользнув безнаказанно в ином мире. Мы не дети. Я не обвиняю, как я могу, или кого могу винить? Тебя? Тетю? Я сожалею, но это начало конца. Какого? Не знаю. Конца чему? Тоже не знаю. Не когда человек сделал шаг к разделению — оно будет завершено. Я не верю, что в загсовской бумажке сверхъестественная сила, но нет ничего такого в наших движениях здесь, что не повлекло бы за собой движения в духовном мире… пойми… Но кому же знать это, как не тебе? Прости меня. Я же — не смею.
Молчание в ответ… И затем переход:
— И еще что у тебя на душе лично? Говори. Чем смущаешься, кайся…
Через минуту вздох, рука его через епитрахиль легла на белый беретик, на ее склоненную голову.
* * *
На улице мягкий, слегка метельный снег мягкими хлопьями. Опираясь на любимую палку, вернулся домой по запорошенным улицам.
Он вошел, жена выходит.
— Куда так поздно, радость моя?
— К Лаврентьевым. Разве забыл? Завтра культпоход. Мы будем работать до двух. Не запирайте на цепочку. Надо составить объяснительную лекцию…
Он тихо, не отогнав своего покоя, прошел в комнаты. И запах ее духов не взволновал груди. Этот аромат реял в воздухе, как пришедший с ним оттуда, из храма, не отягчая сердца одиночеством, а помыслы — женщиной. Перекрестился в пустой угол, где столько лет светила у киота лампада. Как давно его сердце ждет покоя! Как пели сегодня «Ныне отпущаеши»! Какой мир сходит в его душу, несмотря ни на что… Но он, такой как есть — помеха жене. Помеха ее занятиям, всей перестройке жизни. Раз и навсегда, круто, напролом перегнула она палку, отойдя от старого к новому, вплоть до уголка безбожника, до лозунга «Долой религию!».
«Что же это такое? Как случилось? Не вмени ей как отступничество!» — молит он, подыскивая оправдания. Но если отступила она, то разве не отступил с самого начала и он? Разве он не отступник в мелочах семейного быта, разве не обличали его не раз и не два люди за театр, за кино, за поблажки миру? Ему легче, чем Нине. Он хоть остался в своей рясе, не изменил своему сану, и потому он то, что есть. Она — ломовая лошадь, везущая груз жизни, свою телегу с ворохом того, что на нее наложили люди… и он в числе ее груза, увеличивает его, в своей рясе с крестом на груди.
И Нина снова вырастает в его сознании. Она ширится и растет в большой образ, претворяясь в чудесную сущность светлостью озаренного свыше ума. Ведь это ради него и его благоустройства несет она свой учительский подвиг. Объяснение пришло, и еще раз их совместная жизнь окрашивается в радужную окраску оправдания и понимания.
В конце третьей недели поста ему поднесли крест.
Очень часто во время служб гасло электричество, и когда подносили крест, свет исчез. Тихо и настороженно стало в храме. Подарок засиял аметистами на груди, в темноте, при маленькой лампочке еще ярче, чем при свете; он благодарил прихожан за символ лучшего небесного дара и по окончании службы обратился к народу со словами о кресте.
Он говорил о сладости страдания. О том счастье, которое дается только крестом и через него. Вихри улеглись. Не стало ни дома, ни жены, ни забот. Разостлалось необъятное пространство жизни, как бы пустыня солончаковая. В нем все высохло, как от необычайной жажды. Узкая тропинка вела наверх по изгибам скалистых гор — наверху сиял крест. Лишь бы дойти до него! Ведь наверху горы казались гораздо больше домов и, конечно же, больше родного дома, оставленного внизу ради любви крестной. За крестом блистали обители терпеливых, там ждал Сам Властелин Любви. Он протягивал к ним руки. На Его челе розовели небесные цветы вместо терновых игл, и таким чудным видением наполнилось все! Исчезла боль, не стало жажды, позади очутились горючие пески и нестерпимый зной пустыни, не горели больше ноги от солончаковой потрескавшейся земли, опаленные уста забыли о воде — лишь бы дойти до вершины горы!
В храме темно, глуховатый старичок слушал у самой кафедры, приставив к уху рупором руку, а из глаз его живо одна за другой катились слезы… У бокового рожка на кафедре горела восковая свеча. Голос проповедника пресекался моментами, то там, то здесь в толпе слышались сдавленные рыдания. Слово окончено. Аминь!
И он прошел к северным дверям алтаря, придерживая на груди рукой свой подарок, что так и переливался аметистами.
Весна потихоньку дула теплым дыханием на березки, и они покрылись еле заметным изумрудным пушком к самому началу Страстной, Пасха была поздняя.
Во многих церквах колокола сняли, и великие службы шли под шумок обычных дней, без призывов к молитве. Он спешил к часам Великой Среды. Стоя над Евангелием в своих траурных ризах, погружался всецело в ту жизнь, почти … как века назад. В глубоких истоках ее омывался любовью и, весь в любви, читал людям о любви.
Радостно нес свою череду, почти на выходе из храма к чему-то готовился. К чему — сам не мог распознать. Слишком был занят, чтобы осознать свое, даже духовное, но что-то звучало «свет идет». Дома наскоро пил чай, ложился усталый, с болью в пояснице и отекших ногах. Сквозь сон слышал, как жена с подругой читали свою хрестоматию.
В неделю же Мироносиц не возвращался с требы — панихида по стареньком заштатном священнике… и недалеко от дома столкнулся с женой.
Плыл весенний вечер с теплым, но сильным ветром, и по улице крутились и взлетали бумажки… давно не было дождя. По дороге их заманил к себе маленький скверик, тихий, нелюдный. Они сели на скамеечку, как не было давно, взяли друг друга за руки, и он с ней сразу забыл все — то, что он в рясе, идет с требы, что их могут увидеть. Забыла, видимо, об этом и она.
Стало так, как раньше, и то, что вспыхивало между ними, недочетами и недомолвками, скрылось под зеленым навесом березки. Вокруг роилась весна, и на душе стало как прежде отрешенно, свято и чисто.
— Я тебе еще не сказала, — вдруг заговорила жена, — что меня вызывали к следователю. Насчет тебя… Спрашивали, знаком ли ты с профессором X.? Я сказала, что знаком. Как же иначе? Вы с ним вместе преподавали на курсах. Но, может быть, я не должна была говорить?
— А как же иначе? — отозвался он. Оба молчали. Вопрос о знакомстве с профессором не задел его никак. Громко чирикали воробьи. Девочка в красном платьишке капризничала и, топая, бегала за нянькой. «Сейчас я сознаю Пасху!» — хотелось ему сказать, но он сдержался, благодаря отвычке говорить с ней языком духа. Он только ощутил влагу на своих глазах и отвел их в сторону. Помолчали. Вдруг она резко отодвинулась от него. «Посиди немного — там идет моя ученица, мы пока незнакомы». Она быстро пошла навстречу ученице, он, слегка сгорбившись, остался сидеть под деревцем на скамье.
Вдалеке гудел трамвай и тревожно звонил, скатываясь с места. Бирюзой и золотом светилась мозаика мечети, наступал вечер, сильнее проступал сквозь сырость запах тополя и березы.
— Идем, Павел, домой, сказала ему жена, вернувшись.
— Сыро! Так редко бывает, что проведем вечер, как люди. Ты мне почитаешь вслух, не правда ли?
Он хотел сегодня заняться другим чтением, но наплыв нежности к ней и готовности сделать ей то, что она пожелает, вызвали моментальные слова: «Все, что ты хочешь, моя родная!».
Она взяла его под руку, убивая тем самым то неприятное, что рождалось при их невольном разъединении в присутствии людей.
Перед своей дверью оба вместе вынули свои ключи, причем она, смеясь, отстранила его руку, чтобы открыть своим, но ее ключ изнутри столкнулся с чьим-то противодействием — кто-то предупреждал их вход.
Перед ними стоял безупречно одетый человек с бритым лицом и военной выправкой, несмотря на штатское платье. В дверях их комнаты — управдом.
— Входите, граждане, — послышалось в меру радушное приглашение. — Мы вас беспокоим, но что поделать… Вы — ваша фамилия? — проверил он тотчас же — и подвинул стул.
— Вы сядете сюда и не будете двигаться, таков порядок. Мы должны окончить обзор ваших книг.
Холст был отдернут, книги россыпью лежали уже на полу. Два чиновника бегло перелистывали Дамаскина и Феофана… Квартирантка с болезненным ужасом смотрела на всю картину из кухни.
Дальше — все шло как обычно. Ему предложили следовать за ними, взяв узелок с подушкой и всем крайне необходимым, так как они точно не могли сказать, сколько времени продлится его… отлучка…
С ним были так любезны, что предложили даже закусить перед отъездом. Он помнит — у Нины дрожали руки. Они оба сели за стол и под неусыпным наблюдением посторонних глаз выпили по пол чашке теплого чая… Для виду только? По послушанию ли? Или чтобы подольше побыть вместе?
Он так давно втайне мучился раздвоением, разладом своей духовной жизни, что арест его не испугал почти. В том, что произошло, он ясно увидел мудрость, в нем процвело озарение мысли: «Вот она, вот… развязка всего…».
Машина везла его через два моста и знакомые улицы в то здание, двери которого захлопнутся за ним на неопределенное время.
Часть II
1
Слезный туман застилал всю улицу, плыл перед глазами, мешал идти. Каких-нибудь полчаса назад Нина Васильевна увиделась с мужем после полуторагодовой разлуки. Ей дали свидание с ним в конце сентября перед его высылкой из города в Сибирь. Коротенькое, вмиг пролетевшее время «там» потрясло ее до основания. Увидеться и говорить с заключенным разрешалось при таких обстоятельствах — один на один, не считая стоявшего у двери дежурного, в маленькой комнатке с высоко поднятым окном, но им сразу было указано известное расстояние друг от друга — это-то и взволновало Н.В., заставило чуть не разрыдаться, сверх сил держать себя в руках. И все, что ей довелось увидеть и осознать во время их свидания — по выходе оттуда, — хлынуло наружу и вылилось в горячих слезах. Как сквозь сон шла она мимо стен гранитного массива, как в неясной мучительной дреме села перед мостом в трамвай, насухо вытирая глаза, но ощущая, что все равно рыдания сдавливают и сердце, и голову щемящим вопросом — как же ей теперь быть? Как с ним быть? Получив свидание, Н. В. не мечтала, конечно, увидеть своего прежнего Павла, она даже внушала себе, что теперь он не прежний высокий, дородный человек, но та тень, что появилась перед ней в дверях комнаты, покашливая надоедным кашлем, силясь улыбнуться совершенно беззубым ртом, и, наконец, улыбнувшаяся ей осклабленно, и жалкое отечное лицо, бледность — град слез из-под опущенных век. Это был не он. Но как же не он? Он самый, Павел, но совсем другой, новый, и думать о нем надо по-другому, по-новому…
Первым движением сердца по выходе «оттуда» было ехать за ним, бросить все — комнату, школу, привычную жизнь, мать перевезти к сестре, ликвидировать все в городе и, теряя свое лицо, поселиться с Павлом там, где он будет начинать новую жизнь, всю себя отдать делу поправления его здоровья. Везде, даже в самых дальних селах есть школы и учреждения, а если не удастся, то в ясли, в больничку, тем более, что она работала сестрой в 1914–1915 году, подобно многим. Наконец, в сельмаг, да она еще достаточно сильна, чтобы запросто окунуться в колхозную работу, хотя и не привыкла к ней… Руки и ум всюду нужны, пригодятся для новой жизни.
Так рассуждала она, понемногу успокаиваясь, по дороге в школу (по соглашению с директором и завучем она заблаговременно выговорила себе опоздание до четырех часов дня). Шел второй день конференции… Оставалось три дня до начала занятий.
Лишь только она вошла и заняла место, ей начали снова настойчиво предлагать воспитательный час.
Н. В. вспыхнула и стала горячо отказываться, заявляя, что по многим причинам не может согласиться на подобное предложение, что у нее и так много нагрузочной работы. А когда дело уладилось и час был передан более юному педагогу и, значит, все вышло на пользу Н. В., то она обрадовалась так, будто впрямь намеревалась остаться в школе. Всегда активная и скорая на выступления, она сегодня сидела в стороне и думала о своем уходе. Когда же ей решиться подать заявление? Сроки пропущены. Будь свидание с Павлом хоть двумя неделями раньше — другое дело, а теперь, когда распределены классы, уроки, когда готов план занятий? Кто ее отпустит за два-три дня до первого сентября? И кто же тогда поможет Павлу посылками и переводами? Н. В. была достаточно честна, чтобы не понять своего отступления. Она все же еще бранила себя малодушной, трусихой и упорно тут же составляла в уме заявление со всеми прямыми и непрямыми мотивами ухода. Выходя в шестом часу вечера из школы, она столкнулась с завучем, та ей вручила несколько новых учебников, связанных бечевкой, прося их просмотреть и дать срочное свое заключение «вот об этой хрестоматии» и «вот об этой арифметике». Н. В. сунула книги в портфель и вышла на улицу с головной болью и самыми разноречивыми мыслями. Книги, конечно, ничему не мешали, но дома уже не стало никаких сил писать заявление. Завтра надо было не только не опоздать, как случилось с сегодняшним числом, но, если уж оставаться при деле, то войти в весь курс дня и его заданий… Ведь это заключительный день всей конференции! Она легла на оттоманку и лежала долго, снова спрашивая себя, как поступить. Как быть?
Поздно вечером, придя в себя и отдохнув, Н. В. рассказала матери о свидании с Павлом. На душе стало легче от сочувствия, но все ярче сознавалась несостоятельность порыва ехать к нему. Уже то говорило не в пользу ее решения, что она сразу скрыла от матери свое безумное и спешное движение в неведомую даль. Она вполне ясно сознавала, что этого не надо делать — пока. А что крылось под этой отсрочкой? Ехать кому-то надо. Ей сказали, что его ссылают в Западный распределитель — в Новосибирск. Он болен, слаб, психически потрясен… Как и кем будет он работать на воле? Не может ведь он очутиться грузчиком на баржах по Оби? Или строить, например, комбайн? Надо чтобы около него был кто-то в помощь, пока он не окрепнет. Но кто? Кому поручить такое дело? Кто способен его встретить и ему помочь? Волнуясь в процессе набегающих мыслей, вся — сама искренность, Н. В., однако, хорошо понимала, что, говоря о помощниках, она уже вычеркнула себя самое. С каждым вопросом к матери, с каждой вылетающей из уст фразой она как бы отделялась от прежде задуманного плана действий. План этот не выявлялся сам собой. Он не рождался в жизнь. Мелькнул на несколько часов самонадеянной дерзостью и исчез, как юношеская мечта. Вот перед ней сама реальность момента: ботаника в цветистой обложке, вот хрестоматия, только что вышедшая из печати, ароматно, вкусно пахнущая, как и все новые книжки, свежим тиснением букв и клеем, в числе составителей на первом месте ее фамилия. В них, в этих новеньких книжках, заключено главное, что она должна делать, чтобы помочь Павлу…
— Арсений! — внезапно нарушил молчание голос матери. — Брат. Родной брат и врач. Чего же лучше? Если понравится, там и устроится. Что ему терять? Бобыль. Дети не плачут. Завтра же сообщи. Пусть едет за ним следом. Дай ему телеграмму сразу же, с утра.
При имени Арсения Н.В. сразу же оживилась. Как просто — Арсений. Вот ему большое жизненное дело. Как она сразу не подумала о нем?
Ночь наступила. Обе легли. До утра не спала Н. В. Во всей силе напряженных струн бессонницы она за одну ночь пережила всю жизнь с ученым, рано облысевшим, молчаливым человеком, всегда углубленным в какие-то свои тайные, с ней не разделенные мысли. Ее сердце впервые забилось к нему томящей жалостью. Она начала соображать — какие пошлет ему потеплее носки и варежки. Что ему положить в чемодан самое главное, необходимое? Непременно — вечное перо, любимую чернильницу, сафьяновый бювар… что еще? От одного перечня вещиц и вещей, связанных с его нуждами и привычками, на ее душе становилось легче и легче. С ее стороны уже выявилась необходимая, активная помощь от предвкушения того, что он получит все свое, домашнее, знакомое и обрадуется ему, ощутилось даже подобие радости. В пятом часу утра она уснула; мать разбудила ее в самый крайний срок, чтобы ехать в школу.
2
Вместительный семейный чемодан, годами стоявший на старом стеллаже, в прихожей, был снят, обметен и вычищен. Пахло нафталином от шубы и овчинного тулупчика-безрукавки. На диване громоздились русские сапоги, валенки, теплый свитер. Время не терпело — Н. В. торопилась, ей сказали в день свидания, что его партия уйдет на днях. До Западного распределителя — Новосибирска — пять–шесть дней. Как быть с тяжелой шубой? Отнести ее сейчас туда, где он? А вдруг их уже услали? Ее не примут? А примут — как он ее потащит на своих слабых плечах? Наконец шуба была зашита вместе с валенками и овчиной в старый плед и суровую шторку, а теплое белье и всякая домашняя утварь наполнили чемодан. Сюда поместились и его вещицы, письменные принадлежности, книги, необходимая посуда. По мере того, как наполнялся чемодан с его отделениями и засовывалось по углам все мягкое и мелкое, Н. В. вспоминала еще про что-то весьма нужное и ценное «там». В процессе укладки вещей заискрилась мысль, что он где-то вблизи, ненадолго разлучен с ней, развода нет, они снова молоды, он вернется, и тогда-то наступит и для него, и для нее дружная, совместная жизнь, лишенная пререкания и не приниманий. Ей показалось, что он, получив вещи, рассматривает их с радостью и даже улыбается. Хотелось еще и еще наполнять чем-то домашним, милым все местечки и впадинки, от чего он пришел бы, как она мечтала, в умиление, довольство и покой. Наконец, вот еще несколько коробочек кальцекса, аспирина, кодеина, нет числа таким коробочкам! Наконец, чемодан готов к закрытию и отправке. Довольная и усталая Н.В. села на диван, закрыла глаза и думала о благополучном маршруте теплых вещей — ну, как переменится погода? — и о том, что надо еще было положить кусочек мыла и стеариновую, свечу.
Тут как раз и явился Арсений Петрович. Он служил в пригороде, в сорока верстах от Ленинграда, и приехал по телеграмме. Вошел, щурясь на яркий луч осеннего солнца, был готов принять обычное шутовство, но озабоченный вид Н. В. его отрезвил. Он сел против нее на качалку и спросил — куда и когда отправляют брата?
— Дорогая моя! — на лице у него появилось выражение благочестивого начетчика. — Все с нами происходящее содействует ко благу, и наш Павел, конечно, с его настроенностью… — Н. В. встала, нахмурилась. — Одним словом, милейшая — «блаженны изгнанники правды ради» …
Тут Н. В. ударила кулаком по ручке дивана.
— Арсений, если вы еще хоть слово из Священного Писания — я… не знаю, что… убью вас на месте. Дело в деле, и надо нам обоим к делу, и возможно скорей!
— Драгоценная! Нафанаил, в котором нет лукавства, разве я говорю не дело?
— Не дело, во-первых, с Нафанаилом мог меня сравнивать только Павел, у него не выходило кощунства, а вы — не Павел и не смейте. Я — не девочка, и вы не миссионер. Ненавижу ханжей, и особенно в халате врача. Знаете свой глаз — и знайте, и хватит, а насчет небесного — мне достаточно Павла.
Арсений Петрович выслушал, не обидясь, к его чести сказать, был он не обидчив. Он только отодвинулся немножко и смиренно спросил: «К чему приступать? Все уложено? Где бечевки?».
Ее взгляд скользнул по навьюченному горбом чемодану…
— Вот и я думала… все ли у него уложено? Не надо ли еще чего?
Оба, как сговорясь, начали все выгружать обратно на диван и на стол. Когда чемодан опустел до самого дна, он проговорил как бы вскользь:
— Конечно, тут же нет самого главного, ангел…
— Чего же?
— Трех или четырех вещей… Но я боюсь, что вы меня опять… или убьете, или…
— Перестаньте, прошу, ломать шутки. Я не Иван Грозный… Чего не хватает Павлу из вещей? Говорите.
— Вы не положили, ангел, епитрахили, поручей, требника… Да еще, пожалуй, камилавочку, самую плохонькую… что ли…
— Зачем ему это «там»? Он поражен в своих правах.
— В правах, вы правы, но не в сане. Сан при нем, мало ли что может случиться. Помните стихи: «…мы живем в стране далекой, где ни церкви, ни попов, где живет в нужде великой птицелов и рыболов…». Иметь такие вещи при себе не возбраняется никак. Ведь это же его орудия, так сказать, производства. А он всюду и везде иерей в сущем сане.
Теперь на ее глазах теплились слезы.
— Арсений, вы молодец! Устыдили меня! Я не убью, я поцелую вас за совет. И как я сама не подумала?! Ну так все мы ему положим сюда, я сейчас достану, и вот еще маленькое Евангелие, его требник…
Вдвоем снова уложили чемодан, замкнули, обшили, обвязали и вечером же свезли обе вещи на багажную станцию, с адресом — Новосибирск, Зап. распределитель, домзак — малой пассажирской скоростью. В две недели дойдет! — решили оба. Теперь еще тепло. До морозов получит.
Арсений Петрович, сразу согласившийся использовать свой отпуск на поездку к брату, обещал еще прихватить две–три недельки за свой счет. В тот же день заняли денег на билет и расходы. По расчету Н. В. выходило так: конечно, Арсений приедет скорее, чем брат; там его подождет, выправит подоспевший багаж, вместе с Павлом поедет к месту его назначения… Итак — две недели на побывку с братом в селе или в городе, куда его назначат, а до этого неделя дороги, неделя пути к точке высылки, и еще две недели в запасе вернуться обратно… Неведомая Сибирь им представлялась родной страной, ожидавшей к себе не ссыльного иерея, а усталого путника.
3
В тот вечер, прямо с вокзала, усталая и взволнованная Н. В. заехала к Воиновым — своей золовке и племяннице о. Павла. Неспокойно было у нее на душе. Главное, тревожил неустойчивый, не сразу решившийся на дорогу Арсений. Мария Петровна выслушала ее внимательно и сейчас же прямодушно заявила, что, хорошо зная характер Арсика, считает, что он может подвести в последнюю минуту. Тут сразу вскипела Аля, до того мирно гладившая белье.
— Но почему так думать, почему? Дядя Арся все выполнит, что обещал. Зачем дурно понимать о человеке? — так и загорячилась она.
— Молчи уж ты, Аля! — строго сказала ей мать. — Не знаешь ничего, так помолчи… А в случае, если он откажется, Ниночка, — кому же тогда ехать? У тебя — школа и… вообще, ты же теперь…
Мария Петровна не договорила… Развод Н. В. с братом Павлом когда-то сильно огорчил ее. И теперь она, если бы не сдержалась, сказала бы: «Ты-то что? Когда вздумала его жалеть?» — и многое накопившееся в душе повытрясла бы она, но и Алино присутствие, и слезы на глазах Н. В. сковали порыв. Она только повторяла: «Да, да… Кому же ехать тогда? Кому?».
С такой же горячностью, как в тот день, когда было принято решение следовать за мужем, Н. В. нервно и обидчиво роняла слова: «Конечно, Мария Петровна может и имеет право ее судить за то, что она не едет, но она обдумала все и спросила себя — кто же тогда поможет Павлу во всем — деньгами, посылками? Пусть ее судит весь мир, но терять свое лицо, смести как сор двадцатидвухлетний стаж, ехать за неверным заработком на окраину Сибири… да… и будет ли смысл? Сбережет ли она его?.. Если б сама Мария Петровна видела Павла, каким он теперь стал! Тень!».
Ее речь как бы ударила по тайникам мысли М. П. Горячо любящая своего брата, она теперь начала понимать новое состояние Н. В. Что-то донельзя искреннее, простое, впервые осознанное через соприкосновение с человеческим несчастьем послышалось в знакомой скороговорочной речи. Слова оборвались, Н. В. поднялась с места, подошла к окну и, оторвав сухую веточку герани, сказала через душившие ее слезы:
— Если бы можно было вычеркнуть… последние восемь лет… я бы, кажется, все… все… — Голос у нее упал. Она плакала. М. П., наклонясь над столом, тоже вытирала слезы. Аля, покончив с утюгами, что-то писала в своем блокноте, все молчали… Внезапно блестящие звоночки девичьего голоса ворвались в тишину комнаты.
— Если никто не поедет — я поеду к нему. Так и знайте!
— Тебя только не хватает! Не ерунди! — крикнула на нее мать.
— Ходи в свою аптеку, учись, фасуй порошки. Ты ведь теперь без трех минут фармацевт! — бегло обернулась к ней Нина.
— Ну что же, практика у меня не уйдет, техникум окончен… До старости далеко… — и шутила и не шутила Алечка. Но в ту же минуту у Н. В. родилась мысль: «Если не поедет Арсений, то не выход ли это из положения? Вещи Аля примет, передаст ему… возможно, что получит с ним свидание, свезет письма, поручения, гостинцы. Проедется в Сибирь и назад… А вернется, сразу через РЗО устроится на место. Наконец, пока Павел будет в Западном распределителе — она побудет с ним, а может быть, что его выдадут на поруки, ведь он такой больной». Так и рисовались всякие планы во встревоженной голове. Девочка с горячим, отзывчивым сердцем! Что там и говорить!
Все случилось как предчувствовала Мария Петровна. Билет в Новосибирск достали за четыре дня до отъезда, но за двое суток перед дорогой к Нине Васильевне явился Арсений Петрович с самым растерянным видом и повинной головой: ехать он не может, хоть убейте его.
Столько уже было говорено, столько сомнений насчет его решения пережила Н. В., что известие это не поразило, как громом, но, нервная и вспыльчивая, она сразу не могла выговорить слова, затем разрыдалась — таким образом разрядился гнев на Арсения. Он же стоял как пришибленный и повторял:
— Имею веские причины, дорогая, умоляю выслушать, необычные препятствия, прошу не сердиться. Вы сами поймите, не от меня это зависит, сначала выслушайте, потом — бейте.
Такое многословие не могло удовлетворить Н. В., но все же она дала ему высказаться, притом держала себя на расстоянии от его смущенной фигуры, когда он с расстановками и заминками разъяснял причины своего отказа.
— Пришел я, дражайший друг, к себе в поликлинику, говорю им так и так, отпуск мне полагается, ну я еще за свой счет прихвачу. Они — ни гу-гу. Значит, с отпуском улажено. Пишу заявление, наложена резолюция, против отпуска никто ничего не имеет. Все случилось в тот самый день, когда я заезжал три дня назад к вам, мой ангелочек.
— Хорошо, я слушаю дальше!
— А дальше, дорогой Нафанаил, то есть я хотел сказать — ангел, развернулись события. Человек предполагает, а Бог… — Н. В. сделала жест рукой и дернула плечами. — Я не ханжу, не ханжу, я смирился, мое золото, только не ругайте меня…
— Так, но какие же могли быть препятствия? Отпуск был разрешен, что же случилось?
— Вот, вот, непредвиденное и случилось! Ночью внезапно заболел главврач поликлиники — сердце, что ли, какой-то приступ. Отвезли срочно в больницу. Кому его заменить? Срочное совещание. Кому его замещать, дорогуся, милуша? Без меня меня женили. Назначили — именно меня. Всем коллективом… меня…
— Как это так? А отпуск?
— А отпуск, милуша, в таких делах в расчет не принимается. Ведь я и вообще-то предполагал его взять позднее. Ведь у меня не туберкулез там какой-либо, чтобы срочно в санаторий… Я уж и так не говорил им про Сибирь, мягче сказал — про Урал. А тут дело товарищеское, коллектив…
— Арсений, вы просто рохля какой-то… Я вас не понимаю и не берусь понимать. Ваше прямое дело помочь брату, а вы уступаете свои услуги чужому. Других врачей разве нет? Почему — именно вас? Я и в толк не возьму — как это вас назначить? Прок-то какой от вас? Воображаю, что вы там можете назаведывать! Какой вы администратор? Курам на смех! Какие у них были мотивы назначить именно такого тюфяка?
— Радость моя, это каких-то всего две-три недельки. В такой короткий срок и тюфяк… может что-либо…
— Напакостить, это верно… У вас билет на руках, больной брат едет за тысячу верст — и вы не могли им представить довода?
— Ангелок, как бы я мог им осветить положение? Абсурд… Я им и так, и сяк спервоначалу: Урал, говорю, еду на Урал. А потом сразу меня назначили и ни про какой Урал не вспомнили. Притом, знаете, что мне пришло еще в голову? Что все неспроста в жизни. Сколько бы денег ушло на мою дорогу? И вы еще заняли около трехсот. А сейчас я вдвойне подработаю, и мы с вами пошлем основательную посылку. Билет мы сразу продадим, сегодня же. Сразу же на вокзал, к кассе. Я откровенно скажу, дорогая, как меня по службе назначили заменять, что-то от души отлегло.
Н. В. встала во весь рост, смерила деверя царственно-гневным взором.
— Отдайте билет!
— Я… я его продам, дорогая, не беспокойтесь, сейчас же…
Впрочем, достал билет из блокнота, отдал его и тихо вышел из комнаты. Н. В. прилегла, зарыла лицо в подушку и замерла от досады и гнева.
4
Матовая семидесятисвечовая лампа под зеленым плоским колпаком, такая знакомая по всем учреждениям, школьным классам, больницам, канцеляриям, мягко и уютно освещала большой стол, на нем поставленный шкапчик с открытыми полочками, с расставленными на них баночками с притертыми пробками. С другой стороны, ламповый свет падал на десятки согнутых дня расфасовки бумажек, на маленькие янтарного цвета весики, что качались из стороны в сторону на тоненьких шнурочках, пока не приходили в равновесие. Зоркие молодые глаза следили за точностью и тотчас же ссыпали порошок за порошком на бумажку. Ламповый свет обливал все стороны стола, всю деятельность. После расфасовки порошков шла наклейка ярлычков, дальше — проверка взвешивания наркотических, ею заведывал провизор. За столом сидело четверо фельдшериц-практиканток, весною окончивших техникум, из них — Аля Воинова — на фасовке порошков. Ее мысль всецело угнездилась в кодеиновую дозу… и ни о чем другом она не помышляла. Неровен час, опять заволнует голос провизора, как было недавно с люминалом: «Проверьте ваши весы, без ножа меня режете, — кричал, 0,1, 0,1 и вдруг — 0,2! Откуда взяла такое 0,2? Я спрашиваю — откуда оно взялось? Вы взвешиваете картошку, огурцы или наркотики? Я вас спрашиваю — вы на рынке или в аптеке?».
— 0,015! — шепчет Аля. — Где они опять, эти разновески? Вечно я их теряю… Сода! 0,2! Так! Скоро у меня все готово! Скоро домой!
— Товарищ Воинова! — послышалось с порога. — Выйдите в аптеку!
В дверях стояла Н. В. с известием об отказе Арсения Петровича ехать в Зап. распределитель и с просьбой помочь ей в продаже билета на вокзале, вот он — билет! Все закружилось в Алиной голове при виде бежевой картоночки, обернутой в плацкарту. В ней заключалось все — дорога к батюшке, встреча с ним, помощь ему, благословение от него, свое приобщение, хоть на короткие моменты, к его подвижнической жизни. Бежать, лететь к нему, навстречу удивительному, чудесному случаю поездки. Бежать отсюда, из монотонного, серенького повседневного быта, там же быть полезной в получении вещей, да и мало ли в чем! Сутки, всего сутки с какими-то часами до поезда! Надо успеть все — оставить свое практикантское место, все недоделанное здесь, заявить о своем срочном отъезде — и в дорогу!
Услышав от Али два слова: «Я еду!», Н. В. обняла ее, порывисто расцеловала и вместе с ней начала действовать.
Алю отпустили легко в ее экстренный отпуск по болезни родственника. Она не была в штате, а училась на фармацевта, окончив весной отличницей техникум. С Алей работала еще одна практикантка, она и осталась заменить Алю. Так что ее решение ехать, казалось бы, встретило одобрение Высшего Промысла. Н. В. сразу начала вводить девочку в ее истинную роль: помочь дяде Павлу с его отправкой к месту назначения, уже не говоря о том, что его надо разыскать в распределителе, затем — получить багаж, что идет малой скоростью и, возможно, уже уедет в Новосибирск, и, когда все будет получено, проводить дядю Павла — на поезд ли? На пароход ли? Тут кончились все ее познания и понятия — где и как, и когда произойдет встреча дяди с племянницей. Н. В. казалось, что раз его отправили в Зап. распределитель — значит, он, когда приедет туда, будет сразу вольным? Следственным? И Аля может взять его на поруки?
Для матери решение Али не было неожиданным. И материнское сердце — вещун, да и согласие Арсения сразу казалось сомнительным, и тогда сразу же М. П. подумала, что никто другой, кроме Али, не может честно и как должно выполнить такое задание. Лишь бы, думала она, ничего бы не предпринимала сверх сил и возможностей ее горячая и впечатлительная девочка. Запальчивая такая! Надо было спешить достать лишнюю сотенку, собрать Алю в дорогу. Мария Петровна во многом переборола в себе мать. Она не урезонивала Алю, не колебала ее ни в чем, не молила остаться, уяснила себе хорошо, что все в этой поездке совершается по каким-то неопровержимым законам духа. Она только просила дочь, если уж та решилась на смелый поступок и рисковала потерей учебного года — быть осторожной и сдержанной во всех обстоятельствах пути. Она, подобно своей золовке, создала в своем уме план Алиных действий в Сибири, уложила его в недельные сроки, рассчитала с точностью, как в аптеке, скудные средства, что должны были израсходоваться в пути. По ее вычислениям Аля должна была вернуться в половине октября. Месяца с неделей ей, конечно, хватит! Потому зимнего пальто и не уложила. Обе, и мать, и Аля, не допускали мысли о задержке в Сибири, наоборот, расчислив все возможности пути, свидания, получения багажа, проводов брата, остались очень довольными цифрой — 37 дней. Все же мать тосковала и, укладывая вещи в чемодан, уронила туда же не одну слезу. Аля целовала ей руки, говоря, что Бог во всем поможет и все в Его воле. Это хорошо знала и сама М. П., и все же сердце ее сжималось тревогой за Алин далекий и рискованный путь.
5. Новосибирск
Новосибирск, куда в начале сентября приехала Аля, сразу встретил ее многолюдством на вокзале, толчеей на перроне, белой пылью на улицах… У нее был адрес к знакомым, а в случае их отказа — можно было пойти в Дом колхозника или дешевенькую гостиницу, но это мало устраивало девушку — деньги надо было беречь. И она сразу отправилась по адресу, далеко от центра, почти на окраине, но по пути зашла и в Дом колхозника и в гостиницу, номеров ни там, ни тут не оказалось, все было переполнено. Она сразу ощутила какой-то неприятный вкус одиночества в чужом городе. Ей сказали, что Новосибирск загружен ссыльными и рабочими, приехавшими сюда искать новых мест и больших денег. Аля сразу вспомнила вокзал. Он имел вид какого-то цыганского табора: приезжие и ожидающие билетов сидели на полу в вокзальных залах, в багажном отделении, вплотную друг к другу на своих тюках или просто лежали на полу. Нудно плакали дети. И даже вне вокзала, сразу же, по глубоким канавам, обрамлявшим улицы, за деревянными мостками, прислонясь к стенам домов, сидели люди, не имеющие ночлега. Счастье, что сибирский сентябрь посылал исключительно теплые дни, вечера, как в тропиках. Звездное небо, парной воздух. Аля шла, неся портплед и чемодан, думая об одном: завтра же разыскать по тюрьмам дядю Павла… и молилась, чтобы Господь дал ей приют и ночлег в Новосибирске.
Знакомая, что должна была принять Алю, была уже выслана сюда год назад, она счастливо устроилась на окраине в рабочей квартире, но кроме нее и ее большого любимца — кота тут жило еще четыре человека, семья мастера сталелитейного цеха, и Алю встретили не то что недружелюбно и ворчливо, но с прямым недоумением — куда же ее поместить? Теснота кругом.
— У нас беда, — сразу же пожаловалась ей хозяйка домика, — мало того, гражданочка, что мы не являемся уже владельцами этого домишки, а квартирантами… Да вы сядьте пока, давайте-ка сюда чемодан! — и она усадила Алю на шаткий табурет. — За нами такая слежка! Ужасно… Вот вы к Валентине Кирилловне присланы, по адресу, а чем может вам помочь эта тетя Валя? Сама-то временно прописана, больная, выслана сюда по делу красной профессуры — может быть, слышали? — Она назвала фамилии. Аля помотала головой. — Ну да ладно, дело не в этом. А создалась-то у нас такая загвоздка. Старший парень, Вовка, ему четырнадцать всего, семилетку нынче кончал бы — возьми, да и объяви там в школе: я — нацист. Его забрали, потому что товарищи сразу же донесли, а теперь мурыжат, томят нас… И вы-то приехали, говорите, тоже по ссыльному делу? Ведь что ж получается?
В дверях показалась высокая седая женщина, за ней следом выпрыгнул в дверь сибиряк-кот с необычайно пушистым лисьим хвостом.
— Вот это и есть к кому письмо прислано, тетя Валя наша, — добродушно говорила бывшая хозяйка дома. — А я — меня звать Васса Яковлевна. А вас? По имени-отчеству?
— Меня? Аля. И больше ничего не надо. Очень прошу… Меня никто еще полностью не называет.
— Так вот, это самое, Алечка. Как же мы будем с вами?
— Мне только бы ночлег, говорила Аля. — Как-нибудь на недельку–другую. На полу, на лавке, все равно. А днем я буду уходить по делам. На рынке — молока куплю, какую-нибудь ватрушку. И хватит! Лишь бы крыша!
Алю поместили на полу, на сенничке, в комнате красной профессорши тети Вали, довольно апатично отнесшейся к приезжей гостье. Она бегло просмотрела письмо с просьбой приютить Алю и сказала ей:
— Что ж. Размещайтесь. Кота не будете обижать?
Голова и руки профессорши тряслись. Дальнейшее ее поведение ясно показывало, что кроме кота с лисьим хвостом у нее не было ничего дорогого, такого, чем бы она могла просто заинтересоваться. И когда Аля, напившись с дороги чаю, горячо и доверчиво рассказала ей и Вассе Яковлевне о цели своего приезда, профессорша с такой же вялостью заметила, не углубляясь в мысль, а как бы скользя по ней:
— Трудно здесь будет вам его отыскать… — и начала кормить из рук своего кота.
Васса Яковлевна была решительна и энергична, про соседку свою сказала Але, что ее совсем «довели» и потому она «такая», что от нее слова не добьешься, но она не вредная, а только словно бы «порешенная». И долго этим же вечером, когда Аля уместилась на сенничке, ароматно пахнущем полынью, Васса в ответ на Алины признания рассказывала про свои дела, про мужнину работу, про горе с Вовкой — «ведь дурак, проведи с ним какой инструктаж — и выпусти! Что он понимает?» Аля сочувственно поддакивала ей, а сама засыпала, усталая от пятидневной дороги. В ответ Вассе Яковлевне говорила сонную несуразицу и проснулась только утром, когда континентальное солнце зайчиком играло на выбеленных стеклах и добродушная Васса Яковлевна спрашивала, не кусали ли ее злодеи клопы, ползущие от печки.
Надо было сразу же действовать — начинать розыски! День так и заливал солнцем, так и брызгал лучами на ветхие мосточки улиц и стены домиков, выбеленных как на Украине. Але казалось, что именно в такой золотистый день должна состояться встреча с дядей Павлом. Иначе быть не могло! Такое солнце, небольшой порыв ветерка, слегка начинают пылиться давно не смоченные дождем улицы. Она пренебрегла автобусом, шла пешком и в целях экономии денег даже в пустяках, и дня разгрузки силы накипавшего волнения в груди. Ей указали дорогу — сначала будет центр города, а там, от главной по большой улице, два поворота налево и большой забор, за ним и есть домзак Западного распределителя… Шла Аля, как летела — ног словно не было… не крылья ли несли ее?
Центральная часть города поразила своими масштабами — и это так недавно еще бывшая рыбацкая слобода «Николаев». Удивлял прежде всего резкий переход от немощенных улиц к асфальту, нарядным витринам, золотым вывескам и, главное, многоэтажным домам. Эти высотные здания резким контрастом отделяли только что оставленную за собой часть старого города с его в две доски мостками, деревянными одноэтажными, изредка двухэтажными домами, палисадничками, где красовались две-три рябинки, черемушка и тополек, где за белыми кисеями занавесок уютно розовел бальзаминчик и махровая герань. А тут чего стоит одна гостиница! Что за нарядное представительное здание! Какие прутья на дверях, какой швейцар, еще молодой, но полный собственного достоинства, стоит на страже! Так и кажется, что произнесет вам строго: «Нет мест!».
— Банк, — читала Аля… — Сберкасса. Служба связи. Ах, вот это сюда мне идти, направо от Ленинской, длинная улица, на углу гастроном. — Она бегло, проходя за угол, взметнула взор на макеты бело-розового поросенка, на глянцевитые коричневые сосиски… Со вчерашнего дня — чай с булкой, остальное доедено в дороге. У Вассы Яковлевны столоваться нельзя и нечем, красной профессорше хватает только для себя и кота, и Алечке можно тратить на день, по ее расчету, для того, чтобы прожить здесь неделю — пять рублей. Мама думала, что здесь можно достать дешевенькие обеды или варить картошку. То и другое сомнительно и проблематично. Особенно насчет варки — жалкие примусы Вассы Яковлевны, керосинка тетя Вали с ободранной черной слюдой, плита, топящаяся смотря по обстоятельствам, раза два в неделю, стирка, подогревание обедов, приносимых с мужнина завода. Вот какие беглые мысли посетили Алю по пути в домзак после взгляда на витрину гастронома. Но не сбить им было крыльев за плечами, несущих ее к тюрьме.
Там — первое разочарование. Открылось окно справок. Перед вопрошающими жадными глазами девушки мужеподобный силуэт женщины в защитного цвета гимнастерке с оловянными пуговицами, тесным ремнем по поясу, отчего куртка морщинилась в глубокую складку. В ответ на произнесенную фамилию — бдительный строгий взор и ответ, столь же выдержанно-спокойный, сколь равнодушный: «Нет у нас такого», и Аля отодвинулась, пропуская другого за справкой. Через несколько минут окно закрылось. Она вспомнила, что не спросила о других тюрьмах. Но уведомили посетители — тюрем еще две в городе, одна уголовницкая — исправдом, другая переселенческая, небольшая. Указали направление, куда идти… Настроение смятения и разочарования недолго владело Алей; попив воды из оловянной кружки, цепочкой приделанной к бачку, она снова, так же бодро и легко, отстучала каблучками указанное ей расстояние и достигла «уголовников». Его тут, конечно, нет, но спросить все же надо.
Уголовницкая находилась, как ни странно, недалеко от центра. Бывший гараж. Окна зарешечены. За ними — лица подростков. Здесь не то, что в домзаке распре да, как-то проще, откровеннее. За тамбуром дверей окно справок… И снова ответ: «Нет такого». Иного Аля и не ждала. Смешно было искать его в уголовниках. Она вышла и обогнула здание, направляясь дальше, в переселенческую. Ей вслед кричали из боковых окон. Подняла голову — молодежь, подростки! И вся их буйная компания кричит ей вслед: «Тетя, к кому приходила?», «Жрать хочем! Нам бы щей — вырви глаз!» — кричали ей вслед подростки. Ускоряя шаги, Аля думала: «Бедные, есть хотят! И он — тоже! Скорее, скорее… Найти его…».
В переселенческой, даже в столе справок — тесно, душно, пахнуло махоркой. Спит дневальный в углу на соломенной подстилке совсем по-домашнему. В окне ответили, как по-заведенному — нет такой фамилии, но тут же заинтересовались приезжей девушкой, что ищет по тюрьмам своего родственника.
— В домзак ежедневно ходите — нет его сегодня, так завтра будет. А к нам что попусту ходить? Тут все колхозники. — Пожали только плечами на слова «из Ленинграда выслали две — две с половиной недели назад». — Если так, то он должен уж тут быть. Непременно.
С тем Аля и ушла. Дойдя до рынка, выпила там стакан молока и купила две шаньги с творогом. Скудная еда ее подбодрила, но не развеселила. Домой она вернулась к четырем часам дня — на рынке ничего больше не брала. Цены потрясающие — как тут жить в таком дорогом городе? Иное дело — плита, на картошке бы просидела на одной… на хлебе… Так размышляя, Аля добрела до своего пристанища, до узенькой, в пустырь уходящей улицы, носящей, однако, громкое название проспекта Ленинского комсомола. Села в кухне на табурет и повесила было голову… Не тут-то было! С воли донеслись крики и такие звуки, будто кто-то с силой хлопал о камни большой мокрой тряпкой. Что случилось?
— Окаянный! — кричала во всю ширь здоровой груди Васса Яковлевна. — Держи, держи его, Ваня! Катюша, пособляй! Опять его мыть! В жиже искупался, непутевый. Холера его бери!
На дворике, куда выбежала Аля, картина была следующая. Вассины дети — Ваня, девяти лет, и Катя, двенадцати лет, — оба недавно вернувшиеся из школы, загнали в угол огородика, стреножили, повалили на бок и еле удерживали руками верещавшего, грязного, как из ада, поросенка.
— Держите его, ребята! — кричала мать. — Ужо я тряпку, щетку! Вот я тебя, уродина!
Тут Аля забыла все утренние горести и бросилась помогать. Все смешалось в один общий порыв. Ваня придерживал… Катя орудовала сзади, а Васса Яковлевна и Аля помогали держать и мыли, и скребли безумно визжащее существо, макая ветошку и облезлую щетку в кадку с водой.
— Пустите, отойдите, я сама, — кричала Аля, ползая с тряпкой по земле около и мешавших, и помогавших ей рук.
— Вот так! Брюшко теперь, хвостик! До чего же грязный! Теперь все. Валите его на другой бочок. Да не брызгайте на меня! Ваня, правее держи. Пониже, пониже, Катя. Ох, тут к нему репьи пристали. Все? Хватит. Чисто?
— Ножки ему надо ополоснуть, — резонно заметил Ваня.
— Копытца тоже, ох, и грязные!
— Держите его крепко все, я за чистой водой схожу, — и Васса Яковлевна встала с колен.
После душа и последних деталей обработки поросенок вновь приобрел свой обычный бело-розовый вид. Ему дали поесть и загнали под навес, на солому, решив хоть на один вечерок не выпускать его пастись по канавам. Отполоскали тряпки, подмели дорожку, вымыли кадушку. Возня и общие усилия распылили Алину скуку и даже подняли настроение. Сели обедать. Позвали и Алю, та вежливо отказалась.
— Ты нам какую же помощь оказала, говорила Васса Яковлевна, наливая ей гороху и кладя ломоть хлеба. — Каждую неделю, кажется, хоть взаперти его держи. Теперь насколько-нибудь обеспечили. Вань, сходи, погляди, не остыл ли? Все ли сожрал, что дадено?
Ваня пошел, вернулся и доложил матери:
— Спит. Кадушку опрокинул. Стал, что твой человек.
6
Вместо одной, как предполагалось, Аля доживала в Новосибирске вторую неделю. Она берегла деньги, сколько возможно, ограничивая себя едой, и мучила себя ежедневной ходьбой в домзак. Дяди Павла все не оказывалось. Ежедневно называла его фамилию, простояв в ожидании у окошечка, и уходила, услышав ответ: «Нет такого». Дома, у Вассы Яковлевны, Аля помогала ей чем могла: мыла полы вечером, то стирала кое-что тете Вале, то ей штопала чулки… Апатичная старушка днями сидела у окна без всякой работы, как бы не принадлежала жизни. Деньги за ночлег и приют Али тоже ее как-то мало интересовали. Вот еще бюджет кота причинял ей кое-какие хлопоты, но и то не она ходила в лавку. И рыбу, и мясо коту, и еду для нее, тети Вали, приносили или дети, или сама Васса Яковлевна, да зачастую она же и готовила ей, сожалея о положении полуглухой, психически потрясенной старухи. Иной раз прочтет, пробежит глазами страницу в «Правде» тетя Валя, погладит кота, чашку, блюдце за собой вымоет — и все. Ее апатичность раздражала Алю, и она нет-нет, да и посоветует старухе выйти погулять или оставить в покое одуревшего и усталого от ее ласк кота. На все такие замечания красная профессорша не сердилась, но и не выходила из своего равнодушного состояния. Посмотрит на Алю сбоку из-под очков и скажет ей, как бы нехотя, с трудом выдавливая слова: «Я уже свое отгуляла».
— Дни какие прекрасные! Надо пользоваться, — не унималась Аля.
— Ну и пользуйся… Иди, гуляй… Твое дело.
После каждого такого пререкания Аля с грустью думала о дяде. Если она, тетя Валя, стала такая, просидев там всего полгода, то каким же она увидит батюшку! Невыносимая тоска обнимала сердце. Ее дни шли и проходили в постоянном труде не для него, а для чужих, давших ей приют и ночлег. За свои услуги она получала то тарелку супу, то обед и была более-менее сыта. К концу второй недели ее приезда сюда погожие дни убывали. Насколько пленительны и по-южному теплы, даже знойны, стояли дни и вечера, настолько утренники напоминали о близкой зиме — полынь по канавам блестела серебром, рытвины дорог затвердели под инеем. При ярких утренних зорях перепадали крепкие морозцы — осенним дождям не место в Сибири! Туманная, сиренево-розовая Обь, казалось, сейчас застынет в своей стальной утренней неподвижности. Терпение Али вот-вот не то лопнет, не то разорвется надвое. Нет и нет в Новосибирске батюшки. Когда по утрам ходила в домзак, все еще надеясь на его приезд, то, проходя по центральной части города, сознавала, что каким-то абсурдом было бы его пребывание здесь, вблизи роскошного ресторана и гостиницы, вблизи гигантского комбайна. И даже окраинные улицы с заборами из крепкого теса и крепко пошитыми домиками — как-то ему не подходили. Куда идти? Где его искать? И куда поместить? Аля благодарила Бога, что не сидит, подобно многим, в полынной канаве на своем сундучке и портпледе. Тюрьмы ей все обойдены, каждое утро звучит «такого нет». И вместо того, чтобы обогревать, поддерживать своего родного, она поит инвалидку-старуху, шпарит клопов, чтобы обеспечить и себе и другим покойную ночь, намывает полы и, наконец, по вечерам уходит на воздух, на волю, думая все об одном — «где же он?». Если заболел, значит, сняли с поезда, лежит в больнице — не то в Омске, не то еще где-либо? И она не знает ничего о нем. Тоскующие силы, мечта о подвиге, о встрече с ним метались по какой-то тесной клетке. Западный распределитель — не ошибка ли, не мираж ли какой? Не проехал ли он дальше? В городе оставалась одна церковь, но ее участь висела на волоске. Туда-то, по одним отзывам людей о добром, «совсем святом» священнике о. Александре и направилась Алечка. Если она все же дождется здесь, в Новосибирске, о. Павла, то не примет ли его к себе свой же брат-священник? Она стояла перед приветливым домиком, овитым плющом и диким виноградом. Он выходил стеклянной галерейкой на церковный двор. Плитняк дворика, вьющаяся зелень, дорожка к дверям, густо заросшая мятой, подорожником и цикорием, напоминали Россию, провинцию. Что это за неведомая страна, в которую он попал? Что за город? Небоскребы в центре, широкая Обь с баржами и пароходами и такие дворики.
Как хорошо бы ему отдохнуть здесь хоть недельку. Она поднялась на ступеньки, долго нащупывала звонок, просунув руку в зелень вьющихся растений, и не находила его. Постучала. Кто-то выглянул в окошко и храбро раскрыл дверь. Перед Алей стоял высокий, рыжеватый, казацкого вида человек, напоминавший ей дьякона Ахиллу из Собора, и, действительно, дьякон небольшой здешней церкви, с низкими, округлыми ступенями паперти, узкими, готического вида окнами. По размеру это была большая часовня, венчавшая собой уютный дворик церковного дома и сарайчик, до отказа набитый дровами.
Большая веснушчатая ладонь дьякона вытащила из зелени грушку звонка на шнурке.
— Потаенно прячем, матушка у нас очень больная, при смерти даже лежит, объяснял он Алечке. — А то люди трезвонят дюже. Ежели к отцу Александру, то просим два раза звонить, ко мне, грешному, разок, на разных мы половинах живем, квартира большая, а матушка больная при нем, в его кабинете находится. Без надежды лежит… Извольте, я вас к нему проведу…
— Обеспокою батюшку? Лучше, может, в другой раз? — спросила Аля.
— Всех и вся и во все дни и часы приемлет, — возразил дьякон. — Такой человек уж… Сами увидите! — и он стукнул два раза в дверь, задернутую штофной портьерой.
При виде о. Александра, быстро поднявшегося с дивана, где он лежал или, вернее, сидел, скорчившись и положив ноги на стул, Але не только показалось, а прямо удостоверилось, что она где-то, но непременно видела это лицо, что она с ним давно знакома и почему-то медлила, так долго живя в городе и не идя к нему. Она сразу без обиняков рассказала ему свое положение в Новосибирске, поиски о. Павла, тщетные ожидания его приезда. Она просила его совета — как ей быть? Как уехать домой ни с чем, не узнав, где он? Но при первых же сочувственных вопросах настоятеля о деле о. Павла, о сроке заключения в Ленинграде, Аля вдруг не выдержала. Утомленная бесплодными поисками, ходьбой по тюрьмам, мыслями о положении дяди — она горячо зарыдала. Слезы будто искали выхода, полились потоками. Хотела сдержаться, взять себя в руки — не тут-то было, плотина прорвалась…
— Вы меня простите, батюшка. Не могу я больше… Плачу.
— И плачьте, моя миленькая, и плачьте! — был его ответ. — Как же вам не плакать! Такое дело! Понятно, что вы плачете.
От немудреных слов в опечаленную душу повеяло святостью неба. Все сверхчеловеческое, небесное, весь горний мир с его помощью заключался в этот момент в разрешении на слезы. Она не услышала здесь обычных слов «не унывайте, возьмите себя в руки, грех отчаиваться» — он сказал ей: «Плачьте». И она плакала без стеснения, от души, освобождаясь и облегчаясь от душевного груза.
О. Александр усиленно думал о чем-то, вытирая платком лоб.
— Сейчас мы с вами о всем поразмыслим, — проговорил он. — Боюсь, что вам не устроиться здесь, буде вы его и найдете. Квартира у меня поместительная, тут нас двое жило священников, да и дьякон нынешний, да все с женами, и трое ребят. Места хватит, я бы вам хорошие комнаты отдал, но люди-то мы теперь какие? Ненадежные. Не сегодня, так завтра и меня туда же, куда и всех. Всякую ночь жду. День прошел — и ладно. Матушка моя плохонькая, не придется ли ее последние дни на людей оставить? Да и на каких? Дьякона ведь тоже не помилуют, комнаты пустовать на станут. В больницу таких как она не кладут. Да, уж истинно «ин — берется, ин — оставляется». Только вот что думается мне об отце Павле — не переслали ли его в Восточный распред, в Иркутск? Что-то не слышно про священников через Западный распред. Из Восточного же их прямо в села, по назначению. Ангара, ее окрестности — их нынешняя родина, а из Новосибирска — куда пойдешь? Обью? Да Обь-то и так вся загружена и застроена и обрабатывают ее с берегов бесчисленное количество выселенцев и рабочих. А что вам в Ленинграде сказали про Запраспред — ничего не значит. Переправили ошибочно помеченную бумажку — и только. Мой вам самый дружеский совет — есть у вас кто в Иркутске? Есть? Ну и прекрасно! Немедленно туда телеграмму с запросом, там ли он? Пусть справятся в домзаке и вам срочно ответ… Как быть с его вещами, что идут малой скоростью? Вот вопрос!
— Да… вопрос… какая ошибка эта малая скорость! — вздыхала Алечка.
— Ошибка? — повторил о. Александр. — Для Промысла, может, и не ошибка. А так нужно для замедления ли какого, терпения ли? Поживем — увидим. Значит, так мы решаем с вами: до ответа на ваш вопрос — ждем. Если он там, сразу идите ко мне, и буде я не у них, а на воле — беру от вас квитанцию, у меня есть надежный, честный рабочий. Срочно, в тот же день, ибо дни лукавы суть, передаю ему квитанцию на вещи с вашей доверенностью, и он вам перешлет все по месту вашего пребывания. Но если буду взят — не смогу услужить в вашем деле — токмо молитвой.
— Этот знакомый рабочий — тоже ссыльный?
— Тут не ссыльных почти нет. Есть два сорта людей в Новосибирске: инженеры, строители комбайнов, управители небоскребов — коммерсанты, всякие дельцы, начальники, евреи-тузы, что ворочают предприятием. А те, кто на них работает, почти все ссыльные, и давно здесь живущих не ссыльных — мало.
В тот же день вечером, после встречи с о. Александром, Аля дала телеграмму своей родственнице, крестнице отца, в Иркутск. Ответ пришел к следующему вечеру, часов в пять. Родственница успела побывать в справочном бюро иркутского домзака и сообщила Але: «Здесь. Вези масла. Лиза».
Трудности с билетом, так как люди на вокзалах и горстанции ожидали его по неделям, были улажены тем же о. Александром через его знакомого, который взял и квитанцию на вещи с обязательством сразу же препроводить их по сообщенному адресу за небольшую денежную компенсацию, и Аля не знала, как благодарить о. Александра. Последний раз увидела она его в маленькой церкви перед своим отъездом в Иркутск. Шла всенощная под праздник Рождества Богородицы. Участь храма должна была решиться вот-вот на днях, а сейчас мягко, лучисто и ярко горели две лампады, и во время канона Аля подошла к о. Александру. Взглянула и в первый момент не узнала его. Так строго и торжественно-чинно стоял он перед ней. Блестела митра, сияла риза, и все его благообразное лицо излучало свет и радость. Обильно помазывая ее лоб, он шепнул:
— В путь добрый! Молитесь за нас!
Снова поникшие было крылья развернулись во всю ширь для полета. Аля, не достояв службы, поспешила домой — надо было сложить вещи, проститься со всеми своими знакомцами — и на вокзал, поезд в Иркутск отходил около одиннадцати часов вечера.
7. Иркутск
Снова платформа незнакомого города. Двое суток пути истомили Алю, закружили голову. Выйдя из вагона, она оглядывалась по сторонам и боялась, что не узнает в толпе своей родственницы Лизы. Видела она ее лет пять тому назад подростком. Оказалось же, что и Лиза (она была лет на восемь старше Али) тоже опасалась, что мимо нее пройдет девочка, чудесно подбрасывающая пестрый мяч на даче, еще в Пскове, где жила и Лиза. Но вот девушка в голубом шарфике стала внимательно вглядываться в женщину с черной кружевной косынкой на голове, стоявшую у входа в багажное отделение, и тоже пристально следившую за каждым проходящим. И, наконец, обе разом закричали: «Аля! Ты?» — «Лиза! Ты?» — двинулись навстречу друг дружке, причем Лиза потянула к себе Алин чемодан, а та не отдавала, и сразу же поспешили к выходу.
Лизин облик Аля уяснила и представляла себе по ее письмам к матери. Очень живые, подробные (писала она как говорила), эти письма знакомили Марью Петровну как бы моментальными фотографиями с ее бытом, хозяйством, нуждами. Писала она и про больного инвалида-мужа, про цены на базаре, курочек, про свою изворотливость. Не лишенные юмора, всегда добродушные, заботливые, эти листки в семье читались вслух. Лиза писала так жене своего крестного потому, что он был хороший домовод, любил крестницу как дочь и интересовался ее жизнью. Он сам незадолго до кончины нашел ей жениха из чиновничьих дворян во Пскове и помог с приданым. Когда отец Али умер, то письма Лизы стали чаще относиться к ней, между ними родилась некая письменная симпатия, но все же, читая Лизины живые и яркие листки, Аля никак не думала, что увидит далекую свою крестовую сестру так скоро и пойдет рука об руку с ней по извилистой Вокзальной к Ангарскому мосту… Сияющий осенний день. Река встретила Алю стальным простором и рокочущим шумом.
— Видишь, какая у нас красавица, не хуже Невы, — хвастала Лиза. — Это, я тебе скажу, такая река! Вот бьется, бьется, как живое сердце! А широкая! Гляди — ширина! Здесь, пожалуй, шире Невы будет! А глубина! Пропастина! Воронки в ней — смерть… Замерзает не сверху, как у вас, а снизу, не так, как русские реки.
Но Алю интересовало другое.
— Где же здесь тюрьма? Расскажи, ты его видела? Лично? Как?
Лиза указала Але на недалекий с виду горный кряж. Отроги Байкальского хребта еще рисовались в розовой дали. Полузримые, воздушные очертания холмов в озарении утреннего солнца венчались как бы зубцами золотой короны…
— Там? Это — там? — волновалась Аля.
— Ну, понятно, там, где же ему быть? Всех своих гостей в именины бросила, приемный день был, смоталась туда по твоей телеграмме. Калач ему купила, конфеток… Передали… Здесь он, оказывается, уже две недели. А ты там его искала? Их скоро ушлют. Меня-то к нему не пустили. Да и ладно! «Вы кто такая? Откуда?» Я им говорю: «Никакая я ему… Племянница, вот та приедет». А сама — дырк оттуда! Страшно, голубчик. Попадешь — не вернешься. Идти надо туда, ну да я тебя провожу разок, так и быть, через речонку Ушаковку. Так себе речушка, лужа пересохшая… Горы-то, Аля, погляди на наши горы!
— Лизочка! Спасибо за все, спасибо!
Больше сказать Аля ничего не могла. Дядя, ее сокровище, он там, он здесь, в розовых лучах солнца, в чуть уловимых туманных зубцах Байкальского кряжа. Но он же и в тюрьме, в остроге. Как это может быть? Связаться вместе?
— Там-то и тюрьма, милочка! — говорила Лиза. — Они ее в розовую краску отделали, аккурат цвет нежной любви — прямо дворец стоит, если кто не знает. А погляди-ка кверху, Аля, над тюрьмой, на валу, где горы, бурятский могильничек… вид отсюда — картина!
Она внимательно взглянула на Алю, та молчала, думая о своем.
— Ты так мучишься за дядю, Алечка! А он крестному-то, отцу Федору, как приходится? Что-то я этого отца Павла не припомню. Хороший? Ну да ясно, все они хорошие…
— Эта река, говорила Аля, — какая-то, как в сказке. И все здесь — не факт, не реальность, а что-то такое, что всегда было и будет, вовек не исчезнет, но всего не уловить, а тюрьма — это все призрак, сон.
— Ну да, сон! Вот дак — сон! Как инженера нашего Погодина потащили — визгу было, реву было. С ног сбились. Его женка в обмороке лежала. Вот дак — призрак! За мной посылали. А я, Алечка, всегда я должна, на всех… Почему так, все я да я? Иди сюда, сделай то-то… А люди берут, да когда ты нужна. Вот и ты приехала, да на такое дело. Ты не обидься, я по родству. Ты откликнулась, поехала. А кто спасибо скажет? А? Говоришь, «не за спасибо» поехала? Ну да ладно, приехала, Лиза рада от души. В кино пойдем? Не хочешь? — Аля молчала.
— Ладно уж, передачу снесем! — утешала ее Лиза. — Твое сердце успокоится… Поворчать люблю — такой характер, а сделаю, что могу. Вот хочу быть эгоисткой, а не выходит. А надо. Прокормиться-то как? Картошки малость, да бочка селедок с душком. Ваня мой лежит-полеживает, порок сердца в последней степени. А у меня, Алечка, поверь, увидишь, сразу сердце разорвется, все клапаны — и болезни не надо. Помоги нет. Одна все. Пенсия маленькая…
Такое вступление в Лизину жизнь не могло ни ободрить, ни утешить. Приходилось быть людям в тягость. Алины деньги были на исходе — только бы хватило на передачи…
Лизино жилище была хибарочка, домик в две комнаты с сенцами, их разделившими, с подпольем, как почти во всех сибирских домах. В сенцах сразу ощутился недостаток времени для уборки… и с первого взгляда нельзя было предположить той хозяйственности и домовитости, какая представлялась при чтении Лизиных писем.
Навстречу жене и гостье вышел, с трудом передвигая глянцевитыми толстыми ступнями в войлочных шлепанцах, маленький, нестарый, но уже седеющий человечек с розово-сизыми щеками и синим носиком. Он сразу же закивал и заулыбался Але.
— Ты что же, Ваня, помоев не мог вынести? — обрушилась на него Лиза. — Как себе еду разогревать, так у тебя не сердце, как ведро на помойку, так у него сейчас же сердце… Сливай в ведро и неси.
— Сейчас вынесу, — кротко сказал было маленький человечек, но молодые, сильные руки сразу же взялись за дело.
— Покажите, куда нести? Направо, налево?
— Это он при тебе кроткий, — пояснила Лиза, когда Аля вернулась. — Без тебя заворчал бы: «Что я тебе, холуй бесплатный, тебе двенадцать мальчиков что ли надо?» Ох, крестный, знал бы ты мою жизнь! — приговаривала, а руки, привычные ко всему, делали, подметали, растопляли плитку — через полчаса все пили кофе, а Ивану Александровичу был налит в чашку брюквенный отвар. Алины симпатии сразу склонились к больному, молчаливому и сдержанному дяде Ване. Он старался, хоть и неудачно, хоть и возмущая покой жены, вносить свою лепту труда, но это ему трудно давалось. Лиза же все время беспокоила жалобами на жизнь, на эгоизм людей, и Але становилось и нудно и неудобно, хуже чем в Новосибирске, где она жила свободно и просто у совсем чужих. Она сразу сознала, что придется стеснять людей, особенно при своих скудных, убывающих что ни день средствах, но радость найти дядю, ему послужить, поддержать его — погашала все неудобства. Все же здесь она была не одна, рядом с ней — добрая душа, та, что знала ее ребенком, а теперь увидела ее в таких переживаниях и тревогах. Она ворчит и, очевидно, будет ворчать на безденежье, на болезнь мужа, на незнакомого ей дядю Павла, которому вовлекалась в помощь, несмотря на то, что решает быть эгоисткой… хотя бы с завтрашнего дня! И все же она, уложив Алю отдохнуть с дороги на часок-другой, спешит на рынок, чтобы купить необходимого для первой передачи. А придя домой, сразу растапливает плиту, ставит пресное тесто для пирожков: «Сегодня наскоро, Алечка, как следует передачу — потом! Лишь бы успеть!» — ободряет она приезжую гостью. Передачи на некоторые поста, в том числе и на двенадцатый, где находится отец Павел, принимались в этот день с часу до трех. Продукты принимались довольно широко, без точной ограниченности. Ежедневно с часу дня и даже раньше сюда спешили люди с корзинками и узелками. Четко поскрипывал под шагами деревянный горбатый мост через мелководную Ушаковку, крутясь и засыпая глаза, взвивалась на пути белая пыль, явление неизбежное и неприятное во время зноя. Насчет опоздания было строго.
Когда Лиза и Аля подошли к тюрьме, то несколько женщин уже толпились у входной двери с передачами. Они смело и настойчиво препирались с дежурным: «Пусти, родимый!» — «Тебе куда? На второй? Передачи нет, гляди вывеску! Завтра, с часу… На четвертый? Жди четырех, с четырех до шести. Отойди за мост, здесь не толпись. Кто на десятый, двенадцатый — входи сейчас… Поздно вот приходите, гражданки! — обратился он к Лизе. — Немножко — и не пустил бы вас. Надо заранее!».
Алины пальцы дрожали на салфетке, покрывавшей плетеную корзиночку. Она забыла и дорогу, и усталость — лишь бы передать и спросить относительно свидания. Сегодня было уже поздно — встречи разрешались до двух дня. Она опасливо озиралась на Лизу — у той в руках тоже был маленький узелок, а лицо выражало готовность к бою с любым постовым.
— Нам в больницу передачу, — так начала Лиза. — К инженеру Погодину. Каждый день от жены ношу ему передачи. Сама-то не может — помирает от горя. Ну а меня, такую дуру, и урезонили — «носи!» — и ношу, как идиот.
Постовой слегка повел плечами.
— Ваше личное дело, гражданка…
— И нисколько не личное… Детей с ним не крестила. От вас бы подальше…
Их, наконец, впустили за вторую дверь, где за столом сидел дежурный и отмечал по спискам фамилии получавших передачи. Лиза спросила о здоровье Погодина. Он предложил обождать — «сейчас придет фельдшер, осмотрит принесенные продукты».
— Видишь, Алечка, — шептала Лиза, поставив узелок на скамью и роясь в нем. — Главное, попасть вовнутрь. Мы с тобой и попали. Погодин — большой человек, хоть и сидит. Сейчас все про него узнаем. А завтра — таким же способом пораньше сюда — пропустят! Увидишь дядю, Алечка! Молись Богу.
Их сразу пришло двое: фельдшер в новом халате из нестиранной бязи с широкими карманами и рассыльный передач, бледный арестант. Фельдшер лениво и привычно запустил руку в Лизин узелок: «Что у вас там?»
— Не знали, что принесть! — затараторила Лиза. — Омулек вот вяленый, луку две штучки. Булочка, огурчик… ах, вот еще пирожок.
— Все готово, можно несть? — подоспел «бледный». — А эта корзинка тоже ему?
— Да вот, вторая-то… раз уж вы такие добрые… — и она ловко сунула ему в руку трехрублевку. — Нельзя ли заодно узнать, где у вас находится? И можно ли завтра к нему пропустить на свидание племянницу его из Ленинграда? — При этих словах Лиза обернулась к дежурному за столом, называя фамилию отца Павла.
— Справок сегодня не даем, раз не знаете его поста. Завтра придете…
— Завтра туда нет приема. Сегодня справьтесь.
Он бегло взглянул в список:
— Никакого священника у нас нет.
Но Лиза не отставала.
— Извините, гражданин, я знаю, так бывает — словно и нет, а потом объявится, что есть. Недели нет, как я о нем здесь узнавала — был на двенадцатом посту.
— Так бы и говорили! Значит, он был на двенадцатом, а вы молчите… Ну вот, его перевели теперь на десятый… Давайте передачу — закрываемся. Надо приходить раньше…
Бледный рассыльный, сидевший с отцом Павлом на одном посту, не проронил во время разговора ни слова. Был вымуштрован. Не он дает справки. Взял обе передачи и исчез за дверью.
8
Снова отец Павел держал тщательно увязанную корзиночку в задрожавших руках. Откуда? Кто о нем заботится? Кто мог сюда приехать? Помимо всяких разумных доводов, отвергающих лживую мечту, помимо всякого — не может быть — «Нина!» — остро подумал он. Но, пересмотрев список присланного, в углу бумажки обнаружил слова: «Хлопочу свидание. Аля». Так вот кто здесь в городе, с ним… Разноречивость своих же чувств потрясла его — это она, его любящая, бунтарская, своенравная Аля! Как надумала? У кого остановилась? Был взволнован, тронут, но — рад — и не рад. Нервно, болезненно переживал ее приезд. Оставила работу, мать и бросилась сюда… К чему? Не завтра, так на днях его ушлют. Как решилась? Такая дорога… Осилить Алин приезд в радости и покое он никак не мог. В нем сразу родился тот несуразный, ни с чем не считающийся протест, воюющий против всего, что втягивало его снова в ту жизнь, от которой он планомерно отходил. Все, что вызывало его в область погасших и обезболенных чувств, — раздражало нервы и отнимало минимальный покой души и тела, приобретаемый лежанием на койке, постоянным почти теперь дремотным состоянием… И под впечатлением полученной передачи он думал то о Нине, которая не могла тут быть, то об Але, что приехала сюда так неожиданно и, как ему казалось, несуразно. Наконец он повернулся к стене и замер, натянув на плечи колючее одеяло.
Вечером притихло в камере. Кто дремал, кто играл в шашки. Дневной шум исчез, как по уговору, и тихо было на посту десятом. Ждали, что ни день, извещения об отправке выселенцев. Говорили об Ангаре, кончающей на днях судоходство, и о трудном пути на Тулун — Братск, и снова замолкали — только слышно было постукивание шашек и отдельные фразы.
Отцу Павлу нездоровилось. Грузные ноги мешали при малейшем передвижении, одышка и кашель не давали съесть лишнего кусочка, выпить глотка воды. Он невольно беспокоился о последнем трудном пути… а ну, как их поведут на Тулун, да еще пешком, как болтали некоторые? Скорее бы до цели, в сибирское село — там лечь, отдохнуть, совсем не двигаться. Он мечтал отдать все, что пришлет ему Нина, тем людям, где поселится, за радушие к нему, такому слабому. Себе — только Евангелие, крест, епитрахиль, скуфейку — по письму он знал, что эти вещи в пути… В такт его настроению кто-то в камере запел приятным тенорочком, кто-то сейчас же подхватил с другого угла и понеслось унылое, вековое: Динь-дон! Динь-дон! Слышен звон кандальный, Динь-дон! Динь-дон! Путь сибирский дальний…
Пели долго, подсвистывая, то еле слышно выводя мелодию, то внезапно ее повышая. День угасал. Отец Павел потихонечку поднялся с койки. Разложил калач, пирожки и конфеты с сахаром по порциям, по числу людей в камере. Молоко же, масло и помидоры были им сразу же, днем, отданы нескольким уголовникам, не имеющим родни, а также — бледному рассыльному… Кусочки калача, пирожков и сладкого ровненько лежали на газете, как на подносе. Он обошел всех, прося его не обидеть и отведать его гостинца. Так добродушен был его вид, в старом подряснике без креста на груди, столько внимания и любви излучалось из его глаз и так дружелюбно были протянуты ко всем руки со скромным угощением, что никто не смеялся, принимая один за другим свою долю, а бухгалтер, свистя астматической одышкой, смущенно сказал: «Кушали бы вы сами, нас всех не накормишь… отощали ведь как…».
9
На двенадцатом и десятом постах ждали передач и свиданий. Наступило обеденное время. До слуха отца Павла доносились разговоры, вернее, он улавливал, впадая в дрему, какие-то обрывки фраз. Кто-то рассказывал тюремные новости — кого-то перевели с поста на пост, уголовник Мокеев объелся или отравился и отправлен в больницу… Под людской говор он основательно погрузился в дрему, всего на какие-то минуты, как это часто с ним бывало за последнее время, в томительно текущие дни перед конечным этапом. Всегда довольно полный, сейчас он исхудал до предела, только ноги его мучили своим ненормальным отекшим видом. Но даже здесь, в окружении малоподобных «настоящим человекам», случалось нечто странное. Не страх и не равнодушие встречал его вид, а какая-то кроткая робость отражалась на одном, либо на другом лице. Когда он малопокорными ногами проходил по камере своего поста к своей койке, минуя встречных, или, задыхаясь, подметал полынным веником блошливый пол, чья-то рука с грубоватой жалостью выхватывала у него веник, и он, внезапно освобожденный, глядел на помощника благодарными глазами, а потом садился на койку и закашливался надоедливыми, отрывистыми толчками, обессиленный, потный.
— Поп, на, выпей горячего, на тебе бублик! — Это был бледный арестант, носивший передачи. Он нередко удружал своему соседу по койке, а потом полувызывающе-полусмущенно вытворялся перед камерой: — Думаешь, братва, я ему зря даю? Он, братцы мои, такой уж человек. Из ада в рай душу вызволит! Мне-то на руку! Еще как! — Смеялись все, да и он — веселей всех, но его глаза не смеялись — оставались беспокойными и грустными.
Кто-то с порога выкликнул фамилию отца Павла. Сон сразу оборвался, да и притом сосед тормошил его за плечи. Он с трудом поднял голову, поднялся на правый локоть и сел на койке, спуская ноги.
Голос сердито кричал за дверью:
— Сколько раз повещать! Айда вниз! Свиданка. — И еще раз по фамилии с грозным «поторопись».
Задыхаясь от нагибания вниз, он занялся ловлей шнурков, продетых в дырочки старых, разрезанных по подъему шлепанцев. Шнурки вьюнами ускользали из его дрожащих рук. Ему на счастье помог тот же бледный арестант. Наконец, отец Павел вышел в коридор. Пройдя его, спустился по лестнице, и, наконец, пустая зала с несколькими стульями.
Восковой бледности рука отца Павла лежала на груди, придерживая толчки перебоя, когда же наконец? Но постовой провел его еще одним переходом, щелкнул ключом в двери и пропустил вперед со словами: «Занимай второе окно». Это была комната для свиданий, просторная, с тремя окнами в дощатых перегородках, без решеток и стекол. Окно позволяло видеть всего человека, идущего от дверей, во весь рост, и его же немного ниже пояса, когда он занимал в нем место для свидания. Два окошка уже были заняты ожидавшими. Свидания здесь давали сроком на полчаса, посетителей еще не впускали, и отец Павел, заняв свое окно, так и вонзился взглядом во входную дверь. Щелкнул ключ, она широко распахнулась, пропуская людей с узелками и корзинками, и девушка с голубым шарфиком на голове, с большой корзинкой в руках — как светлое видение метнулась ко второму окну.
Первую минуту слова не шли. Они стояли почти вплотную, так близко, что Аля могла слышать толчки его сердца, прикоснуться к руке. Но она только вглядывалась в него и шептала сквозь слезы:
— Батюшка мой! Мой батюшка!
— Ты как сюда? — глухо, через сухое горло наконец-то выговорил он. — Такая даль… и решилась…
Она узнала бы его всегда и всюду. Будь он не в своей, другой одежде. Здесь ли, на улице ли? Все равно. Его лоб, бородка, черты… он, и вместе с тем — другой. Уменьшен в своем объеме, углы плеч и очертания ключиц выдвинуты вперед, и его лицо — совсем уже ново и странно для нее — покрыто желтоватой бледностью, губы и крылья носа сини, глаза, прежде блестящие — тусклы, обесцвечены — и отчего он все время кашляет?
Все еще неясно осознавая очевидность, но входя по-юному быстро в новое положение, Аля заботливо спросила его:
— Отчего ты так кашляешь? Простудился?
Он поднял на нее в упор тускловатые глаза, потом перевел их, как ей показалось, на большую муху, ползущую по перегородке, и как бы вскользь, как говорят не хотящие огласить секрета, он выронил слова, подобно людям, внезапно не удержавшим в руках предмет:
— Умучен я, Алечка!
Дорога, болезни, недоедание — вот о чем подумала она и опрометчиво, не в такт значимости услышанного, спросила его:
— Чем же, дядя Павел? Трудно было в дороге?
Он как бы очнулся.
— Нет, это так только, Аля… Не беспокойся. Все уже прошло. Теперь лишь бы доехать до места.
— Тебе поклоны, приветы, — торопилась Аля. — Все помнят, любят, молятся. — Она перечисляла фамилии, передавала слова участия и пожеланий, но все это доходило до него как-то смутно. Он слушал ее, даже силясь улыбнуться, но она сознавала, что говорит не то что надо и не так как надо…
Плотина прорвалась в какой-то миг. Из его глаз выкатились как бы освобожденные от тисков две первые слезы, за ними, торопясь, побежали следующие, целый ручей. Он поискал платок, забытый в спешке, Аля дала ему свой, он взял, но стоял в каком-то оцепенении, держа платок, но не пользуясь им.
— Нина?.. — отрывисто выговорил он. — Мама? Здоровы?
Она поспешила его успокоить, протянула пачку писем и, все больше входя в его новое положение, понимала, что для общей легкости говорить надо ей — минуты летели, медлить было нельзя…
— Батюшка, — сдерживая слезы, двинулась она к нему, — вот тут у меня… пакетик… лекарства… ты так кашляешь, простудился, ты все тут разберешь, все надписано… мы с тетей Ниной собирали, и вот еще тебе письмо от нее «в собственные руки», спрячь подальше, вот — на грудь, в карман, так! Ну, что же еще? Тут булки, варенье — не забудь! Здесь сгущенное молоко, сыр… яйца, пирожки домашние… Здесь тебе конверты, марки…
Корзина была в его руках, за перегородкой. Время истекало. Военные у дверей не смотрели на них. Аля протянула к нему ладони и шепнула: «Благослови!». Он сразу же, не боясь окружающих, благословил ее. Она покрыла поцелуями отданную ей во власть руку, еще раз подняла на него глаза и внезапно, будто ее оттолкнули, отступила от окошечка. Он и не заметил того… Но не бледность, не истощение человека заставили ее отойти. Знакомый с малых лет вид страдания и томления во всей силе восстал передней. Вздувшиеся синие жилки, как и минуту назад, дрожали на его висках; страшная картина не была вполне ясна для определенной мысли, но ярка и очевидна для горевшего сердца. За перегородкой стоял не дядя Павел, а Другой Человек, моложе его. Не стало тысячелетий, все — как тогда. Грубая бечевка не опутала ли Его бледную руку? На лбу вместо капелек пота, по щекам, вместо слез — не потекли ли кровяные струйки? Уста Этого Человека не шепчут ли ей о Любви, о Кресте и о Небе? Какие-то секунды всего… и снова за перегородкой кашляет отец Павел, ее Батюшка, ее дядя… И Аля самозабвенно, торопливо твердит ему как в бреду:
— Поеду с тобой! Не оставлю, не брошу. Пусть все не могут, пусть… А я? Куда ты, туда и я. В село ли, в тайгу… Кончено, еду!
— Безумно, что ты говоришь, Аля!
— Да почему, да почему? Сказала — еду, и кончено. Разве ты не хочешь, не рад мне?
— Рад, Аля, как ты можешь это? Но — даль… путь…
Он волновался, но Алины слова в какой-то миг возвратили ему возможность говорить более связно и четко.
— Ведь… слышала… тропинки такие узкие, что люди в одном там месте — идут в одиночку, идут над обрывами. Говорили, что нас повезут по одному человеку, на лошади… ее под уздцы… Или повозки длинные, как гробы, я недавно слышал. Сто верст от Братска, глушь, тайга. Ну куда тебе? А служба? А мама? Не говори, не слушаю такого вздора.
Но Аля неслась как на крыльях.
— Ничего там не пропасти. Ничего не обрывы. Пугают только. Там хороший климат, лучше нашего. Ты поправишься, окрепнешь. Я буду работать, готовить, стирать, тебе читать вслух… На службу устроюсь. Отбудешь срок — вернемся вместе домой. Может — амнистия?
— Мой срок — до конца жизни, Аля. — Его голос снова упал. — Выдумала! Безумие!
— Сразу я не поеду, — решила Аля. — Жду твоих вещей у тети Лизы. Придут вещи — я за тобой.
— Река, — сказал он вскользь… — Река замерзнет.
— Пускай ее мерзнет. Я — сухим путем.
— Аля! Морозы… Сибирь, ведь я… я сам не знаю, как доберусь… Ноги мои — пуды… Маму как оставишь?
Весь встрепенувшийся от ее порыва, он все же не верил в ее решимость, смотрел на нее — и дрожали губы…
Раздался звонок, похожий на жужжание громадного жука.
— Свидание кончено! Расходитесь, граждане!
— Ну еще две минуты, только две! — взмолилась Аля.
— Ни одной нельзя, гражданка.
Снова движение к нему — «благослови».
— Только не на эту поездку, Аля!..
Он снова благословил ее.
— Я еще приду, — шептала Аля. — Еще попрошу. Когда отправка?
— Спасибо, не знаю… на днях, как будто…
— А как вещи придут, я — сразу же к тебе…
— Хорошо, дитя, хорошо, увидим…
— Не увидим, а будет…
— Граждане, расходитесь!..
Он уже отделился от окна. Аня видит, как трудно он идет, с кошелкой в руках. Вот — исчез за дверью. Вот щелкнул ключ — кончено. Сколько чувств, самых различных, может выдержать сердце. Она плачет и смеется. У входа ее ждет Лиза, в окружении нескольких женщин, тоже после свидания с родными. Голос Лизы строг и наставителен.
— Смотри у меня, Аля! Будешь плакать — в Ангару брошу! — Это звучит ребячливо, но Аля именно от таких слов приходит в себя и сбивчиво тут же пытается посвятить Лизу в свои планы. Та сейчас же протестует, угрюмые сибирячки с укутанными, несмотря на жару, головами, слушают Алин лепет, Лизины острастки. Сочувственно кивает Але одна из них, пожилая:
— Как бы тебе мимо него не проехать, больно уж он страшной, одно костье, да глаза… Мы все прытки им помочь, а окромя передачки что сделаешь? Путь-то какой, знать надо!
Сибирячка разводила руками, говоря о зиме, о вьюге, о том, как в пути мерзнут люди — и страшная незнакомая Азия грозила смертью смелому порыву.
Но в молодой груди пела радость о его близкой воле и о своей дороге в неведомую даль.
10
За проведение в жизнь внезапно родившегося плана стояли только Алины молодость и жгучесть решения. Все остальное как-то сразу стало наперекор. Ее выводили из ежедневной экономии и строго подводимого баланса — затруднения в семье, где она жила. Решали, что она даст только в долг, но бедность, нужда в необходимости в тех же лекарствах больному — были налицо. Как ни скупилась Аля на свое пропитание в Новосибирске, все же передачи здесь обходились недешево. Аля ела с аппетитом то, что ей предлагали — и селедки с душком, и шаньги с картошкой, но уйти от разговоров и жалоб и косвенных хотя бы сетований на свой неразумный приезд — никуда не могла. Будь вещи тут, она сразу же освободила бы людей и рванулась бы за этапом. А у отца Павла ни валенок пока, ни тулупа, ни рукавиц — хорошо, если погода продержится, пока он доберется до места… Но все же ни одна тень не колебала задуманного, хотя сразу же, с первых шагов, люди начали разбивать ее мечту реальными и трезвыми доводами. Первая — Лиза.
— Ты замерзнешь, — плакалась она. — Мама умрет с горя. Никакой там службы не найдешь. К нему должна ехать или его жена, или никто. Потеряешь службу — пропадешь в жизни. Будешь и ему и всем в тягость.
Все подобные слова и положения удобно разбивались текстом — «враги человеку — домашние его». Эти слова все сильнее укоренялись в сознании, и тем скорее решила Аля действовать. Кроме справок о багаже, она съездила на пароходную пристань. Там ей сказали, что судоходство вверх по Ангаре скоро станет, что последний рейс на Братск вряд ли пойдет позднее десятого октября… а сейчас конец сентября. Но — почему? — возмущалась она. Когда стоит такая чудная погода. Ведь жара… Прямо — тропики! И она с волнением смотрела на оснащенный пароход, готовый к отбытию завтра, на Братск. Неужели — предпоследний или последний?
Однако молодой простодушный капитан-бурят держался другого мнения. Сегодня — Африка, тропики, завтра — Сибирь… Сегодня жара, завтра буран. Около Братска пороги… Если зима внезапно нагрянет — ой-ой! А зима у нас частенько в октябре становится, до десятого, до пятнадцатого. Мы и рассчитываем раньше зашабашить. Страшно погубить пароход.
С тем Аля и ушла с пристани. Хорошо будет, если дядя попадет на пароход, последним хотя бы рейсом. А она, Аля? Ну что там думать! Она сильная, молодая. Поездом ли, пароходом ли, но туда, куда он. Палка, лыжи. По горам, по проселкам, где пешком, где ползком, где на лошади… Она слышала, что до места можно добраться с шестьюдесятью рублями, иногда идя пешком, иногда на лошади, которую ведут под уздцы.
Воображение разыгрывалось. Вот — домики, полузакрытые снежными перинками, внутри светятся огоньки. Выплывают горы с их узкими и чуть ли не отвесными пешеходными тропинками. Перед ней синеют пихтовые и сосновые леса, где белки скачут с ветки на ветку, и вот, наконец, та дорога ровнеет, ширится, по бокам высокие корабельные рощи. Все трудное — позади, Аля у цели… Село… Отсюда завтра же она напишет маме, что она доехала, что все хорошо, что дядя Павел… Но где же он? Как она его найдет? Ах, вот как это будет! Высокий новый забор. Дом зажиточного крестьянина. Она входит в избу. Батюшка спит, сообщают ей хозяева. Она терпеливо ждет, обогреваясь в избе. Наконец дверь открывается — он стоит на пороге, отдохнувший, веселый и улыбается своей Але. Приехала? Наконец-то — говорит он ей. Замерзла? Сейчас согреешься!..
11
Перед отправкой этапа Але легко и свободно дали еще одно свидание с отцом Павлом. Оно было менее радостно и еще яснее открыло Але глаза на его состояние. Он поразил ее своим напряженно-нервным, каким-то несобранным воедино видом. Заторапливал слова и ее ответы. «Рад или не рад он мне?» — подумалось ей. О ее поездке не проронил ни слова. Или все так и решено между ними, или он не надеется на меня? — соображала она, глядя на его худобу, прислушиваясь к его кашлю и отрывистым словам. Настроение их первой встречи прозвучало неповторимыми звуками, а сейчас они умолкли. В тот раз не успела она ему рассказать о брате, о школьной работе тети Нины, но только начала, как он ее прервал, не резко, но значительно и строго:
— Все это уже в прошлом. Божья воля.
Перед концом свидания Аля обеспокоенно сообщила, что вещей пока нет… но она надеется, что вот-вот… и тогда…
— Господь поможет во всем, — был его ответ. — По теплу, даст Бог, и доедем. Только бы не пешком. Упаду… Ноги… А валенки мне дадут… Обещали тут дать.
В сегодняшней передаче были домашние пирожки двух сортов — с черемуховой и картофельной начинкой, яйца, яблоки, лук, белые сухари и конфеты. За последние дни пришли еще два письма от Нины…
— Анисьюшка! — вдруг вспомнил он блаженную Новодевичьего монастыря… и, вытащив из пакета белый сухарь, разглядывал его. — Вот какие они! Сбывается…
— Что сбывается, батюшка?
— Все… Она мне как-то: «Ешь, поп, ешь без вилки и без ножа!.. Поедешь по реке… рад будешь сухарику…» Сбывается.
Он снова благословил Алю.
— Спасибо за все, спаси тебя Бог! — сказал при этом. — Если все-таки, хоть и невероятно, ты выберешься туда — достань и привези мне Артос и святой воды. Там ведь, наверное, ничего и ни у кого нет. Церковь в селе закрыта — я узнавал. Остановимся ли в Братске — не знаю. И молись за меня хорошенько. Чтоб мои грехи, мое окаянство…
Она хотела что-то шепнуть, вложить в слова всю заботу, всю любовь — не могла. Он слегка провел рукой по ее голове, она на лету поймала ее, прижала к губам — один момент, и он исчез за дверью.
Резкий, но теплый ветер подгонял Алю, когда она шла обратно по Ушаковскому мосту. Мимо нее прошел молодой человек с гладко выбритым лицом в дорожной темно-коричневой кепке. Зашел вперед, остановился у перил, как бы глядя в воду, пропустил Алю, но снова пошел за ней, то догоняя, то отставая, и так почти до дома. Ей это наскучило, она догадывалась в чем дело. Такого исхода надо было ожидать, с самого Новосибирска. Она храбро и резко встала перед ним.
— В чем дело, гражданин? Почему такое преследование?
Он не смутился.
— Вы такая милая девушка. Хочу предложить вам… знакомство… Можно бы в кино. Вы ведь, как мне кажется, приезжая?
— Порядочные люди так не знакомятся. Хотите знать номер дома, где я живу, вот он — номер восемнадцать. Я не скрываю. А, впрочем, вы и без указания его найдете сами, когда вам понадобится.
— Ловкая вы девушка.
— И догадливая… Не правда ли? До свидания.
— До свидания.
Об этом разговоре Аля ничего не сказала Лизе. И так уж Лиза всем напугана. А ее, Алю, конечно, могут потревожить, когда им угодно. Лишь бы, лишь бы… Ох, эти вещи.
В маленьком Лизином домике жизнь текла как бы не нарушаясь Алиным приездом. Ежедневные домашние дела, приготовление подполья к зиме, отепление окошек, забота о курах, рубка капусты, вяленье омулей, все такое срочное, домовитое, воспринималось потрясенной душой каким-то диссонансом личному настроению, настолько оно было приподнято и даже болезненно. Аля понимала, что ей надо было принимать и разделять все с приютившей ее семьей, она и разделяла все, как требовала жизнь, но все же и куры, и омули, и картошка с капустой казались ей не то помехами для личных дел и хлопот, не то совсем лишними и ненужными вторжениями в ее внутренний мир, в котором она жила и действовала. Впереди ей мерещились победа и венец: усталый и больной человек ждет ее с минуты на минуту и не дождется ее. Она же не может достать ему даже теплой шапки, и с Лизой ходит на базар и возвращается с ней, нагруженная купленной по сходной цене мукой крупного размола, вязками лука, а иначе через неделю–другую он смерзнет, будет негож, — и многим таким, что Лиза хочет сберечь, закупив до мороза. Вечерами мука просеивается через большое решето над газетами на полу, затем уже мелкая, без жмыхов, снова ссыпается в мешки и прячется, только не в подполье, а в большой ларь, окованный в клетку жестяными полосами, стоящий в Лизиной кухне, она же — ее спальня в зимнее время. Два дня рубили белую сахарную капусту в большом корыте и заготовили две большие кадушки.
В рубке капусты даже больной Иван Александрович принимал участие — отдирал листья, очищал червоточину, вырезал кочерыжки. Аля рубила с Лизой и нашла выход для своей смущенной души, она начала представлять, что рубит капусту там, в селе, для дяди Павла. Ей стало легче, когда она переключила сюда свои действия; работа спорилась. Капустные ряды в кадке слегка пересыпались солью, перекладывались тмином. Одну кадушку заготовили с морковью. Лиза то и дело хвалила Алю за усердие, думая все то же — что дурь выскочит из ее головы, что с приходом писем от матери и тетки Аля образумится и поедет обратно. Иван Александрович к вечеру слабел, жаловался на голову и сердце, оба посматривали в окно — Лиза предсказывала буран и называла мужа барометром.
Заходил врач, выслушивал, прописывал рецепт. Больной капризничал и ворчал:
— Опять те же порошки. Не надо мне их… Не могу.
Лиза живо сообщала:
— Я его петрушкой пою, доктор, от опухоли.
После ухода врача как-то легчало на душе, и Лиза шла закрывать ставни. Алино настроение не мирилось с таким ежедневным лишением воздуха и света. К чему эта искусственная темнота? Как жутко звучит задвигающийся болт. А ведь бедному дяде Ване еще душнее. Неужели нельзя хоть четверть окошечка оставить, так, маленькую щелочку?
— Нельзя, — объясняла Лиза. — Сибирь-матушка! Тут, Алечка, такой элемент! Оборони Бог!
Иван Александрович поднимал голову с подушки и присоединял свои объяснения насчет тайги, красивого города и всего прочего. Аля слушала все и, думая о сибирском селе, решила, что они с дядей Павлом не будут закрывать ставни, а смотреть в избяное оконце на хвойный лес, на снежные лапы пихт и кедров, на роящиеся в небе высокие звезды.
— Сибирь-матушка! — повторял больной. — А наш-то Иркутск? Всегда на военном положении; охраняем, но в нем столько тюремного элемента, сколько себе и не представляешь даже… Иркутск, Алечка, — большой острог. Помните, в песне поется: «Александровский централ». Ну, а тот, что на Ушаковке — Николаевский централ. Набеги на мирных жителей — дело обычное, о котором говорить не стоит. Набеги со стороны урков, набеги простых ссыльных, беглецов, возмутившихся. Было всегда и теперь есть. Так как же не закрывать? Вот мне, скажем, душно, а сознаю — пять часов — надо закрыть!
Помолчали… Он перевел свое короткое дыхание и кашлянул.
— Ты уж брось болтать, папка! — вступила Лиза. — Теперь я поговорю… Ты, Алечка, видала наш базар? Видала там цыган-сибиряков, такие рослые люди. Что делают? Кочуют они исключительно по Сибири. Конокрады, воры. Золото ведь у нас искали, было оно где-то недалеко от Байкала. Кто находил — богател, а кто и разорялся, и шел бродяжничать. В ту же тайгу…
«И там, с ними, дядя Павел! — мучительно вспоминала Аля. — За что? Какие-то воры, бродяги, от них закрывают ставни…».
Ставни — это закон, — ловила Лиза ее мысль. — Сибиряки на них и внимания не обращают. А вот ты — новичок, и у новичка всегда душа ноет от ставен.
Иван Александрович так и встрепенулся.
— Вот, вот, и у меня. Как болты громыхнут, так и начинается. Сосет будто внутри. Оно, конечно, по-ученому, по медицине — сердце больное. А я скажу — азиат — он не чувствует так, как мы, русские, попавшие сюда в гражданскую войну. Печаль навевает. Нигде так по родине не грустишь, как из Сибири. И нигде она не кажется такой близкой, как из сибирских окон. Все бы отдал, лишь бы снова увидеть свой город: умереть, видно, в Азии, а вот в сердце ли, в мозгах ли есть зацепочка золотая. Этакая ниточка. И эта ниточка — надежда. Мысль о родине… Одним хоть глазком…
— Помолчи уж, папка, хватит тебе…
Аля ласково смотрела на Ивана Александровича. Он относился к ней сочувственно и просто. От души переживал дело, ради которого она здесь жила. Лиза тоже рвалась ей помочь, накормить, терзалась, что не может услужить и принять, как бы хотела, ходила с ней в тюрьму и ее там поджидала. Она давала Але жизненные советы, журила за своеволье. Но она же резко и болезненно разбивала (пока только на словах) мечту о поездке в глушь. Потихоньку написала письмо Марии Петровне с просьбой отговорить дочь от задуманного. И, что всего мучительнее, она с утра до вечера жаловалась на бедность, на недуги, грозила умереть от разрыва сердца, умоляя написать тете Ниночке, чтоб выслала побольше денег на передачи и на жизнь — здесь все дорого; у них, у Богдановых, нет денег, чтобы поддержаться с нею, с Алечкой, в трудное время.
Конечно, Аля не писала ничего такого в письмах, но зато всецело впрягалась в Лизины несложные, но кропотливые дела: кормила и загоняла кур, подметала двор, выносила помои, как умея, освобождая Лизу от многих дел, но все же Иван Александрович терпел и болезнь, и жалобы, и безденежье, и приехавшую Алю, а Лиза ныла о хорошем времени в городе, где провела молодость, о потерянном здоровье и о неблагодарных людях.
— Вот, погляди, — шептала она Але в сторону задремавшего мужа, — он меня переживет! Тянет и тянет, третий год… А я разом могу! Скоропостижно. У него сердце, и у меня сердце. А все почему? Надо быть эгоистом, а я не умею. Эгоистам — хорошо. А я все переживаю. Одни заключенные надоели. Тому просят снести передачу, другому… И ты еще приехала! Как еще я не сижу у «них» на Ушаковке? Вот буду эгоистом! Никому ничего не стану делать, пальцем не пошевелю.
— А вот, однако, ты что сделай, — открыл глаза больной, — сделай, что я тебе скажу, а потом уж будь эгоистом.
Лиза так и насторожилась.
— Так, — борясь с одышкой, говорил муж, — открой поди ларь, где теплые вещи есть, тот. Вынь из нафталина тулуп Сергеев — рыжая овчина. Старый, а теплый — печка! Стряхни, вывесь в сени. И отдай Алечке для отца Павла. Ему — в дорогу.
— Да ты что? — чуть не простонала Лиза. — Ты в уме ли, папка?
— Я? В уме. Говорю — отдай, и отдай. Не сегодня — завтра буран. А их в пятницу ушлют. Их всегда, я слышал, по пятницам угоняют к месту назначения.
— Сережа-то как? Его вещь.
— И не вспомнит. Ведь я — отец? Сам ему тулуп справлял. Он уже его года два не носит. У него теперь новый. Не последнее отдаем. Сибиряк ни одной зимы без овчины не проживет.
— Такой тулуп! — переживала Лиза, идя к ларю. — Старый, а теплый! Зима на носу, самим бы окрыться.
— Лиза! — Иван Александрович поднял кверху палец. — Ты слушай! Эти вот люди — понимаешь — эти люди, такой отец Павел там, и прочие… так ты лучше помолчи — и отдай. Был у тебя тулуп — отдала, получишь взамен, да не один.
— Ну уж — нет! — шуршала в ларе газетами Лиза — Такого теплого — рыжая овчинка, не будет, не получу. Однако, раз сказал — так сделаю. А уж с завтрашнего дня — хочешь не хочешь, Ваня, — буду эгоисткой.
* * *
Тулуп, да еще теплый шарф и рукавицы из того же ларя, передали как раз вовремя. На следующий день после передачи Аля узнала, что этап выселенцев в Братский район вышел поутру на пристань к пароходу — последний рейс Иркутск — Братск.
У Богдановых все радовались водному пути отца Павла. Лиза говорила, что надо благодарить святителя Иннокентия за такую милость: и теплое получил, и зимы еще нет, и по воде поедет, а не пешком до Тулуна, хотя стоверстный путь Братск — Усть-Вихорево оставался трудным путем, как об этом говорили люди. «Слава Богу! — и Лиза обнимала Алю. — Успели с передачей! А знаешь что, папка, — обращалась она к мужу. — Тулупа-то уже я уж больше не жалею! Ровно как его от души кто оторвал, а то прошлую ночь как засыпать, так в глазах тулуп и вертится: тулуп, тулуп… Теперь бы тебе вещи только получить и потом…» — она не досказала мысли «обратно домой вернуться». В тот момент на нее глянули такие печальные и строгие в своей тоске девичьи глаза. Ее сердце сжалось, и она досказала:
— И у тебя, как гора с плеч… Верно, Алечка?!
После известия об уходе этапа у Али оставалось два пути — на вокзал, справляться, не пришли ли вещи, и в собор, единственный в городе. Аля ежедневно ходила к ранней, чтобы не тратить времени для Лизы и Ивана Александровича. Алины мысли путешествовали с батюшкой на братском рейсе по Ангаре. Она видела, как рассекаются пароходным колесом суровые волны, вместе с ним она доезжала до Братска и помогала ему выйти на пристань. После Братска непроницаемая завеса дальнейшего пути застилала ее мысли. Наступила пора ожидания писем. Шел день за днем.
Осень все еще стояла ясная, только утренники белили дорогу и крыши домов. Около середины октября пришли два письма — от матери и тети Нины, опечалившие до горьких слез. Эти листки не только звучали не в лад и не в такт с Алиными чувствами и волнениями, они резали и кололи, кусали и, наконец, ранили ее сердце. Что же это такое? Ведь она хотела не для себя, для них же, для них — спасти родного, близкого как ей, так и им больного человека. Если уж не спасти для жизни, то облегчить его муки. «Умучен я, Алечка!» — послышались ей слова. В первом письме всегда выдержанная, стойкая в вере мать корила дочь за то, что она совсем забыла, забыла все родное и святое ради своего безумного порыва. Брату моему, а твоему дяде Павлу не нужно в селе никого, кроме Нины, но она не может ехать за ним. Ему не нужна ни сама Аля, ни ее «истерия», а нужны только посылки, они и будут поставляемы вовремя, но, если дочь хочет погибнуть в Азии, пусть погибает. Она не узнала матери в таком письме. Ей вспомнился момент отъезда в Сибирь, полтора месяца назад, когда М. П., стирая слезы, благословила ее на дорогу с целью передать вещи и побыть с дядей Павлом, сколько будет необходимо. И тогда она слезно просила передать ее поцелуй и привет брату Павлу.
«И это ты, мама! — горько волновалась Аля. — Это ты, маленькая Маша, когда-то ходившая с девятилетним братом на богомолье! Вас тогда вернули домой родители, но никто не знал, как трудно справиться детскому сердцу с разбитой мечтой!».
Алин рот горько кривился от влитой в душу полыни, когда она, еще не оправившись от первого письма, читала второе.
«Аля! — писала ее любимая тетя Нина. — Денег у меня больше на расходы по Павлову делу нет. Я все тебе, что могла, дала и еще тебе вышлю на обратный путь. Экономно ли ты живешь? Не эксплуатируют ли тебя люди? В своем письме ты объясняешься мне в любви, но я‑то знаю, что ты любишь Павла больше всех на свете. Так что не говори неправды, что решила ехать в село по любви к нам, — лично я этой жертвы не принимаю. Да и не сочувствую ей. Хочешь делать для него, для Павла, — делай, а меня сюда не приплетай. Его содержать я, конечно, буду, и обязана это делать. Но учти, что лишних денег у меня нет, и постарайся сократить расходы. Поездка в село — вещь сложная. Вряд ли там ты найдешь себе применение. Итак — я могу тебе выслать на обратную дорогу, но содержать буду его одного…». Дальше следовали инструкции о теплой шапке, о кое-каких вещах, и даже без обычного «целую тебя» тетя Нина заканчивала письмо своей буквой и неразборчивым штрихом фамилии.
«И это я не сокращала расходов! — ужасалась Аля. — Сидела в Новосибирске на двух шаньгах, а сейчас на Лизином омулевом пайке. Сберегала каждый пятачок, чтобы лишний раз не ездить на автобусе! А здесь? Живу у бедных людей даром, и они если даже и ворчат на мой приезд, то с горя, с недугов, да еще ему помогают теплым тулупом. Кто поможет? Как поступить? Обратно? А может быть, это враг меня борет, чтобы мне не достигнуть села и не облегчить долю пастыря? До прибытия вещей не поступить ли мне куда? Хоть уборщицей в аптеку?».
Свернувшись в комок, Аля лежала на ларе в Лизиной кухне. Руки запустила в волосы, гребенки выпали. Прочитанные письма валялись на полу у плиты. В такой позе застала ее Лиза. Увидя конверты, она сразу поняла в чем дело, и у нее заныла, как больной зуб, совесть. Она подняла с полу первое письмо от Н. В., не спеша, прочитала его. Аля не шевелилась. Только нервно вздрогнула от прикосновения Лизиной руки.
— А ты не дергайся! Дряни все люди… — начала Лиза свою обычную песенку, — Я, Алечка, извини, письмо прочитала. От его женки, дяди Павловой. Письмо валяется, ты плачешь, ну я и прочитала, ругай меня. И вот мой совет — плюнь и разотри! Смотри, как пишет: «меня не приплетай». Да что ты, жена ему или не жена? Одно из двух — или тебя к нему ревнует, ну, это, может, и понятно, либо какого там себе учителя завела, новенького… Не протестуй, Алечка. Тебе непонятно, ты молода, тетя Нина и красавица, и замужем столько лет, — тебя, моя деточка, на любовь только еще подбрасывает, а толку нет, на несчастный случай душа попала, а любить хочется… Будь отец Павел молодой, да холостой…
— Тут Аля села, как воскрешенная из мертвых, и замахала руками на Лизу.
— Алечка, не сердись! Дело говорю… Ведь любовь-то меж людей всегда с высших идеалов начинается. Некому тебе, деточка, объяснить всего! Чистота ты моя!
— Лиза! Опомнись! Ведь он — священник! Он меня на руках носил! Не кощунствуй! И ты на меня?
— Я, милая моя, за тебя, а не против. Когда-нибудь поймешь… Священники — люди, враг силен. Вещи вот не приходят и не приходят. Кто знает, может быть, так и надо, чтоб ты…
— Не ехала в село? Да что ты, Лиза? Пойми, наконец, меня. Он ждет, я его обнадежила, он болен — и все вы, все вы против меня!
— А вот увидишь, что никто не против, Алечка! Все хотим, чтоб ему было хорошо. Первая я тебе в дорогу шанег и омулей положу. Но только пойми меня, если все одно за другим сложится, чтоб тебе ехать, так и будет, но, если наоборот, так плачь не плачь — ничего не выйдет. Тут никто не виноват. Так сложилось. Против запертых дверей стоять будешь и глазами хлопать.
Низко нагнув голову, охватив ее руками, как придавленная сидела Аля, что-то обдумывая и соображая. На вопрос, пойдет ли она в собор ко всенощной, как во сне выговорила: «Пойду!».
— Так у меня просьба. Кончится служба, не пропусти отца Симеона, дождись его. Он через храм пойдет. Попроси его зайти к нам завтра после обедни. Ивана Александровича рожденье, причастил бы его. И о своем бы с ним посоветовалась — умница такой, проповедь говорит, что Златоуст, сам все испытал: два года высылки, и здесь как-то еле-еле его прописали. Хлопот с ним было… Ногами он повредился. Двадцать пять километров пешком, по морозу. Это когда назад шел. Ревматизм в ноги вступил и судороги.
Настроение Али немного улеглось при мысли о соборе, о возможности поделиться своими заботами с пастырем и со страдальцем отца Павла. Одно за другим стали возникать в памяти имена вечных молитвенников, и первым из них восстало имя Святого Николая. Оно затеплило снова веру в заступничество и помощь. Войдя в собор за несколько минут до начала, Аля вскоре нашла икону Святителя. Старинного письма и темных красок был тот образ, в правом приделе, близ северных врат. На подсвечнике уже теплилось несколько свечей. Аля поставила свою и, став на колени, вперилась в образ. Святитель без митры строго смотрел на нее. «Отче Николае! — подумалось ей в те минуты. — Ты похож на батюшку отца Павла, он несет свое бесчестие, как и ты когда-то, после посрамления Ария. О, сколько надо тебе сказать! И как я могла тебя оставить!». Тут Аля вспомнила, что во все времена дороги она только изредка обращалась к Нему то краткими сухими словами, то спешно по утрам, читая тропарь, но зато сейчас!.. Сейчас она смотрела на него как на единую помощь в бедах, как на Саму Справедливость в задуманном деле, как на быстрейшего волеисполнителя и завершителя ее пути. Страстно молилась ее душа. Бесстрастно внимательно и строго смотрел на нее старинный лик Святителя, с обнаженной головой, слегка кудрявыми на висках волосами и таким же высоким и выпуклым лбом, как у батюшки отца Павла. «Кроме тебя — никто! — шептала Аля, и горело сердце, и капельки слез падали на пол одна за другой, ложась рядом с такими же из воска. — И ты один все мое знаешь, все можешь — и надо ехать к нему, и я намучилась, и людей мучаю, и люди не понимают, и вещи не приходят; скоро буран-зима; а письма-то какие мне прислали, такие жестокие, как им только не стыдно?».
С последними словами Аля, словно мягкий комок, упала к подножию подсвечника.
«Неужели, отче Николае, тебе не нравится то, что я предпринимаю? Как ты можешь быть против? Разве я задумала худое? Греховное? Мне его так жаль! Все не могли, все его оставили, а я не хочу… Он — такой же как ты, пастырь истинный, добрый, и он шел прямым путем… и… я больше не могу, не могу, отче Николае! Помоги! Открой путь! Пришли скорее его вещи. Чтоб мне ехать! Успокой душу! Устрой дорогу!».
Все вечернее бдение Аля пробыла у образа, то молясь, то плача, то просто смотря на своего небесного помощника, а по окончании службы дождалась из алтаря батюшку отца Симеона и подошла к нему.
* * *
После того, как Иван Александрович был исповедан, приобщен и, полусидя на подушках, ожидал чаю, Лиза живо собрала на стол все что у нее нашлось и сготовилось — пирожки с омулевой начинкой, картофельную запеканку, сладкую ватрушку с черемуховой повидлой. Нашлось в шкафу и немного вина с лимонными корочками, и баночка варенья, привезенная еще в сентябре Алей. В кухне быстро забрызгал кипятком самовар, и на всем наспех собранном столе не замечалось и следа скудости, нужды, наоборот, улыбалась праздничность и довольство. Только хорошие хозяйки умеют так подать.
Отец Симеон был небольшого роста, с вдумчивыми серыми глазами и простыми, приятными чертами лица. Волосы длинно и курчаво лежали по плечам.
— Я как был освобожден, так снова и завел их, — простодушно рассказывал он.
Ничем особо, кроме своих волнистых волос, он не отличался, и к себе не привлекал ни красотой, ни особым аскетическим видом, ни прежней дородностью отца Павла. Но с первых же его слов в нем сказался человек, умеющий говорить не только многоречиво, но умно и красиво, и самобытно. Он говорил закругленными фразами, не подыскивая слов, полным, ярким, неповрежденным русским языком. Если новосибирский отец Александр во время Богородичного служения представился Але святым в строгости черт, осиянный свечами, в предвкушении неизбежного своего креста, то сейчас, вспоминая вчерашние Лизины слова про отца Симеона «говорит как Златоуст», она сразу соглашалась с ней, прислушиваясь к общей беседе. Отец Симеон год как вернулся из ссылки, обвинялся он за какую-то пропаганду. В данный момент снова был допущен до службы без права проповедей в единственном незакрытом соборе, но ожидал и сейчас пути подальше «в места, не столь отдаленные», как намекнул он. Все в доме Богдановых оживилось с приходом такого гостя. Лиза — свойственным всем хозяйкам волнением угостить, поставить на стол, Иван Александрович волновался той особой радостью, бодрящей и окрыляющей больных в ожидании Таинства; Аля после вчерашней молитвы в соборе склонна была видеть и ждать от отца Симеона чудесного советчика и защитника своего дела. Он вчера же успел с нею побеседовать, пока они шли до его дома. От него не укрылись ни ее заплаканные глаза, ни дрожь в голосе. Она успела в кратких словах осветить ему свое положение и заботы. Много за последние годы перенес он скорбей, и, несмотря на еще не преклонный возраст, он за пятнадцать лет службы и три годы ссылки стал мудрым старцем по опытному знанию людей; да и самого сибирского края с его обычаями, нравом и укладом жизни. Он еще вчера решил поговорить с Алей о ее замысле, но не на улице, а дома, у Богдановых. Но как? Как начать и повести должную речь, как ее примет искренняя и потрясенная душа? А совет уже определился им, еще вчера он вполне оформился в его пастырском сознании: ей надо уехать обратно к родным. Ведь у него тоже была в свое время забота, единственная дочь хотела, как Аля, облегчить отцовскую участь и броситься за ним в даль, но это не состоялось, и слава Богу, что так!
Отдохнули за чаем. Всегда молчаливый Иван Александрович взгрустнул о родине… Обычно он скрывал свои мысли. Ныть и плакать об оставленном белом городе старинных церквей и звонниц, о тихой волне, набегающей на стену Кремля — это любила и умела Лиза… Но сегодня — не наговориться бы ему о ней! И во сне снится, и наяву грезится…
— Батюшка! — обратился он к отцу Симеону. — Сибиряки будто мне не свои. Всегда какие-то чужие. Таежники угрюмые. Всегда у них свое на уме. А вот придет весна, по опушкам в тайге, да и здесь, по берегам, черемуха забелеет, у нас ее тут сила, везде она. И в чащах, и в садах большие дерева, мелкий цвет такой, «сибирская игра» ее название, другой сорт, не такой, как в России. Пахнет эта игра не так сильно, но, однако, как ее увидишь, так и затоскует сердце. У нас на рынках ее возами продают, букеты из нее вяжут, такие белые громадные веники. Вот и тоскую… Видел я сон, батюшка, не так давно. Плыву я в лодке, под белым парусом, будто все по Ангаре, по Ангаре — и вдруг — диво какое! — передо мной Спас на Миреже и церквей, как раньше, — великая сила, и звон отовсюду, тихий, вечерний, и вот я подплыл, выхожу на берег вне себя от счастья. Ну и, однако, проснулся!
— Ты, папка, к Сибири все-таки привык! — вставила свое Лиза. — Ты вот их не любишь, а все за ними: «однако, однако».
— Хорошо на родине, что и говорить! — подхватил отец Симеон, разрезая ватрушку. — Хотя бы возьмем самое простое — эту ватрушку. Честь хозяйке, спечена хорошо, косточки промолоты, ну а если загадаю я, на родине — какая была бы начинка?
Все вступили в спор. Лиза закричала — вишня, Аля — творог с корицей! Но сейчас на рынке, в эту предзимнюю пору, все расходуют черемуховые запасы, а творогу найти не так-то легко! Днем с огнем ходи да ищи. Да и дорогой он, маленькая кучка — десять рублей.
– Да, хорошо, хорошо на родине! — вздохнул отец Симеон. — Я сам — из Орловской губернии. Такие уютные палисаднички бывают в средней полосе России. Все бы отдал, войти в такой палисадничек. Особенно весной, на ее склоне к лету: яблони цветут, сирени — и сесть на серую щербатую скамью. А перед ней — грубо сколоченный кругляш — стол, а на нем пестрядиновая скатерка холщевая! И представить себе — вечер, мерно, тихо льется церковный звон… К Шестопсалмию звонят, что ли?
— Бывало в юности, — вспоминал Иван Александрович, — издали, из городского сада, музыка доносится, а ты идешь из церкви — и у тебя в душе — своя музыка…
— Истинно так, — соглашался отец Симеон. — Церкви-то еще зазвонят, мы не услышим, другие услышат.
— Вы все же верите, батюшка, — вмешалась Алечка, до сих пор молчавшая, — верите ли в церковное восстание еще здесь, на земле?
— Не знаю, как вам сказать… Думаю, надо, чтоб оно было. Хоть краткое. Для малого стада Христова. Для некоторых призываемых — как знамение полного небесного торжества. Но только недолго, так как, видимо, скоро всему конец. Наша родина — не здесь. Настоящая, вечная, она для многих все же земля неведомая. Неизвестная… Школьником еще, подростком, привелось мне быть в Одессе у родственников. Пошли мы там в ботанический сад. Вижу я — кусточек, деревце маленькое растет в этакой клумбочке у дорожки, дощечка при нем и написано по латыни: «Terra incognita».
Это значит — «отчизна неизвестна»! И долго в уме моем жило это название. Всяко представлял я тогда эту самую неведомую родину цветка. Люди мы все — цветы. Тянемся к солнышку. К земле обетованной. И подумать только — в том же самом году приезжаю я домой и объявляю родным: «Пойду по духовной части». Ну, они согласились — пошел в семинарию. А все цветок наделал! Выводы, мысли все беспокоили, тянуло найти дорогу к отчизне неизвестной. И так до сих пор иду, иду. С детства читаем о Библейской обетованной земле. И заметьте, мы всегда рисуем себе Ханаан как свою родину. То есть придаем ей черты виденных в детстве образов и мест. Вот как яблоневый сад в родном городе в воспоминаниях Ивана Александровича, или — кто видел, природу Крыма, или раннюю весну, Пасху в родной деревне — с яркой травкой, с запахом первой зелени. Эти представления всегда связаны с памятью о детской чистоте, о безгрешности, о любви ко всему и каждому. Мы берем самое лучшее, что нам снилось, самое возвышенное, что пережили. Самое отрадное, о чем мечталось, и с такими-то восприятиями, и то только отчасти, мы можем себе как-то вообразить Ханаан. Насколько же он блаженнее и прекраснее нашего о нем представления, если наша детская чистота или безгрешное младенчество в родительском доме есть только слабое подобие той Вечной Чистоты, того, как выразиться, Экстракта Любви, обретаемых нами сполна в истинной земле Ханаанской? И вот дерзаю я выразить еще такую мысль: ныне получают землю сию пока неведомую как бы в Великом и Совершенном подобии ими виденных и представляемых картин Отчей Любви, прекрасных садов или ранних весен на родине. Но многие ведь совсем лишены были отрадных картин детства, прообразующих рай, они не видели ни любви, ни радости… Они даже не помнят детской чистоты, они знали всегда все, что должно быть скрыто от детских глаз, и при этом видели в омерзительном освещении! И всегда жили оторванными от прекрасного. Но и они тоже, по милосердию Божию, то есть те, что были искренни, тянулись к Свету, искали его по болотам и далеко не чистым местам, но искали жадно, да и вообще, все те, кто взыскуется Богом для счастья, ведь Господь Тайновидец знает все причины тайн, намерения, судьбы, все души людей… так вот, полагаю, что и они получат Ханаан именно так, как им надлежит его воспринять и получить… на пир званы все — и те, и другие… придите — обедайте!
Он вдруг замолчал, как бы оборвав речь, и все долго молчали, словно пролетел ангел.
— Я все думаю, — прервал тишину Алин голос, — о теперешних отщепенцах общества, подразумеваю гонимых служителей Христовых… Вот они-то, думаю, сразу войдут в Ханаан, в Небесные обители! Бедный мой батюшка! — и она поникла головой… Все обернулись к ней. Она думала только об одном, была полна одним. И сразу же мысли всех с Ханаана и Отчих садов наклонились в сторону ее переживаний.
— Поправится ли он, такой больной? — вытирая слезы, говорила Аля. — Как доедет до села? Лиза, не сердись, что я плачу! Я вчера все, все батюшке Симеону сказала. Он — все знает. Ведь вот какая странность, батюшка! — обернулась она к священнику. — Я приехала сюда с запасом сил и не могу облегчить того, к кому стремлюсь, ничем, кроме передач… Не могу сразу же ехать за ним. Даже вещей не сумели ему прислать вовремя.
Отец Симеон словно весь встрепенулся от ее слов.
— А зачем, скажите на милость, родная душа, зачем вам вообще ехать за ним?
— Как так зачем? — вспыхнула Аля. — Ведь я его духовная дочь и племянница. Священника–отца я потеряла в детстве. Отец Павел был мне за родного отца, да по духу и ближе. Многие дети делают все для своих пастырей. Они ломают свою жизнь, оставляют, как велит Евангелие, родню и детей, чтобы облегчить этих мучеников и помочь Церкви…
— Все это… все это, конечно, — заговорил медленно отец Симеон, — весьма похвальные слова, и я, может быть, очень косолап, затрагивая такие святые ваши поползновения. Но не думаете ли вы, опять я вас назову — родная моя душа, что таким страдальцам и мученикам, как сами их называете, не нужна ничья помощь, чтобы им достичь земли, куда они идут, по своему ли изволению, по чужому ли произволу, но идут! Господу Христу, хоть смело это мое сопоставление, — никто не помогал взыти на Крест, кроме его распинателей. Иное дело, если бы вы были призваны к такому решению особым распоряжением каким-то, но жить при нем, чтобы он еще больше страдал, глядя на вас и сознавая, что вы оставили мать и службу и родных, которые на вас сердятся и негодуют, не имея денег, чтобы кроме него обеспечить и вас, и в такой-то путь! И своеволие ваше их смутило… Сами мне поведали, что ехали только с теми намерениями, чтобы его встретить, принять вещи… снабдить передачами, но об отъезде за ним в село — ведь не было речи? И не подумали бы вы, что законное место быть с ним принадлежит его супруге и больше никому? Ваша фигура будет там смешна и жалка…
— Пусть смешна… Пусть жалка… — проронила Аля.
— Хорошо. Вы говорите «пусть жалка», но ведь не для вас будет в этом мучение, а для него. Новое мучение. Вы родите вашим пребыванием там не облегчение, а муку. Найдете ли вы в глухой сибирской деревне себе место, службу, чтобы оправдать свое существование, а не быть в тягость его жене? А она, как мне сдается, и жалеет его, и тяготится им в одно и то же время. Надо ли вам попадать в такое положение? Скажите мне. Только по правде…
— Я не знаю, что такое вы говорите! — с рыданием вырвалось у Али. — Он такой жалкий и слабый, у него больные ноги, он кашляет, и я ему обещала, что пойду за ним, когда увидела его в тюрьме. Он ждет меня. Почему я не могу ехать, почему? Ведь за эти последние годы многие духовные дети помогли своим духовным отцам! Как вы о них полагаете, скажите мне?
— А почему жена не поехала за ним? — вмешался несколько ворчливо Иван Александрович. — Вы ему, Аля, только напомните о том, что у его супруги была какая-то несостоятельность следовать за ним и что она сунула вас на свое место — только и всего…
— Вы совсем не знаете его жены! — с терпкой горечью говорила Аля. — Я могу прочитать вам ее письмо ко мне. Она совсем не рассчитывала на мою поездку ни сюда, ни в село. Я сама, сама вызвалась ехать к нему… И сейчас — я ничего не понимаю! Запуталась! Она мне пишет, что если я для него хочу делать, то «делай, а меня ни приплетай». Да, так и сказано! Ужасное письмо. «Меня не приплетай». Я тетю Нину не узнала в этом злом письме. А я ее так любила.
— Приревновала что ли? — вмешалась Лиза.
— Или завела там себе какого другого? — и Иван Александрович сердито потянул на себя одеяло, но отец Симеон сразу закачал головой.
— Ни то, ни другое, золотые мои! Ни она — не ревнует, ни она кого завела, а просто чует, что вы, Александра Федоровна, родная моя душа, свои порывом ехать за ее супругом поставили себя в неправильное положение. Вы и работу потеряли, и мать, о которой в первую голову надо заботиться, оставили… Молоды вы! Ребенок! Двадцати лет не исполнилось, а с подвигов начинаете! Своей искренней молитвой вы облегчите его положение лучше, чем путем в сибирскую даль. Ему послан крест, не вам… подумайте об этом, душа моя, да подумайте хорошенько, не спеша. Вы вчера правильно посвятили все свое святителю Николаю. А кому, как не ему, распутывать такие узелки? Ну, не будем больше тревожить ваше сердце! Довольно намучились. А все же высказать свое мнение был обязан. Да‑с! Вы сами вчера меня о том просили. И обижаться — не извольте!
На этом пресекли дальнейший разговор. Аля встала и вышла в слезах из комнаты, и отец Симеон замолчал об Алином деле, сосредоточенно допивал чай и хвалил Лизину ватрушку.
* * *
Еще сибирское утро не брезжило за глухими ставнями, а Лиза стояла над спящей Алей и тормошила ее за плечи.
— Вставай, милок, вставай, беда на дворе! Буран! Куры-то все врассыпную! Помоги скорей! На тебе тулуп! Укройся. Бежим загонять!
Полусонная Аля (спала крепко после вчерашних слез) в валенках на босу ногу, в овчинке — прямо на рубашку, выбежала с Лизой в сени, откуда из дверей так и несло еще небывалым колючим холодом, оттуда — на дворик. На воле стоял сущий ад: загнать кур было трудно, они кудахтали и метались; вихрь налетал и валил с ног снежной тучей; глаза залепляла мелкая ледяная колоть, снизу крутился и кучился в столбики песчаный поземок; жалобно скрипели топольки и единственное черемуховое дерево на дворике. Аля чуть не упала под порывом ветра, и в первый момент ей показалось, что она ослепла — не проморгать! Все же она то бежала под толчками ветра, то пригвождалась к забору или к стене домика, то отрывалась от опоры и храбро выполняла поручения и экстренные наказы — отцепить с веревки кое-какое развешанное белье, вытащить из колодца ведро и т. д. Наконец куры водворились в домовой клетке и петух, как ему и пристало, занял серединное место на шестке. На дворе все выло вокруг, люди передвигались по улицам вдоль заборов, садясь иной раз в снег, на землю, чтобы не упасть разбежавшись. Да и то это были редкие пешеходы, кого застал буран.
С деревьев сыпались последние листья, и все как будто застывало от холода, резкого, колючего.
В подполье у Лизы с Алей кипела работа — они задвинули дощечками и заткнули тряпьем кое-какие щелочки, накидали рогож на картошку и, отеплив, по возможности, подполье, вылезли наверх, чтобы заняться топкой плиты и печки, и так — до половины дня.
Снова и снова Але пришлось столкнуться с особенностями сибирской зимы, а тут еще Лиза не унималась — ворчала про то да се…
— Вот, дорогая моя, если бы не ты со своим делом, да разве я допустила бы такие щелки и непокрытые овощи до бурана? Эдакая завируха, а я точно предвидела. Еще вчера сидим мы с отцом Симеоном, они с папкой все про родину, а у меня своя родина — подполье! Своя хата непокрыта. Видела, какую щелину мы законопатили? Ой, Алечка, слазим-ка мы с тобой еще разок! Справа-то, боюсь, не подмерзла бы! Ей ведь, картошке, немного надо, а там — не дует ли с угла? Подоткнем под нее еще рогожки, что ли?
Слазили еще разок в подполье, после того натопили до отказу кухоньку и открыли дверь в сени для птиц. Вечером их выпустили погулять по кухне. Из-за непогоды Аля не попала на вокзал справиться о вещах. Но ей почему-то думалось — вещи тут! И она уже радостно, по-молодому, отталкивала от себя все тяжелое, что пришлось пережить, мечтая — непогода утихнет в два дня. Вещи, очевидно, пришли. Можно и в путь. Но на какие средства? Рублей пятьдесят только и осталось от передач. Надежда на те деньги, что ей обещали прислать на обратный путь, и она двинет их вперед. Лиза ей должна немного более сотни, она отдаст или перешлет. Наконец, выручит рынок, там надо спустить новенькие туфли, не носить же их там, и кое-что из белья.
Успокоенная такими мыслями, она снова на другой день лазила с Лизой в подполье, притащила в кухонный угол пять ведер картошки на расход. Погода все еще не утихала, снег заметал пути.
Вдруг, разжалобясь Алиным похудевшим и молчаливым видом, Лиза принялась ее утешать и ободрять. Всегда несогласная с Алиными намерениями, она обнадежила Алю, что знакомый, бывший следователь Зубов, посулил ей сотню в долг для поездки ее родственницы в Братскую область.
В тот же вечер пришло долгожданное известие от отца Павла. Он был на месте. Он — доехал. Серая почтовка со штампом военной цензуры трепетала в руках.
«…Наконец-то, после пятидневной дороги, весьма трудной и сопряженной с опасными неудобствами, — читала Аля, — я достиг места назначения. «Се покой мой, здесь вселюся навеки». Пути сюда такие, что сейчас не добраться, разве после зимнего Николы, как здесь говорят. Благодарю тебя и тетю Лизу за все хлопоты, заботы и неудобства, мною вам обеим причиненные. Да благословит тебя Господь, дорогое мое дитя, за твою любовь. Да устроит Он путь так, как Ему угодно, Его Святая воля». Дальше следовал адрес. Аля прижала к лицу дорогие строки и сказала Лизе:
— Ну вот, и он согласен на мою дорогу в село.
Теперь, после долгой проволочки с вещами, Алин путь и впрямь как будто открывался. Тот багаж, что тормозил все дело, наконец-то стараниями отца Александра прибыл в Иркутск из Новосибирска. Все, по-видимому, устраивалось как нельзя лучше. Возник вопрос, взять ли вещи с вокзала домой к Лизе или, если Але судьба ехать через несколько дней в этот рискованный путь, так для легкости переправить их с ней на Тулун? Лиза советовала взять вещи домой. До Тулуна она дойдет, рассуждала она, благополучно, а дальше пойдут такие проселки, взгорья да обрывы, что и кожа с чемоданов слезет, и как тебе справиться с такими тяжестями? Не лучше ли разложить на четыре–пять посылок и переслать завтра — послезавтра? А чемодан я ему сохраню — переправлю к весне, как-нибудь обойдется.
Решили — Але ехать налегке, только со своими вещами. К ее приезду в село — посылки будут там.
После бурана морозы крепли, уже третий день не ниже тридцати градусов. Пять посылок получилось из одного большого чемодана, их надписали, перевязали, снова погрузили на саночки и отвезли в два почтовых отделения, чтобы не было никаких задержек и вопросов. Отправили посылки, и Лиза пришла в самое чудное настроение. Она устала от Алиных переживаний, и теперь дорога ее гостьи казалась самым естественным исходом, а непреклонное решение ехать — даже породило уважение к нему. Сначала Лизе даже нравилось повторять при Але слова Некрасова: «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано». Багаж долго не приходил, шло все напротив, молодая душа рвалась и металась. Ну, конечно, так оно и есть: «Совершить ничего не дано». Так и случилось, что непримиримая с Алиным путем Лиза совсем переменила мысли о ее затее. И даже когда вечером, после отправки посылок, у Алечки заболело горло и ее залихорадило, а утром врач, лечивший Ивана Александровича, определил у нее фолликулярную ангину, Лиза от души стала ее лечить и прописанными, и своими средствами — заставляла полоскать горло горячим шалфеем, проглотить пол чайной ложки денатурату… а к вечеру — рюмку водки с солью и перцем. Домашние средства казались более действенными, чем аптечные, и Аля пила все, что ей давала Лиза. Забинтованная с ушами она лежала в жару, под подушкой у нее покоилась дядина открытка, а Лиза то и дело совала ей в рот то меду, то спирту, и ангина не казалась ни той, ни другой серьезным препятствием пути. Болезнь, очевидно, пришла как еще одно небольшое испытание терпения, только и всего.
Через два дня температура у Али упала, горло очистилось, глотать стало легко и появился аппетит. Кончилась вторая неделя ноября. Она решила, не откладывая, сразу идти на вокзал за билетами в Тулун. Лизин знакомый принес обещанные сто рублей, значит, с Алиными деньгами — сто пятьдесят. С головой закутанная в Лизин пуховый платок, вся в мыслях о дороге, о встрече, Аля повернула высоко приделанное кольцо в калитке забора, окаймлявшего домик, но при выходе на улицу столкнулась с человеком, шедшем ей навстречу и преградившим путь. Где она видела это лицо? Он стоял перед ней, ни на шаг не пропуская ее дальше.
— Вы будете гражданка Воинова? — и на ее утверждение заявил непреложным, официальным тоном: — Вам придется вернуться обратно. И со мной.
Она все еще не могла отрешиться от своей цели — вокзал, билет… и стояла перед ним как спросонья.
— Я не понимаю… как же так? — сбивчиво начала она. — Я же собиралась… крайне некогда! Мне надо поскорее…
— Ничего не поделать, гражданка Воинова. — Он по-прежнему стоял перед ней, не пуская ее дальше.
— Но как же так? — дрожал ее голос. — Зачем это вам? Пустите меня. Я же ни причем.
— Сейчас, сейчас мы все разъясним, и вы все поймете… — Слово «все» звучало подчеркнуто, и он начал слегка наступать на Алю, подталкивая ее обратно к калитке, как непослушного ребенка.
В сенях Лиза чуть не упала от неожиданности. Аля опустилась на стул в полном безмолвии. Больной только что проснулся и внимательно смотрел на незнакомца. Тот был в штатском только на улице. Сбросив с себя пальто, он оказался в защитного цвета военной гимнастерке, при кобуре. Среднего роста, розовощекий, какого-то детского типа, голова острижена гладко по катышек, а глаза небольшие, серые, как-то перебегают с места на место — «сгибают глаза» — говорят про такой взгляд. Все в комнате, и Лиза с Алей, и Иван Александрович — втроем сразу же ощутили, что разлучены, вернее, отделены друг от друга. Все молчали, ожидая, что скажет гость. Он положил на стол небольшой портфель, достал бумагу и вечную ручку.
— Потрудитесь прочитать, вот мой мандат! — и он подал Лизе бумагу.
— Ничего без очков не вижу, уважаемый товарищ. Разрешите взять с кухни очки.
— Пожалуйста, не стесняйтесь, гражданка Богданова. Вы у себя дома и, вообще… на полной свободе… А вот молодую особочку, гражданку Воинову, придется, согласно инструкции, попридержать дома и в движениях ограничить — таков порядок.
— Значит, вы будете Фомин Иван Фомич, следователь? — прочитав бумагу, спросила Лиза.
— Уж вы больно громко — «следователь»… Я человек маленький пока. Меня по мелким разборам назначают. А знаете, где маленькие, там и крупненькие могут выскочить? Не так ли? — и он, чуть-чуть усмехнувшись, посмотрел на Алю, сидевшую спокойно и даже подавленно; ее внезапно взорвало:
— Ни маленького, ни крупненького вы от меня не дождетесь. Дело мое — чистое. Если надо допросить, то допрашивайте как полагается, по закону.
— Какие такие допросы, гражданочка Воинова! Мы с вами в порядке разговора потолкуем, обсудим, я — человек, вы увидите, простой. Вот, скажу про себя. Жена у меня есть в Минусинске. А у вас, наверное, и мамаша и папаша…
— Только мать, — неохотно выронила Аля.
— Как так «только»? Мамаша — это все…
Аля молчала.
— Нет такой лавочки, где продаются мамочки! А вы куда собрались, гражданка Богданова?
Одетая и укутанная платком, Лиза шла к двери. На вопрос Фомина обернулась.
— Куда иду? На кудыкин двор… Сами же сказали, что я на свободе. Как вас понять?
Фомин заулыбался.
— Прошу прощения, я малость ошибся…
— То-то! — и Лиза в роли хозяйки совсем уже не стеснялась Фомина. — Спрашивает тоже, куда? Ведь вы к нам, поди, на несколько дней. Надо кое-что…
— Вы не беспокойтесь, гражданка Богданова. Мы на своих харчах, разве только чай…
— Знаем мы ваш харч. Все знаем превосходно… не в России, в Сибири живем. Тут — через пятерых шестой следователь. А покушать — всем надобно. Дома врасплох застали — пара омулей да картошка. Вы мне разрешите по хозяйству несколько слов гражданке Воиновой. Вот я как тебя, Алечка, теперь величаю! А вы, конечно, за нами можете в кухню…
— Гражданка Богданова, я вам ясно сказал, что вы в пределах вашей жилплощади ничем не связаны, вы живете с выходом куда угодно, а гражданку Воинову мы попридержим дома…
— Меня нечего попридерживать, — взрывчато говорила Аля. — Сама держусь, держалась и буду держаться. Я не вещь, чтобы меня держать, не вор, не преступник. — И она обернулась к Лизе, положившей ей на вздрагивающее плечо руку.
— Успокойся и не нервничай! — говорила Лиза. — Товарищ Фомин, мы сейчас! А вы располагайтесь. Раз в руках мандат — значит, все. Тут вам кушетка, ночлег. Сейчас подушку, одеяло принесу. Вы дней-то сколько пробудете? Два–три?
— А это, видите ли, зависит всецело как… от разговорчиков наших… полагаю, что…
— Алюня, пойдем на кухню. Мы на минутку. Я ее не задержу, не спрячу, мы по хозяйству…
И раньше, чем Фомин что-либо мог сказать, Лиза втолкнула Алю в сени и зашептала:
— Слушай-ка, слушай, ты с ним потише! Нельзя так, девочка! Ведь — закон. Мальчик, а при мандате. Надо подчиняться, власть…
— Чему? Для чего подчиняться? В толк не возьму. И что это происходит? Нельзя на улицу? А как же с билетом? С дорогой?
— Ждали долго, еще придется… Домашний арест, Аленька. Ладно, что так обошлось. Картошки сварим, соленькое всяк любит! — Во весь голос, даже слишком громко, выкрикнула Лиза. — Я вмиг слетаю! — И снова шепот Але в ухо: — Три передачи снесли ему на Ушаковку, да посылки эти, да две с с ним свиданки, а он уже у них на счету, видать, как сурьезный; думаешь, глаза не смотрели, уши не слыхали, ноги не ходили. — И снова во весь голос: — Я у тебя на маленькую возьму. Самовар вздуем. — И опять шепот: — Говори все правильно, что знаешь, не ври… Богу правду говори, и им тоже лжи не плети… Батюшки, дыра в авоське, дай-ка твою. Иди к нему, иди, а то вроде как шепчемся. Говоришь, пол-литра взять? Ладно… — Снова шепот: — Положение известно… опыт имею…
Она исчезла за дверью. Аля, подобно манекену, стояла перед Фоминым, а затем опустилась на стул. Иван Александрович наблюдал за всем и безостановочно кашлял от едкого папиросного дыма.
— Попрошу вас, товарищ Фомин, — Аля говорила теперь если не совсем дружелюбно, но не резко и не нервно, — курите в сенях или на кухне. Дядюшка у нас очень болен, и ему нельзя дышать табаком.
В знак согласия Фомин дружелюбно наклонил голову, притушил папиросу и разложил перед собой налинованный лист бумаги.
— С чего же начнем нашу дружбу? — с таким вступлением он окинул взглядом легкую фигурку девушки, что сидела перед ним с завязанной шейкой и слегка растрепанной прической. Аля вся переключилась на благоразумие, помня Лизины слова и входя в положение арестованного на дому.
— Наша дружба, — откликнулась она, — началась не сегодня. Вы меня недели две назад провожали с Ушаковки до самого дома. Не так ли? Я вас сразу узнала.
Он взглянул на нее:
— Память у вас, гражданка Воинова, удивительная!
— Немудрено, я еще молода, чтобы забывать даже случайные лица. Но, признаться, я о вас не вспоминала и встречи с вами не желала.
— Так, так! Бывают огорчения. Вы шли на вокзал, а я вас присек.
— Откуда вы узнали, куда я шла? — В ее голосе звучали удивление и горечь.
— Ну как не знать? Это азбука, первые буквы. Он вам вроде родителя, как я понимаю? Для него приехали и живете. Облегчить положение. А его уж никак… того самого… не облегчить… никак… — Он продолжал тоном, не лишенным лиризма. — Многие, гражданка Воинова, так стремятся… за своими… А как потом жить? Скажите честно. Например — вам. В селе… при нем… Ни вам, ни ему — ходу нет. Церковь там — закрыта. А у вас в городе — и служба, и мать, и учеба. Мать-то как вас пустила? Поди, знай тоскует?
Оба молчали. Фомин что-то писал. Сначала Аля хотела спросить, какое вам дело, но какой-то внутренний тормоз придавливал ее. Она смотрела вниз на кончик своей туфли и, казалось, онемела.
— Ваш дядюшка, — снова начал Фомин, — крупный политический деятель, антисоветский человек и опасный противник. Вам, конечно, известна его дружеская многолетняя связь с профессором истории… и с покровителем института, где он преподавал. Известны ли вам все обстоятельства, благодаря каким он попал сюда? Известно ли, или нет? Говорите правду…
— Не знаю ничего и никого — и почему его обвиняют. Лично я — не верю и не могу признать за ним такой вины. В институте я не была. У меня среднее образование. Ни в чем он не виноват, кроме своего сана.
— Молодости свойственно так говорить. Охотно хочу верить, что сами вы не были в его сварке. А не известно ли вам, что ему совсем недавно отменили высшую меру наказания?
— Значит, — перебила Аля, — признали его невиновным?
— Нет, не значит… Просто сжалились над больным, пожилым человеком, которому жить осталось считанное время…
— Сжалились? — Алины брови сурово сдвинулись. — Двадцать пять лет, тяжелый путь и дальнее село — это — сжалились?
— Перейдем-ка лучше к делу. — И, спросив ее документы, взял перо. Долго писал, а затем пригласил ее выслушать. В показании значилось, что она, Александра Федоровна Воинова, девятнадцати лет и восьми месяцев, уроженка Витебской губернии, тоже дочь служителя культа, ныне покойного, проживающая — следовал адрес — окончила в 1930 году после десятилетки Первую Ленинградскую фельдшерскую школу, работающая в настоящее время в аптеке номер… практикантом-фармацевтом, 8 октября 1931 года прибыла сначала в Новосибирск, в Западный распределитель, а затем, не найдя там своего родственника, служителя культа, приехала сюда, в Иркутск, в Восточный распределитель, дабы получить с ним свидание и передать ему его вещи и теплую одежду, шедшую сюда малой скоростью, багажом. Вещи ему переслали родной брат с бывшей женой подсудимого, с ним уже восемь лет находящейся в разводе. На этом пункте Фомин отложил бумагу, надеясь продолжить ее в порядке допросов.
— Ну, скажите, почему вы решились не только передать багаж, но и ехать за выселенцем? Потерять свое лицо, да и молодую жизнь? Кто вас толкнул на такое дело?
— Я? Никто меня не толкал. Добровольно.
— Хорошо. Запишем «добровольно». Если бы я был прежний кавалер, то сказал бы, что это делает честь вашему сердцу. Но сердце иной раз выберет недостойный объект для поклонения. Разве не так? Еще вопросик. Какие были ваши планы, что приехали сразу не сюда, а в Новосибирск? Насчет этого самого дядюшки?
— Какие планы? — нахмурилась Аля. — Нам сказали в Ленинграде, что он высылается в Западный распределитель. Я там его и ждала, ютилась кое-где и ходила по тюрьмам, но его не было. Я дала сюда телеграмму, вот этой самой гражданке Богдановой, она справилась, что он тут, и я приехала. Она его не знает, никогда не видела его.
— А кто вам эта гражданка Богданова?
— Крестница покойного отца.
— Почему она находится здесь?
— Со времени гражданской войны. Службу ее мужа — вот больной, что лежит перед вами, — банк, переправили сначала в Улан–Удэ, затем сюда. И остались тут.
— Понятно… Хорошая это дамочка! Но давайте с вами дальше, — уже официально по-допросному шел Фомин. — Как вы лично представляли свое положение после того, как перерешили ограничиться только передачей вещей, а согласились за ним следовать? Что побудило вас оставить ваше первое решение?
Аля не могла сдержать удивления.
— Что меня побудило? Просто жалость. Но и вы мне скажите тоже — как вы узнали, что я перерешила? Мы разговаривали один на один. Никого не было.
Он не мог сдержать улыбки.
— Азбука, гражданка Воинова, первые буквочки алфавита. Так, значит, вы его пожалели. Запишем и это: «в порядке жалости…».
Она слегка задумалась.
— Не знаю, как вам яснее представить… Сперва мы, родные его, думали, что его совсем сразу отпустят, оставят жить в Новосибирске. Я его возьму как больного на поруки. (Фомин усмехнулся.) Я верю и верила, что он невиновен, что его совсем отпустят. А когда увиделась с ним здесь, — голос ее дрогнул, — ну разве можно было не последовать за ним? У кого бы не задрожало сердце? Ведь это — тень человека, что-то такое… не выразить словами.
Он довольно резко прервал ее.
— Видать, вы юридически и политически неграмотны. Чудачка, право! Я извиняюсь, конечно, за выражение. Но… полмесяца ждать в Новосибирске, что отпустят вам на поруки такого типа?
Встал, внезапно подошел к Але и положил словно бы дружественную руку ей на плечо. Она тотчас же нырнула плечом вниз и вбок, скидывая с себя его ласку. Он тотчас же отошел.
— Поезжайте-ка домой, к мамаше. Лучше будет.
— А почему не в село? Разве после его приговора и выселения я не вольна поступать как хочу? Если бы даже, чего я не допускаю, он был в чем виноват, но я‑то не обвиняюсь, я на свободе?
Вы? Сейчас вы тоже поднадзорная. И будете таковой не только по приезде в село, но и всю жизнь. С поля нашего зрения вы не выйдете. А он — через небольшой срок — умрет. И вы вернетесь домой. Все равно, уверяю вас, вы останетесь поднадзорной. Время есть, возвращайтесь к себе, работайте, учитесь, служите родине — завоюйте доверие властей, и ваша первая оплошность будет аннулирована, с вас будет снят надзор и подозрение. Но пока вы спаяны с таким дядюшкой, с его существованием и политическим прошлым, с его деятельностью, в преступности которой я не сомневаюсь, вы под наблюдением.
— Но послушайте! — уже возмущенно, еле сдерживая себя, говорила Аля. — Неужели вы всех припаиваете к каким-то делам? И у вас нет сознания родства, дружественных чувств и, наконец, простого человеческого отношения к тяжелобольным?
Фомин помотал бритым катышком головы и, наклонясь над бумагой, неотрывно писал.
— Таких чувств, гражданка Воинова, их у нас нет и быть не может, пока существуют опасные элементы…
В сенях открылась дверь, и по Алиным ногам заструился холод.
— Куры мои милые! Пташечки пернатые! — причитала в прихожей Лиза. — Сейчас, сейчас, мои хорошенькие!
Как ни в чем не бывало, она вошла в комнату, не глядя на Фомина и на Алю, первым долгом к больному мужу:
— И тебя, папка, сегодня забыла, и кур не накормила. Яички бы с утра тебе сварить, да вот какие случаи! Ну? Как у вас дела? Беседу кончили? Закрывайте-ка лавочку, довольно, на сегодня хватит! Аля, собирай на стол! Ходить по квартире ей разрешается? Добро бы какие кулуары были! А то — одна комната и кухня. Тоже, нашли уголовную!
— Политическую? — мягко поправил Фомин.
— В политике наша Аля ни бум-бум. Заверяю вас.
— Вот и плохо…
— Ну вас, хватит меня ловить! Не поймаюсь. Садитесь, садитесь! Аленька, помогай, дружок! Тащи, что там есть вчерашнее, кусок пирога, омуля с подполья, грибков положи в салатник, хлеб нарежь! Сковороду на примус, картошку разогрей. Закуска есть! Пока закусим — свежая картошка сварится… Где шкалики, те, граненые, с мороза выпьем беленького, что я — даром ходила?
И Лиза не без грации, подбоченясь, запела:
Ставьте, ставьте самовар, золотые чашки,
Ко мне миленький придет в шелковой рубашке.
— Это меня приятно удивляет, — заулыбался Фомин, — когда нас не боятся граждане. Что мы, в самом деле, страшные какие? Такие же люди. А если что по закону, то как же без него? Такое положение.
— Закона хватит на сегодня! Садитесь! Кушать пора!
Как в волшебной сказке, несмотря на Лизины слова «ничего у нас нет, кроме омуля и картошки», все явилось на стол: и грибы, и кусок пирога, и огурцы, принесенные с базара, и омуль… и свежий хлеб. А уж когда поставила зеленые, грубого стекла шкалики и поллитровку столового вина, то настроение стало совсем праздничным.
— Хрусталь графа Гараха! — хвастала Лиза.
— Почем и где? — интересовался гость.
— Все там же, на базаре, у китайца. Подарок сына, когда был. По три рубля пятьдесят копеек штука.
— Ах, эфиопы! Вот — кого надо бы!
— Что вы хотите — граф Гарах!
— Да он и рядом с ним не стоял. Вот жулье!
— Этих самых китайцев, — хриповато подал голос из своего угла Иван Александрович, — вот таких жуликов, что стеклянных гарахов продают да всяким зельем больных лечат, вот их-то вам надо в первую очередь, а не тех, кто ни в чем не повинны!
— Хватит, Ваня, про виновность, власти сами разберутся, — прервала его Лиза. — Выпьем-ка лучше. За что будем пить? Ваше здоровье, Иван Фомич! Эх, в праздники не выпили! Аля хворала. За четырнадцатую годовщину! За мир! Будьте здоровы! Папка, пей с нами, я тебе сладкого чаю в Гараха налью.
* * *
Пять дней прошли как единые сутки. Аля смирилась, сидела взаперти, спала не раздеваясь, стесняло присутствие Фомина, а днем изредка подвергалась его кратким допросам, все в таком же роде, как и в первые часы. Похоже было на урок — пришел учитель, а ученица ему отвечает, и все происходит в самой мирной, домашней обстановке. Иван Александрович как-то пошутил даже: «Я тут у вас для контроля». Но он и не мог мешать, лежа в дальнем углу большой комнаты, глуховатый, да и «разговорчики», по выражению Фомина, велись тихо. В те докучливые минуты, когда им применялся официальный тон, вынималось вечное перо и папка Алиного дела и казалось, что тут пахнет обширным докладом, Аля морщилась, словно от полыни. Однако и отвечала ровно и спокойно. Все тут перевертывалось и было записано — и родные, и детство, и подруги, и техникум, и служба в аптеке, а главное — церковная жизнь с момента сближения Али с политическим родственником, служителем культа. Был затронут высочайший покровитель института, где он преподавал, но Аля там не училась и его не знала, хотя имя его, как шефа, известно было всем. Не о чем, казалось бы, и спрашивать больше, но все-таки находились какие-то невзъерошенные пункты по этим целинам. Фомин вел Алю к сознанию, что не только поездку, но даже и память о помилованном смертнике надо вычеркнуть начисто из жизни. Что-то странное и страшное происходило в ней при таких допросах, что-то испарялось живое и действенное из души, обрезалось ниточка надежды на встречу с батюшкой. Она как бы вся выдохлась для предстоящего ей последнего шага, в ней угасло огненное желание следовать за его путями и ему служить. Вся жажда освободиться от допросов, ехать за билетами и двинуться в село из Иркутска отошла в область прошлого. Настоящее — вот оно: гладко, нулевым обстриженный и чистенько выбритый молодой человек, с каким-то мигающим с места на место взглядом, всех в доме стеснивший, а особенно больного Ивана Александровича. То Фомин закуривал, забывая о просьбе не курить в комнате, а постоянно напоминать ему уже надоело, то он располагался на своей кушетке с блокнотом или газетой в руках, то насвистывал «Варяга», то, поставив ногу на табуретку, наводил суконкой глянец на сапог, но он был всюду, везде проникал, и от него никуда нельзя было спрятаться. Лиза прозвала его «Алин сожитель», это бесило девушку. В иные минуты она с отчаянием шептала Лизе: «Лучше бы я в тюрьму попала…» — «Что ты, что ты, потерпи, — был ответ. — Скоро кончится. Я уж знаю».
То он посылал за папиросами Лизу, то сам ходил за ними, оказывая доверие поднадзорной.
Фомин давно разобрался в Алином деле, понял, что ничего опасного в ней не кроется, но его поведение было уточнено и запланировано свыше, ему надлежало выдержать марку, довести до конца. Если надо было принести воды из колодца или просто выйти из сеней, Лиза, как по уговору, ходила вместе с Алей, и, хотя Фомин не сомневался, что Аля никуда не убежит, все же не давал разрешения на свободу действий. Часу в шестом обедали. Лиза творила чудеса кулинарии, превращая в ливер тощую требуху. Она пожертвовала «сожителю» двух омулей, предназначенных Але в дорогу, пекла гороховые оладьи и ежедневно приносила по пол-литра, тратя Алины путевые деньги, и «сожитель» выпивал из зеленого шкалика графа Гараха. Гарах выручал. Лиза и Аля выпивали тоже по четверти шкалика. Настроение у всех поднималось, а главное, посторонний человек на время становился простым гостем, в меру разговорчивым и даже сочувственным к больному.
— Что, бока отлежал, папаша? — в тоне сквозило участие. — Вставай, выпей-ка с нами!
В одну из таких минут Фомин рассказал, что у него в Минусинске жена и трехлетний сынишка, что сюда он назначен временно и по семье очень скучает. Аля желала одного — чтоб из села пока что не шли известия, этот человек, конечно, вскроет письмо. Когда вечером все ложились, Аля одна сидела у своего составного ложа из табуреток и скамей, так как ее местом владел «сожитель», и не раздевалась. Тот давал ей благие советы «не стесняться» — «мы люди семейные и честные, нельзя же шестую ночь как в вагоне…».
Несмотря на такие советы, Аля стеснялась и только в глухую ночь, слегка освободясь от застежек и обуви, ложилась, слушая безмятежный храп «сожителя» и надоедливый кашель Ивана Александровича.
Было очень рано. В сенях петух слетел с шестка и прочистил горло. Кто-то стукнул в дверь. Лиза с овчинкой на плечах юркнула в сени. Аля еще в дреме услышала фамилию Фомина. Ему передали телеграмму из Минусинска. Ее только что доставили в отдел. Временный адрес сотрудника у Богдановых — был известен.
Разбуженный Лизой Фомин сразу вскочил. Пока отворяли ставни, он выбежал на двор и там вскрыл телеграмму от жены. Несколько слов решило дело. У Вити — скарлатина, он в больнице — выезжай немедленно.
Фомин собрался так же внезапно, как и вошел сюда, не замедлив ни минутки. Поезд отходил днем, но ему надо было отчитаться и оформиться с уездом. В нем сразу проснулся отец. Дело какой-то девочки, забравшейся в Сибирь, мотивы которого ему было поручено выяснить, так же, как и личность этой девчонки — все это исчезло, стало, как и на самом деле, безопасно. Витя, с его синими глазками, с его словечками, с его пухлыми ручками — может умереть, а вдруг и умер, пока отец едет к нему! И Фомин чертыхался, налаживая ремень, что-то совал в карманы. Аля срочно спешила пришить ему к обшлагу пуговку, Лиза завертывала ему в дорогу два бублика и кусочек пирога, как бы не оголодался в дороге! Он протестовал, но принял, наконец, обе чистили на нем гимнастерку. Наконец, его шаги уже за комнатой, он в прошлом. Ставни настежь, куры кудахчут в сенях. Аля — на шее у Лизы, обе плачут, смеются, Иван Александрович присел на кровати, что-то говорит, чего не слышат обнявшиеся.
— Ты меня, Лиза, во всем выручила! Милая! Не забуду!
А Лиза уже вытерла глаза и смеется, и поет:
Ставьте, ставьте самовар, золотые чашки…
Они подсчитали оставшиеся после ухода Фомина Алины деньги. Шесть полулитровок, да кое-какая закуска к обеду, да пара омулей, взятых в долг у соседки — дорожная сумма спасовала чуть не наполовину. Решили спустить на базаре туфельки. На что, в самом деле, для села туфельки беж? Их взяли тотчас же, но за полцены. Напуганная Аля все боялась, что Фомин вернется. Лиза же только смеялась: «Он теперь на всех парах катит к сыну, о тебе и не вспомнит! Скажи, какая вредная личность!».
Ходя с Лизой по базару, Аля всей грудью втягивала в себя морозный воздух. «На воле, на воле!..» — шептала она. Но помимо всего в сердце ее стучались и вылезали новые, невеселые мысли. После Фомина в квартире пахло папиросами и дешевым бритвенным одеколоном. Лиза укутала Ивана Александровича пуховым платком и давай проветривать комнату! И через четверть часа обе принялись мыть полы.
— Чтобы духу твоего, сожитель, не было! — на этих словах Лиза отжимала тряпку. — А потом — печку стопим… И завтра с утра — марш за билетом! Ехать — так ехать!
За вечерним чаем Аля вся ушла в себя и завяла. Ни Лизины побайки, ни веселые шутки насчет недавнего гостя не могли поднять настроения. Оно упало. Куда делось ее рвение в дорогу? Та ли это Аля, преодолевавшая все отговорки, трудности, беседу с отцом Симеоном, запугивания Фомина — и все же остававшаяся при своем? Не та, не та! Апатично помешивала ложкой в стакане. Ей трудно было поднять глаза на окружающее. Теперь, когда путь открыт, когда никто ее не отговаривал, как прежде, когда все идет в ее пользу, такая тупость владеет ей. Вещи сложены, едет она налегке, и своим отъездом облегчает людей, которых так или иначе пришлось стеснить… и внезапно сковала ее непонятная усталость, в ее духе произошла какая-то перемена. Не хотелось не только ехать — встать со стула было трудно. Как она несколько дней тому назад ждала его вещей! Как радостно развозила с Лизой посылки. Как стремилась в село. Все, все угасло в ее горевшем духе. Она еле отвечала на вопросы. Ссылалась на головную боль, проглотила таблетку пирамидона. Наконец настала ночь. Ставни давно закрыты; если утром она достанет билет на Тулун, то вечером выедет. Но как только Аля закрыла глаза, так и начала думать о матери. Как перегородкой мама заслонилась от нее заботами и хлопотами о нем, о дяде Павле. Только раз, получив от матери горькое упречное письмо, Аля обернулась к ней в мыслях, но каких? Возбужденных, взволнованных, негодующих… Их разделила стена Алиного неукоснительного желания ехать в село, муками и скорбями такого решения, всеми событиями здешней жизни, в далеком краевом городе. В тишине и темноте ночи, когда бесшумно летящие в вечность минуты прерывались кашлем больного и ровным похрапыванием Лизы, — перед Алей возник до полной почти реальности облик матери. В тонком сне — они вместе стояли в соборе, куда недавно приходила Аля, перед образом Святителя; мать, прямая, худощавая, как бы вросшая в стену, вровень с иконой, Аля держала в руке один из аметистов с креста отца Павла и услышала приказ матери: «Отдай Святителю камень…», Аля медлила, но мать пришла ей на помощь. Отделившись от стены, она сняла Евангелие и Покров с руки Святителя, обнаружилась живая и властная его длань. В просительном движении ладонью кверху эта рука протянулась навстречу Алиному зажатому с камнем кулаку. И Аля разжала пальцы…
— Возьми его, отче Николае, сказала она ему. — Мне жалко, но ты просишь… возьми его… — Аметист блеснул райским лучом на его ладони, рука, принявшая камень, сжалась, и снова перед Алей образ Святителя, рука под покровом, на покрове — Евангелие. Аля проснулась. Утро. Вчерашняя тяжесть исчезла. В груди — легко. Дорога не томит. Как блаженно, свободно и легко дышать, она вся — в чем-то прекрасном, вне своей воли и бытия. Но она еще не успела одеться и выйти на улицу, как сияние души и легкость сменились тревогой и слезами. Лиза вскрыла телеграмму — она была от Нины Васильевны. «Мама больна, денег нет, выезжай домой немедленно».
Бывают в жизни приказы, которых нельзя ослушаться. Может быть, некоторые идут напролом, становятся героями, но Аля сразу схоронила мечту о дороге к своему батюшке. Не стало даже времени углубляться во все происшедшее. Поезд отходил в шесть вечера. Естественно, что в душе дочери не могло быть радости, посетившей ее утром. Но и камень не лежал больше на груди, его место заняла тревога за мать, во всей силе проснувшаяся и повернувшая мысли обратно домой: «Выезжай немедленно, мама больна». Слова «денег нет» не могли бы удержать Алю, хоть она собралась ехать в обрез. Но мама? Чем больна? Что с ней? «Отдай Святителю камень!» — так она сказала ей ночью, во сне… Лишь бы ты была жива и здорова, мама!
Надо было спешить. Билет достали сразу, в то же утро, Аля взяла конверт и бумагу. Она кляксила письмо слезами. Но пусть эти кляксы и помарки, и разводы — он поймет, должен все понять! Ответ от него она получит только в Ленинграде. Она просила прощения у него за необдуманный порыв. Все шло наперекор ее мечте и обещанию последовать за ним. Ей кажется, что все небесные силы восстали против ее замысла. Мама заболела, и она должна ехать обратно. «Вот, что я поняла, — быстро строчила Аля, — и чем должна с тобой поделиться. Надо жизнью, многими трудами и потом, слезами и терпением заработать разрешение и благословение послужить таким как ты. Я дерзнула — и осеклась. Обнадеживала — и обманула тебя. Прости, благослови, не забудь, молись!». Забыв о цензуре, вся в слезах, оканчивала она письмо. Но слезы не отяжеляли, орошая письмо и конверт, на ее груди не было камня.
Все присели на минутку, провожая Алю. Даже Иван Александрович спустил ноги. Когда же Лиза с Алей двинулись к выходу, он привстал, держась за стул, влез ногами в галоши, разрезанные на подъеме, и со словами: «Ну-ка провожу Алечку до двери» — пошел по стенке, шаркая рукой по обоям. Жалостная дрожь овладела Алечкой. Последний раз! Никогда больше! Может быть, еще с Лизой, но с ним — никогда! Этого больного, доброго ворчуна, что отдал дяде Павлу без запинки сыновний тулуп — она не увидит больше. Сколько пережито у них! Она обернулась на светлую, просторную, бедно обставленную, но чисто убранную комнату. Здесь вот недавно, на узкой кушетке, ночевал «сожитель», тут у окна она глядела на вьюгу и думала о задержавшихся вещах. Все! Ее чемоданчик и портплед нагружены на саночки. До вокзала — с Лизой, пешком — недалеко. Через два часа поезд отойдет от города… Мороз небольшой, всего двадцать пять градусов. В Алиной груди какая-то, ей самой непонятная пустота ли, легкость ли? Неужели все, все кончено, и она уезжает… не туда, где гостили ее мечты… куда тщетно порывалось горевшее сердце, а домой? Вот скрылся за дверью Иван Александрович: «В добрый час! Помоги, Боже!» — слышит Аля его последние слова и, обернувшись, кричит ему: «Спасибо за все!» Лиза отгоняет кур обратно: «Куда на мороз! Пропасти на вас нет! Околеть что ли хотите?». Щелкнула седая задвижка, открылась высокая калитка. Поскрипывают полозки саней, покатились саночки за Лизой и Алей, и уж далеко остался позади дощатый забор, за которым Аля столкнулась так недавно со своим «сожителем». Быстро, быстрее полет саночек по алмазно искрящейся дороге, все прожитое становится в прошлом. Скоро и шаткие мостки привокзальных улиц, и Ангара, и вокзал будут сном, отойдут в область воспоминания. Молчит Аля, катятся саночки, не удержать Лизе своего языка! Опять вспомнился Некрасов.
— Что говорила, Алечка? Припомни! В жизни все так: суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано!
Молчит Аля, но Лиза, чтобы позолотить пилюлю, снова таинственно нашептывает Але, будто при «сожителе»:
— Тут сбоку, в корзиночке, я тебе двух омульков положила… вяленых. Яичек пару… Пирожки вчерашние… доедешь… сыру кусочек, а на станциях лучше не выходи… Вдруг — поезд… останешься…
Молчит и на это Аля.
* * *
Поздно вечером поезд подходил к Тулуну. На вагонных окошках густо расцвели узорчатые, диковинные листья и цветы, крытые седым бисером. Увидеть станцию со всею окрестностью было нельзя. Аля не ложилась, ждала Тулуна. Тут поворотный пункт в сторону Братска, и от него сухопутный стокилометровый переезд по горам и кряжам до Усть–Вихорева, того села, где находился и в эти дни ждал ее приезда отец Павел.
Безумная мысль охватила Алю, когда вагоны замедлили ход перед Тулуном и, скрипя обмороженными цепями и колесами, подходили к станции. Остановка — пять минут, довольно для того, чтобы сбросить вещи и, оставшись с двадцатью пятью рублями в кармане, как-то добраться до цели. Что это была за мысль? Что за порыв? Последняя попытка души не уступить жизни своей заветной, несбыточной мечты. Но такая мысль, хоть и очевидная, сознательная и яркая, не нашла для себя точки опоры. Ее откинуло и разбило вдребезги другое, более властное и самой жизнью утвержденное сознание: «Мама, что с ней? Выздоровеет ли?».
Полная луна освещала станцию, когда Аля, накинув платок и пальто, вышла на площадку вагона. Небольшой станционный дом, типичный сибирский забор отходит от него на две стороны. Два оконца светятся, третье затемнено. Нагие топольки не заслоняют оконного света, тени от их ветвей узорчато дрожат на стене вокзалика — ветер… Все еще стоит поезд. Жадно всматриваются глаза девушки в неясную снежную даль. Увидеть хочется, пронзить почти две сотни километров, постигнуть невозможное, что там? Через неделю только узнает он, что она не приедет к нему. Прав Некрасов: «суждены нам благие порывы…» Права и Лиза, напомнившая ей эти слова. Права, потому что…
Длительный заунывный свисток прервал ее думу.
— Потому… права… что я… отъезжаю от Тулуна…
Вагоны двинулись, заскрипели… И Але вспомнилась та сибирячка с Ушаковки, что после первого свидания с отцом Павлом сказала ей около домзака внушительно и строго:
— Как бы тебе мимо него не проехать!
Она, эта простая женщина, была права. Больно сжалось сердце. Какими-то неисповедимыми путями Аля проезжала мимо.
Часть III. Усть-Вихорево
1
Теплая безветренная осень 1931 года продержала ангарскую навигацию до середины октября. Дни стояли солнечные, тихие, перед полуднем начинало парить. Еще с двадцатых чисел сентября утренники напоминали о скором приходе морозов, но их туманная завеса расплывалась, всходило оранжево-розовое солнце, голубело небо, на открытых местах припекало, и все вокруг сияло летом. Все же чуть не с Алиного приезда в Иркутск капитаны объявили на пристани, что на днях будет последний рейс Иркутск — Братск. Прошла неделя, другая, а буксиры по-прежнему отходили от пристани, таща за собой баржи с углем, зерном, омулевыми бочонками, прибывавшими от Верхней Тунгуски. Наконец был оповещен предпоследний рейс с возвратом парохода в Иркутск, с ним-то и отправляли этап переселенцев на Братск, для дальнейшего следования в село Усть-Вихорево. Двухсуточный водный путь в шестьсот с лишком километров не страшил людей. «Наконец!» — вздыхали и радовались в домзаке. Сто пятьдесят километров от Братска до Вихорево по рассказам обывателей представлялись, правда, последним испытанием или даже страшным сном, но даже и относительная свобода бодрила, радовала. Слишком тяжело для многих тянулись тюремные отсидки, кому — в одиночке, кому в общей камере, но все равно в духоте, пыли, в разлуке с природой, с небом и его светилами, в замкнутом круге от живых впечатлений, вне друзей, дома, близких. И теперь, когда многие были вдоволь измучены и потрясены всем пережитым, срочными вызовами из камер, ночными допросами, когда человек по приказу забирал свои вещи и выходил за дверь, не зная, куда и на что он идет, теперь — далекое село за Братском, за ангарскими порогами, окруженное тайгой и скалами, казалось заветным местом, желанным очагом покоя — как бы отчизной неизвестной. Почти все, идущие в путь с отцом Павлом, ссылались на не долгие сроки — три года, пять лет. И его двадцатипятилетний приговор принимался его попутчиками не с ужасом и не с презрением и даже не с подозрением на какой-либо крупный криминал. Наоборот, не то с сочувствием, не то с детски-простодушным любопытством смотрели на бледного, ссутулившегося человека с палочкой в руке, как на старшего товарища, идущего с ними вдаль, на какое-то новое существование. Но тут-то люди и терялись в догадках — за что и так надолго назначен он? Свои-то проступки и дела знал каждый. Многие надеялись на амнистию, на сокращение срока. Но что мог натворить этот? С его личностью не увязывался никакой порок. За что же эти устрашающие двадцать пять лет? Тот же бухгалтер с одышкой, назначенный на пять лет в Усть-Уду, всецело принимал свои пять, не понимая двадцати пяти лет отца Павла. Не выдержав любопытства, вступил с ним в разговор о сроке. Батюшка только посмотрел на него, улыбался и молчал, хотя в молчании его не было и тени обиды. Это понял и бухгалтер, обвинив себя за бестактный вопрос. Но отец Павел сейчас же снял с него само укоренив и мысли о каком-то своем крупном поступке — он, насколько его собеседник мог понять, объяснил, что целый ряд людей, так называемых «служителей культа», попал под надзор текущего исторического момента — только и всего… Ответить на вопрос, как веруешь, как поступаешь? — мы должны. А во всем остальном — воля Божия! Дают срок — двадцать пять, но Господь силен освободить хоть начисто, как Ему угодно.
Бухгалтер с живым интересом смотрел на отца Павла.
— Так вы, отец Павел, надеетесь все же на амнистию?
Светлый взор был ему ответом.
— Да, я твердо надеюсь на скорое разрешение моего дела!
«Тогда, конечно, — думал бухгалтер, отойдя от отца Павла, — если его амнистируют, то… Но, однако, если он все же виновен или в чем замешан? Какое самомнение!».
Лизин тулуп (рыжая овчинка) подоспел вовремя, его принесли с передачей накануне выхода из тюрьмы. Кроме тулупа, туда были положены валенки, рукавицы, шарф, все необходимое для зимы.
За последние дни в домзаке с отцом Павлом познакомился молодой, лет двадцати с лишним, человек, тоже идущий с ним на поселение — Федор Укоров. Он почувствовал к батюшке необоримую симпатию. «Пришвартовался он к тебе», — дружески говорили конвоиры, осознавая поселенцев уже свободными людьми. Что, казалось бы, родилось общего у юноши, хоть и заключенного, но полного жизненных сил и эмоций, с почти стариком, несмотря на свои пятьдесят пять лет, больным, да еще служителем культа, «попом», как его здесь называли?
Но симпатия есть часто нечто необъяснимое. Не всякого она поражает целиком и внезапно, и не со всяким связывается. Укоров досиживал свои дни на другом посту, но у поселенцев уже были льготы, они свободнее виделись друг с другом и чаще и дольше могли общаться между собой.
Накануне всем десяти, идущим на Вихорево, выдали дорожный паек — по килограмму сухарей из пшеничной муки крупного размола, с виду они походили на грецкие губки, и по двести граммов сушки, то есть сушеной колючей рыбы. О голодном пути люди не горевали, почти всем накануне принесли передачи, почти у всех в Иркутске были знакомые или родные, у всех оказался плиточный чай, огурцы, масло, сырки, сахар и яйца. Отец Павел был хорошо снабжен в дорогу, но как нести? Ни поднять, ни идти он не мог и шутил:
— Меня выведут, сяду на пороге, как хотите, к стенке или волоком?
Но его уверяли, что больных повезут, не бросят. Вводил в затруднение тулуп. У отца Павла была при себе дорожная старая ряска, взятая им наспех из дома, в ней-то он и шел в домзак с вокзала, прибыв в Иркутск. Путаться в ней ослабшими ногами, являя для всех странный вид? Тяжело, нехорошо, да и холодно… В тулупе, как нагреет солнце, будет жарко. Родилось беспокойство, как нести овчинку на своих плечах. Но все такие недоразумения рассеялись с приходом Федора Укорова. В нем, таком молодом, было нечто, разбивающее все препятствия. «Тулуп сперва надо нагрузить на свои плечи! До пристани дадут телегу — доедешь. Там будем в шесть часов утра, не жарко! Буксир отойдет в семь часов тридцать минут, а не то в восемь, значит, по холодку. А на пароходе он еще и как пригодится — он и подушка, он и одеяло. В момент свернем и развернем. Не близок конец — Братск — еще какая случится погода!». И Федор, помогая отцу Павлу, сложил его вещи, распределяя весь поход по частям: большой мешок он возьмет на плечи, остальное — в руки. Поклажа, хвастался он, небольшая у меня: вот этот мешок и я сам!
Но отец Павел все еще недоумевал — как одолеть сто пятнадцать километров до села? Как дойдут?
— А там, — ободрял его Федор, — с Братска нам дадут тележки, так называемые гробики. Две–три их дадут и какую ни на есть лошаденку. То верхом поедем, то ползком, по обвалам. Я — раз сказал, что помогу, кончено. А вот колючую сушенку, ершей и окуньков, на что они сдались? Все у нас есть. Только язык наколется. Тут один паренек есть, ему лучше отдадим, нуждается, бледный такой, за убийство сидит… Давно уж по лагерям. Здесь он на передачах, высшую меру отменили.
Как было отцу Павлу не знать «бледного». Он тоже за месяц в Иркутске был ему помощником и доброжелателем… Его держали здесь до вторичного концлагеря. При прощании с батюшкой бледный плакал.
— Ты за меня, поп, молись! — бегло роняя слезы, говорил он. — Как завтра пойдете, из окошка погляжу на вас. Вместе ведь шли сюда, как приехали, помнишь? Твоя молитва — сила. Если Бог есть — может и смилуется? Проси за меня… за такого-то… Имя знаешь? Василий я…
– А ты сам попробуй, — через силу шептал отец Павел, — пробуй сам… Разбойника на кресте… разбойника… — Слезы не давали говорить. Их прощание прервал Федор.
— Телегу точно дадут! — радостно сообщил он. — Я им велел сенца побольше подложить, а они как на меня гавкнут: «Кто ты есть и кому указываешь, сопляк? Дохлое мясо на телеге свезем, да еще соломки побольше ложи, а тебе, молодому, стыд, с кем связался!» А мне, — заключил Укоров, — наплевать! Свезут на буксир, и дело с концом. Лишь бы доставили!
— Напрасно вмешиваетесь! — качал головой батюшка. — Я вам бесконечно благодарен за ваши услуги и заботы обо мне, но не надо навлекать на себя. Вашу фамилию я знаю, запомнил — Укоров… А вот по имени?
— Федор Укоров. Их, Федоров, много, так я — который Стратилат…
Улыбка чуть тронула бледные губы.
— Вот как, вы и Стратилата знаете? Каков!
— Собственно говоря, я про него ничего не знаю, — сразу же объявил Укоров. — Ни отца, ни матери не помню. А про Стратилата мне упоминала бабушка одна, родственница. Она меня и окрещала, и в приют ко мне ходила, при царизме были такие приюты, вот как теперь детдома, — искренне осведомлял он отца Павла. — И как я помню, она мне и внушила, что ты не иной какой Федор, а Стратилат.
— Вот и прекрасно! Так и вам, Федор, надлежит на роду быть воином. Он был мученик, а при жизни — воин.
— Мне-то, — смеялся Укоров, — какой я воин? Первое — я вор. Концлагерь отбыл, ну а по другим причинам назначили меня сюда, политику припаяли, сболтнул лишнее… И в село… С семнадцати лет так пошло. А сейчас уж двадцать второй год. Три годика работай в селе! Небось, от скуки не помру! Тогда я точно был виноват, а сейчас? — Он охотно рассказал батюшке о прошлом. Отца не помнит, родные были по матери, она вскоре умерла, и если бы не бабушка, ходившая в приют и в школу, он был бы одинок. Сбился с честного поведения еще мальчиком. Отсидел в исправдоме год, отбыл концлагерь, а там, среди работы и новых товарищей, долетели до него живые слова о Вечной Истине — Боге и Новом Пути. С тех пор в поисках правды, он бывал резок, выступал спорщиком, все остальное было по-честному, но привело его сюда что — а это были духовные книги, знакомство с верующими, сектантами. Правды Федор искал жадно, и отцу Павлу не составило труда понять юношу и откликнуться на его нужды, он весь был как на ладони, сразу принимал совет или объснение, и что ни день привязывался к нему как родной.
2
В путь выступили после Покрова, рано утром. День обещал быть ясным. Поселенцы пришли на пристань почти одновременно с телегой — транспортом для больного отца Павла и конвойных, сидевших на жалком ворошке сена. Прогрохотав по каменной набережной, телега остановилась у пристани, основательно помяв седокам бока и поясницу. Кое-какие вещи переселенцев, чемоданчик и мешок отца Павла, сразу сгрузили с нее, и они легли рядом с горой свернутого каната. Старого типа торгово-пассажирский пароход-буксир на колесиках, с наивной надписью «Тигренок» на борту, чуть покачивала прибрежная волна. Пахло дегтем, нефтью, чуть-чуть пробивался запах печеного хлеба и ржавых сельдяных бочонков. Утро разъяснивалось, на горизонте мало-помалу выплывал ободок солнечного кокошника. День просыпался, очертания города рождались из тумана, как из воздушно-сказочного покрова, он постепенно таял, исчезал. Выплывали здания, стены, колокольни собора. На реке пенились и седели гребешки неспокойных осенних волн. Чуть подрагивали под ногами узкие сходни, оснеженные утренником. Десять человек взошли по скрипучему мостику на пароход. Все разместились на кормовой части, никому не хотелось спускаться вниз, в четырехместные, прокопченные дымом каюты.
До отбытия буксира оставалось еще полчаса, матросы проверяли канат, тянувший баржу, накрепили плотнее брезент на мешках с каменным углем. На пристань тем временем прибыли провожающие и небольшой кучкой столпились у мостика… Отец Павел вглядывался в них, и предчувствие почти невыносимой для сердца дали овладело им. Куда его везут? Зачем? Что там делать? Иркутск, Ленинград — большая суша, ее можно преодолеть рельсам, щемяще проносились мысли, преодолевая одна другую, а сейчас, кроме рельс, его начисто, навсегда, разделит со всем, что дорого, шестьсот километров речного пути и сто пятнадцать — страшных обрывистых скал — до самого Вихорева. И простор ангарских волн с перебегающими по ним гребешками проник в его сознание образом вечности.
Прокатился первый гудок. На буксире все оживились, привстали с мест, кто-то навзрыд плакал на пристани, а «Тигренок», все еще прикованный к берегу, слегка покачивался на темно-перламутровой воде. Момент — и еще один пассажир грузно перекинулся на палубу и чуть не упал, но удержался на ногах, прижимая к груди большой бумажный картуз с печенными пирогами. Он был в самом добром настроении, сильно навеселе, и сразу же спросил у капитана, когда прибудет в Макарьевское. Капитан, щуря бурятские глаза, смотрел на него и улыбался.
— Тебе лучше бы, товарищ, в каюту, места есть… До твоей остановки и проспишь. Десять часов хватит, разбудим!
— Товарищ капитан, — приставал пьяный, — позволь спросить, прямым путем пойдем по реке или косым?
В публике хохотали. Пьяный перед отбытием буксира, какое приятное развлечение! Но капитан даже от пьяного не допустил панибратства или насмешки над своей Ангарой и, полный достоинства, сейчас же встал на защиту родной реки.
— Не мели ерунды! Плесов наших точно не знаешь? Какой же ты сибиряк?! Видел змею, как вьется? Прямой путь! Иди вниз спать. Тошно слушать!
Буксир вторично загудел, выпуская из трубы дымное облако. Весь народ приник к бортам. Укоров подошел к отцу Павлу, словно угадав его состояние. Капитан встал, как замер, у мостика. Тем временем пьяный человек неловко перекинулся всем корпусом к Укорову и к отцу Павлу, шатаясь на неверных ногах, подошел к ним и вынул кусок пирога из бумажного картузика.
— Прими, сделай божескую милость! — совал он его чуть ли не в самый рот отцу Павлу. — Окажи мне такое почтение, не забижай меня, моего хлеба-соли, еще тепленькие пироги, из печки — на, закуси!
Пришлось взять кусок под неустанные просьбы. Принимая хлеб-соль, спросил дающего об имени. «Анисим!» И так был поражен отец Павел совпадением имен, так задумался он… что третий гудок, толчок, скрип снимаемых сходней, приказ «отдать концы!», влажный шлеп каната — все прозвучало для него как бы издали, как во сне… Вот капитан с мостика в трубку, глухо, как в противогазе, посылает вниз «тихий ход!». Вот колесный буксир отделился от пристани и вступил в свое шестисоткилометровое плавание, а отец Павел, глубоко погруженный в свои мысли, пропустив минуту отчала, только тогда проснулся от никому неведомых снов, когда «Тигренок» уже вошел в предначальный, иркутский широкий плес, оставляя за собой стены города, колокольню собора, окраины, строение, вокзал, ленточку товарного состава на путях… все это меняло цвета, блекло, уходило назад… Иркутские берега туманились и заволакивались серовато-розоватой пленкой; вскоре, медленно тая в лучах еще невысокого солнца, проплыли очертания суровых стен Иннокентьева монастыря.
Все поселенцы и конвоиры были на корме, никому не хотелось, несмотря на холодок утренника, спускаться вниз, в каюты. Отец Павел замер в своих думах. Укоров подошел было к нему и удалился, видя, что мысли его спутника улетели далеко, а кусок пирога, завернутый в платок, лежит на скамье, рядом с ним…
Вот какая картина возникла, ожив до реальности, перед глазами поселенца-священника. Большая светлая келья монахини Анисьи, блаженной старицы Новодевичьего монастыря. Накрыт стол, праздничная трапеза, а матушка Анисья со своей молодой келейницей сама услуживает гостям. В числе гостей и он, отец Павел, две монахини, ктитор из Александре-Невской Лавры, два соборных протоиерея. У каждого гостя по тарелке, по прибору, но отца Павла ловко обходит монахиня Анисья! Ни тарелки, ни вилки с ножом нет у него, а кусок свежевыпеченного капустного пирога она кладет перед ним прямо на скатерть, как ребенка гладит его по голове и приговаривает: «Ешь, ешь пирог, батюшка ты мой, не стесняйся! Сегодня — сыт, а завтра рад будешь кусочку, как поедешь по широкой реке… Руками управляйся, ешь, привыкай!».
Гости — кто смутился, кто засмеялся, — отец Павел за послушание ел пирог руками, и тогда, в те мирные счастливые годы, не размышлял ни о чем. Знал одно — чудит Анисья. А она блаженная, что ей до правил, до норм поведения обычных людей! Когда после пирогов пили чай, взяла книгу и подала Лаврскому ктитору: «Читай мне, а я послушаю, как чтешь!». Ктитор читал, она его останавливала, поправляла, и все так метко своим рыбинским наречием, с таким живым юмором, что случай с пирогом затушевался, и никто о нем тогда не вспомнил и даже не обратил должного внимания. А теперь, несмотря на то, что там, в далеком Ленинграде, да и в иркутском распреде его уже звали «психически потрясенным», неполноценным, он, этот самый «неполноценный», снова и снова вникал и углублялся в непостижимое, в проникновение сути вещей, в загадочный и близкий сердцу мир откровения и предвидения… Как могла разуметь о широкой реке блаженная монахиня Анисья! Он сейчас едет по широкому плесу, рядом с ним кусок пирога, поданный ему Анисимом… Совпадение имен, тайна… Размышляя, вникая и благоговея, он в эту минуту забыл себя, свои скорби, далекий путь… Все земное стало ничем. Через подаяние он перестал быть пленником, рабом. Журчало колесо парохода, рассекая гребни волны…
«Непостижимы пути Твои, Боже! — и он широко перекрестился, глядя вдаль. — Стези Твои в водах многих…».
Тихо подошел и сел рядом с ним Укоров. Он все время искал случая поговорить о своем, но до сих пор не удавалось его заветное желание… Кипело в груди, наплывала поселенческая скука… Он принял поданную ему часть пирога и молча стал есть.
— Скучаете, как я вижу? — ласково спросил его отец Павел, угадывая состояние молодого. — Ну ничего, мы скуку в селе прогоним… Работа вас ждет… не то что нас, стариков.
Голос Федора звучал ворчливо и сурово, не в лад его приязни к отцу Павлу.
— Еще бы не скучать! Чуть жить начал после лагеря, и марш опять. Лучше бы порешили меня сразу. Я уже говорил — как и за что! Сам не разберу. Правды искал, а мне политику приплели… А я таких людей, как вы, давно ищу… Хочу с вами по душе… по искренности, обо всем, чтоб ничего не скрыть.
— Только всю правду — не лгать! — предупредил его отец Павел. — Иначе и слушать не стану…
— Всю правду до нитки! — говорил Федор, и в его голосе звучала искренность до слез. — Только вы «ты» мне говорите. Я не привык. Буду вам — как сын… Отца-то не знаю… Идет?
Так, как произошло с Федором, бывает с людьми, особенно молодыми, когда они, завертевшись до одури в клубке запутавшей их жизни, начинают искать выхода из такого клубка и жаждут донага открыть всего себя другому человеку, взрыть душу от самой глубины и перепахать. И такой человек встретился ему в тюрьме, истощенный, больной, в своем поношенном, но священническом облачении, смотревший на всех каким-то особым, светлым взором, а Федор узнал, что он идет с ним одним этапом, в то же село. Юноша ночь пробредил о нем: «Пусть он меня поймет! — И тут же своевольно добавлял: — Не поймет, не станет слушать — не надо!». «Всю правду!» — вот что прозвучало ответом на его сомнения, сладостная боль покаяния и грядущая за ним отрада — наполнили душу.
3
Пароход шел неспешным ходом, выкидывая белые дымки, чуть покачиваясь на широкой волне, таща за собой плотно нагруженную баржу. Люди чувствовали себя на буксире свободно, конвойные уже не стесняли. Они были теперь «свой брат», их дело сводилось к тому, чтобы сдать поселенцев по счету в Братск, или, как его по старинке называли, Братский острог, а самим вернуться с последним рейсом в Иркутск.
День распогодился, все были на корме. Скалистые берега Ангары опрокинутыми вершинами тянулись в реке то мшистые, то нагие, то местами одетые хвойными побегами, то покрытые молодыми порослями тайги. «Видовое кино!» — выразился кто-то из поселенцев. Одинокий кедр, вросший чуть не в самую реку, ронял в воду свои шишки, чайки легкокрылой семьей, отлетев от волны, садились на скалу, орел, взмахивая крыльями, высоко парил в суровом небе. Глубоко вздохнул отец Павел, внимая окружающим звукам, впивая в себя величавые картины сибирской осени — и никому не слышно шептал: «Здесь покой мой, здесь вселюся навеки». Только что пройденный им жизненный путь переставал быть реальностью. Ангарские воды влекли его душу вперед и вперед в неведомую даль, не имевшую еще ясных очертаний. С ним происходила та перемена, какую нетрудно следить опытному врачу, наблюдающему за трудным больным в моменты сдвига к лучшему самочувствию. Все, что влекло его в тюрьме к распаду, к одеревенению, к торжеству смерти над истоками жизни, исчезло, ушло из него, как уходит тяжелая болезнь; он просыпался, сидя на корме, в своем овчинном широком тулупе, в сознании вспыхивали забытые святые слова, его глазам виделись новые картины, и то, чему еще нужно было прозябнуть в нем, прозябало, давая ростки. Он сам не мог наблюдать за собой, как нельзя человеку правильно сосчитать и оценить пульс у самого себя, но уже тянулся к его личности юноша Укоров, ища помощи и внимания, но уже плакал на его груди в Иркутске бледный арестант, прося молиться… и психически потрясенный, неполноценный, как его называли, тюремщик-священник оживал здесь на буксирном пароходе, впитывая в свою больную потрясенную грудь все, что только может дать человеку целебная сила матери-природы, а это все заключалось в могучих словах: «вода — земля — небо».
Суровые тени вечера сгущались. «Тигренок» шел извилистым плесом, кое-где обходя некрупные пороги. На пароходе зажглись огни. В нижнем помещении буксира народ уже размещался по койкам. Укоров принес чайник кипятку, заварили плиточный чай. Они с отцом Павлом подкрепили свои силы кое-чем из дорожного запаса… и уже собирались остаться на ночь в каюте, как вдруг отец Павел заявил о желании снова наверх, пусть на корме свежо, а ему хочется к небу, к звездам, к пенящейся волне и еще не то видимым, не то угадываемым берегам лесистого Макарьевского плеса. И они снова поднялись на палубу.
Буксир шел, замедляя ход, заунывно гудя.
— Подходим к Макарьевскому! — раздалось наверху.
— Сколько простоим? — спрашивали капитана. Оказалось, около получаса…
— Макарьевск — большое село, там выгрузим уголь, — сообщил капитан и спохватился: — Пьяненького разбудить! Его стоянка!
И по буксиру понеслось: «Кто до Макарьева — собирайся!».
— Стоп! — взлетела кверху петля каната. «Тигренок» слегка покачнулся, стукнулся о стенку пристани. Раздались голоса, вышел пьяненький, вошли трое макарьевских колхозников, легко, почти по-юношески, перепрыгнул через сходни еще один новый пассажир, немолодой, с небольшой седеющей бородкой, в длинном осеннем пальто, в русских сапогах, в мягкой фетровой шляпе, с небольшим чемоданчиком в руке.
«Вроде как иностранный господин — и звать такого товарищем неудобно…» — соображал Укоров и сразу отодвинулся от отца Павла, уступая новому место.
— Садитесь, тут есть место! — сказал он приветливо-грубовато. Тот сел радом, подсунул под скамью чемоданчик, втягивая в грудь пленительную свежесть вечера, а также специфический запах пароходной гари. Осмотревшись вокруг, прибывший взглянул на соседа, а тот, в свою очередь, на него… вопрос: «Он ли?», неожиданность радости, вместе с тем какой-то испуг при взгляде на знакомое изменившееся лицо и вслед за такой гаммой впечатлений: «Вы ли это, отец Павел?» — прозвучало заключительным аккордом.
Новый пассажир был отец Владимир Лаговской, друг и приятель юности отца Павла, товарищ по Духовной Академии. Отец Лаговской отбывал последний год своей ссылки, истекал его срок пяти лет, но он по роду обвинения был менее опасен, пользовался и сейчас почти неограниченной свободой, служил в селе Макарьеве письмоводителем, там проживал, но его посылали и в Братск, и в Заярск, куда он сейчас и направлялся с отчетом по зерносовхозу. Старым знакомым предстояло провести восемнадцать часов, включая наступающую ночь. Краток перегон… а разговорам, казалось бы, нет и конца. Больше говорил Лаговской — он по одышке, отрывистому дыханию отца Павла понял, как трудны ему и движения, и речь. Да как-то им было не до воспоминаний юности. Отец Владимир участливо всматривался в него, расспрашивал о том, о другом, и вместо главного всеуясняющего разговора между ними вспыхивали только искры слов, но они, подобно зарницам, освещали все, что постигло за последние годы друга юных лет…
— Значит, тебя в Вихорево? — в словах звучала и забота, и какое-то недоумение. — Большое село, колхоз теперь. Церковь второй год как закрыта. Попробовали и там коллективизацию, трудно, переругались все, а толку нет. Многое еще по старинке проводится. Насчет тракторов и прочего — дело будущего. Досада, что в Братск не назначили, там можно бы устроиться, достать кое-какую работишку, все же веселее!
— В Братске… как бы центр, нельзя туда таких, — не то грустя, не то удивляясь вопросу, говорил Павел.
— Центр — не центр, белки все-таки по деревьям не скачут! — улыбался Лаговской. — Я слыхал, от Братска в будущем ожидают многого. Через некоторые годы начнется грандиозная стройка по Ангаре. Тайгу порубят, пути проложат. Вот тогда Братск приобретет большое значение… Но все же меня интересует твое назначение. Что будешь делать в Вихорево? Жить посылками? Вести зерновой подсчет? Выдавать книги, да есть ли они там?
Его собеседник молчал. Между ними сразу оборвалась нить разговора. То, о чем говорил и даже мечтал один, не увязывалось с состоянием другого. Это сразу понял и умолк отец Владимир. Случайно бросив взгляд на лицо отца Павла, он, несмотря на скудный отсвет уходящего дня и вечернее освещение буксира, увидел на лбу, щеках и губах своего друга игру теней — пепел, воск, синеву.
— Решил не думать ни о чем… — снова упали отрывистые слова. — Болен я… видишь ли… Одна мысль — добраться. Помнишь в Библии? «Иаков пошел путем своим и встретили его Ангелы Божии». Подобное и со мной. Одежда в пути задержалась — добрые люди дали свой тулуп… Сил не было — подвезли до пристани… Юноша тут один хлопочет, помогает… как сын… да, как сын родному отцу.
У отца Владимира был иной путь изгнания, более ровный и вне роковых приговоров и потрясений, правда, что сначала обвинение звучало грозно. Контрреволюционер — словесного происхождения — блестящий проповедник. Вот уже пятый год, как он здесь, под Братском. Местные власти ему доверяют. В тюрьме на первых порах его продержали недолго, но в одиночке, по обвинению в «антисоветском направлении публичного слова — проповеди». Сейчас это все уже позади. Он сыт, ему платят по ставке, и скоро кончится его срок. Он начал уверять отца Павла, что и тому скостят назначенные годы, упоминал об амнистии, утешая так, сам не верил в правоту своих слов, но безмерное желание утешить и ободрить владело им. Отец Павел слушал его, не перебивая, понимал, что старый друг хочет облегчить его глубокую рану, но он знал, что эта рана неисцелима. Так сидели они рядышком на корме, впивая благодатную свежесть надвигающейся ночи, переживая радость встречи, не часто взглядывая друг на друга, а буксир все шел и шел, рассекая волну.
Еще лет за пять до своего изгнания отец Лаговской хоть и редко встречался с отцом Павлом, но хорошо был осведомлен о его семейной жизни и разводе с женой. Последний раз они виделись на соборном богослужении в Лавре, шла всенощная под Сретение. Торжественная лития, сияние крестов и рипид, и среди собора священников — отец Павел в блестящей ризе, в высокой митре. Он ли, тот человек в сибирском тулупе, сидящий рядом с ним на корме торгового буксира, низко нагнувший голову, как-то втянув ее в плечи. Сухое покашливание, краткие ответы придушенным, пресекающимся голосом. Бывают в жизни сны, когда человек, лежащий в болезненном жару, видит то обрыв, то горы, то какие-то неясные и несуразные сопоставления событий — один из таких снов видел сейчас наяву здравый, не в жару находящийся Лаговской. Ни к чему были здесь утешения, слова о работе в селе, об амнистиях. Такие речи лгали на истину, они могли даже оскорбить сидящего рядом. Молчание легло между ними, за высокой кормой плескалась волна, в ней золотыми искрами отразились пароходные огни. Становилось холоднее, шла ночь, почти зимняя, морозная. Уже пора было идти в каюту. Как бы очнулся отец Павел, поднял голову.
— Все Божья воля. Забота у меня большая. Ведь скоро два года, как я лишен духовного подкрепления, и как уйти отсюда без такой защиты? Грешен, немощен, болен… Видно, по грехам… дак и уйду.
Но Лаговской быстро прервал его речь:
— Радость ты моя, батюшка! — со слезами сказал он. — Какой же ты счастливец и счастливец я! Ведь то, о чем ты тоскуешь, — у меня на груди… Ездил только что по делам службы в колхоз, и там привелось мне… один больной… а сейчас — неожиданная встреча с тобой. Вот, возьми! Погоди, я сам… Никто не смотрит? Сам на тебя надену… В мешочке — ковчежец, а мешочек на тесемке. Там все найдешь, не на один раз… — И он бережно снял с себя, расстегнув рабочую блузу, черный мешочек плотного шелка на тесьме, надел его на отца Павла, запрятал в складки его одежды, помог застегнуть ворот тулупа и, нагнув голову, поцеловал то место на груди, где был спрятан его подарок. Все произошло быстро, ловко и вовремя — к ним уже подходили Федор Укоров и еще один поселенец звать их в каюту — внизу все уж давно улеглись на покой и похрапывали.
— Пойдем и мы отдохнем, отче! — уже совсем по-иному, радостным бодрым тоном обратился к нему Лаговской, но, видя недоумение и растерянность в глазах отца Павла, принялся ему растолковывать, как не совсем уяснившему, всю важность того, что он от него получил.
— Понимаю, благодарю, — был ответ, — но ты сам-то как же? Мне отдаешь жизнь, а сам?
— А сам я — Бог даст, достану! Скоро воля. Поеду в Иркутск ликвидироваться. Собор-то еще там открыт… Обо мне не беспокойся!
Тут в их беседу вмешался Федор.
— Я, конечно, извиняюсь, — так начал он, — но на палубе сыро, а они совсем больные, а я их здоровье оберегаю, может, никому оно так не дорого, как мне, и я, хотя даже силком, уведу в рубку, там погреемся, тепло… идемте со мной, отец Павел!
— Кто же это так о тебе печется? Скажи на милость, каков! Жалеет тебя? — спускаясь вниз за отцом Павлом и Федором, спросил Лаговской.
— Это Федор, да еще Стратилат… вот и воинствует, — объяснил в каюте отец Павел. — Помогает мне в пути. Вместе вот и едем в село. Он — хлеб зарабатывать, а я — проедать…
Укоров рывком схватил руку говорившего и прижался к ней губами.
— Прямой ты, Стратилат, — шутил Лаговской. — Я так рад, отче, что ты не один… Простимся с тобой, мне выходить утром в Заярске. Может, спать еще будете. — И он рука в руку простился с отцом Павлом.
— Храни тебя Господь!
— Кто же он такой? — шепнул Укоров.
— Такой же, как и я, — был ответ.
Около двух суток шел «Тигренок» по извилистым плесам Ангары. В Заярске рано утром выходил отец Лаговской. Покидая каюту, где провел ночь с отцом Павлом и Федором, он тихо подошел, чтобы проститься. Оба спали. Отец Владимир осенил батюшку крестом, молча постоял над ним. Открыл сонные глаза Федор, закивал уходящему и совсем проснулся от брошенных ему слов:
— Не оставь батюшку, и Господь тебя не оставит!
4
Шел двадцатый час водного пути. На горизонте все яснее и ближе обрисовывались две пологие высокие скалы, почти симметрично расположенные с обеих сторон реки — они походили на крылья большой птицы. Еще немного, и «Тигренок» вошел в тень и навес этих крыльев, стремясь вперед и вперед к пристани по течению реки, протекающей между ними — горы слились со скалистым лесом, буксир загудел — и, устало рассекая волну, подошел к Братску…
Поселенцы со своими узелками и чемоданчиками вышли на берег — им предстояло ждать следующего дня, чтобы отправиться в последний путь — сто пятнадцать километров до Усть–Вихорева. Иркутские конвоиры тоже покидали Братск через сутки. «Тигренку» надлежало запастись углем и двинуться обратно с большим риском бурана. Погода резко менялась, дул северяк… Отца Павла и еще двух слабосильных устроили до выхода в село на борту парохода. Из братского НКВД назначили трех конвоиров, хорошо знакомых с местностью, сопровождать поселенцев до села. Транспорт состоял из крепкой сибирской лошаденки и трех тележных ящиков на колесах с высоко поднятыми краями. Более сильным и не подверженным головокружениям предлагалось идти пешком, но местами извилистые горные тропинки пролегали над крутыми обрывами, и перевозки в ящиках не избегал почти никто; случалось в этапной практике тех годов, что по опасным переходам перевозили по одному человеку, остальные ждали. Почти полпути от Братска до села поселенцы шли пешком по сравнительно хорошим тропинкам, не пользуясь тележками, они праздно грохотали по промерзшей каменистой почве.
Отца Павла с самого начала пути посадили на лошадь. Он неловко, с помощью товарищей, водрузился на мохнатенькую кобылку, ее вел под уздцы местный конвоир, а его то и дело сменял Федор. Тулуп «рыжая овчинка» служил седлом, на самого путника накинули солдатскую шинель; на тулупе сидеть как на подушке было мягко, но от непрерывного высокого положения за душу брал какой-то болезненный страх, и тогда неопытный седок охватывал руками лошадиную шею, ему казалось — он падает. И сразу же раздавался молодой голос Федора: «По бокам нельзя смотреть, голову заветрит!». Пройдя от Братска шестьдесят верст, поселенцы заночевали на лесистой лужайке в безопасном месте, в окружении молодой заросли пихт, сосны и елок. Костер потрескивал сушью и шишками. Ночь спустила наземь морозец в пятнадцать градусов, лошаденка отдыхала, привязанная на бечевке к молодой сосенке, пыхтели махоркой солдаты, отцу Павлу даже душно стало у огня в тулупе. Высоко в небе раскинулась звездная лучистость. Наутро тот же извилистый кряжистый путь, по склонам скал тянулась тайга, осенняя, цветистая, то оранжево-красная, то иссиня-зеленая, каких только красок не набросала осень на палитру суровой природы.
Местами все опаснее и уже становились тропы. Осторожно, шаг за шагом, вел под уздцы лошадь Федор. Транспорт между поселенцами менялся. То, как только позволяли тропинки, отца Павла пересаживали с лошади на тележку, и он, еле дышащий от слабости и сердцебиения, переживал «путь во гробах», а на лошадь нагружали другого седока. Ехать в тележке с поднятыми боками, не смотря по бокам, чтобы не закружилась голова, было, пожалуй, удобнее, чем верхом, но жестко и мучительно тряско. Дорожки иногда расширялись, и путники вздыхали с облегчением, затем снова начиналось трудное передвижение людей на лошади и в тележках-гробиках.
Переживая трудности дороги, отец Павел болезненно вспоминал об Але и ее намерении ехать за ним и молился, чтобы ей избегнуть горных тропинок, лошадей, всего, чем изобиловал его путь. Молился о том, чтобы ей не переживать горных обвалов, гробовых ящиков, головокружения.
— После зимнего Николы дороги лучше будут, сказал один из конвойных. — А сейчас, если буран, то ужасти одни. В пропасть так и сметет!
Тропинки постепенно снижались и переходили в обычную, довольно широкую горную дорогу. Обочины ее блестели инеем, белели оснеженными можжевеловыми кустами и побегами сосен, елок, кедров, пихт. Глазам открывался небывалый по красоте и простору вид. Далеко, со стороны левого берега Ангары — извивалась Вихоревка. Зигзаги дороги шли вдоль озера и подходили к старой церковке, давно закрытой, с типичным конусом–куполом всех северных церквей. Ее окружали кресты могильника, поросшего кустами черемухи и ольхи. Направо, налево — зубцы темнеющей тайги. Невдалеке виднелись очертания крыш, над ними вились дымки, доносился лай собак — подходили к селу.
5
Почти на самом краю большого сибирского села, немного выпирая из ряда крепко сколоченных изб, сверкал чисто вымытыми оконцами дом зажиточного, а в те дни слегка раскулаченного крестьянина Евграфа Захарова. Крайние избы как природной декорацией окаймлялись елками, соснами и пихтой, преддверием ближнего леса. Их от него отделял вырубленный участок, дальше начинались поросли молодой тайги. Деревья по краям села из-за массивности стволов и кустов, и густых ветвей назывались еще так недавно «Евграфов лес» и относились как собственность к его личному владению. Захаров, старожил Усть–Вихорева, любил свой лесок, хвалился им и достаточно поскрежетал зубами, когда этот лесной отводок отошел частично к правлению села. Евграфу осталось только несколько деревьев позади дома, по их ветвям то и дело, роняя шишки, прыгали белки. Дом свой Захаров обновил лет двадцать тому назад на славу, а в последние годы еще добавил к нему обширный сарай и уютный мезонин. Добротность бревен, высокие сваи, тесовое крыльцо с подъемом на четыре крутые ступени, затейливые фигурные надбровья повыше прочных ставен обличали зажиточника. Несмотря на некоторую замкнутость нрава, угрюмую внешность, с ним считались и его уважали. Он был еще так недавно церковным старостой, и от крестьянства ему шел первый поклон. Но, как из песни слова не выкинешь, так не выбросить было из крестьянских голов крепко сложившееся убеждение, что Евграф разбогател не по наследству, так как его родичи не выходили из середняцкого состояния — все знали, что еще смолоду он ушел на прииски, вернулся с достатками и, женившись, занялся землицей и хозяйством и, хотя не порывал ни с кем из села обычных для всех приятельски–деловых связей, но кой в чем держался особняком. «Есть, есть золото у Евграфа», — говаривали меж собой вихоревские сибиряки, а иной раз позволяли себе по-приятельски в словесной болтовне намекнуть, что в прошлом зажиточника, как хотите, а было темное, лихое, в лесах совершенное, благодаря чему Евграф вернулся другим, совсем богатеньким, а в церковном деле таким усердным и рьяным, что никому за ним не угнаться… Часто и сам Евграф учительно, в праздничной беседе, сидя за пятым стаканом плиточного чая, упоминает о Святой горе Афонской, о Киеве, о том, что душа человечья туда неуклонно стремится, а ноги — грехи — как пуды, вросшие в землю, не пускают. «Небось, про себя самого говорит!» — думалось вокруг, но все молчали, вздыхая и поддакивая хозяину.
Семья Евграфа была небольшая, сам с женой Татьяной, тоже религиозной, степенной женщиной, да еще в те поры гостила у них дочь, замужняя молодуха с дочкой, а сыну, получившему твердое задание от колхоза, пришлось надолго уехать в Братск. Не так давно, меньше года назад, Вихорева коснулся закон о коллективном строительстве. Новый порядок трудно прививался в глухом углу Сибири, но таких, как Евграф Захаров, все же, сколько возможно, пощипали, кое-что реквизировали, лишили нескольких коров, овец и лошадей, а дом, после кое-каких бурных прений и даже сцен, назначали то под избу–читальню, то под лавку, то под амбулаторию даже! Таковой в Вихореве не имелось, хотя ссыльный фельдшер из Омска, Василиск Петрович, прибывший сюда года два назад на пятилетний срок, ратовал за нее и хоть не имел голоса в правленских собраниях, но доказывал Евграфу Захарову о плюсах и правильности благородного поступка, если тот отдаст нижнее жилье под медицину, и даже краснобайно утверждал, что такое дело отметится в истории Братского края. Трудно сказать, чем вызволялся Евграф, в воде не тонувший, в огне не горевший. Его костили, называли «филонщиком», «буржуем», «мелкотравчатым элементом», но его изба, крепкая, двухэтажная, со светлыми оконцами в голубых рамах, не стала ни амбулаторией, ни лавкой, ни читальней, ни яслями. Все такие учреждения разместились в других избах. Лесок Евграфа все же обрекли на вырубку. У Захаровых взяли, кроме скота, упряжь, кое-какие запасы, кое-что из хозяйственного инвентаря, но и то при бурном вмешательстве Татьяны; она, потеряв свою степенность, обратилась в львицу, о чем после боя и выигранного сражения любила рассказывать односельчанам. Но сам хозяин держался, словно у него ничего не произошло. После своего некоторого обеднения не приземлялся, не канючил, вел себя вполне мирно, сознательно и как прежде оставался в числе первых лиц колхозного правления, принимая все новшества и указания председателя… Все же поместительные и светлые комнаты Захарова дома тревожили головку большого села, и Евграфу вскоре предложили на сельсовете уплотниться и принять к себе кое-как ютившихся жителей бедняцких избенок, хотя бы семью Сидоровых, они гнали самогон и дрались между собой. Захаров был приперт к стене таким предложением. Выкрутив свое помещение из судьбы читальни, яслей, больнички, он понимал, что одним инвентарем да двумя лошаденками, да кое-каким хозяйственным добром, да несколькими природными угодьями не обойтись. И пример другим подать надо, и даже поблагодарить малость за то, что его тревожили более деликатно, чем многих других. Но взять к себе Сидорова с семьей, чтоб он запакостил самогонным духом его жилье! Никак! В селе ждали новых поселенцев из Иркутска. Они не сегодня–завтра явятся, их надо размещать. Сколько их здесь уже перебывало, и некоторые еще отбывают срок! Словно что-то осенило Евграфа Захарова, он явился в правление и заявил председателю Пимену Семенову, что он согласен на вселение к себе жильцов, отдаст им верхнее помещение — мезонин с просторным чуланом и спальней–боковушкой, а сам с женой и дочерью перейдет вниз, разгородив большую комнату надвое, как об этом и толковали, но просит, чтобы правление поместило к нему новых поселенцев. Он свободно примет двух–трех человек. Пимен Семенов удивился. Все высылаемые в дальнее село Иркутско–Братского края все-таки считались неподходящими, им приписывали многие пороки, к ним относились зачастую с подозрением.
— Что тебе вздумалось — поселенца, Захарыч? — вопрос Семенова после недавнего боя за избу звучал даже дружелюбно. — Ведь мы хотели маленько тебе же пособить, дело сложное, сам кумекаешь, проводить в глуши такую новизну! Чтоб все тихо, мирным порядком! Мы и давеча тебя не утеснили, маленько посбавили добреца, так ведь по закону? Обошлись без твоего жилья. Пожалели старого приятеля. Понимать надо!
— Покорно благодарю… — и Евграф разгладил бороду. — А все-таки… Даешь мне высыльных? Парочку? Троечку?
— А на кой шут они тебе? Мы хотели тебе же, друг, пособить, а ты сам в петлю лезешь! Кое-кого из Сидоровых отбавить, чтобы не дрались между собой. И у них был бы лад, да и ты никак не стеснен. Мы бы к тебе, если не их, то старика Кузьму с племянником, что в лавке торгует, поднасыпали, а ты вон какого элементу захотел! Поселенцев разместили бы промеж кой-кого. Поближе к власти — поспокойнее. Ты вникни в то — не посреди села живешь, ближе к краю…
Но Евграф твердил свое:
— Поселенцев желаю, сказал он твердо. — О душе надо думать, вот о чем. Чуешь?
Зоркий взгляд Евграфа так и жег Семенова из-под волосатых бровей. Председателю стало даже не по себе.
— Чую… Да ведь какие люди теперь они? Значит, ты хочешь, чтоб у тебя еще маленько отбавили? Отбавят, да уж не по закону.
— Куда им отбавлять? Куда нести? В тайгу, под сосенку. Эх, Пимен Семеныч! Народ-то ведь какой! Самый убитый они народ.
— Как раз… Змею полосни раз — другой, одна половина вьется, да и другая не отстает, так и поселенец. Беда с ними! Вот их десяток прибудет, а хлопот на сотню — узнаешь!
— Однако, — не унимался Евграф, — живут же в селе и пятилетние сроки, и работают. И еще как работают. Обиход с ними надо иметь… это точно.
Просьбу Евграфа уважили… Председателю эта просьба была даже сподручна.
Они пришли в село после двух ночевок в лесах, усталые, на третьи сутки по выходе из Братска, в полдень октябрьского погожего дня. На окраине стояла кузница, издали постукивал молоток, виднелся огненный круг раскаленного горна. Шла гуртовая перековка скота на зиму. Из села то и дело подводили лошадей, и люди с недоумением, даже с опаской оглядели десяток пришлых с конвоирами — один из поселенцев, только что снятый с лошади, тяжело опирался на руку молодого и еле дышал.
— Посиди, братва, на бревнах, погоди малость, подковать надо, ишь, доковыляла…
Это был их последний привал перед грядущей не кочевой жизнью. Разместились на разрозненных бревнах возле кузницы. В дверях появилась черная фигура закопченного кузнеца. Четыре лошади, кроме пятой, пришедшей из Братска, стояли на очереди. Хозяин распорядился:
— Давай твою, конвой, а вы погодите! Когда тебе обратно? Как она у тебя дошла на таком гвоздике?
— Ей впривычку… Завтра уйдет обратно. Как бы погода?
— То-то и есть. Ну-ка придержи, ровней…
Усталая кобылка доверчиво отдала заднюю ногу.
— Ладно, хорошо… ступайте… в час добрый…
На подкованную Буланку снова хотели посадить отца Павла, но он отказался.
— Как-нибудь с Федором дойду, недалеко.
Шли селом, далековато до правленской избы. Поблескивали окна, в них виднелись женские и детские головы, глядевшие на новых людей, на крыльцо выбегали ребята. Широкая дорога, затвердевшая щербатыми выбоинами от первых морозов, казалась почти нелюдимой. Мужское население колхоза работало — кто в лесах на вырубках, кто складывал штабеля, кто ладил и поправлял по сараям утварь, иные копошились у себя на крышах, отепляя их и чиня прорухи к зиме. Наконец, подошли к сельсовету, где председателю колхоза была отведена просторная комната, и там вновь прибывшие разместились на скамьях, свалив свою поклажу. Окинули взглядом стол, крытый запыленным кумачом, плакат: «Все к единой цели — коллективизации страны!», развернутый между двумя окнами, два профиля в ряд, черноусый телесно–живой и лиловато–мертвенный в большой рамке под плакатом. Кое-кто закурил, конвойный пошел в лавочку, другой чистил винтовку. Просили воды, всем хотелось пить. Женщина принесла ведро, только что вытянутое из скрипучего колодца, и ковш, все жадно принялись пить, едва пережидая друг друга. Мохнатенькую лошадку, усердно послужившую в пути и только подкованную, привязали во дворе под навесом. Она отдыхала, изредка взмахивая хвостом, и мягко хрупала сено из подвязанного мешка. Гробы–тележки теперь казались большими детскими игрушками и тоже отдыхали у сарая. Люди задремали, притулясь друг к другу, но все с одной мыслью, когда-то распределят по квартирам? Та женщина, что принесла ведро с водой, снова вошла и сообщила — идет! Явился Пимен Семенов с листком бумаги, сел у стола и стал записывать всех по очереди — имя, отчество, фамилия, кем работал до заключения и т. д. Все оживились.
В избу прибывал народ, особенно женщины. Прошлогодний поселенец Иван Мамаев, работавший на мельнице, растолкал народ и просунул голову в дверь.
— А куда мы больного старика денем? Умучился… верхом на коне его полдороги тащили. Сидит на завалинке у Максимовых и чуть дохает. Его бы куда в первый черед! Едва живой.
Все вышли взглянуть на больного. Отец Павел прислонился к стенке дома и тяжело дышал. Качали головами, разводили руками, бабы охали и вздыхали и, узнав, что перед ними священник, звали каждая его к себе.
— Родимый, как же ты добрался? Дорога-то к нам, охи ох!
Около отца Павла суетился Федор. Он испугался внезапно наступившего удушья, принес ковш воды, расстегнул крючок на вороте тулупа, брызгал на шею из ковша, все на него закричали:
— Заморозишь, не лето, надо в избу!
— Нет, я прошу, здесь лучше, — внятным, но тихим голосом протестовал отец Павел. — У меня ведь часто так… пройдет… это с дороги…
На настойчивые вопросы о пути Федор объяснил, что больного батюшку везли то «во гробе», как и других, то тихонько под руку, то на лошади, а он сам, а его зовут Федор Укоров, был его спутником от самого Иркутска, с тюрьмы.
— Добрые люди еще есть! — вздыхали вихоревские сибиряки на Федора.
— Никакой я не добрый, а душу он из меня вынул, вот как его жалко, — беглым шепотом, отстраняясь от затихшего отца Павла, объяснял Федор. — Мы их раньше как почитали? За отцов… А нынче? Пришла беда, и какая еще на них… неминучая… — Он озирался, не слышит ли кто? И снова двинулся к отцу Павлу.
— Ты сам-то откуда? Братский? — спрашивали Федора. — Где отсиживался? За что тебя?
— Омский, из пересыльной, — нехотя ронял слова Укоров. — Припаяли к политике, да и сюда на три года, чего там болтать! Моего больного поскорее к месту устроить, обо мне речь маленькая!
Навстречу им шел Евграф Захаров, он был в лесу, не сразу узнал о прибывших, торопился и, зайдя за правленскую избу, набрел на группу людей, окружавших отца Павла. Ему объяснили, что этот больной поселенец — политический, священник из Ленинграда, что его еле довезли, надо скорее к месту, к покою, уложить, согреть.
— Что ж? Ты хотел поселенцев? Примешь такого? — спросил Пимен Семенов, подойдя к толпе.
— Примаю, — кратко ответил тот.
В сенях председательской избы стояли грубо слаженные носилки. Их не так давно соорудили поселенцы по указанию фельдшера Василиска Петрова, того самого, что мечтал об амбулатории и намечал для этой цели помещение у Захарова, но власти не давали ему еще разрешения свободно работать в селе по специальности, что весьма его удручало. Он не унывал, писал заявления в распред, ждал к весне положительного ответа, а пока решил так или иначе, а упрочиться в своем звании, хоть немного, да практиковать, и успевал в этом. Родные присылали ему в посылках лечебные травы. Знакомый провизор тоже снабдил его необходимым, но запасы быстро иссякли, на всякий случай оставалась в настоящий момент санитарная сумка с выцветшим крестом, прибывшая с ним на поселение, да носилки. Отца Павла уложили на них и понесли к Захаровым, слегка колыхая по рытвинам широкой улицы. В звене шел Федор. Когда дошли до места, он доверчиво тронул за плечо Евграфа.
Не разлучай нас, дядя! — попросил он. — Я и председателю сказал, он позволил… Без меня больному никак. Я ему и принесу, и услужу, и приберу. А и мне без него никак. Уважь меня, я ведь работать буду — и тебе услужу — чем помочь? Только мне скажи… я все спроворю.
Евграф пронзил юношу глазами.
Ладно, живи, — решил он. — Кто еще знает, что ты за человек, но раз уважаешь таких… Только — чур, водки не пить. Сразу выгоню, другого возьму, так и понимай!..
Больного внесли в дом, в нижние просторные сени под визг и лай мохнатой дворняжки. Отсюда отец Павел с помощью хозяйки и Федора поднялся наверх, в боковушку, светлую, просторную комнату, при ней находился поместительный чулан, в нем свободно можно было спать, а маленькая дверь из чулана вела в сени. Татьяна Федоровна, жена Евграфа, помогла отцу Павлу взобраться на широкую кровать с горой подушек, холщовой домотканной простыней с нарядным кружевным подзорником, причем он извинялся, что временно принужден пользоваться хозяйским бельем, но что скоро прибудут его вещи, посылки и тогда… На это Татьяна махала руками и слышать ничего не хотела.
— Молчи-ка, молчи, родной наш! — приговаривала она. — Добра холщового у нас пока не забирали, а на тот свет его не потащим… Хватит на всех…
Мыло, лоханку, ведра, табуретку, все принесла она снизу, приспособила, приколотила висячий умывальник к стене, но отец Павел так изнемог от пути, что, лежа, только обтер лицо и руки мокрой холстиной и задремал. Но как только в селе узнали, что у Евграфа поселен священник из Ленинграда, так и начал собираться люд в боковушку, главное — женщины. Привели детей под благословение и расталкивали всех, пробираясь к батюшке. Татьяна всех упрашивала не толкаться, дать покой, свирепел на баб и сам Захаров, а Федор тем временем сбегал в сельсовет за документами, отданными на просмотр, и, придя обратно, ужаснулся наплыву людей в боковушке. Он тоже хотел принять участие в их изгнании, но встретил отпор со стороны самого отца Павла. Он проснулся, осмотрелся, улыбнулся народу, по возможности удобнее приподнялся на высоких подушках и начал благословлять пришедших, а когда все ушли, то стал просить извинения у хозяйки за доставленные хлопоты. Но если они имели место, то всецело были искуплены той радостью, которая так и светилась в глазах, получающих благословение. Прошло немного минут — снова наплыв посетителей, и уже с приношением: одна протягивала ему туесок с черемуховой повидлой, другая совала пяток яиц, а третья спрашивала, не может ли он, ужо, как поправится, окрестить ее младшенького… Церковь два почти годика закрыта, а батюшку увезли незнамо куда, и сынок так и остался без Святого Таинства…
Насилу ушли. Снова задремал батюшка, а Федор прикорнул головой у его ног, напрасно Татьяна звала его отдохнуть в чулане, где ему приготовлена кровать. Уж темнело густо набегавшей синью, когда в боковушку заглянул фельдшер — познакомиться с больным. «Все же тут практика, сердце, — соображал он. — А так со скуки зачахнешь, и все забудешь, что учил. Да! Но как же обращаться к такому нелегальному элементу, да еще служителю культа? Батюшка? Но какой он ему «батюшка»? По имени-отчеству? С какой это стати — точно он ему старый знакомый? Только по фамилии? Неудобно тоже. Товарищ? Совсем плохо. Нет, уж про сто лучше на «вы» … — И с такими мыслями он появился перед отцом Павлом, еще раз представился ему, спросив, удобно ли ему было лежать на носилках его изобретения. Посчитав пульс, больновато нажал пальцем в двух–трех местах отекшей голени и откровенно поморщился при виде ямок.
— Я вам травки дам! — И он занес фамилию отца Павла в блокнот. — Хорошая травка, ни у кого ее нет, а у меня есть. Называется «адонис». Ее настоять, процедить, и по четыре ложки в день. Затем — покой, сон, молочко, пища легкая. Надеюсь, вы поправитесь… Климат у нас суровый, но полезный. Итак, сон, покой, молочко, простокваша. Затем — имею честь. Я тут недалеко квартируюсь. Евграф Захарыч меня знает — вмиг, и я тут. — Он исчез за дверью.
Вечер наконец принес желанную тишину. Закрыли ставни. От ночлега в чулане Федор отказался. С дороги он уснет так, что не услышит ничего. Да и к чему такой почет? Он ляжет здесь, у ног своего больного, рядом с ним — доглядит, поможет. Татьяна Федоровна хотела было нацепить полотнище широкого полотна над кроватью отца Павла, но он умоляюще просил не стеснять его дыхания. Решили, если будет донимать мороз, то мигом раскинуть домотканный полог. Поговорили с Захаровым о самом главном — о плате за помещение, и несмотря на то, что хозяева не хотели и думать о деньгах, твердили, что отца Павла принимают по закону самоуплотнения, значит, как члена семьи, все же согласились на такой обмен. Отец Павел будет отдавать им содержимое своих посылок, все пойдет в распоряжение Татьяны. Затем жильцы не будут касаться никакой стряпни и обедов — батюшка — по своему положению больного, Федор по своей занятости, ведь уж с завтрашнего дня он будет весь в распоряжении колхоза, и разве только немногие часы сможет находиться при своем больном. Так и решили… Но только начали укладываться на покой, задребезжал входной звонок, у зажиточных он имелся. Стучали, кроме того, в дверь.
— Оторопи на вас нет! Такую позноту! — ворчала Татьяна на двух женщин. — До утра что ли ходить будете? Спать ему надо после такой пути, а они, прости Господи! — И вдруг осеклась, увидя в руках щедрое приношение: женщины сразу развернули свои узлы. То были душистые ноздреватые соты, под ними — миска овсяного киселя. Другая женщина поставила перед Татьяной глиняную чашку сметаны с творогом, свежим, только что из печи.
— Не серчай, сейчас уйдем, — шептали они. — Пусть он, батюшка, нашего киселька покушает. Пусть поправляется, кормилец наш. Как на него глянули, будто жизни прибавил… Ну и прощенья просим, Танюша!
— Помаленьку, потихоньку — и поздоровеет! — в лад бабам уже дружелюбно выпроваживала их Татьяна.
6
Тихо стало. Федор озирался на новые стены, недавно выбеленный потолок, на зеркальце, на лампадку и Спасов образ в углу.
— Хорошо тут у вас! — задумчиво обронил он. — Как в рай попали!
— И–их, парень, в этот прежний рай мы сквозь ад воротились! — и неутомимая Татьяна, сев к прялке, сучила нитку. — И раскулаченье приняли. Все у нас в селе смешалось, кто был ничем, тот стал всем. Коль скоро мы кулаки, ладно, пусть так будет, а зачем свой на своих пошел, тот же Пимен Семенов — на своих же грянул? Да еще как! Сын наш в отъезде, самого в ту пору не было дома. А они как сюда нагрянут! «Даешь избу! Исчезай, пропадай, кулачиха!». Было их трое. Пимен кое-кого научил, за себя поставил, чтоб, значит, нас единым махом раскулачить. Ну так вот, их трое — я одна… Ходят по дому, как хозяева — да план строят: тут у нас ясли, а не то, пожалуй, лучше, как читальня пойдет, да и для медицины годится… вслух, эдакие-то нехристи, рассуждают, а я не растерялась, чую, в руках, однако, сила есть! Я в руки кочергу, и шепотком Воскресну молитву читать, и на них с кочергой сама — первая иду. А они-то, власть наша сельская, дугу схватили. В сенях дуга стояла, только что новую справили, с голубыми цветами — и на меня идут в свой черед. «Куда ты лезешь, — кричат, — ведь баба!» — «А хошь баба, хошь мужик, получай! А избы не видать, как своих ушей!» Сцепились! Я их учу кочергой, а они мне норовят кость дугой сокрушить… Волосьев сколько выдрали! На личности моей недели полторы синяк, что радуга, цвета менял, и на ребрах ушиб, и на плечах до кости кожа ссажена, а им тоже досталось здорово! Вот тебе какая женка у Евграфа! Уж не знаю как, до света лежала, моченую капусту к голове прикладывала, а изба за нами и посейчас. На другой день пришли снова уже впятером к самому, мирную чтоб реквизицию произвести. Все же распотрошили нас. Скотинки часть забрали, из вещей кое-что отдадено, лесок в правление отошел. «Ну и баба же у тебя! — шумели. — С эдакой не пропадешь!». И что ты думаешь, парень? Отстали от нас на этом, и наша изба за нами осталась, ни тебе она — читальня, ни она — больничка, ни она — ясли, а как была, так и и есть Евграфов дом… А ну, паренек, иди ложись, завтра ведь не в гости, на работу… да и после дороги устал. Говорил твой-то, племянница к нему приедет? Да с кем ей, бабе, ехать в такую-то страховину! Ты сам тут: поработал, прибег, за ним посмотришь, мы доглядим, и все ладно… Дай фонарь, я тебе посвечу, а то по нашим переходам в сенях запнешься…
Отец Павел давно спал под их разговоры тем безмечтанным сном, заработанным тяжелой дорогой, какому не мешали ничьи голоса, шумы, звуки. Он был у цели. Он был в Вихорево. Завершен первый день двадцатипятилетнего срока. Сначала от гудения в голове ему казалось, что он еще на пароходе. Потом в сознании наступил провал, и его объяли покой и тишина.
Федор поместился пока на полу, хоть в чулане и поставили ему раскладушку. Хотелось быть рядом с батюшкой, продолжить еще и еще свою с ним дорогу. До сна он обошел с Татьяной по верхним сеням все чердачное помещение, где под самой крышей свисали полынные веники, в полумраке виднелись веревки и лыко, окрутившие балки. Здесь было холодно, почти морозно. Крепкая отвесная лесенка вела вниз, в обширный сарай, где спали на соломе коровы, мягко пережевывая жвачку, от их помещения дощатой перегородкой отделялись овцы, еще чулан был для козы с козленком — везде виднелась хозяйственная рука, довольство, запас… Вверху, сквозь прорезь соломенного настила на крыше сарая, в синем, уже морозном небе, виднелись звезды.
Так устроился на поселение отец Павел.
7
Татьяна Сидоровна накрывала в боковушке небольшой стол. Смеркся короткий осенний день. Отец Павел только что проснулся и смотрел на простую скатерть в квадратиках, на пшеничную буханку хлеба, на все новое, его окружавшее, и наконец спросил хозяйку: «День или вечер?».
Оказалось, он проспал всю ночь и продремал полдня. Такое случалось с ним и раньше, после усталости — в юности — экзамены, позднее — длительные службы и занятия. И как тогда, так и теперь, не сразу соображал, в чем дело. Увидя, что гость проснулся, хозяйка подошла к нему.
— Чай будем пить, батюшка, аль топленого молочка принесть? Отлежался ли с пути? Умыться хошь? Нонечь — лежи, а завтра, коль сильней будешь, в общую избу пойдем. Веселее. Люди у нас простые. Вольный народ… Да вот и Федя! Как дела, паренек?
Федор проработал полдня у самого Пимена Семенова в его сарае на дровах, там его сытно покормили, отпустили до утра, а в дальнейшем ему предстояла одинаковая со всеми поселенцами колхозная работа. Без нее эти пришлые люди не могли бы прожить и дня… Все новые иркутяне сразу вступили в предзимние работы — кто на мельницу, кто — в лес на вырубку, кто на подсчеты и ссыпку зерна. Пимен Семенов умел видеть способности человека и его правильно трудоустроить. Федору все еще не верилось, что он в селе, что его батюшка с ним и доехал более или менее благополучно, что кончились тюремные сроки. «Человеком настоящим, нужным будешь, Федя, только через труд и молитву», — сказал ему еще на пароходе отец Павел. И когда Федор рубил и колол председателю дрова, он вспоминал сказанное, и в ослабевших после отсидки руках рождалась прежняя сила. Теперь только бы войти целиком в колхозные труды, найти хоть какое, да свое пропитание. «Быть честным!» — и, сняв кожаную рукавицу, он вытирал глаза. Вокруг все новое: добротно, на века сложенные избы–дома, солнечный день с ветерком, по улицам крутится не то пыль, не то первый поземок, с утра в воздухе вились мелкие белые мушки. С момента входа в дом Евграфа у Федора родилось бодрое чувство — надежда на выздоровление батюшки. Юному и сильному поселенцу говорило о жизни все: и ласковый прием в новом жилье, и то, что им привелось поселиться у степенных зажиточных крестьян, мысль о том, что жирное молоко и творог помогут больному окрепнуть тоже подбадривала его. А то, что они с ним поселились вместе? Разве это не знак того, что скоро пройдут его усталость и болезни?! Большая, какая-то еще неведомая ему детская радость в избытке наполнила его. Он шел домой, как летел! Что-то батюшка? Хорошо ли спал? Не осаждают ли его до усталости новые люди?
Еще не приносили почты, да и не могло быть ее так скоро. Отец Павел думал об Але, о ее дороге. Как доберется, если все-таки настоит на своем? Головоломные пути, ноябрьские бураны, по горам пойдут оползни. Для него, такого немощного, сейчас было реальным и удобным присутствие одного лишь Федора. Помимо своей воли он осознал в Алином приезде сюда что-то неудобное, не должное — выходило в его мыслях так, что он становился помехой и тяготой в жизни любимой сестры Маши… Она так переживала бы отсутствие дочери, да и самую ее дорогу к нему! Он же тяготился Алиным возможным приездом, но тут же молился о ее путешествии и о его благополучном исходе, соглашался на него и тут же волновался так, что еще до прихода Федора заговорил с Татьяной о своих тревогах.
Татьяна Сидоровна была природного ума и не спешащая на ответы женщина. Она помолчала, перекрестилась и мягко заговорила, как запела:
— Помоги ей, Боже, добраться. Дороги, сам видел, какие. С каким конвоиром пойдет? Разве лишь с почтой? Пиши ей, девочке — пусть ждет морозов, не торопится. Разве что после зимнего Николы. Вы-то сами, желанные, без бурана сюда добрались, ну а как завьет? Эх, и ехать-то ей по-настоящему глядя — не для чего. Мы тебя все обиходим. А уж коли приедет, место ей всегда найдется. Федор к тебе, ее — в чулан… Ты, родной, об этом не тужи… И работка явится. В лавке, в яслях — может, еще и Василиск получит разрешение на больничку? Аптеку, говоришь, она знает?
Ее слова, такие ровные, тихие, успокоили встревоженную душу. Вошедший Федор захватил часть их беседы. И странно ему было глядеть на Татьяну после вчерашних разговоров о побоях, о дуге и кочерге…
Внимательным взглядом человека, которому с детских лет доводилось видеть больше зла, чем добра, наблюдал он за ней. Как-то она будет кормить, когда он, Федор, до вечера уйдет на работу! Напрасно так щедро обещал ей батюшка все содержимое посылок рада общего стола. Сибирячки иной раз скупы, их мужья — тоже. На слова-то щедры, а на деле? И Федя, немного хмурясь, но не смея даже намекнуть батюшке о своих думах, присел рядом с Татьяной.
8
Крепкий, искристый сибиряк–мороз… Половины декабря уже нет как нет. На днях — зимний Никола, а дороги стали уже давно. Вблизи Усть–Вихорева они широки и гористы. Вот одна из них от почты до села — километра в два, не больше. Сначала она идет вдоль озера до церковки, похожей на часовню, и на пригорке, где она стоит, раскинулся сельский могильник, наполовину одичавший и живописный в своей забытости. Только несколько недавних могил оживляют полянку… Направо и налево — просторы полей с неровными гребешками леса вдали. С горы открываются необъятные дали, поросшие молодой тайгой. Внизу, по замерзшему озерку, едут крепко сколоченные санки, лошадка упруго перебирает мохнатыми ногами, — издали темнеет тонкая дуга. Развилок дороги с правого пути ведет на Усть–Вихорево. По нему уже больше часу идет молодой парень в тулупе и ушанке. Это — Федор Укоров несет в село посылку. Уже четвертый посылочный ящик приходит на имя батюшки! Всего восемь кило, а как трудно! До сих пор еще ноги не свои после лагеря и годовой отсидки — ходить еще тяжеловато… А работать надо, и всюду поспеть: он и дровокол, и зерном ведает в колхозе, и почтальонит подчас. Он остановился, поправил веревки и вскинул посылку повыше на плечи.
— Батюшка Павел, страдалец ты мой, — вслух обратился он в сторону неба и тайги, — жадный я стал, сознаю, но не для других, а для тебя я жаден. Мне-то что? В колхозе я сыт, одним молоком зальюсь, а Татьяна увидит посылку и снова тебя крупой и сахаром оберет… да за это на обмен какого ни на есть несъедобного студня, а своего, хорошего — не видишь, как своих ушей…
Спохватился, остановил шаг, снова поправил ящик за плечами.
— Господи, Боже Ты мой! Что за мысли такие… Сгинь, пропади… Его, а не мое дело делиться посылками! Не мое дело — судить Татьяну!
До Вихорева лежал еще один небольшой лесок с проторенной тропинкой. Федор то и дело останавливался, не то отдыхая, не то любуясь. Оснеженные сосны и ели обступали его. Вокруг притаенно дышала сказочная тишина, великолепие седого мороза. Из-за кустов вылетел заяц и, отчаянно сверкая белыми лапами, промчался мимо него. Гигантскими грибами стояли пни с нахлобученными комьями снега в виде шапок. Тонкие ветви черемушника и диких ягод сплетали вокруг них серебряное кружево. В путнике заискрилась какая-то светлая радость. Он знавал ее в своем отроческом возрасте, когда не было еще ни пороков, ни ошибок, и он еще не выходил из круга общей жизни. Теперь, в сибирском лесу, снова посетила его залетная гостья, но в ее ощущении был новый смысл и новое желание — поделиться ее возвращением в жизнь с тем, кто терпеливо ждал его прихода на широком хозяйском ложе, с тем, с кем он дружно прошел конец этапного пути и кому открыл всю жизнь и ошибки, приведшие его сюда, доверяясь по-сыновнему, как родное дитя — отцу. Эти мысли и настроения всецело победили в нем предыдущую неприязнь и досаду на Татьяну, и Федор бодрым шагом поспешил домой.
В дверях залилась пронзительным лаем хозяйская жучка, грозно откликнулся и завыл на входившего цепной пес со двора. Федор погладил собачонку, узнавшую его, снял в сенях валенки, поколотил снег прутиком и, оставив их здесь для просушки, обулся в дырявые тапки и поднялся наверх с посылкой.
Отец Павел спал, но тотчас же услышал Федора, очнулся и открыл глаза, полузавешенные тяжелыми веками.
С первого взгляда на него можно было подумать — умер? Умирает? Лиловатый цвет носа, ушей, губ, во всяком случае, говорил о близкой развязке. Но когда он, проснувшись и войдя в себя, разговаривал с людьми, его острые, всегда внимательные глаза отражали в себе то живое начало, с каким не сочеталось понятие — скорая смерть. Лежал он на большой цветастой подушке, отданной ему хозяевами, и на своей тощенькой из Ленинграда — она выручала его придачей возвышенного положения. Тулуп, «рыжая овчинка», отслужив ему то подушкой, то седлом, то покрывалом у костров во время последнего пути, удобно свернутый валиком, теперь поднимал ему ноги.
— Замерз? Устал? — ласково обернулся он к Федору. Тот поставил посыпку на табурет и бережно поправил на больном тяжелое лоскутное одеяло.
— Ничто мне, — не сразу ответил он. — Ну и леса! Не насмотреться на них! Ну и красота! Батюшка, мой дорогой! У нас на родине такого нет. Как в театрах, на представлении. А зайцев, лисиц — счету нет. К весне поправляйся, вместе в лес пойдем, ну и тайга!
Чуть отсветилась на лице батюшки ответная улыбка — добрая, хитроватая, жалостная…
— Пойдем, Федя, пойдем! А пока открой-ка ящичек. Что нам с тобой шлют из Ленинграда?
Естественный интерес к содержимому посылки притуплялся, а у Федора даже заменялся досадливым чувством. При виде принесенного ящика уже не уходила из боковушки четырехлетняя Нонка — она так и лезла к посылке. Сразу появлялась Татьяна или ее невестка, если была неподалеку. Стоило кому-нибудь встретить Федора с почтой, кончено, боковушку осаждали родичи Евграфа, предлагали сами открыть, и вообще, пока все не выгружалось — не уходили никуда. Получение и обнаружение присланного перед людьми — болезненно огорчало Федора. Он знал, что по первому уговору все отдавалось в распоряжение Татьяны и ее мужа, а они платят за то полным содержанием своих жильцов, их кормили и поили за посылки, но ведь было условлено об общем столе! Однако вот уже около двух месяцев за этим общим столом не подавалось ни манной каши, ни компота, ни киселя, ни сладостей, ни белого печенья и сухарей, ничего из присланного. На стол ставили студни из свинины, овсяный кисель, картофельную запеканку, драчену, крутую пшеничную кашу с кусочками жареной баранины, или подавался жирный борщ, или, если доходил до села омулевый бочонок, то омулек с соленым огурцом, очевидно, так приняли уговор — как обмен? Жгучие, досадливые, да и просто гневные помыслы обуревали Федора. Жадные, скупые, истинный Бог, кулаки! — мучился он. Дело тогда было, ясно, не мое, ихнее, а надо бы мне вступиться! Дорогой его уберегал, здесь не уберег. Как малое датя, все отдал, уступил свое, а сам ни до чего не коснулся, голодает, разве овсяного киселя с молоком, а то ни до чего не дотронется, а мне-то казалось — в рай попали! — и парень не вытерпел, все свои мысли открыл батюшке, но отец Павел строго запретил ему вмешиваться ни во что подобное.
— Много ли мне надо? Овсянку дают, молочко, и хватит… То ли мы получали «там»? Молчи, Федя образуется, — строго, но примиряюще подбодрял он его. И образумилось! Не прошло и трех дней с получения последней посылки, как случилось так, что сам хозяин Евграф сел обедать в боковушке с отцом Павлом и Татьяной — обыкновенно он запаздывал и ел внизу. Подали крутую кашу, борщ, драчену, отец Павел ничего не брал и, наконец, извиняясь, признался, что никак теперь не может есть ничего жирного и крутого — никак!
Татьяна насторожилась. Муж искоса взглянул на нее и велел сейчас же сварить батюшке жиденькой манной каши на молоке и чего там еще есть. Евграф в домашнее хозяйство не входил, не уточнял общего обеденного пайка, за посылками не следил, а жена, получив из рук отца Павла мешочки и картузики с крупой, черносливом, сахаром, вермишелью, конфетами, все относила в свой чулан, и, не отдавая их на общее пользование, хранила их до времени, подобно многим скаредным крестьянам. Она даже не думала, хорошо, плохо ли поступает? Отказывается от еды ее жилец — значит, болен, а у больных нет аппетита, а все то, что подавалось ей на стол, было для здорового вкусно, сытно, питательно, и она по-своему честно возмещала своей едой посылочное содержимое, но больной батюшка ел все меньше и меньше… разве что немного просил молочного…
— Что же ты, парень, ничего нам не скажешь, а молчишь? — вскинулась, как на виноватого, на Федора Татьяна. — Ужо я ему манной каши, компотика сварю. Так же нельзя — человек не ест, а ты молчишь… — При этом она зорко взглядывала на мужа. «Попадет мне теперь! — стучало в голове. — Ох, лихо мое, попадет!».
К вечеру Федор расхрабрился. «Уж теперь он не будет виноват, если окончит разговор, начатый за столом». И когда вечером он остался внизу наедине с Татьяной, он не выдержал, тем более, что Татьяна, облизывая ложку, похваливала кашу.
— Вот этаку-то кашу ему и вари, — попросту начал он. — В тюрьме голодал, теперь не приходится. На общем пайке мы живо его уморим. Он — видишь какой? Разве скажет? А много ли ему надо? Ложки три съест, и все. Все равно ведь вам все останется, если что, а вашего ему не надо никак.
— Так ты давно бы нам пояснил, родненький, — смиренно запела Татьяна.
— Мы-то с самим полагали — наше на ваше, и сквитаемся… Вот дело какое! Не ест? Завтра снова ему кашки беленькой, аль геркулеса сварю.
— И не крутую, — уже смело, по-хозяйски, распоряжался Федор, чувствуя, что, по словам батюшки, «все образуется». — Жиденькую, на молоке. А то густое сваришь, ложка что в известке стоит, не падает — ему на вред, на болезнь.
В тот день, поздно вечером, Евграф, задумчивый и хмурый, вернулся с работы. Домой он приходил усталый, за домашними делами ему следить было некогда, он вел подсчет зерна у председателя, завоевывая по-прежнему видное и значимое положение. Он долго сидел разутый на лавке, слушал обычные слова Татьяны насчет общего стола и плохого аппетита. Потом сам пошел в чулан и все в нем осмотрел перед сном, все так же хмуро поднялся в боковушку. За дверью слышались слова вечерних молитв. Федор их читал по каноннику, в тонкой полудремоте слушал их отец Павел, четырехлетняя Нонка спала на подстилке у стенки. Евграф благочинно стал в угол. Потом Федор подошел к кровати.
— Евграф Захарыч к тебе пришел, батюшка!
— А, Евграф Захарыч! — обернулся отец Павел. — Давно вы к нам вечерком не заходили… Дай табурет, Федя.
Но с хозяином случилось что-то необычное. Он опустился на колени и уткнулся лицом в складки подзорника. Голова его тряслась от рыданий.
— Что случилось? Федя, выйди! — приказал больной. — Что с вами, Евграф Захарыч? О чем вы?
— Окаянный я! — вылетало слово за словом. — Грешен я перед Богом и тобой, родитель мой! Польстились мы на твое, на законное! На хлеб твой насущный! А он-то, хлебушко, лежит в чулане, гниет. А ты не ешь… Жадность наша! И вправду, кулак! Только теперь я понял, что кулак… Ох, батюшка ты мой! Душу хотел через тебя спасти, а вот — как мы тебе служим! Все отобрали нужное, суем тебе ненужное! Стыд какой! Грех — по греху… Родимый! Замучился я! Сними с меня камень! Ужо все тебе открою. Бери у нас все обратно… Сыты мы все, сыты до отвала. Желанный наш! Ешь-ко ты свое и наше, только живи!
Вместе с ним плакал и утешал его отец Павел. Он успокаивал его тем, что ни разу не подумал упрекнуть, что между ними счетов не должно быть, сам извинялся, что так вышло с его болезнью насчет общего стола… Одним словом, так повел речь, что неизвестно, кто был больше виноват — а наверное, уж он грешнее всех остальных, но Евграф все выплакивал свое, шептал что-то затаенное, выносил наружу все давнее, тяжко дышавшее в груди, твердил: «Отпусти, отпусти», и ничего с ним нельзя было поделать… Вошедшему Федору велено было достать из чемодана бережно завернутую в широкое полотенце епитрахиль, полученную им с первой посылкой из дома…
9
Так шли морозные, похожие один на другой дни. О том, что Аля уехала обратно к больной матери, отец Павел давно знал из ее письма, полученного им в ноябре, после праздников. Из торопливых, полубезумных строк он сразу увидел, что творилось в ее душе, и прикоснулся губами к кляксам–слезам, горячо молясь о девочке с горячим сердцем. Теперь она была дома! Большая забота и недоумение при мыслях о ее приезде сразу покинули его, и он невольно прошептал слова любимой молитвы «Ныне отпущаеши». Теперь ему оставалось — молиться, терпеть недуги и ждать — чего? Весенних дней? Но ступни ног, нагруженные отеками, гудели и не давали покоя по ночам. Травки, принесенные фельдшером, помогали мало. Силы убывали очевидно и ощутимо. В первые дни пребывания в селе он еще вставал довольно свободно и с помощью Федора, с одной стороны, и палки — с другой, то выходил в чулан и сени, то спускался в нижнюю избу к хозяевам, чтоб самую чуточку посидеть, поговорить и обрадовать их своим приходом. Иной раз выводил его Федор на дворик за домом, где стояли у Евграфа штабеля сосновых дров, сложенные ровной клеткой, оснеженные сверху, вкусно и остро пахнувшие смолой. На дворике–палисадничке имелась и скамеечка со спинкой и столик, пить чай в летнее время. Остаток Евграфова леса дремотно шелестел, ссыпая вниз снежок. Долго на морозе сидеть не приходилось; полюбовавшись на небо, на тайгу, синевшую вдали, отец Павел снова уходил к себе наверх. «Побывал я в своем затворе! — улыбаясь, говорил он Федору. — Се покой мой, здесь вселюся навеки!» — эти слова написал он в первой открытке Алечке в Иркутск. Письма от жены из Ленинграда шли исправно, всегда добрые, дружеские, деловито спрашивающие, в чем он нуждается. Они были насыщены школьными событиями и поклонами друзей. Другие — причудливые, несобранные, но всегда сердечные — от Арсения, и, наконец — от сестры Маши и от Али. Мария Петровна отболела тяжелым тифом и теперь поправлялась. Аля работала в аптеке, думала о вузе, по-прежнему вела дневник. Он с трудом, но всем отвечал хоть по страничке, писал успокоительно о здоровье, что ему хорошо, что его окружают сердечные и заботливые люди, а свою Нину просил думать больше о себе, не беспокоиться о нем, все упование по-прежнему, как в детстве, возложить на Бога, неизменно подписываясь в конце письма: «Твой недостойный молитвенник Павел». В конце января Аля получила от него ответ на свое письмо и тревожно задумалась над несколькими строками. «Что бы это могло с ним быть?» — соображала она. Писал он так:
«Здоровье мое в основном хорошо, но я сильно переутомился, устал, меня одолела временная неврастения и сильная слабость, я понял, что мне не могут помочь внешние средства — я стараюсь подолгу лежать и молчать, если возможно — в уединении, читаю, размышляю и вообще предаюсь духовным упражнениям, и бывает легче. Я стараюсь молиться, но, как опять учат нас святые отцы–наставники, стараюсь молиться с верой, терпением и кротостью, все вверяю Всемогущему Богу — Господь и Его великий Угодник, Святой Николай, как должно коснутся наших сердец…»
В конце письма стояло:
«Шлю тебе свое смиренное духовническое благословение. Мое сердечное почтение и благодарность за оказанные услуги передавай Елизавете Павловне. Она за меня приняла беспокойство и труды. Еще раз да благословит тебя Господь!
Преданный, смиренный Павел А.»
Письмо не утешило, как предыдущее, но взволновало и озадачило. Больше того, оно вонзило острую как стрела мысль: «Последнее письмо, больше от него писем не будет». Что это за временная неврастения, с которой он боролся не внешними средствами? Слова об усталости и переутомлении, конечно, относятся не к вихоревскому периоду жизни. Он устал тогда, «там», а здесь что-то произошло… Большего Аля представить себе не могла. То, что ей предстояло, что лежало на ее пути от настоящего часа до конца жизни — это молитва за него, притом не такая, как у нее была в Иркутске, а указываемая им — с верой, терпением и кротостью.
Письмо это о неврастении и усталости отец Павел писал Алечке с величайшим трудом, входя в новый период своей скитальческой жизни. Пережив тяжелый сердечный припадок в конце января, он решил его замаскировать перед родными смутными и неточными определениями. После приступа он окончательно слег. Каких-нибудь тяжелых потрясений или переживаний за последнее время поселенчества нельзя было и допустить, дни текли спокойно, словно в недалеком прошлом и не было бури. С приездом в село наступила статика жизни, и моряк–скиталец вошел в спокойную пристань. Его окружили забота и внимание простых, искренних и сердечных людей, Федор стал его верным духовным сыном. Он ловил каждый вздох и взгляд батюшки. Вихоревские сибирячки с вековечным приветом «родимый, желанный ты наш!» при каждом удобном случае проникали к отцу Павлу и совали ему или Татьяне то парочку соленых огурцов, то капустки, то творожку из печки. Сибирь скуповата в мужьях, но жены превозмогали все и делились чем могли.
10
Накануне приступа, что был в канун Татьяниных именин, у отца Павла сидел гостем Евграф. Теперь он часто сюда заглядывал и рассказывал о молодости, о Байкале, о золотых приисках и о многом таком, о чем люди сознательные и кающиеся открывают только духовным лицам. Батюшка слушал его, уставая, засыпал от полутьмы, монотонного голоса и слабости. Иной раз забывался и произносил во сне какие-то слова. Евграф вышел, стараясь не стучать сапогами, но отец Павел все же проснулся.
— Вы уже уходите, Евграф Захарыч? Извините, я задремал и нарушил ваш рассказ, — смущенно оправдывался он.
А в Татьянин день наверху не было никого: ни Евграфа, ни Федора, ни тем более именинницы. Она вздувала для гостей самовар, хозяин ушел по делам. Федор колол дрова у ближних соседей. Отец Павел лежал один. Это правда, что началось как будто со скуки, не то от закрытых ставен, не то от мыслей, соскочивших с молитвенных рельс. Тяжелая приземистая тоска–скучища вроде старухи–вековухи вошла, вползла на него, наступила на грудь и первым делом — сдавила ему челюсти. Что за страшная боль за ушами, от нее нельзя было ни раскрыть рта, ни позвать людей… Но кого? Все были внизу, хлопали двери — это гости. Он было простонал, но не мог, кто-то болевой и удушающей хваткой держал его за шею, давя на уши, но понемногу опуская пониже и пониже костистые пальцы, наполнил болью и смертным страхом верхние ребра, весь вздох. Рука соскользнула пониже, и теперь вся мука шла не то от подреберья, не то от локтей, опоясанных браслетами из чугуна. Слева, отодвигаясь к области желудка, и направо — по ходу нижних ребер, шла невыносимая эта жуть, не позволяя ему ни вспомнить, ни позвать на помощь Святое Имя. Приступ нес боль и смерть. Но он все же вспомнил и произнес, не голосом, не вздохом — они были во власти чугунной руки, но каким-то сознанием помимо всякой телесной возможности, как бы вне его существа летящего, он, не могущий вдохнуть и выдохнуть, неизреченной силой — выплакнул Святое Имя… Послышались шаги Федора. Он входил в комнату с куском пирога от Татьяны. С кровати пронесся слабый стон… Через минуту дом был на ногах. Татьяна спешно раздувала второй самовар с мыслью — кипяток так или эдак пригодится, гости ее давали всякие советы, не лишенные смысла, но трудноисполнимые в спешке, а бывший в гостях посланец–фельдшер, кинув на лету распоряжение «согреть ему ноги», помчался за санитарной сумкой в правленскую избу. Он не то что надеялся помочь больному ее содержимым, но считал неудобным явиться без мешка с облупленным красным крестом на вызов; в сумке, давно опустошенной и никем не пополняемой, имелись ножницы, два запыленных бинта, клочок ваты, две ампулы камфоры, с давних времен не кипяченный шприц с толстой иглой, пузырек с высохшим йодом и каким-то чудом уцелевшие капельки от живота. На их эффект, как содержавших валерьянку и опий, и рассчитывал Василиск, стрелой бегущий к Евграфу. Бесправный медработник был по природе отзывчив, но, кроме того, как опытный боевой конь — сразу бежал на случай, хотя бы с самыми ничтожными средствами, соображая, что бы такое ему сказать, чтоб утешить больного и самому не оплошать знаниями в обществе. Ходили слухи, что его восстановят в правах и дадут поработать здесь последние годы по специальности — иначе все забудется, что учил, а учил давно, и все приходит новое и новое! Вот, например, сердце — все шло ничего-ничего, и вдруг что-то стряслось. Ну что он, Василиск, может помочь? К ногам тепло и капли от живота, а дальше? С такими мыслями, запыхавшись, он предстал у кровати, спуская с плеч ремень сумки; из нее торчал подковой слежавшийся, покоробленный жгут и две шинки. Больному было трудно говорить — пропал голос. Капли обильного пота стекали со лба; фельдшер посчитал пульс… Боли понемногу оставили отца Павла, они, уже рассеянные и нестрашные, затихали в спине, под лопаткой, он, улыбаясь, смотрел на молодого человека и на руку, сжавшую его запястье. После расспросов о том, что случилось, Василиск счел уместным глубоко выдохнуть и заявить пациенту:
— Пульс у вас — «целер» (celer — лат., быстрый).
— Это что-нибудь опасное? — шепотом, но уже с живым интересом спросил батюшка.
— Н‑нет, ну как вам объяснить? Бывает при таком случае. Внутри сосуды разомкнутся, и все в порядочке. — Он снова проверил пульс и восхищенно заявил: — Вот видите, я прав. Выравнивается… Уже не «целер», осталась, как бы сказать? — небольшая «целеристость». Чайку бы вам сейчас! — вот хорошо. Все, что может согреть. Ага! Утюг к ногам — прекрасно, не обожгите, Татьяна Сидоровна! Вот и еще вам капельки, немного горькие, там наркотик и всякая трын-трава…
Он отсчитал в чашку двадцать капель желудочных. Отец Павел послушно проглотил полынную горечь.
«Надо бы сейчас, — подумал фельдшер, — еще укол, да кто его знает, что за шприц? Хороший-то, новый «Рекорд», председатель у себя держит, выписал из Братска. А с этим уродом возиться, кипятить, да и разнимается ли он? Надо им заняться как следует».
Он стал прощаться с отцом Павлом, советуя ему заснуть, а пищу завтра самую легкую.
Что вы, что вы, Укоров! — отстранил он руку Федора, совавшего в карман шоколадку «Золотой якорь». — Я не возьму, это простая человеческая обязанность!
Но все же Федор запихал ее поглубже и придержал с силой карман.
Отцу Павлу становилось все легче. Он пожал руку фельдшеру и прошептал на прощание:
— Вы совсем не тот Василиск, на которого надо наступать…
Но фельдшер его не понял и вломился в амбицию:
— Наступать на себя, сказал он, — я вообще никому не позволю. — И ушел, унося сумку, полный сознания своего достоинства и исполненного долга.
11
С той памятной ночи Федор старался как можно реже покидать своего батюшку, но это ему трудно удавалось — то он разносил почту, то уходил на сдельщину, то в ближайшем лесу началась валка сосны и выкорчевка, а затем пилка и колка дров. Без слов и жалоб, даже самых малейших сетований, лежал, уже не вставая, отец Павел. Болевые приступы повторялись что ни день, не сильные, терпимые, минутного напряжения, но он слабел. С бьющимся сердцем, тревожный и смущенный, приходил домой Федор, присаживался рядом, брал руку и прижимался к ней губами. Как жадно ему хотелось отогреть холодные пальцы, согнать с них синеву! В один из дней начала февраля, когда Федор на минутку прибежал от соседа, где колол дрова, и как всегда приник к постели отца Павла, тот отнял у него свою руку и положил ее ему на голову…
— Паче всего — люби Бога, Федя. А человек? Что человек? — хоть и самый близкий? Трава! Сено! Скосят его — и нет… Ушел — и все — и нет его.
— Ты это про кого — ушел и все? — встрепенулся Федор, поднимая голову.
Рука пастыря тихонько соскользнула на подушку.
— Про кого? Да хотя бы про себя… Воюй, воюй, Стратилат–Федюша! Все равно расстаться придется…
— Не пущу! — Что-то горячим ключом закипело в груди и горле у юноши. Он обеими руками охватил плечи отца Павла и сжал их так, что тот невольно поморщился.
— Не пущу! — твердил Федор со слезами. — Сказал, что не пущу — и кончено…
Взволнованный таким неожиданным неистовством, батюшка едва мог освободить руку и гладил его по голове.
— Ну что я без тебя! — бормотал Федор. — Отдать душу, человеком стать — и снова один? У чужих? За то, что прежде бывало, не примусь, а как жить, да без отца, в этакой дали, в тайгище — не пойму.
— Понимать тебе нечего. Все ясно. Твой срок небольшой. Только надо все по-новому, по-честному. Люди хорошие везде есть. Тот же Евграф, он тебя никуда на сторону не пустит…
— Евграф? — переспросил Федор. — Да он — волк. Волком смотрит.
— Не волк он, Федя. Увидишь, что не волк. Я на него оставлю теперь тебя спокойно. Да и мы-то с тобой разве не будем вместе? Будем! По-прежнему. Только видеться нельзя друг с другом, трогать, вот так душить меня до полусмерти, как сейчас… Ведь чуть не задавил… Она меня душит, и ты тоже, каков у меня сыночек.
— Кто это — она? — насторожился Федор.
— Кто? Да моя болезнь… Успокойся, родной мой. Нельзя так. А знаешь ли, мне что-то получше сегодня… Солнышко на дворе, право, полегче.
Робкая надежда блеснула в сознании юноши.
— Может быть, «она» пройдет у тебя?
— Все в Божьей власти, Федя. Может быть, и пройдет…
Сердито стучал в дверь Евграф.
— Что же ты зашабашил на сегодня, Федька? У Чечулиных дров до неба, а он в хате! Айда колоть, до обеда далеко, лодырей тут не треба!
— Это я, я виноват, Евграф Захарыч… я его задержал, — слышался шепот с кровати.
Хозяин сменил сразу гнев на милость. Суровое лицо осветилось улыбкой.
— Получше ль тебе хоть маленько, батюшка? — и он подошел к больному. — Ты вот горловину застудил, все шепчешься. Ужо я накажу Татьяне горчицу растереть, да к шее, а за обедом — калгану рюмку. Важно! Мигом оздоровеешь.
Все та же улыбка в ответ. Так улыбаются детям, когда их побаловать надо и скрыть от них что-то!
«Вы-то ничего про меня не знаете, а я знаю…» — шептала эта улыбка в ответ на все слова и вопросы и на заботы Евграфа. Отец Павел светло глядел на своего хозяина и благословил Федора, когда тот, уходя, подошел к нему.
12
В отсутствие Федора и Евграфа место у постели больного занимала Татьяна, так как хозяин и поселенец работали до вечера. Татьяна садилась в боковушке с пряжей или вязала носки, но как только отец Павел открывал глаза, заводила всякие разговоры, не то с целью развлечь, не то самой освободиться от постоянного пребывания с молчаливым мужем. Суеверные понятия мешались с религией. Тут вспоминались и случаи с проклятьем детей, их находили в виде оборотней в тайге, на болотах, иной раз матери удавалось перекрестить и вновь усвоить такого ребенка и даже привести его домой. Здесь таилось вековечное суеверие полуязыческого типа, не побежденное ни строем, ни религиозным началом, слабо привитым с детства. Читала Татьяна хоть медленно, но не по складам, и все пыталась познакомить батюшку со «Сном Богородицы». Но он просил ее об одном — Евангелии. Она читала однотонно–убаюкивающе указанные места и вступала со своими выводами.
— Истинно так, батюшка, мой свет! Придет Илья, должен прийти. И всему тогда конец. Нонешнее лето все громыхал. Мы-то, окаянные, воевали, средняки да кулаки, дрались между собой, что греха таить, а он-то, грозный, все гремит и гремит. О себе дает знать. Дескать, люди, не забывайтесь, я тут. Придет грозный день — жупел, все попалит. В библиях показано! А вот у Даниилa–пророка… Дремлешь ли, кормилец?
Батюшка не отвечал ей. Он спал…
* * *
Дни, как на подбор, выпадали тихие, безветренные, морозные. За неделю до Сретенья повеяло будто — на оттепель, но к ночи снова сковало на двадцать градусов с лишком. Сретенский праздник был не так давно престольным в Вихореве. И по сейчас прежние богомольные хозяйки пекли пироги, угощаясь ими накануне, как и раньше, если «престол» не приходился в воскресенье, так как в будни все шли на работу. Числа десятого февраля отцу Павлу принесли письмо от жены.
«Дорогой мой! — писала она ему. — Беспокоюсь о тебе, все ли у тебя есть? Пиши мне все, все твои желания и просьбы. Я твердо надеюсь на летние каникулы. Уж теперь весна не за горами, приеду к тебе… жди, увидимся!».
Ходики простучали полдень. Письмо прочтено, спрятано под подушку… Оконная рама солнечным, крестовидным отпечатком легла на дверь. Ничто пока не теснило освобожденного вздоха. Болезнь дала отдых в два с половиной дня, вот он спустил с кровати одну за другой ноги, и потихоньку, опасаясь много шевелиться, начал одеваться, и когда вошел Федор — батюшка сидел на кровати, как здоровый, протягивая ему обе руки.
— Федюшка, помоги встать! Где мой подрясник, тулуп? — все так же шепотом, но бодрым, каким-то усиленным, вот-вот перейдет он в голос — распоряжался отец Павел и на недоумение, испуг и протесты Федора все усиливал свое рвение скорее одеться и выйти на солнышко, в свой любимый закуток, на Евграфов дворик, прозванный им «затвором», или «пустынькой». Напрасно уговаривал и перечил ему Федор! Всегда покорный и подчинявшийся ему в деле болезни батюшка стал неузнаваем. Он торопил с валенками, свои не налезали ему на ноги, пришлось надеть Евграфовы громадные, потрескавшиеся, да еще с крагами, засунутые на русскую печь — они служили хозяину для леса и пока что отдыхали, прожариваясь в тепле, на работу он ходил в других, более низких и легких.
— Крест! — все тем же напряженным шепотом попросил отец Павел. Достали его из-под подушки, где он лежал, завернутый в епитрахиль. — Теперь все готово к прогулке.
— Напрасно ты, отец родной! — снова заговорил было Федор. — Как я тебя по лесенке стащу, такого слабого? Татьяна Сидоровна, помоги-ка нам! — крикнул он сверху.
— Ой ли? — послышалось внизу. И Татьяна пришла на помощь.
Отец Павел схватил рукой шею Федора, Татьяна поддерживала сзади, и лесенка благополучно миновалась. Внизу Татьяна переняла батюшку в свои руки, пока Федор открывал тугую дверь на дворик, все еще ворча:
— Как-то назад доберемся? Сойти-то легче, а вверх?
Но отец Павел был далеко от всего. «Солнышко! — шептал он. — Всякое дыхание… Воздух-то, воздух! Пустыня моя желанная!».
Первым сел Федор и, отклонясь назад, к стенке деревянной скамьи, принял на свою грудь всю тяжесть батюшкиного тела. Зеркально чистый, насыщенный хвоей, морозный воздух проникал до утробы. В просветах лиственницы и еловых веток алмазами сверкали пелены полей. Глаза до боли слепил полуденный диск солнца. Отец Павел, как на доске, лежал на груди Федора, положив голову на его правое плечо, немного сдавливая шею, опустив руки вровень с его руками. Тишина, воздух, недосыпаемые ночью часы сразу убаюкали Федора. Он забылся, задремал молодым, свежим сном, и даже веточка с мелкой шишкой, упавшая сверху, не потревожила его, и когда над ним раздался знакомый шепот и стон, он на него не откликнулся. Отец Павел простонал еще раз, другой, и только тогда пришел в себя Федор.
— Подними меня… скорее… Федя! Опять… как тогда… конец, все…
Он, весь отяжелев, лежал на груди Федора, тот с трудом поднял свою ношу, уместил больного на скамейке, сбросил с себя овчину, подложил ему под голову и бросился в избу. Вскоре прибежали люди, соседи Евграфа, Татьяна, общими усилиями внесли, втащили отца Павла наверх, послали за Василиском, нагрели воды. Фельдшер прибежал сегодня во всеоружии. Он достал у председателя новый шприц, сразу сделал укол. Отец Павел понемногу освобождался от болевого удушья, лицо его слегка окрасилось цветом жизни, снова пробегали под лопаткой слабые воспоминания болей, появился обильный пот на лбу и на шее. Сжимая влажными пальцами руку Федора, он все время что-то шептал. Татьяна и Федор наклонились послушать.
«Зачем было меня будить? — шептали бледные губы. — Опять мученье? Снова? Я так хорошо уходил… Помешали…».
— Кто тебя будил, кто мешал, родной? — заволновался Федор, то растирая ему руку, то пряча ее под одеяло.
— Помешали… — чуть слышно твердил отец Павел. — Там, где солнце… С той стороны. Розовое небо… Розовый цвет… Да, да… я видел. А вы меня потащили… закричали, и все спряталось… Не мешайте больше — было так, так хорошо… розовый… все небо! Истинно — видел…
Уходя, фельдшер объяснил собравшимся.
— Перед концом, знаете, бывает у иных… Такие желания — как у него, «в садик, на воздух». А что в садике? Кислород с азоном, и еще там что-то третье… Сосуды сжались — вот и произошло… Надо давать полный покой… и пульс у него даже не «целер», а как ниточка. Да… Для него конец — самое лучшее дело… Отщепенец общества, что там говорить! Мое почтение, Евграф Захарыч! Рад служить больному! Если что надо — зовите, я мигом.
13
Наступили дремотные часы. Уже давно закрыли ставни, пришел вечер, а отец Павел спал. Стараясь не застучать, не скрипнуть половицей, заходили то Татьяна, то ее невестка взглянуть на болящего и, выходя, сообщали кому-то: «Спит». В нижней хозяйской избе было душно и накурено, ради хлебов поздно топили печь — с утра Татьяна не управилась. За чаем сидели недавно пришедший Евграф и его дочь, молодуха Зина с четырехлетней Нонкой. Девчонка от природы была дика и всех стеснялась, пряталась в складки материнского платья, и чуть только с ней заговаривали или начинали шутить — закрывала свои небесного цвета глаза, тогда она считала, что ее никто не видит.
— А вот я тебя все равно вижу, ам! И съем! — пошутил дед. Розовое лицо мигом отвернулось, и Нонка вся исчезла в широких сборках Зининой юбки.
Зашли к Захаровым и соседи–колхозники, забежал вечером и Василиск узнать о своем пациенте.
— Наше тебе почтение, медицина! — сказал Евграф. — Садись с нами чай гонять. Написано: «индийский первый сорт», а Индии никогда не видел.
Василиск Петрович любил бывать у людей. Во-первых, он рассуждал так, всего услышишь, кое-чего узнаешь, а жизнь здесь — дыра. Во-вторых, сам себя покажешь — и образование, и политика. И медициной можно щегольнуть: тебя о чем спросят — ты ответишь — вот и вышел санпросвет. А может быть, и разрешат здесь поработать законным путем последние годы срока, так эти самые беседы можно задним числом проставить на отчетности, и он их честно запишет, без всякого вранья, так сказать — не с потолка. Столько-то бесед–лекций, столько-то вопросов-ответов, предложений… и он, в мечтах о будущем, помешивал чай. За столом касались дел текущего, уже 1932 года, прямого и сложного подхода к сбору кооперативных паев и взносов. Евграф волновался, свирепел.
— Скажем, я им в своем взносе не откажу, внесу сколько надобно, а они мне сухой тресковины да чудок леденцов, да карих глазок, с которых пыль сыплется, на кой они мне? И за что эдаки паи? За мои кровные, за мои пречистые… За мои в поте лица…
— Ну положим, что твой пот лица? — перебил его сосед. — Маленько ты того… Евграф Захарыч, заливаешь… Все знают, откуда нажито, неужто пожилые не помнят, что ты в молодые годки за желтым песочком ходил…
— И ходил, точно! — не унимался Евграф. — А в комодах да сундуках ты рылся? Доподлинно ли тебе известно, привез я песку? Может, другой человек тогда был? А нонечь новый? Ту власть тогда признавал, а теперь ее убил?
— Хамелеон что ли вы, Евграф Захарыч? — чуть насмешливо улыбнулся шурин.
— Пущай и хамелеон, а уж раз повернулся ветром в сю сторону, так и стою в сей стороне. Много у вас воображения! Бурый ты медведь с тайги. Тоже… урекатели! Пот лица ему мой не понравился! А коль хочешь знать, пот лица и тогда, с песком, был нужен, и нонечь, при трудах еще как необходим… легко ли добывать хлеб народу?! А?
Все замолчали, допивая чай… Разговор пресекся сразу, к чести Евграфа было — хоть высказаться, но, не подлив масла в огонь, затушить ссору. Но и шурину, и соседу, и самому хозяину стало как-то не по душе. Один фельдшер благодушествовал, пытаясь переменить тему разговора.
Перегибы наши, перегибы! — возмущался он. — Я, конечно, не прежний кавалер, но уж всецело против таких эксцессов, как, например, у вас в доме. Вспоминаю с ужасом, Татьяна Сидоровна, ваше рукобитие с дугой и кочергой. Помыслить не могу! Где просвещение? Тьма из «Грозы» Островского! Первым делом — окультурить население, провести инструктаж… Везде было оповещено, плакаты, молодняк прибыл. А где проведено? Комсомол — и сразу драться! Для того ли его прислали по нашим гробовым тропинкам из Братска? Человек с понятием — он сам придет и отдаст свое. Возьмите, скажет, из моего, что вам надобно, на пользу народа!
— А у Феофанихи что было! — даже с какой-то дикой радостью перебил его шурин Евграфа. — Старуха одна сидела в избе, а в окошко кричат: «Выметайся, карга, старый элемент, даешь избу под ясли!». Пятеро, два дюжих колхозника, трое комсомольцев на подмогу — Феофаниха чуть ума не решилась! Хорошо, что Пелага подоспела, у нее нрав-то отцовский, впрямь покойник Феофан! Два горшка глиняных разбила, да осколки в них бросать, да с кулаками.
— Я их всех потом перевязывал, пять лицевых перевязок, — не мог не упомянуть о себе Василиск.
— А все же пол-избы у них отняли? — поинтересовался сосед.
— Не без того… А в братской газете писали: «Коллективизация прошла благополучно. Отдавали с радостью. Все — как один!». Тишь да гладь! Тошно слушать!
С этими словами Евграф поднялся с места.
Пойти наверх, взглянуть… Что там, дышит ли?
За столом наступило молчание…
14
Тяжело поднимался по лестнице Евграф. Не по себе ему стало. Ведь только недавно он, освободясь от многолетнего груза, всего себя выплакал у батюшкина ложа, решил обуздывать свои вспышки и порывы — и вдруг… Ну что дал ему спор с колхозниками? Не вышел ли он из тишины в земную бузу, да еще с припоминанием прошлых лет? А ведь тишина назревала в нем, родилось решение ее хранить, укрощая прежние вспышки. В таком смятении он вошел к батюшке. Отец Павел не спал, внимательно и остро взглянул на вошедшего. Голос к нему после припадка в садике не возвращался. Он говорил шепотом, но вполне внятно, с примесью сипловатости, слышно и раздельно, при полном сознании.
— Вечер, ночь? Что-то путаю… — И он повернул лицо к Евграфу. — Вот что, Евграф Захарыч, послезавтра — Сретенье Господне. Поговеть хочу. Сегодня, как придет Федор, так и почитаем, что положено… И ты со мной тоже. Завтра, не уклоняйся… Не встать мне уж больше, а до праздника я, даст Господь, доживу… Без поддержки не хочу тебя оставить… мы вместе… последний раз…
Не сразу ответил Евграф, что-то соображал.
— Божья воля, батюшка, родной… А только как же быть? Ведь давеча, когда я… Ты мне тогда все… как есть, все…
Он замялся. Отец Павел понял его.
— Есть у меня, есть еще Они, Святые Дары! — радостная дрожь слышалась в его шепоте. — Федюшу я тоже, на днях…
Он задышал часто и неровно. Евграф наклонился над ним, боясь припадка. Но больной откашлялся и продолжал:
— Чудом они у меня… По реке сюда ехали, встретился знакомый… тоже священник, узнал меня и передал. Одному мне давал, а разве можно одному? На всех хватило.
Но Евграф еще больше смутился.
— Как же я у тебя — последнее, насущное! Еще, может быть, тебе не раз, не два…
— Мне? Мне уж, как сказано, не пить больше от плода виноградного… Слава Богу за все!
Решили, завтра, чуть свет Евграф придет наверх. Сегодня не могу, завтра покаюсь, объяснил он. За чаем сидели, болтали лишнее, ругались насчет тех же паев.
— А завтра, думаешь, лучше станет? — хитровато улыбался батюшка.
— Не лучше, отец, а все же ночка малость от грехов отодвинет, прости, Христа ради!
Наступил незабываемый вечер, вся сущность Евграфа целиком растворилась и отошла от суеты и жизненных дрязг в тишине слабо освещенного мезонина, под чтение канонов и вечерних молитв. Их читал Федор невнятно, но ревностно, путаясь в славянских ударениях. Евграфу казалось, что он слышит ангела. Он стал на колени и, повторяя мытареву молитву, отрывисто клал земные поклоны.
Молись за меня, родимец! — просил он батюшку, прощаясь с ним до утра. — Видит Бог, хотел бы я стать новым, что младенец, ан — старая шкура не дает, все на перегиб…
— Стать новым? — улыбнулся отец Павел. — Ты и есть новый, а на старую кожу не смотри, она до конца мешает. А ты иди, все иди — и придешь, только кайся…
Одышка мешала ему шептать.
— Вот что прошу тебя… Евграф Захарыч, не откажи. Федора моего — не оставь. В тяжелом пути приобрел я сына. Родных детей не имел, а он сразу так в руки и дался. Не ленив, трудится, детская вера у него, простая, а присмотр и забота — нужны. Сам понимаешь, с какой жизни пришел! Теперь иди… Не бойся! Доживу до праздника, даст Бог!
Наступил канун Сретения. Чуть-чуть различались в комнате предметы, потрескивала догоравшая лампадка. Федор прибавил в нее масла, поправил фитиль и ушел, обещаясь заглянуть попозже днем. Хозяин с отцом Павлом остались одни. После исповеди, когда Евграф, получив отпуск, встал с колен и приложился к Кресту и Евангелию, отец Павел попросил его сесть рядом с ним. Оба долго молчали, Евграф поставил поближе стакан с водой и готовился услышать причастную молитву. Но вместо нее раздался внятный, строгий приказ:
— Теперь я буду каяться… Слушай меня… Принимай мои грехи, ради Христа распятого.
— Батюшка! — со слезами умолял Евграф. — Ты у Меня — что? В уме ли ты, родной? Ты мои грехи ноне ведаешь, а я разве могу? Смею ли? Вспомни, свет мой ясный, что поведал я тебе! Чего не творил?! Пускай хоть тот же Федька, он еще ребенок…
— Ты — мужчина, муж, — твердым шепотом, властным тоном, какой никто не предполагал у него, настаивал отец Павел. — Не отпусти меня так… Минуты — и те сочтены… За послушание прими. Слушай! Молитву я прочитаю, А когда я кончу каяться, ты — тебе не надо ничего сказать, кроме «Бог тебя простит — и сам меня, грешного, прости».
В сердечном трепете, в небывалом ужасе принимал Евграф тайну пасторской исповеди. То — казалось ему, пол неспокоен под его ногами. Голова его склонялась почти до колен. Вначале он было пытался заткнуть пальцами уши — батюшка легонько прикоснулся к его руке, и он освободил уши, внимая словам, как бы издали доходившим до него. А отец Павел все шептал и шептал, облегчая не только себя, но и того, кто слушал его. Долго ли так длилось? Но то, что долгие годы камнем лежало на душе принимавшего, то, что было уже сметено с его плеч первым раскаянием, в эти минуты испускало последний вздох, облегчая его начисто, возвращая ему покой, сон, убивая старое прозвище «волк».
Батюшка, наконец, замолчал. Молчал и Евграф, вытирая рукавом нос, глаза, щеки.
— Все, кажется, все? — прошептал кающийся. — Теперь ты мне скажи, как я учил… Бог тебя простит — и ты меня прости…
И после его слов отец Павел сразу начал читать молитву перед Причастием.
15
После тяжелого удушья на дворике сильные боли оставили батюшку. Посещали его коротенькие, мелкие, их можно было терпеть, не показывая виду. Нарастала тянувшаяся часами сонная слабость, длившаяся до вечера тринадцатого февраля, тогда она его покинула на малое время, вернув ему несколько сил, чтобы в полном сознании подготовиться к тому, чего он долго ждал, и четырнадцатого февраля утром приобщился к Святому Таинству.
В десятом часу утра Татьяна принесла наверх молока и чаю — батюшка дремал. В двенадцатом часу на минутку забежал Федор, увидел его спящим и обрадовался: «Пусть он спит, сном все пройдет! Иначе быть не может, болезнь с сегодняшнего дня пойдет на улучшение, после того, что случилось на дворике — нет приступов!» С такими бодрыми мыслями он собрался уходить, но перед тем подошел к постели
— и спящий на минуту открыл свои обесцвеченные глаза, взглянул на Федора и снова их сомкнул.
— Ты же помни, отец, обещал мне весной в тайгу! Я же вижу, что тебе лучше! — говорил юноша, и слова его падали в безответную тишину комнат. — Со мной не спорь, сном все пройдет!
От двери он снова вернулся к постели — не уйти никак!
— Опять у тебя холодные руки, как из-под снега! Держи под одеялом, пока не согреются. Ну, я пошел…
По дороге он просил Татьяну, чтобы снесла батюшке утюг к ногам.
В четвертом часу Татьяна зашла проведать больного. Он спал. Лицо его хранило безмятежное выражение покоя. Она потрогала ноги — утюг их не согревал, холодные до колен.
Темнело, наступал вечер — время начала всенощной службы, если б маленькая церковь не была заперта.
Внизу Татьяна только что вытащила из печки праздничные пироги. Затем начала готовить батюшке ужин: мисочку с овсяным киселем, молоко, кусок пирога, и окликнула входящего Федора, чтобы отнес наверх. Он еще застал тихие стоны, шевелящиеся губы и, наклонясь над батюшкой, успел поймать в последнем шепоте: «… по глаголу Твоему…» И замер весь, видя, что отец Павел, минуту спустя, слегка вздрогнул, смотря уже не на него, и вообще ни на что, а как- то иначе, и его новый взгляд, останавливаясь на одной точке, проникает в стену.
* * *
Горе осиротевшего Федора было так велико, что хозяева долго не отходили от него. Как ни утешал, как ни уговаривал его Евграф, в первые часы все было тщетно.
— Он тебя, парень, шибко любил, а мы, Федя, сами тебя залюбили и живи у нас как сын, не уходи, слышь, никуда, — так подбодрял его и сам опечаленный Евграф. — Работай только честно, с вертушками не знайся, не трепись, как мельница по ветру. А зайдет скука, мы теперь одна семья, вот сынок приедет, тебе товарищ. Скуку-то и по боку. — А Татьяна все поминала про амнистию, что если дело Федора, про которое он не скрывал, снимут с политики, оставив один «культ», то его освободят совсем и пошлют учиться и работать в тот же Братск — Иркутск. Слышно, что и здесь скоро развернется большая стройка, произведут выкорчевку тайги, ее подвинут в сторону, прокопают широкие дороги, по Ангаре поставят «слюз», и путь в тележках–гробиках будет никому не нужен.
— Спасибо на добром слове!.. — отвечал Федор. — Не оставьте уж меня. Ведь я теперь совсем как есть — сирота. Ты мне помоги, дядя Евграф, помоги вот в чем. — Он улыбался, а в глазах стояли слезы. — На честного человека экзамен выдержать.
В тот же вечер, узнав о кончине отца Павла, полколхоза перебывало у Захаровых. Батюшка прожил здесь около четырех месяцев, а для многих стал «желанный, советчик, кормилец, родненький». Из сундуков Татьяна достала холст, нашелся золотой галун, еще от остатков церковной утвари — для креста на покров. Василиск Петрович сразу сбегал к председателю и попросил у него три метра марли из хозяйственных запасов на молочные ведра, — и принес марлю к Захаровым. В дом уже набился народ, в толпе женщин и ребят, пришедших проститься с покойным, слышался его уверенный голос:
— Я всегда ему удивлялся, приятный, воспитанный человек! При деликатном организме такие переживания: голод, тюрьма, высылка. Обидно! Мог быть врачом, инженером, даже профессором. А все отчего? В детстве просмотрели вредное влияние религии. Провести бы тогда должный инструктаж, стал бы настоящим человеком. Служитель культа! Ненужный элемент! Так сказать — не человек, а миф!
И присел чуть не до полу — рука Евграфа по-медвежьему опустилась на его плечо.
— Сам ты — миф, если хочешь знать! Про хороших не говори худо, не смей! Лучше за своей сумкой смотри, у тебя в ней такого «мифу» наложено, одна страсть! Сеном ее напихай, удобнее, чем с эдаким-то «мифом» бегать по больным! Кажись, полным-полна коробочка, ан пустые пузырьки да закрут резиновый, и тот для бегемота. Укола, и того не сделать вовремя! Срам!
Спохватился, помолчал, что-то вмиг пронеслось внутри тихим дуновением, и продолжал уже не свирепо, а внушительно, даже миролюбиво:
— У тебя, Василиск Петрович, есть родные, посылки шлют, хлопочи сюда полную аптечку, а председатель пущай твой ковчег с красным крестом произведет в настоящий вид. К весне разрешат лечить — лечи, а за мной дело не станет. Я в его память — хошь боковушку, хошь низ отдам на хорошее дело, «медпун» у тебя будет! Безобманно!
Фельдшер смущенно бормотал:
— Есть хлопотать аптечку и пополнить сумку! Приведем все в порядок полный, Евграф Захарыч.
Тем временем к Захаровым все прибывал народ. Женщины обступили фельдшера с вопросом, как умер, отчего, что болело? Василиск Петрович осмотрелся, нет ли поблизости критиканта хозяина, и начал боевой санпросвет.
— Сердце у человека, объяснял он, — насос. Кровь у нас течет по системе трубок. Трубки сносились, сузились, произошел крах, пульс даже не так называемый «целер», что тоже опасно, а как ниточка, и шабаш…
Женщины плакали, жалели, вздыхали, в трубках ничего не понимали, а устремлялись наверх, посмотреть и попрощаться с батюшкой.
16
В садике за домом, в батюшкиной пустыньке, как он его недавно называл и куда спустился для последней прогулки, два поселенца и Федор оканчивали гроб. Остро пахло сосновой стружкой. «Домовина» была сколочена по мерке, глубокая, и всем казалось — батюшке будет удобно лежать. Ее выстелили тонким холстом, приколотили мелкими гвоздиками марлевую рюшку Татьяниной работы, и на крышку — крест из золотого галуна. Тут же на дворике гроб окропили святой водой, бережно хранимой верующими села Вихорево, и внесли наверх. Отец Павел лежал в летней ряске, недавно полученной из дома, под новой простыней, с воздухом на лице. Сюда тоже нашили золотой крестик. В деревне — не в городе, хлопот с похоронами мало. Отметили в правлении сельсовета, что умер такого-то числа, такой-то поселенец, да и пошли на кладбище с самого утра на Сретенье рыть могилу. Батюшка был уже переложен в гроб, принесли всякой хвои, ельника, пихтовых и кедровых веток, можжевельника. Все, кто умел, читал Евангелие над усопшим. Похоронить в день Сретенья не удалось, надо было бы вынести пораньше, до темноты, да тут завелись небывалые разговоры, кто-то из жителей села подал голос за то, что такого человека надо похоронить с колокольным звоном. Откликнулись, заговорили, чтобы снова поднять на колокольню снятый два года назад и лежавший в подвале вихоревского храма колокол. Не поработать ли нам, братцы, общими силами на такое дело? Весом он не так-то велик, да и нас, верующих, наберется порядком, звон батюшку проводит, мы над ним пропоем, а на родине — отпоют заочно… Председатель Пимен Семенов хоронить не придет, неудобно, партийный! А до Братска звон не долетит, да про наш колокол все забыли, хотели взять его на сплав, и до сего дня…
— Айда за колоколом! — позвал Евграф, вновь сознавая себя старостой. — Мое дело, я заместо председателя решаю, мне и в ответе быть!
К церкви устремились поселенцы и вихоревцы, числом до тридцати человек — помощников и зрителей. Поднимали колокол дружно. И цепи, и веревки, и болты — все оставалось при нем, его вытащили из подвала в притвор на площадку, а оттуда на колокольню по цепи и веревкам. Но как же без песни при таком деле? И что петь? Не «Дубинушку» же тянуть!
Кто-то подал всем пример.
— Яко до Царя всех подымем!
Вокруг подхватили хором, вот уж колокол на месте, сверху его приняли, поднесли к массивному крюку, укрепили…
А в морозном воздухе долго еще затихало: «…ангельскими… невидимо…».
Когда с подъемом окончили, Евграф крикнул снизу:
— А ну-ка, ударь разок, каково?
Задрожал, разлился вокруг давно не слышанный звук.
* * *
Батюшку вынесли из двора Захаровых в день Симеона Богоприимца, около полудня. Его ждала могила у самого алтаря, над ней разрослось молодое деревце черемухи. Гроб несли Федор, Евграф, поселенцы, пришедшие сюда с батюшкой. Мерно, уныло звучал вновь водруженный колокол. Во время всего пути не умолкало пение «Святый Боже». Отпели литию, прозвучала «Вечная память», гроб качнулся на холщовых полотенцах, скрылся в объятиях вечной мерзлоты, и один за другим полетели комья обледенелой земли, тупо ударяясь о крышку. Вокруг плакали. Сняв шапки, стояли над новым холмиком новые люди — Евграф Захаров и Федор Укоров.
На сибирском морозе долго не пробудешь! Три километра туда-назад, в село надо вернуться до сумерек. Многие направлялись к Евграфу, он приглашал всех помянуть, чем Бог послал. Татьяна ждала гостей дома с блинами и киселем. «Ваши гости!» — степенно отвечали на приглашение провожающие.
Последним оторвался от могилы Федор. За двое суток он выплакал все слезы, и теперь чувство надмирной легкости овладело им. Отрадно было сознавать, что многие оценили как должно потерю дорогого ему человека, отца, такого же странника в неизвестную страну, как и он. «Смотри, работай, Федя, молись, понуждай себя творить молитвы — свет души твоей — молитва — так говорил один из старцев, — внушал ему батюшка, — все надо по-новому, по-честному! Теперь ты не один. Господь поможет во всем». Такими простыми, доходчивыми словами наставлял он его, этот прежний ученый, книжный, до конца смиренный человек. По батюшкиным молитвам надо мне исполнить все! — с таким решением Федор еще приник в сыновьем объятии к перекладине креста — и поспешил к дому. Над новым холмиком крутился легкий поземок, налетая на ветки черемухового куста. Ветер к ночи будет злее, крепче, пожалуй, разойдется вьюга…
Вот и все о ссыльном пастыре… Но пусть, пусть налетит буран, покроет снегом старые и новые холмы, пусть вьется метель над далеким кладбищем и укутает его белоснежной пеленой, пусть летит время, исчезают годы, и сюда уже не придет никто и отколется от подножия маленький крест со стертой надписью и упадет на землю… все равно черемуховое деревце вновь оденется весною подвенечным цветом и к таким могилам никогда не заглохнет тропа молитвенной памяти и благоговения…
Отчизна неизвестная = The unknown homeland / Предисл. Евгения Хорвата. — London: Overseas publ. interchange, 1988. — 204 с.; 19 см. — (Самиздат).
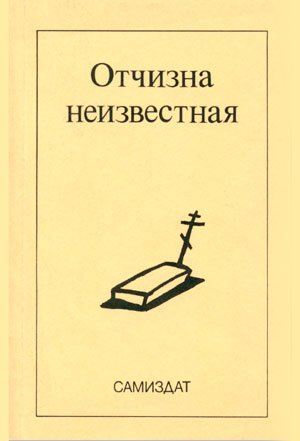
Комментировать