Глава 12. Член II Государственной Думы (1907)
В Петербург я приехал сереньким февральским утром. В городе чувствовалось тревожное настроение, на улицах встречались патрули… На вокзале меня ожидал эконом и в митрополичьей карете доставил в Лавру. Здесь было мне приготовлено помещение. (Митрополит дал распоряжение и относительно моего довольствия.)
Митрополит Антоний встретил меня любезно, ласково и пригласил сопровождать его на молебствие перед открытием Государственной думы.
Помню этот первый мой приезд в Таврический дворец.
Великолепное старинное здание. Огромный Екатерининский зал с иконой святителя Николая, вделанной в стене; перед нею уже все приготовлено для молебна. В зале большое оживление — всюду снуют депутаты… Сослужили митрополиту члены Думы: ректор Киевской Духовной Академии епископ Платон, впоследствии митрополит Американский, я и несколько священников. Около нас сгруппировались члены правительства во главе с П.А.Столыпиным и депутаты: священники и крестьяне. Остальные члены Думы не только не присоединились к молящимся, но вели себя так непринужденно, что можно было подумать — они нас не видят и не слышат. По зале продолжали сновать люди, кто–то, хлопая дверями, пробегал с бумагами в канцелярии, слышались разговоры; в конце зала, кажется, даже курили… Молебен прошел без подъема. Чувствовалось, что для большинства он лишь неизбежная формальность; благословения Божия на предстоящий труд как будто никто не искал; молился со слезами только один старичок крестьянин. По окончании молебствия митрополит уехал, а мы направились в зал заседаний. Епископ Платон и я заняли места на правых скамьях.
По своим политическим убеждениям я был монархист. Поначалу «умеренный» (группа «у.п.» — «упокойники», как ее называли), я потом примкнул к группе монархистов–националистов. Монархические убеждения сложились у меня органически под влиянием ряда условий и обстоятельств моей жизни.
Я получил в моей семье церковное воспитание. Отец, согласно церковной традиции, видел в царе Божьего помазанника и к «властям предержащим» относился с большим почитанием. В семинарии ко мне не привилось противоправительственное настроение некоторых моих сверстников. Помню, когда в Тулу (я был тогда в 4–м классе) приехал Император Александр III, я не мог смотреть на него без волнения: народнические мои симпатии из меня оппозиционера не делали. Неправда социальной жизни меня удручала, мне хотелось народу служить, ему помочь, но активного протеста она во мне не вызывала. В студенческие годы на мне, как и на всей молодежи, был налет интеллигентского либерализма — я увлекался «Вестником Европы», читал «Русские Ведомости», но глубокого влияния их идеи на меня не оказывали. В пору педагогической моей работы я сознавал всю ответственность за судьбу вверенной мне молодежи и направлял ее по историческому религиозно–патриотическому пути. Моя юность и молодые годы прошли в этом отношении ровно, без потрясений, а когда настало время политической борьбы, оказалось, что монархическая партия наиболее отвечает опыту моей службы на русской окраине. Холмщина была ареной столкновений национальных чувств — русских и поляков; борьба сил была не всегда для нас победная. Местное чиновничество ладило с польскими помещиками и в быту даже от них несколько зависело. Опоры приходилось искать не в местных властях, а в центре, в мощи русского государства, которую самодержавие и символизировало и проявляло в неограниченности своих державных прав и законодательных возможностей. Честь России и ее национальное достоинство могла защищать и фактически защищала в то время на наших окраинах лишь монархическая идеология.
Появление епископа Платона и меня в зале заседаний не прошло незамеченным. Мы стали предметом любопытных взглядов, иронических улыбок. Откуда–то донесся громкий шепот: «А рясы–то шелковые…» Мы были в клобуках. Митрополит Антоний сказал мне, чтобы я всегда в Думе был в клобуке и не надевал шляпы даже на улице при переездах в Таврический дворец.
Первое мое впечатление от Государственной думы — пестрота состава депутатов. Россия была представлена во всем своем этнографическом многообразии: живописные халаты инородцев, чалмы, тюбетейки, мужицкие армяки… Впоследствии было любопытно наблюдать, как мусульмане в положенное время покидают заседание и молятся в Екатерининском зале, сидя в углу на корточках и сопровождая моление ритмическими телодвижениями. Журналисты и депутаты посмеивались над ними, покуривая папиросы, но во мне это исповедание своих религиозных убеждений вызывало уважение.
По образованию состав думцев был тоже весьма пестрый: были среди них люди высокообразованные — профессора, ученые, но были и безграмотные крестьяне, которые после присяги расписались на листе крестиками. Невольно возникло недоумение: как они могут участвовать в думской работе? Как им понять сложные политические речи?
Еще пестрее оказались политические убеждения. Многоцветная гамма политического спектра: от монархистов до социал–демократов. Правые, умеренные, националисты, октябристы, прибалтийская группа, польское коло, мусульмане, мирно–обновленцы (прогрессисты), кадеты, трудовики, социал–революционеры, социал–демократы. Из всех самой значительной фракцией по влиянию на русское общество, по соответствию своей программы чаяниям широких его кругов, по отличному подбору лидеров — были кадеты. Фракция включала таких лиц, как Маклаков, Пергамент, Родичев, Тесленко, Шингарев.
Открытие Государственной думы состоялось 20 февраля. Открыл ее сенатор действительный тайный советник Голубев (Товарищ Председателя Государственного совета), важный старец, похожий на римского сенатора. Он прочитал Высочайшее повеление скрипучим голосом и приступил к выбору Председателя.
Мы, правые, и часть беспартийных (нас было всего человек девяносто) хотели провести Хомякова, но наше намерение было заведомо обречено на неудачу. В Председатели прошел Федор Александрович Головин, депутат от Московской губернии (Председатель Московской губернской земской управы), человек во всех отношениях ничем не выдающийся. Он поблагодарил Думу за избрание и в своей речи подчеркнул, что II Дума — преемница I Думы — должна продолжать начатое дело, следовать ее заветам; однако у II Думы есть и свое задание — укреплять конституцию, т. е. проводить «в жизнь волю и мысль народа в единении Думы с Монархом…». Головину жиденько похлопали — этим первое заседание и закончилось.
В ближайшие дни (23 и 24 февраля) были выбраны Президиум и Секретариат. Главные посты получили кадеты. Мы, правые, не смогли провести ни одного из наших кандидатов.
Прежде чем приступить к работе, Государственной думе предстояло выслушать правительственную декларацию. Она была назначена на 2 марта, но произошло событие, которое этому помешало. В ночь на 2 марта случилась катастрофа — в зале заседаний рухнул потолок… Когда я утром приехал, я увидал на наших местах груды штукатурки. Этот недосмотр архитекторов вызвал в депутатах бурю негодования. А депутаты–крестьяне от радости, что избегли смертельной опасности, просили меня отслужить для них благодарственный молебен. Для заседаний был спешно приспособлен другой зал Таврического дворца — и загремели зажигательные речи… Обвал потолка дал повод для возмущения деятельностью правительства, а в катастрофе готовы были видеть чуть ли не злой умысел.
«Граждане депутаты! Когда я пришел сюда, я нисколько не удивился известию о том, что обвалился потолок над местами, где должны были заседать народные представители. Я уверен, что потолки крепче всего в министерствах, в Департаменте полиции и в других учреждениях», — кричал с трибуны Григорий Александрович Алексинский (социал–демократ). (Шум. Аплодисменты.)
Правда, некоторые ораторы приводили и благоразумные доводы: правительство не виновато, был лишь недосмотр и т. д.; но они явно противоречили возбужденному настроению левых депутатов.
Вскоре заседания Думы были перенесены в зал Дворянского собрания — огромный зал с великолепными хрустальными люстрами, с диванами, обитыми красным бархатом. Здесь 6 марта Столыпин и прочел свою декларацию.
Накануне этого памятного дня к подъезду, где помещалась моя скромная квартирка, подъехала карета с ливрейным лакеем, и мне доложили, что меня хочет видеть О.Б.Столыпина, супруга Председателя Совета Министров. Встревоженная предстоящим выступлением мужа, она приехала ко мне. «Прошу вас помолиться… Я тоже буду в Думе мысленно за него молиться, мне будет легче, если я буду знать, что и вы молитесь за него в эти минуты».
Мое знакомство с семьей Столыпина возникло благодаря матери Елене, игуменье Красностокского монастыря (Гродненской губернии). Столыпин был гродненским губернатором, и семья его дружила с матерью Еленой, которая, приезжая в Петербург, всегда у них останавливалась. Этим и объясняется приезд ко мне О.Б.Столыпиной.
Программная речь П.А.Столыпина возвещала Государственной думе разнообразные либеральные реформы во многих областях государственной и социальной жизни страны. Единодушно восторженного приема Дума ей не оказала. Думское большинство встретило декларацию молчанием (не доверяя правительству, которое распустило I Государственную думу), зато на правых скамьях она вызвала бурю аплодисментов, а крайняя левая (социал–демократ Церетелли, а потом и др.) тотчас яростно обрушилась и на декларацию, и на правительство. Революционные, митинговые речи… Чувствовалось, что думской трибуной пользуются как средством для всенародной агитации.
Мы, правые, старались защищать правительство и с этой целью сочли уместным не говорить по поводу декларации, а обличать его противников — их террористические методы революционной борьбы, — а также возражать на речи того или иного из ораторов.
Так, например, я возражал левому депутату Хасанову (мусульманин Уфимской губернии), депутату Алексинскому (социал–демократ). В атмосфере всеобщего возбуждения я произнес мою первую речь. Никогда еще мне не приходилось говорить во многолюдном, разъяренном политическими страстями собрании, я привык говорить в храмах — и теперь очень волновался: сердце билось, во рту пересохло…
«Я не буду подробно возражать тому члену Государственной думы, который, не будучи сам христианином, трактовал здесь о Христе и его учении, — начал я, — а я скажу ему только, что, конечно, Господь Иисус Христос отрицал смертную казнь и убийство, но убийство и с той и с другой стороны — всякое убийство, всякую кровь. Но тот Христос, который запрещал убийство, говорил и другие слова: «Не бойтесь убивающих тело, а бойтесь тех, кто и тело и душу может погубить…» Я хочу напомнить Алексинскому и всем сынам Церкви Православной, что Православная Церковь никогда не была врагом русского народа, что она вскормила, взлелеяла этот народ как любящая мать, что она ему мать родная, что она всегда несла этому народу не злобу, не вражду, а чувство любви, милости и сострадания».
Наши усилия защитить правительство ни к чему не привели. Большинство Думы своим внушительным молчанием заявляло о своем нежелании декларацию обсуждать, а революционная «левая», казалось, сумела декларацию «сорвать» и правительство дискредитировать. К концу заседания положение для Столыпина создалось безвыходное… Но тут произошло совсем неожиданное.
Никто не думал, что Столыпин выступит в тот день вторично, но он вдруг попросил слова и произнес ту блестящую речь, которая потом облетела всю Россию. В ней он давал понять, что путь сближения правительства и Государственной думы найти возможно и найти надо; он объяснял исключительно государственной необходимостью суровые мероприятия против революционного движения, и из дальнейших слов можно было заключить, что сам он — верный сторонник конституционного порядка; что он призывает Думу к сближению, взаимопониманию, к сотрудничеству с правительством на основах конституции. Но нет общего языка и не может быть сотрудничества с теми, кто стоит на позиции революционной борьбы с правительственной властью. И Столыпин закончил свою речь памятной отповедью левым революционным противникам:
– …Нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли и мысли, все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: «Руки вверх!» На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами: «Не запугаете!»
Эти знаменитые два слова «не запугаете!» отразили подлинное настроение Столыпина. Он держался с большим достоинством и мужеством. Его искренняя прекрасная речь произвела в Думе сильное, благоприятное впечатление. Несомненно, в этот день он одержал большую правительственную победу. После заседания, как я узнал, он с супругою отправились пешком в Казанский собор служить благодарственный молебен.
12 марта началось обсуждение законопроекта об отмене военно–полевых судов, в сущности, начались дебаты о смертной казни — о наболевшем, всю страну волнующем…
Накаленная атмосфера всеобщего возбуждения… Тон речей митинговый. Один из ораторов, священник Тихвинский, не говорил, а, вернее, кричал с трибуны:
«…Смертная казнь, господа, это страшная, это ужасная, это нечеловеческая месть! — и далее, обращаясь к нам, двум епископам (епископу Платону и ко мне): — Святители Божии, выйдите сюда на эту общественную трибуну и заявите, что смертная казнь противна Христу. Пусть никто не смеет оправдывать ее именем кроткого Спасителя… Господа, лучше быть судимым за милость, чем оправданным за жестокость…»
Я встал и попросил слова вне очереди. Отовсюду слышались возгласы: «Просим! Просим!»
«Господа члены Государственной думы, здесь священник бросил вызов нам, его архипастырям и епископам, — начал я. — Этот вызов был поддержан очевидным сочувствием очень многих из вас… Что я скажу вам? Здесь так ярко, так красноречиво, так убедительно перед нами нарисована была картина ужасов от полевых судов и неразрывной с ними смертной казни, что едва ли придется что прибавить. Разве можно это отрицать? Действительно, всякая смертная казнь, всякое известие о расстреле полевым судом всегда леденит сердце и наполняет его ужасом. Я уже имел честь с этой высокой трибуны заявить, что с христианской точки зрения никакая смертная казнь, никакое насильственное отнятие жизни, никакое пролитие крови не может быть допустимо, не может быть одобрено (аплодисменты), в этом не может быть никакого сомнения. Если бы мы были истинными христианами, если бы наше общество было действительно христианским, то, конечно, никакой смертной казни не было бы… Мне только казалось, что чего–то не договаривают. Зачем также не осуждают пролитие крови с другой стороны? Почтенные члены Государственной думы, с христианской точки зрения нет разницы между убийствами. Повторяю, всякое убийство одинаково преступно, одинаково позорно для христиан со строго христианской точки зрения… Вот что я могу только сказать как представитель Русской Православной Церкви и думаю, что правильно понимаю слова Божественного Учителя — Спасителя… Здесь говорили, что военно–полевые суды расшатывают самую основу государственности. Позвольте же мне сказать от всего сердца, что террористические убийства, которые несет революция, точно так же расшатывают основу государственности, основу всякого права… Я об одном вас прошу: будьте последовательны, будьте искренни, вынесите отсюда, с этой трибуны, осуждение другим террористическим актам, которые не менее ужасны, пожалейте наш русский народ, который также от этих актов весьма стонет и тяжко страдает. Я думаю, если бы Государственная дума своим высоким авторитетом высказала свое порицание этим актам, тогда не было бы надобности и в военно–полевых судах. Вот все, что я хотел сказать».
В новую мою деятельность я вошел не сразу, а втягивался в нее постепенно. Знакомился с работами в комиссиях. Я записался в три комиссии: вероисповедную, народного образования и аграрную. Комиссий было много. Члены их избирались по фракциям, пропорционально их численному составу. В комиссиях лишь члены их имели право голоса, а присутствовать на заседаниях могли все. Аграрная комиссия собирала чуть ли не половину думцев, настолько всех волновал земельный вопрос. Вероисповедная комиссия и народного образования работали слабо.
В комиссии по проверке депутатских полномочий у меня возникло столкновение с поляками. Они хотели опорочить мое избрание на том основании, что я якобы выбран незаконно — под давлением администрации, — но доказательств привести не могли.
Знакомился я и с депутатами. Среди них встретил товарища по выпуску в Московской Духовной Академии — Василия Гавриловича Архангельского. Это был в свое время студент с густой шевелюрой, по настроениям романтик, любитель серенад и дамского общества. Теперь он стал почти неузнаваем: мрачный, озлобленный, с помятым лицом, неряшливо и бедно одетый, социал–революционер, он ничем не напоминал себя, прежнего. Меня он поначалу, кажется, не хотел узнавать. Я его окликнул. Он отозвался сдержанно. «Если не ошибаюсь, о.Георгиевский?» (называет мою фамилию). Но потом смягчился, и мы стали по–прежнему друзьями. Случалось, гуляли по Екатерининскому залу, мирно беседуя. Журналисты на нас косились: «Что может быть общего у социал–революционера с черносотенным епископом?» Из разговоров с моим бывшим сотоварищем я узнал, что после Академии он служил по духовному ведомству, сотрудничая одновременно в волжских газетах, потом ушел в инспектора народных училищ, неудержимо «левел» — и попал в ссылку в Енисейскую губернию. Мать его с горя умерла, смерти ее он никогда себе простить не мог.
В Государственной думе в ту весну я встретился впервые и с профессором политической экономии Сергеем Николаевичем Булгаковым (впоследствии протоиерей Сергий — инспектор Парижского Богословского Института). Он уже тогда приближался к Церкви и выступил с предложением организовать особую комиссию по делам Православной Церкви параллельно вероисповедной комиссии. Я взял слово и направился к трибуне, с которой он спускался. Мы встретились… «Неужели вы хотите возражать?» — удивился он. «Нет, дополнить: чтобы членами ее могли быть только православные», — сказал я.
Помню появление в Думе о.Григория Петрова. Он находился под епитимьей в Черменецком монастыре (Петербургской губернии), куда паломничали его многочисленные поклонники и поклонницы: светские дамы, студенты, курсистки… Обер–Прокурора засыпали запросами, просьбами о его освобождении, и, под давлением влиятельного заступничества, его из монастыря освободили. Первое его появление в зале заседаний было обставлено с некоторым триумфом. Распахнулись двери, все депутаты, как один человек, встали — и разразились громом рукоплесканий… О.Григорий Петров театрально раскланялся. Потом мы с ним познакомились. В Думе он почти не выступал.
О.Г.Петров был человек позы, внешнего эффекта, эмоций, но подлинной внутренней религиозности в нем было мало. Не лишенный дара воздействия на толпу, он умел говорить с интеллигенцией и собирал на свои лекции весь Петербург. Внешнее красноречие, деланный, искусственный пафос и демагогический тон его докладов не претили неразборчивому вкусу аудитории — наоборот, они–то и создали ему популярность.
Уже после роспуска Думы мне случилось встретиться с ним в приемной митрополита Антония. Он мне сказал, что принес прошение о снятии сана. Мне было его жаль, и я советовал не делать этого. Впоследствии он стал сотрудником «Русского Слова», а во время войны был военным корреспондентом. Гибель сына на фронте его очень изменила. Он умер в Париже. Его тело сожгли в крематориуме.
Революционно–агрессивная настроенность Думы передавалась петербургскому населению (а дальше и всей России) и повсюду раздувала пламя политических страстей. 16 марта я чуть было не стал одной из жертв этого революционного психоза: меня чуть не убили социал–демократы.
Однажды вечером пришел ко мне студент Петербургской Духовной Академии, член студенческого кружка, который вел просветительную работу на фабриках, и просил меня отслужить молебен и провести беседу на ниточной фабрике Макселя. Он обещал за мной заехать и отвезти за Невскую заставу. Я согласился.
Фабричные районы Петербурга были несколько заброшены и лишены деятельной религиозно–просветительной о них заботы. Ни церквей, ни духовно–просветительных организаций; очень мало было церковного попечения… Массы, пребывая в темноте и озлоблении, дичали и представляли благодарный материал для безудержной революционной пропаганды. Лишь небольшая группа студентов Духовной Академии, главным образом священников и монахов, вела работу по религиозному просвещению.
16 марта студент заехал за мной на извозчике. Я взял с собой Евангелие.
В районе фабрики Макселя церкви не было — только молитвенный дом, но с иконостасом и даже с престолом. Почему–то епархиальное начальство с освящением медлило. Подъезжаем к зданию — оно полно народу и на улице тоже черным–черно… Я обрадовался. «Какая, — думаю, — жажда Божьего слова…» А спутник мой смущенно молчит. С трудом пробились сквозь толпу в дом, а там стоит гул… Я снял шубу, надел мантию. Мне навстречу вышел студент–священник с крестом.
– Мы встречаем вас не только как епископа, но и как народного избранника… — взволнованно начал он, а у самого, смотрю, руки дрожат.
И вдруг слышу — из толпы реплика: «И как хулигана!»
Я приложился ко кресту, вступил на солею, взял посох и обратился к толпе: «Мне странно… За что вы так враждебно встречаете? Я приехал помолиться, испросить Божьего благословения на ваш труд…» Я не докончил — мою речь покрыли крики: «Громче!.. громче!.. иди на середину!.. мы с тобой поговорим!..» Крики перешли в гвалт, в рев… Смотрю, над головами поднятые кулаки, револьвер… Слышу звон разбитых стекол… Весь зал — сплошная ревущая толпа. Бабы прячутся под мою мантию, цепляются за меня… «Не ходи!.. не ходи… — убьют!» Я стою, опершись на посох, как вкопанный. Со всех сторон сыплются ругательства. «Руки в крови!!.. Палачи народные!.. Кровопийцы!!..» Господь дал мне разуму выдержать враждебный натиск. Неистовство толпы продолжалось минут десять–пятнадцать, потом понемногу голоса стали стихать (по–видимому, пронесся слух, что в район прискакала полиция). Когда утихли, я снова спросил:
– За что вы мне устроили враждебную демонстрацию? Я приехал с Евангелием, чтобы прийти вам на помощь, духовно поддержать вас.
– Ты бы похлопотал за наших детей, которые сидят в тюрьме! — выкрикнул кто–то.
– Я рад сделать, что могу, для облегчения их участи.
Не успел я это сказать — посыпались прошения. Я сказал, что рассмотрю их дома, а теперь предлагаю помолиться — хочу отслужить молебен.
Этим моя «беседа» и закончилась. Понемногу рабочие стали расходиться. Реплики из толпы слышались уже иные: «Ну уж ты прости…», «Мы не хотели…» и т. д. Я вышел спокойно и уехал в санях в сопровождении конных стражников. Мой спутник, студент, был всем происшедшим крайне удручен: «Простите, ради Бога, что я вас в такую беду втравил… Что вы пережили!» Он попросил дать ему что–нибудь на память, и я отдал ему бывшее у меня в руках Евангелие[32].
На другое утро я все рассказал митрополиту Антонию. Он выразил мне сердечное сочувствие не только от себя, но и от лица всех бывших тогда в Петербурге архиереев, которых пригласил на завтрак по случаю хиротонии Черногорского епископа Кирилла. Скоро в одной из левых газет появилась статья «Евлогий попался». Оказалось, что враждебная манифестация была организована по распоряжению из Думы. Изошло оно от депутатов социал–демократической фракции, когда они узнали, что я поеду на собрание рабочих.
Вскоре после этого события мне пришлось пережить большое горе…
Как–то раз вечером у меня были гости: мать София, игуменья Вировского монастыря, и один преподаватель Петербургской семинарии. Мы пили чай. И вдруг мне подают телеграмму: «Отец скончался». Весть о кончине отца меня глубоко потрясла — я его очень любил. Я бросился к митрополиту, сообщил ему горестное известие и с первым поездом выехал на похороны в Епифань.
Дорогой мне пришлось остановиться в Туле, дабы у местного архиерея испросить разрешение служить в его епархии. Епископом Тульским был тогда преосвященный Лаврентий, бывший ректор Московской Духовной Академии — типичный питомец Киевской Академии, хороший старичок, любитель благодушной шутки, приятный, мягкий в обхождении. Помню, в то время, когда я у него сидел, к нему пришел ректор местной семинарии о.архимандрит Алексей Симанский[33]. Он окончил Катковский лицей, был в свое время лицеистом–белоподкладочником и в монашестве — надушенный, в шелковой, шелестящей рясе — не утерял светской элегантности. Епископ Лаврентий слегка над ним подшучивал. «А… отец ректор, — приветствовал он его, — ну, как у вас в семинарии — все ли благополучно?» — «Так точно, все хорошо, функционируем…» — «Вот видите, владыка, раньше у нас учились, а теперь «функционируют», — тонко подчеркнув неуместность иностранного слова, обратился ко мне преосвященный Лаврентий.
Я приехал в Епифань 20 марта. От станции до города верст десять. Ехать пришлось в самую распутицу. Огромные лужи, ухабы… Сани водой заливает… В Епифани я на минуту заехал в церковь и направился домой.
Тело отца уже лежало в гробу… У гроба три моих брата: два священника и один, младший, семинарист. Мне было очень горько. Утешало меня лишь сознание, что отец умер, как солдат на посту — в храме, во время поклонов молитвы «Господи, Владыка живота моего». После третьего возгласа: «Даруй ми зрети моя прегрешения» он опустился на колени — и не встал… Его перенесли домой, позвали доктора, но помочь ему уже ничто не могло: через полтора часа он скончался. Доктор сказал, что смерть последовала от разрыва сосудов вследствие склероза. Утешаясь мыслью о славной кончине отца, я скорбел, что на него могли повлиять газетные известия о моем выступлении за Невской заставой. Знакомые священники мне говорили, что он внимательно читал газеты и, может быть, прочитал и статью «Евлогий попался», которая могла его сильно встревожить.
После похорон почувствовалась горестная пустота… Родительский домик словно стал чужим или нежилым. Связь с родным гнездом окончательно порвалась…
Я торопился в Петербург, боялся пропустить свою очередь в числе ораторов, записавшихся говорить по аграрному вопросу (всего записалось до 150 ораторов, я оказался в 50–х номерах). Узнав по приезде, что до меня еще далеко, и учитывая приближение Страстной недели, которую мне надо было провести в своей епархии, я попросил одного трудовика уступить мне свою очередь и выступил накануне отъезда. Но до этого совсем неожиданно мне пришлось говорить 9 апреля.
В этот день один из правых депутатов (Пуришкевич) заявил, что им только что получено известие об убийстве в Златоусте Председателя «Союза русского народа». На левых скамьях раздался смех… Справа кричали: «Смейтесь! Стыдно! Стыдно!» Поднялся шум…
Я счел нужным взять слово.
– Господа народные представители. Я не думал говорить в настоящую минуту, — сказал я, — но когда при упоминании одного члена Думы об убийстве Председателя одного из Союзов русского народа раздались шиканье и смех… (тут слева послышались голоса: «Этого не было!..» А справа кричали: «Это было! было!..») я был глубоко взволнован, — продолжал я в гуле голосов. — Тайна смерти такая великая и священная тайна, перед которой…
Председатель не дал мне договорить.
– Я позволю себе вас прервать, — сказал он. — Дело в том, что причину смеха вы не изволите знать. Вопрос идет о том, надлежит ли на завтра назначить этот вопрос, а говорить о том, какая причина смеха и кто почему смеялся, теперь не время.
К моему выступлению с докладом по аграрному вопросу (12 апреля) мне удалось хорошо подготовиться. Я располагал огромным материалом и не только ознакомил депутатов с бесправным состоянием батраков и ненормальным положением крестьянства, особенно в так называемом «сервитутном» вопросе[34], но свои положения и доказал. Приведу некоторые его строки:
«Я считаю своим нравственным долгом заявить, что интересы русского населения Холмского края в аграрном отношении диаметрально и существенно расходятся с теми интересами, выразителем которых явился здесь Дмовский[35]. Холмская Русь страна исключительно крестьянская, населенная бедными земледельцами–пахотниками, которым и прежде приходилось и теперь приходится много терпеть от малоземелья и от польских помещиков. Ведь нигде крепостное право не лежало таким тяжелым ярмом на крестьянах, как именно в Польше, ведь там крестьяне трактовались как быдло. И в настоящее время малоземельному и безземельному крестьянскому населению там живется не сладко…»
Заключение моего доклада сводилось к следующему выводу. В Холмском крае крестьянская масса обездолена и бесправна; помещики, господа положения, беззастенчиво этим положением пользуются и очень эксплуатируют крестьян, особенно батраков.
Депутаты–поляки пришли от моего доклада в крайнее негодование. Красные, возбужденные, они прерывали мою речь криками: «Ложь! ложь!..», но неопровержимые документы, которые были у меня в руках, говорили за себя. С тех пор поляки возненавидели меня еще сильнее. К моему удивлению, речь не понравилась и некоторым правым депутатам–помещикам. «Вы посягаете на право собственности, вы плохой монархист, вы — левый… Мы думали, вы наша опора…» — с укором говорили они. Один из них не постеснялся сказать, что ему «польский помещик ближе, чем русский крестьянин». Это отношение «правых» к моей позиции в аграрном вопросе свидетельствовало о том, что они готовы были поддерживать Церковь не бескорыстно: многие из них видели в Церкви средство держать народ в повиновении. Это ужасное политическое воззрение на Церковь сказалось очень ярко в возгласе Пуришкевича (в беседе с одним священником): «Неужели, батюшка, вы действительно верите так, как говорите?»
На следующий день после моего выступления я выехал в Холм. Мое пребывание в Холмщине в те пасхальные дни было радостное. Прежде чем я успел приехать, моя речь в газетных стенограммах уже долетела до населения и вызвала всеобщий восторг. Особенно он проявился на Фоминой, когда я проезжал по епархии на освящение одной сельской церкви (в 80 верстах от Холма). Всюду в селах меня встречали с хлебом–солью, с изъявлениями горячей благодарности. Связь депутата с населением оказалась живою. Я переночевал в Турковицком монастыре (свита моя проехала вперед), а утром прибыл в село на освящение храма. Крестьяне мне устроили торжественную встречу. Триумфальная арка, цветы, гирлянды… Многочисленный крестный ход со священниками вышел мне навстречу и ожидал меня при въезде в село. Тут случилось неприятное происшествие. Со стороны польской экономии появились пьяные польские рабочие и, нахлестывая лошадей, с гиком и криком «москали!», промчались по дороге, чуть не передавив моих иподиаконов. Это было явное, подчеркнутое намерение оскорбить религиозное чувство собравшегося православного народа. Казачий полковник, прибывший со своими казаками на праздник из г.Томашева, приказал безобразников настигнуть; их, кажется, побили нагайками и задержали впредь до выяснения причин их безобразного поведения. Когда я подъехал к толпе, сразу почувствовал какое–то смятение. После обедни, когда меня вели со «славой» к домику священника на трапезу, из толпы вышли два польских помещика и заявили, что они хотят иметь со мной разговор. «Наших крестьян арестовали, избили… Мы выступаем в их защиту во имя справедливости», — сказали они. Тут вмешался начальник уезда: «Его Преосвященство в облачении, разговор не ко времени…» Узнав обо всем, что произошло, я вышел потом к помещикам, и мы объяснились.
– Я скажу, чтобы крестьян ради праздника отпустили, — сказал я, — но инцидент во имя справедливости надо разобрать, а вам следует разъяснить своим рабочим все безобразие их выходки.
После Пасхи я вернулся в Петербург. Из думских стенограмм узнал, что польский депутат Грабский мне возражал горячо, но голословно: ни фактов, ни статистики он привести не мог. Потерпев поражение на трибуне, поляки стали меня травить иным путем. Почти ежедневно я стал получать через думскую почтовую контору порнографические открытки с гнуснейшим текстом, например: «Где ваш ребенок?» или что–нибудь вроде этого… Служащие в конторе барышни, краснея от стыда, вручали их мне. Открытки сыпались одна за другой в течение двух–трех недель, потом прекратились.
Атмосфера в Думе и после Пасхи была тревожная. Во время моего отсутствия произошел грандиозный скандал: кавказский депутат (социал–демократ) Зурабов в своей речи по законопроекту о комплектовании рекрутов оскорбительно отозвался об армии. В зале поднялись гвалт, стук пюпитров, яростные крики: «Неправда! вон отсюда!.. вон!.. убрать его отсюда!..» Подобные скандалы, стычки, оскорбительная словесная перепалка стали повторяться чуть не ежедневно. Думские заседания окончательно приняли характер митинговых сборищ. Работа в комиссиях застыла. Комиссия по делам Православной Церкви не собиралась вовсе.
Я прожил в Петербурге с месяц. Наш законопроект о выделении Холмщины застрял в министерстве, и я воспользовался этой задержкой и уехал вновь в свою епархию на освящение храма, построенного нашим ревностным храмоздателем Пасхаловым. Через некоторое время узнаю — Дума распущена… Ожидали, что роспуск вызовет большие беспорядки, но все обошлось сравнительно благополучно. Я тревожился за судьбу бумаг и документов, сданных мною в аграрную комиссию, но они уцелели: мне их вернули. Этим закончилась моя деятельность депутата II Государственной думы.
Вспоминая мое пребывание во II Государственной думе, я хочу сказать несколько слов о тех душевных моих состояниях, которые возникли под влиянием чуждого мне мира политической борьбы.
Поначалу новизна обстановки и работы меня чрезвычайно интересовала. Все было иное, не только не похожее на предыдущую мою жизнь, но ей диаметрально противоположное. Неведомые мне люди–политики, их поведение, разговоры, повадки, даже внешний облик некоторых из них… — все привлекало мое внимание. Глаза разбегались, душа жадно вбирала впечатления. Присутствие в учреждении, предназначенном для законодательной работы во всероссийском масштабе, невольно возбуждало чувство своей важности, значительности; самое призвание депутата вселяло убеждение, что мы — народные представители, законодатели — влияем на судьбы России; оно и поднимало и надмевало.
Но чем дальше, тем сильнее я стал чувствовать, что работа в Думе внутренно далека от Церкви, даже ей враждебна. Когда мне случалось между заседаниями служить панихиду по каком–нибудь скончавшемся депутате или общественном деятеле, я всякий раз должен был психологически перестраиваться; не сразу, бывало, попадешь в тон молитвы и песнопений, точно Церковь и политика друг друга исключали. Приедешь в Думу — в вестибюле у вешалок еще ничего, но стоит войти в зал, — и сразу весь настороже: кто друг? кто враг? Душа мгновенно обособляется, возбуждена желанием спорить, сразиться, победить. Атмосфера в зале наэлектризована воинственностью, точно в воздухе реют бесы и настраивают людей на взаимный антагонизм. Не успеешь дойти до своего места — и уже словно намагничен, физически заражен всеобщим боевым настроением: щеки горят, нервы приподняты, все существо взбаламучено…
По природе я борьбу не любил. Она всегда вызывала ощущение тяжести, наваливающейся на мою душу. Нехристианский дух борьбы мне был всегда мучителен. Но когда она проявлялась в столь безобразных формах, как в Думе, я доходил подчас до полного душевного изнеможения. Грубые реплики с мест и с трибуны, переходившие иногда в неистовую брань, разнузданность языка под влиянием страстей, дикие выкрики некоторых депутатов по адресу противников — выносить все это было трудно. Просидишь взвинченный, накаленный в Думе, а приедешь домой — и наступает реакция: чувствуешь себя, точно кто–нибудь тебя избил или душил. Вспомнишь о том, что было в Думе, и инстинктивно ощущаешь, что вырвался из атмосферы злых сил… Какой ужас политические страсти! Какую злобу они рождают!
В пылу политической борьбы у людей вырабатывалась психологическая привычка считать лишь членов своей партии хорошими, а всех противников считать дурными. Достаточно было быть кадетом, чтобы члены правых партий считали депутата неискренним патриотом, в речах лживым, в намерениях лукавым, предателем и т. д. Я старался от этой психологии отделаться. У меня явилась потребность эту отчужденность от моих политических противников преодолевать. Мне иногда хотелось, вопреки всему, пожать руку хорошему человеку, хотя бы чуждого мне политического направления, сказать ему приветливое слово. Так я относился, между прочим, к Шингареву. Мои политические единомышленники удивлялись: «О чем вы нашли с ним разговаривать?»
Политическая работа наложила на меня тяжелый отрицательный отпечаток. Утрачивалась свежесть религиозных переживаний, ослабевала их духовная сила. Я подмечал в себе эту печальную перемену всякий раз при возвращении в Холм. Приедешь, бывало, на вокзале встречают священники, и вместе с ними отправляешься в собор служить молебен перед чудотворной иконой Божией Матери. Войдешь в храм — и повеет миром, тишиной, чистотой, благоуханием, благодатью молитвы. Церковные своды, иконы, огни лампад, чудотворный образ, молящиеся люди… Точно из грязной ямы в Царствие небесное попал. Вспомнишь Думу, и станет так горько, мучительно: иные интересы, настроения — злоба, мятеж и ненависть…
Следует ли духовенству участвовать в политической жизни страны, в строении государства? С точки зрения пользы, может быть, и нужно; но если принять во внимание душу и совесть — это большое для духовного лица несчастье. Быть может, на более сильном человеке дурные влияния политической борьбы и не сказались бы, а на мне отражались. Я чувствовал себя каким–то «обмирщенным», «секуляризованным», на каждом шагу борьба между пастырской совестью и партийной дисциплиной; атмосфера политических страстей как–то душила, угнетала дары благодати священства… И все же должен отметить, что присутствие в Думе духовенства на мирян влияло хорошо. Некоторые депутаты, особенно крестьяне, с нами считались, приходили поделиться впечатлениями, посоветоваться, приглашали на требы в свои семьи.
Помню, раз вечером приехал ко мне сибирский депутат–трудовик с просьбой напутствовать умирающего тестя — художника, который меня в Думе видел и слышал. Он повез меня на Петербургскую сторону. Мы ехали так долго и по таким глухим улицам, что, признаюсь, я стал сомневаться, к умирающему ли он меня везет… Однако сомневался напрасно. Мы подъехали к скромному домику. Старушка жена, дети встретили меня и провели к больному. Я напутствовал его. Он лет двадцать не исповедовался. Как он каялся, как молился! Какая прекрасная, ищущая была у него душа! Его сын тоже был замечательный человек. Он умер в Париже — и с каким спокойствием отошел в тот мир! (Его жена, бельгийка, перешла в православие.) И отец и сын были от Церкви формально далеки, но оба были идеалисты, люди высокого духа, и по–своему глубоко веровали в Господа, любили Христа, благоговейно почитали Евангелие…
О, как много людей, которые по неправильному воспитанию, по разным предрассудкам или предвзятости далеки от Церкви и даже ей враждебны! А подсознательно, в глубине души они тоже рабы Божии, по–своему хвалящие Господа. Часто под влиянием какого–нибудь жизненного толчка (лучше сказать, вследствие прикосновения промыслительной десницы Божией) они становятся добрыми верующими христианами. На меня всегда огромное впечатление производят слова Христа: «Многие приидут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю» (Мф.8,11–12).
h
r
e
f
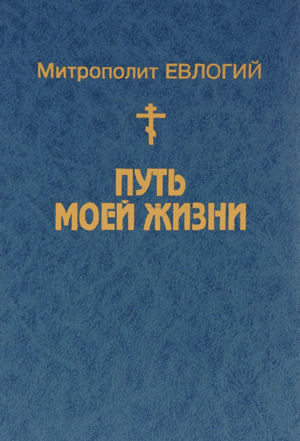
Комментировать