- Предисловие
- Часть первая. «Откуда берутся дети?»
- Беседа 1
- Беседа 2
- Беседа 3
- Беседа 4
- Беседа 5
- Часть вторая. Гигиена девочки
- Беседа 1
- Беседа 2
- Беседа 3
- Беседа 4
- Беседа 5
- Часть третья. Перед лицом искушений
- Беседа 1
- Беседа 2
- Беседа 3
- Беседа 4
Книга посвящена важнейшим вопросам нравственного воспитания девочки и предназначена для семейного чтения. Особое внимание в ней уделяется подготовке девочки к семейной жизни, приобретению ею добрых навыков и качеств, необходимых будущей жене и матери. С православной точки зрения здесь освещаются проблемы, особенно волнующие девочек-подростков: дружба и любовь, красота внешняя и внутренняя, справедливость и милосердие, выбор жизненного пути.
Составленная в форме назидательных бесед мамы с дочерью, (в начале это маленькая пятилетняя девочка, в конце ей около пятнадцати лет), книга легко читается и, надеемся, окажется полезной как для родителей, так и для детей.
Предисловие
Сегодня, в век техники и информационных перегрузок, мы с болью замечаем, что новая, искусственная, самими людьми созданная среда обитания губительно действует на здоровье наших детей.
Прежде всего, эта среда обитания (ее можно было бы назвать урбанистической, или машинной) оторвала детей от природы. А общение с природой, столь естественное для ребенка еще сто лет назад, давало ему не только физическую крепость, но и чувство красоты и гармонии окружающего мира. Через это чувство человек учился созерцать мир как творение Божие и восходить мыслью к Богу – Творцу и Промыслителю, Который заботится о Своем творении. Так закладывалась естественная основа духовного воспитания. Современный ребенок помещен в такую среду обитания, которой соответствует совершенно иной образ жизни, требующий воспитания в механистическом и утилитарном духе. Плотность, насыщенность жизни настолько высока, что ребенку приходится прикладывать значительные усилия, чтобы приспособиться к ней и не выпасть из ее стремительного потока. Результатом этого стал небывалый рост заболеваний у современных детей.
Душевное и телесное здравие человека, безусловно, связаны между собой. Человек – существо сложное: это не только его физический состав, но и душа, которая, в свою очередь, имеет свои «источники питания». Она является частицей духовного мира, то есть связана с Богом, с миром Ангелов и святых. Вместе с тем на нее действует темный духовный мир, мир падший, влекущий душу ко греху. И состояние души неизбежно отражается на состоянии тела. Иногда даже по тем или иным физическим заболеваниям мы можем определить болезни души, то есть ее главные страсти.
Трудно сегодня воспитать здорового ребенка, здорового и телесно, и душевно. Однако трудности воспитания связаны прежде всего с теми целями, которые мы, родители, ставим перед собой. Существует как бы несколько направлений в воспитании, способствующих возрастанию человека в каком-то определенном духе. Одни родители хотят видеть своих детей сильными и умными, другие – приспособленными к современным условиям жизни. Третьи хотят, чтобы в их детях проявились необыкновенные таланты и способности: научные, художественные, лингвистические… Но не таковы чаяния православных родителей. Воспитывая своих детей, они хотят прежде всего спасения их души. Они знают, что если им удастся научить детей любить Бога и ближнего, то, с какими бы трудностями те впоследствии ни столкнулись, они сохранят незапятнанной свою душу, потому что в бурном житейском море у них будет самый надежный ориентир – Богочеловек Иисус Христос и Его заповеди.
Если семейное воспитание не ставит перед собой этой главной, духовной цели, то, как бы ни был ребенок умен и талантлив, все его таланты и способности могут при известных обстоятельствах обратиться против него и стать поводом к грехопадению. Поэтому наша главная цель – дать ребенку тот компас, по которому он будет выверять весь свой жизненный путь. Дать ему путеводную звезду, на свет которой, как на свет звезды Вифлеемской, он будет идти ко Христу, постоянно обретая Его в яслях своего сердца.
Составители книги «Что необходимо знать каждой девочке» пытаются в живой и интересной форме бесед мамы с дочерью в разные периоды ее жизни показать, как происходит духовное возрастание ребенка в православной семье. Возможно, не все проблемы современного воспитания нашли отражение в книге, но все же я не сомневаюсь: она принесет большую пользу и детям, и родителям.
Священник Алексий Грачев, врач-педиатр
Часть первая. «Откуда берутся дети?»
Впервые в жизни пятилетняя Наденька рассталась с мамой. Целых две недели гостила она у бабушки и очень соскучилась по дому. Последние несколько дней она даже по телефону не слышала любимого маминого голоса. Где же она? Взрослые отвечали, что мама болеет, но уже скоро поправится… Наконец за Надей приехал отец.
– А мама где? – спросила девочка.
– Дома. Ждет тебя и приготовила тебе сюрприз…
Мама встретила их на пороге; она казалась немного усталой, но сияла радостью. «Слава Богу, приехали!» – сказала она и обняла Надю. Потом приложила палец к губам, призывая не шуметь, и поманила ее за собой в спальню. Надя догадалась, что там и ждет ее обещанный сюрприз…
Две недели она не видела этой комнаты и теперь не узнавала ее. В помещении царил полумрак: шторы были задвинуты, и ярко светился огонек лампадки перед иконой. Мебель была расставлена по-новому… Большой платяной шкаф стоял боком и отгораживал угол. А главное – в углу у стены стояла маленькая деревянная кроватка с решеткой, такая же, как была когда-то у Нади. Зачем она здесь?.. Надино сердце забилось в предчувствии чего-то необыкновенного; она подошла ближе и увидела… маленькое, красное и сморщенное личико с закрытыми глазками.
– Ребеночек! – удивилась она. – Чей это?
– Наш. Это твой братик.
– Братик? Откуда он взялся? Кто его принес? И почему он такой… некрасивый?
– А по-моему, он очень хорошенький, – с улыбкой отвечала мать. – Мне даже кажется, что никогда и на свете не было такого хорошенького ребеночка! Кроме только одного – девочки Наденьки…
– Как? И я была на него похожа?
– Конечно, вы же брат и сестра. Ты подожди: он подрастет и станет красивее… Но мы и сейчас его любим, правда?
Но Надя никак не могла понять, что произошло.
– Так мы его оставим у себя?.. А откуда он взялся?
– Конечно, он останется у нас. Его дал нам Господь, чтобы мы все: и я, и папа, и ты – любили его, заботились о нем и воспитывали его.
– Его дал нам Господь?.. А как его зовут?
– У него пока еще нет имени. Имя дается при крещении, в честь какого-нибудь святого. А твой братик еще не крещен. Мы вместе выберем для него имя и через некоторое время пойдем в церковь, чтобы батюшка окрестил его…
– Значит, он тоже будет, как и я, ходить в церковь и причащаться?
– Ну, разумеется, будет. Только ходить-то он еще у нас не умеет. Мы будем возить его в церковь в колясочке… А откуда он взялся, я расскажу тебе в другой раз. Теперь иди – переодевайся, мой руки и садись ужинать.
Но Наденьку беспокоила еще одна мысль.
– Мама, – спросила она нерешительно, – а меня ты теперь будешь меньше любить?..
Мама опять крепко обняла и поцеловала ее:
– Да что ты такое говоришь! Как же я могу тебя меньше любить? Ты же мой первенец. Ты моя главная помощница. Мы вместе будем заботиться о твоем братике и всегда будем неразлучны…
Прошло еще две недели, и еще две… Надиного братишку окрестили с именем Сергей, в честь преподобного Сергия Радонежского. Надя удивлялась: он ничего не ест, кроме материнского молока, а растет не по дням, а по часам. И становится таким хорошеньким! Его кроватка еще стояла в спальне родителей, а Наденька спала и играла в своей маленькой комнате – детской.
И хотя мама была часто занята с Сереженькой, она находила время и для своей дочурки. Иногда, уложив маленького и прикрыв дверь спальни, она приходила в детскую – и начинался долгий разговор…
Беседа 1
…Люди рождаются от людей. – Как живут и возрождаются растения. – Будущее растение заключено в семени. – Почему человеку важно знать свойства растений. – Крапива вместо морковки. – Люди могут улучшать породы растений.
– Помнишь, Надя, впервые увидев нашего Сережу, ты все спрашивала меня: «Откуда он взялся? Кто его принес?» Если бы его принесли откуда-нибудь, значит, он где-то был раньше. Некоторые дети так и думают: что есть специальный магазин, в котором можно купить ребеночка… Они, конечно, ошибаются. В том-то и дело, что нашего Сережи прежде нигде не было!
– Нигде не было… – повторила Наденька.
– Понимаешь? Ни у бабушки, ни у чужих людей, ни в другом городе… Нигде его не было, а потом он появился – родился. А что значит «родился»? Это настоящее чудо Божие – рождение нового человека, такого, как наш Сережа, или ты, да и вообще всякого человека.
Все, кто теперь живет на свете, были когда-то детьми, такими же слабыми и беспомощными, как сейчас Сереженька. Дети выросли, стали большими. У многих из них есть свои дети, которые со временем тоже будут взрослыми людьми и в свою очередь станут отцами и матерями. Этот порядок установлен Богом с давних времен – когда Он сотворил первых людей, Адама и Еву: у них родились дети, у тех – свои дети, и так до наших дней… Чтобы хоть немного приоткрыть тебе тайну рождения, я начну издалека.
Помнишь, мы наблюдали в нашем парке, как деревья меняются в течение года? Осенью листья с них опадают, они стоят печальные и как будто неживые… Но весной снова возрождаются. Смотришь, в мае они опять зеленые, как будто и не было зимы. Почему это происходит? Почему каждое из растений приносит свои плоды? Почему вместо старых, увядших растений появляются точно такие же молодые, новые?..
Наденька молчала: она не знала, почему так происходит, но очень хотела узнать.
– Потому, – ответила мама на свой вопрос, – что вся природа сотворена премудрым и всесовершенным Богом. Помнишь, мы читали, как Он творил мир? Ему достаточно было сказать – и все в природе устраивалось лучшим и самым разумным образом. Так, Бог сказал: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так».
Да, Надя, закон, данный Богом, никто не может нарушить: все растения приносят плод и семя – по роду своему, – и из этого семени появляются новые такие же растения. Отсюда произошло слово «порода».
Вот, вы с папой так любите жареные семечки. Это семена подсолнечника, прекрасного и полезного растения. Если посадить такое семя в землю, то из него вырастет подсолнух, с высоким стеблем и круглым большим цветком.
А есть семена куда меньше: маковое семя, семя репы. Они как маленькие черные точки. И в такой «точке» заключено все будущее растение: листья, корни, плод… Эта способность растений появляться из семени и называется силой воспроизведения – то есть произведения себе подобных.
Ты поняла, Надя, откуда берутся растения: и высокие деревья, и маленькая травка, и домашние цветы?
– Да. Они вырастают из семечка таких же растений. А первые растения сотворил Господь. От первых растений, через их семена, вырастали новые и новые…
– Молодец: внимательно слушаешь. А теперь я расскажу тебе, как это происходит.
Помнишь сказку: «Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая»?.. Я тебе ее раньше часто читала. Ты как представляла себе это: «Посадил дед репку»? Как он ее посадил?
Наденька помолчала и вспомнила.
– Я, кажется, думала, что он просто взял и посадил в землю уже готовую репку, только маленькую. Но ведь он посадил семечко, похожее на черную точку, да?
– Да. Он взял маленькое-маленькое черное семечко репы, сделал ямочку в земле, положил его туда, закрыл землей, полил водичкой. И стал ждать…
Когда семя попадает в землю, оно оживает, начинает добывать себе пищу из земли и понемногу растет, превращается в маленький росток, потом в большое растение. Часть своей пищи оно перерабатывает в стебель и листья, часть – в плод; в этом плоде будут новые семена, в которых заключается жизнь следующих поколений растений. Новое растение всегда будет похоже на старое: из желудя старого дуба вырастет молодой дубок, из зернышка пшеницы выйдет новый пшеничный колос, а из семени репы – репа.
Это свойство растений очень важно для нас. Не будь его, плохо бы нам всем было!
Представляешь, приходим мы с тобой в магазин «Семена» и просим: «Дайте нам, пожалуйста, семена, мы хотим вырастить морковку и петрушку». А продавщица отвечает: «Да вот семена, берите. Может, и вырастет…» Мы бы их купи-ли, посадили бы и стали ждать: что вырастет… И вдруг бы на наших глазах из земли полезли лопухи и крапива!..
Надя взглянула недоверчиво: вместо морковки – жгучая крапива!
– Как это? Мы же посадили хорошие, полезные семена…
– Я хотела только, чтобы ты представила, что было бы, если бы семена могли «ошибаться». Крестьянин, сажая семена в землю, не знал бы, какой урожай ему придется собирать. Но, слава Богу, это не так.
Сея овес или рожь, сажая картофель, мы знаем, что вырастет именно овес, рожь, картофель. А если вдруг почему-нибудь случится иначе, мы сразу поймем, что сами перепутали семена. Семя «ошибаться» не может: таким его создал Бог, оно всегда послушно закону природы, данному Богом.
Человечество – от Адама и Евы до наших дней – существует несколько тысяч лет. За это время люди хорошо изучили растения. Они знают, в какое время какое семя лучше приживется в земле и быстрее начнет расти. Знают, в каких странах могут созревать яблоки, а в каких – бананы. Наблюдая за природой, познавая ее законы, человек умело использует нужные ему свойства разных растений.
– Для еды?
– Не обязательно для еды. Также для удобства и для красоты. Например, дуб – дерево твердое, прочное. А людям очень нужен такой материал. И важно, что любой дуб имеет такое свойство – прочность.
Когда мы ставили крест на могиле у дедушки, нам с папой советовали: «Поставьте дубовый крест. Он простоит у вас долго-долго!» Но в мастерской тогда не было дуба, и мы решили: «Не всели равно…» И что же? Прошло несколько лет, и – ты сама видела: крест на могилке покосился, потому что основание его подгнило от сырости… С дубовым крестом такого бы не произошло.
Вот как важно знать и использовать отличительные свойства растений! А иногда человек, зная законы природы, сам формирует такие свойства растений, которые ему нужны.
Надя очень удивилась:
– Как это «сам формирует»? Разве не Бог создал растения и все, что в них есть?
– Конечно, Надюша, создал их Бог. Но Он не запретил людям улучшать породы растений. Наоборот, Он поселил первого человека, Адама, в раю, то есть в прекрасном саду, чтобы Адам возделывал его.
– Но разве человек может сделать лучше, чем уже сделал Бог? – недоумевала Надя.
– Так ведь он все делает с помощью Божией! Без Бога-то он, и правда, может только портить. Господь позволил нам «помогать» природе не потому, что Ему, Творцу, нужна наша помощь: ведь Он всемогущ! А для того, чтобы мы трудились, познавали природу и обращались к Нему за помощью.
– А если у нас плохо получится?
– И даже если плохо получится, Господь все равно позволяет нам устраивать все по-своему, учиться на собственных ошибках и приобретать необходимый опыт. Прежде всего, убеждая нас, что без Него мы ничего не можем сделать хорошо. Это очень полезно, потому что человек перестает гордиться, смиряется. Знаешь, как это важно для христианина – смирение? Мы ведь с тобой, Наденька, христианки.
Ты помнишь, как мы пекли пирожки на папины именины? Ты хотела обязательно сама, без моей помощи, лепить пирожки из теста, сама класть в них начинку. И я тебе позволила попробовать. Что получилось?..
Надя со смущением вспомнила свои пирожки – кривые, расползшиеся, с вытекшей начинкой. А рядом – мамины: румяные и ровненькие, они так и просились в рот! Теперь ей было стыдно… Но мама весело улыбалась, и девочке стало смешно: какая она была упрямая, все хотела делать сама!
– Я на тебя нисколько не сердилась, – продолжала мама, – и не мешала тебе. Мне только хотелось, чтобы ты внимательнее смотрела, что делаю я, спрашивала меня, что и как делать дальше, и иногда просила помочь. Но сегодня у нас с тобой такой серьезный разговор, и я хочу тебе признаться: мне проще было сделать все самой. Только как же ты тогда научишься печь пирожки? А ты ведь моя помощница, и во многом мне уже очень хорошо помогаешь…
Вот так и Господь дает людям возможность как бы участвовать в Его деле и изменять породу растений. И, когда мы трудимся со смирением, со страхом Божиим, у нас очень хорошо получается! Например, роза происходит из обыкновенного дикого шиповника, который растет вдоль дороги у нас на даче. Целые сорок лет люди трудились над семенами шиповника, изучали его, ухаживали за ним – и в результате получили не один, не два, а триста различных сортов роз – от маленьких до самых крупных, от белых и бледно-розовых до пурпурных и даже черных!
Или возьмем яблоки. Дикие яблоки – маленькие, жесткие, кислые. Ты бы их есть ни за что не стала! И вот из этого мелкого невкусного дичка человек сумел сделать множество сортов больших, душистых, вкусных садовых яблок…
А у тебя, доченька, уже глазки слипаются. Давай-ка продолжим в другой раз, когда будет время. Спокойной ночи! Храни тебя Господь!
Мама перекрестила Надю и вышла из детской.
Беседа 2
…Через месяц. – Красота Божьего мира. – Как устроено растение. – Цветок: его назначение и строение. – Чтобы семя могло расти. – «Цветочная семья». – Как происходит оплодотворение семян разных растений.
Прошел месяц. Надин братик рос не по дням, а по часам. Он требовал все больше внимания мамы. Сережа часто просыпался по ночам, и мама не спала вместе с ним. И папа, и Надя помогали ей, чем могли. Надя всегда следила, чтобы в комнате, где живет братик, не было пыли, и каждый день протирала мебель влажной тряпочкой. Она следила, чтобы кошка не вошла неожиданно в спальню и не напугала маленького. Она поливала все цветы. Она вытирала посуду. Но все равно у мамы совсем не оставалось времени на вечерние задушевные беседы с дочкой: она успевала только заглянуть к ней на минуточку, чтобы перекрестить и поцеловать ее…
Наконец установилась теплая погода, и семья перебралась за город, на дачу. В жаркие дни после обеда дети вместе с мамой отдыхали прямо на улице. Сереженька, насосавшись материнского молока, спал в своей коляске, Надя устраивалась на надувном матрасе, а мама садилась рядом, с вязанием в руках. Кошка дремала в тени дома, стена которого была покрыта разросшимся вьюнком. Казалось, что это не дом, а заросшая зеленью гора…
Здесь в тихие послеобеденные часы возобновились доверительные беседы.
О чем это тихо говорят мама с дочкой, разглядывая бледно-розовый цветок вьюнка?..
– Мамочка, а в раю растут такие же цветы?
– Не знаю, доченька! Там, наверное, растут дивные цветы и деревья, только не знаю, какие. Мы никогда не видели, не слышали и не можем вообразить, что есть в раю. Святые, которые при жизни видели рай, говорят, что там такая красота, какой нет на земле!
– Там так же красиво, как в нашем саду?
– Там гораздо, гораздо красивее! К сожалению, здесь растения отцветают и гибнут, а там все живет вечно. Но и эту окружающую нас красоту Господь создал, чтобы мы не забывали о рае и, восхищаясь Божиим творением, всегда помнили о Творце.
Посмотри, какая красота! Простой цветочек, скромный, светленький; сегодня он цветет, а завтра завянет. Но какая прекрасная у него форма, какой мягкий, теплый цвет, какие жилочки, какой чудный, тонкий аромат, какая во всем нежность! Ведь человек, сколько ни старайся, никогда такого не сделает: нет на свете ткани, камня, металла, вещества, чтобы получился такой цветок. Но даже если и выйдет похоже, он не будет живым! От него не сможет произойти новый такой же цветок. А от этого – может. Наш вьюнок – живой: видишь, он растет, тянется к солнышку… С каждым годом он все гуще покрывает наш дом: значит, из земли появляются все новые ростки – «детки». Рассказать тебе, как они «рождаются»?
– Расскажи!..
Наденька блаженствует: тепло, уютно, спокойно, красиво кругом; мама рядом… Она усаживается поудобнее и слушает.
Ты знаешь, что растения – это творения органические, так как у них есть отдельные органы или члены, необходимые им для жизни. Корни, стебли, листья называются органами питания; цветы, плоды и семя – органы воспроизведения.
Надя вопросительно взглянула на маму, и та пояснила:
– Быть может, ты не забыла, что воспроизводиться значит производить потомство. Так вот, органы воспроизведения служат для того, чтобы каждое дерево, каждая травка, прежде чем они завянут, могли бы дать жизнь новому такому же растению. Скажи-ка, цветок появляется у растения сразу же, как только оно начнет расти?
– Нет, сначала оно растет, растет, потом появляется бутончик, и наконец – цветок.
– А зачем нужен цветок, как ты думаешь?
Девочка пожала плечами.
– Для красоты? – предположила она.
Мама улыбнулась:
– Я так и знала. Я бы и сама так же ответила. Однако на самом деле все иначе. Наступает время, когда растение должно позаботиться, чтобы после него осталось молодое поколение – вот оно и производит цветок. Его назначение – произвести семя, в котором будет заключена жизнь следующего поколения. Посмотри еще раз на цветок вьюнка: он очень интересно устроен. Красивые лепестки его все вместе называются венчиком, то есть маленьким венцом. Приоткрыв лепестки венчика, мы увидим в нем пять тоненьких палочек, приросших к венчику; их называют тычинками. На конце каждой тычинки есть маленькая коробочка, и если ее вскрыть, то в ней окажется желтый порошок, который называется пыльцой.
А вот этот стебелек в центре называется пестиком, а его широкая часть на дне чашечки – завязью, или яичником.
– Яичником? – удивилась Надя. – В нем что, яички лежат?
– Именно. Семена растения – это те же яички, из которых позже появляются новые растения. Но об этом мы еще поговорим.
Итак, в завязи лежат семечки, или яички. Когда семечко созрело, оно бывает твердое, черное. Если его посадить в землю, то оно начнет впитывать в себя влагу и расти.
Девочка слушала, внимательно разглядывая цветок…
– И все? – спросила она.
– Нет, не все. Самое интересное еще впереди.
Семя не будет расти, если прежде оно не было оплодотворено. Необходимо, чтобы пыльца с тычинки попала в пестик, прошла по трубочке в завязь, где лежат семена-яички, и здесь коснулась их. Только тогда в них может зародиться жизнь.
Это все было очень интересно, но Наденьке хотелось узнать, какое это имеет отношение к людям и, в частности, к ее маленькому братику.
– А у людей… – начала она.
Но мама угадала ее вопрос и улыбнулась:
– У людей, конечно, нет тычинок и пестиков, но в чем-то мы с растениями все-таки похожи. Например, у них тоже есть папа и мама.
– У растений? Папа и мама?..
– Посмотри-ка на этот молоденький побег вьюнка: он совсем еще маленький, слабенький. Как ребеночек, правда? Так вот, если считать, что это ребенок, то пестик будет его матерью, тычинка – отцом, а весь цветочек вьюнка будет жилищем этой «семьи». Только «родители» нашего молоденького побега находились в другом цветке, его уже нет; он сделал свое дело, произвел потомство, молоденькие росточки, – и увял… Еще говорят: «отцвел».
– Значит, это и есть рождение?
– Не совсем. Говоря о растениях, лучше употреблять слово «воспроизведение». Все растения воспроизводятся одинаково; но не у всех растений «отец» и «мать» находятся в одном и том же цветке, как у вьюнка. У некоторых из них пестик находится в одном цветке, а тычинки – в другом. Ни один из таких цветочков сам по себе не может дать ни плода, ни семени. Если пыльца из одного цветка не попала на семечки-яички в другом, из них ничего и не вырастет.
– Даже если посадить их в землю?
– Да, даже если посадить в землю, греть и поливать.
А бывает еще и так, что цветы с тычинками растут на одном дереве или кусте, а с пестиками – на другом. Между ними может быть расстояние даже в несколько километров. Им помогает ветер, а еще больше пчелы и другие насекомые. Есть старинный детский стишок:
Весело пчелка летает
В поле с цветка на цветок
И хлопотливо сбирает
На зиму сладкий медок.
Рабочая пчелка, собирая мед, и не думает вовсе, что она несет жизнь новому поколению растений; а между тем, когда она забирается в чашечки цветов, к ее мохнатым лапкам пристает пыльца с тычинок, и пчелка переносит эту пыльцу на другие цветы, где есть завязь. А там пыльца сделает свое дело и даст жизнь семечкам…
Доченька! Посмотри-ка, кто идет к нам по дорожке.
– Папа приехал! – громко закричала Наденька.
Сережа открыл глазки и заплакал. Беседу, конечно, на сегодня пришлось закончить.
Беседа 3
…Жизненная сила растений. – Чем животные отличаются от людей и от растений. – Животные появляются из яиц. – Как появляются на свет рыбки. – «Брошенные детки».
– Вот, Наденька, – начала мама в следующий раз, – почему каждую весну вся природа оживает, все зеленеет. Солнышко светит все ярче, снег тает, вода попадает в согретую землю, а в земле-то лежат… что там лежит?
– Семена растений.
– Да. Такие семена, в которых дремлет жизнь. Они только и ждут весеннего тепла и влаги, чтобы пробудиться и начать расти, тянуться к солнышку. Господь наделил растения способностью воспроизведения и великой жизненной силой. Помнишь, мы с тобой видели тоненькую, слабенькую на вид травку, которая, чтобы расти, пробила асфальт и тянулась к свету из трещины!..
Она растет-растет, потом начинает цвести, и в цветке дается жизнь новому поколению такой же травки. Как это происходит, я тебе уже рассказывала. Говоря о растениях, мы употребляем слово «воспроизведение»; мы говорим: «растение воспроизводит себя в новом поколении». А о животных мы уже так не скажем. О них мы говорим: «рождают», «рождаются». Так же, как о людях.
– Люди похожи на животных?
– Похожи только отчасти, внешним строением тела, хотя у человека оно значительно сложнее и совершеннее. Но между ними есть громадное различие, и ты знаешь, какое. Что есть у человека, чего не имеют животные?..
Девочка задумалась и молчала. Она знала, что у человека есть душа, которая живет в его теле, а когда человек умирает, как умер дедушка, его душа расстается с телом: тело закапывают в землю, а душа выходит из него и идет к Богу. Надя знала, что когда настанет конец света и Страшный суд, все души вновь соединятся со своими телами и все умершие воскреснут… Не это ли отличает человека от животных?.. Только Надя хотела заговорить, как мама опередила ее:
– Ладно, я вижу, что ты знаешь. Человека Бог наделил бессмертной душой; и он живет на земле не для тела, а для души. Животными руководят инстинкты – такие способности правильно вести себя, чтобы выжить. Они вложены Богом: инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Поэтому, например, наша кошка, когда голодна, будет всеми силами стараться добыть себе пищу, выпрашивать ее у нас, надоедливо мяукать и не успокоится, пока не поест. А человек? Он, ты знаешь, может для пользы души и отказываться от пищи, как это бывает во время поста. Человек даже способен пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти душу. Так, христианские мученики в древности отказывались поклониться языческим богам – бесам, и их за это убивали. А они с радостью шли на смерть, потому что знали: Господь примет их в Царствие Небесное, то есть в рай.
Но о людях я расскажу тебе в другой раз. Сегодня мы поговорим о животных. Они являются низшим творением, если сравнивать их с человеком, и высшим по отношению к растениям.
Низшая, растительная форма жизни возникла Божиим повелением в третий день творения. Позже, в пятый день, по слову Божию, вода произвела пресмыкающихся (то есть ползающих) животных и рыб, а над землей полетели птицы. А в шестой, последний день творения, Бог повелел земле произвести животных, обитающих на суше, – скотов и зверей.
Растения живут, растут, воспроизводятся и умирают. Но они не заботятся о своем потомстве, не чувствуют и не могут передвигаться. Животные и похожи, и не похожи на них.
Похожи прежде всего тем, что тоже появляются из яйца.
Можно сказать, что семена – это яйца растений, а яйца – семена животных. И то, и другое – одно и то же. Из семени выходит дитя-растение, а из яйца – дитя-животное.
Вот мы дошли с тобой до яйца. Скажи мне, Наденька, ты знаешь, что такое яйцо?
– Конечно, – ответила Надя. Она прекрасно знала беленькие или чуть желтоватые куриные яйца, которые, разбив скорлупу, едят чайной ложечкой. Больше всего ей нравились крашеные пасхальные яйца.
Мама поняла, о чем думала девочка.
– А ты знаешь, что яйца бывают очень разные? Например, рыбья икра – это тоже яйца: из каждой икринки может «вылупиться» рыбка, как цыпленок из куриного яйца. Откуда берется рыбья икра?
Почти весь год рыба-мама живет в море; но весной, когда тело ее бывает полно яйцами, она из глубины моря идет к берегу на отмели, заходит в реки и даже поднимается по ним на сотни верст, чтобы только найти удобное место, где бы «снести» яички.
– Как курочка?
– Не совсем. Слушай дальше. Рыба-отец плывет вместе с матерью; когда они найдут подходящее место, то самка выталкивает яички из своего тела, и они остаются плавать в воде. Она сделала свое дело. Однако, если бы яички остались неоплодотворенными, из них никогда не вышло бы маленьких рыбок; точно так же как из семечка никогда не выйдет растения, если оно прежде не оплодотворено пыльцой. Для этого рыба-самец плавает над яичками и выпускает на них из своего тела особую жидкость, в которой содержится жизненное начало. Входя в яички, оно дает им возможность развиться в маленьких рыбок.
Надя была потрясена:
– Но как рыбы все это понимают? Они же глупые!..
– Наденька, они сами по себе, возможно, и глупые, но все их действия отражают премудрость Божию. Рыбы, как и все твари Божии, наделены особенным даром, о котором я тебе уже говорила, – инстинктом. Этому своему инстинкту они повинуются во всем. Видишь, ими будто кто-то командует: «Плыви, плыви… стоп! Здесь можно метать икру…». Это ими руководит инстинкт, через который действует воля их Творца, Бога…
Ну, что? Теперь ты знаешь, как рождаются рыбки?
– Значит, и у рыбок есть мама и папа?
– Конечно. Если уж у растений есть родители, то у рыбок тем более.
Но эти маленькие рыбки-детки (их называют «мальки») никогда не узнают своих родителей. Положив яички, рыбы уплывут и больше уже не увидят своих детей; а если и увидят, не узнают их. Из яичек, оставшихся в теплой воде, через несколько дней появятся рыбки и начнут самостоятельную жизнь…
Надя опечалилась: ей было жаль маленьких беззащитных мальков, рыбок-деток, которые вылупились из икринок где-то далеко от дома, в чужом краю, без мамы с папой, и никто их не растит, не кормит, не любит!.. Чтоб утешить девочку, мама разрешила ей снять босоножки и походить по теплой земле босиком.
Беседа 4
…История семьи трясогузок. – Птицы наделены родительским инстинктом. – Как происходит оплодотворение птичьего яйца. – Из какого яйца появляются млекопитающие. – Чем сложнее организм, тем дольше он развивается и зависит от родителей.
На следующий день шел дождь, и послеобеденное время мама с дочкой проводили на террасе. Сережа тихо спал в доме в своей кроватке. Надя сидела на диване, рядом с мамой, и внимательно слушала.
Помнишь, прошлой весной мы следили, как две трясогузки вили гнездо под крышей нашего дома. С утра до вечера птички были усердно заняты работой. А когда гнездо было готово, одна из них снесла яйца и села на них, чтобы они постоянно были теплыми. Это была мама-трясогузка. Другая птичка, отец, все время летала кругом, приносила червячков, мух и другую пищу, пела песенки, чтобы развлекать свою подругу. Птичка-мать иногда вылетала из гнезда, а отец садился на ее место, чтобы яйца оставались все время в тепле. Через некоторое время в гнезде появились маленькие птенчики, а мать и отец оберегали их и носили им пищу. Ты все хотела забраться на стул и погладить их, но я тебе не разрешила: птички могли погибнуть от этого; и родители-трясогузки стали бы очень страдать, переживая за своих птенчиков, заметив, что человек лезет к их гнездышку.
Как видишь, птицы оказываются более заботливыми родителями, чем рыбы, да и птенчики – хорошие, послушные детки: они постоянно держатся возле отца и матери, пока не научатся летать… А потом маленькие трясогузки улетели, и отец с матерью, вероятно, никогда не видели их больше.
– А если они встретятся где-нибудь в саду или в лесу, они узнают друг друга?
– Нет; родительский инстинкт сделал свое дело, больше он птичке не понадобится – до следующей весны, когда она выведет новых птенцов из новых яичек.
Птичьи яйца развиваются в теле матери, в яичнике. Но из них не вышло бы птенчиков, если бы яички не были оплодотворены особым веществом из тела отца, когда еще находились в теле матери. Потом мама-трясогузка снесла яйца, они пробыли три недели в тепле, и из них вышли маленькие птички, которые тебе так понравились.
В это время скрипнула дверь: на террасу вышла кошка.
– Ага! – сказала мама. – Вовремя появилась. Я как раз хотела о тебе рассказать…
– О кошке?
– И о кошке, и о других ее собратьях – высших видах животных, которые кормят своих детей молоком. Таких животных называют млекопитающими. Ты хорошо знаешь многих из них: кошек, собак, лошадей, коров. Тебе приходилось видеть, как кошка кормит котят: маленькое животное лежит возле матери и сосет молоко из ее груди.
– Да, я знаю. Но котята появляются не из яйца!
– Ты ошибаешься. И у млекопитающих жизнь тоже начинается в яйце; только оно небольшое, не покрыто твердой скорлупой, и мать не высиживает его в гнезде, как это делают птицы. Яйцо все время остается в теле матери: оно такое маленькое, что его нельзя увидеть без микроскопа, и если бы оно не было оплодотворено отцом, то из него никогда не развилось бы новое живое существо. В теле матери, в особом мешочке, оно растет и развивается. Кровь матери питает его; дыхание матери доставляет ему необходимый воздух, пока не придет ему время начать свою собственную, отдельную от матери жизнь; тогда оно появляется на свет, или, как говорят, рождается. Но и после рождения жизнь новорожденного животного тесно зависит от матери, потому что из ее груди оно получает пищу, нуждается в ее защите, и только через несколько недель и даже месяцев станет вполне независимым.
А у нас, у людей, дети еще дольше нуждаются в материнском уходе – даже после того, как их отнимут от груди и у них прорежутся зубки.
Раньше я удивлялась: почему так устроил Господь? А потом поняла: чем выше и совершеннее живое существо, тем более беспомощным бывает оно в детстве.
Ты жалела маленьких рыбок, о которых никто не заботится. А им это и не нужно. Они сами о себе прекрасно заботятся.
Млекопитающие животные стоят гораздо выше их. Первое время своей жизни они питаются молоком матери и не могут переваривать другой пищи, пригодной для взрослых животных. Поэтому они держатся возле матери, пока не вырастут настолько, чтобы есть то же самое, что ест и сама их мать. Тогда мать перестает кормить их молоком и уже больше о них не заботится.
Человек занимает самое высокое место среди живых существ, и дети его бывают самыми беспомощными. Начиная свою жизнь, они решительно ничего не могут делать самостоятельно.
Понаблюдай за нашим Сереженькой. Ты узнаешь, что маленький ребеночек сначала совсем не может поднять головы, хотя уже поворачивает ее из стороны в сторону и немножко двигает руками и ногами. Потом он начинает поднимать головку, а потом привыкает держаться прямо и пытается прыгать у мамы на руках. Через несколько месяцев он попробует подняться на ноги, а когда ему будет около года, то, вероятно, начнет и ходить.
Видишь, сколько времени пройдет, пока он встанет на ноги; а жеребенок выучивается бегать уже через несколько часов после своего рождения.
Жизнь животного не сложная; ему не надо много времени, чтобы стать тем, чем назначил ему быть Господь. Но чтобы человеку развиться вполне, времени нужно немало. Очень медленно выучивается он понимать, думать, рассуждать и действовать. А когда у него разовьются все его органы и способности, данные ему Богом, тогда ему еще надо научиться различать, что хорошо и что дурно.
Вот, тебе уже скоро шесть лет. Если бы ты родилась не человеком, а собачкой или лошадкой, ты была бы уже взрослым животным и имела потомство. Но ты человек и в свои неполные шесть лет только-только начинаешь познавать жизнь…
Из глубины дома послышался детский плач. Мама потрепала Надю по щечке и встала.
Беседа 5
…Откуда все-таки берутся дети. – Как произошли первые люди и как они наполнили землю. – Дети тоже появляются из яйца! – Жизнь ребенка в материнском теле. – «Ты тогда уже знала обо мне?» – Образ жизни будущей мамы. – Зачем нужен пупок. – Роды. Страдание и радость матери. – Дитя есть часть своей матери и своего отца. – Детородные органы тела. – «А откуда берется душа?» – Любовь родителей к своим детям. – Детей дает людям Господь.
Погода, видно, надолго испортилась. Надя почти не выходила в сад и целыми днями вертелась возле мамы. Она старалась помочь маме в ее хлопотах с Сереженькой и не напоминала о продолжении рассказа. Она знала, что мама подошла к самому интересному и, когда будет посвободнее, сама начнет разговор. Так и случилось.
Однажды, уложив сына и убрав посуду, она устало опустилась на диван и с улыбкой поманила к себе Наденьку:
– Садись. Поговорим, хочешь?.. Сегодня я наконец смогу ответить тебе на вопрос: «Откуда появляются дети».
О чем мы с тобой только не говорили! И о травке, и о дубе, и о вьюнке, и о рыбках, и о трясогузках, и о кошке… Но это все для того, чтобы тебе понятнее было, как рождается человек – высшее творение Божие.
– Первого человека создал Сам Бог, – вставила Надя. – Из земли. И вдохнул в него бессмертную душу.
– Да. Никого больше Господь так не создавал – только человека. Но все следующие поколения рождались уже от самих людей.
Мама встала и взяла со стола коробок спичек. Она достала три спички и положила на диване: одну повыше, две пониже.
– Смотри, – сказала она. – У дедушки было два сына: твой папа и дядя Валера. У папы двое детей: ты и Сережа… Вот, я кладу под этой спичкой еще две… У дяди Валеры – три дочки…
Кладем еще три спички… Ну, вы все вырастете, у вас будут свои детки: по двое, по трое, а то и больше… Кладем еще спички.
– А у них тоже будут детки? – Наденьке хотелось продолжать: скоро уже весь диван будет занят спичками…
– И у них… Но ты уже все поняла, да? Вот как растет человечество, и люди заполняют землю.
Так откуда же появляются дети?.. Я сразу хочу сказать тебе одну вещь, которая тебя очень-очень удивит: дети у людей появляются из яйца. Не большого яйца в скорлупе, как у курицы, а из такого же маленького, как яйцо млекопитающего животного.
В теле матери находится яичник и в нем – яйцо. Оно может выйти оттуда, и никто об этом не узнает. Но если яйцо оплодотворено, то оно останется в теле матери и будет там расти почти год – целых девять месяцев.
Удивительно, как из крошечного яйца, которое даже трудно разглядеть, мало-помалу развивается дитя, которое весит 3–4 килограмма! И вся эта перемена происходит в теле матери. Там ребенок лежит защищенный от всякой опасности; и мать знает об этом и уже любит свое дитя – еще раньше, чем его увидит.
Видишь, что получается: каждый человек был когда-то частью своей матери.
Девочка напряженно слушала.
– Представляешь, – продолжала мама, – ты когда-то была крошечной пылинкой, точкой, меньше острия иголки?
Когда началась твоя жизнь, тебя можно было бы рассмотреть не иначе, как в микроскоп. Пока ты была такой малюсенькой, тебя легко было бы и потерять. И правда, это могло бы случиться, если бы Господь о тебе не позаботился. Он так создал тело матери, что в нем для детей есть особая «комнатка», где дитя остается скрытым от всякой опасности, пока не вырастет настолько, чтобы появиться на свет Божий и зажить своей особой жизнью.
– А ты знала обо мне, когда я еще была, как точка?
– Я надеялась, что ты уже живешь во мне, а твердо уверилась в этом позже, когда ты начала расти. Доктор осмотрел меня, провел обследование и сказал: «Да, точно, у вас будет ребеночек».
Наде было интересно, как складывались тогда их с мамой отношения.
– Ты обрадовалась?
– Очень! А однажды я почувствовала легкое движение внутри, словно ты постучала маленькой ручонкой в стену своей комнатки и сказала: «Мама, я здесь!». Мне показалось, что это было именно так. И я старалась представить себе, какая ты будешь, когда я тебя увижу.
Девять месяцев ты жила в своей комнатке в моем теле и росла с каждым днем. Мне хотелось, чтобы ты была счастлива; поэтому я сама старалась быть довольной и счастливой.
– А папа? Он тоже знал обо мне?
– Папа ждал тебя еще больше! Он каждый день прикладывал ухо к моему животу, где ты жила, и слушал: как там наша малышка? Все ли у нее хорошо?
Надя счастливо рассмеялась.
– Расскажи еще! – попросила она.
– Я выбирала для себя простую и хорошую пищу, чтобы ты была здорова. Папа заботился обо мне: покупал свежие фрукты, в которых много витаминов, водил меня под ручку гулять, чтобы я чаще дышала свежим воздухом. Мы знали, что все это: и витамины, и свежий воздух – достанется и тебе…
Я и о душе своей заботилась. Я старалась быть доброй, ласковой, терпеливой, сдержанной, ни в чем не согрешать – вообще, быть такой, какой мне хотелось видеть тебя: ведь все, что я делала в то время, должно было, хорошо или дурно, отозваться на тебе.
И еще я почти каждую неделю ходила в церковь, исповедовалась у батюшки и причащалась Святых Христовых Таин. Я знала, что так и тебя касается благодать Божия!..
– А как я кушала?
– Помнишь, ты меня все спрашивала, зачем нужен пупок? Вот зачем: ты через него соединялась с моим телом и питалась, когда жила во мне. Пока ты не родилась, кожа твоя заканчивалась на месте пупка длинной трубочкой, другой конец которой был прикреплен к моему телу. По этой-то трубочке моя кровь с питательными веществами притекала к тебе.
Когда пришло тебе время появиться на свет и начать жить отдельно от меня, тебе надо было выйти из твоей «комнатки». Папа отвез меня в больницу, где доктора помогли тебе выбраться. Каждая мать страдает, рождая дитя. Это страдание назначено нам Богом после грехопадения Адама и Евы. Помнишь, Господь сказал Еве: «В болезнях будешь рождать детей»?..
Но, знаешь, Наденька, все муки забываются, когда ребенок появляется на свет! Видя впервые свое дитя, уже ничего не помнишь и не чувствуешь, кроме радости!..
Итак, ты вышла на свет Божий, или, как говорится, родилась. Тогда трубочка, связывающая тебя со мною, была отрезана доктором; потом это место зажило – и появился твой пупок. Когда ты в первый раз в жизни вздохнула своими легкими, то громко закричала. По этому крику я узнала, что ты жива и здорова; меня охватила радость, и я спросила: «Мальчик или девочка?»
– А разве ты еще раньше не знала, что я девочка?
– Я надеялась, я мечтала о дочке и молилась Богу: «Господи, пошли мне дочку!» Но точно я не знала, кто у меня будет, пока ты не родилась. Маленьким девочкам-младенчикам готовят все розовое, а мальчикам – голубое. Есть такой обычай. У мальчика – голубые чепчики, распашонки, одеяльце… У девочки – все розовое. И хотя я не была уверена, что родишься ты, но все же заранее связала розовую кофточку и носочки, которые ты носила и которые я до сих пор храню…
– И что было дальше?
– Дальше? Тебя вымыли и завернули в пеленочки, а потом принесли и положили мне на руки. Тут я в первый раз увидела личико маленького ребенка, которого уже так давно любила. Теперь ты понимаешь, почему ты так дорога! для меня… и почему вообще мать так любит своих детей. Они – часть ее самой.
Но в то же время дитя является и частью отца. Из яйца не вышло бы дитя, точно так же, как из семечка не вышло бы новое растение, если бы они не были оплодотворены. И это совершается отцом. Начало жизни заключено в яйце; но оно никогда не пробудилось бы, если бы его не коснулась особая жизненная сила, которую может дать только отец.
У человека нет тычинок и пестиков, как у растения. Но у него есть особые органы тела, которые называются детородными. Люди никогда не обнажают их перед посторонними, всегда закрывают одеждой, и даже совсем маленькие детки купаются на речке в трусиках. Люди берегут эти органы, хранят их в чистоте, не прикасаются к ним без нужды, потому что кто же не хочет родить когда-нибудь хорошего, здорового ребеночка! Тебе вот иногда вечером не хочется идти мыться перед сном, ты торопишься скорее в постельку, и мне приходится проявлять строгость. Теперь ты поняла, почему так важно соблюдать чистоту и не лениться?
– Поняла: чтобы, когда я вырасту, у меня родился здоровый ребеночек… Расскажи дальше!
– Я тебе уже все рассказала, – улыбнулась мама… – Понимаешь теперь, какие удивительные отношения существуют между отцом и матерью и почему они так любят своих детей?..
Но Наденьке не все было ясно. Яйцо получает жизнь от отца, развивается в теле матери, в нем формируется тело ребенка. Это понятно. Но как получается человек ? Человек, который любит, радуется или грустит, верит в Бога? Из чего составляется тело, понятно. А душа? Откуда берется душа, которая отличает человека от растений, от рыб, птиц, животных?..
– Мамочка, а откуда душа? Ведь рождается только тело?.. А когда в нем поселяется душа?
Мама не ожидала этого вопроса; он оказался непростым даже для нее.
– Душа? Она от Бога. Я читала где-то, что Господь посылает душу в детское тело как раз тогда, когда яйцо в теле матери получает первый толчок к развитию жизни. И уж, конечно, рождается младенец уже с бессмертной душой. Но об этом ты расспроси лучше папу…
Ты поняла теперь, что у животных, как и у людей, тоже есть родительская привязанность к своему потомству? Но все же это не любовь в том смысле, как мы, люди, ее понимаем. Это родительский инстинкт. Настоящую любовь мы видим только у людей. И отец, и мать еще задолго до появления ребенка оба думают и заботятся о нем, а когда ребенок у них уже появился, они его нежно оберегают и воспитывают долгие годы и любят так, как никогда и никого больше. Дитя есть часть их обоих. Отец и мать дали ему жизнь.
Но все это совершается только по воле Божией. Есть люди, у которых не рождаются дети. Помнишь, в сказках часто говорится: «Жили-были старик со старухой, и не было у них детей..» Не было – потому что Бог не дал. А есть и такие, у которых, наоборот, очень много детей. Господь лучше нас знает, что нам на пользу… Нам с папой Он даровал и дочь, и сына. Какое это счастье!..
– Мамочка! Теперь я понимаю, почему я так тебя люблю – больше всех на свете!..
И Наденька крепко обняла свою маму.
Часть вторая. Гигиена девочки
Прошло несколько лет. Наде уже шел одиннадцатый год. Теперь это была рослая голубоглазая девочка с короткой, туго заплетенной косичкой. А Сереже недавно исполнилось пять, как Наденьке в ту пору, когда он родился. Семья увеличилась; у Нади с Сережей были еще две сестрички: трехлетняя Аленка и маленькая Дашенька, названная в честь прабабушки; ей недавно исполнился годик.
Когда в воскресенье они всей семьей входили в церковь: Сережа шагал за руку с мамой, Даша сидела на руках у папы, а Надя вела за ручку Аленку, причем все девочки, как и мама, были в белых платочках, – старушки с умилением смотрели на них, вздыхая о своих непутевых внуках и внучках, которые совсем не ходят в храм Божий!
Надя стала теперь настоящей маминой помощницей, и часто мама совершенно искренне говорила: “Что бы я делала без Наденьки!” Действительно, некоторые обязанности по дому полностью лежали на девочке. Она без напоминания мамы мыла посуду после обеда и ужина (а ее в большой семье было много), по дороге из школы покупала хлеб, присматривала за братиком и Аленкой.
Аленка была ее любимицей; они жили в одной комнате, и Надя учила сестренку аккуратно заправлять свою постель, самостоятельно одеваться, причесывала ее и вместе с ней молилась на ночь: старшая сестра стоя читала молитвы вслух, а младшая вставала на колени или сидела в своей кроватке и в конце сама вслух молилась: “Господи, помилуй маму, папу, бабушку, Надю, Сережу, Дашу и меня!” Она понемногу запоминала и повторяла за Надей “Отче наш” и “Богородицу”. Надя воспитывала сестренку, показывала ей картинки в “Детской Библии” и рассказывала разные эпизоды из Священной Истории. В храме она становилась с Аленкой поближе к солее, чтобы та все видела и слышала. Аленка отвечала Наде любовью и преданностью: ей казалось, что никого на свете нет лучше, умнее, добрее ее старшей сестры!
Посуда, уборка, покупка хлеба, прогулки и занятия с Аленкой и Сережей были постоянной обязанностью Нади. Но, конечно, она никогда не отказывалась принять участие в готовке еды, особенно праздничной, с пирогами… Если прибавить к этому, что Надя не только хорошо училась в школе, но ходила также в музыкальную школу и уже неплохо играла на пианино, что по воскресеньям она посещала воскресную школу при храме, где изучала Закон Божий и церковное пение, то станет ясно, что девочка практически все время была занята и не знала, что такое праздность, которую святые отцы называют матерью всех пороков. Ей было незнакомо состояние мечтательной расслабленности и скуки, которое столь часто посещает других девочек. Она не знала, что это значит: “валяться на диване”, или “смотреть в одну точку”, или придумывать, “чем бы заняться”… Но получилось это не само собой, а благодаря продуманной системе воспитания.
Кто-то недоверчиво покачает головой: “Неужели бывают такие примерные девочки?”
На это можно ответить, что, хоть и редко, но в крепких православных семьях такие девочки действительно встречаются.
Кто-то усомнится: “Неужели Надя никогда не роптала на свою занятость? Неужели она с удовольствием убиралась и, тем более, мыла посуду?!”
Конечно, мало приятного в мытье посуды, особенно летом, за городом, где нет горячей воды, а посуда масляная, жирная, и ее довольно много: не только тарелки и чашки, но и кастрюли, сковородки!.. Всем знакомо желание отложить эту обязанность на потом. Мама никогда не препятствовала в этом Наде: “Потом так потом, только не забудь!” И девочке пришлось убедиться на собственном опыте: все неприятное, но необходимое надо делать сразу. Отложишь – после совсем делать не захочется, да и времени больше займет. Зато как приятно быстро, энергично выполнить трудную обязанность по хозяйству – и знать, что она позади! Очень важен внутренний настрой, с каким приступаешь, например, к мытью посуды. Наденька была верующая девочка, и ей очень помогала мысль, что Господь всегда видит ее – причем не только ее действия, поступки, но и ее мысли. Она старалась не совершать ничего такого, в чем придется каяться на исповеди. Наконец, она любила и жалела маму и была очень довольна, что, благодаря ее помощи, мама может немного отдохнуть. Надя лучше сама перемоет гору посуды, зато у мамы будет время посидеть и поговорить с ней о чем-нибудь интересном…
Беседа 1
…Как христиане должны относиться к пище. – Питание необходимо для всех живых существ. – Тучность может быть следствием чревоугодия или нарушения обмена веществ. – Тело состоит из клеток. – Откуда берутся новые клетки и куда деваются разрушенные. – Предпочтительнее есть пищу, которая легко усваивается. – Зачем нужны белки, жиры и углеводы, и в каких продуктах они содержатся. – Значение воды в человеческом организме. – Основные правила здорового питания. – «Правила для сладкоежек». – Почему вредна «жвачка». – Соленая и острая пища. – Как узнать вкус хлеба и воды. – Полезные и вредные (возбуждающие) напитки. – Вредные привычки. – Пьянство. – Курение. – Человек не должен приобретать привычки, лишающие его свободы.
Наступил день папиных именин. Как обычно, две хозяйки – мама и Надя – готовились к приему гостей. Ждали самых близких: бабушку и дядю Валеру, папиного брата, с семьей. Так как у дяди Валеры тоже было четверо детей, то за стол должны были сесть двенадцать человек, не считая маленькой Дашеньки.
Маме с Надей предстояло испечь два пирога, приготовить рыбу и несколько салатов… За готовкой они разговорились.
– Мамочка, почему мы печем пироги только по праздникам?
– А ты бы как хотела?
– Каждый день! Смотри, как у нас быстро получается! А когда тебе некогда, я и одна справлюсь…
– Ну, а как бы мы отличили праздники от будней?
– Не по еде же! Подумаешь, еда!
– Ты ошибаешься, Наденька. Еда – это очень важно. Христиане любят в праздники собираться за праздничной трапезой, и ты мне сама сейчас ответишь, почему. Кому они подражают? Кто часто за вкушением пищи давал им духовные наставления? Кто с ними возлежал за пасхальной трапезой на Тайной вечере? Кого они позже узнали в преломлении хлеба?
– Спасителя.
– В память Тайной вечери мы и совершаем Божественную Литургию: именно тогда Господь установил спасительное Таинство Причащения. Причащение – это ведь тоже трапеза, Трапеза Господня…
– Это Причастие, в храме. А обычная еда, домашняя? Я иногда думаю: столько труда, готовки – и все так быстро съедается и забывается, надо готовить заново…
– Ну, вот, – улыбнулась мама, – то пироги хотела печь каждый день, то приготовление пищи тебе кажется неблагодарным и бессмысленным делом! Придется прочитать тебе небольшую лекцию… Достань муку, пожалуйста!..
Пища имеет в нашей жизни очень большое значение. Все живое должно питаться… Подсыпь-ка еще муки…
– А как же древние подвижники? Они не ели много дней!
– Но потом, после поста, они все же что-то ели. Хоть сухарь, хоть овощи или даже корешки растений. Какое-то время человек может обходиться совершенно без пищи и даже питья, пока в его теле есть запас питательных веществ, но потом начинается необратимый процесс гибели.
– Что значит «необратимый»?
– Неисправимый; который уже нельзя остановить человеческими средствами. Даже если начать такого голодающего хорошо кормить, он уже не выживет.
– Значит, чтобы быть здоровым, надо много есть, да?
– Нет, это тоже плохо. Ты, конечно, видела на улице и в метро очень полных людей, настолько полных, даже тучных, что им тяжело переставлять ноги. Это бывает от избытка пищи: организм не справляется с ее переработкой, то есть перевариванием, и лишнее превращается в жир. Такие люди не живут, а мучаются: им тяжело дышать, им трудно подобрать одежду, им неудобно сидеть, стоять…
– Мама, эти люди – чревоугодники?
– Возможно, среди них есть чревоугодники, но не стоит никого осуждать: большинство этих несчастных просто больны. Они уже не могут не есть очень много. Чревоугодник – тот просто не хочет воздерживаться, держать свое чрево — то есть живот, желудок – в узде. А больной человек голоден, если не съест, например, пять котлет, кастрюлю картошки, две-три пачки сметаны… И это совсем не смешно – что ты улыбаешься?.. Причиной такой болезни иногда бывает нарушение обмена веществ.
– Какого обмена?
– Обмена веществ в организме. Давай-ка, я тебе расскажу об этом, но ты не откладывай ножик – режь огурцы, только, пожалуйста, поаккуратнее!..
Если рассматривать наше тело в микроскоп, то будет видно, что все оно состоит из очень маленьких крапинок, которые называются клетками. Каждая из таких клеток живет недолго, и чтобы все тело оставалось живым, необходимо его поддерживать питанием. Пища, попадая в желудок, обращается в особую жидкость, которая проходит в кровеносные сосуды, обращается в кровь и течет во все части тела.
Если пища была хорошая и питательная, то в крови будет весь необходимый материал, из которого делаются кости, мускулы, нервы и все другие органы. Каждый из них выбирает из крови именно такой материал, который ему нужен.
Почему ты устаешь? Потому что в теле твоем идет непрестанная деятельность. Ты играешь и бегаешь, думаешь и работаешь, для всех этих занятий тратится часть клеточек, из которых состоит твое тело; и, чтобы вместо разрушенных клеточек появились новые, нужен новый материал, который и получается из пищи.
Если от всякой работы часть клеток разрушается, то что же потом делается с этими мертвыми клеточками? Разные органы удаляют их из тела. Кишки выбрасывают большую часть твердых веществ, почки удаляют загрязненные жидкости; кроме того, еще много разных веществ уходит через легкие при дыхании, а также и через кожу…
– Через кожу? – Надя с удивлением посмотрела на свои руки.
– Наденька, ты так стараешься, что у тебя лоб вспотел, – возьми салфеточку…
– А, – поняла Надя, – пот! Это и есть ненужные вещества, которые выходят через кожу.
– Тебе, может быть, странным покажется, что каждые сутки из тела выходит через кожу больше ненужных материалов, чем через кишки. А между тем это так. В коже у нас есть множество маленьких дырочек, видных только в увеличительное стекло; они называются порами. Через них, в виде пота, и выделяются из тела ненужные, вредные вещества.
Чтобы эти ненужные вещества не оставались в теле, следует есть такую пищу, которая легко перерабатывается в наши кости, нервы и мускулы.
Если детей с младенчества приучать к полезной и простой пище, то они будут меньше болеть; у них будет хорошо работать кишечник; цвет лица будет здоровый. Какая же пища полезная и простая? Полезная пища должна содержать белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли, воду (все то, что необходимо организму). Мы с тобой еще поговорим, в каких продуктах содержатся эти вещества. Но главное, пища должна быть простой, то есть приготовленной просто, без излишней обработки, без множества вкусовых приправ, специй, жиров, майонеза. Возьмем, например, картофель. Вспомни, как мы недавно пекли картошку в углях костра. Какое ты получила удовольствие! Без всяких приправ, только немного зелени – и какой вкус! А главное, что она сохранила все витамины, все полезные вещества. А если картошку пожарить, или потушить, да приправить соусами, то она потеряет и свой настоящий вкус, и больше половины своих полезных веществ. Поэтому лучше сварить картошечку, да приправить растительным маслом, а можно и в духовке, прямо в кожуре, запечь – она получится совсем как на костре. Это правило приготовления относится ко всем продуктам. Дети часто болеют оттого, что едят много жареного, жирного, да острого и соленого.
Белки, содержащиеся в животных продуктах: мясе, рыбе, называются животными белками. В них особенно нуждается растущий организм. Из животных белков «строятся» мышцы, кожа, мозг, внутренние органы.
Но надо помнить, что наш организм тратит очень много сил на то, чтобы переработать эти белки. Чтобы помочь ему, надо есть мясо, курицу, яйца, рыбу с овощами, зеленью, а не с макаронами, кашами. Этим мы очень облегчим работу своему желудку.
Очень хорошо перерабатываются и усваиваются детьми животные белки, содержащиеся в молоке и молочных продуктах. Молоко полезно маленьким детишкам до семи – восьми лет. У детей старшего возраста и у взрослых отсутствуют в организме вещества, которые перерабатывают молоко. Поэтому мы с тобой обычно едим кисломолочные продукты (творог, сметану, кефир, ряженку, йогурты). Ты ведь очень любишь съесть на завтрак фруктовый йогурт. Он как смазка для хорошей работы кишечника.
Растительные белки содержатся в горохе, фасоли, в хлебе. Они в известной степени могут на время заменять животные белки.
– Это время – пост?
– Да, Надя; поэтому во время Великого поста, когда мы с папой и с тобой не едим ни мяса, ни рыбы, ни молочных блюд, у нас часто за столом бывает фасоль.
Дети много двигаются: играют, бегают, работают, помогают родителям; кроме того, они еще и учатся – словом, тратят много энергии. И, конечно, организму нужно ее восполнить. А этому помогают углеводы и жиры. Углеводы содержатся в крупе и хлебе, картофеле и других овощах. Жиры – прежде всего в масле.
Вспомни, как хочется есть после веселых игр на воздухе. Ну, а если человек мало двигался, сидел на месте, а суп съел с добавкой, да еще две тарелки каши? Что тогда произойдет? Эту пищу организм отложит в виде жировых запасов. Вот и нарушился обмен веществ… А если такой переизбыток питательных веществ человек получает изо дня в день?.. Представляешь, что будет?..
– А витамины в чем?
– Витамины содержатся в овощах и фруктах. Вообще, в состав тела человека входят самые различные вещества, в том числе железо, кальций, калий, магний и так дал ее… Но больше всего в нашем организме… воды. В головном мозгу, например, содержится 80 процентов воды, в мышцах – 76 процентов, в костях – 25 процентов!
Заметив, что эти цифры мало что говорят Наденьке, мама пояснила:
– 80 процентов – это значит, что головной мозг почти жидкий, в нем почти одна вода! А кости, которые являются основой человеческого тела, обеспечивают его крепость – на четверть состоят из воды. Разве это не удивительно?!
Вот почему человеку так нужны минеральные соли и вода. Мы пьем воду, когда хотим пить, она же поступает в организм с соками, супом, компотом, кефиром, а также с другими пищевыми продуктами. В некоторых из них воды содержится очень много, например, в огурцах и арбузе.
Есть вода и в котлетах, и в хлебе, и даже в сухарях. Без воды не могут происходить никакие жизненные процессы: не будет перевариваться пища, не сможет работать сердце.
Без пищи человек может прожить недели, а без воды – считанные дни.
– А еще? Ты говорила про какие-то соли?..
– Минеральные соли попадают в организм человека таким образом: оказывается, они содержатся в самых обычных продуктах: в капусте, яблоках, молоке, рыбе.
Когда человек питается неправильно, например, употребляет слишком много белков и пренебрегает минеральными солями и витаминами, – это может привести к нездоровой полноте. Особенно если человек садится за стол, не успев проголодаться.
– Чтобы быть стройной, чтобы не располнеть, надо есть пореже?
– «Пореже», «почаще» – это все неточно, ненаучно…
– Разве о еде можно говорить научно?
– А мы только что это делали, когда я тебе рассказывала о белках, жирах, углеводах. Так вот, будем говорить научно: ученые-медики, специалисты по питанию, рекомендуют детям принимать пищу четыре раза в день.
– Почему четыре?
– Очень просто: для переваривания пищи требуется три-четыре часа. Таким образом, завтракаем мы в восемь-девять часов, обедаем около часа дня, часа в четыре у нас полдник и в семь часов вечера – ужин. Вся пища успевает перевариться к моменту приема новой пищи.
– Знаешь, мамочка, я думала, что во всех семьях такой порядок: оказывается, нет. Катя, например, ест в разное время, когда захочет. Бабушка ее спрашивает иногда: «Покушать не хочешь?» И Катя соглашается, ей в любое время, даже если недавно был обед, отрезают кусок хлеба, делают бутерброд или дают пирожное, кусок торта… А Оля, наоборот, так боится растолстеть, что готова совсем не есть. Она только завтракает кое-как и ужинает.
А придя из школы, говорит, что уже там пообедала, хотя это неправда…
– Просто твои подружки не знают, как важно правильно питаться. Ты им объясни.
Некоторые девочки, не желая поправляться, стараются есть пореже. И что же получается? Обычно они съедают за два приема больше, чем может усвоить организм, и тогда как раз часть неусвоенной пищи превращается в жир. Человек не только не худеет, а еще больше толстеет.
Если питаться всегда в одно и то же время, весь организм своевременно подготавливается к приему пищи: выделяются желудочный и кишечный пищеварительные соки. В результате пища хорошо усваивается. Но если пришло время обеда, а человек не поел, пищеварительные соки будут выделяться впустую, а это для организма вредно.
Вот главное правило питания детей – стараться есть всегда в одно и то же время.
– Но разве не может быть, что подходит положенное время, а есть не хочется?
– Почему же не хочется?
– Ну, аппетита нет…
– Наденька, если не отступать от раз заведенного порядка, аппетит всегда появится вовремя. Вспомни: разве я когда-нибудь кормила тебя насильно?.. Правда же, нет?
Надя подумала, что в их семье, и правда, все дети отличаются завидным аппетитом: и она сама, и Сережа, и Аленка почти всегда оставляли чистые тарелки и не сидели за столом по часу над остывшей едой, как некоторые другие дети…
– Никогда; у нас у всех хороший аппетит.
– А знаешь, почему?
– Едим в одно и то же время.
– А еще?
– Молимся перед едой… Пища очень вкусная…
– Это все так. Но открою тебе, Наденька, свой секрет: я никогда не позволяла вам есть в перерывах между общими трапезами, то есть не вовремя. Ведь очень многие едят не вовремя, и не обязательно это бывает мясо или суп – чаще что-нибудь «вкусненькое»: печеньице, пряник, бутерброд…
– Я знаю: Катя почти непрерывно что-то ест. Или соленые орешки, или конфеты…
А супы и вообще нормальную еду она терпеть не может!
– Это очень плохо, Наденька. Ты поговори с ней, а то она просто может заболеть. Ее организм не получает нужного питания! А что касается сладостей, то ими, как тебе хорошо известно, особенно опасно увлекаться. Иначе можно не только нарушить обмен веществ, но и очень рано остаться без зубов. Конфеты, шоколад, мороженое – это большое удовольствие, но и большой вред. У нас во рту и так тепло и сыро, а мы еще добавляем туда углеводы – пищу для микробов.
Тебе надо сообщить Кате хотя бы три главные «правила для сладкоежек». Знаешь их?
– Нет.
– Нужен не полный отказ от сладостей, а культура их потребления. Вот три правила, как уберечь зубы от кариеса:
первое — не есть сладкого на ночь;
второе — не есть сладкое вместе с другой пищей или после нее. Наш желудок не может одновременно справиться и с мясом, и с картошкой, и с куском торта. Сладкое должно быть отдельной едой;
третье — хорошо после сладкого съесть яблоко или почистить зубы.
– А жвачка? Она тоже защищает зубы?
– Говорят, «жвачка», то есть жевательная резинка, защищает зубы от кариеса. Возможно, она и в самом деле очищает их. Но, с другой стороны, она вредна для желудка: человек жует, жует – желудок, бедный, ждет, когда же в него попадет пища, вырабатывает желудочный сок для пищеварения… А пища не поступает – вот и получается большой вред для пищеварительной системы. Кроме того, Наденька, эта привычка – жевать «жвачку», подобно животному, не для христиан. Представь себе, как выглядит девочка, непрерывно жующая и жующая… Нет, это некрасиво, вредно; наш батюшка это запрещает, и я вам не позволяю жевать эту «жвачку».
Ты запомнила «правила для сладкоежки»?
– В общем запомнила… Значит, вредная еда – это все сладкое?
– Не совсем так. В меру все можно. Сахар нужен организму, но его достаточно содержится в фруктах и ягодах, которых надо есть больше, особенно летом, когда их так много…
Так же вредно увлекаться соленым и острым. Помнишь, на твои именины у нас были в гостях твои одноклассницы? Меня поразило, что одна из них попросила перец и посыпала им почти каждое блюдо. Когда я подала вам курицу, этой девочке понадобились кетчуп или горчица. Так как у нас ни того, ни другого в доме не водится, она поковыряла курицу вилкой и не стала кушать: ей было невкусно без острой приправы…
– Это Лена! Она так уже привыкла! Она и в школьной столовой ест сосиски только с горчицей.
– Меня, честно говоря, удивляет, что в школьной столовой есть горчица… А Лену очень жалко. И не только потому, что острые приправы портят желудок, мешают пищеварению, что от них кожа на лице со временем становится сальной, некрасивой, вскакивают прыщи… Ее жалко и потому, что у нее вся пища имеет один и тот же вкус: что курица, что котлета, что сосиска… Можно сказать, она уже сильно испортила свой вкус. Ей уже не понять, как хороши печеная картошка или простой хлеб без всяких колбас и приправ, – насколько он вкусен!
– Знаешь, мамочка, когда я в первый раз поняла, как вкусен простой хлеб?
– Догадываюсь, – с улыбкой отвечала мама.
– Когда мне исполнилось семь лет и наступил Великий пост, я впервые постилась с тобой и папой. Я тогда еще не ходила в школу. И помню, у нас дома не было ни конфет, ни печенья, ни ванильных сухарей. На полдник я пила томатный сок с «Бородинским» хлебом. И каким же он показался мне вкусным!
– Не «показался», Надюша: он такой и есть. Просто обычно мы не замечаем его вкуса, потому что едим только как «дополнение» к другой пище… А на самом деле хлеб – это очень полезный и питательный продукт. В него люди вкладывают много труда. Во все времена хлеб считался пищей особенной, почти святой. Хлеб вкушал Спаситель со Своими учениками. Во время Литургии именно хлеб, по молитве Церкви, пресуществляется в Тело Христово, и мы им (вместе с Кровью Христовой, претворенной из вина) причащаемся.
Многие верующие люди считают великим грехом бросить хлеб на пол или выбросить засохший хлеб на помойку.
У твоего папы была бабушка, Дарья Ивановна (ты ее никогда не видела, она давно умерла) – глубоко верующая русская женщина, молитвенница, постница. Она и папу нашего в детстве в церковь водила и молиться научила. Мы верим, что она и теперь за всех нас Богу молится. Так вот, она никогда хлеб не оставляла, каждую корочку доедала. А если, не дай Бог, хлеб заплесневеет, она отрезала аккуратно испорченные части и крошила птичкам… Поэтому папа так сердится, когда вы за столом хлеб не доедаете, оставляете куски…
– Мама, а нам рассказывали в воскресной школе, что древние отцы-пустынники всю жизнь питались только хлебом и водой, и не болели, и доживали до ста лет…
– Потому что в хлебе и воде есть все самое необходимое для человека. Но детям все же надо питаться иначе: их организм только растет и очень нуждается в белках. К тому же не забудь, что древние подвижники не просто так отказывались от пищи: они уходили в пустыню и принимали на себя пост ради Бога и спасения души. Их поддерживала благодать Божия! Не думаю, что современный городской житель, ведущий обычный образ жизни, сможет долго питаться одним хлебом и водой…
– А вот вкус воды я не замечаю. Она безвкусная?
– У нее есть вкус, но его еще труднее ощутить, чем вкус хлеба. Для этого надо отказаться хотя бы на время от других напитков: не только кофе и чая, но и соков, компотов…
Давно-давно, когда тебя еще не было, мы с папой ездили на один святой источник – в Малинники, недалеко от Троице-Сергиевой лавры. Там лес поднимается на высокий холм, и прямо из источника вверху холма вниз льется водопад. Он шумит и гремит. Вода там чистая-чистая и прозрачная! Она считается целебной. Вкус у нее особенный: в нем какая-то особая свежесть и сладость. У нас потом долго хранилась бутылка с этой водой, вода не портилась…
Вообще, лучший напиток – это чистая вода. Когда мы едим фрукты, то сок их и очень приятен на вкус, и очень полезен для здоровья. Полезен также кефир, чай из трав, ягод шиповника. Из этих трех источников мы получаем достаточно жидкости, и ничего другого нам пить не следовало бы. Обычный чай и кофе могут быть очень вредными, особенно для детей. После крепкого чая или кофе человеку кажется, будто он что-то ел, а на самом деле эти напитки ничего питательного телу не дают и служат только возбуждающими средствами. Возбуждающими называются такие средства, которые действуют на организм, словно бич: после них деятельность тела увеличивается, а силы не прибавляются. Пока дети растут, им особенно нужна питательная пища, потому что в их теле не только заменяются разрушенные клеточки, но и создаются новые. А если дети будут питаться такими веществами, которые не прибавляют материала, необходимого для роста тела, то, конечно, это не принесет им пользы.
Большую ошибку мы делаем, если с юных лет прививаем себе излишние потребности. Гораздо лучше быть господином своего тела, чем подчиняться его прихотям и капризам.
– Мама, а к водке тоже можно привыкнуть и нуждаться в ней? Ведь пьяницы в ней нуждаются, как мы в пище, да?
– Ох, Наденька, это горе горькое для многих семей: когда взрослые мужчины не могут не пить вина, или водки, или других спиртных напитков…
– Но ведь и святые отцы пили вино!
– Вино само по себе не является злом. Его делают злом люди. Вот и у нас сегодня за столом будет вино, и все мы, взрослые, выпьем за папино здоровье… Зло – это пьянство, когда спиртными напитками злоупотребляют, то есть пьют их больше, чем допустимо… Пьют до того много, что теряют контроль над своими поступками, перестают понимать, где находятся, кто перед ними…
– Мамочка, я так боюсь пьяных! Когда вижу на улице пьяного, стараюсь отойти подальше: ведь от него не знаешь чего ждать!
– Вот именно. Пьяный и сам не знает, чего ждать от себя. В состоянии опьянения человек способен на самое ужасное преступление, даже убийство, способен загубить и чужую, и свою жизнь, навеки погубить свою душу… Хуже всего, что к пьянству быстро привыкают. Раз, другой – и организм уже начинает нуждаться в вине. Человек, высшее творение Божие, оказывается рабом бутылки, его охватывает страсть винопития, и часто только чудо может его спасти…
Если пьянство – великое зло для мужчины, то еще хуже оно для женщины. Во-первых, она значительно быстрее приобретает зависимость от спиртных напитков и скоро уже не может не напиваться допьяна; во-вторых, ее труднее вылечить от этой болезни – алкоголизма. И наконец, если женщина-пьяница захочет стать матерью, она не сможет родить здорового ребенка: часто у таких женщин рождаются дети-уродцы, с большой головой, с бессмысленным взглядом; они не могут научиться говорить, мало понимают…
Есть еще одна вредная привычка – вредная и для телесного, и для душевного здоровья. Это курение. К сожалению, очень-очень многие люди курят.
– А правда, что папа раньше курил?
– Правда. Он приобрел эту дурную привычку еще в старших классах школы. А когда он учился в институте, то в период сдачи экзаменов, много занимаясь, он выкуривал по целой пачке в день! Это очень много.
– Но теперь-то он не курит!
– Слава Богу, он давно бросил, когда тебя еще не было на свете. В этом есть и моя заслуга. Когда мы с папой познакомились, мне не нравилось в нем только одно – курение. От него пахло табаком, и я не скрывала, что мне неприятен этот запах. Скоро я заметила, что он не только совсем перестал курить при наших встречах, но и старается отбить табачный запах – сосет мятные леденцы… Но окончательно он бросил курить, когда мы поженились и когда я впервые объявила ему, что жду ребенка. Я объяснила ему, что будущей матери не только самой нельзя курить, но и вдыхать табачный запах, даже если пахнет изо рта другого человека. Папа тогда при мне выбросил в мусорное ведро последнюю пачку сигарет и пообещал ради нас с тобой, Наденька, никогда больше не иметь в доме сигарет, никогда не курить. И не курил больше. А я восхищалась его твердостью, силой воли.
Видишь, как много зависит от женщины! Ведь почему многие мальчики начинают курить? Потому что они хотят взрослее выглядеть в глазах девочек, хотят казаться взрослыми мужчинами. А девочки не только не останавливают их, но и одобряют их курение, видя в нем какую-то удаль, молодечество. Некоторые девочки и сами тянутся за ребятами, тоже начинают курить. Как это ужасно, Наденька! Дурной запах изо рта, желтые зубы, серый, землистый цвет лица, ранняя старость, страшные заболевания легких – вот что ждет таких девочек. Не думаю, что такие курильщицы смогут родить когда-нибудь здоровых, сильных детей. Да и юноши, между прочим, втайне презирают курящих девушек. Они могут вместе с ними посмеяться, поразвлечься, но когда будут выбирать себе жену, спутницу на всю жизнь, то обязательно предпочтут девушку без вредных привычек.
– Значит, курение тоже становится привычкой, как и пьянство?
– К табаку привыкают очень быстро, особенно в отрочестве и юности, а отвыкают с великим трудом. Знаешь, сколько лет папа, когда нервничал, уставал на работе, по привычке хватался за карман, чтобы достать пачку сигарет! Сколько лет он во время серьезного разговора с коллегами, когда все закуривали, начинал крутить в руках ручку или очки, чтобы как-то отвлечься от желания взять сигарету, сунуть в рот… Он даже от меня скрывал, как ему было трудно.
Табак очень вреден для нервной системы. Он парализует нервы, то есть отнимает у них силу. Человек, привыкший к табаку, под влиянием его перестает ясно ощущать свою усталость или нездоровье, потому что нервы, которые должны были бы дать ему знать об этом, притупляются и работают плохо. Табак действует на сердце, заставляя его биться слишком быстро; от этого оно слабеет, и жизнь человека сокращается.
Сотни, тысячи детей умирают от младенческого паралича, потому что их отцы очень много курили. Женщины часто теряют здоровье от того, что их мужья слишком много курят, и воздух в квартире бывает постоянно насыщен табачным ядом.
Не раз производились исследования в школах, которые показали, что курящим мальчикам учеба дается гораздо труднее, чем некурящим, потому что у первых и память притупляется, и сообразительность слабеет.
– Но на свете очень много хороших людей, которые курят…
– Вот это-то и плохо. Своим поведением, как люди известные и уважаемые, они соблазняют других, подают им дурной пример. Вероятно, эти люди начали курить в свои молодые годы, раньше, чем узнали, как вреден табак. А теперь это уже вошло у них в привычку, от которой почти невозможно избавиться. Мне кажется, в этом заключается еще одно доказательство того, что не следует приучаться к таким вещам, которые делают нас своими рабами.
Я хочу, чтобы и ты у меня выросла вполне свободным человеком, свободным от всех дурных привычек, от всего, что нас опутывает и сковывает. Я хочу, чтобы ты свободно думала, свободно действовала, свободно распоряжалась всеми силами и способностями твоего тела и твоего духа, как и заповедал нам Господь…
Так, Надя. У нас все готово. До прихода гостей остается всего час. Я пойду будить ребяток: что-то они заспались. Начинай накрывать на стол.
Беседа 2
…Что такое человеческое тело. – Душа и тело. – «Дом души». – Как премудро устроено наше тело. – Почему у стариков такие разные лица. – Храм Святого Духа. – Плотские грехи (чревоугодие и блуд) оскверняют тело. – Оно оскверняется также кривлянием и пренебрежением к чистоте. – Чтобы не прослыть неряхой… – Сколько раз мы моем руки. – Как ухаживать за ногами. – Личная гигиена не должна быть предметом обсуждения. – О некоторых отправлениях тела можно говорить только с мамой.
Однажды вечером мама заглянула в комнату девочек. Аленка уже крепко спала, а Надя, сидя на постели при свете ночника, заплетала на ночь косу.
– Наденька, ты уже помолилась?
– Да, мамочка.
– Что-то я не обратила внимания: ты ноги помыла?
– Аленке помыла.
– А себе?
– Мам, я не успела. Спать хочется, я молилась долго, все вечернее правило прочитала!
– Но ведь для того, чтобы помыть ноги, нужно не больше десяти минут. Ты не ленишься случайно?
– Не знаю. Мне кажется, лучше это время на что-то душеполезное потратить: Евангелие почитать, какую-нибудь книгу духовную. Это для души нужнее. А ты все о теле да о теле!..
– Это что-то новое, Надежда. Откуда такое презрение к телу? Мне кажется, ты не права. Ложись-ка, раз уже помолилась, а я немного посижу с тобой. Поговорим, хочешь? Только шепотом…
Надя с удовольствием забралась под свежий пододеяльник. А мама начала с вопроса:
– Что такое, по-твоему, человеческое тело?
Надя, прилежная ученица воскресной школы, думала недолго:
– Человек состоит из души и тела, как бы из двух частей. Тело всем видно. Оно растет, ест, пьет, болеет. А души никто не видит: она невидима, как Ангелы. Она намного выше тела, главнее тела. Она отличает нас от животных, приближает к Богу. Она бессмертная, вечная, прекрасная! А тело – временное, оно болеет, стареет, разрушается и умирает. Тогда душа выходит из тела и до Страшного суда разлучена с ним. А тело лежит в могиле, его едят черви…
– Мрачная картина. Ну, а потом?
– Когда?
– Ты сказала: «До Страшного Суда». А потом?
– Потом душа вновь соединится с телом, и человек воскреснет.
– С каким телом она соединится?
– Со своим, с тем же самым.
– Вот-вот; это очень важно: с тем же самым своим телом. Самое главное ты хорошо знаешь, и мне остается только дополнить.
Человеческое тело – это дом души. Только при помощи тела душа может существовать в здешнем, материальном мире и общаться с другими душами. Ведь мы не видим душ других людей. Ты правильно сказала, что душа невидима. А душа – это главное в человеке. Здесь ты тоже права. Так что мы не видим друг друга. Мы видим только «дома», в которых живем, потому что тела наши, как я уже тебе говорила, – это только наши удивительные дома с окнами, дверями, с разными комнатами. Но пока мы живем на свете, эти дома для нас очень ценны: мы не можем ни отдать, ни продать, ни переменить их и переселиться из одного в другой. И как бы ни развалился наш дом, пока мы существуем, мы должны в нем жить. Поэтому следует заботливо относиться к своему телу, следить, чтобы все его органы были в полном порядке, и никогда не позволять, чтобы кто-нибудь другой причинял ему вред.
У тебя только одна пара глаз, и, конечно, их надо беречь. Существует очень много людей, которые, читая в сумерки или при слабом свете лампы, напрягают и портят свои глаза, словно это у них и не глаза, а обыкновенные очки: одни испортились, пошел да купил другие!
Несомненно, наше тело заслуживает большего уважения. Оно дано нам Богом, оно разумно и даже премудро устроено. Никакая машина не сравнится с ним в совершенстве. Когда заболевает один орган – другой начинает усиленно работать; здоровые клетки сами борются с больными. Сердце непрерывно сжимается и разжимается, разгоняя кровь по всему телу. А как устроен человеческий глаз! А ухо! Или нос… Казалось бы, вот уж ничего интересного: торчит что-то на лице, две дырочки. А я могла бы тебе рассказать, какая в нем устроена система защиты от микробов и грязи, как он предупреждает об опасности, если воздух отравлен… Потому и нос надо очень беречь и ни в коем случае не ковырять в нем пальцем, а пользоваться носовым платком, к чему я всех вас приучаю.
Мы должны ценить наше тело, беречь его здоровье в целости и сохранности, как драгоценный дар Божий! Наше телесное здоровье мы должны передать своим детям: я – вам четверым, а вы – своим будущим сыновьям и дочкам.
Честно говоря, меня огорчило твое пренебрежительное отношение к телу, как к старой одежде, которую мы поносили, испортили и выбросили. Ты сама знаешь, что в том же теле мы воскреснем, предстанем на Суд Божий и пойдем либо в Царствие Небесное, либо в ад, за наши грехи. И пусть оно долго лежит в земле и само становится землей, но в день Суда все тела восстановятся.
– Мам, а те люди, которых разорвали дикие звери?
– Все части их тела соединятся и не перепутаются с чужими.
– А которые утонули? Или сгорели при пожаре? Или взорвались?
– Церковь учит нас, что тела всех людей соединятся с их душами, где бы и в каком состоянии эти тела ни находились. А как именно это будет – что гадать!..
Еще хочу тебе сказать, что душа и тело очень тесно связаны. Гораздо теснее, чем мы связаны с одеждой или с нашими настоящими домами и квартирами. Ты замечала, что у старых людей очень разные лица?
– Конечно. У одних лица добрые, как будто с тихой улыбкой, с любовью. А у других брови сдвинуты, рот искривлен – злые лица, неприятные.
– А знаешь, почему это? Потому что со временем на лице отпечатываются страсти: если с ними не борются, они становятся видны всем. Лицо такого человека как будто предупреждает всех окружающих: «Осторожно: гнев, раздражительность». Или: «скупость». Или: «гордость»… Тут уж никакое притворство не поможет, все-все видят твои главные грехи.
Надя задумалась. Ей явно не хотелось иметь лицо, искаженное страстями. А мама продолжала:
– Вот, борись с грехами, если хочешь в старости иметь хорошее, светлое лицо… А я где-то читала у святых отцов, что и по воскресении из мертвых каждое тело своим видом будет свидетельствовать о грехах, совершенных человеком при жизни. Одни тела будут светлые, красивые – эти люди пойдут в рай. Другие – темные, страшные…
И еще одно. Ты, как православная христианка, знаешь, что тело – это не просто жилище нашей души. Его еще называют храмом Духа Святого, потому что наша душа лучшей, высшей своей, духовной частью соединяется с Богом. Когда мы причащаемся, мы принимаем в себя Самого Христа, под видом хлеба и вина… При этом освящается и наша душа, и наше тело.
А осквернить храм Духа Святого – великий грех. Скажи, чем человек его оскверняет?
– Чем?.. Грехами.
– Да, в первую очередь плотскими грехами: чревоугодием, блудом. Эти страсти оскверняют тело и даже внешне уродуют его.
– Мама, а что такое «блуд»?
– Это такой грех, когда человек вступает в брачные отношения не со своим супругом – мужем или женой, – а с разными посторонними людьми. Когда он вступает в такие отношения без благословения Церкви – то есть венчания. Наконец, когда эти брачные отношения происходят не в семье, не для рождения детей, а просто так, по греховной прихоти легкомысленных людей. Грех блуда – страшный, смертный грех. В Писании ясно сказано, что блудники не войдут в Царство Небесное, то есть их ждет ад, если, конечно, они не покаются и не исправятся.
Грехи чревоугодия и блуда не только губят душу, но и губительно действуют на здоровье. Чревоугодники часто страдают заболеваниями желудка и кишечника, нарушением обмена веществ. Блудники часто заболевают неизлечимыми болезнями, при которых заживо гниет тело, портится кровь, проваливается нос…
Ну, не будем больше говорить о таких страшных вещах. Как я уже сказала тебе, тело оскверняется и простым кривлянием. Одна девочка из твоего класса имеет обыкновение оттягивать углы глаз книзу и в то же время, запустив большие пальцы в рот, тянуть его в разные стороны – все это лишь для того, чтобы посмешить подруг. Такими проделками она портит свое лицо и становится все более безобразной.
Тело оскверняется и пренебрежением к чистоте. Да-да, обычной чистоте тела, о которой ты высказалась с таким презрением.
Я тебе уже говорила, что массу ненужных, вредных веществ наш организм выводит через кожу, на которой есть поры – маленькие-маленькие отверстия. Для того чтобы человек был вполне здоров, эти отверстия не должны засоряться. Если ненужный материал, выходящий через поры, останется на коже, а не будет вовремя смыт с нее водой, то он закроет поры и человек почувствует себя нездоровым. Поэтому-то и нужно, чтобы тело всегда было чистым.
Следует как можно чаще мыться, чтобы поры не засорялись, и, кроме того, чтобы не причинять неприятностей окружающим.
– Окружающим?
– Да, людям, которые живут рядом с нами. Пот, выходящий через поры, имеет неприятный запах, особенно в некоторых местах нашего тела. Например, между пальцами и на ступнях ног. Если человек не привык мыть ноги, окружающим это сразу заметно, хотя воспитанные люди никогда не покажут этого. От человека, которого всегда сопровождает тяжелый запах пота, окружающие стараются держаться подальше. А избавиться от этого неприятного запаха поможет только чистота.
Девочке же, если она не хочет прослыть неряхой, особенно необходимо следить за чистотой своего тела. Чистить зубы утром и вечером, ежедневно мыть уши и шею, а не просто кое-как споласкивать лицо… А еще – руки и ноги. Дай-ка твою ручку! Так… Ногти подстрижены, грязи под ними нет, ладошка мягкая… И не удивительно: ведь руки мы моем с мылом чаще всего. Давай вспомним, сколько раз в день ты моешь руки?
– Утром, когда встаю. Вечером, перед сном. Когда прихожу домой из школы или с прогулки. Перед едой. Перед готовкой пищи. После готовки. После мытья посуды. И каждый раз после уборной. Еще в особых случаях, когда руки чем-нибудь испачкались.
– Видишь, как много получилось. Я очень рада, что вы у меня привыкли часто мыть руки: это предупреждает возникновение многих заразных болезней. Только никогда не забывай мыть не только пальцы и ладони, но и запястья – вот здесь. И еще – вытирай всегда руки насухо.
За ногтями тоже нужно ухаживать. Ты только подстригаешь их щипчиками или маникюрными ножницами, но этого недостаточно: видишь, не очень ровно получается. К тому же – острые уголки остаются. Надо каждый раз, когда стрижешь ногти на руках или на ногах, пользоваться пилкой: ею аккуратно обтачивают края.
У тебя, к счастью, нет дурной привычки грызть ногти. У таких «грызунов» ногти уродливые, пальцы такие, что смотреть не хочется. От этой привычки трудно отучиться. Некоторые мамы смазывают своим детям кончики пальцев чем-нибудь горьким – обычно это помогает.
Если с руками у девочек чаще все в порядке, то об уходе за ногами они думают меньше. Ноги обязательно надо мыть ежедневно. Это не только гигиенично, но и очень полезно для здоровья, так как мытье ног прохладной водой – хорошая закаливающая процедура. А если ты собралась постричь ногти на ногах – это, как тебе известно, следует делать не реже двух раз в месяц, – то лучше вымыть их предварительно горячей водой, в которую можно добавить питьевой соды. Ты уже сама должна все это делать.
Кроме того, надо ухаживать за своими пятками. После летних дней, когда ты ходила босиком или в босоножках, на пятках и подошве ног кожа затвердевает, становится грубой, жесткой. Чтобы она опять стала мягкой, надо удалить затвердевшие частицы. Знаешь, как это делается? Берешь пемзу и после мытья трешь пятку и подошву. Я так тебе и делала всегда. Но ты не должна и сама об этом забывать.
Еще хочу сказать тебе, Наденька, что твоя личная гигиена: уход за ногами, мытье ног с использованием пемзы и другие гигиенические процедуры – не должны не только выставляться напоказ перед другими людьми, но и быть предметом обсуждения с посторонними, даже с твоими подругами. Это только твое дело, и никого не следует посвящать в подробности того, как ты ухаживаешь за своим телом.
– Разве это грех?
– Не грех. Это естественно. Это необходимо. Но неприлично показывать это или обсуждать с другими. Обычно мы выходим к людям не иначе как вымывшись, одевшись и причесав волосы; но все эти дела мы исполняем или в своей комнате, или в ванной. Так бывает не потому, что умываться или причесываться дурно, а потому только, что заниматься своим туалетом при посторонних было бы невежливо.
Ведра с мусором не ставят в гостиной, однако всем известно, что собирать и выбрасывать мусор из квартиры каждый день более необходимо, чем, например, играть на пианино, потому что от чистоты и опрятности зависит здоровье всей семьи. Своих гостей мы не принимаем в той же ванной, где стираем грязное белье; однако все знают, что стирать белье необходимо, и хотя это занятие не совсем приятное, но никто не скажет, что оно дурно. Точно так же и у некоторых органов нашего тела есть такие обязанности, которые людьми воспитанными и вежливыми исполняются только наедине.
Когда мы собираемся к столу, чтобы пообедать вместе, мы знаем, что еда служит для подкрепления тела. После того как пища положена в рот, она проходит в желудок, переваривается там, дальше идет в кишки и всасывается ими. Потом она поступает в кровь и разносится ею по всем мельчайшим жилкам, всасывается в ткани тела, перерабатывается в них и становится самим телом. Но не все съеденное нами идет таким путем.
Часть пищи остается в виде отбросов и должна быть удалена из тела, точно так же, как в кухне остаются шкурки картофеля, сердцевины яблок, яичная скорлупа и тому подобные отходы, которые нужно выбрасывать, чтобы было чисто. Необходимо, чтобы и тело наше вовремя очищалось от всех отбросов. Если они задерживаются дольше, чем следует, то это очень вредно сказывается на здоровье.
Мы пьем молоко, воду, соки; жидкости, проходя по разным органам тела, промывают их и затем выводятся из организма. Для здоровья очень важно, чтобы ненужная грязная вода не оставалась в теле дольше, чем следует. И если девочка не хочет показаться невоспитанной, она должна делать все это наедине, а не в компании с подругами.
Скромная и уважающая себя девочка, тем более девочка-христианка, никому не позволит разговаривать о каких-нибудь отправлениях или частях своего тела так, чтобы ей стало неловко слушать. Если какая-нибудь из подруг попытается рассказывать ей что-то грубое, неприличное и девочка почувствует, что она не хотела бы передать этот разговор своей матери, то самое лучшее остановить такую подругу, сказав ей: «Мне не хотелось бы слышать от тебя этого. Я спрошу маму, и она мне все объяснит».
Ты не удивляйся, Наденька, что я говорю тебе о том, что ты давно знаешь и делаешь. То, что ты один раз перед сном не помыла ноги и пропустила другие гигиенические процедуры, – это, конечно, не трагедия. Ты, и правда, сегодня устала. Но я хочу, чтобы это исключение осталось исключением, а не стало правилом, понимаешь? Ведь плохие навыки приобрести очень легко, а хорошие – трудно. Раз, другой не помылась на ночь, и уже не хочется, лень…
А теперь спи. И помни: чистота тела – это наше лучшее украшение. Храни тебя Господь.
И мама перекрестила Надю.
Беседа 3
…«Сядь прямо!» – Польза занятий спортом. – Вред профессионального спорта. – Как Надина мама отучилась сутулиться. – Как осанка влияет на здоровье. – Положение тела связано с душевным состоянием. – Что значит «всегда ходить пред Богом». – Когда между телом и душой бывает согласие. – Как они спорят между собой. – В чем польза христианского поста.
– Надя, сядь, пожалуйста, прямо, – раздался мамин голос.
Девочка, сидящая за письменным столом, машинально выпрямилась. Мама укладывала в шкаф постельное и детское белье. Через некоторое время она взглянула на дочку: та опять сидела согнувшись. Левая рука, локтем опираясь на стол, поддерживала безвольно опущенную голову.
– На-дя… – снова сказала мама.
– Что, мам?..
– Отвлекись на минутку. Чем ты занимаешься?
– Я веду дневник. Записываю, что вчера было.
– Это хорошо. Но ты слишком увлеклась и сидишь сгорбившись. Следи за собой, пожалуйста. Когда закончишь свои записи, подойди ко мне: надо посоветоваться.
«Посоветоваться»?.. Это заинтересовало Надю. Через пять минут она была на кухне, где мама готовила ужин.
– Наша знакомая по приходу, – начала мама, – тетя Марина… Знаешь ее?
– Конечно.
– Она отдает своего Ванечку в спортивную секцию по плаванию: в бассейне есть группа дошкольников. Она предлагает мне записать туда и Сережу.
– И что?
– Мы с папой еще не решили. С одной стороны, это, конечно, хорошо. Научится плавать, болеть будет меньше, легкие будет развивать… С другой стороны, занятия три раза в неделю. Кто будет водить его в бассейн?
– Ты хочешь, чтобы он стал спортсменом, чемпионом?
– Ни в коем случае. Когда спортом занимаются профессионально, он «съедает» всю жизнь человека, не оставляя ни времени, ни сил на другие серьезные занятия. Он, кроме того, развивает дух соревнования, а значит, превосходства над другими, то есть гордыню. Каждый настоящий спортсмен стремится поставить рекорд, то есть сделать что-то в своем виде спорта лучше всех: выше всех прыгнуть, быстрее всех пробежать или проплыть… Спортсмен во всем себе отказывает: и в пище, и в отдыхе, и в семейных радостях, – но ради чего? Не ради Бога, как христианские подвижники, а ради все того же чемпионства. Мне кажется, это не только бессмысленное, но и вредное для души самоограничение.
Нет, мы с папой не хотим, чтобы наш сын стал чемпионом. Мы хотим, чтобы он вырос здоровым и сильным человеком. Видишь, какой он у нас бледненький, простужается часто… Это оттого, что живет в центре города, мало двигается. Я, конечно, стараюсь организовать для вас подвижные игры, почаще с вами гулять, но, видно, этого недостаточно. Детский организм требует движения, особенно организм мальчика. Плавание, мне кажется, как раз то, что нужно. Оно к тому же помогает держать правильную, прямую осанку. А то будет наш Сережа, как ты, сутулиться…
Наде было неприятно, что мама сделала из нее отрицательный пример. Она незаметно выпрямилась.
– Я в детстве тоже сутулилась, – как бы не обратив на это внимания, продолжала мама. – Но у меня была очень строгая бабушка. Чтобы отучить меня от привычки горбиться, она начала без предупреждения хлопать меня по спине. Знаешь, это не очень-то приятно: сидишь за интересной книгой или за уроками и не заметишь, как подошла бабушка. Хлоп по спине ладонью! Не больно, но досадно. Чтобы избежать этого, пришлось мне следить за собой. Долго привыкала к прямой осанке, а когда привыкла – уже и не могла по-другому: и в школе, и дома, и на людях, и в уединении всегда держалась прямо, подтянуто. Моих родителей даже спрашивали: «Ваша дочь – балерина? Или гимнастка? Все девочки сутулятся, а она прямая, как струнка…» Видишь, как получилось: я тогда сердилась на бабушку, обижалась, даже плакала, а теперь ей очень благодарна. И дело, конечно, не в том, что сутулиться некрасиво, хотя, согласись, и это важно. Главное, что неправильная осанка дурно влияет на здоровье.
Ученые и доктора давно обратили внимание на то, что любое неправильное положение тела ведет к дурным последствиям… Так, например, они выяснили, что плоская, вдавленная грудная клетка у маленьких детей бывает очень редко; она делается такой позже, в школьном возрасте, когда дети целыми часами сидят согнувшись над книжками. Доктора также заметили, что от привычки стоять на одной ноге тело развивается неравномерно: человек становится немножко кривобоким. И не только тело, а даже и лицо становится неправильным: одна сторона будет более круглой, другая – более плоской; одна сторона рта опускается, нос искривляется набок, и один глаз будет более открыт, чем другой. Так вот, если хочешь, чтобы лицо у тебя было симметричное, то советую тебе не откладывая выучиться как следует сидеть и стоять. Но испорченные черты лица еще не самое большое несчастье: от привычки стоять на одной ноге или сидеть скособочившись, опираясь на одну руку, внутренние органы сдвигаются со своего места; а от этого происходит много бед, когда девочка вырастет и станет женой и матерью.
Ты знаешь, что дитя должно три четверти года прожить в теле своей матери и ему необходимо иметь место, где расти. Если мать, еще будучи девочкой, формировалась неправильно и стала кривобокой или сутулой, то «комнатка», где ребенок должен расти, вероятно, не разовьется как следует, будет сжата или сдвинута со своего места. Ребеночку будет тесно, он родится раньше времени и будет некрасивым, больным, слабым…
Но есть и еще одна причина, по которой нельзя сидеть сгорбившись, развалившись, перекосившись всем телом… Знаешь, какая?
– Наверное, это неуважение к окружающим? Нехорошо при посторонних сидеть развалившись…
– А при своих, близких? При папе с мамой, братьях и сестрах?
– Тоже не очень хорошо.
– А в одиночестве, когда тебя никто не видит?
– Не знаю…
– Давай тогда проведем небольшой опыт. Встань прямо передо мною. Теперь немного подогни колени, выдвини плечи вперед, и пусть руки висят безвольно; нагни голову, опусти подбородок и слегка открой рот. Как ты себя чувствуешь?
Наденька поспешила изменить уродливую позу, а мама продолжала:
– Теперь представь себе что-нибудь такое, для чего нужна деятельность, сила, смелость – например, будто бы ты бежишь с кем-нибудь наперегонки или забираешься на вершину холма. Смотри, как вдруг твои колени окрепли, спина выпрямилась, голова поднялась, рот закрылся и глаза засверкали; ты чувствуешь себя сильной, бодрой, смелой…
Посмотри, как люди ходят: один лениво волочит ноги по земле, подгибает колени; все тело его словно расслаблено, бессильно; руки висят, болтаются; от такого человека трудно ожидать решительных и смелых поступков. Другой идет быстро, ступает твердо, держится прямо и бодро. По одному этому можно предположить, что такой человек склонен действовать решительно и энергично.
Это все я говорю тебе для того, чтобы ты поняла: положение нашего тела теснейшим образом связано с нашим внутренним, душевным состоянием. Мы с тобой уже беседовали об этом. Я объясняла тебе, что душевное состояние отражается на здоровье и внешности. А может быть и наоборот…
Надя, тебе известно, что значит «всегда ходить пред Богом?»
– Конечно, ты объясняла. Это значит – так жить, чтобы помнить каждую минуту, что Бог видит тебя.
– Он и сейчас нас с тобой видит, правда? Ты помнишь об этом?.. Тогда попробуй-ка сесть вольно, вразвалку, расслабь шею, приоткрой рот, обопрись на локоть, можешь закинуть ногу на ногу…
Надя пошевелилась и улыбнулась смущенно. Ей как-то не хотелось этого делать, хотя прежде она охотно выполняла мамины задания. Не умом, а каким-то таинственным внутренним чувством она понимала, что пред Богом надо сидеть иначе.
Мама тоже улыбнулась:
– Тогда сядь так, как, по-твоему, должен сидеть человек, который твердо верует, что его сейчас видит Бог – видит не только его поведение, но и мысли и чувства.
Надя выпрямилась, опустила плечи, руки сложила на тесно сдвинутых коленях, взглянула на икону и с верой произнесла про себя: «Господи, помилуй!» На нее было приятно посмотреть: перед мамой сидела умная, собранная девочка, со светлым, освещенным высокой мыслью лицом.
– Ах, если бы всегда мы были такими! – воскликнула мама. – Сейчас я видела в тебе полную гармонию между душой и телом. Твое тело подчинилось душе. Душа вспомнила о Боге, обратилась к Нему, и телу пришлось повиноваться.
А бывают другие, ненормальные отношения между человеческой душой и телом: тело выходит из повиновения и делает, что ему хочется…
– Как это?
– Желание развалиться, расслабиться – это желание тела, то есть плоти. Плохо, когда душа не возражает против этого желания, а наоборот, говорит: «Ну, и хорошо! Я тоже расслаблюсь, забуду о Боге, помечтаю…» В таком положении не помолишься, не помыслишь о чем-либо высоком, духовном. Только и будешь думать, чего бы поесть, как бы поспать да поразвлекаться…
Некоторые грехи происходят от того, что тело не хочет подчиниться душе. Например, чревоугодие. Тело требует: «Хочу чего-нибудь вкусненького!» Душа пытается возразить: «Еще не время, подожди, скоро обед…» А потом уступает. Душа, бедная, становится не госпожой, а рабыней тела. Ей уже самой кажется, что надо еще и еще покушать, да побольше, да повкуснее – вот тогда, мол, и будет хорошо.
Зато когда мы постимся, все встает на свои места. Тело, например, заявляет: «Хочу молока! Или яичко». А душа твердо ему отвечает: «Не будет тебе ничего скоромного: сегодня пятница, все христиане постятся, и я тоже христианка».
В этом великая польза поста: он приучает нас подчинять телесные потребности нашим душевным нуждам.
Надя задумалась. Вот, оказывается, какие сложные отношения существуют между душой и телом. Так они спорят всю жизнь, недовольные друг другом, а потом расстаются, когда человек умирает… Она вздохнула. Мама поняла ее мысль.
– Не огорчайся. Когда по воскресении человеческое тело вновь соединится с душой, между ними будет полнейшее согласие. У праведников тела будут светлые, прекрасные, а у грешников – темные. Мы с тобой уже говорили об этом…
Поняла, Наденька, почему я так часто напоминаю тебе о том, чтобы ты держалась прямо? Еще я боюсь за твое зрение: когда ты наклоняешься близко к столу, портятся глаза…
Так как же нам все-таки быть с Сережей?
– Мамочка, а нельзя водить его в бассейн не три, а два раза в неделю? Один раз его могла бы провожать туда бабушка, а другой раз – ты. А я бы в этот день осталась с девочками…
– Надо узнать, – вздохнула мама. – И еще надо будет с батюшкой посоветоваться… Ну, иди, отдыхай.
Надя вернулась в свою комнату и открыла дневник. Она сделала такую запись: «Опять говорили с мамой о душе и теле».
Беседа 4
…Надя не пошла в школу. – Почему забеспокоилась мама. – Начало брачного созревания организма девочки. – «Это больно?» – Как ведет себя девочка в такие дни. – Необходимо часто мыться! – Почему христиане называют это «нечистотой». – Поведение в церкви. – Зачем девочки делают пометки в календарике.
– Мама, можно я сегодня не пойду в школу?
– Что такое?
– Живот болит…
Другая мать, может быть, и усомнилась бы в искренности своей дочери: не секрет, что некоторые дети могут отлынивать от школы под предлогом болезни. То у них голова болит, то живот, то еще что-нибудь – особенно в те дни, когда они не выучили урока или боятся трудной контрольной. Но Надя была девочкой правдивой и послушной, а главное – она любила учиться.
Поэтому мама не на шутку встревожилась: что это за боль в животе? Девочке скоро одиннадцать лет; это уже может быть боль физиологического характера, а она не предупредила дочку, ничего ей не рассказала… Впрочем, одиннадцать лет… Еще, кажется, рано?..
Надина мама помнила, как с ней это случилось впервые, в двенадцатилетнем возрасте. Пребывая в полном неведении относительно этой особенности женского организма, она однажды утром пришла в ужас, не понимая, что с ней, и в растерянности спрашивала бабушку: «Я умираю?»…
И хотя скоро выяснилось, что у Нади не та боль, что у нее небольшое отравление, мама решила не откладывать разговор. «Пусть лучше раньше узнает», – рассудила она.
Вечером, перед сном, уложив Аленку и Дашу в своей спальне, мама присела на Надину постель.
– Ну, как ты? Не болит животик?
– Нет; и не тошнит больше. Только слабость какая-то…
– Слабость – это, может быть, и оттого, что ты ничего не ела целый день. Давай еще денек дома посидим, а?.. Или посмотрим, как утром будут дела?
– Да, давай до утра подождем…
– Наденька, когда ты сегодня пожаловалась на боль в животе, я подумала: не начинается ли у тебя такое особое состояние, которое никогда не бывает у мальчиков, а бывает только у девочек, девушек и женщин.
– Болезнь какая-то?
– Нет-нет, это не болезнь. Наоборот, если у девочки долго не бывает такого состояния, тогда можно предполагать болезнь. У нормальных, здоровых девочек это начинается обычно в двенадцать-тринадцать лет или немного раньше. Ты у меня рано начала ходить, говорить, вообще развиваешься быстро – у тебя может быть и в одиннадцать лет.
– Да что же это? – недоумевала Наденька.
– Сейчас я тебе объясню… Как растение не может сразу произвести семя для будущего растения, а должно сначала вырасти, окрепнуть, зацвести, так и все другие живые организмы долго созревают, прежде чем становятся способны родить потомство. Особенно много времени требуется для брачного созревания человеку, высшему Божиему творению. Его организм куда сложнее и совершеннее, но, главное, человек имеет душу, а душа тоже совершенствуется, растет духовно – так, чтобы человек смог не только родить, но и воспитать ребенка, передать ему правильное понятие о Боге и мире. Таким образом, должны созреть и душа, и тело.
То явление, о котором я говорю (мама вкратце описала его), как раз показывает, что начинается телесная подготовка девочки к браку и материнству. Мне кажется, ни к чему входить сейчас в физиологические и медицинские объяснения – важнее объяснить тебе, как себя вести.
– Это больно?
– Это зависит от общего состояния здоровья девочки и от соблюдения ею правил личной гигиены. Бывает небольшая, тянущая боль внизу живота – вот почему я сегодня утром забеспокоилась. Бывает общее недомогание, тоже небольшое. Как правило, здоровые, закаленные девочки, которые нормально питаются, вовремя ложатся спать, гуляют на свежем воздухе, переносят это состояние хорошо. Так что и тебе опасаться нечего.
Оно продолжается от трех до шести дней в месяц, и в эти дни особенно необходимо соблюдать чистоту, дружить с водой, часто менять белье – ты, слава Богу, ко всему этому привыкла.
– В эти дни девочки лежат в постели?
– Да нет, что ты! Они продолжают вести обычный образ жизни, ходят в школу, занимаются хозяйством. Даже спортом можно заниматься. Следует лишь избегать упражнений, требующих физического напряжения: верховой езды, катания на велосипеде, прыжков, поднятия тяжестей…
– А душ принимать можно?
– Плавать в речке нельзя, а душ принимать – и можно, и нужно. Вреда никакого, а польза огромная! Чем чаще ты будешь в эти дни мыться, тем лучше. Вообще, нужно вести себя так, чтобы окружающие не видели и не догадывались, что с тобой происходит нечто особенное.
– Это неприлично?
– Как тебе сказать? Все знают, что это есть, но говорить об этом не принято, тем более у христиан.
– Но мы же с тобой говорим…
– Мы с тобой – самые близкие люди, мама с дочкой. И то я стараюсь говорить осторожно, сдержанно. Но никуда не годится, когда некоторые девочки, забыв стыд, не только не стараются скрывать, но наоборот, подчеркивают свое недомогание. Они воображают, что становятся взрослыми девушками и, не стесняясь, даже при мальчиках, намекают друг другу на свое состояние. Только девочка-христианка ни с кем не будет без необходимости говорить о своей телесной нечистоте.
– «Нечистоте»?
– Да. Это церковное наименование того ежемесячного состояния, о котором мы говорим. Советую и тебе в будущем употреблять это слово, если придется говорить с людьми церковными.
– Вот что такое «нечистота»! Я столько раз слышала… Когда батюшка на общей исповеди перечисляет грехи, то он говорит: «В нечистоте приходила в храм, прикладывалась к иконам…» Вот что это такое!
– Что же ты меня не спросила?
– Да я думала, он просто о неряхах говорит: кто утром не умывался, или руки не моет…
– В Ветхом Завете написано об этом. В древности, по закону Моисееву, женщины в таком состоянии считались нечистыми. Они должны были сидеть дома семь дней. К ним никто не должен был прикасаться. Постой-ка, я тебе прочитаю…
Мама встала, взяла с полки Библию, полистала ее и прочитала Наде отрывок из 15 главы Книги Левит:
– «И всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжение очищения своего, нечисто; и все, на чем сядет, нечисто…» и так далее.
И в нашей Православной Церкви для девочек и женщин в таком состоянии полагаются некоторые ограничения, хотя и не такие строгие. В течение семи дней нельзя приступать ни к одному Таинству: ни креститься, ни венчаться, ни собороваться, ни причащаться.
Помнишь, ты как-то спросила Машу, будет ли она причащаться на Рождество. Маша ответила, что нет, ей нельзя. И ты начала приставать: что, да почему. Маше было неловко – мне пришлось вмешаться и перевести разговор на другую тему. Теперь ты поняла, почему нельзя?..
Никогда не проявляй излишнего любопытства: человеку это может быть неприятно, поставит его в неловкое положение. Вообще, это «мне нельзя» девочки постарше и женщины понимают без лишних слов. Еще можно говорить: «Мне нездоровится». Одни все поймут, а других ты не смутишь таким ответом…
В эти дни нельзя прикасаться к святыням: мощам и иконам. В церковь на богослужение можно приходить, только не в первые два дня, и не принято стоять близко к алтарю. Нельзя ставить свечи, вкушать просфору, пить крещенскую воду… Когда проходят семь дней – христианки все делают как обычно.
– А благословение у батюшки в эти дни брать можно?
– Можно.
– А такое состояние бывает в одни и те же числа?
– Нет, числа меняются, потому что промежуток между каждыми двумя периодами нечистоты составляет не ровно месяц, а 21–27 дней. Для христианки это не очень удобно: период, когда нельзя причащаться, может прийтись на великий праздник.
– Как, наверное, обидно, когда нельзя причаститься на Пасху!
– Очень. Но что делать, приходится смиряться; зато причастимся в следующий праздник…
– А если, например, жених и невеста собрались венчаться – и вдруг у девушки наступают эти самые дни нечистоты? Батюшка ждет, гости в церковь пришли…
– Вообще-то никаких «вдруг» быть не должно. Обычно девочки отмечают свои дни в календарике и готовы ко всяким неожиданностям. А как именно соблюдать правила гигиены в эти дни, я расскажу тебе, когда возникнет необходимость…
Ты уже читала вечерние молитвы?
– Нет еще.
– И я не молилась. Давай, я почитаю вслух, а ты лежи, молись лежа. Сейчас, только загляну к деткам…
Через несколько минут мама опять вошла, встала возле Надиной постели, перекрестилась и начала:
– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
– Аминь, – отозвалась Надя.
Беседа 5
…Семья подруги за телевизором. – «Почему у нас его нет?» – Как Наденька смотрела телевизор. – К чему это привело. – Совет священника и врача. – Как образуется зависимость от телевизора. – Вред для детского здоровья, телесного и душевного. – Чему учат телепередачи. – Телезрители живут в иллюзорном мире. – Что такое компьютер. – Компьютерные игры. – Игрок приходит в состояние азарта. – Вредное облучение.
Стоял теплый майский день. Мама с Надей сидели на скамейке в парке. Даша спала в коляске, а Сережа с Аленкой играли в песочнице.
– Мама, я вчера заходила к Кате. У них так хорошо! Вся семья: и бабушка, и родители, и Катя – сидят у телевизора и смотрят кино…
– Что же хорошего?
– Ну… Сидят, смотрят. Дружные такие, смеются все вместе, чай пьют…
– У них телевизор, а мы зато все вместе вслух книжки читаем. Тоже дружно и хорошо. Или нет?
Надя молчала.
– Ты позавидовала, немножко, да? Что у них есть телевизор, а у нас нет?
– У них цветной, японский…
– Ну, понятно, – улыбнулась мама. – У моей дочки искушение.
– Какое искушение?
– Ты «Отче наш» читаешь, просишь: «Не введи нас во искушение». Я тебе объясняла, что «искушение» – это как бы возможность согрешить. Точнее, такая жизненная ситуация, в которой человек очень определенно ставится перед свободным выбором: согрешить или нет? При этом грех не выглядит как что-то страшное, отталкивающее – наоборот, он имеет соблазнительный, то есть обманчиво-привлекательный вид.
Вот вчера тебя и постигло небольшое искушение. Ты оказалась в ситуации, которая прельстила, соблазнила тебя. Телевизор, яркий экран, фильм… Что там показывали?
– Очень длинное кино. Сериал. Катина семья смотрит его уже несколько месяцев. Знают всех героев. И девочки у нас в классе тоже смотрят и обсуждают каждую серию. Мне вовсе не хотелось смотреть это кино, просто стало интересно: что же это такое? И вчера я немножко посмотрела. Показывали море; и две девушки, очень красивые, плыли в лодке. Катина мама предположила, что будет буря и они утонут…
– Скажи, Наденька, тебе немного обидно, что мы живем не так, как девочки из твоего класса? Что у нас, например, нет телевизора, и ты не можешь принять участие в обсуждении фильмов?
– Да нет, мам! Вовсе не обидно. Может быть, стало завидно на одну минуточку, а потом прошло. Мы же верующие, мы православные, у нас такая семья, какой ни у кого нет! Да и не у нас одних нет телевизора: у многих ребят из воскресной школы его тоже нет.
– Но ты понимаешь, что его не потому нет, что мы не можем его купить? Не потому, что денег нет, поставить некуда?
– Понимаю, конечно. Мы просто не хотим его иметь. Но вчера я в первый раз задумалась: почему все-таки вы с папой отказались от него?
– Причин много, но все их можно свести к одной: мы хотим сохранить здоровье наших детей, здоровье телесное и душевное. А телевизор действует на детское здоровье разрушительно.
– Как?
– Начнем с того, что когда-то у нас был телевизор. Мы тогда жили вместе с бабушкой. И однажды, когда тебе было годика два с половиной, мы решили показать тебе мультфильм. Мы, конечно, выбрали хороший, добрый, поучительный сюжет – как петушок солнышко будил. Ты смотрела с удовольствием, весело смеялась, хлопала в ладоши… Мультфильм кончился – ты в рев! Не уходишь от телевизора – и все тут. Я тебя отвлекла, конечно. Но с того дня тебя как будто подменили: ты, очевидно, пережила такое сильное эмоциональное потрясение, какого не давали ни книги, ни пластинки. Ты то и дело тянула меня к телевизору и с плачем умоляла включить его. А хороших мультфильмов так мало!.. Бабушка любила посмотреть телевизор, и часто, когда я была на работе (я тогда еще работала, хотя и не каждый день), ты сидела перед экраном вместе с ней и смотрела все подряд… И вот…
– Я начала болеть?
– Да не то чтобы болеть… Сначала я заметила, что нарушился сон. Раньше, бывало, тебя из пушки не разбудишь: как легла – так и встала, глазки ясные, смеешься… А теперь – то кричишь, то плачешь во сне, то кто-то за тобой будто гонится. Появились ночные страхи, страх темноты… У нас так всю ночь и горел ночник: не дай Бог Наденька проснется в темноте! На горшок боялась вставать: тебе все чудилось, что кто-то прячется под кроватью.
– А потом?
– Ох, лучше не вспоминать! Потом у тебя глазик начал дергаться ни с того ни с сего. Смотришь внимательно на что-то – и вдруг веко задрожит-задергается! И одновременно с этим ты начала чуть-чуть заикаться, особенно когда торопилась что-то сказать.
– Вот, наверное, вы с папой расстраивались!
– Детки всегда болеют. Но одно дело – горлышко, животик… А тут – явное нервное расстройство. Я бросилась в церковь, к батюшке. «Батюшка! – говорю. – Что делать? Наденька у меня так часто причащается, а тут такие вещи!» (Рассказала ему.) А он спрашивает: «Крестным знамением кроватку осеняете? Девочку на ночь благословляете – крестите?» – «Да, да», – говорю. – «А телевизор она у вас не смотрит?» – «Смотрит…» – «Ну, тогда все понятно. Малое дитя надо подальше от телевизора держать»…
– И вы послушались?
– Папа еще настоял, чтобы я тебя доктору показала, детскому невропатологу. У нас тогда хороший доктор был, старичок… Ты его не помнишь… Тот «диагноз» батюшки подтвердил. Лекарств никаких не стал назначать. Сказал только: «Срочно перебирайтесь на дачу, поближе к травке, к цветочкам, к птичкам и пчелкам. Там ей никакой телевизор не нужен будет!» Тогда я и работу бросила, и стали мы с тобой жить-поживать на даче: с мая по октябрь, – а папа к нам раза два в неделю приезжал.
– И у меня прошло это все: страхи, заикание, глазик?..
– Прошло, только не сразу. Страхи дольше всего оставались. И мы, по совету батюшки, стали на ночь оставлять в твоей комнатке зажженную лампадку перед иконой. Икону ставили на стол – так, чтобы ты, если вдруг проснешься ночью, сразу увидела икону с лампадкой перед ней и вспомнила, Кто тебя охраняет и защищает…
– Я помню, помню! Лампадку перед иконой на столе отлично помню! Это был преподобный Серафим Саровский, в белом балахончике, с посохом. Я просыпалась, видела его доброе лицо и думала: «Вот, батюшка Серафим меня бережет…» Это и теперь моя любимая икона… А потом, когда мы с дачи вернулись?
– А потом ты, конечно, опять потянулась к телевизору. Но мы тебе сказали, что он «сломался». Он и в самом деле для нас сломался: папа вынул какую-то важную деталь, чтобы самому не соблазниться, потому что он раньше любил политические программы смотреть. Когда же мы через полгода на эту квартиру переехали, у нас с папой уже твердо было решено: никакого телевизора. Тем более что мы хотели иметь еще детей…
– А я даже и не помню, что когда-то смотрела телевизор…
– Ну, и слава Богу.
– Мамочка, расскажи еще! Ты так интересно всегда рассказываешь! Мне вот приходится с девочками разговаривать, так я не все могу им объяснить, даже про Бога…
– Что ж, для того ты и ходишь в воскресную школу, чтобы и самой поумнеть, и другим уметь объяснить. А девочки над твоей верой не смеются?
– Нет, что ты! У нас очень многие себя верующими считают, только не постятся и в церковь не ходят. Но они крещенные, даже крестики носят…
– Вот видишь, они крещенные, а православными не стали. Как же без Церкви, без причастия? Ты им напомни пословицу: «Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец».
– Ты, мам, и пословиц много знаешь, и вообще все знаешь. А я все забываю и многого не знаю. Вот и про телевизор не смогу объяснить: почему вредно его смотреть?
– Во-первых, скажи девочкам, что очень быстро образуется зависимость от телевизора – такая же, как от спиртных напитков, табака, кофе… Представь себе, что в Катиной семье сломался телевизор…
– У них другой есть, старый.
– Ну, предположим, оба сломались. Что они будут делать по вечерам? Ведь в таких семьях, где телевизор всегда работает, люди перестают общаться между собой, разговаривать, читать, гулять вместе. Один вид молчащего, погасшего экрана телевизора будет приводить их в состояние тоски и раздражения. Разве это хорошо? Некоторые люди жить не могут без водки, другие – без сигарет, и очень много таких, которые не могут без телевизора.
Зависимость от телевизора наступает очень быстро, даже у маленьких детей, – это первая беда. Кроме того, налицо явный вред физическому, телесному здоровью. Ребенку вообще нехорошо сидеть долго на одном месте, а за теле – передачами незаметно проносятся не минуты – часы. Из-за обездвиженности расстраивается работа кишечника, из организма плохо выводятся продукты распада – отработанные вещества, – и дети часто болеют. К тому же через экран телевизора – он называется кинескоп — идет облучение, истощающее нервную систему ребенка. У детей, часто смотрящих телевизор, портится зрение. Замечено также, что у них слабеет память; они хуже соображают на уроках в школе, не могут сосредоточиться; нарушается сон; они становятся возбудимыми, раздражительными, обидчивыми. Ухудшаются и отношения с родителями, особенно если те требуют оторваться от экрана и заняться чем-нибудь полезным.
Это не удивительно: ведь телевидение пленяет душу, оказывает гипнотическое воздействие. Не только ребенок, но и взрослый человек, с его более крепкой и устойчивой психикой, не может противостоять этому воздействию.
Страшнее всего то, что телевидение разрушительно действует на личность ребенка, заставляет его жить не по заповедям Божиим, а по жестоким законам того мира, который показан на экране.
Ты, наверное, видела мальчиков, которые держатся со всеми дерзко и развязно, говорят сквозь зубы, плюют во время разговора себе под ноги, смотрят прищурившись и так далее? Это мальчики, насмотревшиеся по телевизору плохих фильмов – «боевиков». Они подражают героям этих фильмов: преступникам, полицейским, частным детективам. Несчастные мальчики полагают, что становятся похожи на «настоящих мужчин», и не видят, что они смешны и нелепы. А девочки выглядят еще смешнее, когда они забывают, что их главное украшение – чистота, аккуратность и скромность, – и пытаются подражать героиням телеэкрана – взрослым женщинам, иностранкам, которые курят, пьют вино, вызывающе одеваются, хотят нравиться мужчинам.
Это подражание доходит до того, что русские мальчики и девочки отвергают православные имена, чаще всего данные им в крещении, и называют друг друга иностранными именами тех героев (или артистов), которые им нравятся.
То, что ребенок видит на экране, – это, как ты понимаешь, не настоящая жизнь. Ничего этого просто нет. Такое явление называется «иллюзия». А ребенок настолько беззащитен внутренне, что ему гораздо легче, чем взрослому, погрузиться в мир иллюзии, как в настоящий. И поскольку та жизнь гораздо интереснее, богаче событиями, чем его собственная, будничная, он и предпочитает ту жизнь. Сидя перед телевизором, он теряет ощущение реальности и погружается в странное лунатическое состояние, напоминающее опьянение.
Телевизионная жизнь, где ребенок пережил такие острые ощущения, кажется ему более «настоящей», чем подлинная.
И знаешь, что еще очень плохо? Многие люди смотрят одно и то же. Ты сама говорила, что твои одноклассницы каждый день обсуждают сериал, который показывают по телевизору уже несколько месяцев. Но ведь это не единственная передача, которую смотрят все. Таким образом, телезрители постепенно теряют индивидуальность, обезличиваются, то есть теряют своеобразие, неповторимость. Разве хорошо, если все будут похожи, будут мыслить и чувствовать одинаково?
Телевизор стал для многих главным авторитетом. Мы, люди церковные, когда хотим подтвердить какое-либо мнение или событие, говорим: «Так пишут святые отцы» – или: «Так батюшка сказал». А телезрители, которые постоянно смотрят разные передачи, скажут: «Так по телевизору сказали»…
Мама замолчала. Она прислушалась. В песочнице разгоралась ссора: Сережа с Аленкой не поделили какую-то игрушку. «Сережа, что-то я забыла: кто из вас старший?.. Аленка, ты, наверное, уже устала, хочешь домой?» – строго спросила мама. «Нет, гулять!» – ответила девочка. Через минуту дети опять мирно играли.
– А еще, – продолжала мама, – меня немного беспокоит одна вещь. У вас в школе со следующего года введут компьютерный класс…
– Что это?
– Вас будут учить работать на компьютере. Это очень сложная электронная машина. Своего рода электронный мозг, сотворенный руками человека.
– Как на этой машине работают?
– На ней пишут, рисуют, считают, составляют схемы и таблицы. Нажимают на кнопки и смотрят на экран. Вообще, внешне компьютер немного похож на телевизор: у него тоже есть экран, – но что изображается на этом экране, зависит от человека, нажимающего на кнопки. В компьютере есть такое устройство – «память». Оно сохраняет в машине все сведения, которые человек в нее поместит. Представляешь, целые горы объемных чертежей, целые шкафы бумаг, книги – все это может храниться в памяти компьютера.
Так что это удобная, очень полезная в современной жизни машина, хотя, с другой стороны, долго работать на ней вредно для здоровья. Экран компьютера, как и экран телевизора, дает вредное для организма облучение – из-за этого облучения организм может потерять сопротивляемость к тяжелым заболеваниям. Но я говорила с вашим директором: вы будете сидеть за компьютером очень незначительное время, минимум времени, необходимого для занятий… Однако, кроме занятий, существуют компьютерные игры. Дело в том, что на компьютере можно не только работать, но и играть. И я боюсь, что многие в вашем классе, получив доступ к компьютерам, увлекутся не столько полезной работой, сколько вредной и опасной игрой. Директор сказал мне, что играть в компьютерные игры будут «все желающие». Как бы желающих не оказалось чересчур много!
– Мамочка, я ничего не понимаю. Как игра может быть опасной, вредной?
– Прежде всего, мы с тобой уже не раз говорили, что вредно все, чем человек легко может увлечься. Играющий на компьютере становится как бы и режиссером, и участником того, что происходит перед ним на экране: вступает в игры и битвы с чудовищами, часто страшными, как бесы. Игра построена на том, что играющий либо убегает от противника, либо уничтожает противника. При этом он всего лишь смотрит на экран и нажимает на две-три кнопки. Это очень затягивает, увлекает.
– Я, кажется, видела такую игру. Кате подарили электронную приставку к телевизору. Там кошки гоняются друг за другом – как будто мультфильм, но человек этими кошками управляет…
– Вот-вот. И кошки – это еще одна из самых безобидных разновидностей компьютерных игр.
– Я как-то заходила Катю проведать: она заболела. Прихожу, а она сидит перед экраном и как будто мультик смотрит. Увидела меня – даже не встала. Я ее окликнула. «Садись, – говорит, – я сейчас, минуточку». И дальше играет. Сидит такая напряженная, на экран смотрит. Я спрашиваю: «Ты как себя чувствуешь? Когда в школу придешь?» – А она будто не слышит. Только возгласы издает: «Ну, давай!.. Ну!.. Ага!.. Ой!.. Тьфу ты!..» Я сидела-сидела, смотрела-смотрела на нее и говорю: «Кать, мне домой пора, мама ждет». А она: «Ага. Я сейчас, минуточку…» А сама оторваться не может. Так я и ушла, даже обиделась немножко. Но она потом прощения просила, в школе уже…
– Это, Надя, очень страшное состояние. Оно называется «азарт».
– Азарт?
– Да, такое душевное состояние, когда человек из-за игры забывает весь мир, забывает сам себя и становится рабом какой-то темной силы, как бесноватый.
– Значит, в этом вред компьютерных игр – в зависимости и азарте?
– Есть и еще одно зло, о котором я тебе уже говорила. Тот, кто начинает увлекаться компьютерными играми, проводит возле компьютера слишком много времени. А это очень вредно, особенно для девочки. Я недавно читала в одном журнале, что 80 процентов девушек, чья работа связана с компьютером, не могут потом родить здоровых детей.
– Как это – 80 процентов?
– Ну, восемь девушек из десяти. Только у двоих из десяти – все хорошо. А остальные или не могут стать мамами, или у них рождаются больные дети. А будущим мамам, которые уже носят во чреве ребенка, вообще нельзя работать за компьютером – это очень опасно. Вот, Наденька, почему меня тревожит то, что у вас начинается компьютерное обучение…
О, кажется, нам пора собираться. Надо Дашеньку будить, да и у вас время обеда… Ребятки, идем домой!
Часть третья. Перед лицом искушений
Прошло почти четыре года, за которые многое изменилось в жизни нашей героини.
Наде было уже четырнадцать лет. В церковных записках «о здравии» она все еще поминалась как «отроковица Надежда», но среди ее подруг по приходу много было «девиц», то есть девочек, достигших пятнадцати лет; скоро и Наде предстояло войти в их число. На улице незнакомые люди и так уже обращались к ней со словом «девушка» и на Вы, что втайне радовало Надю. Она теперь не любила, когда ее называли «Наденькой», как маленькую, и представлялась другим (например, когда звонила кому-то по телефону) Надеждой : «Алло! Это Надежда!..» Она стала больше внимания уделять своей внешности, стремясь выглядеть привлекательнее, и порой даже поступала вопреки советам мамы.
Так, она не хотела заплетать свою длинную косу, а часто только стягивала ее резинкой у основания и носила как распущенный пучок, или, как называют его девочки, «хвост». Мама, видя, что это важно для дочери, не настаивала и больше не говорила о ее прическе.
Но этим, собственно, и ограничивалась Надина взрослость. В остальном она была все той же доброй, откровенной, трудолюбивой девочкой, лучшим другом которой оставалась мама. Розовые щеки, чистый лоб, открытый взгляд показывали, что у этой девочки не только нет никаких тайных пороков – сама грязь окружающего мира как будто еще совсем не коснулась ее души.
В этом году Наде предстояло окончить музыкальную школу. Ни она сама, ни родители не считали нужным продолжать ее музыкальное образование. Ясно было, что выдающейся пианисткой она не станет, да никто из близких и не желал этого. Знаний девочки было вполне достаточно, чтобы петь по нотам на клиросе. Она пела в детском хоре своего прихода уже два года и считалась опытной певчей. Правда, к великому ее сожалению, она бывала в своем храме лишь раз в неделю – по воскресеньям. И причиной этого был не только недостаток времени. Дело в том, что Надина семья примерно год назад съехалась с бабушкой и перебралась на новую квартиру, откуда приходилось добираться до храма целый час.
Зато, вместо трех, у них теперь было четыре комнаты. В самой светлой и просторной жили девочки: Надя, Аленка, которая в этом году пошла в школу, и пятилетняя Даша. Чтобы сестры не мешали, Надя делала уроки в бабушкиной комнате, а музыкой занималась в комнате родителей (она же и гостиная), где стояло пианино.
Что еще рассказать о Надиной жизни?.. Она по-прежнему дорожила доверительными беседами с мамой. Той же приходилось непросто. Если прежде Наденька принимала любое ее слово без рассуждений, то теперь она часто требовала обоснований и иногда противоречила. Поэтому маме порой даже приходилось готовиться к беседам с дочерью по книгам, советоваться с мужем или с батюшкой.
Беседа 1
…Из-за чего Надежда опоздала на урок. – «Несовременная» кофта. – В какой одежде девочки ходят в школу. – Форма не лишает школьницу индивидуальности. – Что значит «быть красивой». – Может ли девочка улучшить свою внешность. – Косметика – это ложь. – Краситься – значит хулить образ Божий. – О красоте души. – Стихотворение «Некрасивая девочка». – Мирское и церковное понимание красоты. – Улучшить свою внешность поможет работа над душой. – О целомудрии. – Как должна выглядеть христианка. – Что же делать Наде?
Надя опаздывала в школу. Не потому, что проспала. И не потому, что имела дурную привычку, свойственную некоторым девочкам, залеживаться в постели, досматривая сон или мечтая в полудреме. Нет, Надя вставала сразу, по звонку будильника. Просто в это утро она очень долго одевалась и причесывалась. Надела одну кофту – сняла и отложила. Подержала в руках другую – отложила. Вышла на кухню:
– Мамочка, можно мне надеть твой розовый свитер?
– Он же велик тебе, ты в нем утонешь!
– Нет, сейчас как раз модно, чтобы свитер был велик и висел на плечах!..
– Надя, в чем дело? Мне не жалко, но у тебя же есть свои вещи! А синяя кофточка?
– Да ну, она какая-то…
– Дочка, ты опаздываешь! Надень жакет… Только что все-таки случилось? Еще вчера ты ходила в синей кофте, все было нормально…
– Ой, мам, я потом объясню, – и Надя скрылась в детской.
Кое-как одевшись, девочка отправилась в ванную. Внимательно глядя в зеркало, она сначала собрала хвост высоко, почти на темени. Взяла маленькое зеркальце, посмотрела на себя сбоку… Нет, плохо.
Она распустила волосы и еще раз расчесала их щеткой. Надела пластмассовый обруч. Нет, так, с распущенными волосами, в школу идти нельзя. Она с раздражением бросила обруч.
– Надюша, ты опоздаешь! – кричала бабушка с порога ванной. Мама нервничала и с трудом заставляла себя молчать.
– Сейчас, бабуля… – девочка уронила щетку и с досадой топнула ногой.
Наконец Надя успокоилась, сделав низкий свободный хвост и спустив волосы на уши. Все равно что-то не так, но переделывать уже не было времени. Наскоро чмокнув маму и бабушку, она схватила портфель и выбежала из дома, уже опаздывая к первому уроку на пять минут.
Как всегда, закрыв за ней дверь, мама перекрестилась:
– Пресвятая Богородица, сохрани отроковицу Надежду под Твоим святым Покровом! Огради ее от всякого зла!
Сегодня она произнесла эти привычные слова с особенным чувством…
Когда Надя вернулась из школы и пообедала, мама спросила ее:
– Что у вас было сегодня в школе? Какой-то праздник? Какое-нибудь особенное событие?
– Нет, ничего такого не было. А что?
– Тогда из-за чего ты, собственно, опоздала на урок? В чем был смысл твоих приготовлений?
– Каких приготовлений?
– Сегодня ты необычайно много времени уделила своему внешнему виду, причем, мне кажется, без всякой на то необходимости. К тому же ты сама собиралась мне объяснить, почему тебе вдруг разонравилась синяя кофта.
Надя замялась. Ей не хотелось обидеть маму. С другой стороны, еще меньше ей хотелось кривить душой.
– Понимаешь, мамочка, синяя кофта мне вообще-то нравится. Она мягкая, удобная, в ней тепло, но не жарко, к ней подходит любая блузка. Но… она несовременная.
– Что значит «несовременная», когда она существует в наше время, бабушка связала ее тебе совсем недавно?..
– Она несовременная по стилю, старомодная. И она мне не идет.
– Да кто тебе это сказал, Надя?
– Девочки. Они вчера устроили мне «критический разбор». Не обидно вовсе: они хорошо ко мне относятся, я знаю, – но… Осмотрели меня со всех сторон на большой перемене и высказали свои замечания. А я раньше и не задумывалась, что как-то не так одета.
– Что значит «не так»?
– Юбка слишком длинная – это они сказали. Кофта старомодная, слишком простая и скучная. Еще сказали, что мне очень пошли бы браслеты, бусы и сережки в ушах.
– И что же ты ответила?
– Ответила, что вешать на себя много побрякушек любят дикари. Что браслеты мне просто мешали бы, тем более в школе. Что мне, например, тоже не очень нравятся их украшения, серьги и цепи, но я не позволяю себе критиковать их. А насчет юбки с кофтой – я как-то не нашлась, что ответить…
– А как одеваются девочки у вас в классе?
– Ой, мама, у нас царит полный произвол и дух соревнования. Есть девочки, которые одеваются скромно, но большинство меняют наряды каждый день. В основном все носят джинсы или мини-юбки. Яркие свитера или джинсовые куртки. Белые кроссовки… При этом почти у всех проколоты уши, надеты серьги. О браслетах, цепочках я уже говорила. У многих – яркие заграничные значки. И прически… Косы, конечно, никто не заплетает. У большинства – стрижки. А если у кого длинные волосы, даже почти как мои, – носят их просто распущенными. Ты, мамочка, удивишься, но многие девочки у нас красятся, как взрослые женщины: красят помадой губы, подводят глаза, лаком покрывают ногти. И представляешь, до недавнего времени я ничего этого просто не замечала!.. Ну, вот, а вчера я посмотрела на них, на себя и увидела, как по-разному мы выглядим. Мне далеко не все в них нравится, но в чем они действительно правы – так это в том, что я одета несовременно, старомодно. Так, наверное, одевалась в школу еще ты…
– Мне, Надя, повезло. Когда я была девочкой, все школьники носили форму. У девочек было три вида форменной одежды. В будние дни мы носили коричневые платья с черными фартуками. Парадная форма отличалась фартуком: вместо черного в торжественные дни девочки надевали белый. И когда все девочки класса приходили в белоснежных фартуках – как это было празднично и красиво! Мы были похожи на дореволюционных гимназисток.
– И никто не приходил в школу в цветных кофтах, свитерах, платьях? Девочки не приходили в брюках?
– Какие брюки? Разве только на работу в школьном дворе или в школьном саду. В класс можно было прийти только в форме. Даже в очень холодные дни мы надевали кофточки не сверху, а поддевали их под форменное платье, чтобы было не видно.
– И вам, девочкам, не обидно было, что вас одели в какие-то одинаковые спецовки? И не хотелось одеться по-своему?
– Понимаешь, нам даже в голову это не приходило. Мы знали, что в школу мы ходим учиться, а не демонстрировать свои наряды. В классе нас ничто не отвлекало от доски, от лица учителя; мы не разглядывали друг друга. Впрочем, ты ошибаешься, полагая, что все выглядели одинаково. Во-первых, и платья, и фартуки могли очень сильно различаться в деталях. Воротнички и манжеты на платьях были из обычного белого материала, были атласные, были кружевные. У фартуков могли быть простые строгие лямки с перекладиной (в этом тоже есть своя красота), а могли быть пышные «крылышки». Сами фартуки могли быть шерстяные или кашемировые, а могли быть шелковые. Белые фартуки у одних были из полупрозрачного капрона, у других – из мягкого, струящегося крепдешина. Но мне больше всего нравились простые фартуки из самой обычной ткани. Хорошо выстиранные, накрахмаленные и отглаженные, они выглядели наряднее других. Так что все равно форма у всех была разная.
Нет, хорошо, когда школьницы носят форму, хорошо по многим причинам. В частности, это освобождает девочек от зависти: ведь кто-то может носить дорогие, модные вещи и менять их каждый день, а кто-то – нет. Знаешь, в Аленкиной школе, возможно, введут форменную одежду, и я этому очень рада.
Ты, доченька, считаешь, что форма ограничивает свободу девочки, ая, напротив, думаю, что именно она и дает ей свободу.
– Свободу от чего? От зависти?
– И еще от того, что мучило тебя сегодня утром. От ненужного выбора в мелочах. Я видела, как ты колебалась: что надеть? Это или то? Я видела, но не могла тебе помочь: ты была в таком состоянии, что все равно не приняла бы моего совета. И с прической ты долго мучилась, тратила время, душевные силы – зачем? У тебя хорошие, густые волосы, не надо с ними мудрить!
– Я подбирала такую прическу, которая скрыла бы недостатки лица.
Мама удивилась этому неожиданному заявлению:
– Какие же недостатки ты хочешь скрыть?
– Понимаешь, у меня лицо слишком круглое и губы толстые. Поэтому, девочки говорят, надо как-то «уравновесить» их пышной прической. А я ношу хвост или косу, так что и волос-то как следует не видно: они все за спиной.
– «Бедная девочка, – подумала мама. – Вот искушение!»
– Надя, но ты же не по телевизору выступаешь. Люди видят тебя с разных сторон, в движении, раскованной и естественной. Они видят тебя совсем не так, как ты видишь себя в зеркале. А потом, что ты выдумала насчет круглого лица? Разве это плохо? Разве не помнишь, как описываются сказочные царевны: они всегда круглолицые да румяные! И губы… У тебя обыкновенные розовые губы! Не выдумывай и не слушай никого.
– Мама, я некрасивая?
– Почему ты об этом спрашиваешь?
– Очень уж я отличаюсь от девочек из нашего класса.
– А ты разве не знаешь, что бывают разные представления о красоте? У людей мирских – не мирян, а именно мирских, то есть далеких от Церкви, – это представление одно; у людей православных, церковных – другое. Скажи, кто, по-твоему, красивый? Из девочек, конечно.
– Мне кажется, Катя очень красивая. Ее нельзя не заметить.
– Катя очень яркая. Черные волосы, большие черные глаза, белая кожа. Но эта яркость – национальная черта. У Кати папа армянин. Сравни южную природу и природу нашей средней полосы: там все ярко, броско – здесь сдержанно, скромно, тихо. Русская красота под стать русской природе. Она не бросается в глаза, а проникает в сердце… Однако, раз уж мы заговорили о Кате, признаюсь тебе, что я не назвала бы ее красивой. Во-первых, она уродует свою внешность косметикой. Ты, наверное, обратила внимание, что она как раз из тех, кто красит губы? А во-вторых, она очень развязно и дерзко ведет себя. В ее речи много грубых слов и оборотов, которые и в устах мальчика звучали бы неприлично. Движения у нее резкие, а голос всегда пронзительно-громкий. Разговаривая с подругой, она то кладет голову ей на плечо, то шепчет на ухо, то хихикает, будто на что-то намекая… Разве это совместимо с красотой, тем более девичьей красотой?
– Значит, «красота» – это не только лицо и фигура, но и поведение?
– Конечно. Поведение, манера держаться, говорить, общаться с людьми, смотреть, ходить… Во всем этом должна быть сдержанность, женственность и простота. Раньше девочек из дворянских семей учили красиво держаться: без жеманства, без вульгарных кокетливых ужимок.
Помнишь, как Пушкин описывает Татьяну, появившуюся в великосветской гостиной? Он не говорит, какой длины ее ресницы, круглое у нее лицо или овальное, как уложена прическа: важнее другое. Слушай:
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей…
Все тихо, просто было в ней.
Вот что значит красиво держаться. Это написано о светской женщине, но подходит и девочке – христианке.
– Мамочка, а если девочка не очень красивая, она может с помощью косметики улучшить свою внешность? У нас в классе считают, что не только может, но и должна. Мне посоветовали красить ресницы, чтобы казались длиннее, и брови, а то они у меня «белесые». И чуть-чуть подкрашивать губы…
– А ты?
– Ну, нет! С чего это я буду себя разрисовывать, как куклу какую-нибудь? Батюшка говорит, что краситься грешно.
– А почему грешно, знаешь?
– Потому что как же крашеными губами к иконе прикладываться? И причащаться с накрашенными губами нельзя: лжицу запачкаешь, край Чаши запачкаешь, да еще если до причащения губы оближешь, помаду слизнешь и проглотишь, то нельзя будет причащаться…
– Ну, допустим, с губами все ясно. А все остальное: глаза, щеки, волосы, ногти?.. Тоже красить нельзя? А почему – не знаешь?..
Я батюшку в свое время сама об этом спрашивала, и он мне так объяснил. Во-первых, косметика – это ложь. У тебя, скажем, губы бледно-розовые, а ты делаешь вид (для окружающих), что они у тебя красные, как клубника. Волосы у тебя прямые, ровные, блестящие (что тоже красиво!), а тебе хочется быть кудрявой: вот и берешь щипцы или бигуди или делаешь себе в парикмахерской химическую завивку… Это все и есть ложь. А отец лжи – знаешь, кто?
– Диавол.
– Вот и получается, что девочки, которые красятся, сами того не сознавая, служат диаволу. Ты только им этого не говори: они тебя, скорее всего, высмеют за эти слова, – но сама имей в виду.
Господь, видя эту ложь, часто открывает ее и посрамляет таких крашеных девочек: то дождь пойдет – и у них волосы разовьются, ресницы «потекут» по щекам; то они впопыхах не успеют или забудут накраситься, и все увидят, что губы у них бледно-розовые, брови светлые… И смех и грех…
Но есть и другие причины, по которым краситься грешно. Зачем это делается? Допустим, девочки подражают взрослым женщинам: певицам, артисткам, манекенщицам. Ну, а те зачем красятся? Чтобы привлечь внимание мужчин, прельстить их видимостью красоты. В древности красились только блудницы – женщины позорного поведения, которые прельщение мужчин сделали своей профессией. Неужели молодой девушке, девочке следует им подражать? Но и это еще не самое главное. Батюшка говорит, что в раскрашивании себя с помощью косметики содержится хула на Бога.
– Как это, мама? Почему же это против Бога?
– Потому что Бог через твоих родителей наделил тебя именно таким, а не иным внешним обликом. Цвет глаз, их размер, цвет волос, форма и цвет губ – все это дано нам Богом. Люди очень разные. У одних правильные черты лица, у других – не очень. У кого-то нос маленький, у кого-то большой… Высокие и низкорослые…
Некоторые даже рождаются настоящими уродами, хотя это бывает редко, чаще по грехам родителей. Этим людям поневоле приходится смиряться; кроме того, врожденное уродство предохраняет их от множества грехов… Что ты вздыхаешь?
– Все равно их жалко.
– А я разве говорю, что не жалко? Я говорю, что вера в Бога предполагает и веру в Его благой Промысл о мире и о каждом человеке. Неужели ты думаешь, что, например, тебя или ту же Катю Господь любит больше, чем такого несчастного, обделенного телесной красотой? Просто Он каждого ведет своим путем к одной цели – ко спасению.
Человек создан по образу Божию. И, произвольно внося изменения в свою внешность, он хулит образ Божий. Девочка, которая красит губы и ресницы, завивает волосы и так далее, тем самым как бы говорит Господу: «Господи, мне не нравится, какой Ты меня создал. Я считаю, что меня Ты создал плоховато, а вот Катю лучше. Мне Ты дал светлые брови, короткие ресницы, а я хочу темные, длинные. И раз Ты мне этого не дал, я сама их себе сделаю!»
Надя слушала, широко раскрыв глаза. Ее поразило, что вопрос о косметике, казавшийся ей относительно безобидным, связан с богохульством.
– Мамочка, но что же делать? Надо же их предупредить? Катю, например…
– Катя наверняка сама скоро перестанет краситься: поймет, что ей это совершенно ни к чему. Ее косметика делает грубее и гораздо старше своих лет. У нее и так яркая внешность, а с накрашенными губами она приобретает просто вызывающий, почти неприличный вид. Впрочем, Катя давно тебя знает, и с ней ты можешь поговорить, наедине. Только помни, что не всегда человек готов выслушать правду смиренно и с пользой для души. Надо выбрать подходящий момент, когда Катино сердце будет открыто для твоих слов. Иначе ничего не получится. Когда будешь говорить с ней о косметике, не забудь поговорить и о манере держаться: посоветуй ей быть сдержаннее, проще, тише говорить, не употреблять бранных слов… Тогда она и в самом деле будет очень красивой девочкой. В мирском понимании. Потому что в понимании людей церковных, красота – это нечто совсем иное.
– Что это?
Мама задумалась. Ей хотелось объяснить своей дочке, что главное – красота души, что эта красота внутренним светом освещает и лицо, и движения, и всю жизнь. Что наделенный ею человек не то чтобы «красив» – прекрасен… Но она опасалась, как бы ее слова не показались Наде скучным повторением давно известных истин. Нужен был какой-нибудь живой пример, но маме не хотелось искать его среди Надиных подруг…
– Постой-ка, – сказала она. – Я лучше прочитаю тебе стихотворение, которое мне очень нравилось в юности, да и теперь нравится. Только, боюсь, мне не вспомнить его – нужна книга…
Через минуту мама вернулась с книгой, на переплете которой стояло: «Николай Заболоцкий». Она нашла нужную страницу и прочла вслух:
Некрасивая девочка
Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка…
В стихотворении говорилось о маленькой девочке, которая еще не замечает своего уродства, радуется чужой радости, «ликует и смеется, охваченная счастьем бытия»… А заканчивалось оно так:
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине ее горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты ее нехороши
И нечем ей прельстить воображенье, —
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движенье.
А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
– Поэт, написавший это стихотворение, – сказала мама, – не был православным христианином, но красоту он понимает по-христиански. «Сосуд, в котором пустота», – это мирское понимание красоты. «Огонь, мерцающий в сосуде», – церковное. Помню, как-то в храме я во время проповеди посмотрела на клирос, на вас – и не могла глаз отвести: настолько хороши были ваши лица. Вы внимательно слушали слово батюшки, забыв себя, не замечая, что на вас смотрят прихожане, и я подумала: «Какие чудесные у нас девочки, настоящие красавицы!» А потом проповедь кончилась, все пошли к кресту, вы начали разговаривать, смеяться – и снова стали обычными хорошими девочками, милыми, симпатичными. Но высокий душевный настрой прошел, и с ним ушла та редкая духовная красота, о которой я говорю.
– Значит, я то красивая, то некрасивая?
– Пожалуй, так! – рассмеялась мама. – Но это же гораздо интереснее, чем все время быть одинаковой, ты не находишь? Ты спросила сегодня, может ли не очень красивая девочка улучшить свою внешность? Теперь я тебе отвечу: может. Работая над своей душой. А главное – храня целомудрие. Знаешь, что это такое?
– Телесная чистота. Сохранение чистоты, девства до вступления в законный брак.
– Не только. Целомудрие – это и чистота души, чистота помыслов. Иная девочка, может быть, и хранит телесную чистоту, а мыслями грешит. Вам рассказывали случай с одной игуменией, у которой умерла племянница?
– Нет… Не помню.
– В одном монастыре при игумении жила племянница, молоденькая девушка, чуть постарше вас. Между прочим, очень красивая. Но, как выяснилось, красота ее оказалась «сосудом, в котором пустота». Все сестры радовались ее ангельскому житию и скромности. И вот, девушка эта умирает.
Игумения была уверена, что душа ее племянницы пошла в райские обители. Она молила Господа показать ей эти обители. Однажды ночью племянница явилась ей, но не в райской радости, а в пламени ада. «Ты ли это? – в ужасе воскликнула игумения. – За что ты попала в ад?» «За то, – отвечала несчастная, – что, при непорочности моего тела, я не сохранила в чистоте душу. Я тайно была влюблена в одного юношу и смотрела на него в церкви…»
Страшная история, правда? Страшная, но поучительная. Учит она нас, во-первых, не грешить – не только делом или словом, но и мыслью. А во-вторых, если все же согрешили – скорее каяться… Надя! Что ты загрустила?
– Стыдно, мам, за то, что я утром тут устроила… Прости.
– Ну, ничего. Хочешь, я дам тебе очень ценный совет, чтобы ты навсегда запомнила, как должна одеваться и причесываться христианка? Он тебе на всю жизнь пригодится. Одевайся и причесывайся всегда так, как будто собираешься в церковь. Это не значит – грязно, неряшливо, некрасиво. Нет. Это значит – чисто, аккуратно и красиво. Но красиво не по-мирскому, а по-церковному. Так ты всегда будешь выглядеть по-девически скромно и целомудренно. Иначе у тебя может начаться раздвоение личности, если в одной одежде ты будешь ходить в церковь, в другой (другой по стилю) – в школу, в гости к Кате или гулять.
Сегодня ты ходила в школу не в синей кофте, которую раскритиковали твои подружки, а в жакете, который прежде надевала только в праздники. Что сказали на это девочки?
– Сказали, что так лучше, но все равно не то.
– И всегда будет «не то». Ты не угодишь девочкам, пока не уподобишься им полностью, не откажешься от своего «я», от принципов нашей семьи. Если искать их похвалы, лучше уж сразу надеть обтягивающие джинсы, распустить волосы по плечам, накрасить губы… Нет, лучше пойти другим путем. Ведь девочки в данном случае выступают орудием – знаешь чьим? Мира сего. Падшего мира, который во зле лежит и хочет подмять под себя все, что не похоже на него… Держись.
Сказать, как бы я поступила на твоем месте?
– Как?
– Это не принципиально, что носить: кофту, или жакет, или мой розовый свитер. Но, мне кажется, сейчас тебе стоит опять, как и раньше, ходить в синей кофточке, меняя блузки. Поверь, это красивая, христианская, целомудренная одежда. Она тебе очень идет, особенно в сочетании с белой блузкой. Ты, правда, не похожа в ней ни на одну американскую актрису или поп-звезду, зато знаешь, на кого похожа?
– На кого?
– На красную девицу из русской сказки.
Надя осталась довольна этим сходством.
Беседа 2
…Встреча с юношей-инвалидом. – «Я ничего не понимаю!» – Мама готовится к беседе. – Надя ставит вопрос: для чего Бог попускает страдания? – Представление девочки о счастливой жизни. – Всегда ли брак и рождение детей являются благом. – О всеведении Божием. – Случай с матерью поэта Рылеева. – Надо веровать в Промысл Божий. – Человеческая жизнь есть приготовление к вечности. – Скорби обращают к Богу и помогают раскрыться способностям (судьба поэта Козлова). – «Посещение Божие». – Чтобы жила душа. – Вольные и невольные скорби. – У всех есть свои скорби. – Не все достойны «посещения Божия». – Почему страдают праведники. – «Лечиться – это грех?» – Милосердие. – Пример праведной Иулиании. – Кому и как подавать милостыню. – Служение больным.
Хмурым ноябрьским днем Надя пришла из школы очень расстроенная. Она едва кивнула маме и бабушке и сразу прошла в ванную.
Видно было, что девочка с трудом сдерживает слезы.
И даже по прошествии нескольких минут, выйдя к обеденному столу, она не могла скрыть своего состояния. Все уже пообедали, и Надя села за стол одна. Мама ни о чем ее не спрашивала.
Прочитав «Отче наш», девочка взяла кусок хлеба, зачерпнула ложку супа… но тут же опять опустила ее в тарелку.
– Мама, – сказала она. – Я хочу тебя спросить: почему на свете столько горя и страдания?
Мама отложила в сторону недоштопанный носок, опустила руки на колени… Она собралась с духом и ответила:
– Девочка моя, потому, что земная жизнь и называется юдолью страдания. И Господь предупредил Своих учеников, а в их лице всех нас: «В мире скорбны будете». Земной путь скорбен, но «претерпевший до конца спасен будет».
– Нет, я хочу понять смысл… Я ничего не понимаю. Я сейчас видела в метро: инвалид, который собирал милостыню – его возили по вагонам… И он хотел положить деньги в пакет – пакет, привязанный к коляске, и не мог дотянуться…
– Надя, ты очень сбивчиво рассказываешь. Расскажи спокойно. Какой инвалид?
– Мамочка, я же говорю: совсем молодой парнишка, беленький такой. Лет двадцати, не больше. Или чуть-чуть больше. Без ног. А вместо правой руки – обрубок. На шее висела табличка: «Инвалид войны». Он был в форме защитного цвета, такой пятнистой. Левой рукой он принимал деньги: кто сколько даст, – и пытался положить их в пакет у него за спиной. Он старался повернуться, дотянуться, но у него никак не получалось. Наконец, товарищ, который катил коляску, ему помог. Я никак не могу забыть его лицо: такая жалкая, беспомощная улыбка, такие добрые глаза… Представляешь, мама, ему еще долго-долго жить. Но что это за жизнь? Он всем в тягость, никому не нужен. Его ровесники женятся, родят детей, будут их воспитывать, будут учиться и работать, а он? Он, наверное, и одеться сам не может…
Губы у Нади задрожали…
– Постой, Наденька. Мы не можем знать, как сложится жизнь этого юноши. Я как раз хотела тебе рассказать. Об этом несколько лет назад писали в журнале «Здоровье». Такой же молодой человек (он был на афганской войне) подорвался на мине и попал в госпиталь. Он остался без ног. И одна медсестра, русская девушка, выходила его, и не просто выходила – она полюбила его, и он ее тоже. И потом, представляешь, они поженились! Стали мужем и женой. Некоторые неумные люди жалели ту девушку-медсестру. А другие хвалили ее за героизм! А она отвечала с улыбкой: «Да что вы меня хвалите? Я просто счастлива с моим мужем – и все». Так что, может быть, и сегодняшний инвалид найдет еще свое земное счастье… Ты сейчас ешь, пожалуйста, а то суп совсем остынет, а вечером уложим ребят и посидим с тобой на кухне, поговорим.
Надя немного успокоилась. Через полчаса она уже звонила Кате: «Алло, это Надежда!..»
А маме пришлось основательно подготовиться к вечерней беседе. Первым делом она достала с полки брошюру о Божественном Промысле святителя Иоанна Тобольского, где излагается учение Православной Церкви о несчастьях и бедствиях в человеческой жизни. Полистала ее… На некоторых страницах задержала свое внимание… Потом открыла «Основы искусства святости» епископа Варнавы (Беляева) – книгу, которой часто в затруднительных случаях жизни пользовалась как своего рода справочником. По предметному указателю она нашла слово «скорби» и прочитала указанные страницы… Перед самой беседой, прежде чем выйти на кухню, где уже ждала Надя, мама широко перекрестилась: «Господи, помоги мне, вразуми меня! Не дай отроковице Надежде усомниться в Твоей благости».
Надя, покачиваясь на стуле, смотрела в темное окно. Она уже готова была ложиться спать: халат надет поверх ночной сорочки, волосы на висках и у шеи влажные (только что принимала душ). От девочки веяло чистотой и свежестью, и в то же время заметно было, что она внутренне напряжена.
– Теперь, – начала мама, – когда ты успокоилась, попробуй объяснить мне твое состояние. Что с тобой было сегодня днем? Из-за чего ты была так расстроена?
Надя передернула плечами:
– Из-за жалости. Просто – жалко. Разве этого недостаточно, чтобы расстроиться?
– А мне кажется, не «просто» жалко. Жалость – это эмоция, мгновенная реакция души на впечатление извне. Это первое сердечное движение, которое затем рождает мысль, слово, дело. Я не знаю, какие мысли были у тебя в связи с увиденным, но услышала слова, которые меня удивили. Ты сказала: «Я ничего не понимаю», – и в твоем голосе была такая растерянность, такая беспомощность!.. Что означали эти слова?
– Я действительно растерялась. Я всегда знала, что существует зло и страдание, но никогда всерьез не задумывалась над этим. Я знала и о войнах, и об убийствах, видела нищих, калек. Но сегодня… Мамочка, сегодня я как будто в первый раз за всю жизнь задумалась: «Ну, почему же это? Зачем?» Этот юноша-инвалид… Ведь он был маленьким ребенком… нет, сначала он родился. Мама любила его, покупала ему рубашечки, он учился говорить; потом пошел в школу… Ведь для чего-то Господь дал ему жизнь – не для того же, чтобы на войне ему отрезало ноги и он стал таким… обрубком… Я начала думать и ни до чего не могла додуматься: у меня все получалось, что жизнь этого юноши кончилась, а то, что с ним будет дальше, – это сплошная мука, бессмысленная мука… Но ведь Бог есть Любовь?..
Надя опять отвернулась к окну.
– А какой жизни ты бы пожелала ему, не будь этого горя?
– Какой? Простого человеческого счастья: семьи, детей, семейных радостей, интересной работы…
– Заниматься бизнесом, посещать дискотеки, водить машину… – в тон ей тихо продолжила мама.
– Да. А почему бы и нет? – с некоторым даже вызовом возразила девочка.
– Постой, Надя. Давай подумаем спокойно. Ты сказала о семейных радостях. Ты хотела бы, чтобы этот юноша, как и его сверстники, женился. А почему, собственно, ты уверена, что женитьба – это хорошо?
– Но разве не ты сама всегда мне это твердила?
– Во-первых, я говорила о законном, то есть венчанном в Церкви, благословенном Богом браке. Многие ли сегодня венчаются в Церкви?.. Потом, разве не бывает несчастных браков, когда люди проклинают день своей свадьбы, как день, когда совершили непоправимую ошибку? А сколько разводов! Вспомни хотя бы семьи своих одноклассников. Разве мало у вас девочек и мальчиков, которые не имеют папы? Больше половины класса, Наденька. И с каждым годом их становится все больше: родители расходятся, создают новые семьи, те тоже распадаются… Ты судишь по нашей семье, а у нас, по милости Божией, все благополучно – главным образом потому, что мы с папой оба верующие, православные люди. Надя, таких семей, как наша, мало. К сожалению. Запомни это и благодари Бога.
– Мама, но брак хорош уже тем, что в браке рождаются дети.
– Да, это великая радость – видеть своих детей. Но сколько горя ждет родителей, которые не смогут их правильно воспитать! Помнишь, мы с тобой видели, как старушка мать тащит пьяного сына домой? Он ругается на нее, отталкивает, хочет идти назад, а она плачет, умоляет его и держит за руку крепко-крепко своими старческими руками… Думаешь, она очень счастлива? А когда в тридцатые годы разрушали церкви, то это часто делали дети верующих матерей. Представляешь, что пережили те матери, чьи дети бросали в огонь святые иконы, выбрасывали из гробниц мощи Божиих угодников?
Кто знает, быть может, дети того юноши-инвалида стали бы страшными грешниками, богоборцами?..
– Да нет… Он такой хороший, сразу видно…
– Дело не в том, каков он, а в том, как он и его жена воспитали бы детей. К тому же люди, Наденька, очень часто ошибаются, оценивая друг друга. Мы даже себя по-настоящему не знаем, а ближних – тем более. Поэтому наши оценки: «Этот – хороший, тот – плохой», – часто оборачиваются конфузом, даже в этой, временной жизни. Не говорю уже о том, что до самой своей кончины человек сохраняет свободу выбора между добром и злом. Вспомни пример из Евангелия: с одной стороны – благоразумный разбойник, покаявшийся на кресте, исповедавший Христа Богом и попавший в рай, а с другой – апостол Иуда, который в числе ближайших двенадцати учеников следовал за Спасителем, внимая Его учению, был свидетелем чудес и исцелений, но стал предателем Господа… Ты знаешь, как сложилась бы жизнь того юноши, которого ты встретила сегодня, если бы с ним не произошло несчастья?
– Уж, наверное, не хуже, чем теперь.
– Постой. Пока не будем оценивать: «хуже», «лучше». Скажи только: ты знаешь, как именно сложилась бы его жизнь?
– Нет, конечно.
– И я тоже не знаю. А Господь знает.
– Знает не только, что было, есть и будет, но и что было бы ?..
– Конечно. Нам очень трудно постичь это, по нашей ограниченности и несовершенству. Мы существуем и мыслим во времени: что было – уже не будет, что будет – еще не было; и дважды прожить одну жизнь, как бы в разных вариантах, нам не дано. А Господь всеведущ, всесовершен, вечен. Он знает и видит сразу все: и прошлое, и будущее, всю жизнь временную и участь вечную, причем каждого человека. Ты не успела подумать о чем-то – а Господь уже знает все возможные последствия этой мысли в разных вариантах. Ты же при этом остаешься совершенно свободной в выборе – вот что удивительно!
Расскажу тебе один случай. Это быль. Я слышала ее давным-давно, когда тебя еще не было, и может быть, в каких-то деталях ошибусь. Эту историю батюшка рассказывал на проповеди.
Это было в России, в самом начале прошлого века. У одной женщины, небогатой дворянки, умирал ребенок, младенец. Не помню, от какой болезни. Кажется, он задыхался и уже был близок к смерти. Мать горячо молилась Богу; вера ее была глубокой и сильной, а материнское горе придавало молитве дерзновение и неотступность. Несчастная женщина умоляла Господа сохранить жизнь ее сыну. Уронив голову на край постели ребенка, она забылась, как бы задремала. И в чутком сне увидела страшное видение. Виселица. Пять повешенных, среди которых – ее сын, только уже взрослый… Мать очнулась. Она поняла, что Господь открыл ей будущее сына, которое ждало бы его, если бы он остался жив. Позорная казнь государственного преступника!.. Но мать еще горячее принялась молиться: «Господи! Сохрани жизнь моего сына! Я воспитаю его в лоне Твоей Церкви! С ним не будет того, что Ты показал мне! Господи!..» Мальчик остался жив. Но мать не смогла вырастить его таким, как хотела. Нашлись дурные товарищи, попались дурные книги, составилось недоброе общество. Революционное. Позже его членов назвали «декабристами». Они замыслили государственный переворот, свержение царя – помазанника Божиего – и жестоко поплатились за это. Пятеро самых видных руководителей движения были повешены, среди них поэт Рылеев – тот самый мальчик, которого мать когда-то вымолила у Бога…
Видишь, Наденька, как действует Промысл Божий. Умирает ребенок. И ты, и я, и каждый человек сказал бы: «Какое несчастье!» А кто-то добавил бы, как ты сегодня: «Я ничего не понимаю…» Но, надеюсь, случай, который я тебе рассказала, убеждает в том, что и не надо пытаться понимать, то есть логически исследовать то или иное явление – надо просто верить. Ведь вера в Бога подразумевает не только веру в бытие Божие, в то, что Бог есть. Это также вера в Промысл Божий, в то, что Господь все устрояет нам на пользу.
– Даже смерть?
– Это звучит страшно, но мне не хочется кривить душой перед тобою: даже смерть. Сегодня, рассуждая о судьбе юноши-калеки, мы говорили только о том, что он лишился многих земных благ и утешений. Но ведь мы, Наденька, с тобой христианки и должны видеть дальше, глубже. Жизнь человека на земле – несколько десятков лет. Это – один миг перед всей историей человечества, а тем более перед вечностью. Помнишь, как в Псалтири сказано: «Яко тысяща лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний». А дальше сказано о человеческой жизни: «Дние лет наших в них же седмьдесят лет, аще же в силах, осмьдесят лет, и множае их труд и болезнь». Если уж тысячелетие пред Господом «как день вчерашний», то 70–80 лет человеческой жизни (а ведь очень многие не доживают до этого возраста) – просто мгновение. Но от этого «мгновения», от того, как мы проведем здесь свои дни, зависит наша вечная участь. Понимаешь? Прожить отпущенный тебе срок здесь, все время выбирая между добром и злом, добродетелью и грехом, – и унаследовать, в зависимости от своего выбора, либо Царствие Небесное, вечное блаженство с Богом и святыми, либо бездны ада и муку вечную с диаволом и его слугами. Вот о чем мы должны помнить, рассуждая о страданиях и несчастьях в этой жизни. Жалко несчастного юношу-воина, но думается, что не случайно Господь послал ему его крест. Возможно, он таким образом избегнет множества грехов, которые совершил бы, будучи молодым, сильным, красивым… Возможно, он, испытав скорби, обратится к Богу… А быть может, у него обнаружатся таланты и способности, которых не было бы, если бы его закружил вихрь обычной жизни…
Жил в России один знаменитый в свою эпоху поэт, современник Пушкина, Иван Козлов. Он был блестящим гвардейским офицером, светским человеком, любившим балы и праздники. Характер у него был открытый, жизнерадостный. Таких людей называют «душа общества». Он весело проводил свои дни и был, как ему казалось, совершенно счастлив. И вот, посетил его Господь…
– Как посетил? Видение было?
– Нет, не видение. Так русский народ, мудрый и благочестивый, называет скорби – посещением Божиим, знаком Его любви. «Господь посетил», – так говорили о тех, кто испытал неожиданное несчастье. Скорби – это как бы вестники от Господа. Они напоминают нам о том, что жизнь наша имеет конец и каждому предстоит дать ответ Вечному Судии…
Итак, этого великосветского человека, вполне счастливого в своей земной жизни, посетил Господь великой скорбью – болезнью. И не простой болезнью. В самом расцвете сил, около сорока лет, он был разбит параличом. Знаешь, что это такое?
– Знаю: у Маши дедушка разбит параличом. Он может только чуть-чуть шевелить пальцами руки и поворачивать голову. Не встает с постели даже в туалет, вообще не двигается. Он может говорить, но очень-очень плохо, как будто рот набит чем-то, его только свои, домашние, могут понять… Так жалко! Он ведь, мама, был ученый, много книг написал! Правда, был неверующим, Машину маму, свою дочь, в церковь не пускал. А теперь лежит и только на иконы смотрит…
– Да, я знаю, Наденька. Наш батюшка ездил Великим постом его соборовать…
Но одно дело, когда парализован старик, проживший долгую жизнь, и другое – когда это несчастье постигло еще молодого, полного сил мужчину, как случилось с Иваном Козловым. Мало того, что он потерял способность двигаться и оказался прикован к постели и креслу, – вдобавок он совершенно ослеп. Представляешь? Полная слепота, тьма; невозможно не только читать, писать, но и видеть свет Божий! Таким образом он провел еще двадцать лет – последние двадцать лет своей жизни. Заметь: не два месяца или два года, а двадцать лет. Полусидя, потом только лежа, не видя ничего перед собою. Такого человека можно было бы назвать «живым трупом»; кажется, и на окружающих он должен наводить только тоску и уныние. Вышло же наоборот. Он сам всех утешал и избавлял от тоски и уныния. Он начал писать стихи, стал поэтом, которого узнала вся Россия. Его поэзия не просто была исполнена глубокого чувства – она была проникнута глубокой верой и покорностью воле Божией. Он писал о себе, что «все радости земные Небесною надеждой заменил».
– Я даже не слышала о таком поэте. В школе нам про него не говорили.
– Зато одно его стихотворение ты очень хорошо знаешь, да и кто из русских его не знает?..
Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он…
Надя улыбнулась, услышав слова знакомой песни, а мама продолжала:
– Это стихотворение навеяно церковным благовестом. Дочитай его до конца (оно есть у нас в сборнике «Русские поэты»), и ты будешь удивлена: оно – о смерти; но с каким христианским смирением и кротостью принимается поэтом мысль о смерти, о конце земного существования! Недаром Жуковский незадолго до смерти Ивана Козлова писал о нем Вяземскому (они все были знакомы между собой): «Навести Козлова, он в ужасном положении: пальцы одеревенели, язык начинает неметь, слух давно ослабел. А душа – живет». Главное – чтобы душа жила. Я уверена, что и у того юноши, которого ты встретила в метро, душа живет и будет жить. Недаром тебя поразило доброе, мягкое выражение его лица. А то, что, быть может, было в нем дурного, греховного, все смягчится страданием. Душа его очистится страданием. И если он будет переносить свою скорбь без ропота, с терпением и смирением, Господь, конечно, наградит его в вечности. Как ты думаешь?..
– Значит, без скорбей невозможно спастись?
– Невозможно. Нам же сказано: «В мире скорбны будете». Только скорби, как говорит старец Макарий Оптинский, бывают вольные и невольные. Вольные скорби, то есть добровольные, – это подвижничество. Посты, бдения, продолжительные молитвы, добровольные лишения – как, например, исполнение монашеских обетов. Но редко встречаются люди, которые могут взять на себя вольные скорби: это путь избранников Божиих, путь совершенных. Остальных же, не имеющих подвигов Христа ради, Господь посещает и спасает скорбями невольными. Тут уж хочешь не хочешь – а неси крест.
Скажем, человек накопил денег, собрался ехать на море, за границу. Все его мысли – об отдыхе и развлечениях. О Боге и душе забыл… И вдруг – Божие посещение: или болезнь, или кража всего его состояния, или горе в семье. Он и опомнится. Так бывает.
А иной вроде и в Бога верует, в Церковь ходит; но сердце у него холодное, как каменистая почва, и все что-то не то. Дает себе слово молиться больше, бороться со страстями, жить по заповедям… Только начнет – и опять впадает в те же прегрешения. И опять – холодность, леность, уныние… Такой человек тоже нуждается в посещении Божием. Только нам хочется, чтобы Господь посещал нас утешениями: чудесами, видениями, исполнением наших желаний. А Он посещает скорбями. Это полезнее еще и потому, что от скорбей не возгордишься.
Святые отцы учат, что никуда от скорбей не денешься: убежишь от одной, а в другом месте, в другой ситуации ждет новая, часто более серьезная.
– Но ведь есть много людей, у которых нет никакой скорби. Они довольны и счастливы. Что, они не спасутся?
– Кто же это, например?
– Да очень, очень многие. Мне кажется, у нас в семье ни у кого нет скорбей!
– Ты думаешь? Значит, ты не слишком внимательна. О вас, детях, я не буду говорить. Вас пока Господь хранит с особой любовью, вы растете в лоне Православной Церкви, и у вас нет таких скорбей, которые бывают у взрослых. А все-таки вот, Сережа наш с раннего детства отличается слабым здоровьем, он то и дело простужается. Разве это не крест? Пусть его и не сравнить с крестом юноши, которого ты встретила. Друзья его едят на улице мороженое – а он нет: ему это всегда запрещено. Ребята носятся на морозе, играют в хоккей – а он, с завязанным горлом, смотрит на них в окошко… А моя скорбь – в том, что его надо возить на лето к морю, чтобы здоровье укрепилось на морском воздухе, а мы не можем себе этого позволить. Поверишь ли, мне снится, как мы сидим на морском берегу, Сережа выходит из воды – загорелый, крепкий. Я в детстве почти каждый год ездила с родителями на юг, а теперь, чтобы нам всем туда отправиться – я же не могу оставить вас на больную бабушку! – нужны огромные деньги. А наш папа! Разве ты не видишь, какой крест он несет? Этот крест – работа. Он, как ты знаешь, работает в двух местах, и выходной день у него только один – воскресенье. Приходит он поздно, уходит рано. Мы с ним мало видимся, он не может много времени уделять вам, своим детям, которых любит больше всего на свете. А почему? Потому что он наш кормилец. Вон нас сколько у него, и все живем на деньги, которые он зарабатывает и которых все равно не хватает. Сереже нужно покупать подростковый велосипед – значит, тебе придется подождать с новым пальто… И так мы с ним сидим и прикидываем: где можно сэкономить… Папа устает; у него часто даже нет сил почитать перед сном. Разве это не крест? А жил бы он один – ему было материально очень легко и хорошо. Но не было бы нас… Так что, Наденька, и у нас есть свои скорби. Есть они и у меня; есть и у тебя.
– Мама, ну, а богатые люди, предприниматели, бизнесмены, их семьи – у них-то точно нет скорбей! Они живут и наслаждаются жизнью.
– Во-первых, быть может, пока они, как ты говоришь, «наслаждаются жизнью», кого-то из них уже ждет несчастье. И в каком-то смысле это хорошо: от такого Божиего посещения проснется, оживет душа. Во-вторых, не думай, что богатые люди, о которых ты говоришь, так уж счастливы. У человека есть такая особенность: ему всегда мало, и он найдет повод завидовать ближнему. У того машина лучшей марки, у другого денег больше, у третьего – власти. И вот рождается зависть, мучительнейшая страсть, которая сосет и гложет душу, как червь. К тому же такие люди часто живут в страхе. Им приходится нанимать телохранителей, ставить бронированные двери, они то и дело слышат, что кого-то из знакомых застрелили в подъезде, или похитили ребенка… Они всех подозревают: им кажется, что их подслушивают, все время следят за ними. Такие люди не имеют покоя здесь и не получат его там, в мире загробном.
Наконец, скажу тебе еще одну вещь. Не всякий достоин такой скорби, которую мы называем посещением Божиим: иному это не поможет, не послужит ко спасению; человек только начнет роптать и хулить Бога в скорби. Поэтому они и остаются как бы без спасительных и очистительных скорбей. Вот это и есть самые-самые несчастные люди, хотя мир считает их людьми благополучными и даже счастливыми.
– Мамочка, если скорби имеют спасительное, очистительное значение, то для чего Господь посылает их хорошим людям – не просто хорошим, а праведникам, Своим угодникам? Вот, преподобный Серафим – он уже был пустынником, подвижником, великим молитвенником, и его избили крестьяне-грабители до полусмерти… Почему страдают праведники?
– Во-первых, для большего совершенства, для стяжания больших венцов в Царствии Небесном. Кроме того, Господь может скорбями испытывать праведников в добродетели терпения. Так было с библейским праведником Иовом. Иногда бывает, что человек и праведен, и почти свят – до первой серьезной скорби. А придет скорбь – и он возропщет, и вера его пошатнется. В несении скорбей открывается наше внутреннее устроение.
В скорби мы часто познаем свою немощь и смиряемся.
Во-вторых, праведников Господь может посещать скорбями и для вразумления других: чтобы показать немощным, как надо переносить страдания. Часто Господь наделяет таких людей духовными дарами: даром прозорливости, рассуждения, утешения. Верующие люди называют таких страдальцев блаженными.
– Скажи, мама: если болезнь надо понимать как посещение Божие, то лечиться – это грех?
– Святитель Иоанн Тобольский подробно разбирает этот вопрос. Нет, лечиться в болезни – это не грех. Как мы, православные, должны рассуждать в этом случае? По какой бы непосредственной причине ни началась болезнь, нет никакого сомнения, что на то была воля Божия. Однако же больному неизвестно намерение Божие о продолжительности его болезни, поэтому он может обращаться к врачам и лекарствам. Когда же, после длительного лечения, он увидит, что ничто не помогает, он может сделать вывод, что такова воля Божия – чтобы ему терпеть тяжелую и длительную болезнь. И все равно больной не знает, угодно ли Богу, чтобы он страдал до смерти, поэтому он может продолжать лечиться, чтобы вернуть себе здоровье или облегчить болезнь, то есть, в сущности, до последнего дня жизни. Это гораздо смиреннее, чем воображать себя способным понести мучительную болезнь без лечения. А бывают люди, которые ждут, что Господь исцелит их каким-либо чудом или знамением… Это показывает недостаток смирения в человеке.
Самое главное – помнить, что в любом случае исцеляет нас Господь, действуя через средства видимого мира, через лекарства и врачей; не возлагать своего упования целиком и полностью на медицину, ибо Господь может как вразумить и умудрить врача, лечащего нас, так и (если Ему не угодно возвратить нам здоровье) лишить любое самое лучшее лекарство целебной силы.
Но мне хотелось бы сказать тебе, в чем еще польза скорбей. В том, что они дают другим возможность проявить милосердие. А это великая христианская добродетель. Рассказывая сегодня о юноше-инвалиде, ты обмолвилась о его товарище, который катил кресло. Я думаю, что это тоже подвиг, дело любви. Так скорбь смягчает не только того, кто ее непосредственно испытывает, но и людей, окружающих страдальца.
– А я как раз хотела заметить, что если скорби так полезны и спасительны, то получается, что мы должны радоваться несчастьям ближнего и оставлять его нести свой крест…
– Надя, запомни: Господь благ и даже зло обращает во благо. Война, например, может привести к всенародному покаянию и вразумлению. Великая Отечественная война, которая началась в 1941 году, принесла нашему народу великие скорби и бедствия. Но, с другой стороны, она положила конец гонениям на Православную Церковь: стали открываться храмы, возвращаться священники и епископы из ссылок, перед боями и после них служились молебны. Русский народ возвратился к вере. У многих бойцов были с собой на фронте иконы… Здесь все очень непросто. Ты можешь спросить: «Значит, война – это добро?» Я отвечу: «Конечно, нет. Это зло. Но Господь и зло обращает в добро».
А сколько любви и милосердия открылось в русских людях во время войны! Как помогали они раненым и даже пленным немцам: на них у русских женщин тоже хватало жалости. Вообще, милосердие – это общехристианская добродетель, но особенно она свойственна женщине-христианке.
Ты знаешь житие праведной Иулиании Лазаревской?
– Эта та, которая голодных кормила?
– Она была очень благочестивая женщина, молитвенница и тайная подвижница. Милостыню она подавала тоже тайно от домашних: просила у свекрови себе порции еды побольше, ссылаясь на свое желание побольше покушать, и раздавала нищим. А в старости, уже будучи вдовой, она раздала все свое имущество нуждающимся, сама обнищала. Это было в царствование Бориса Годунова. На Руси наступил такой страшный голод, что люди питались падалью и даже человеческим мясом, то есть началось людоедство. И вот, уже сама почти нищая, старица Иулиания приказывала оставшимся возле нее слугам (другие давно разошлись, отпущенные на волю) собирать лебеду, сдирать с вязов кору и готовить из них хлеб. Этим хлебом она не только сама питалась вместе со своими домочадцами, но и питала нищих, которые во множестве приходили к ее дому (она тогда жила в селе Вочнево под Нижним Новгородом). И вот что удивительно. Хлеб из лебеды и коры должен был бы быть совсем несъедобным. Но по молитвам милостивой Иулиании он оказывался питательным и вкусным. Об этом говорили нищие, которым праведница подавала милостыню. Вот как велика пред Богом добродетель милосердия!
Впрочем, когда мы видим рядом чужую скорбь, желание помочь для нас естественно. Сначала нас охватывает острая жалость. Но если мы христианки, то жалость должна претвориться не в ропот на Бога, не в душевное смятение, которое охватило тебя сегодня. Христианка, столкнувшись со страданием ближнего, не будет рассуждать: зачем, да почему, да что было бы, если бы… Она первым делом мысленно помолится Богу – предаст и страдальца, и себя в волю Божию. А затем проявит милосердие: или подаст милостыню, или хотя бы ободрит несчастного словом, или поможет ему еще каким-то образом. Если же не сможет ничем помочь именно этому человеку, она обратит свое милосердие на других нуждающихся в помощи. Надо только делать это не из душевных чувствительных побуждений, а спокойно, рассудительно, как все, что делается ради Бога.
Иначе ты пойдешь на поводу у своих эмоций: кто-то из нищих тебе понравится больше, ты захочешь все отдать, а кто-то не понравится – копейки не подашь.
– Правда, мамочка, я иной раз не подаю нищим именно по этой причине. Даже из той мелочи, что папа каждую неделю дает мне специально для милостыни. Некоторые нищие вызывают во мне недоверие. Девочки из нашего класса говорят, что они на самом деле миллионеры, что у них своя «мафия» и что даже дети у них вроде наемных артистов, которые стали профессионалами-попрошайками…
– Ах, Надюша, это очень опасный путь. Не думай ты об этом, не слушай девочек! Пусть даже и так – пусть «мафия», «профессионалы»… Что тебе до того? Если творишь милостыню по заповеди Божией, то Господь и направит твою милостыню куда надо.
– А не получится, что я подам каким-то авантюристам и не смогу уже подать настоящим нищим?
– Знаешь, что наш батюшка говорит об этом? Тому, кто обращается к тебе лично, да еще просит «Христа ради», надо подавать милостыню обязательно, хоть копеечку. А в других случаях – как Господь вразумит. Всегда надо молиться, подавая милостыню (про себя, конечно), чтобы она была на пользу, а не во вред человеку. И стараться поменьше осуждать.
Но еще лучше помогать делом. Хорошее дело – ухаживать за больными. Тут уж не может быть никаких сомнений: эти люди действительно нуждаются в милосердии. Когда служишь больным, и сама смиряешься, успокаиваешься, укрепляешься в вере…
– А откуда ты знаешь? По уходу за нами, детьми, когда мы болеем?
– Ну, что ты! Уход за своими детьми не считается делом милосердия. Это почти то же, что ухаживать за собой. Но то, о чем я сказала, мне, и правда, довелось узнать по опыту.
Уже несколько воскресений подряд я часа на два ухожу из дому, оставляя вас с папой и бабушкой. Знаешь, куда я иду?
– Ты говорила, что надо помочь тете Марине…
– Я и в самом деле ей помогала: мы вместе ходили в больницу, чтобы помыть, покормить, убраться у лежачих больных. Это старики, которые уже не встают с постели. Дети не посещают их. И батюшка благословил нас с тетей Мариной и еще нескольких женщин ходить туда хотя бы раз в неделю. Я не хотела никому говорить об этом, и теперь только потому тебе сказала… Знаешь, почему?
– Почему?
– Потому что мне показалось сегодня, что пора и тебя взять с собой. Хочешь вместе с нами в ближайшее воскресенье пойти в больницу? Только учти, что там не очень-то весело. Там и взрослой женщине тяжело. Грязно. Плохо пахнет. Не знаю, сможешь ли ты?..
– Смогу, конечно! И мне очень хочется!
Мама втайне порадовалась Надиной горячности:
– Как девочка-христианка должна отвечать? «Не знаю. Надеюсь на помощь Божию».
Ну, хорошо, дочка. Иди молиться и спать. Мы и так долго проговорили.
Мама перекрестила Надю, которая сияла от радости.
Беседа 3
…«Королева Марго». – Безопасно ли для души чтение таких книг. – Девочка должна быть разборчива в чтении. – Некоторые книги засоряют память вредными впечатлениями. – Что может читать девочка-христианка. – Надя мечтает о «настоящей подруге». – Как она понимает дружбу. – Ее подруги Катя и Юля. – Почему произошел разрыв с Юлей. – Дружба в христианском понимании. – Отчего бывает ревность. – «Всех люби и всех бегай». – Пристрастие и любопытство губят дружбу. – Дружба между мальчиком и девочкой чревата искушениями. – «Я и сама на него поглядываю». – Мама предостерегает Надежду.
За ужином Надя была рассеянна и не заметила, что папа уже второй раз обращается к ней:
– Надежда, ты меня слышишь?
– Что, папочка? – встрепенулась Надя.
– Я спрашиваю, с какого числа у вас каникулы.
– Кажется, с двадцать пятого декабря, – и девочка опять погрузилась в свои думы.
– В прошлом году, по-моему, было как-то по-другому, не помнишь?
– A-а, – невпопад протянула Надя.
Папа вопросительно взглянул на маму; та отвечала недоуменным взором…
После ужина Надя торопливо помыла посуду, вытерла со стола, потом привычной рукой, почти машинально, протерла раковину, убрала в ящик приборы и бросилась в бабушкину комнату. Там на письменном столе, за которым она обычно готовила уроки, горела лампа и лежала открытая книга. Усевшись за стол и перевернув страницу, Надя забыла обо всем на свете. Приключения героини захватили ее настолько, что она не заметила, как заходила и выходила бабушка (после этого на столе перед Надей оказалось яблоко, которое она, не отрываясь от книги, начала есть), как прошел час, и еще час… Красавицы в платьях с кринолинами, королевский двор, интриги, балы, галантные кавалеры, тайные свидания, пылкие объяснения в любви – из этого чарующего мира ее извлек голос мамы:
– Что ты читаешь?
Хочешь не хочешь, пришлось оторваться. Мама присела на диван. Надя отодвинула книгу и обратила к ней какой-то затуманенный взгляд.
– Уроки я на завтра все сделала. Музыкой еще днем позанималась. Со стола убрала…
– Я знаю, ты у меня умница, – улыбнулась мама. – А все же: что это за книга?
– Александр Дюма. «Королева Марго».
Мама удивилась. Она надеялась, что для ее дочери время увлечения такими романами благополучно миновало. И вдруг – «Королева Марго».
– Откуда она у тебя?
– В классе все девочки по очереди ее читают. Вот и мне дали.
– Ну, и как? Тебе нравится?
– Знаешь, мамочка, я, честно говоря, понимаю, что эта книга совершенно пустая. Но она так захватывает! Знаешь, хочется отдохнуть, отвлечься от всего серьезного… Мам, ну что ты молчишь? Разве оттого, что я христианка, мне надо одни жития читать?.. Мама! Ты что, сердишься на меня?
– Нет, не сержусь. Хотя меня огорчает, что ты взялась за чтение такой толстой книги, к тому же считая ее пустой, без благословения батюшки и даже не посоветовавшись со мной. Я, конечно, не буду запрещать тебе читать ее, раз ты уже начала. Я могу только посоветовать: остановись, не читай дальше. Это нелегко, но победа, которую ты одержишь над собой, очень важна для твоей последующей жизни.
– Но почему, мама? Я ведь знаю: есть неприличные, грязные журналы и книги, их я никогда не стала бы читать. Но «Королева Марго» – это просто приключенческий роман, из старинной жизни. Все девочки его читали, все в восторге… Красивые сцены, романтические чувства… Мама, ну почему ты молчишь? Неужели ты считаешь это чем-то серьезным? Я прочитаю книгу – и забуду. И все будет как раньше.
– Увы, Наденька, ты не забудешь. И ты уже не будешь прежней. От таких книг, как эта, в душе остается нехороший след. Ты и захочешь забыть, а в памяти будут всплывать образы – не святые, чистые, духовные, а образы распутных великосветских дам; будут вспоминаться сцены и речи героев… Неужели ты думаешь, что впечатления проходят по твоей душе, не оставляя следа? Они потому и называются – в-печат-ле-ния, что оставляют глубокий отпечаток. Они загрязняют сердце – и человек уже не может чисто молиться. Ну, почему, почему ты не посоветовалась со мной и сразу принялась за чтение! Ты сегодня сама не своя, ты как будто переселилась от нас в иллюзорный, вымышленный мир…
– Мама, ну, не огорчайся ты! Это же всего лишь книга… Неужели из-за какой-то «Королевы Марго» мы будем ссориться?! Ну, хочешь, я завтра же верну ее девочкам – и все?..
– Мне хотелось бы объяснить тебе кое-что. Прочитать, как в детстве, небольшую лекцию. Прости, если что-то в ней покажется тебе давно известными, «прописными» истинами. Послушай меня внимательно.
Ты упомянула сейчас жития святых. Конечно, это лучшее чтение для девочки твоего возраста. Из светской литературы достаточно было бы пока того, что входит в школьную программу. Чуть позже ты начнешь уже читать святоотеческую литературу – поучения святых отцов. Это серьезное чтение. А тебе, как ты говоришь, хочется и отдохнуть. Ну, что ж! Это не только простительное, но и вполне законное желание. Можно читать и светскую литературу – такие произведения, которые пусть не возводят нашу мысль к миру духовному, но хотя бы пробуждают в нас хорошие, добрые чувства и мысли. Помнишь, как Пушкин писал:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…
А «Королева Марго»? Подумай хотя бы о том, как изображены в этой книге семейные отношения: между матерью и сыновьями, мужьями и женами? Я сама прочитала этот роман в юности и очень жалею: никакой пользы он не принес моей душе, зато загрязнил память образами, от которых я долго не могла отделаться. Такие книги, как эта, незаметно, ненавязчиво учат лжи, коварству, распутству, они губительно действуют на целомудрие девочки. Ты и сама, если будешь внимательна и честна с собою, заметишь это. Когда ты читаешь, то тебе очень скоро становится ясно, хочется ли тебе и самой сделаться лучше, добрее, умнее или, наоборот, у тебя от книги появляются нехорошие чувства и такие желания, о которых ты не хотела бы говорить со мною.
Святые отцы называют человеческие чувства «окнами души»: через эти окна (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) окружающий мир проникает в нашу душу своими впечатлениями, и не только полезными, но и вредными. А зрение – это самое главное, самое широкое окно.
Увидишь что-нибудь – и вредное впечатление крепко врезается в память и, если бы ты потом захотела забыть о нем, это было бы уже для тебя нелегко.
Наша память – это удивительная галерея. Все, что мы видим, слышим, думаем, – складывается в разные картинки и помещается в этой галерее. Если наполнять ее глупыми и дурными картинками, то потом придется всю жизнь провести среди них; а от этого, конечно, не станешь ни умнее, ни лучше. Иной раз захочется человеку вспомнить, что он видел, думал и делал хорошего в своей жизни, начнет он пересматривать свою галерею, а хорошего там, оказывается, очень мало, все больше такие картинки, на которые и смотреть стыдно. Дурные воспоминания человека принижают. Они не дают ему возрастать духовно. А потом его характер, его привычки, его представления передаются детям, и им будет гораздо труднее стать хорошими людьми. Не следует забывать, что не только наша будущая загробная участь, но и жизнь будущих поколений зависит от того, как мы ведем себя, что видим и слышим, что читаем, о чем думаем…
К книге надо относиться, как к собеседнику. Если бы тебе предложили выбрать, с кем ты хочешь разговаривать: с каким-нибудь старцем-подвижником, или с великим писателем, или с человеком, который курит, пьет, разъезжает по ресторанам, играет в карты и изменяет своей законной жене, – вероятно, ты не стала бы колебаться ни минуты. Но великих людей немного, святых еще меньше, с ними редко удается поговорить; а между тем книги дают нам возможность выбирать себе друзей среди самых лучших людей в мире.
Часто говорят с похвалой: «Она так много читает!» Но важно, не сколько, a что читает человек. Есть много мальчиков и девочек, которые читали очень много, но не были особенно разборчивы в выборе своих друзей среди книг. Они читали рассказы о ворах, сыщиках, грабежах, убийствах, о легкомысленных и распутных людях и таким образом засоряли себе память всяким вздором, которого совсем и не стоило бы помнить и даже знать. Читай лучше хорошие рассказы, повести, которые есть у нас дома. Пожалуйста, читай романы Диккенса – они и интересны, и поучительны. Читай «Повести Белкина» Пушкина. Читай рассказы Тургенева из «Записок охотника». Читай Гоголя, Чехова. Только не забывай советоваться со мной или папой. Еще хорошо читать научно-популярные книги, где говорится, как люди живут в разных странах, как они раньше жили, какие у них были нравы и обычаи, и как вообще устроен мир. Как живут разные животные. Как устроена вселенная… В книгах есть очень много такого, что всякому человеку необходимо знать, а жизнь его не так уж длинна, и потому не стоит тратить время на чтение разного вздора. Тем более тебе, у которой столько полезных и необходимых занятий…
Наденька, теперь ты что-то приумолкла и загрустила… Что с тобой?
– Такие книги, как «Королева Марго», увлекают в ложный мир – это ты, конечно, правильно сказала. И еще ты хорошо сказала, что книги – это друзья, собеседники. Они помогают тебе забыть одиночество. Потому я и ухватилась за эту книгу.
– Одиночество? У тебя? – мама была просто поражена. Ее Надя, светлая, открытая девочка, всегда окруженная людьми, чувствует себя одинокой?!
– Да.
– Постой. А Катя? А девочки на клиросе? А Юля? А наша семья? Я, наконец? Неужели рядом с нами тебе одиноко?
– Мамочка, это все немного не то. Ты мне ближе и дороже всех, но ты взрослая. Я хочу иметь подругу – такую, которая была бы моим вторым «я»: чтобы мы все-все доверяли друг другу, разделяли все радости и печали друг друга. Мне не нужно много друзей, мне нужна одна-единственная подруга, но такая, чтобы у нас все-все было общее, не было тайн друг от друга…
В детстве я Катю считала такой подругой. Но сегодня от той детской дружбы почти ничего не осталось. У нас мало общего. Нам даже скучно вместе. Нет, у нас прекрасные отношения, но – как бы объяснить? – неглубокие, поверхностные.
– А Юля? Последний месяц ты только о ней и говорила. Вы несколько раз в день перезванивались по телефону. А теперь что-то о ней не слышно…
– Юля? Нет. С Юлей тоже дружба – настоящая дружба – не сложилась. Она мне сначала очень нравилась: такая умная, серьезная, даже пишет стихи, и она тоже православная, в храм ходит, у нее постоянный духовник есть… Но она… Нет, я даже не хочу о ней говорить.
– Юля сделала что-то дурное?
– Измена в дружбе – как ты считаешь, это дурно?
– Неужели так серьезно? – маме хотелось пошутить и шуткой снять напряжение. Но она видела, что сейчас шутка может больно задеть девочку. Мама вспомнила, что последнюю неделю Надя была задумчива и печальна. Вот в чем дело!.. Не с этим ли разочарованием в подруге связан и интерес к «Королеве Марго» – желание забыться, утешиться?.. Она осторожно спросила:
– Юля выдала другим какую-нибудь твою тайну, которую ты ей доверила? Или осудила тебя за глаза? Оклеветала тебя?..
Надя молчала. И мама задала еще один вопрос:
– Скажи, это случилось на прошлой неделе?
– Да. В пятницу. Юля ходит в какую-то «Школу искусств» – в кружок поэтического творчества. Там же занимается Наташа из параллельного класса. И всю прошлую неделю они с Наташей готовились к вечеру поэзии, смотрели свои тетради со стихами, обсуждали размеры и рифмы – я ничего этого не понимаю. Они каждую перемену так и бросались друг другу навстречу. А в четверг и домой поехали вместе, хотя Юля прекрасно видела, что я ее жду. И вот, в пятницу – то же самое. Я подошла к ним (а они уже шли по коридору с Наташей) и прямо спрашиваю: «Юля, ты со мной будешь дружить или с Наташей?»… Что? Глупо, да?..
– И что Юля?
– Ничего. Просто пожала плечами и промолчала. Наташа, видно, поняла, что я обиделась, и говорит: «Я, наверное, пойду?..» Но Юля ее не отпустила. Они так вместе и ушли. Вечером в пятницу Юля мне позвонила, но я не стала говорить – повесила трубку. В школе мы с того дня не подходили друг к другу. Я, честно говоря, ждала ее нового звонка, готовила разные умные фразы, но все зря: она больше не звонит… Что ты скажешь на это, мама?
– Грустная история. Но если ты интересуешься моим мнением, позволь сказать тебе честно и откровенно: ты сама виновата. Если ваша дружба на этом закончится, тебе придется винить только одну себя.
– Почему?
– Потому что ты, очевидно, не очень хорошо представляешь себе, что такое дружба, в христианском значении этого слова.
Дружба – это великое утешение, данное нам Богом в скорбной земной жизни. Это, несомненно, дар Божий. Поэтому тот, кто не имеет друга, может молиться Богу: «Господи, пошли мне настоящую подругу!» А кто имеет, должен благодарить Бога за этот дар. Ты, конечно, права в том, что вас с Катей не назовешь настоящими подругами. И не потому, что вам порой скучно вместе.
Просто у вас нет настоящего единомыслия, единодушия. Катя – в общем добрая девочка, но вопросы духовной жизни ей безразличны, а для тебя они важны. Вот и получается, что вы смотрите как бы в разные стороны и идете разными путями.
Юля – другое дело. У вас могла бы сложиться настоящая дружба, дружба двух девочек-христианок. Но, очевидно, в ваших отношениях не было того, что обязательно сопутствует такой дружбе: простоты, чуткости и взаимного доверия. Тебе было досадно, что Юля проводит много времени с Наташей, но вместо того чтобы сразу, с первой минуты, признаться ей в этом и выяснить ваши отношения, ты дала возможность развиться ревности – ужасной страсти, сродни зависти. И когда эта страсть развилась со всей силой, произошел разрыв, потому что ты поставила подругу перед трудным выбором.
В истинной дружбе такого быть не может, потому что она жертвенна. В Евангелии сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Такая жертвенная любовь – вершина дружбы, но ты не пошла к этой вершине. Зная, как важны для подруги ее поэтические занятия, как она готовится к вечеру поэзии, ты, вместо того чтобы на время стушеваться, отойти в тень, радоваться ее радости, – ты, вместо этого, поставила ее перед выбором: «Или я – или Наташа». А в сущности: «Или дружба со мной – или твои занятия поэзией». Сама того не желая и не понимая, ты оказалась жестока к подруге.
Дружба только тогда бывает крепкой и долговечной, когда друзья или подруги проявляют чуткость и деликатность по отношению друг к другу.
Стоит одному проявить в чем-то настойчивость, требуя соблюдения своих интересов, тут и дружбе конец. А ты проявила не просто настойчивость – ты оказалась навязчивой, вела себя так, будто Юля – твоя собственность, и у нее не может быть ни своих интересов, ни друзей, помимо тебя.
Знаешь, отчего бывает эта ревность в дружбе? От чрезмерной чувственной привязанности.
– Что значит «чувственной»?
– Основанной на эмоциях и на утверждении своего «я». Христианская дружба имеет духовную основу, а в своих внешних проявлениях она – не удивляйся, пожалуйста, – более холодна, чем тебе кажется. Мне когда-то батюшка привел слова святителя Тихона Задонского: «Всех люби и всех бегай». Я спрашивала его примерно о том же: какими должны быть у христиан отношения с друзьями. Вот он и ответил святоотеческой цитатой: «Всех люби и всех бегай».
– «Всех люби» – понятно. А что значит «всех бегай»?
– Это значит… ну, выражаясь по-мирски, сохранять определенную дистанцию в отношениях с людьми. Не выбалтывать никому, даже близкому другу, самое сокровенное. Никаких «тайн», раскрытие которых ты считаешь важным признаком дружбы. Оставлять их для батюшки, своего духовника. А некоторые темы, особенно связанные со здоровьем и гигиеной, обсуждать только с мамой. Мне не нравится, когда девочки-подруги слишком откровенничают между собою. У каждой должно быть достаточно уважения к самой себе, чтобы хранить некоторые свои секреты про себя, говорить о них только с своею матерью.
Я знала девочек, которым и в голову не приходило, что не следует, например, говорить о некоторых своих семейных делах, и они болтали своим подругам решительно обо всем, что делается у них дома. Как и у всякого человека, точно также и во всякой семье могут быть свои частные дела, о которых посторонним людям знать не надо. А если девочки-подружки болтают обо всем без разбору, они очень легко могут поставить своих родных в смешное и неприятное положение.
С Катей вы грешили пустой болтовней, обсуждением учителей, случаев на уроках и так далее… Сколько раз мне хотелось нажать на рычаг телефона и положить конец этим пустым разговорам, особенно когда вы начинали гадать, кто у вас в классе в кого «влюблен»!
Но, честно говоря, и ваши разговоры с Юлей мне не нравились: вы рассказывали друг другу сны (разве ты не знаешь, что нельзя этого делать?), вы торопились открыть друг другу все свои мысли и чувства, сообщить какие-то самые незначительные ощущения, умничали одна перед другой… Вы будто спешили до конца открыться друг другу, будто старались вывернуть душу наизнанку. Потому ваша горячая дружба так легко и дала трещину.
Только христианин, член Церкви, может понять, как соединяются эти понятия: «Всех люби» и «всех бегай». Дело в том, что христианская любовь лишена пристрастия; она не присваивает друга себе – она предает его в волю Божию. И девочка-христианка о своей подруге должна помышлять приблизительно так: «Господи, благодарю Тебя за этот дар, дружбу. Моя подруга не мне принадлежит, она Твое создание, и я верую, что Ты наилучшим для нас путем ведешь каждую из нас ко спасению. Помоги мне избавиться от пристрастия к ней, от ревности к другим ее подругам и занятиям…»
Часто дружбу губит любопытство, проявляемое одной из подруг. Никогда не следует этого допускать. Даже если тебе очень интересно знать что-либо, лучше подождать, пока подруга сама тебе расскажет. А не расскажет – смириться и успокоиться…
Знаешь, из твоих подруг мне больше всех нравится Маша. И Маша, и ваши с ней отношения. Пожалуй, они ближе всего к христианскому представлению о дружбе.
– Но нас с Машей трудно назвать близкими подругами…
– Только потому, что вы не говорите по полчаса по телефону? Не лезете друг другу в душу? Не ревнуете друг друга и не ссоритесь? Так это все признаки чувственной, пристрастной дружбы. Зато вы единомысленные христианки, окончили одну воскресную школу. Вы вместе служите Богу – поете на клиросе. Вы мало говорите, зато понимаете друг друга с полуслова. Вас объединяет общая молитва. Наконец, вы духовные сестры: у вас один духовный отец. И я не сомневаюсь, что в трудную минуту, когда тебе понадобится помощь, словом и делом, с тобой рядом будет именно Маша.
– Мама… А что ты думаешь о дружбе девочки с мальчиком? Некоторые считают, что она крепче, надежнее, чем дружба девочек. Мальчик-друг никогда не предаст, не выдаст твоих тайн, защитит тебя…
– Может быть, и есть такие случаи, но я их не знаю. Зато знаю очень много случаев, когда отношения между юношей и девушкой (потому что мы ведь говорим с тобой не о маленьких детях, правда?) начинались как дружба, чистая и благородная, а потом перерастали в любовь, которая, как ты знаешь, связана со многими искушениями.
– Ну и пусть искушается, если не может иначе! Мне-то что!..
Мама удивленно посмотрела на Надю, и та покраснела.
– Ты о чем, Наденька?
– Да я о Саше из десятого класса. Это он мне иногда звонит. Мне кажется, мы могли бы быть хорошими друзьями. Мы недавно работали во дворе, снег убирали. Так он пришел, хотя его класс не должен был участвовать в уборке, и убрал за меня весь мой участок! И потом я замечаю, как он на переменах стоит где-нибудь у окна, руки в карманах, и на меня смотрит. Девочки говорят, что я ему нравлюсь.
– Ну, а ты что?
– Ничего. Смеюсь с девочками. Пусть смотрит, мне не жалко. Я и сама на него поглядываю: смотрит еще или уже отвернулся? Однажды мы шли с Катей под руку по коридору; мимо него прошли, и тут я резко оглянулась. Мы встретились глазами, и мне как-то не по себе стало… А когда он снег за меня убрал – все девочки мне завидовали… Мамочка, что ты встревожилась? Мне-то он совсем не нравится, мне он безразличен. Я просто думаю, нельзя ли из него сделать друга…
– Не думаю, что это возможно. Но меня беспокоит другое: не знаю, правильно ли ты себя ведешь? Мне кажется, тебе немного льстит внимание десятиклассника и ты чуть-чуть рисуешься, когда он смотрит на тебя. Обмениваешься с ним взглядами, принимаешь его услуги…
Надя растерялась.
– Я беспокоюсь из-за того, – продолжала мама, – что твое настроение кажется мне легкомысленным. Ты хоть батюшке на исповеди говорила об этих взглядах?.. Девочка должна соблюдать величайшую сдержанность и осторожность, заметив, что она нравится мальчику, юноше. Ты же не хочешь оставить в его сердце кровоточащую рану? Это большой грех.
Опасайся больше всего, чтобы твое поведение не было соблазнительным. Не забывай слова Евангелия о тех, через кого соблазны приходят в мир!.. Что ты, какие взгляды! Неужели ты не понимаешь, что Саша может понять их как знак ответного интереса к нему? И что потом?..
– Мама, но неужели эти искушения неизбежны?
– Увы, неизбежны, если речь идет не о святых, а об обычных людях. Дело в том, что между юношами и девушками существует как бы естественное взаимное влечение – влечение, вызванное только одним тем, что они принадлежат к разным полам. Такое влечение должно закончиться законным браком, то есть венчанием в церкви, супружеской любовью и рождением детей. Но пока девушка и юноша не достигли брачной зрелости, им еще рано думать о браке. Поэтому, если они хотят сохранить целомудрие – не только телесную, но и душевную чистоту, – им лучше держаться на безопасном расстоянии друг от друга, не общаться слишком часто, долго, тесно.
Недаром в старину даже жениха и невесту, когда вопрос о браке был уже решен, берегли от короткого общения между собой, не позволяли им видеться наедине. Сейчас, конечно, другие времена; девушки и юноши из нецерковной среды ведут себя очень вольно, лишаются целомудрия и становятся рабами плотской похоти, подобно животным.
Я, конечно, не о тебе говорю. Я уверена, что когда ты вырастешь и захочешь вступить в законный брак, то твой избранник, твой будущий супруг будет христианином, как и ты, членом Православной Церкви. Иначе у вас не будет единодушия, единомыслия. Ведь именно это – а не только совместное проживание, общее хозяйство, плотские отношения, – является основой семейного счастья.
Мама посмотрела на часы и ахнула: – Ну и заговорились мы с тобой! Пришлось бабушке за нас с тобой детей умывать и укладывать!..
Беседа 4
…Трудная тема сочинения. – Перед каким выбором стоит каждый человек. – Путь тесный и пространный. – Выбор профессии врача. – Что значит «исцеление». – «Женщина не может быть хорошим специалистом». – Надя жалеет, что не родилась мужчиной. – Все великие люди рождены и воспитаны женщинами. – Значение женщины в семье. – Почему говорят, что «все зло на земле – от женщин». – От них происходит и зло, и добро. – Зачем женщине образование. – Творческие способности мужчины и женщины. – Высшее творчество человека – работа над собой. – Как христианка борется со страстями. – Для женщины открыт путь апостольского служения. – Путь спасения и путь совершенства. – Решение пожить в монастыре. – Какой путь выберет Надежда?..
Миновала холодная зима. Солнышко уже пригревало землю, напоминая о том, что скоро все вновь зазеленеет, оживет… Для Нади этот год был очень важным. Во-первых, она заканчивала седьмой, выпускной класс музыкальной школы и много занималась, готовясь к экзамену по специальности. Во-вторых, в общеобразовательной школе она заканчивала восьмой класс, и скоро ей предстояло решить: оставаться ли в средней школе или готовиться к поступлению в медицинское училище. С осени прошлого года она вместе с мамой ходила в больницу, ухаживала за больными (правда, мама брала ее с собой не каждое воскресенье, а два-три раза в месяц), и ей казалось, что она нашла дело, с которым могла бы впоследствии связать жизнь. Она хотела окончить училище, поработать медицинской сестрой, потом поступить в институт и стать детским доктором… Родители в общем одобряли ее решение, но батюшка, когда к нему обратились за советом, выразил сомнение: «Нужно ли ей именно это? Ее ли это путь?..» – и предложил еще подумать и помолиться. Надя и сама ни в чем не была уверена, выбор ее не был окончательным; она пребывала в раздумье. Поэтому, когда на дом задали сочинение на тему «Выбор жизненного пути», девочка, обычно легко и с удовольствием писавшая сочинения, оказалась в положении довольно затруднительном. И решила посоветоваться с мамой.
– Мама, – сказала она, выходя на кухню, – нам трудную тему дали для сочинения. Не представляю, что писать. Тема – «Выбор жизненного пути».
– Разве это трудная тема? – удивилась мама.
– Но ты же знаешь, что я еще ничего не выбрала. Я все думаю, думаю…
– Вот сочинение и поможет тебе обдумать все варианты, сформулировать свои мысли… Впрочем, ведь сочинение – это не исповедь, и тебе вовсе не обязательно сообщать учительнице свои планы и открывать помыслы. Сочинение – это всего лишь упражнение в словесности. К тому же смотри, как формулируется тема: по-моему, очень корректно. Не сказано: « Мой выбор…» или: « моего жизненного пути». А просто, в общем: «Выбор жизненного пути». Замечательно! И очень интересно.
– Да? – с сомнением произнесла девочка. – И что же тут можно написать?
– Открываются богатейшие возможности для интересного рассуждения, – мама говорила, продолжая чистить картошку и жестом пригласив Надю присоединиться к ней. – Во-первых, само слово «выбор» наводит на размышления. Я бы написала о том, что человек каждую минуту своей жизни стоит перед выбором, только это не выбор профессии, а выбор между добром и злом, добродетелью и грехом… Я бы вообще писала не о профессии, а о жизни… «Жизненный путь» – это очень по-разному можно понять. Ведь тема – «свободная»?
– Да.
– Ну, вот. Я бы сказала, что человек выбирает и выбирает – на протяжении всего жизненного пути. А почему? А потому, что он наделен свободой воли, в отличие от всех других творений Божиих… Потом я бы сказала о главном выборе пути… Собственно, возможных путей только два. Знаешь, какие?
Надя затруднилась в ответе. Мама сама ответила на свой вопрос:
– Есть путь узкий, тесный. И есть путь пространный.
– А! – обрадовалась Надя, вспомнив евангельский образ. Ей очень нравился ход маминой мысли. Она старалась ничего не пропустить.
– Тесный путь называется так потому, что идти по нему неудобно, нелегко. Это жизнь по заповедям Божиим. В Евангелии сказано, что такой путь ведет в жизнь вечную, в Царствие Небесное. Все христиане, желающие спасения, идут тесным, узким путем. Одни встают на него сами: это подвижники, избравшие воздержание во всем, добровольную нищету, смирение пред Богом и людьми, самоотверженное служение ближним.
Почему такая подвижническая жизнь трудна? Потому что наполнена постоянным самопринуждением. Ты сама знаешь, что даже к делам любви и помощи своим близким людям – к мытью посуды, уборке, готовке пищи и так далее – надо себя принуждать. Даже к тому, чтобы подавать милостыню нищим, надо себя принуждать. А выстаивать длинные богослужения? А вставать пораньше и молиться? Все это требует само принуждения.
Этот путь человек выбирает произвольно, свободно и сознательно. Ну, а тех, кто не имеет решимости выбрать его, Господь спасает… помнишь, как?
– Помню. Невольными скорбями. Посещениями Своими: болезнями, лишениями, бедствиями.
– Таким образом, – подытожила мама, – такие люди тоже оказываются на спасительном пути. Однако и у них остается свобода выбора. Они могут озлобиться, возроптать на Бога в скорби, дать волю страстям зависти, гнева… А могут, наоборот, при наступлении скорбей сказать: «Не забыл, посетил меня Господь. Кого Бог любит, того и наказывает. Слава Богу за все!»
Вот тебе и «выбор жизненного пути».
– Ты считаешь, что все это можно написать в сочинении?
– А почему бы и нет? Только надо писать просто и ясно, без богословских терминов, с конкретными примерами…
– Мамочка, ты разве не знаешь нашу учительницу? Она может придраться к тому, что «тема не раскрыта». По сути дела она будет, конечно, не права. Но ей же не объяснишь, не докажешь. Хотя в формулировке темы нет ни слова о профессии, о социальном положении, о семье, но речь должна идти именно об этом: учительница так сказала.
– Ну, что ж! Ты можешь написать о профессии врача.
– Это скучно…
– Совсем нет, если ты не захочешь отделаться общими фразами о «людях в белых халатах», а заглянешь поглубже. Например, разберешь понятие «исцеление». Что значит: исцелить от болезни? Само слово подскажет: сделать целым. Телесные болезни, как тебе известно, чаще всего бывают следствием грехов. Душа уязвлена грехами, тело – болезнями, да и между телом и душой нет единства и согласия. И исцеление означает не только избавление от болезней тела, но и от душевных немощей. Помнишь, в Евангелии Господь, исцеляя болящих, велел им больше не грешить? Потому, что грех и болезнь взаимосвязаны. И врач-христианин должен это понимать. Он должен прежде всего знать, что исцеляет только Господь, и, применяя средства медицинской науки, обращаться к Нему с молитвой об исцелении больного. Он обязательно посоветует своему пациенту пойти на исповедь и причаститься Святых Христовых Таин. И поверь, часто этого бывает достаточно для того, чтобы болезнь отступила.
Кроме того, говоря о профессии врача, ты можешь написать о милосердии как христианской добродетели. Можешь вспомнить святых, которые не гнушались своими руками омывать и перевязывать гниющие раны заразных больных… Можешь вспомнить святителя Луку Войно-Ясенецкого, известного профессора-хирурга, который был при этом подвижником благочестия и исповедником…
– Мамочка, опять получится сочинение для воскресной школы, а не для обычной! Меня просто не поймут!
– Так что же делать? – мама немного растерялась.
– Сама не знаю. Главное – мне не хочется ни о чем рассуждать, мечтать о каком-то служении людям, о подвигах милосердия, о нужной профессии. Знаешь, о чем я думаю последнее время? О том, что женщина вообще ни в какой области науки и общественной деятельности не может быть хорошим специалистом. Она не способна ни на что серьезное. Она обречена на один-единственный путь, и другого у нее нет. Это домашнее хозяйство, вечная кухня, детские болезни, материальные проблемы. Между прочим, Катя смотрит на это очень трезво. Она считает, что выбор жизненного пути для нее уже произошел – тогда, когда она родилась девочкой. Она и в сочинении хочет написать честно, что по окончании школы постарается выгодно выйти замуж – за богатого иностранца или за «нового русского», чтобы стать светской дамой, хозяйкой дома и иметь прислугу… Она, конечно, надеется родить детей и даже уже придумала им имена… Она считает, что другого пути у женщины нет, если только она хочет остаться честной женщиной. Вот и все. И мне кажется, она во многом права.
Знаешь, мама, мне иногда обидно, что я родилась женщиной, а не мужчиной. Нет, правда! Может быть, моя слова покажутся тебе глупыми и смешными, но посмотри, сколько всего сделано мужчинами: среди них есть и великие подвижники, и великие ученые, и инженеры, и строители, и великие писатели и поэты, и великие композиторы… Сама посуди, много ли на свете гениальных женщин? Если оглянуться вокруг себя, то увидишь, что огромные здания, храмы, башни, памятники, мосты построены мужчинами. Все географические открытия сделаны мужчинами… И вообще… Даже перечислить невозможно тех великих дел, которые они совершили… Что ты улыбаешься? Это кажется тебе глупым?
– Нет. Наоборот, мне кажется, что почти все девочки проходят через это – желание быть мужчиной, а не женщиной. Я хочу тебе ответить. Начну с того, что недовольство тем состоянием, в котором ты рожден, – это грех, как всякий ропот, и в нем надо покаяться.
И правда, у мужчин обширное поле деятельности, но все же их деятельность не выше, чем труд женщин. Ты восхищаешься огромными зданиями, башнями, мостами – все это построили мужчины. Они же плавают по морям, управляют народами, открывают законы природы. Пишут книги и прекрасную музыку. Ты спросишь, какие дела могут быть выше этого? Я тебе отвечу, что выше всех этих дел сами люди, которые их совершают. А кто же сделал этих людей такими великими? Очень много сделало для них воспитание, которое дали им матери.
Кажется, не очень великое дело совершается в детской, где начинает подрастать дитя; а между тем здесь начинается его подготовка ко всему великому или малому, дурному или хорошему, что оно в жизни совершит.
По всей земле, в каждом доме, и днем и ночью женщины заботятся о мальчиках и девочках, воспитывают их, стараются сделать из них хороших людей. Может ли быть какое-нибудь дело выше этого?
Быть может, мать и не думает о том, что она делает великое дело: она ведь так занята своими хлопотами! Быть может, они утомляют ее, и она не придает им большого значения. Она, быть может, думает, что деятельность ее мужа гораздо важнее: он каждый день уходит из дому, встречается с другими людьми, каждый день приобретает новые знания и новый опыт; а она все моет ту же посуду, оправляет те же постели, стирает белье, умывает те же самые детские личики, ручки и ножки, и все это изо дня в день, месяц за месяцем – так скучно, однообразно!
Но это только кажется. Для матери, особенно в большой семье, все дни разные, ни один не похож на другой…
Кроме того, у женщины в домашней жизни есть еще одно большое дело – украсить жизнь своей семьи, сделать ее радостной и счастливой. Если отец и мать с утра уходят на работу и возвращаются только к вечеру, оба усталые, грустной будет жизнь в такой семье. Но у хозяйки дома, как бы она ни была занята обычными хлопотами, всегда найдется минутка подумать и о домашних утешениях. Выбрав удобное время, она или организует интересную прогулку, или пригласит гостей, или испечет вкусный пирог, или еще что-нибудь придумает.
Приветливый и добрый характер хозяйки дома – вот его лучшее украшение. Ласковое слово, добрая улыбка, сердечное участие, искренняя отзывчивость могут обратить самое бедное жилье в такой приятный уголок, где всякий будет чувствовать себя счастливым… Очень, очень многое, Наденька, зависит от женщины-жены, матери, хозяйки дома!..
– Мама, а некоторые считают, что от женщин происходит много зла. Я слышала, как один старик-прихожанин говорил кому-то: «Все зло на земле – от женщин».
– Когда так говорят верующие люди, они, очевидно, хотят сказать, что грехопадение Адама произошло через Еву: она предложила ему вкусить запретного плода со древа познания добра и зла. Соблазнившись, поддавшись диавольскому искушению, Ева соблазнила и своего мужа, в результате чего в мир пришли грех и его следствие – смерть. Часто и теперь бывает, что женщина своим соблазнительным, нехорошим поведением искушает мужчину, как бы без слов предлагая ему совершить грех. И это бывает даже в подростковой среде.
Например, мальчик никогда не позволит себе развязного, вольного обращения с девочкой серьезной и целомудренной. Ты, конечно, заметила, что при некоторых девочках ребята не ругаются нецензурными словами, не рассказывают грязных анекдотов и разных неприличных историй. Это происходит потому, что рядом с по-настоящему целомудренной, чистой девочкой всегда находится ее Ангел Хранитель, и мальчик чувствует какой-то внутренний запрет, будто кто говорит ему: «Нельзя». Нельзя ругаться, говорить гадости, приставать. Но бывают девочки, которым это нравится: они развязно хохочут, одобрительно глядят на сквернословов, а то и вторят им, курят вместе с ними и держатся очень вольно, нецеломудренно. Вот и получается, что их поведение оказывается соблазном для окружающих, провоцируя их на грех и всяческое зло.
Я сказала тебе о поведении девочек-подростков, но это относится ко всем женщинам вообще.
Когда мужчина сделает что-нибудь дурное, люди часто говорят: «Ищите женщину». Этим хотят сказать, что мужчина совершил дурной поступок под влиянием какой-нибудь женщины или просто ради нее. Может быть, это его жена, тратящая слишком много денег на развлечения, и он пошел на бесчестное дело, чтобы исполнить ее прихоть. Быть может, это любимая им девушка, позволявшая приносить себе слишком дорогие подарки, которые были ему не по средствам. Наконец, может быть, это какая-нибудь дурная женщина, склонившая его на злое дело.
Много зла происходит от женщин, но добра все-таки куда больше.
Когда мужчина своими силами добивается успеха в жизни и оказывается человеком порядочным, добрым, смелым, трудолюбивым, в таких случаях тоже надо «искать женщину», потому что наверняка и на этого человека влияла какая-нибудь женщина.
Скорее всего, это была мать, приучившая его с малых лет поступать правильно: сперва – в мелочах, а потом и в серьезных делах.
После матери более всего влияет на человека его жена. Влияние матери сказывается в детстве и юности, когда у человека вырабатываются привычки и понятия о том, что дурно и что хорошо. Жена вступает в его жизнь позже, в его зрелом возрасте, когда человека окружают всякие искушения, когда он порой слабеет в борьбе, когда силы его духа подвергаются жестоким испытаниям. В эту-то тяжелую пору жизни хорошая жена ободряет, поддерживает его и придает ему новые силы.
– Но зачем в таком случае женщине учиться в школе, в институте, получать высшее образование? Ведь родить детей и воспитать их, быть поддержкой и утешением для мужа, украсить быт семьи она вполне может без знания биологии, астрономии, алгебры и так далее. Главное, чтобы она сама была твердой в вере, терпеливой и верной женой… Чтобы она учила детей добру, водила их в церковь, наставляла в добродетели…
– Да, это, конечно, главное. Но и научные знания для жены и матери не будут лишними. Скажу тебе на основании своего собственного опыта.
Я вышла за папу замуж в 22 года, окончив институт. Между прочим, я была очень прилежной и способной студенткой и даже получила «красный» диплом, то есть с одними пятерками. Мне прочили научную карьеру. Но после замужества я работала по специальности меньше трех лет – и простилась с наукой навсегда, как только возникли проблемы с твоим здоровьем. С тех пор я ни дня не работала в каком-либо учреждении или на предприятии, между тем как мои однокурсники окончили аспирантуру, публиковались в научных журналах, получали ученые степени…
Спрашивается: зачем я столько лет училась, когда знания мои совершенно не понадобились мне в жизни? Именно так считают мои бывшие сокурсники. Только сама я так не считаю – что знания мне не понадобились. Очень важно, чтобы мама была умной, образованной (и в мирском смысле), умела объяснить своим детям, как устроен мир, по каким законам. А когда дети начнут учиться, мама поможет им в учебе. Помнишь, сколько раз ты и твои подружки обращались ко мне за помощью, чтобы решить трудную задачу? Или сделать грамматический разбор предложения? Или написать сочинение?.. И в первом классе, и в пятом, и в восьмом…
Поэтому учись, приобретай разносторонние знания – и тебе никогда не придется краснеть перед твоими будущими детьми, признаваясь, что ты в свое время плохо училась. Они будут не только любить, но и уважать тебя.
Высшее образование дает к тому же полезные навыки и умения в приобретении знаний. Образованный человек умеет обращаться с любым справочником, любой книгой. Даже не имея специальных знаний, он сможет получить нужные ему сведения, так как знает, где их раздобыть. Привычка учиться очень пригодилась мне, когда я начала серьезно читать святых отцов. Я умела уже отделить главное от второстепенного, конспектировать, делать краткие выписки, пользоваться указателями в книгах…
Вот, Надя, как важно девочке хорошо и старательно учиться; и знания и навыки, которые она приобретет в процессе учебы, никогда не будут лишними: все лучшее она передаст своим детям, когда придет время.
– Мама, то, о чем ты говоришь, – это все как бы для других : для мужа, для детей, для всей семьи. Но сама-то, сама женщина не раскрывается как личность! А мужчина – раскрывается. Смотри, насколько выше стоит мужчина в творческом отношении! Среди женщин бывают великие поэты, но буквально единицы за всю историю человечества! И художники, и композиторы из них тоже не получаются. Значит, женщины лишены творческих способностей?
– Каких творческих способностей? Сочинять стихи? Открывать законы, по которым существует мир? Но подумай, так ли все это важно для конечной цели нашей жизни – для спасения души?
Мне даже кажется, что простой физический труд гораздо полезнее умственного, или, как ты говоришь, творческого. Сравни жизнь скромной швеи или медсестры с жизнью поэтессы или женщины-ученого. Если физический труд занимает преимущественно руки, оставляя в значительной мере свободным ум и не затрагивая сердца, то умственный труд овладевает всем человеческим существом: и руками, и умом, и сердцем. Кому легче молиться и помышлять о Боге: швее или поэтессе? У последней ум и сердце все время заняты сочинением стихов. А всякий ученый, если хочет добиться успеха в своей деятельности, должен непрерывно совершенствоваться в ней, следить за новейшими открытиями и достижениями в определенной области науки или техники, следить за деятельностью и успехами своих коллег… Жизнь такого ученого лишена покоя; ему некогда остановиться, отдохнуть душой, вспомнить о Боге… Как и всякое богатство, богатство научного познания отвлекает сердце христианина от Бога.
А слава человеческая, как ты знаешь, ничего не стоит. В Евангелии сказано: «Что высоко у людей, то мерзость пред Богом». И не получится ли так, что какой-нибудь писатель или композитор, которого современники восхваляют, называют «великим», «гениальным», увенчивают лавровыми венками, после смерти пойдет в геенну огненную? Или восхваляют его после смерти, тогда как ему, несчастному осужденному грешнику, нужнее всего молитва за упокой его души?..
Так что не стоит завидовать мужчинам, которые, действительно, больше, чем женщины, способны к умственной, творческой деятельности.
Быть может, Господь тем самым оберегает женщину от многих искушений и соблазнов. Оберегает ее потому, что ее главное назначение в земной жизни слишком ценно: рождение и воспитание детей.
Однако хочу тебе сказать, что в отношении высшего творчества, на которое способен человек, женщина ничем не умалена по сравнению с мужчиной.
– Что это за «высшее творчество»?
– Это, Надя, работа над собой. Это духовный рост христианина, который происходит при борьбе его с душевными страстями. Например, христианин – мужчина или женщина, мальчик или девочка, – наблюдая за собой и замечая, что он часто завидует другим, любит похвалу других людей, любит спорить и побеждать в споре, – замечая это, христианин понимает, что в душе его угнездилась гордость, или гордыня. Он говорит себе: «Гордыня – это такая страсть, с которой ни за что не войдешь в Царствие Небесное. Надо мне ее, с Божией помощью, искоренять из души». А как это сделать? На этот вопрос отвечают многие святые отцы: страсть искореняется насаждением противоположной ей добродетели. А какая добродетель противоположна гордыне?
– Смирение. «Блаженны нищие духом»…
– Вот и старается христианин или христианка стяжать добродетель смирения. Как это делать, святые отцы тоже объясняют. Сначала учиться не отвечать на оскорбления, молча сносить обиды. Представь себе, что тебя кто-либо обвиняет вслух, при посторонних, причем обвиняет несправедливо. Например, одна из девочек заявляет: «А Надежда любит подслушивать чужие разговоры». Как ты повела бы себя при этом?
Надя широко раскрыла глаза, недоверчиво улыбнулась:
– Я бы, конечно, возмутилась. Я бы сказала: «Да ты что? С ума сошла?!»
– Ты бы так сказала, и я бы, наверное, тоже. Но если бы на твоем месте была девушка, которая хочет победить в себе страсть гордыни, она бы смирилась. Она бы промолчала в ответ на несправедливое обвинение.
– Может быть, она бы и промолчала, мамочка, но в душе бы у нее такая буря поднялась!
– Что же делать: человек немощен. Поднялась бы буря возмущения, но уже одно то, что девушка не дала этой буре вырваться наружу, вылиться гневом, одно это показывает, что христианка работает над собой, борется со страстью. А тем, кто прилагает собственные усилия, и Господь помогает. На первом этапе духовного роста такая христианка, может быть, и смутится душой, но справится с гневом. А в следующий раз, помолившись Богу, она и внутренне останется спокойной. Святые отцы говорят, что сохранить мир душевный при несправедливом обвинении помогает покаянная мысль о других своих грехах.
– Как это?
– Если вернуться к девушке-христианке, которая решила бороться с гордыней, то это было бы примерно так. Ее обвиняют: «Она любит подслушивать, она сплетница…» и так далее. А христианка слышит это и думает: «Господи, те, кто обвиняют меня, и не знают о моей другой страсти – гордыне. Как я ставлю себя выше всех, как я не люблю смиряться… А ведь гордыня гораздо хуже того, в чем меня обвинили…»
Укорив себя таким образом, христианка и в душе не будет сердиться на оскорбляющих ее и постепенно стяжает истинное, непоказное смирение…
– Ну, это очень трудно, – задумчиво сказала Надя. – Мне кажется, и справедливое-то обвинение трудно снести молча – сразу хочется в ответ обвинить. А что говорить о несправедливом!..
– Конечно, трудно, очень трудно. Но это творчество, высшее творчество, на какое только способен человек, для которого он создан. И стихи писать трудно, и картины писать трудно, и ученым быть трудно, но ты только сравни результат того и этого творчества. О том, чего стоит труд многих писателей и композиторов, мы уже говорили. А труд христианина-подвижника, побеждающего свои страсти, увенчивает золотым венцом Сам Господь! Человек таким образом, восходя все выше по духовной лестнице, уподобляется Богу – становится преподобным.
И в этом, Наденька, женщины ничем не ниже мужчин: им открыт тот же самый путь, их ждет та же борьба и те же венцы в Царствии Небесном.
– Но женщины не могут быть священниками, приносить Богу Бескровную Жертву в храме… По крайней мере у нас, православных…
– Однако апостольское служение открыто и женщинам. Жены-мироносицы первыми узнали о Воскресении Христа. Они не испугались, пошли с благовониями ко Гробу Господню. А потом рассказали ученикам о Воскресении их Учителя. Те же усомнились, не поверили… Женщины кажутся такими слабыми, немощными, а в вере они часто оказываются сильнее мужчин. Посмотри, как в храме на богослужении много женщин! А в годы гонений на Церковь верующие женщины проявляли чудеса мужества, даже героизма: они оставляли уютные квартиры, обеспеченную жизнь и ехали за своими духовными наставниками, епископами и священниками, в ссылки, делили с ними годы изгнания, лишений, скрашивая своей заботой горькую участь гонимых. Сколько простых русских бабушек тайно от матерей и отцов в те годы крестили своих внуков! Как они молились о России и ее воинстве в годы войны!..
И сегодня, Наденька, женщины призваны к апостольскому служению – свидетельствовать миру об Истине. Свидетельствовать не только словом, поучением, воспитанием в вере детей, но и всей своей жизнью…
Мама помолчала немного.
– Наденька, – обратилась она к дочери, – мы говорили с тобой о выборе пути… Так вот, и это тоже выбор пути: кому, чему служить – Богу или миру? Кому, чему посвятить все силы и способности? Что сделать главной целью своей жизни?
Еще раз повторяю тебе, что человек свободен в выборе. И эта свобода налагает на него великую ответственность.
Но и тот, кто безусловно выбирает служение Богу, спасительный путь борьбы со страстями, может на этом пути шествовать самой трудной, самой узкой и неудобной тропой, по которой идут лишь немногие…
– О чем ты, мама? Зачем усложнять себе путь, который и так труден?
– Путь спасения открыт для всех, в каком бы звании и положении ни находился человек. Но некоторым христианам этого мало: они ищут христианского совершенства… Скажи, Надя, ты помнишь, как Спаситель сказал богатому юноше – что надо сделать, чтобы достигнуть совершенства?
– Он сказал: «Если хочешь быть совершен, продай имение, раздай имущество нищим, возьми крест твой и следуй за Мною…» Но юноша не смог…
– Это значит: отвергни весь мир, не имей ни богатства, ни семьи и следуй крестным, скорбным путем Спасителя. Таков путь монашеский. Отказ от стяжания, то есть имения, собственности, и от брака, то есть полное хранение целомудрия, – вот что составляет основу этого подвига. Монахов еще называют иноками, подчеркивая тем самым, что они отличаются от всех, что они иные, не от мира сего. Они служат только Богу и молятся за грешный мир. Это, Надя, путь высокий, Ангельский… путь для немногих.
Конечно, и семейная жизнь спасительна. В семейной жизни христианам (а особенно женщине-христианке) приходится проявлять воздержанность, уступчивость, смирение и терпение. Семейная жизнь – хорошая школа воспитания в себе самоотвержения. Чадородие – средство для спасения женщины. Дети в семье получают христианское воспитание.
Но все же монашеский путь выше: это путь христианского совершенства. Недаром монахинь называют невестами – не чьими-нибудь, а Христовыми. Невесты Христовы…
Знаешь, Надя, мне всегда хотелось, чтобы кто-нибудь из вас, моих детей, пошел этим путем. Часто, вглядываясь в ваши лица, присматриваясь к вашему поведению, я думала: «Кто же из них захочет пойти в монастырь?» Это ведь не всякому по душе и по силам. Будущий монах должен любить молиться, он должен жить молитвой – мне так кажется… И кажется, что склонность к монашеству (как мы читаем во многих житиях преподобных) должна проявляться в детстве… Хотя, впрочем, бывает и иначе.
В конце прошлого века в городе Ельце жила одна купеческая семья. В ней было много детей. Мать, женщина очень благочестивая, в юности желала поступить в монастырь, но была выдана замуж. И вот, как-то она говорила детям о своей надежде: что не исполненное ею осуществит кто-нибудь из ее детей. Один из сыновей, мальчик веселый, подвижный, даже озорной, возражал матери: «Ишь ты какая, сама не пошла, а нас – в монастырь!» Мать отмахивалась: «От тебя-то, озорника, я этого не жду…»
И надо же, чтобы именно этот мальчик стал впоследствии монахом – и не просто монахом, а известным в Москве духовником и старцем! Это был архимандрит Георгий Лавров, живший в двадцатые годы в Даниловском монастыре, ставший позже исповедником и мучеником…
Так что пути Господни неисповедимы. Кто знает, быть может, и твоего сердца коснется благодать Божия и в нем возгорится желание христианского совершенства?..
Мне хотелось бы, чтобы ты, дочка, подумала и об этом пути. А чтобы твое представление о монастырской жизни было не книжным, не мечтательным, давай-ка – знаешь, что?.. Поговорим с папой, возьмем благословение у батюшки, чтобы тебе летом хоть недельки две пожить в монастыре!
– А что я буду там делать?
– Тебе дадут послушание: на кухне, или по уборке храма, или на огороде; будешь участвовать вместе с сестрами-монахинями и послушницами в монастырских богослужениях; быть может, благословят и на клирос… Поживешь монастырской жизнью.
– А в какой монастырь?
– Хорошо бы поехать тебе в Дивеево, к преподобному Серафиму!..
Наш батюшка близко знает эту обитель, часто там бывает, со всеми знаком; попросим его дать письмо к матушке настоятельнице… Только нехорошо тебе одной ехать…
– Мамочка, а если вместе с Машей?
– Я была бы очень рада. Лучшей спутницы для тебя и не найти! Я сегодня же позвоню Машиной маме; обсудим с ней вашу поездку… Кто-нибудь из нас: или она, или я – поедет с вами в Дивеево и оставит там одних. А потом съездим за вами и привезем домой… Ты хотела бы пожить в монастыре?
– Очень!
– Ну, вот и хорошо. Слава Богу. А там – как Господь управит… Я, впрочем, думаю, что твоя стезя не монашеская, а семейная; тебя мне хотелось бы видеть матерью большого семейства… Видишь, какие мы с тобой молодцы: как быстро и ужин, и обед на завтра приготовили!..
Надежда вымыла руки и отправилась в бабушкину комнату – писать сочинение. Она не любила составлять план и обычно писала без планов… Раскрыв тетрадь, девочка аккуратно вывела первую фразу: «Каждый человек когда-нибудь задумывается о выборе жизненного пути…»
* * *
Мы не знаем, какой именно путь выберет Надежда: станет ли она женой и матерью или войдет в число избранных дев, невест Христовых… Этого не знает еще и она сама. Не знает и ее мама, которая неустанно, днем и ночью, молится Богу – чтобы Он направил ее дочку ко спасению, уберег от искушений и соблазнов. Чтобы поменьше было у нее скорбей, хотя они и необходимы, и спасительны…
Можно сказать только одно: никогда не забудет Надежда тех душеполезных бесед, которые, не жалея времени и сил, вела с ней мама. И, может быть, «в минуту жизни трудную» память о маминых наставлениях окажется для нее спасительным якорем в бурном житейском море…
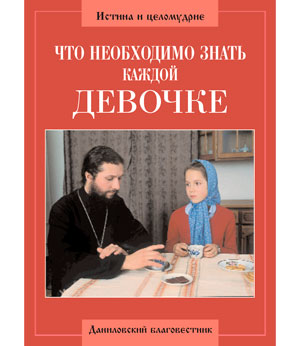
Комментировать