- От автора
- Предполагаем жить
- Центральное явление нашей культуры
- Пушкин и судьба России
- Христианство Пушкина: проблема и легенды
- Введение в художественный мир Пушкина
- Пророк
- Под небом голубым
- Несколько новых русских сказок
- "Евгений Онегин" как "проблемный роман"
- Да ведают потомки православных
- Поэт и толпа
- С веселым призраком свободы
- Слово о Пушкине
Поэт и толпа
Глава из книги «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы.»
В журналистике и публицистике, как печатной, так и звучащей, наблюдается любопытное явление: индекс цитирования Пушкина, частота ссылок на него, заметно сократившись применительно к области внутрикультурной, ощутимо возросли в сфере насущных проблем жизни; из русских классиков здесь, пожалуй, никто не поминается и не цитируется так часто, как Пушкин, — порой в ранге безымянной народной мудрости. Было что-то наивно-символическое в призыве одного депутата к российскому президенту: придя домой, перечитать «Бориса Годунова». Пушкин выступает в привычной для народного сознания сверххудожественной роли. И теперь, когда никто уже не наводит на наши отношения с поэтом официального глянца, когда государству не до Пушкина, вообще не до культуры, об этих отношениях можно судить без внешних помех.
На первых, однако, порах освобожденная от присмотра напряженная актуальность этих отношений проявилась весьма неприглядно, — но с тем культурным и нравственным багажом, что мы нажили в XX веке, иначе, пожалуй, и быть не могло. Я имею в виду то, что в числе первых детонаторов нынешней жестокой идеологической междоусобицы была журнальная публикация отрывка из книги о Пушкине (Абрам Терц. Прогулки с Пушкиным. Фрагмент. — «Октябрь», 1989, № 4. — В.Н.).
Правда, междоусобица и без того оказалась неизбежна — это так; и «Прогулки с Пушкиным» необходимо было напечатать; но не так. Осуществленная с той самовлюбленной бестактностью (по отношению и к полуторавековой культурной традиции, и к простому народному чувству), — которая в духе самой книги, продолжающей, на мой взгляд, самые разрушительные традиции культуры начала века, — эта акция массового журнала повлекла не только безобразный и опять-таки морально разрушительный скандал в среде литераторов; она была болезненным ударом по национальному культурному достоинству и потому вызвала широкую (нарочито игнорированную) ответную реакцию читателей, почувствовавших себя оскорбленными, и породила — уже тогда, в пору не иссякшей еще эйфории «гласности», — нараставшее впоследствии недоверие к «свободной», «демократической» прессе, сомнение в ее культурном и моральном авторитете. Все это вместе, повторяю, выглядело крайне уродливо, что усугублялось очевидным присутствием идеологических спекуляций. Но ведь спекуляции возможны лишь там, где насущность ценности равна ее подлинности.
В итоге подтвердилось, что Пушкин по сию пору одна из самых горячих точек нашей душевной жизни, своего рода солнечное сплетение русской культуры.
Мудрость слов Гоголя о Пушкине как русском человеке «чрез двести лет» — в том, что они не о литературе, а о жизни; в них зеркально повернуто, опрокинуто в будущее пушкинское: «История народа принадлежит Поэту»; они требуют от русского человека взглянуть на себя глазами Пушкина.
Попытавшись сделать это сегодня, мы обязательно столкнемся с самым, может быть, пророчественным из сравнительно немногих сверхсюжетов Пушкина, который я назову сюжетом исполнения желаний. Приближаясь к названному Гоголем сроку — «двести лет», — мы увидим себя и в «Сказке о рыбаке и рыбке», и в «Пиковой даме», и в «Медном всаднике», и в «Сказке о золотом петушке», и в иных вариантах названного сверхсюжета. И конечно, мы увидим себя в качестве делателей, жертв и продукта эпохи, по отношению к которой пушкинская трагедия о Смутном времени является своего рода предварительным конспектом.
Безмолвствование народа в финале «Бориса Годунова» — как известно, вовсе не отражение исторической реальности, Пушкин шел к этому финалу долгим и непростым путем, это финал не исторического, а пророческого рода, русский человек тут у Пушкина не в наличном историческом состоянии изображаемой эпохи, а — «в его развитии», как сказал бы Гоголь (снова будто заимствовавший формулировку у Пушкина: «Что развивается в трагедии? какая цель ее? Человек и народ…»). В пушкинском финале есть «цель», относящаяся к русскому «человеку и народу». В нем, может быть, своего рода указание: взглянуть на себя, увидеть, что желания исполняются всегда — по заслугам и по вере; увидеть, ужаснуться и тем обрести надежду на развитие.
Иначе — финал утверждает безнадежную бессмысленность русской истории и жизни русского человека; но тогда «Борис Годунов» принадлежит какому-то другому писателю.
Ниже сделана попытка взглянуть, с помощью Пушкина, на наше «развитие» в один из моментов, близких к указанному Гоголем сроку. Речь в первую очередь пойдет о том, у кого в этом развитии центральная роль и с кого главный спрос; о человеке культуры, которого я условно назову поэтом.
* * *
Из пушкинских реминисценций чаще других мелькает на печатных страницах и в эфире словосочетание пир во время чумы. Уже одно это побуждает внимательнее вглядеться в пушкинскую трагедию.
Вглядевшись, мы обнаружим, что трагическая ситуация, имеющая место на сцене, состоит не в самой чуме, не в эпидемии, не в надвигающейся смерти: ни того, ни другого в сюжете нет, никто не болеет и не умирает, поминаемый в начале Джаксон умер до того, как действие началось; «телега, наполненная мертвыми телами», проезжает и исчезает, никого из присутствующих на ней не увозят. То же, что происходит на сцене, состоит в поведении действующих лиц, совершивших совместное и согласное духовное отступничество. «Я заклинаю вас святою кровью Спасителя, распятого за нас», — взывает Священник, но это ни на кого не производит никакого впечатления, хотя действие происходит в христианской стране. Священник напоминает Вальсингаму о матери, умершей всего три недели назад, но даже память о матери ставится героем ни во что.
Среди падших женщин и не имеющих имен «молодых людей», пирующих на улице посреди страдающего города и страдающих сограждан, Вальсингам — человек особый, человек другого мира, других повадок, иного полета; потому-то он у них и председатель, лидер, потому и выполняет миссию «идеолога» их пира — выполняет на таком уровне, который им не вполне даже понятен и тем более лестен. Венец миссии Председателя — гимн Чуме. Возникает он замечательным образом:
…Я написал его
Прошедшей ночью, как расстались мы.
Мне странная нашла охота к рифмам Впервые в жизни.
Ночью, внезапно, странно. Почти как у пушкинского Моцарта: «Намедни ночью Бессонница моя меня томила, И в голову пришли мне две, три мысли. Сегодня их я набросал». Но у Моцарта это не странно и не «впервые». А тут… человек никогда в жизни не писал стихов — и вдруг нечто сокрушительно гениальное: как у Моцарта, как у Пушкина; может быть, даже лучше, чем у Пушкина, — как у… Татьяны. Пушкин тут был бы вправе вспомнить ее письмо, ошеломившее его: «Кто ей внушал?.. Я не могу понять» [«То есть как?! Каким образом Пушкин может быть «ошеломлен» письмом Татьяны, написанным им самим?» — воскликнул один оппонент, считая, по-видимому, что «Я не могу понять» есть поэтическая условность. Но только рядовой или посредственный художник до конца «понимает» созданное им. Гений часто неожидан сам для себя; Пушкин, с юных лет познавший чувство изумления перед тем «огнем небесным», который «хранит» его чернильница в своем «заветном кристалле», дает множество примеров подобного отношения к своему дару (вспомним хотя бы «ай да Пушкин…» и пр. по поводу «Бориса Годунова»). Так что «Я не могу понять» по поводу Татьяны — дело вполне обычное, по крайней мере для гения, — а вовсе не условность. И дело не только в гениальности «текста» письма, а прежде всего в характере, в гениальной натуре, родившей такое письмо и способной на такую любовь, о которой сам автор может только мечтать. Изобразить мечтаемое, недостижимое чувство как реальное, сбывшееся (только вот не с тобою самим), создать образ гениальной натуры — разве это не чудо и тайна, перед которыми невозможно не склониться самому художнику? — В.Н.]. Вопрос оправданный: девочка вдруг стала гениальным поэтом. Как Вальсингам. Но ему-то «кто… внушал»?
«Как! Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашей собственностью… Удивительно, удивительно!» — говорит Чарский Импровизатору («Египетские ночи»). На что тот резонно отвечает: «Всякий талант неизъясним». В самом деле, ситуация «гения одной ночи», как и феномен импровизации, это частные случаи, особые разновидности вдохновения (которое и прирожденных поэтов посещает не каждый день). Но в большом контексте Пушкина проблема вдохновения непростая. Вдохновение может быть и «признак Бога» (как в «Разговоре книгопродавца с поэтом», 1824, когда, кстати, само-то существование Бога было для Пушкина под вопросом), но «слезы вдохновенья» могут посещать и тогда, когда созерцаешь «двух бесов изображенья» (стихотворение «В начале жизни школу помню я…» — написано в ту же осень 1830 года, что и «Пир во время чумы») [Впрочем, в том же «Разговоре книгопродавца…» с вдохновением как «признаком Бога» «мирно» соседствуют такие признания: «Какой-то демон обладал Моими играми, досугом… Мне звуки дивные шептал, И тяжким, пламенным недугом Была полна моя глава…» Из современных и широко известных случаев прямого «надиктовывания» можно вспомнить одну из самых духовно соблазнительных книг нашего века — «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха. — В.Н.].
Удивительно, что к этой непростой проблеме подходит вплотную именно Татьяна в с ноем письме: весь свой сердечный ум автор отдает здесь ей, и она, вдохновленная любовью к Онегину, просто, прямо и трезво спрашивает о природе своего вдохновения:
Кто ты, мой ангел ли хранитель Или коварный искуситель: Мои сомненья разреши.
Вопрос этот для нее — страшный; и все же она не боится ни вопрошать, ни решать («Но так и быть…») — она ничего не боится: все письмо ее — на которое Пушкин смотрит явно снизу вверх, с той завистью, что когда-то была описана им в стихотворении «Безверие», — все это письмо, пронизанное мотивами простой и чистой веры в Бога, есть акт веры, пламенной и чистой, в человека, которого она полюбила. В этом, и ни в чем ином, неотразимая, непобедимая поэтическая мощь письма, разгадка того, почему сии стихи, как выразился один критик, жгут страницы. В этой импровизации (а письмо — конечно, импровизация) вдохновение поистине — «признак Бога».
Гимн Чуме — тоже импровизация. И тоже непостижимо, нечеловечески гениальная. Все пламенные уподобления, примененные Цветаевой к пафосу гимна в статье «Пушкин и Пугачев», можно возвести в квадрат, и преувеличения не будет. Цветаева права: в Чуме, этом образе гибели, воспеваемой в гимне, есть и «мятеж», «и метель, и ледоход, и землетрясение, и пожар, и столько еще, не перечисленного Пушкиным!». Притом у нее выходит, будто Пушкин сам восславил Чуму и прочие прелести, перечисленные и «не перечисленные» им. Но Пушкин — устами самого Председателя пира — «перечислял» еще и другое: и «отчаянье», и страх («воспоминаньем страшным…»), и «сознанье беззаконья», и «ужас… мертвой пустоты», и «новость сих бешеных веселий», и «благодатный яд» отравленной кощунством «чаши», и «ласки… погибшего… созданья»…
Все это в гимне есть. Нет только одного. Нет веры, нет любви. Письмо Татьяны — акт веры, облагородившей ту грозную страсть, которая сотрясает ее в третьей главе; веры, которая из страсти сотворила высокую любовь, — чему явно завидует Пушкин. Гимн Вальсингама — акт безверия, породившего страсть (страх) смерти, «ужас», «отчаянье», «сознанье беззаконья».
Но ведь этот гимн — чудо, как и письмо Татьяны. Его воздействие так же неотразимо, его обаяние могущественно, его красота магична. Обольщенные этим, поколения читателей и исследователей и слышать не желали последующих слов Вальсингама, обращенных к умершей Матильде — и к себе самому:
О, если б от очей ее бессмертных
Скрыть это зрелище! Меня когда-то
Она считала чистым, гордым, вольным —
И знала рай в объятиях моих…
Где я? святое чадо света! вижу
Тебя я там, куда мой падший дух
Не досягнет уже…
Женский голос.
Он сумасшедший —
Он бредит о жене похороненной!
Поколения читателей и исследователей судили о покаянии Вальсингама с этого «женского голоса». Когда Вальсингам воспевал Чуму, смерть — он был для нас «нормальным» (в свое время — и для пишущего эти строки). Теперь же, когда он увидел ее, увидел там, в свете, бессмертную, когда устыдился своего падения и магия кощунственного гимна рассеялась, — он стал для них «сумасшедшим».
Вершина гимна — строфа «Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья — Бессмертья, может быть, залог…». Извлеченная из контекста гимна, эта строфа заключает в себе великую правду: в наслаждении смертельной опасностью душа догадывается о том, что она сотворена бессмертной. Но внутри гимна правда интонационно извращена — ибо разрушена иерархия ценностей, все сдвинулось со своих мест, — и для этого употреблены три могучих художественных средства. Во-первых, сам контекст — контекст хвалы бедствию, несущему страдания не только мне (нам), но и другим людям; во-вторых, сокрушительная энергия стиха, его сила и стремительность, его напор, которые сметают на своем пути простые связи между словами (так смазанные чернила соединяют несколько ясных слов в одно приблизительно угадываемое), — и в результате выходит, что не только мое человеческое восприятие угрозы гибели («неизъяснимы наслажденья») намекает на бессмертие, нет, — сама угроза, и притом любая, сама гибель, и притом всякая, они-то обещают бессмертие — обещают сами по себе! И это усиливается третьим средством — двумя мощными ударами: «Все, все, что гибелью грозит… Бессмертья, может быть, залог!» Цветаеву восхищало это «двоекратное» «все, все…» — упорное, не терпящее возражений и словно само с кем-то или с чем-то пререкающееся.
Собственно, предмет пререкания и есть та «система ценностей», от которой отступился Вальсингам.
В этой другой «системе» бессмертие и в самом деле может быть обеспечено гибелью — но не всякой, не самой по себе; не все, «что гибелью грозит», заключает в себе бессмертие — а только такая гибель, которая освящена верой и любовью. Как бы в ответ на гимн Священник напоминает о добровольной крестной смерти Спасителя, «распятого за нас», смертию смерть поправшего.
Вальсингам же воспевает связь смерти и бессмертия за вычетом духовных основ этой связи — веры и любви; и потому под видом правды у него поется ложь, под именем бессмертия воспевается смерть — черная, окончательная, абсолютная. Это и прочла в гимне Цветаева, это ее и увлекло, это она Пушкину и приписала, «переведя» интонационное извращение правды на словесный язык: «…Пушкин говорит о гибели ради гибели нее блаженстве».
Да, «сии стихи», как и письмо Татьяны, «жгут страницы». Но от такого пламени впору отшатнуться: «…хвала тебе, Чума»; тут излишне спрашивать: «Кто ты?..», «кто… внушал» сии стихи герою трагедии, «надиктовав» ему черную литургию?
Но ведь гимн Чуме гениален — «А гений и злодейство — Две вещи несовместные. Не правда ль?»
Правда. Но не стоит забывать завет апостола Иоанна Богослова: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» (1Ин.4,1), — завет о различении духов. Ибо тот, кого Евангелие называет «отцом лжи» (Ин.8,44), может порой из простой правды сотворить гениальную ложь.
Русское культурное сознание эта проблема всегда волновала, всегда тревожила. Да и в языке русском искусство и искушение одного корня. Лингвистика объяснит это исторически, но духовное историческим не исчерпаешь. Искушение — это ведь испытание; а искусство — разве не испытание? для нас и для художника — и часто более для художника?
В рамках сюжета трагедии — и в той компании, куда попал Вальсингам, — он человек культуры. Культуры, понятой, помимо прочего, как идейное водительство и духовная власть. Такому пониманию вполне соответствует и титул Председателя, и, конечно, гимн Чуме. Это не только поэтический, но и жреческий акт. Не случайно Пушкин тут в очередной раз применяет свой характерный сценический ход «лобового» типа («…О Моцарт, Моцарт! Входит Моцарт»): в ответ на «черную литургию» молодого Председателя — «Входит старый священник». Гимн Чуме — это и «великое славословие», и проповедь, и «тайная вечеря», и, наконец, незримо реющий намек на Причастие (превращающий, в частности, «бокалы» в «чашу» с «благодатным ядом» [См.: Марина Новикова. Пушкинский космос. Языческая и христианская традиции в творчестве Пушкина. М., «Наследие», 1995 («Пушкин в XX веке», вып. I), с. 234. — В.Н.].
Вряд ли все это внятно участникам пира — их устраивает и им льстит главное: в качестве обоснования их занятия предлагается нечто возвышенное. До всего остального им дела нет. Культура выполняет здесь, во внешнем облике водительства, противоположную этому облику роль рупора толпы, ее неодухотворенных стихий. Этим стихиям средствами культуры сообщается подменный, ложный облик высокой одухотворенности — сообщается с тем большей убедительностью, что ложь и подмена, как это всегда и бывает, используют, так сказать, структуру правды, воспроизводя, однако, эту структуру из подменного материала. Правда духа, долженствующего управлять природными стихиями человека и толпы, подменяется другою «правдой» — натуральной, «дикой» правдой самих этих стихий и страстей, одичавших без своего падшего властелина («мой падший дух», говорит Вальсингам), ищущих, как водится, облагороженности облика — и находящих ее в экстазе «мятежного» романтизма и дионисическом эстетизме.
В результате гимн Чуме с магической силой захватывает нас — не только эстетически, но и до душевных глубин. Мы открываем и опознаем в себе соучастников кощунственного пира, в душе подымается ответное вдохновение, какие-то «пузыри земли», ложь незрима в сиянии ослепительной и высокой правды, нас сладостно влечет и притягивает то, что Вальсингам назовет «сознаньем беззаконья», захватывает прелесть горделивой исповеди без покаяния, признание в падении, но в падении вверх, в надзаконную высоту, где позволено, красиво и хорошо все. Из таких темных вдохновений и складывается чудовище толпы, то духовное поле, в котором «отец лжи» может орудовать как у себя дома, придавая подмене ценностей и насмешке над верой («Он мастерски об аде говорит. Ступай, старик!., пошел! пошел!» — хохочут пирующие в ответ на слова Священника) облик духовной высоты, характер подвига, ореол святости: «святости» черной, но оттого еще более влекущей — как разврат.
* * *
Этот ореол, или нимб, притом в его «канонической» расцветке, и был описан позже в стихах, чрезвычайно сходных по теме и пафосу с гимном Чуме:
Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастия есть.
И такая влекущая сила,
Что готов я твердить за молвой,
Будто ангелов ты низводила,
Соблазняя своей красотой…
И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.
…..
Я хотел, чтоб мы были врагами,
Так за что ж подарила мне ты
Луг с цветами и твердь со звездами —
Все проклятье своей красоты?
…..
И была роковая отрада
В попираньи заветных святынь…
При всех сложностях духовного пути «русского человека в его развитии», свою систему ценностей он всегда строил на признании «влекущей силы» Христа и отталкивающей — сатаны, антихриста, а «влечений» обратного рода боялся и стыдился, видя в них метафизическое «беззаконье». Блок прекрасно знает это («Я хотел, чтоб мы были врагами…») и в стихотворении «К Музе» (1912) рисует свои отношения с нею в свете трагическом, — однако уже не боясь и не стыдясь их, скорее наоборот. Но интересует меня сейчас другое: факт безоговорочного, добровольного и многолетнего подчинения нашего культурного сознания этому стихотворению и представленному в нем открыто сатанинскому образу. Факт этот, как и само стихотворение, ярко свидетельствует о катастрофе, созревавшей в русском сознании на протяжении более двух веков и совершившейся в начале нашего столетия.
Одной из парадоксальных составляющих этого бедствия было то, что люди культуры отучались и отучали своих собратьев слышать в словах их прямой, нефигуральный смысл, — двадцать лет назад об этом написал Н.Коржавин в статье «Игра с дьяволом». За словами «поругание счастия», «проклятье заветов», «попиранье… святынь» и пр. молчаливо предполагалось не собственное содержание, а как бы некое другое, на самом-то деле чрезвычайно привлекательное («муки творчества») — но только выраженное сильными, пронзительными, трагическими средствами; все это называлось «художественный образ» и освобождало от моральной ответственности (в таком вот «метафорическом» духе понимался и гимн Чуме). Парадоксальным же явлением «непрямое» понимание слова было потому, что в нем «влекущая сила» сатанического обаяния встречалась с исконно русским почитанием слова, доверием к его смыслу, боязнью произнести или даже понять кощунственное слово всерьез.
Примирение этих двух различных начал происходило в эстетизме. Не случайно в советскую эпоху именно эстетизм — как правило, самый отвлеченный, беспомощный и вульгарный — призван был компенсировать и украшать ложь и грубый социологизм многих литературных и литературоведческих сочинений. Однако именно в начало века, в пору расцвета «тонкого» эстетизма, уходит корнями та нынешняя неудержимая девальвация слова, то сознательно пропагандируемое — под лозунгом «все гораздо сложнее» — презрение к слову, к его прямому смыслу (когда, скажем, талантливый молодой критик высоколобо посмеивается в «Литературной газете» над теми, кто «на полном серьезе» возмущен порнографией на печатных страницах) — весь тот словесный блуд, выкормыш лживой эпохи, свидетелями которого мы сегодня являемся.
Упомянутая выше статья «Игра с дьяволом» Н.Коржавина представляет собой подробнейший, строфа за строфой и чуть ли не строка за строкой, «разбор содержания» стихотворения «К Музе». Разбор этот обнаруживает как точность, прямоту и буквальность кощунственных слов и поэтических формул стихотворения, так и туман в тех местах, где есть угроза слишком жесткого столкновения кощунствённости с нашим доверием к слову и правдой нравственного чувства. Это взгляд прямо в лицо блоковскому слову и художественному миру, в нем воплощенному: по отважному и разоблачительному простодушию — поистине «взгляд Татьяны».
В свое время статья производила ошеломляющее впечатление на тех, кто мог ее прочесть. Напечатать ее тогда же было немыслимо: не заключая в себе никакой «политики», она выглядела крамольной до крайности. Ведь речь шла о стихотворении, входившем, так сказать, в основной корпус тех произведений Блока, что составили его «вид на жительство» в мире, который был построен на месте разрушенного «до основанья» старого мира с его «священными заветами» и «заветными святынями»; мира, которому, как показала история, и была подана поэтом «Роковая о гибели весть». Стихотворение попало в круг тех произведений, в которых идейные основания «нового» мира, его новая религия санкционировались на самом, что называется, высоком уровне, самой «тонкой» культурой. Культура эта не только освящала «пролетарское» мировоззрение импозантно-«мятежным» пурпурово-серым сиянием — вместе с этой культурой «новый» мир втаскивал в свои пределы и «Луг с цветами и твердь со звездами», придавая себе облик мира подлинного, где все как у людей.
Не подвергая сомнению трагическую искренность блоковского стихотворения, Коржавин показал концептуальность, «преднамеренность» той метафизической лжи, в плен которой попал поэт, лжи, неизбежно заключенной в принципе «неразличения духов»; стихотворение и само аттестует себя как антиевангелие (Н.Коржавин приводит проницательное замечание математика Н. Нагорного о том, что «Роковая о гибели весть» — буквальная антитеза «благой вести о спасении»).
Заслуживает внимания то, что антиевангельский пафос тут же оказывается и антипушкинским. Автор строк о «проклятье заветов» (ср., кстати, слова Вальсингама Священнику: «Но проклят будь, кто за тобой пойдет»), «попиранье заветных святынь» и «поругании счастия» не мог не знать пушкинских слов о «святыне обоих Заветов», «обруганной» философией XVIII века, и других слов: о том, что «Поэзия… не должна унижаться до того, чтоб силою слова потрясать вечные истины, на которых основаны счастие и величие человеческое».
Вообще стихотворение «К Музе» есть настоящая духовная трагедия: ведь для Блока слово не было игрушкой, он сказал то, что на самом деле чувствовал и знал. Надо, видимо, верить и словам «…когда-то мной виденный круг», такие вещи тоже не говорятся «для красоты», тем более великими поэтами: им изредка и в самом деле что-то «показывают» — или дают услышать. «Шум и звон», наполнившие слух пушкинского Пророка, не просто «художественный образ», как и шумы и звоны Ахматовой («Бывает так: какая-то истома…»), — важно, кто показывает и дает услышать.
Да ведь и Блока однажды, спустя примерно пять лет после стихотворения «К Музе», увлек странный — но не звенящий, а жужжащий — звук.
Из этого звука и возникло произведение, возможность (быть может — и неизбежность) которого была уже заключена в стихотворении «К Музе» — а предсказана Пушкиным.
* * *
Это произведение, в котором Блок, по его признанию, очередной раз в жизни «отдался Стихии», — своего рода двойник песни Вальсингама. И странное возникновение, «надиктованность», и осознание авторами (Вальсингамом — смутное, Блоком — уверенное) своей медиумичности, и «метельный» колорит «могущей Зимы» — все это так похоже, и даже голос автора похож на Вальсингамов («Охриплый голос мой приличен песне»), — где еще у Блока более «охриплый» голос, чем в «Двенадцати»?
Если блоковское «Благовещение» — это «Гавриилиада», написанная всерьез, то «Двенадцать» — гимн Чуме, пропетый на самом деле: не в драме, а в жизни.
В обоих гимнах — Чуме и «музыке Революции» — поражают безукоризненное совершенство, огненный дионисийский темперамент, мятежность (в гимне Чуме романтическая, в поэме — фольклорная, разгульно-разинская по размаху, фабрично-кабацкая по происхождению), наконец, неотразимая власть «гибельного восторга» над нашими чувствами, мгновенно плененными этой духовной агрессией. И там и там — воспевание антиценностей и антисвятынь (у Вальсингама — стихии чумы, смерти, у Блока — стихии социальной, хаоса, буйства, в сущности — уголовщины), вплоть до называния черного белым: смерти — бессмертием (Вальсингам), «черной злобы» — «святой злобой» (Блок). Вслед за Вальсингамом, у Блока — мотивы черной литургии, черной вечери («Черный вечер. Белый снег», двенадцать «антиапостолов»).
Нет, кстати, никакого сомнения — это ясно из ситуации «Пира…» и ввиду знаковости пушкинского художественного языка, — что первая ремарка Пушкина «Несколько пирующих мужчин и женщин» (из них персонально обозначены пять или шесть, один раз названо «несколько голосов» и дважды — «многие») на сцене должна материализоваться в числе двенадцать.
«Пир во время чумы» начинается озорным предложением помянуть умершего Джаксона так: «…выпить в его память С веселым звоном рюмок, с восклицаньем…» А поэма «Двенадцать» начинает у Блока писаться, по свидетельству К.И. Чуковского, именно с «озорного» эпизода поминания убитой Катьки, который был подсказан Блоку тем самым жужжащим звуком: «Ужъя времячко Проведу, проведу… Ужъя ножичком Полосну, полосну…» Сходно эти эпизоды и оканчиваются: «Пускай в молчанье Мы выпьем в честь его… Все пьют молча» — «Выпью кровушку За зазнобушку… Упокой, Господи, душу рабы Твоея… Скучно!»
После упоминания имени Матильды взор Вальсингама, следуя (как впервые заметила в уже названной книге М. Новикова) за «подъятой» рукой Священника, обращается «к небесам» — в ответ же на монолог Председателя звучит «Женский голос. Он сумасшедший — Он бредит о жене похороненной!». У Блока: после гибели Катьки Петька, совсем раскиснув («…Эту девку я любил…» — ср.: «И знала рай в объятиях моих»), тоже едва ли не готов воззвать к небу: «Ох, пурга какая, Спасе!», — а в ответ следует немедленное вразумление: «От чего тебя упас Золотой иконостас? (Ср. издевательские ответы пирующих Священнику. — В.Н.) Бессознательный ты, право («Он сумасшедший…». — В.Н.). Рассуди, подумай здраво — Али руки не в крови Из-за Катькиной любви?» — это напоминание о повязанности Петьки общим «беззаконьем» похоже на недавнюю угрозу самого Вальсингама («…проклят будь, кто за тобой пойдет») в ответ на слова Священника, напомнившего пирующим как раз о «Спасе». Кстати, в «Двенадцати» есть и «свой» Священник: «Что нынче невеселый, Товарищ поп?» — могли бы сказать пушкинские пирующие вслед за отповедью своего Председателя: «…юность любит радость».
Это лишь некоторые из «странных сближений» пушкинской трагедии и блоковской поэмы, у которых и место действия общее — «улица».
Любопытно и соотношение финалов гимна Чуме и поэмы «Двенадцать». Предваряются они сходными мотивами: «Итак, хвала тебе, Чума! Нам не страшна могилы тьма, Нас не смутит твое призванье» — «…И идут без имени святого… Ко всему готовы, Ничего не жаль…»
А сами финалы гимна и поэмы выглядят словно нарочито восходящими к общему источнику — последним строчкам самого кощунственного стихотворения молодого Пушкина, его послания к декабристу В.Л.Давыдову («Меж тем как генерал Орлов»,1821), которое выражает надежду на успехи революции в таких словах: «Вот эвхаристия другая… Мы счастьем насладимся, Кровавой чаши причастимся — И я скажу: Христос воскрес».
Здесь пародия, как видим, сразу на два мотива: Евхаристии и Пасхи.
Именно эти два мотива звучат и у Вальсингама и у Блока: финал гимна Чуме с его «бокалами» (ср. «Кровавой чаши причастимся» — с «благодатным ядом этой чаши»; у Блока — «Выпью кровушку За зазнобушку». — В.Н.) намекает на черную («другую») евхаристию, а в финале блоковской поэмы «белый венчик из роз» — мотив пасхального украшения икон.
Послание Пушкина к Давыдову вписывается в «блоковский» контекст и другими деталями: в начале стихотворения появляется «поп» — кишиневский митрополит, о кончине которого рассказывается с безжалостной издевкой, к тому же в духе «Гавриилиады», которая как раз в это время и пишется; поэтому нечего и говорить, что в цитированном выше конце послания имя Христа обозначает все что угодно, только не Христа на самом деле, — и это, вместе со словами о «другой» евхаристии, словно бы предвещает знаменитые слова Блока о Христе как финальном образе «Двенадцати»: «…Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой», «другого пока нет…»
Я убежден, что все эти соответствия и совпадения — «случайны»: речь идет не о «продолжении традиций» Пушкина Блоком, а о предвосхищении Пушкиным того типа сознания, который нашел выражение в поэме Блока.
Поэтому не прав будет читатель, если упрекнет меня в некорректности анализа на том основании, что, назвав «Двенадцать» гимном Чуме, я затем сопоставляю поэму не только с гимном Чуме, но с текстом трагедии в целом. А как же иначе? Для начала напомню, что всю трагедию Пушкина советский человек понимал как большой гимн Чуме; гимн воспринимался как выражение «последней истины» трагедии [Наглядный пример такого советского понимания дает трактовка «Пира во время чумы» в известном телесериале М.Швейцера «Маленькие трагедии»: режиссер разрушил пушкинскую композицию и перенес гимн Чуме из середины трагедии в самый конец — на правах окончательного и «жизнеутверждающего» смысла вещи. — В.Н.] — истины чуть ли не в ранге «другой» Нагорной проповеди: блаженны гибнущие («И как один умрем»); целое трагедии подменялось ее частью. Но именно такой тип сознания, такую мировоззренческую установку, такой способ мышления как раз и явила поэма Блока, ибо «Двенадцать» — это такой гимн Чуме, который, так сказать, разросся на всю драму жизни, который считает себя окончательной истиной по отношению к окружающей его жизненной трагедии — к России, терзаемой чумой революции, — и потому стремится исчерпать собой всю эту духовную трагедию, поглотить весь ее смысл своим смыслом, узурпировать ее правду, выдать себя за нее. Ведь поэма «Двенадцать» воспевает Стихию, выражает ее, а выше Стихии для автора поэмы ничего нет.
Именно так, по-блоковски (и по-цветаевски), с точки зрения Стихии, чумы, и понимал советский человек пушкинскую трагедию. Методологически таким же было и традиционное советское понимание поэмы самого Блока: мол, в «Двенадцати» нет или почти нет автора как субъекта художественного высказывания, нет авторской концепции, авторского голоса — нет ничего кроме «Стихии», «музыки Революции», ее «величавого рева»: сама эпическая объективность.
То, что это — заблуждение, убедительно показал С.Ломинадзе (см. статью «Концептуальный стиль и музыка «мирового пожара» в кн.: С.Ломинадзе. О классиках и современниках.М.,1989. — В.Н.) — как и то, что заблуждение восходит к самому «отдавшемуся Стихии» Блоку. И тем оно важнее — в частности, для понимания происхожде ния и смысла финала, поэмы, который своей «загадочностью» измучил советское литературоведение.
Здесь пора заметить важное различие между гимном Чуме и поэмой Блока: в финале «Двенадцати» есть образ Христа, а в финале гимна ничего подобного нет.
Да и быть не может: гимн Чуме — это песня поистине «Эх, эх, без креста!». Имя Спасителя появляется, но только после гимна, в словах Священника. И хотя оно не производит никакого действия, однако играет важнейшую роль в структуре трагедии, восстанавливая перевернутую гимном Чуме шкалу ценностей, с которой трагедия соотносит себя. Что же до финала «Двенадцати», то автор, как говорится, и рад бы обойтись, как Вальсингам, без Христа — но ведь образ этот, по признанию Блока, «надиктовывается» Блоку насильно, вопреки его личной авторской воле…
И какая тут может быть «личная воля», если поэма, как уже сказано, сознает себя выражением той самой Стихии, которая есть высшая эпическая объективность! В отличие от гимна Вальсингама, «гимн» Блока не опускается до того, чтобы противостоять Христу, напротив: он готов, способен — и вправе — уже и Христа включить в себя, в свою эпическую, окончательную, высшую правду. «Я только констатировал факт: если вглядеться в столбы мятели на этом пути, то увидишь «Исуса Христа». Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак», — писал Блок. Следует обратить внимание на кавычки, в которые помещен «Исус Христос»: здесь это — условное, вынужденное, общепринятое обозначение чего-то другого, с чем по праву надлежит связывать «Луг с цветами и твердь со звездами» и все те ценности, что по традиции еще приписываются «женственному призраку».
Это снова напоминает молодого Пушкина, который в послании к Давыдову вынужден чаемое торжество революции «условно» обозначить пасхальным приветствием. Но у Пушкина не более чем типичное либеральное вольнодумство, лишенное всякого напряжения, — просто «младая кровь играет». У Блока все неизмеримо серьезнее: новый этап борьбы с Христом — путем не отрицания, а поглощения, растворения. Это в духе вошедшей тогда в моду давней концепции «трех эр», сменяющих друг друга: «эры Отца», «эры Сына» и вот-вот наступающей «эры Духа», которая вбирает и поглощает предыдущие. Учение это объективно отменяло завет о «различении духов», предвосхищало нынешнюю жажду духовного «плюрализма». В финале «Двенадцати» он уже реализован: Христос появляется из «столбов мятели», откуда, по народному поверью (хорошо известному Блоку) появиться может только бес, «Другой».
Столкнувшись с «метельным», «зимним» мотивом (которым открываются и гимн Чуме, и поэма Блока), мы выходим к новому повороту темы: «столбы мятели», колорит «могущей Зимы» приводят к пушкинским «Бесам», законченным осенью того же 1830 года, когда написан «Пир во время чумы». А это стихотворение в свою очередь влечет за собой немало известных «сближений» с темой истории и судьбы России.
Одно из таких «сближений» относится к той жизненной ситуации, в какой оказались автор гимна Чуме и автор «Двенадцати».
* * *
Человек необыкновенно высокого душевного строя и духовного дара, человек элиты в лучшем смысле этого слова, один из тех «избранных», кому, быть может, говоря пушкинскими словами, «определено было высокое предназначение», — такой человек нисходит в толпу, опускается до нее, совершает духовное в нее падение («…мой падший дух», — говорит, напомню, Вальсингам, избавившийся от наваждения). Свой талант, свои духовные дары он употребляет на услужение стихии и страсти толпы, исполняя роль идеолога-певца или идеолога-вожака, оформляющего эти стихии и страсти в виде высоких ценностей. По существу, это пародия на Божественный кеносис (умаление: вочеловечение Сына Божия для искупления грехов и спасения блудного сына Бога — человека): перед нами — нисхождение самого блудного сына к свиньям (в стадо свиней Христос, как известно, изгнал легион бесов), его готовность метать перед ними бисер своей избранности, в конечном счете — отвержение жертвы «Спасителя, распятого за нас», пренебрежение ею. Пародийность еще и в том, что если Бог Сын, Бог Слово вочеловечился, чтобы принести Себя в жертву ради спасения людей, то оба «гимнопевца» — сами, может быть, того не сознавая — «жертвуют» своим духовным даром и своим словом толпе ради того, чтобы самим спастись — от собственного ужаса перед Чумой, гибелью, «мировым пожаром»: спастись от одичавшей стихии как бы в ней самой, примкнув к ней, в нее вписавшись, ее воспев и прославив, одним словом — ей «отдавшись».
В результате с изменившим происходит соответственное изменение: Вальсингам записывает и поет свой гимн, будучи в каком-то «другом» качестве, так что Священник, узнавая его (своего прихожанина), в то же время и не узнает: «Ты ль это, Вальсингам? ты ль самый тот…» Блок записывал свою поэму также не вполне сам; безусловный «аристократ духа», он «играет» кого-то другого:
Мужик на амвоне.
Народ, народ! в Кремль! в царские палаты!
Ступай! вязать Борисова щенка!
Народ (несется толпою).
Вязать! топить!..
(«Борис Годунов»)
В зубах — цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!
…..
Эх, эх, без креста!
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!
…..
…Так идут державным шагом…
(«Двенадцать»)
То, что «несется толпою» у Пушкина, облагораживается и украшается «державным шагом» у Блока. Так гимн Вальсингама: «…хвала тебе, Чума!» — облагораживает и украшает «безбожный пир», вместе с тем точнее всего выражая его суть.
Блоковская «роль» в «Двенадцати», роль идеолога толпы, рупора стихии, тоже имеет отношение к «Бесам». Но уже не пушкинским. В подобную ситуацию, как в мальстрем, затягивает героя романа, носящего пушкинское название и предваряемого двумя эпиграфами — из пушкинских «Бесов» и из евангельского эпизода об изгнании бесов в стадо свиней. Между автором гимна Чуме и автором гимна Революции оказывается Ставрогин, автор исповеди без покаяния [фамилия — от греческого stauros (крест) — объективно символизирует пародию на Божественный кеносис (что не исключает иных смыслов). — В.Н.].
Устами Петра Верховенского толпа, чернь вербует Ставрогина в идеологи и вожди — и это звучит как предисловие к «Двенадцати»: «…мы сделаем смуту»; «Мы провозгласим разрушение… Мы пустим пожары»; «Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен!.. Мы проникнем в самый народ… мы, пожалуй, и вылечим… Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького… А тут еще «свеженькой кровушки», чтоб попривык».
Как эхо этого монолога звучит дневниковая запись Блока от 4 марта 1918 года (года «Двенадцати»): «Требуется длинный ряд антиморальный… требуется действительно похоронить отечество, честь, нравственность, право, патриотизм и прочих покойников, чтобы музыка согласилась помириться с миром».
Я не хочу опошлять позицию Блока, в его «антиморализме» есть своя метафизическая правда, и глубокая, — но она хороша на своем месте, как лава под корой земли: в сфере философской или богословской; она не должна выходить на «улицу», где черный вечер и белый снег и где за столом поется гимн, в котором рифмуют «Зима» и «Чума». Она не должна соблазнять. Блок не хотел ничего дурного, он хотел «музыку» помирить с «миром». Но ведь и Ставрогина Петруше Верховенскому не удалось втянуть в свою банду, посвятить в вожди.
Дело, однако, не в этом, а в совсем другом:
«Если бы не глядел я на вас из угла, — признается Верховенский, — не пришло бы мне ничего в голову!..»
Вот где главное. Человек высокого предназначения, Ставрогин не соблазнен Петенькой — он сам всех соблазняет.
Так Вальсингам соблазняет своим гимном соседей по столу.
И как Вальсингам перед Священником, так Ставрогин перед теми, кто его знал, предстает другим — и перед Шатовым, и перед Марьей Тимофеевной. Не узнавая его, она кричит: «У тебя нож в кармане… Гришка От-репь-ев — а-на-фе-ма!»
Знает ли она, что цитирует «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова»?
Ставрогин ведь тоже предсказан Пушкиным — и не только в «Пире во время чумы»: он есть ступень деградации человека онегинского типа (cм. в работе о «Евгении Онегине» в моих книгах «Поэзия и судьба» (М., 1983, 1987, 1999) и «Пушкин. Русская картина мира» (М.,1999). — В.Н.).
Все поняли, что роман «Бесы» содержит пророческий анализ предпосылок катастрофы, постигшей Россию в XX веке; однако мы еще не вполне отдаем себе отчет в том, что предпосылки эти в концентрированном, свернутом, как пружина (и потому не очень явном на узкофилологический взгляд), виде содержатся уже в пушкинской картине мира, частью которого является судьба «русского человека в его развитии» (Гоголь). Они предусмотрены так точно, что порой кажется, будто история послушно воплощала эту картину, перенося ее элементы в жизнь в качестве фактов культуры, исторических событий и человеческих судеб.
Предусмотрено у Пушкина даже то, что произошло с Блоком после «Двенадцати», к концу жизни, — предусмотрено в финале «Пира во время чумы», когда Вальсингам покидает пир и «остается погружен в глубокую задумчивость».
* * *
Отношение Блока к «Двенадцати» незадолго до кончины — если больше верить Андрею Белому, чем К. Федину и Е. Книпович, — в чем-то сходно с тем, что испытывал Пушкин при воспоминании о «Гаври-илиаде». А последнее (или одно из последних) стихотворение — наверное, самое тихое, что есть у Блока:
Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму, С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.
(«Пушкинскому Дому»)
В этих строках — те же цвета, что в «Двенадцати» («Черный вечер. Белый снег». «Винтовок черные ремни», «Черная злоба», «В очи бьется Красный флаг» и пр.): но красный — не флаг и не бубновый туз, а закат; но черный исчез с переднего плана, перестал главенствовать — и все стихотворение, полное и грусти, и тихого мажора, последними своими строками делается белым; и вместо «величавого рева» мы слышим тишину, «глубокую задумчивость» уходящего поэта.
Заметим, что нечто подобное было ведь у Пушкина: его ответ митрополиту Московскому Филарету («В часы забав иль праздной скуки…»), в котором поэт приносит покаяние за стихотворение «Дар напрасный, дар случайный…», осознанное им как духовное отступничество:
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты…
Что-то столь же смиренное говорит, обращаясь к Пушкину, Блок.
В тихом стихотворном увещании («Не напрасно, не случайно…») московского святителя автор стихотворения «Дар напрасный, дар случайный…» внял «неба содроганье»; через несколько месяцев им будет написана трагедия «Пир во время чумы», где решающим моментом является диалог отступника веры со священником.
«Не твоих ли звуков сладость Вдохновляла в те года? Не твоя ли, Пушкин, радость Окрыляла нас тогда?» — писал Блок. Он хорошо слышал в Пушкине «звуков сладость» и музыку «тайной свободы». Но он не услышал в художественном мире Пушкина «неба содроганья», не внял пушкинским предостережениям. Он внял «музыке Революции», пропел свой гимн ее «величавому реву», а потом взглянул в лицо стихии, издававшей этот рев, — и умер.
Он умер, говорит где-то Ходасевич, не от старости или болезни — он умер от смерти.
Такая смерть была частью биографии той культуры, которая устами Блока, и не только его, пропела гимн Чуме нашего столетия.
Пушкин, прошедший «великолепный мрак чужого сада» европейского Просвещения и преодолевший искусы романтизма, слышал, куда тянет культуру послепетровского времени, он предсказал — в том числе в своей трагедии — неизбежности, подстерегавшие на таком пути. Ответить на пушкинские предостережения мог только великий поэт, и таким был Блок. Он лучше всех мог услышать Пушкина — ибо обладал трагическим и пророческим даром. Но тяготения Блока и его культуры были иные. Гений Пушкина создал произведение-диалог, а культура Блока и Цветаевой восприняла из него лишь один монолог — гимн Чуме. Пушкин произносил предостережения, а культура начала века расслышала в них призыв. Трагедия этой культуры состояла в том, что если Пушкин умел и учился различать духов, то культура начала века считала это занятие наивным и устарелым, недостойным своих «бледных со взором горящим» (Брюсов) творцов.
Ведь и тихое «покаяние» Блока, при всей значительности и чистоте этого поэтического поступка, адресовано, в сущности, неизвестно кому. Пушкин в своем стихотворном ответе митрополиту Филарету обращался (это понятно из текста) через святителя к Богу — Живому Богу, с Которым у него произошла встреча в «Пророке», обращался лично. Но к кому лично обращался в стихотворении Блок? К Пушкину? Да; но — отбросим лукавство метафор — ведь не к Пушкину, а к «сладости звуков», «радости», «тайной свободе», — к явлению культуры. Но возможно ли личное в полном смысле слова обращение к явлению, пусть самому изумительному?
И вот свои предсмертные, полные чистого душевного порыва стихи, свой последний тихий поклон великий поэт адресует «реальному» объекту — «Пушкинскому Дому в Академии Наук», почтенному учреждению, где хранятся драгоценные рукописи и изучаются великие традиции культуры. В этом есть что-то почти детски трогательное — но, воля ваша, это напоминает мне и отчаянное предложение, сделанное героем «Утиной охоты» А.Вампилова жене: давай обвенчаемся в Планетарии.
Личное обращение, но уже совсем иное, прозвучало из уст Блока в адрес тех, чьему делу он так истово послужил в своей поэме, кого поэтому тем яростнее возненавидел и в своей речи «О назначении поэта» заклеймил пушкинским словом чернь: «Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу…»
«Когда он читал свой знаменитый доклад, — писал мне К.И. Чуковский, — он сидел (в Доме литераторов) за тем же столом, за которым сидел председатель комиссар Кристи. И в тех местах, где он выражал свою ненависть к казенным злодеям, задушившим Пушкина, он гневно обращался к злополучному Кристи (Кристи был неплохой человек, но для Блока он был — по своему положению — воплощение зла, насилия, бесчеловечия)» [датировано 21 сентября 1966 года. Фрагмент этот по условиям времени не мог войти в мой мемуар «Учитель» (в кн.: «Воспоминания о Корнее Чуковском». М.,1977,1983). — В.Н.].
Блок в своей речи говорил о «предсмертных вздохах» пушкинской эпохи. Вздохом было и его стихотворение «Пушкинскому Дому». Сама же речь о Пушкине — другое. Ее отчаянные и грозные заклинания — это скорее вопль, вроде «Ужо тебе!» бедного Евгения.
С личными словами веры, надежды, покаяния, мольбы Блоку — как и большей части той культуры, гением которой он был, — обратиться было не к кому: каждому дается по его вере.
* * *
Изведав лично бездну проблемы «поэт и толпа» (или «чернь и культура»), Блок (как показывает, в частности, его пушкинская речь) в конце концов ужаснулся за судьбу культуры.
И все же она не погибла, не выродилась, не направилась вся теми руслами, по которым ее стали направлять уже при жизни Блока. В своей лучшей части она (я намеренно касаюсь только подцензурной литературы советского периода) продолжала — в условиях, когда чернь требовала «услужения» ей, — старую, Пушкиным окончательно утвержденную великую традицию служения, как она его понимала. И если она честно понимала его как служение народу, отечеству, даже коммунистической мечте, то большой талант купно с честностью даже и в самые страшные годы порой создавал нечто похожее на чудо — например, бессмертного «Василия Теркина», или «Голубую чашку», или сказы Бажова (не говоря уж о «Днях Турбиных», Платонове и многом другом). Во всем своем беспримерном унижении — а может быть, отчасти как раз и в силу унижения, сменившего гордыню «серебряного» века, — она непостижимым образом умудрялась сохранять черты преемственности величия, присущего «старой» традиции, черты, затем нараставшие и крепнувшие начиная с конца 50-х годов и ярче всего воплотившиеся в «деревенской» литературе (не только в ней); и никто кроме тех, кто не изжил еще комплекса выпущенного из загона раба или чей «духовный» багаж ограничивается высшим образованием, не смеет отрицать, что русская литература советского периода оставалась, не только в лучших, но подчас и просто в честных произведениях, по меньшей мере одной из человечнейших культур мира.
Решающую роль (помимо объективной духовной генетики) сыграли тут оглядка и опора на авторитет, опыт и традиции литературы, отцом которой был Пушкин. Одной из роковых ошибок большевиков было то, что они не вняли пролеткультовским призывам, не стерли с лица земли русскую классику XIX века, не истребили память о ней (что это было возможно, показывает пример истребления Достоевского), ведь она спасла русскую культуру — тем самым в известной мере и Россию — в XX веке.
Но отсюда следует и то, что заслуги подцензурной литературы советского периода были в первую очередь наследственными — как аристократизм, который русские князья и графини сохраняли, работая таксистами и посудомойками. А на одной наследственности далеко не уедешь, когда-то должно начаться и вырождение. Да, русская классика спасала — но ее художественные традиции и нравственные ценности усваивались, как правило, за вычетом той духовной основы, какою было для русской классики православное христианство. Питаясь желудями, не помнили, а часто и не знали, откуда они взялись.
Если говорить о каком-то собственном духовном векторе «либеральной» части культуры второй половины XX века, то он, за немногими исключениями, был направлен не вверх, как, скажем, у летописца Пимена, и не вниз, как, скажем, у Вальсингама, а словно бы куда-то вбок — в сторону «общечеловеческих ценностей». Эта мутная категория (навеянная, припоминается, Марксом), неопределенностью своей сходная с флогистоном, выдуманным когда-то для объяснения природы огня, в пору запретов маскировалась различными псевдонимами и в таком качестве маскировала, в свою очередь, самые разные ценностные представления — от умеренно-диссидентских до сдержанно-религиозных. Это было не трудно в силу условности и безопорности самой категории и совершенно отвечало безопорности и скудости распространенных понятий о «духовных ценностях» вообще: под таковыми люди культуры сплошь и рядом чистосердечно и упорно разумели ценности прежде всего эстетические и интеллектуальные — но, конечно же, и социальные, и главным образом свободу: ценность ценностей и предел мечтаний.
И вот грянула свобода; и — «Вот эвхаристия другая» — случилось «другое» чудо: на этот раз напоминающее то ли «Портрет Дориана Грея», то ли известную русскую сказку. Едва успевшая расцвесть Василиса Премудрая во мгновение ока превратилась в одну из своих сестер, у которых вместо слов изо рта извергались жабы и змеи. Произошла духовная катастрофа: вся система ценностей христианской нации была отменена во имя свободы как одной-единственной ценности, которая, оставшись одна, повиснув в пустоте, немедленно обернулась чудовищем, на овечьей шкуре которого написано: «разрешено все, что не запрещено», — и в результате возникло уголовное государство. В сфере же культуры свобода, понятая как позволение болтать все что угодно, как санкция на словоблудие, оказалась Молохом, в жертву которому принесено решительно все, от личной морали до благополучия Отечества. Пробуждать «добрые чувства» стало немодным и почти неприличным, ибо «тоталитарным», «добрым чувствам» отвели, на почтительном расстоянии, место, получившее наименование ретро. А «мастера культуры» под знаменем свободы, толкаясь, ринулись делать все то, против чего предостерегал Пушкин, — «…потрясать вечные истины, на которых основаны счастие и величие человеческое», и «превращать… божественный нектар в любострастный, воспалительный состав», — то есть воплощать мечту Петруши Верховенского: «…одно или два поколения разврата теперь необходимо…»
Памятуя, что выше «в паре» с цитатой из Петруши приведена цитата из дневника Блока («…требуется длинный ряд антиморальный…»), вернемся в начало XX века.
Автор «Пира во время чумы» знал из своего опыта, что тень Чумы уже коснулась русской культуры. В начале XX века это была уже не тень, а эпидемия. Я заранее согласен с тем, кто напомнит мне о гениях и драгоценных открытиях литературы «серебряного» века (который сегодня стал у нас драгоценнее «золотого»), я с готовностью и радостью подтвержу, что он прав; но и оппонент не должен, по совести, отрицать, что Блок, истинный и трагический гений эпохи, наиболее полно выразивший ее, выразил (и не один он) именно то, что являлось главным духовным вектором ее культуры: «проклятье заветов», «попиранье… святынь», «поругание счастия», осознанное поклонение «и Господу, и Дьяволу» (Брюсов). Все это, под знаменем духовной свободы, перекрывая подлинно духовные тенденции, в том числе работу русской религиозной философии (но порой и ее заражая «благодатным ядом»), становилось своего рода специальностью «человеков-артистов» [«…намечается… новая человеческая порода… не этический, не политический, не гуманный человек, а человек-артист» (Блок,»Крушение гуманизма»). — В.Н.], млевших в объятиях Ницше и Вагнера (так — из огня да в полымя — расплачивалась обезвоживающаяся русская мысль за то благотворное влияние немецкой философии, которое, как писал Пушкин, в прошлом веке спасло нашу молодежь от «холодного скептицизма» философии французской). Все это объединялось пафосом антиправославия, антихристианства — то откровенно агрессивного, то изысканного, искавшего способов гармонично сочетать Христа с Дионисом, то стремившегося реформировать «архаическое» Православие в плане наступающей «эры Духа»; и все это, будучи падением, принятым за свободный полет (Н.Коржавин, «Игра с дьяволом»), гимном Чуме, слепой стихии, расчищало «духовные» пути буйству стихии социальной.
Пафос разрушения, переполняющий поэму «Двенадцать», был тем, что объединяло блестящую, артистическую, рафинированную культуру с террористами в пенсне, со шпаной в пулеметных лентах, с чиновниками в сапожищах. «…Не живи настоящим, — призывал Брюсов «юношу бледного со взором горящим». — Только грядущее — область поэта»: совершенно большевистский призыв.
Пафос разрушения объединял — но и разделял. Ибо довершать дело разрушения «старого мира» и строить «новый» должен был кто-то один: «Строить мы будем, мы, одни мы!» (П.Верховенский). И тонкая, рафинированная, артистическая культура была растоптана теми самыми сапогами, расстреляна из тех самых «винтовочек стальных», выгнана на чужбину, загнана в лагеря и в петли — если не из «крепкого шелкового снурка», что у Ставрогина, так из простой пеньковой веревки для белья. Вообще самоубийство есть, пожалуй, наиболее выразительный образ того итога, той смерти «от смерти», к которому ведет русского человека культуры неразличение духов и попиранье святынь — и тем вернее ведет, чем подлиннее и масштабнее его дар, чем очевиднее «высокое предназначение». В трагической судьбе этой культуры в очередной раз реализовался пушкинский сюжет исполнения желаний. Не глядел бы Петруша Верховенский «из угла» на Ставрогина — не пришло бы ему ничего в голову…
В то же время — страшно сказать — катастрофа этой культуры была, может быть, жертвой, спасительной для культуры последующей, которая должна была, в какой-то степени минуя опыт «игры с дьяволом», обращаться в поисках опоры и преемственности напрямую к традициям классики XIX века с ее системой ценностей, генетически связанной с Православием — вместилищем и источником загадочной для всего мира «духовности» русской культуры. Что же касается судьбы самого Православия, то — лучше уж прямое гонение на веру, чем тонкое разрушение и разложение ее со стороны артистической и блестящей культуры.
Все это я говорю вот к чему. Нынешнее время наводит на мысль, что «игра с дьяволом» возобновилась чуть ли не с самого того места, на котором прервала ее воспетая ею же Чума. Словно внутри культуры проснулось — или разморозилось, как знаменитые замерзшие слова, — что-то такое, что немедленно потребовало «излиться наконец свободным проявленьем»: что-то мучительно недоизлитое, недосказанное, недопетое — тот самый гимн разрушения с его проклятьем заветов, попираньем святынь и пр., со стремлением объединить «Господа и Дьявола», упразднить границы между благом и грехом: «Свобода, свобода, Эх, эх…»
Не случайны настойчивые атаки, которым то и дело подвергаются: традиционное русское понимание культуры как служения добру и правде; «литературоцентризм», то есть первенство слова, доверие к слову в русской культуре; «великая русская литература» (иронические кавычки); в главном и конечном счете атакуется опять-таки Православие — и притом вовсе не в силу его вероисповедного содержания (оно атакующих не интересует), а просто в силу того, что это твердая система ценностей. Впрочем, один теоретик постмодернизма ставит вопрос о Православии не агрессивно: объявив представляемое им направление итогом и венцом культуры, теоретик обосновывает это тем, что постмодернизм упраздняет всякую систему ценностей: он универсален и может включить в себя все на свете — в том числе, если угодно, и Православие.
Что-то вроде сказки про белого бычка: мы имеем дело не с чем иным, как с неумышленной пародией на отношения поэмы «Двенадцать» с «включаемым» в нее Иисусом Христом. Казус этот, может быть, и забавен, но — «Боже, как грустна наша Россия!».
Смешно и стыдно видеть, как нынешние «мастера культуры», и не только молодые, но порой и довольно-таки убеленные, носятся с этой безграмотной, плебейской идеей насчет того, что хватит, мол, литературе (культуре) служить чему-то, что, мол, «свобода, свобода!..». И так же горько, что внутри культуры столь слабо противостояние этому «верховенству», этому рабству навыворот. Помня о подвиге «деревенской», «почвеннической» литературы, можно, кажется, было бы ожидать достойного ответа с этой стороны — но его (если не считать публицистических и иных выкриков) почти не слышно. Потому, думаю, не слышно, что для этой славной, сердечной, благородной, героической литературы главной опорой была — именно прежде всего, а порой и исключительно — почва. Да, без почвы русскому человеку и русской культуре нельзя; но почва, бывает, колеблется под ногами — тут и классика не поможет. Остается то, что когда-то советовал Пушкину Чаадаев: «Возопите к Небу — оно отзовется». Но вот с этим-то у нас большие сложности. Слишком многие у нас убеждены, что вера вообще — а православная по преимуществу — тоже идеология, только другая. Но тоже тоталитарная. Разница лишь в том, что одним это не нравится, а другим очень подходит. Мы ведь научены верить в идеи. Но это все равно что венчаться в Планетарии.
* * *
«Цель художества есть идеал…», — писал Пушкин; и культура в России так и понималась. Культура есть, по определению, служение; культура по-латыни возделывание, в России это понимается как возделывание человеческой души. Цивилизация — возделывание внешних условий обитания человека, его удобств и утех. Мировая культура — в целом, как таковая — переживает кризис своей природы, ей грозит, и с ней происходит, превращение из культуры в цивилизацию, в предмет потребления, в добычу толпы. Ответственность за то, чтобы культура не вся перестала быть собой, а значит, чтобы человечество не все превратилось в толпу, ложится на Россию — разваленную, обнищавшую, смятенную, развращаемую, но все еще не переставшую быть собой, — ложится потому, что в России еще живо понимание культуры как служения. Понимание это связано у нас с верой в Христа — не нашей собственной, сегодняшней, так наших дедов и прадедов. Вере этой тысяча лет, и благодаря ей Россия стала великой нацией, а ее культура до сих пор чудо и загадка для всего мира. Сегодня русская культура переживает дни позора и унижения. Наверное, это было неизбежно — чтобы Вальсингам пропел свой гимн Чуме, чтобы Блок воспел хаос и уголовщину как «музыку», чтобы «заветные святыни» великой культуры были попраны, чтобы уроки «серебряного» века, усвоенные лишь со стороны «неразличения духов», помогли нам вляпаться в объятия антропологической порнографии масскульта, обеспечивающей «одно или два поколения разврата». Все это — исполнение желаний, плата за отступничество — сверх морей «кровушки»; без этой катастрофы тоже, видно, нельзя было обойтись.
«Пир во время чумы» — образ катастрофы, вот почему так часто мелькают сегодня эти слова. Художественный мир Пушкина вообще катастрофичен, оттого что Пушкин — поэт сущностей; ничто так не способствует проявлению сущности — личной, национальной, духовной, — как катастрофические обстоятельства. В катастрофичности, как ее понимает и воплощает Пушкин, есть смысл. Катастрофы не происходят без причин и не попускаются Богом без цели. Вальсингам должен был пройти через катастрофу, чтобы иметь возможность вновь обрести себя. Пушкин знал это из собственного опыта. Его трагедия обязана появлением не только тому, что он прочел английскую драму «Чумный город»; трагедия возникла благодаря не литературе, а диалогу поэта с попом, который воззвал к нему и сказал ему: «Не напрасно, не случайно Жизнь от Бога мне дана, Не без воли Бога тайной И на казнь осуждена… Вспомнись мне, Забвенный мною… И созиждется Тобою Сердце чисто, светел ум».
И Священник в «Пире во время чумы» воззвал к «падшему духу» Вальсингама»: «Матильды чистый дух тебя зовет».
И слова Гоголя о Пушкине, отразившем дух России «в такой… чистоте, в такой очищенной красоте», — не прорицание, а воззвание; это — пророчески услышанное Гоголем, через него переданное нам требование, провиденциальное и историческое.
Сегодня как никогда грустна наша Россия — но не напрасно как раз на эту ее пору, когда на весах лежит будущее России (будет ли Россия), падает двухвековая годовщина человека, воплотившего в себе гений нации. Не напрасно, не случайно. И впрямь «веселое имя: Пушкин» — Блок прав.
Блок и в другом прав: Христос и в самом деле ведет Россию, — Блок это увидел в своей гениальной до рыдания, душераздирающей поэме.
Он видит: Россия превратилась в стихию — дикую, слепую, очумевшую.
Он видит: Россия забыла, что впереди — Христос; она Его не знает и знать не хочет; она вообще ничего не знает — и того не знает, куда и зачем идет своим «державным шагом». Она слепа, больна, несчастна; Блок видит эту правду.
Более того: он эту правду записывает, — но он не верит ей. Он верит в идеи, в Вагнера и Ницше; он верит в Стихию. В слепоте, несчастье и очумелости он видит величавую, дикую мощь и кипение жизни. Он пишет Россию, забывшую о Христе, так, словно ей и забывать было нечего, словно Христа не существует [«…»отвлеченное», вроде Христа» (Блок, «Искусство и Революция») — В.Н.].
Блок видит правду и записывает правду — а поет неправду. Так Вальсингам записывает правду о смерти и бессмертии, но интонационно ее искажает.
Душа Блока — как душа Татьяны; душа знает больше, чем он. Она знает правду, а сам Блок знать ее не хочет. У него пророческий дар, ему дано видеть — но он не верует [«Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете» (Ин.6,36). — В.Н.]. Потому и дару, и глазам своим не верит. В «Двенадцати» воплощена великая правда: впереди надвьюжной поступью идет Христос, не покинувший Россию, — Блоку дано это увидеть; а он удивляется: зачем Христос?
Он верит в идею и Стихию. Его душа рыдает над Россией, а ему кажется: это величавый рев «мирового оркестра».
1993
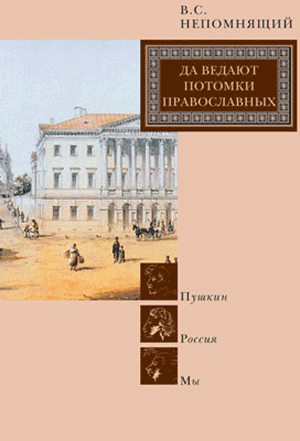
Комментировать